Дж. Уоллер Унесенные ветром ВЕК XX
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
1
И снова, как это уже бывало несчетное число раз, зацвели персиковые и кизиловые деревья. Снова они светились затухающими угольками своих цветов в весенних сумерках. Уже в который раз была тронута плутом и послушно легла, вывороченная пластами, красная джорджианская земля. Земля, все еще считавшаяся лучшей в мире для выращивания хлопка. Но именно хлопок истощил ее. А вытянув все из земли, хлопок, как обнаружилось, обесценился сам. Еще лет пять назад за фунт хлопка можно было выручить семнадцать центов, теперь же не давали больше десяти.
Холмы, по склонам которых раньше плуг выписывал сложные спирали, теперь распахивались безо всякой системы, поскольку наступила эра арендаторов, которые совсем мало заботились о том, что будет с этой землей через несколько лет. В результате склоны оказались изрезанными глубокими оврагами, а почву безвозвратно уносила вода. Грязно-желтая река Флинт, лениво текущая под уступами, покрытыми сосновым лесом, еще больше заиливалась и мелела.
Лес начал наступление на пашню — пространство, отвоеванное у него несколькими поколениями люд ей — и теперь молодые сосенки и кедры вместе с кустарником так густо покрывали урожайные когда-то поля, что, казалось, человек никогда не пытался пахать и сеять в этих местах.
Лес победно наступал и на усадьбу в Таре. Некогда ухоженная кедровая аллея стала напоминать просеку, а на лужайке, перед домом, где когда-то росли свинорой, клевер и душистый горошек, теперь высилось и несколько сосенок.
Юноша, въехавший в аллею на старенькой повозке, запряженной мулом, был высок, костляв, но широкоплеч и крепок. Повозка протарахтела мимо дома, в боковую аллею, туда, где находились хозяйственные постройки. Рослый негр, одетый в светлые холщовые брюки и такую же куртку, вышел из черного проема конюшни и не спеша направился навстречу повозке. Волосы негра, сильно тронутые сединой, словно бы светились в сгущавшихся сумерках на его непокрытой голове.
— Задержались вы, мистер Уэйд, — произнес негр тем глубоким и певучим голосом, который был присущ только их расе. — Мы тут уж вас все заждались.
— Задержался, Боб.
Юноша спрыгнул с повозки и передал поводья Бобу. Сам Боб утверждал, что крупнее него был только один негр, Большой Сэм, а уж больше того вообще никого во всей Джорджии не было. Впрочем, юноша, которого Боб назвал мистером Уэйдом, был тоже очень высок — на вид не ниже шести футов двух дюймов. Конечно, в плечах он был заметно поуже Боба, но во всей его стройной и гибкой фигуре чувствовалась недюжинная сила, а крупные, с широкими ладонями, руки ни в чем не уступали рукам Боба, который принял у него поводья.
— В «амбаре» я задержался, — прибавил Уэйд.
— Это у кого же? — удивился Боб.
— В Ассоциации, стало быть, Боб, — улыбнулся юноша.
Вот уже семь лет, как в Джорджии, как и в нескольких других штатах, существовало местное отделение Ассоциации защиты фермеров. В 1866 году правительственный чиновник Оливер Келли совершал длинное путешествие по разоренному войной Югу, Положение тех, кто возделывал хлопок и кукурузу, сильно удручило его, и Келли вместе с небольшой группой единомышленников основал организацию «Защитников сельского хозяйства». Отделения Ассоциации назывались «амбарами», потому что они, в частности, организовывали на кооперативных началах склады для продукции. Отделения осуществляли также и сбыт этой продукции, при них существовали кредитные учреждения, а кое-где даже и примитивные фабрики по первичной обработке сырья.
У входа в дом Уэйда встретила его младшая сестра Элла. Она едва доставала до плеча брату, волосы ее были рыжими, жесткими на вид, словно медная проволока, тогда как темно-каштановая шевелюра Уэйда никогда не выглядела неухоженной и растрепанной, даже если он ездил верхом без шляпы.
Да, эта девушка, одетая в скромное темно-зеленое в коричневую клетку платье, не выглядела красавицей. Худенькая, угловатая, она выглядела даже моложе своих четырнадцати лет. Эллу можно было назвать совсем непривлекательной, если бы не ее глаза — живые, умные, светившиеся доброжелательностью и пониманием. И карие глаза Уэйда загорелись в ответ радостью и любовью.
Элла только и успела сказать: «Привет, Уэйд», как за ее спиной возникла Сюсси, двоюродная сестра. Сюсси возвышалась над Эллой чуть ли не на полфута, да и на вид была покрепче, поплотнее. Ярко-синее платье в оборку с отложным белым кружевным воротником очень шло к ее бледно-голубым глазам и светло-рыжим волосам.
— Добрый вечер, Уэйд. Что-то ты сегодня задержался дольше обычного, — сказала Сюсси. — Могу спорить, что ты заезжал к Каразерсам, чтобы полюбоваться на свою милашку Аннабел.
Говорила Сюсси протяжно и певуче, как все южане, но как-то уж очень манерно и вяло, словно повторяла заученную роль, не очень ей нравившуюся.
— В этот раз не угадала, — смеясь, ответил Уэйд.
— Сюсси ни о чем другом думать не может, — вступилась за брата Элла. — Уж не ревнуешь ли ты его к Аннабел, Сюсси?
— Вот уж, — протянула, слегка зардевшись, двоюродная сестра, — было бы к кому ревновать. Она же совсем дикарка, эта Аннабел. Она в своем лесу и вести себя на людях не научилась, да и одевается не лучше жены издольщика-негра.
— Никакая она не дикарка, — спокойно парировала Элла. — А при ее внешности ей любые наряды идут. Ладно, Уэйд, давай-ка пойдем ужинать, — она поспешила перевести разговор на другую тему, видя, что брату не слишком нравится, когда другие говорят при нем об Аннабел Каразерс, да еще в таком тоне.
Элла повернулась и прошла в дом, Уэйд последовал за ней. Сюсси не оставалось ничего другого, как сделать то же самое.
Дом этот был построен Джералдом О’Хара лет сорок назад. Стены его, сложенные из кирпича, достаточно регулярно штукатурились и подбеливались, так что выглядел дом крепким и ухоженным. Жена Джералда О’Хара, бабушка Уэйда, Эллы и Сюсси, распорядилась когда-то посадить деревца мирта, чтобы скрыть угловатость, приземистость постройки. Теперь же темная зелень и вовсе закрыла стены дома со стороны входа.
Ужинала семья в столовой, расположенной рядом с холлом, который, в свою очередь, отделялся от кухни крытой галереей. Внутренняя планировка осталась точно такой же, какой ее задумал прежний хозяин. Но внутренняя обстановка, включая и мебель, полностью изменилась. Столы и стулья из светлого орехового дерева, веселой расцветки шкафы, светлые скатерти и салфетки — все отражало вкусы теперешней хозяйки Сьюлин Бентин.
Негритянка Люти, выполнявшая раньше обязанности няньки, теперь была в доме единственной прислугой — в доме, где раньше насчитывалось не менее двух десятков челяди. Теперь же Люти выполняла работу поварихи, прачки, да еще помогала Сьюлин убирать большой дом.
Когда-то на плантации, принадлежавшей Джералду О’Хара, работало до сотни негров. Сейчас обрабатываемые площади уменьшились под натиском леса и кустарников почти на треть, но работали на них Уэйд с Уиллом Бентином, Боб вместе с сыном и невесткой и девятеро негров-издольщиков с семьями. Для трехсот акров поля это было явно недостаточное количество работников, тем более что издольщики были разными по умению, прилежанию да и просто по отношению к земле. Однако ни Уилл Бентин, ни Уэйд, которому по достижению совершеннолетия окончательно и бесповоротно по наследству отходили две трети Тары, не согласились продать ни акра, хотя множество пришлых фермеров предлагали до трех долларов за акр — цену по тем временам максимальную.
После того, как три года назад по приказу президента Хейза войска янки были выведены из всех южных штатов, а республиканцы навсегда сдали позиции демократам — впредь ни один штат конфедерации не давал ни одного голоса в коллегии выборщиков за республиканского кандидата в президенты — положение негров стало, по существу, таким же каким оно было до войны. Те из них, кто хотел работать на земле, могли работать только издольщиками.
Но и положение землевладельцев было ненамного лучше. Большинство бывших плантаторов вынуждены были продать значительную часть своей земли, а за оставшуюся, которую теперь не могли обрабатывать почти бесплатно многочисленные рабы и которую по этой причине пришлось заложить, как правило, в каком-нибудь восточном банке или банке Северо-Запада, приходилось выплачивать до двадцати процентов кредита. Если учесть, что удобрения, семена и инвентарь год от года дорожали, то совсем не казался удивительным тот факт, что имущество значительной части фермеров находилось под арестом.
Положение семьи, собравшейся сейчас за столом, выглядело более благополучным, чем у очень многих других даже в их округе, но некоторые помнили и лучшие времена. Их помнила Сьюлин, или Сьюзен Эллинор, дочь богатого плантатора, некогда изящная и ухоженная, некогда чрезвычайно гордившаяся своими аристократическими манерами. Она была вынуждена выйти замуж за прибившегося к ним в конце войны Уилла Бентина, солдата армии конфедератов, происхождение которого о понятиям округа Клейтон позволяло отнести его к категории «голодранцев» или «нищей белой швали».
Однако теперешняя Сьюлин не испытывала разочарования. Девушка, когда-то нывшая и хныкавшая по любому поводу, теперь, к своим тридцати четырем годам, превратилась в заботливую мать большого семейства. Конечно, ее мать могла выглядеть величаво — женственной, распоряжаясь огромным имением и более чем сотней слуг и держа в почтительном трепете весь дом. Но Сьюлин и в теперешней ситуации сумела сохранить оптимизм, свежесть и даже привлекательность, несмотря на то, что ей приходилось ухаживать за коровами и свиньями, заниматься стиркой и штопкой для двоих взрослых мужчин и четырех девочек.
Она не обладала красотой своей матери, покойной Эллин, в ее чертах присутствовала некоторая небольшая незавершенность, размытость, даже внешне Сьюлин выглядела несколько медлительной. Но она унаследовала от Эллин главное — бесконечное терпение — и теперь не ропща тянула груз таких забот и обязанностей, от одного упоминания которых в девичестве наверняка бы лишилась чувств.
Итак, они сидели за ужином в той же столовой, где когда-то сидели покойные отец и мать Сьюлин, где сидели ее сестры, одна из которых теперь процветала и жила далеко в Европе, а другая отринула все прелести и ужасы суетного мира, удалясь в монастырь. Теперь Сьюлин видела своего возмужавшего племянника и слушала щебетание своей младшей дочери Джейн. Малышке едва исполнилось семь, она очень походила на отца — те же светло-рыжие волосы, те же голубые глаза, то же спокойствие и уравновешенность, несмотря на то, что она еще такая кроха.
А Уэйд рассуждал совсем по-взрослому. Более того, у него была уже своя система взглядов, значительно отличающаяся от взглядов тетки. Сьюлин не понимала его энтузиазма относительно комитетов Ассоциации:
— Послушай, Уэйд Хэмптон, — сказала она. — Янки наконец-то убрались от нас. Двенадцать лет они пытались впрячь нас в свою Реконструкцию, пытались испортить негров, суля им небо в алмазах, пытались заставить южан забыть о том, кто они есть, и подписать Железную клятву. И что в результате? Они ушли. Но теперь они создают эти «амбары», силясь не мытьем, так катаньем одолеть Юг.
— Но почему же Юг, тетя Сьюлин? — Уэйд говорил ломающимся баском. — Отделения Ассоциации существуют везде, и на Востоке и на Западе. Именно они и не дают янки окончательно закабалить всех фермеров, вне зависимости от того, где они возделывают землю или пасут скот. Ты посмотри вокруг. Большинство участков заложены и перезаложены, комиссионеры с Востока дерут по три шкуры — они берут комиссионные даже за то, что предоставляют возможность взять кредит под грабительский процент.
— Ох, Уэйд, не мое это, конечно, дело, но я пока не вижу особого прока в этой Ассоциации. Ведь удавалось же нам до сих пор и хлопок вывозить и семена закупать.
— Именно: до сих пор. Ходят слухи, что хлопок будет дешеветь и дальше, а железнодорожные тарифы — расти. Уже этой осенью нам трудно будет свести концы с концами, не так ли, дядя Уилл?
Уилл Бентин, спокойно слушавший разговор и не вмешивавшийся в него, кивнул.
2
Месяц преодолел гряду соснового леса, и вся округа словно бы покрылась платиновой оболочкой. Тишина нарушалась только нестройным хором лягушек, их кваканье то затихало, то усиливалось, когда ветер дул со стороны болотистой поймы реки Флинт. Ветер приносил с собой прохладу и сырость, столь желанные после первого жаркого дня в этом году.
Уэйд лежал без сна, хотя очень устал за сегодня. Огромный дом безмолвствовал, храня призрачные тени прежних обитателей. Уэйд почти не помнил своего деда Джералда — нечто седое, маленькое, тихое. Зато помнил тетю Мелли, когда-то жившую здесь. Она его понимала, говорила с ним, как со взрослым, она его любила. Теперь тетушки Мелани нет. И Бонни нет, его сестры. Уэйд вспомнил, как закашлялся, выпив за здоровье новорожденной, за здоровье Бонни, рюмку разбавленного кларета, и как Ретт Батлер хлопал его по спине. Бонни была веселой и жизнерадостной. Да и дед Джералд, говорят, тоже когда-то был крикливым, шумным, подвижным. Рассказывали, что его надломила смерть жены. Свою бабушку Эллин он уж точно не помнит. Странно, они лежат сейчас на кладбище совсем недалеко отсюда, всего в сотне ярдов с небольшим от дома. «Бабушка Эллин…» Да ведь ей было всего тридцать пять лет, когда она умерла. Столько сейчас его матери, Скарлетт.
Да, было время, когда он скучал без матери, тосковал по ней. Он любил ее. Но больше боялся. Прислушиваясь к своим ощущениям, Уэйд мог твердо сказать сейчас, что он почти не любит свою мать. И было бы лучше для него, если бы разлука длилась намного дольше, как можно дольше. Полоса отчуждения становилась все шире и шире, она зарастала травой забвения и равнодушия, как зарастает травой и кустарником полоса невозделываемой земли.
Уэйд стал теперь задумываться над тем, для чего же люди связывают свои судьбы с судьбами других людей. Ему был понятен случай Уилла и Сьюлин. Для Уилла Бентина свой дом, своя семья были такими же естественными вещами, как потребность дышать, жить. Невозможно представить Уилла без семьи и дома. Иначе для чего тогда его надежность, его основательность, трудолюбие, обязательность? Кому они нужны, если не Сьюлин и дочерям — и в первую, и в последнюю очередь?
Для Сьюлин брак значил, пожалуй, то же, что он значит для большинства женщин. Хранительница очага, которая все же больше получает, в то время, как Уилл больше отдает. Но так уж Уилл создан, чтобы отдавать больше. Ему постоянно нужен кто-то, кому он мог бы отдавать.
А вот зачем он, Уэйд, был нужен своей матери? Вопрос прозвучал бы странно, нелепо, попробуй он задать его не себе, а кому-то другому. Но для него такой вопрос имел смысл и значение. Если быть откровенным, то следует признать, что мать никогда не любила его — во всяком случае так, как человек должен любить своего детеныша. Он никогда не испытывал желания найти у нее прибежища, опоры. Старая большая негритянка Мамушка была опорой. Даже Ретт Батлер, человек, в сущности, чужой для него, был опорой. Про тетю Мелани и говорить нечего — добрая, мудрая, бесконечно терпеливая, она говорила с ним обо всем, не играя, не подстраиваясь при этом.
Очень жаль, что нет тети Мелани. Очень жаль, что ее мужа тоже, по существу, нет. Участь Джералда О’Хара, умершего вскоре после ухода жены была для него желанным исходом. Так не случилось.
Уэйд подумал, что он, пожалуй, ведет счет потерям — как своим, так и чужим — с несвойственной его возрасту горечью, пессимизмом. Он рано разочаровался во многом, а ведь ему только девятнадцатый год. Боязнь быть брошенным, оставленным свойственна ему с детства, она преследовала его неотступно, постоянно. Он стал лгать себе, убеждая себя в том, что люди, которых он любил, в которых нуждался, не так уж много значат для него. И, похоже, уверовал в это, убедил себя.
Уилл очень хорошо относится к нему. Пожалуй, ничуть не хуже, чем к собственным дочерям. Он, по существу, заменил ему отца. Но если с Уиллом что-либо случится, для него, Уэйда это не будет то же, что утрата отца. В первую очередь он будет заботиться о том, как заменить главу семьи, все заслонят нахлынувшие заботы.
Элле он нужен, она его любит. Будет плохо, если какие-то обстоятельства вынудят его оставить сестру. Конечно, она не пропадет со Сьюлин, чувство утраты будет испытывать, он знал это.
Где-то ухнула сова. Уэйд не был суеверным, но то, что он услышал крик совы именно в тот момент, когда думал о возможности расставания с Эллой, раздосадовало, расстроило его.
Чтобы отвлечься от мрачных мыслей, он стал думать об Аннабел Каразерс. Той самой Аннабел, к которой его ревновала Сюсси. Да, Сюсси влюблена в него, но в данном случае у бедняжки совсем нет шансов. Во-первых, браки между двоюродными братьями и сестрами были приняты только среди Уилксов, если вспоминать близких знакомых, а о других нет смысла вспоминать. Сьюлин подобные вещи осуждает, она приводит в пример Мелани, Эшли. Да и не нравится ему Сюсси, вот что самое главное. Возможно, она изменится в лучшую сторону, когда повзрослеет. Но ведь невозможно полюбить человека за то, что он стал лучше.
Аннабел Каразерс — настоящая красавица. Будь она из семьи побогаче, да еще живи в другие времена, у нее были бы блестящие перспективы. Так говорит Сьюлин. Он понимает, конечно, о каких временах говорит тетка. Другие времена — это значит до войны. Относительно времен он судить не может, так как не жил тогда. Зато он может представить себе, как выглядела бы Аннабел в другой обстановке, а не в бревенчатой хижине Джима Каразерса, ее отца.
Уж про Джима точно можно сказать, что он коренной южанин. Его предки переселились на эту землю вместе с Джеймсом Оглторпом почти полтора века назад, именно они могли считаться основателями Джорджии. И с тех пор Каразерсы так и не смогли подняться вверх по социальной лестнице. Джим Каразерс, его жена, трое сыновей и дочь, находились примерно в том же положении, что Эндрю Каразерс, прадед Джима, пересекший океан и поселившийся в незнакомой лесной глуши, в краю топей, населенном неуловимыми и коварными индейцами чероки. Пожалуй, единственным преимуществом в положении Джима было отсутствие индейцев, во всем остальном — почти полное сходство. Конечно, Джим Каразерс мог добраться до Джонсборо и послать куда-то телеграмму, даже в Англию, на родину предков, так как вот уже больше десяти лет на дне Атлантики лежал кабель. Более того, в том же Джонсборо он уже мог поговорить с кем-то из своих знакомых, живущих там, по телефону, зайдя на почту. Но знакомых в Джонсборо у Джима было очень мало, да и родственников в Англии, кажется, тоже не осталось.
Поближе познакомившись с Каразерсами, Уэйд понял, почему они не стали такими, как его дед Джералд О’Хара. Они были сотворены бродягами, лесными отшельниками, «болотными людьми». У них был совсем небольшой участок, несколько акров. Там Каразерсы выращивали кукурузу и овощи. Участок они при желании могли бы и расширить в свое время, но не сделали этого. Их основным занятием всегда была охота. Несколько поколений стреляли, выслеживали, ставили ловушки.
Никто в здешних краях не стрелял лучше Джима Каразерса, несмотря на то, что пользовался он ужасно древним длинноствольным ружьем, заряжавшимся с дула. Никто так умело не мог поставить капканы и силки, никто так хорошо не знал повадок опоссумов, енотов, ондатр и еще великого множества всякого зверья. Джиму явно перевалило за пятьдесят, но, хотя он и выглядел сухощавым до изнеможения, как и большинство «болотных людей», силы и выносливости ему было не занимать, а в дремучей бороде и густых волосах, выбивающихся из-под енотовой шапки, которую он носил и зимой, и летом, было совсем мало седины.
Под стать Джиму была и его жена Рут: высокая, худая, с желтоватым лицом, не позволяющим даже приблизительно определить ее возраст, всегда в допотопном, но неизменно чистом и выглаженном чепце, в таких же чистых и накрахмаленных кофтах, юбках и передниках.
Небольшой участок Каразерсов был тщательно очищен от леса, аккуратно и плотно огорожен дубовыми кольями, старательно возделан. На небольшой полянке расположился основательный сосновый сруб — дом Каразерсов. Уэйду и в голову не пришло бы назвать его «хижиной», но так свое жилище упорно называл сам Джим. Так же называли бывшие плантаторы и фермеры побогаче жилье всех вообще «лесных людей». Хлев для нескольких коров, свиней, загородка для мулов тоже выглядели достаточно крепкими и новыми, как и другие хозяйственные постройки, обнесенные частоколом. Наверное, такие частоколы ставились здесь еще во времена присутствия индейцев.
На первый взгляд казалось удивительным, как у Джима с его женой могла вырасти такая красивая дочь. Но внимательный и неторопливый взгляд мог бы заметить, что у Аннабел такие же синие, как у отца, глаза, такой же ровный, слегка удлиненный нос, такие же шелковистые брови.
3
Их издольщики жили в нескольких хижинах, построенных Уиллом с помощью Уэйда, Боба и его сына. Хижины эти представляли из себя сосновые срубы, крытые тесом, с кирпичной печью для отопления зимой, с небольшими сенями, которые могли выполнять роль хозяйственной пристройки.
Одно из таких строений занимал и Сэм Грант. Имя и фамилия его были характерны для многих негров-вольноотпущенников. Сэму было не больше тридцати лет, а это означало, что половину жизни он прожил уже свободным или относительно свободным. Подобно большинству бывших рабов, ему просто некуда было девать свою свободу. Федеральное правительство назначило неграм, оставшимся без средств к существованию, то есть, тем, кого теперь не кормили плантаторы, на которых они работали, пособия или пенсии. На то и другое трудно было прожить.
Сэм Грант мог считаться образованным негром, он проучился два или три года в школе во времена Реконструкции, не ставил крестик вместо подписи. Уже поэтому Сэм считал причисление себя к когорте прогрессивных личностей фактом, о котором все должны знать — в первую очередь белые — и с которым все должны считаться. В отличие от остальных издольщиков, работающих в Таре, он был слишком свободным — от всего, в том числе и от необходимости как следует обрабатывать свой участок.
Уилл Бентин не один раз посоветовался с Уэйдом, прежде чем они пустили издольщиков в Тару. Необходимость обработки земли, принадлежащей им, была очевидной. То, что Уилл оставил под парами, стремительно зарастало кустарником и молодыми сосенками. Еще немного, и понадобится паровой плуг, чтобы пахать эту землю, лошадям или даже мулам это будет не под силу. И три года назад Уилл решился. Домики для издольщиков они поставили на тех местах, где когда-то были хижины рабов и размещался навес для хлопка. На строительство они затратили осень 1877 года и часть зимы, но весной следующего года издольщики уже могли разместиться в жилищах.
Сэм Грант вместе с женой заняли один из домиков. Так уж получилось, что Уилл Бентин и Уэйд в его возрасте тем более, не могли достаточно долго и, самое главное, достаточно тщательно отбирать для себя издольщиков. Восемь семей оказались вполне добросовестными как в отношении работы на участке, так и отношении поддержания жилища в нормальном состоянии.
Плату за жилье Уилл с Уэйдом установили чисто символическую, заложив ее в долю урожая при пересчете на самый дешевый хлопок, поэтому они могли ожидать, что жильцы хотя бы не станут ускорять естественное старение построек.
Но Сэм Грант умудрился содержать свой домик так, что уже к концу первого года полы стали зиять щелями, крыша прохудилась, дверь висела на одной петле. Мало того, в феврале этого года у него возник пожар, отчего часть пола выгорела, часть обуглилась, стены закоптились. С тех пор помещение хранило следы пожара, настолько свежие, будто бы пожар случился вчера.
Сейчас, когда Уэйд предварительно постучав в полуоткрытую дверь (она и не могла быть закрытой полностью, потому что перекосилась), вошел в домик Сэма, он увидел хозяина развалившимся в кресле орехового дерева, с обитыми малиновым плюшем сиденьем и подлокотниками. Облачившись в касторовый костюм — как помнилось Уэйду, Грант появился в Таре два года назад именно в этом костюме, слишком шикарном для здешних мест и делавшим его обладателя похожим на проповедника — Сэм читал какой-то иллюстрированный журнал.
Уэйд не знал, насколько грамотен Сэм Грант, но речь строптивого носителя касторового костюма отличалась от неправильной, корявой речи других издольщиков, не говоря уже про речь таких замшелых осколков времен рабства, как Боб.
Столик из розового дерева, за которым сидел Сэм, это безвкусное кресло, стул с гнутой спинкой, на котором сидела жена Сэма Молли, комод и этажерка — все явно не подходило друг к другу, вещи словно бы нашли случайно, в разных местах. Кровать, которая угадывалась за мятой ситцевой занавеской, наверняка была того же сорта — то ли купленная на дешевой распродаже, то ли подобранная на поле неведомого сражения. И вся жалкая, нищенская роскошь в сочетании с немытым, неметенным, прожженным и обугленным полом, с закопченной каменной печью свидетельствовала о тщетных потугах Сэма Гранта если и не выглядеть джентльменом, то уж во всяком случае выглядеть не хуже некоторых белых. Когда Сэм Грант появился в Таре, костюм его выглядел, не в пример теперешнему состоянию, свежее и чище. Тогда Сэм вообще шикарно смотрелся на фоне оказавшегося рядом Уилла, а если бы случайно рядом оказался кто-то типа Джима Каразерса, то для стороннего наблюдателя контраст и вовсе получился бы разительным.
Но на сей раз Уэйд пришел к Сэму вовсе не для того, чтобы попрекать того запустением в жилище и его частичной порчей. Мало того, ни сам он, ни Уилл словом не обмолвились с Сэмом, когда узнали о случившемся пожаре. А уж как Сэму удалось достаточно быстро справиться со стихией и не сжечь жилище полностью, для всех оставалось загадкой.
— Привет, Сэм, — Уэйд прошел чуть дальше середины комнаты, сознавая, что с его высоченным ростом, оставшись в центре полупустого помещения, он будет выглядеть нелепо. Он был уверен в том, что сесть ему здесь не предложат — во-первых, некуда, а во-вторых, Сэм Грант, очевидно, считал хамство по отношению ко всем белым одним из признаков собственной эмансипации.
— Хэлло! — обращение «мистер Уэйд» было крайне редким в лексиконе Сэма, а уж «сэр» он и вовсе никогда не употреблял в разговорах с белыми.
— Сэм, — начал Уэйд, стараясь не смотреть прямо ни в шоколадное лицо Сэма, ни в серое лицо его жены, беззвучно, словно тень, сидящей в углу. — Сэм, что ты собираешься делать с урожаем этого года?
— Это уж мое дело. Вы свою долю получите — все, что мы оговаривали по контракту.
Уэйд подумал про себя, что не так-то много он и получит, судя по печальному опыту двух предыдущих лет. Сэм собирал значительно меньше хлопка, чем другие издольщики. Он даже и в этом году еще не расчистил свой участок до конца, сидя на участке уже третий год.
— Согласен, — спокойно сказал Уэйд, — это твое дело. Но в какой-то мере оно все же и мое. Я догадываюсь, что ты уже накупил у мистера Саймона Литвака всякой всячины в кредит. Я, пожалуй, догадываюсь и о большем — ты уже заранее запродал ему значительную часть урожая этого года.
Он мельком взглянул на Сэма — выражение высокопарной скуки на шоколадном лице сменилось выражением злости, растерянности и даже отчаяния.
— Уж слишком о многом вы догадываетесь, мистер Уэйд.
Вот как, уже «мистер Уэйд». А скажи он Сэму о том, что ему известно гораздо большее — что на самом деле тот отдал Литваку весь будущий урожай-то, наверное, удостоился бы и обращения «сэр». Однако Уэйду все это было ни к чему. Он даже и раздражения не испытывал по отношению к Сэму, хотя тот давал предостаточно поводов.
— Я обязан догадываться, Сэм. Иначе в один прекрасный день я обнаружу, что весь твой участок, который все-таки является моим, перешел в полную собственность мистера Саймона Литвака.
— Можете не беспокоиться. Ваша земля, данная вам только потому, что вас родили, останется в целости и сохранности, — глупость и напыщенность говорили устами бедного Сэма.
— Хотелось бы надеяться, что так оно и будет, — спокойно отреагировал Уэйд. — Я бы с удовольствием поменялся с тобой местами, чтобы посмотреть, как через несколько лет вся Тара уплывет к Саймону Литваку или другому столь же пронырливому израильтянину. Либо какому-нибудь янки из Новой Англии, а может, со Среднего Запада. Но другой Тары у меня нет, да и эта тоже принадлежит мне не полностью. Однако сейчас я хотел предложить тебе вот что: я куплю у тебя твою часть урожая и заплачу наличными.
— Вот так сразу и заплатите? — в голосе Сэма не чувствовалось ни недоверия, ни заинтересованности, и Уэйд почти полностью убедился в том, что весь урожай этого года, до последнего фунта, принадлежит Саймону Литваку.
— Да, вот так сразу и заплачу. То есть, не совсем сразу. Ты же достаточно грамотен, Сэм, — в мыслях у него не было польстить Сэму, когда он произносил эти слова, — достаточно грамотен для того, чтобы разобраться в столь простых вещах. Мы сами будем очищать хлопок, если будем отвозить его, а в недалеком будущем — может быть, через год, может, через два — обязательно станем получать из него пряжу где-то здесь, поблизости.
— А чем вы — и кто там еще с вами — отличаетесь от Саймона Литвака? Какая мне разница, кто будет присваивать мои деньги? — Сэм произнес это раздраженно, высокопарно.
— Я объясню тебе разницу, Сэм. Мы, то есть, синдикат при отделении Ассоциации, планируем получать совсем небольшую прибыль, а такие, как Литвак, и прочие стервятники, у которых счета в восточных банках, получают по двадцать пять процентов одних только комиссионных. Да еще впридачу они продают тебе товары втридорога. Я не могу сказать, что я такой же фермер, как и ты, Сэм. Я вкладываю в свою землю гораздо больше труда. Может быть, поэтому мне и не безразлично, как будет распределяться заработанное мною. Советую тебе обдумать мое предложение.
— Я все уже давно обдумал.
— То есть, ты уже продал Саймону Литваку весь урожай этого года, Сэм? Я правильно тебя понял? — Уэйд повернулся и теперь уже в упор рассматривал эти темные глаза навыкате, этот широкий нос, выдающиеся скулы, оттенок на которых переходил из шоколадного в бронзовый, нити ранней седины в курчавых волосах.
«Уж этот-то никогда не пользовался патентованными средствами для выпрямления волос. Он идейный борец за эмансипацию негров. А ведь Сэм намного старше меня, ему, пожалуй, уже лет тридцать. И что у него, бедняги, есть, кроме своих принципов, почерпнутых из выступлений агитаторов-янки, да убеждений, в которых он сам до конца не разобрался, в которых наверняка не до конца уверен в глубине души.»
— Понимайте, как хотите, мистер Уэйд. Я — свободный человек. — Конечно, вызов. Разумеется, гордыня и высокомерие.
— От чего ты свободен, Сэм? От труда? Янки наобещали тебе небо в алмазах и землю обетованную, только где они сами? Три года уже, как нет их. А наши беды, наши хлопоты, наши заботы они не смогли, не захотели взять с собой.
На сей раз Сэм Грант ничего не ответил. То ли не счел нужным, то ли у него исчерпались аргументы.
Молли все так же неподвижно и беззвучно сидела в углу.
Выходя, Уэйд подумал о том, что свобода обрушилась на таких, как Сэм Грант, как-то вдруг, сразу и без предупреждения. Никто им не объяснил, что же это такое — свобода, чем она отличается от вседозволенности, и хотя целых семнадцать лет прошло с тех пор, хотя целое поколение успело подрасти — его, Уэйда, поколение — Сэм Грант, уже наживший седину в волосах, неизвестно сколько еще будет сидеть в таком вот дурацком кресле, обитом малиновым плюшем, и произносить напыщенные фразы, хотя в душе его наверняка царят хаос и смятение.
4
Лето было обычным — жарким и полусонным. В июле Уэйд поехал к миссис Тарлтон в ее имение Прекрасные Холмы. Когда-то, лет двадцать назад, у миссис Тарлтон был самый большой конный завод в штате. Во время войны все погибло. Говорили, что даже потеря четверых сыновей в войне не надломила Беатрису Тарлтон так, как надломила ее потеря лошадей. Но недаром все же она была коренной южанкой, все предки которой с незапамятных времен жили в этих краях. Жизнестойкость миссис Тарлтон не знала пределов. Она смогла сохранить почти половину своей земли и пустила не нее издольщиков. Конный завод ей тоже удалось восстановить, хотя и не в прежних пределах.
Прямая и тонкая, она не походила на женщину, которой скоро исполнится шестьдесят лет. Только подойдя к ней поближе, Уэйд разглядел густую седину в ее огненно-рыжих волосах. Морщины на очень светлой, почти не тронутой загаром коже миссис Тарлтон казались тщательно вымытыми и словно бы отбеленными.
— Боже мой, Уэйд, мальчик, дай-ка я тебя разгляжу, как следует! — воскликнула Беатриса Тарлтон, словно она не видела Уэйда по меньшей мере уже лет десять, хотя на самом деле прошло около двух. Они заезжали сюда с Уиллом осенью позапрошлого года.
— Нет, какая сейчас настала жизнь! — голос Беатрисы Тарлтон звучал молодо и звонко. — Мы, ближайшие соседи, не видимся по нескольку лет! А когда-то! Почти каждую неделю то там, то здесь устраивались пикники, приемы. А ведь тогда все были заняты ничуть не меньше, чем сейчас, пожалуй, даже больше. Теперь я знаю о жизни у вас, в Таре, меньше, чем о жизни в Атланте или даже в Новом Орлеане. Как твоя тетушка Сьюлин, как ей удается справляться с хозяйством? Бедняжка, она всегда была такой изнеженной. Вот твоя мать — совсем другое дело. Вылитый Джералд О’Хара, твой покойный дед. О, ей много удалось преодолеть, твоей матери. Какие-нибудь вести есть от нее?
Уэйд пожал плечами и пробормотал нечто не очень разборчивое. Последнее письмо из Европы пришло еще в марте, до этого корреспонденция поступала не чаще.
— Ну да, эти ее родственники-ирландцы. — В тоне миссис Тарлтон не слышалось ни осуждения, ни сожаления, ни сочувствия. — Новые времена. Твой дед рвался сюда, в Новый Свет, а твоя мать почему-то предпочитает Старый.
Насколько Уэйд знал из рассказов старших, Джералд О’Хара покинул тот самый Старый Свет не совсем по своей воле. И вроде бы даже не он первый из ирландцев разрешил таким образом дилемму: быть повешенным или эмигрировать.
— Миссис Тарлтон, — Уэйд улыбнулся слегка застенчивой улыбкой. — Я ведь приехал к вам за тем, чтобы купить у вас лошадь.
— Купить? Лошадь? — она немного отступила, вся подобранная, вроде бы даже напряженная, в старомодной темно-синей амазонке. — Ты любишь лошадей, мальчик? Твой дедушка знал толк в лошадях, о! Похоже, у вас с мистером Бентином неплохо идут дела. Ведь у меня только скаковые лошади.
— Я знаю, миссис Тарлтон, — Уэйд снова улыбнулся, но на этот раз он представлял собой бесконечное терпение. Сейчас Беатриса Тарлтон закатит ему самую настоящую лекцию о том, что только истинные джентльмены понимают толк в лошадях, о том, что у нее чистокровные и очень гордые животные, которых нельзя унижать грубым обращением, не говоря уже о побоях, чью волю нельзя насиловать и так далее.
Но Беатриса Тарлтон словно бы прочла мысли Уэйда, неотрывно глядя в его карие глаза.
— Да, мальчик, ты должен любить лошадей. Как ты все-таки вырос! — неожиданно воскликнула она, словно впервые увидела его. — Знаешь, у меня тоже были очень высокие мальчики. Брент и Стюарт. Том и Бойд были поменьше. Странно… Гамильтоны. Я помню твоего отца. Ты очень похож на него лицом. Но он не был таким высоким. Хм… Я-то всегда считала, что Гамильтоны… Нет, в тебе чувствуется порода, мальчик. Твой дедушка был совсем коротышкой, но это вовсе ничего не значит, иногда порода проявляется даже через несколько поколений. Итак, ты хочешь купить себе скаковую лошадь? А для чего она тебе нужна?
— Естественно, для того, чтобы ездить верхом, — теперь улыбка Уэйда выглядела совсем простодушной.
— Но мои лошади достаточно дорого стоят, мальчик.
— Я знаю, миссис Тарлтон, но ведь это же ваши лошади.
Беатриса Тарлтон внимательно, очень внимательно посмотрела на него. Этот красивый высокий юноша с вьющимися каштановыми волосами был предельно серьезен.
Уэйд возвращался в Тару верхом на своей покупке — гнедом жеребце Лавджое, здоровенном трехлетке. Конь был покладистым, послушным. Уэйд скакал на нем без седла, но ему совсем не составляло труда управлять этим крупным, ладным животным. Лавджой чувствовал малейшее натяжение повода, реагировал на легчайшее прикосновение каблука к боку.
Въезжая в кедровую аллею, ведущую к дому, Уэйд заметил незнакомый экипаж, запряженный парой лошадей. Он не пытался даже предположить, кто бы это мог быть. Уэйд преодолел уже больше половины аллеи, когда увидел на крытом высоком крыльце человека, показавшегося ему удивительно знакомым. Широкие плечи, на которых красовался светлый, странного кроя короткий сюртук, такие же светлые брюки, ниспадавшие на изящные светло-коричневые ботинки. Мужчина стоял вполоборота к Уэйду, пытаясь рассмотреть что-то там вдалеке, где кончались белеющие уже хлопковые поля и начиналась гряда леса. Но вот незнакомец обернулся на стук копыт, и Уэйд увидел узкий нос над черной полоской усов, черные глаза под сдвинутыми бровями.
— Дядя Ретт, — негромко вырвалось у юноши.
Но Ретт Батлер не узнавал его. Только когда Уэйд спешился, привязал Лавджоя к коновязи и направился к крыльцу, яркие губы под черными усами разошлись в каком-то подобии растерянной улыбки, и лицо Батлера, дотоле хранившее выражение вежливого, но равнодушного внимания, осветилось радостью узнавания.
— Господи Иисусе, да ведь это же… Уэйд.
Уэйд легко взбежал на террасу, и Ретт Батлер обнял его. Лысеющая макушка, как ни странно, оказалась на уровне скул Уэйда, а плечи, раньше такие необъятно широкие и массивные, теперь уже не выглядели столь внушительно атлетическими.
— Уэйд Хэмптон, — Батлер отстранился, разглядывая юношу, и тот обнаружил, что черные волосы Батлера сильно тронуты сединой да и поредели кроме макушки еще и со лба. — Я приехал не один, Уэйд, — Батлер уловил выражение вопросительного внимания на лице юноши. — Твоя мать тоже приехала. И твоя сестра, Кэт.
Уэйд не выглядел обескураженным, хотя в душе его началось некоторое смятение. Он должен был обрадоваться. Но, прислушавшись к себе, Уэйд обнаружил, что ничего похожего на радость он не испытывает. Было чувство, напоминающее скорее досаду, чем смятение. Мир, в котором он существовал какое-то время, терял гармонию и равновесие с вторжением — да-да! Он должен был признаться себе в этом — с вторжением туда Скарлетт.
— Сестра? — Уэйд словно очнулся. — Вы сказали — сестра, дядя Ретт?
— Да, — Ретт Батлер выглядел несколько смущенным. — Так вот получилось, что у тебя есть сестра. Ей пять лет.
Он обнял юношу одной рукой за плечо, с удивлением чувствуя, какое оно крепкое, твердое — такие мышцы дает не порода, не благоприятные условия жизни, но только тяжелый ежедневный труд, он-то знал это — и повел его в темноватый и прохладный холл. Женщина в платье из тяжелого шелка цвета кизилового листа, с темно-рыжими, гладко зачесанными волосами, собранными на затылке в узел, зеленоглазая, широкоскулая, с массивными изумрудными сережками — это его мать? Девочку, которую Скарлетт вела за руку, он заметил вроде бы на несколько мгновений позже. Смуглый темноволосый ангелочек с огромными зелеными глазами, которые, казалось, излучали мягкий свет. Уэйд подумал, что такие глаза называют бархатными, он слышал это. И еще он подумал, что такое выражение глаз не может быть у столь крохотного существа. Сколько ей лет? Ретт Батлер, кажется сказал, что пять.
Скарлетт спустилась с последней ступеньки, сделала еще два шага навстречу Уэйду и с радостным изумлением посмотрела на него снизу вверх. Ей, как и какое — то время назад миссис Тарлтон — о чем Скарлетт не могла знать и даже догадываться — подумалось о том, что этот юноша напоминает двух других из далекого далека. Такой же стройный, узкобедрый, высокий. Одет, конечно, не так щеголевато. Немножко сутулится. Брент и Стюарт всегда ходили упруго, плечи расправлены, грудь гордо выпячена. Но в плечах он пошире, чем Тарлтоны. Не говоря уже о его отце, Чарлзе Гамильтоне. Конечно, он так же красив, но это более мужественная красота, и взгляд у него более твердый. Скарлетт словно только в этот момент осознала, что в мире должно было что-то измениться, чтобы этот юноша, очень похожий на Чарлза Гамильтона мог смотреть на нее так — изучающе, даже строго, без тени восторга и обожания.
Уэйд стоял на месте, и Скарлетт пришлось сделать три или четыре шага, чтобы преодолеть разделявшее их расстояние.
— Мальчик мой, — произнесла она, и глаза ее, зеленые, в уголках которых уже угадывались, уже прорисовывались будущие морщинки, глаза эти вспыхнули радостным и гордым светом.
— Мальчик мой, — повторила Скарлетт. — Уэйд.
Ее прохладные, сухие, чуть жестковатые ладони коснулись его висков. Привстав на цыпочки и наклонив голову, Скарлетт поцеловала сына в лоб.
— Кэт, котеночек, поди сюда, — позвала она девочку.
Та, без тени смущения и испуга, быстро перебирая ножками в белых чулочках и башмачках с высокой шнуровкой, приблизилась к матери.
— Кэт, это твой брат, о котором я тебе рассказывала. Уэйд Хэмптон. Поздоровайся с ним.
— Добрый день, Уэйд, — сказала девочка, глядя на него с доброжелательным интересом. Уэйд еще раз, как и несколько минут назад, подумал, что глаза девочки будто бы свидетельствуют о жизненном опыте, который она никак не могла обрести в свои пять лет.
— Здравствуй, — сказал он, опускаясь на корточки и оказываясь таким образом лицом к лицу с малышкой. Он взял ее ручонку в свои широкие шершавые ладони и слегка сжал.
За ужином они едва разместились в столовой — все вдесятером. Скарлетт о себе рассказывала мало. Она только выразила сожаление, что Сьюлин не смогла побывать на родине их отца и что сама она, Скарлетт, тоже вряд ли сможет побывать там в ближайшее время.
— Там прекрасный, ровный климат, Сьюлин, — говорила Скарлетт, вовсе не уверенная в том, что она не произносила те же или очень похожие слова несколько лет назад, в свой последний приезд в Тару. — Я все никак не могу привыкнуть к нашей джорджианской жаре. Там, в Ирландии, болота совсем не источают болотной вони, и на них не водятся змеи. Да, змей там нет, но люди более дикие, чем в Джорджии.
Сьюлин показалось, что у Скарлетт появился акцент, что она стала говорить отрывисто и резко.
Ретт Батлер большую часть времени молчал, а если и говорил, то вполголоса или даже шепотом, в основном беседуя о чем-то с Кэт, сидевшей рядом с ним.
Элла, Сюсси, Марта и особенно Джейн, семилетняя дочь Уилла, во все глаза смотрели на темноволосую и зеленоглазую незнакомку, которая вовсе не терялась в чуждой ей обстановке и спокойно встречалась взглядом с каждой из них, чтобы через несколько секунд перевести взгляд на Ретта.
Скарлетт принялась расспрашивать Уилла о состоянии дел в Таре, о том, сколько акров удалось еще вспахать и засеять из находившихся под парами. Ее удивляло падение цен на хлопок и кукурузу.
— Раньше здесь самая большая плантация была у Тарлтонов, — вспомнила она.
— Сейчас нет смысла вспоминать о том, какие у кого были плантации, Скарлетт, — сказал Уилл Бентин. — Самая большая ферма в округе сейчас у этих негров Бетчеллов, что купили усадьбу и дом Калвертов. Их там человек пятнадцать поселилось, если не больше. Так вот они почти всю бывшую плантацию и обрабатывают, а это, почитай, акров триста пятьдесят будет. Выращивают, конечно, один хлопок. У них весь урожай на корню агенты-янки скупают. А уж после них мы с Уэйдом будем да с нашими работниками. У нас, конечно, девять семей арендаторов, так что те сто двадцать акров, которые они обрабатывают, полностью нашими считать нельзя. И все-таки почти вся земля, что ваш батюшка когда-то скупил, обрабатывается. А Тарлтоны что? Они, конечно, тоже издольщиков держат и работников к себе пустили. Но все равно не то. Едва ли половину того обрабатывают, что раньше было. Но у миссис Тарлтон зато конный завод процветает. Оно, может быть, и разумно по нынешним временам. К ней за лошадями отовсюду приезжают: из Атланты, из Чарлстона, Мемфиса, даже из Филадельфии.
— А что о Фонтейнах слышно? — спросила Скарлетт.
— Фонтейнов осталось только Алекс со своей Салли, да детишек у них трое уже. Тони, говорят, все в Техасе. Скот там перегоняет. Отчаянный, конечно.
Скарлетт вспомнила Тони с его серебряным седлом, с его револьверами за поясом, в широкополой шляпе, в сапожках на высоких каблуках. В последний раз он навещал ее в Атланте.
— Все Фонтейны были отчаянными. Что ж, округу нашу не один он покинул.
— Понятно. Изменилось тут многое, и не всем это нравится.
— Уж это верно, — заговорила Сьюлин. — Кто бы раньше мог подумать, что самая большая ферма в округе будет у негров. Соседи-фермеры на них посматривают косо. В прошлом году у них несколько тюков хлопка сгорело. Раньше такого не случалось, разве что в войну только.
Скарлетт тоже заговорила о Таре. По ее мнению следовало бы нанять побольше работников, а не пускать издольщиков. Рабочих рук всегда должно хватать, ведь не всем неграм нравится брать на себя ответственность за будущий урожай, за его продажу. Все вернулось к довоенным временам, янки ничего не смогли поделать с Югом — тут Сьюлин поддержала ее, заявив, что она всегда была уверена в крахе Реконструкции.
Уэйд в отличие от Уилла, помнившего как когда-то, полтора десятка лет назад именно Скарлетт вдохнула жизнь в Тару, относился к поверхностным, по его мнению, замечаниям матери менее терпимо. Его просто коробила та самоуверенность и легкость, с которыми она походя расправлялась со всеми проблемами Тары, Джорджии и всего Юга.
Но он уже привык сдерживать себя, не давая выхода своему гневу или раздражению. Всегда ровный, не проявляющий внешних признаков агрессии, Уэйд мог показаться человеку, мало знающему его, покладистым и даже слабовольным. Однако в действительности все было не так. Стоило повнимательнее присмотреться к этому парню, и за мягкой, застенчивой даже улыбкой проглядывали недюжинная воля и несокрушимое упорство. Уэйд был бесконечно терпелив, он мало чего боялся в этой жизни — может быть, потому, что смутно помнил о многих страхах своего детства и чисто неосознанно научился презирать все страхи.
Скарлетт не знала такого Уэйда, поэтому ее очень удивило, когда он достаточно дипломатично, но вполне ясно выразил свое отношение к ее критике ведения хозяйства во всем округе Клейтон:
— Ма, тебе, очевидно, не мешало бы посмотреть в таком случае, как идут дела во всей Джорджии. А если и этого недостаточно, то и в Миссисипи, например, или в Каролине.
— И что бы я там увидела? — зеленые глаза Скарлетт стали загораться тем огнем, который кое-кто называл свечением глаз дикой кошки.
— То же, что и здесь, — очень спокойно ответил Уэйд. — А может, еще и похуже. Ведь кое-кто в Каролине до сих пор еще пытается выращивать рис на полях, когда-то затопленных соленой водой. А у нас самой большой глупостью можно считать ставку на возделывание одного только хлопка.
— Выращивание хлопка ты считаешь глупостью? — Скарлетт настолько повысила голос, что все остальные, даже девочки, замолчали.
— При тех условиях, в которых это делается, и при существующей цене на него — да, — Уэйд в упор посмотрел на мать, и Скарлетт с непонятной досадой отметила, что взгляд его абсолютно не похож на взгляд того маленького существа, которое почти всегда начинало икать от страха. В этом взгляде не было вызова, просто спокойная уверенность в своей правоте. И Скарлетт почему-то — она и сама не могла дать себе отчет в этом — не выдержала, перестала смотреть в глаза сыну.
— Извини, Уэйд, что вмешиваюсь, позже я просто могу забыть спросить тебя — как твои успехи в охоте? — голос Ретта Батлера звучал мягко и дружелюбно.
— Ну, сейчас охота совсем никакая, — пожал плечами Уэйд. — Хотя дичи, конечно, много.
— Да, я заметил. Кролики и утки просто великолепны.
— Это просто баловство — дичь, — подал голос Уилл. — При желании здесь каждый день можно питаться кроликами, дикими индейками и опоссумами. А вот осенью охота будет посерьезнее — олени. Первого своего оленя Уэйд свалил, конечно, поздновато для настоящего охотника — ему уже было четырнадцать. Зато он быстро наверстал все, чего не успел. В прошлом году он выследил и убил пуму.
— Пуму? — одновременно вырвалось у Скарлетт и Ретта.
— Да, — с нескрываемым удовольствием продолжал рассказывать Уилл. — У него тут есть приятель, Джим Каразерс…
— Это кто же такой? — перебила его Скарлетт. — Откуда?
— Да он все время здесь жил, милях в трех от Тары. Охотник и траппер. В верховой охоте на лис он-то, конечно, никогда не участвовал.
— Очевидно, потому, что у него никогда не было порядочной верховой лошади, — непонятно, уточняла Скарлетт или с непонятным злорадством констатировала факт.
— У него всегда были только мулы. А верховая охота на лис для таких, как Джим Каразерс — пустое времяпровождение, — словно бы безучастно сообщил Уэйд, которому, казалось, было совершенно безразлично, что о нем рассказывает Уилл и кому он рассказывает.
— Что вы меня все перебиваете, Скарлетт. Этак я никогда не расскажу о том, о чем хотел. Так вот, они с Джимом Каразерсом — не разлей вода. Как свободная минутка выпадет, так Уэйд сразу к Джиму на его участок. Вот они вместе с Джимом пуму и выследили. Уэйд ее уложил.
— Из какого ружья? — спросил Ретт Батлер.
— Из своей двустволки, — сказал Уэйд. — Мне ее дядя Уилл подарил четыре года назад. Картечью.
— Ты молодец, — спокойно похвалил его Батлер. Уэйд ничего не ответил. — Но я тоже хочу сделать тебе подарок. — Он поднялся из-за стола, вышел, а через минуту вернулся, неся дулом вниз короткое ружье.
— Вот, — сказал Батлер. — Ты его скоро опробуешь, рассмотришь, как следует. «Ремингтон» сорок четвертого калибра. Я думаю, при охоте на крупную дичь эта штука ни в чем не уступит двустволке Уилла.
— Спасибо, дядя Ретт, — лицо юноши осветилось неподдельной радостью.
Сразу же после ужина он испытал ружье, отстрелив из него несколько сучьев на одинокой сосне, росшей за выгоном.
— Послушай, Скарлетт, — обратился к ней Ретт, едва они остались одни в комнате, Уэйд Хэмптон взрослый человек. И взрослым он успел стать за то время, пока тебя с ним не было. Ему повезло, что тебя не было рядом с ним в эти годы. При тебе он просто обречен был оставаться маленьким и запуганным. Но, к счастью, ты упустила момент, когда он возмужал. Теперь тебе, слава Богу, уже не удастся сломать его. Ты, ведь просто обожаешь победить кого-то, подавить. С Уэйдом у тебя ничего не получится уже, повторяю. Не тот материал. Но испортить ему жизнь у тебя еще есть возможность. Не делай этого.
— С чего ты взял, что я собираюсь побеждать его? И в жизнь его я вмешиваюсь постольку поскольку. Ведь он еще не достиг совершеннолетия, а я его мать, как никак.
— Совершеннолетия он не достиг только юридически. А относительно твоего материнского к нему отношения… Помнишь, я как-то говорил тебе, что Элла и Уэйд больше счастливы без тебя, чем с тобой? Сегодня я лишний раз убедился в этом. И чем меньше времени мы будем оставаться в Таре, тем лучше будет для всех нас.
Могилы оказались ухоженными. Скарлетт, ожидавшая увидеть их в гораздо более запущенном состоянии, испытала какое-то непонятное чувство — странную смесь ревности и благодарности.
— Вот, котеночек, — сказала она дочери. — Здесь лежат твои дедушка и бабушка.
— Которые давно умерли? — большие зеленые глаза Кэт были серьезными, как у взрослой. Ретт Батлер держал ее за руку, ослепительно красивую с синем в красную полоску платьице, в широкой желтой шляпке.
— Да, они умерли задолго до того, как ты появилась на свет.
Скарлетт высыпала на могилу Джарелда землю из кожаного мешочка.
— Вот, папа, земля твоей родины, страны, не захотевшей принять меня. Видно, у нас с тобой одинаковая судьба.
Глаза ее были сухими, голос тоже звучал ровно, только горечь явно слышалась в нем.
Ретт с девочкой подошли поближе, и Кэт положила ручонку на плечо матери, присевшей на корточки.
Скарлетт вдруг почувствовала, что в душе ее царит покой — несмотря на все беды и поражения последних лет.
— Это тетя Сьюлин и девочки ухаживают за могилками, — сказала Кэт.
— Откуда ты знаешь? — Скарлетт оглянулась через плечо.
— Мне тетя Сьюлин вчера сказала.
Скарлетт сравнила свое теперешнее положение с положением сестры и устыдилась — что было совсем непохоже на нее — чувства раздражения, привычно возникавшего у нее при упоминании имени Сьюлин. У нее, Скарлетт, нет Тары, но у нее сейчас денег достаточно для того, чтобы выкупить две таких фермы, а может и больше. Она сейчас разгуливает, а Сьюлин с девочками, управившись с приготовлением завтрака для всех, теперь хлопочет во дворе. Уилл с Уэйдом выехали вообще ни свет, ни заря — окучивать хлопок.
Когда они подъехали к развилке на возвышении, где одна дорога вела в Мимозу, а другая — в Прекрасные Холмы, перед взором Скарлетт внезапно, словно под влиянием этого слишком яркого солнца, возникло видение, настолько натуральное, живое, что у нее захватило дух. Тогда, больше девятнадцати лет назад они ехали на барбекю в Двенадцать Дубов. Отец ехал верхом, а она с сестрами в коляске, Да, кажется именно на этом месте они встретили Беатрису Тарлтон с целым выводком ее дочерей.
Да и было ли это все на самом деле? И почему она помнит прежнюю жизнь, что в ней проку? Чем дальше Скарлетт жила, тем больше она убеждалась в ненужности, даже вредности всякого рода иллюзий, к которым относилось и облагораживание прошлого. Бессмысленно сожалеть о прошедших днях, не раз повторяла она себе, ничего оттуда не почерпнуть, разве что горький опыт, от которого тоже мало пользы.
Но тогда зачем же она едет — в который уже раз! — в Прекрасные Холмы? Уж не потому ли, что вчера ее собственный сын напомнил ей этих бесшабашных, этих чистых мальчиков, которые когда-то добивались ее благосклонности. И странное дело, она не чувствовала себя изменившейся, разве что самую чуточку.
Она перевела взгляд на Ретта, правившего лошадьми, и словно впервые увидела его седину — на висках, в усах — морщинки у глаз. Нет, она тоже изменилась, годы никого не красят. Скарлетт прижала к себе дочь, и Кэт удивленно подняла на нее большие зеленые глаза.
Первое, что заметила Скарлетт при въезде в усадьбу Тарлтонов — это расширенная и выглядевшая ухоженной конюшня, перед которой размещался большой загон. Загон был обнесен прочной изгородью: массивные столбы, толстые сосновые жерди, аккуратно вколоченные большие гвозди. Кто-то должен был здорово потрудиться здесь. Не сама же Беатриса Тарлтон и не Джим ее. В последний раз, когда она видела его, Джим выглядел таким старым. Их однорукий зять тоже не мог сделать этого. Да, ревниво подумала Скарлетт, конный завод миссис Тарлтон и в самом деле процветает, как говорил Уилл.
На крыльце особняка появилась черная служанка, которую Скарлетт раньше не видела и не могла предположить, кто бы это мог быть — то ли дочь кого-то из прежних негров, служивших у Тарлтонов, то ли вновь нанятая. Не перестанут южане брать себе в слуги черных. Скарлетт вспомнила дядюшку Питера, вспомнила, как он плакал, оскорбленный этими мерзавцами, этой белой дрянью, женами офицеров — янки.
Служанка скрылась в доме, и, пока Ретт подгонял коляску к коновязи, Джим Тарлтон успел выйти на крыльцо. Он выглядел так же, как и в их последнюю встречу, отметила Скарлетт. Широко улыбаясь, Джим обнял ее за плечи, подал руку Батлеру, погладил по голове Кэт.
— Боже мой! — подоспевшая Беатриса все так же брызжет энергией, она вне возраста, вне времени, эти категории — условность для нее. — Скарлетт! Ретт! Какой сюрприз! Кто этот прелестный ангелочек Кэт? Твоя дочь?
Беатриса Тарлтон всегда относилась к Скарлетт с известной настороженностью, считая ее прожженной плутовкой. Ретт Батлер, по ее мнению, тоже заслуживал столь же малого доверия — как же, друг янки, «подлипала». Конечно, он воевал за Конфедерацию в артиллерии, в Атланте это даже проверяли, но «подлипала» всегда оставался «подлипалой». Однако как женщина чрезвычайно практичная, Беатриса Тарлтон сейчас имела клиентов среди янки и она понимала, что, во-первых, времена все-таки изменились, а во-вторых, они изменились таким образом, что результаты Реконструкции можно считать перечеркнутыми. И почти все янки были против четырнадцатой и пятнадцатой поправок к конституции.
Все эти соображения миссис Тарлтон и объясняли радушие и приветливость, которые она проявляла сейчас по отношению к Ретту и Скарлетт.
— Вчера ваш мальчик купил у меня лошадь. Каково, а? О, он знает толк в лошадях. Еще бы — это внук Джералда О’Хара. Да и не многие могут сейчас позволить себе покупку скаковых лошадей. Они с Уиллом Бентином достигли настоящего благополучия, да.
— Но, пожалуй, не большего, чем эти негры, что купили усадьбу Калвертов, так ведь? — возразила Скарлетт. — Как их?..
— Бетчеллы, — заговорил. Джим. — Нет, Скарлетт, дела у них идут хуже, чем у ваших родственников. Им еле-еле удается сводить концы с концами. Вы себе представить не можете, как дешев сейчас хлопок. Его выращивают слишком много, отсюда и падение цен. Бетчеллы продают весь урожай агентам с Востока, те платят совсем мало, зато за семена берут втридорога.
— У этих Бетчеллов хлопок уже несколько раз горел, — перебила мужа Беатриса Тарлтон. — И подстрелили как-то одного из них.
— Кто подстрелил? — быстро спросила Скарлетт.
— Конечно же, этого никто не знает. А вообще сейчас развелось много нищей белой швали, гораздо больше, чем до войны. Мы же все помним, как тут Слеттеры были бельмом на глазу у всех. Ваш покойный батюшка сколько раз просил его продать участок раза в два дороже истинной цены. Но одно дело белые, даже полунищие, а другое… Нет, рано или поздно этих Бетчеллов выкурят отсюда. Черные должны знать свое место. Я редко вижусь с вашими родственниками, но при встрече обязательно скажу им, то ли мистеру Бентину, то ли Уэйду — пора бы им вышвырнуть уже этого наглого черномазого Гранта, который у них издольщиком. Его место если не на виселице, то где-нибудь на Севере. Подумать только, мистер Бентин и ваш сын берут с них всего одну треть урожая, а этот черный бездельник, рассказывают, так запустил свой участок, что одна треть от ничего получается совсем уж ничем.
— Да, но как же ему удается не умереть с голоду, этому негру? — удивилась Скарлетт.
— А он получает какую-то пенсию от федерального правительства.
— Вот как…
— Да-да, — Беатриса Тарлтон вдруг расхохоталась, показывая крепкие лошадиные зубы и по-мужски уперев руки в бедра. — Хорошенькое дело! Послушал бы нас кто-нибудь со стороны — обсуждаем дела каких-то черных, словно они того заслуживают.
Тут Скарлетт подумала, что Беатриса Тарлтон слегка кривила душой — до войны она достаточно хорошо обращалась со своими рабами. Ее хлыст, без стеснения гулявший по спинам и задам сыновей, никогда не опускался на спину негра. А Эллин, ее мать? Скарлетт очень хорошо помнила, как та ухаживала за больными рабами, как относилась к слугам — Мамушке, Порку, Дилси.
— Ну ладно, — миссис Тарлтон решительно прекращала обсуждение возмущавшей ее темы эмансипации негров. — Вы надолго вернулись в Тару? — при этом она взглянула на Ретта Батлера.
— Нет, вряд ли, — Ретт, в свою очередь, посмотрел на Скарлетт.
— У нас масса дел в Атланте, — сказала та. — Да и потом.
5
Небо там, далеко, сливалось с узкой полоской леса, голубой цвет неба незаметно переходил в густо синий, что могло создать иллюзию приближающейся грозы. Но грозы не предвиделось, установилась ровная сухая погода, как и бывало обычно в этих краях в июле.
Уэйд шел с мотыгой в руках между двух рядов хлопчатника, привычно слегка согнув спину, привычно выставив вперед одну ногу, а мотыга в его руках будто сама по себе опускалась и поднималась, взрыхляя землю, срезая сорняки, сгребая землю цвета свежей ржавчины к кустам хлопчатника, на которых уже набухли, раздались вширь зеленые коробочки с белым верхом.
Руки поднимали и опускали мотыгу, ноги, обутые в тяжелые башмаки из воловьей кожи, переступали по горячей земле скорее рефлекторно, чем обдуманно, и Уэйд мог отдаться своим мыслям. Ему вообще нравилась такая работа — неспешная, когда можно поразмыслить над чем-то основательно, прикинуть, подходя к сути дела и так, и эдак. Сейчас же он просто не знал, над чем думать. Он мог не сомневаться относительно того, что мать будет вмешиваться в дела фермы, кончится все, может быть, даже тем, что она сядет за конторские книги. Вот уже два года, как эти книги вел он, Уэйд, и сама мысль о том, что кто-то будет проверять его, контролировать, подавляла.
Как хорошо было, когда Скарлетт находилась где-то вдалеке. У всех у них — у него, Уилла, Сьюлин — окрепло убеждение, что Скарлетт останется в Европе навсегда. Уэйд совершенно не нуждался в ее присутствии, потому что с некоторых пор понял — те отношения, которые связывали его со Скарлетт, больше похожи на отношения богатой опекунши с приемышем, чем на отношения матери и сына. Он не мог не чувствовать, что Скарлетт относится к нему как к досадному недоразумению, как к какой-то досадной своей ошибке. Но это еще полбеды. Он давно уже относился к матери достаточно равнодушно, не испытывая потребности в том, чтобы она находилась рядом с ним — как если бы он был старше своего истинного возраста по меньшей мере лет на двадцать. Но вновь терпеть диктат Скарлетт, наблюдать вспышки ее гнева… Уэйд не мог не признаться себе в том, что подавлял вчера в себе нечто, похожее на робость — видно, это слишком уж глубоко засело у него в душе.
Аннабел… Конечно, ему, возможно, рано думать о женитьбе, но узнай мать просто об этой девушке, о ее семье, о чувствах, которые он испытывает к Аннабел, беды не миновать. Многое изменилось, что и говорить, сейчас юноши и девушки встречаются не только и не столько под присмотром родителей — о чем любит говорить Сьюлин с непонятными интонациями. То ли она осуждает это, то ли завидует нынешней молодежи. Но даже и Сьюлин согласна с тем, что довоенная жизнь осталась в прошлом. Круг знакомых сейчас определяется не по происхождению. Раньше все было не так. Можно представить себе, сколько усилий затратил его дед, выигравший, как рассказывают свое поместье в карты, сколько усилий затратил Джералд О’Хара на то, чтобы пробиться в высшее общество, в свет.
Уэйд улыбнулся, вспомнив о деде, о котором, в основном, знал только из рассказов: эти безумные скачки, прыжки через изгородь, последний прыжок — несостоявшийся, впрочем: говорят, лошадь остановилась, как вкопанная — стоил Джералду О’Хара жизни. Отец его — совсем другое дело. Хорошо, что, Уэйд, похож на своего отца только внешне. Из рассказов тетушки Питтипэт, Мелани, из отрывочных замечаний Скарлетт у него сложилось впечатление о Чарлзе Гамильтоне как о личности достаточно безвольной, как о наивном молодом человеке.
Но тем не менее Уэйд задал хорошую взбучку этому подлецу Джо Фонтейну, когда тот позволил себе в его присутствии несколько нелестных замечаний по адресу его покойного отца. Уэйд очень уважал Тони, дядю Джо Фонтейна — вот настоящий мужчина, его жизнь в Техасе похожа на чудную легенду: стычки с бандитами, с индейцами, полные неожиданностей и опасности перегоны скота на огромные расстояния, через территории нескольких штатов, переправы через полноводные реки. О, этот бескрайний Техас! Уэйд и сам бы с удовольствием поменял свое размеренное существование здесь на жизнь, состоящую из приключений, риска, когда каждый новый день преподносит что-то новое и неожиданное. А вообще-то нового и неожиданного хватает и в Таре — Уэйд словно бы забыл на какое-то время о том, что приехала его мать, но скоро вспомнил. Да и Уилла Бентина никак нельзя оставлять одного.
— Эй, Уэйд Гамильтон!
Окрик с края поля вывел Уэйда из оцепенения. Конечно, это опять этот крикливый ирландец, коротышка Тим О’Фланаган.
Уэйд медленно обернулся, слегка сдвинул шляпу на затылок, стряхнул пот со лба. Он не произнес ни слова, только вся его поза являла немой вопрос. И О’Фланаган, оставив свою повозку, запряженную тощим подслеповатым мулом, заспешил к Уэйду, двигаясь между грядами хлопчатника своей подпрыгивающей походкой.
Тиму было двадцать пять лет, но он еще не женился. Все О’Фланаганы переселились сюда из Южной Каролины. А было их, ни много, ни мало, дюжина. Вот уж кого следовало бы называть голодранцами, подумал Уэйд и в этот раз, как думал он всегда, стоило ему увидеть кого-либо из шумной ирландской семьи. Неизвестно, чем занимались О’Фланаганы в Южной Каролине, но здесь они вели хозяйство из рук вон плохо. Хлопчатника они умудрялись выращивать столько, что не набиралось и пяти тюков хлопка с пятнадцати акров, хотя мужчин было семеро, а скотины, включая и этого мула, стоявшего сейчас, полузакрыв глаза, в тени диких апельсиновых деревьев, шесть голов. О’Фланаганы заняли участок, когда-то принадлежавший Слэттери, да прихватили еще несколько акров при разделе соседней плантации. Сьюлин говорила, что этому участку не везет — никак там не поселятся порядочные хозяева. У Тима было еще пять братьев и четыре сестры. Их отец, Шон О’Фланаган, был таким же маленьким, как Тим, таким же шумным и задиристым. Остальные братья тоже удались в отца. Все ссоры и драки в лавке Энтони Куэйла, тоже пришельца, начинали братья О’Фланаганы, причем дрались они как между собой, так и с посторонними. Собственно, заведение Куэйла следовало бы назвать кабаком, так как он, в основном, торговал дешевым дрянным виски.
И если раньше голодранцы Слэттери, как рассказывала Сьюлин, молча ненавидели своих соседей, то теперь О’Фланаганы, все семеро мужчин во главе с папашей, выражали свое недовольство весьма агрессивно.
Вот и сейчас Уэйд мог быть уверен в том, что Тим О’Фланаган, используя какой-то мелочный повод, нарывается на ссору. Так оно и оказалось.
— Черт подери, мистер Гамильтон, — это обращение, очевидно, следовало считать приветствием. — Распустили вы вконец своих негров.
Все ясно, опять речь пойдет о Джоне Уорше, который обрабатывал несколько акров как раз по соседству с участком О’Фланаганов. Уорш был смирным, пожилым негром, очень старательным и трудолюбивым. Жил он в таком же домике, как и остальные семьи издольщиков, но содержал свое жилище в образцовом порядке. Да и участок у него выглядел не в пример другим получше. Он не только прислушивался к советам соседей-фермеров, но и сам при случае мог подсказать много ценного. Раньше Уорш работал на хлопковых плантациях в Миссисипи. После войны переселился сюда, в Джорджию. Этот негр являл собой образчик долготерпения, но долготерпения не пассивного — в нем чувствовался вызов судьбе. Что-то стояло за ним, его прошлое, оно делало глаза Уорша совсем уж чернильно-печальными, еще более печальными, чем вообще свойственно их расе. И эта печаль, казалось, заставляла Уорша вечно двигаться — не суетливо, не бестолково, как бывает, когда человека понуждает к движению злость, или растерянность, или кратковременное отчаяние. Он действовал даже не как заведенный механизм — что-то во всем облике Уорша заставляло вспомнить природу с ее безостановочно текущими реками, с ее неотвратимо чередующимися закатами и рассветами.
Добро бы уж Фланаганы взъелись на Сэма Гранта, тот давал предостаточно поводов. Но Уорш находился по соседству, его участок от надела ирландцев отделяла только полоска земли, поросшая кустарником.
— В чем дело, Тим? — Уэйд с удовольствием сгреб бы сейчас этого коротышку в охапку, отнес бы туда, откуда тот начал движение — то есть, к полоске диких апельсиновых деревьев — зашвырнул бы его в повозку и хлестнул дремавшего мула вожжами.
«Хорошо еще, что я всего лишь на четверть ирландец, — подумал Уэйд. — Наверное, непросто быть ирландцем на сто процентов — того и гляди тебя разорвет изнутри.» Эта мысль пришла к Уэйду следом за нарисованной в воображении картины удаления маленького вонючего ирландца с хлопкового поля.
— В чем дело, Тим? — спросил он уже спокойнее, чувствуя, что даже получает удовлетворение, глядя в пылающее раздражением и злобой лицо, в бешеные серо-желтые глаза О’Фланагана.
— А дело в том, что этот черномазый заразил весь наш участок долгоносиками! — выпалил Тим.
— Как же так? Каким образом? — Уэйд настолько удивился, что даже перестал наслаждаться созерцанием чисто ирландской ярости.
— Они от него все перебежали к нам!
— Зачем им бегать? Почему к вам?
И тут слово по слову выяснилась вещь, в которую Уэйд отказался поверить — О’Фланаган обвинял Уорша в том, что тот обработал химикатами свой хлопчатник, оберегая его от злейшего врага — жука-долгоносика. А скандальные ирландцы не признавали ни ядохимикатов, ни удобрений, которые были необходимы истощенной земле.
— Погоди-ка, ты что же, будешь указывать Уоршу, как ему выращивать хлопок? — прищурившись, спросил Уэйд.
— Я ему не указываю, как ему выращивать его поганый хлопок, я ему указываю его место, — тонкие губы ирландца образовали неровную линию, открыв гниловатые кривые зубы, отчего рот его стал похожим на крысиную пасть.
— Ах, вот оно что. Тогда слушай, что я тебе скажу, Тим. Самое лучшее, что ты, а также твои братья и сестры можете сделать, так это податься куда-нибудь в город и устроиться швейцарами, официантами, рассыльными, на худой конец парикмахерами. А на земле надо работать. Хлопок у Уорша вовсе не поганый, это вы целой оравой не можете справиться с клочком, где одному человеку и одному мулу только впору и развернуться.
— Значит, выходит, это мы во всем виноваты? — Тим О’Фланаган был явно обескуражен, он спросил совсем не то, о чем хотел еще спросить. Просто задира не ожидал подобного отпора от молодого парня, которого многие соседи — особенно новые, пришлые — считали чуть ли не работником у своего одноногого родственника.
— Выходит, черномазым все можно? — постарался спасти свое реноме Тим О’Фланаган.
— Ничего им нельзя, кроме как работать и пользоваться плодами своего труда. А уж этого ты им, наверное, не запретишь, Тим. Голосовать, положим, они в этом году и сами не пойдут, побоятся, а вот работать перестать они не могут.
О’Фланаган молча повернулся и пошел, а Уэйд мог расслышать, как он пробормотал: «Проклятый негритянский защитник». Оставалось только пожать плечами. Конечно, ходили всякие слухи, что к пожару на складе хлопка у Бетчеллов приложил руку кто-то из Фланаганов. Но это слухи, не больше. Разумеется, эти вечно полупьяные ирландцы на многое способны, поэтому на них и указывают пальцами в первую очередь, когда что-то случится. Джим Каразерс как-то вскользь упомянул об опорожненных ловушках. «Это кое-кто из ваших соседей, я так полагаю,» — совершенно беззлобно заметил тогда Джим. Уэйд не обратил особого внимания как на сам факт воровства из ловушек, так и на замечание Джима. «Последнее это дело, — прибавил тогда Джим, — раньше у нас такого не водилось.»
Понятно, что под пришлыми Каразерс подразумевал не одних только О’Фланаганов. Возможно, Бетчеллы нравились ему еще меньше, не говоря уже о таких, как Сэм Грант. В округе уже несколько семей издольщиков снялись, бросили участки и уехали искать удачу в другом месте. Тетка Сьюлин говорила, что раньше такое было невозможно, даже рабов продавали не дальше своего графства, исключение только составлял их бывший сосед Макинтош.
Все опасения относительно того, что мать будет вмешиваться в ведение хозяйства, быстро рассеялись — дни проходили за днями, а она была занята своими делами, которые, в основном, сводились к визитам. Но визиты нельзя наносить бесконечно долго, тем более, что прежних соседей осталось раз-два и обчелся, к тому же оказалось, что у них сейчас какие-то странные проблемы, очень схожие с теми, которые она наблюдала у обитателей Тары. Не прошло и недели, как Скарлетт, Ретт Батлер и маленькая Кэт укатили. Уилл Бентин как бы между прочим заметил, что достаточно надолго.
6
Пламя коптилки отбрасывало на бревенчатые, конопаченные стены кривые и изломанные тени. Дик Кленси, чей участок находился по соседству с участком Каразерса — если полмили расстояния можно считать соседством — отбрасывал самую неспокойную тень.
— А я говорю вам, что это был медведь! Кто бы еще мог так истоптать мою кукурузу? Я могу точно сказать, что это не Джереми Сэндерс по пьянке сделал.
Джереми Сэндерс, при росте шесть футов три дюйма весивший около двухсот двадцати фунтов и заросший бурой густой шерстью от ступней до макушки, и в самом деле здорово смахивал на медведя, но сейчас он только досадливо махнул рукой:
— Будет тебе, Дик, околесицу нести! Откуда в нашей округе медведи? Ветром их, что ли, принесло?
— Может быть, и ветром, — спокойно парировал Дик. — Разницы нет, каким образом он сюда попал. А вот когда он задерет у тебя пару коров или лошадь, тогда ты вообще перестанешь интересоваться, как он сюда попал. Я сразу пустил своих собак в кукурузу. Они зарычали, и шерсть у них на загривках поднялась, потом они пошли по следу.
— Ну, твои-то собаки наверняка так рычат на зверя не крупнее барсука, — опять сказал Джереми Сэндерс. — Если бы это был кто-нибудь побольше, они сразу бы поджали хвосты и заскулили.
— Это мои-то собаки?! — невысокий костлявый Клэнси, одетый в залатанную куртку из оленьей кожи, сделал шаг в сторону здоровяка Сэндерса, готовый, казалось, броситься на него. — Честное слово, Джереми, у тебя мозгов не больше, чем у твоего бульдога, а ты еще пытаешься острить.
— Какого еще бульдога? — насторожился Сэндерс. — Ты имеешь в виду моего Тигра?
Собака Джереми, больше похожая на мастифа, чем на кого-либо другого, имела в холке высоту не менее двух футов, поэтому у ее хозяина были все основания обижаться, когда Тигра называли бульдогом. Впрочем, бульдог, наверное, тоже принял посильное участие в том процессе, в результате которого получилось странноватого вида создание, получившее кличку из-за черных поперечных полос на туловище светло-коричневого цвета. Весил этот самый Тигр никак не меньше девяноста фунтов, что очень нравилось Джереми Сэндерсу, любившему все крупное, основательное.
— Ты это про Тигра? — повторил свой вопрос Джереми. Уксусу в тебе много, Дик Кленси, поэтому ты такой тощий.
— Чтоб ты пропал! — заорал Дик Кленси. — Чего ты вообще привязался ко мне со своей собакой? Я рассказываю про медведя, понимаешь? Если тебе слабо что-то сделать даже с очень крупным барсуком, как ты только что попытался съязвить, сделай вид, что вообще ничего не слышишь.
Уэйд улыбнулся. Они всегда так спорили и препирались, сколько он их помнит. Но до серьезного скандала дело сроду не доходило, потому что Джереми Сэндерс, как правило, уступал первым. Так случилось и сейчас.
— Ладно, валяй, рассказывай дальше, — пожал он могучими плечами, обтянутыми войлочной курткой.
Эти прямые в выражении своих чувств, бесхитростные люди, наверное, удивились бы, услышав нечто вроде «борьба за существование», подумал Уэйд. Они естественны, как этот лес, эти холмы, река. Они содержат свои несколько акров обрабатываемой земли, но больную часть времени ставят ловушки на енотов, стреляют кроликов, белок, ловят рыбу — разумеется, не потому, что они вялы и ленивы. Немногие из фермеров смогли бы вернуться на следующий день к своим занятиям, обойдя за день столько ловушек, сколько их обходил, например, Дик Клэнси.
Они все собрались сейчас в пристройке Джима Каразерса, чтобы обсудить сообщение Клэнси, пятеро соседей-лесников и Уэйд Гамильтон. Уэйд считался своим, хотя он номинально и владел площадью более сотни акров пахотной земли, имел в хозяйстве нескольких мулов и лошадей, не считая прочей живности — в девятнадцать-то неполных лет. Принятию в этот круг содействовали три вещи — Уэйд был хорошим, настоящим охотником, несмотря на возраст. Он, опять же вопреки возрасту, был очень рассудителен, серьезен. И в-третьих, все считали его уже почти что зятем Джима Каразерса.
— Так вот, — продолжал свой рассказ Клэнси. — У ручья они потеряли след. Зато я там след обнаружил. Вот такая лапища, — он намного развел полусогнутые ладони, изобразив размер следа.
— Я думаю, — сказал Джим Каразерс, — что надо будет поискать за Черным Ручьем.
Все согласились с ним и в следующее воскресенье прошли полосу шириной не менее мили и длиной миль в десять, начиная с того места на берегу Черного Ручья, где собаки Дика Клэнси потеряли след. Они убедились в том, что Джим Клэнси не врал — обломанные ветки ягодных кустов, достаточно четкие следы в некоторых местах указывали на то, что косолапый пришелец побродил здесь.
Но все дальнейшие их вылазки оказались столь же безуспешными — медведь явно не стремился встречаться с ними. Но он же нанес еще один визит поближе к жилью, разрушил старый заброшенный хлев одного из фермеров. Хлев этот находился ярдах в ста от новых построек, но собаки фермера, естественно, учуяли незванного гостя, подняли испуганный вой. Хозяин несколько раз выстрелил в темноту из дробовика. Тогда медведь, очевидно, убежал.
— Уэйд, ты разрешишь мне покататься на Лавджое? — бледно-голубые глаза словно бы распахнулись настежь, в них читается все: надежды, страхи, боль.
— А ты не боишься? Он, конечно, достаточно смирный, но все же…
— Что «все же»? — отчаянье и боль во взгляде силятся казаться вызовом.
— Ну, твоя мать никогда, например, не ездила верхом.
— Зато твоя ездила, да еще как!
— Не знаю, не видел. Хотя говорили, что ездила она хорошо.
— Видишь, а бабушка Тарлтон еще и сейчас скачет вовсю.
— Миссис Тарлтон — записная лошадница. Рассказывают, что в молодые годы она и охотилась верхом, ни в чем не уступая мужчинам.
— А твоя Аннабел?
— Что — моя Аннабел?
— Ах, она все-таки твоя Аннабел?
— Сюсси, перестань. Ты только что перечислила всех, кто ездит верхом. Так при чем же здесь Аннабел?
— Она тоже охотится верхом?
— А зачем ей охотится верхом?
— Но ведь у нее же отец охотник.
— Сюсси, перестань нести чушь. Ты прекрасно понимаешь, что Джиму Каразерсу не до верховых лошадей. Да и прошли, наверное, те времена, когда у нас охотились верхом.
Они стояли у коновязи в глубине двора, перед открытой дверью конюшни. Уэйд, в шерстяной кофте, в грубых хлопчато-бумажных брюках и коротких сапогах, держал на поводу оседланного Лавджоя. Жеребец норовил взять в большие мягкие губы то ухо Уэйда, то его плечо. Уэйд беззлобно отталкивал лошадиную морду.
Началось или, скорее, продолжалось бабье лето, так как октябрь уже подходил к концу. Погода стояла довольно теплая, почти что жаркая и сухая.
Сюсси очень изменилась за прошедшее лето. Она выглядела явно старше своих четырнадцати лет — рослая с вполне сформировавшейся грудью. Исчезли мешковатость и угловатость подростка, на смену им пришли упругость и грация. Даже характер Сюсси, кажется, изменился за лето — она стала более живой, энергичной.
— Значит, твоя Аннабел не охотится верхом?
— Нет, Сюсси. Моя Аннабел не охотится верхом, — он смотрел в ее глаза и видел в них отчаянную решимость переплыть океан родственной крови. — Ты будешь кататься?
— Пожалуй, нет. Я передумала. Ты, значит, женишься на ней?
— Еще не знаю, — Уэйд улыбнулся своей мягкой улыбкой. — Но в любом случае это касается ее и меня.
— Это верно, — казалось, она была готова расплакаться сейчас.
— Ладно, Сюсси, тогда я, пожалуй, поеду, — он отвел Лавджоя от коновязи и, едва коснувшись ногой стремени, оказался в седле.
Поворачивая в конце аллеи, Уэйд оглянулся. Фигурка в синем платье медленно брела к дому. Он вздохнул. Не хватает только забот с Сюсси. Мало того, что если он женится, в доме заметно нарушится равновесие — нет, не материальное, конечно, и не в его пользу, ведь они с Эллой сейчас явно не потребляют двух законных третей от того, что дает ферма. Все делится поровну, а это, если разобраться, не совсем справедливо по отношению к ним с Эллой. И все равно Сьюлин недовольна. Нет, она, конечно, приветлива, даже иногда по-настоящему ласкова с Эллой, но он чувствовал, что Сьюлин считает себя обойденной в этой жизни. Может быть, ее подспудное недовольство судьбой усилилось после приезда матери? Хоть бы Скарлетт больше не возвращалась. Ему достаточно хорошо с Уиллом, Сьюлин, Эллой. И будет еще лучше с Аннабел. У него даже мысли не появлялось о том, чтобы сообщить Скарлетт о своей возможной женитьбе. А к этому все придет, раньше или позже.
Они все-таки выследили того медведя. Случилось это в начале декабря, когда медведь стал уже настолько дерзким или любопытным, что забрался в сарай Дика Клэнси. Дик спросонку шарахнул в темноту из двух стволов, в ответ раздался поспешный топот, такой тяжелый, что Дик, честно говоря, даже заробел слегка. Единственное, что он мог сделать, так это спустить своих гончих. И в то же время это было самой последней вещью, на которую он должен был решиться. Его гончие все-таки никогда не преследовали такого зверя. Лиса или олень — далеко не одно и то же, что крупный хищник. В этом он убедился через несколько минут после того, как спустил собак. Самый крупный кобель, вожак своры, слишком ретиво принялся утверждать свое старшинство, за что и поплатился. Медведь распорол ему брюхо. Запихивать внутренности обратно и зашивать брюхо кобеля Дик не стал. Он просто пристрелил его.
На следующее утро десять охотников с собаками прочесывали лес, растянувшись цепью. Начали они все с того же участка у Черного ручья. Собаки сразу же взяли след, тем более что Дик, возможно, ранил зверя — маленькие, едва заметные капли крови встречались на пожухлых листьях.
Уэйд ехал верхом на своем Лавджое, ярдах в пятидесяти от него возвышался на муле Джереми Сэндерс, в черном коротком полушубке, в штанах цвета хаки, заправленных в резиновые сапоги, а рядом с мулом рычал и хрипел, удавливая себя ошейником, его ужасный пес.
Они поднялись на небольшой пригорок, увенчанный валуном. С этого места лес казался более низким, а звуки, долетавшие из его гущи, более отчетливыми. Прямо пред ними тек неширокий рукав реки Флинт. Очевидно, собаки гнали зверя по противоположному берегу.
— Переправимся здесь, — Сэндерс повернул в сторону Уэйда красное обветренное лицо. — Речка здесь петляет вокруг вон той горбушки, так что срежем путь.
Уэйд прекрасно представлял себе то, о чем говорил Сэндерс. Он очень неплохо знал этот лес в радиусе пятнадцати миль. Сейчас они переправятся через реку, пересекут возвышенность и окажутся в самшитовой роще. Если медведь в самом деле пойдет вдоль берега — а он это наверняка сделает, потому что там бурелом, который он легко преодолеет, а собаки либо отстанут, перепрыгивая через завалы, либо станут подниматься вверх по склону и в этом случае тоже потеряют время. Но у них с Сэндерсом будет солидная фора.
Они спустились к реке, Сэндерс, постукивая каблуками резиновых сапог по округлым бокам мула, загнал, его в воду и слегка ослабил поводок Тигра. Пес поплыл деловито и целеустремленно, словно это он управлял всей операцией, а не его хозяин. Лавджой, пофыркивая, рассекал мутный поток точеными ногами, потом мускулистой грудью, но плыть ему не пришлось, глубина здесь была небольшая.
Лавджой опередил на подъеме более тихоходного мула на несколько ярдов, и Уэйд смог оценить обстановку раньше Сэндерса: медведь и в самом деле перебрался на другой берег, а, оторвавшись от собак в буреломе, уходил теперь на запад, туда, где лес тянулся на многие мили, не прерываясь, где его не пересекали ни крупные реки, ни проложенные человеком большие дороги, где первым препятствием была бы только широкая гладь реки Чаттахучи.
Уэйд поправил на плече «Ремингтон» подаренный Реттом Батлером. Он уже пристрелял ружье и убедился, насколько это ценный подарок. Уэйд почувствовал напряжение, словно бы пронизывающее промозглый воздух тысячами раскаленных нитей. Он должен был признаться себе, что не испытывал подобного ощущения даже тогда, когда убил пуму, хотя и в тот раз встреча со зверем не была случайной, он предвидел, он знал, что найдет пуму и будет стрелять в нее.
Наверное, теперешнее ощущение сидело в клетках его тела, унаследованное от далекого предка, охотника или воина, не один раз делавшего то, что должен делать мужчина, чтобы иметь право так называться.
Лай собак, истеричный, отчаянный, перемещался влево: они огибали бурелом и скоро должны были вновь взять след.
— Может быть, пора тебе его спускать? — спросил Уэйд у Джереми Сэндерса, имея в виду, конечно, Тигра.
— Нет, — покачал головой Сэндерс. — Боюсь, что этот сукин сын загрызет его в одиночку, и нам уже почти ничего не достанется.
И хмуро улыбнулся в свою бурую бороду.
Они быстро спустились по склону, уворачиваясь от вылетающих навстречу самшитовых стволов. И услышали, как стала меняться тональность лая гончаков: те взлаяли с отчаянной яростью, словно подавляя в себе остатки страха и делая последний бросок.
Сэндерс спрыгнул с мула, едва сдерживая вставшего на задние лапы Тигра, отстегнул поводок. Коричневая молния пролетела между деревьями, и к удавленно-визгливому лаю гончих прибавился хриплый бас.
— Ну, теперь-то уж точно достанем, — прорычал Сэндерс, вновь взгромождаясь на мула.
Уэйд уже не слышал его, он почти отпустил поводья Лавджоя, и жеребец несся, все больше опережая мула Сэндерса. «Ну и молодчина! — восхищенно подумал Уэйд. — Девять из десяти, а то и девяносто пять из сотни лошадей сейчас бы испуганно храпели, вставали на дыбы, учуяв смертельно опасный запах. Они бы шага вперед не сделали, а этот вон как летит.»
Лай уже не нарастал, он гремел на одной ноте, заполнив собой весь лес. И тут в просвете между стволов Уэйд заметил бурое длинное пятно, бросившееся сначала в одну сторону, потом переместившееся в противоположную. Он привстал на стременах, пустив Лавджоя в самый бешеный карьер, на который тот был способен в таких условиях.
И сразу же возникла небольшая полянка и полуразмытые, растянувшиеся в отчаянном беге тела гончих, и он — медведь, уже уразумевший, что не убежит от своих преследователей, обернувшийся. Уэйд очень четко рассмотрел даже оскаленную пасть и воротник из более светлой шерсти на шее. Вот медведь взмахнул лапой, и гончая, настигшая его первой, оторвалась от земли, потом кувыркнулась в воздухе, огласив лес отчаянным визгом, и шмякнулась на мокрую жухлую траву.
Уэйд тормозил бег Лавджоя, натягивая удила и пуская жеребца по пологой дуге. Боковым зрением он видел, как Тигр, словно бы по головам и спинам других собак рвется к встающему на задние лапы зверю. Остановив наконец жеребца, Уэйд вскинул ружье, но выстрелить ему не удалось: Тигр уже висел на медведе, впившись в его горло мертвой хваткой.
И тут Уэйд заметил, как Сэндерс, бросив мула, бросив дробовик, спешит к месту схватки, до которой ему было надо еще преодолеть около шестидесяти ярдов. «Он с ума сошел», — подумал было Уэйд, но тут в правой руке Сэндерса блеснуло лезвие ножа. «Все равно он безумец, — мысль Уэйда работала теперь четко, голова была на удивление ясной, свежей. — Хорошо, что я зарядил ружье пулями, а не картечью.» Он вновь стал медленно поднимать «Ремингтон» и, когда медведь, обхватив туловище пса обеими лапами, словно собирался сейчас закружиться с ним в бешеном танце, подмял его под себя, наклонив голову вбок и вперед, поймал на мушку оскаленную медвежью пасть и нажал на спуск. Медведь окаменел на мгновенье, потом удивленно задрал голову высоко вверх, словно бы позабыв о висевшем на нем враге, и Уэйд выстрелил во второй раз. Теперь медведь воздел обе лапы кверху, оставив пса, он вставал все выше и выше, словно стараясь оторваться от земли, воспарить вместе с ненавистным врагом, но вдруг завалился набок, и в этот момент его частично заслонила от Уэйда широкая кожаная спина Джереми Сэндерса.
Сэндерс сделал не менее пяти яростных, следующих друг за другом тычков — между ними почти не было промежутка во времени и в пространстве — потом отбросил свой нож, обернувшись назад и Уэйду бросились в глаза его окровавленные руки, забрызганное крупными красными каплями лицо. Дико оглянувшись еще раз по сторонам, он попытался снять с туши зверя своего Тигра. Но тот намертво сжал челюсти на горле поверженного врагами и не отпускал.
Уэйд спешился и, медленно пошел к медведю, еще не соображая толком, чего хотят Дик и Джереми. Только с его помощью удалось расцепить челюсти собаки. Из брюха Тигра вывалился клубок фиолетово-кровавых внутренностей, дымившихся на холодном воздухе, и Джереми Сэндерс дрожащими руками пытался засунуть их обратно. Позади людей сгрудились собаки, яростно лая, но все же не осмеливаясь вцепиться в тушу медведя как следует.
— Да, отделали вы его, что надо, — сказал Дик Клэнси, вставая с корточек и не отрывая взгляда от морды зверя, превратившейся теперь в сплошное ослизлое месиво из крови, торчавших обломков костей и клочков бурой шерсти.
Уэйд так и не понял, к кому относится это «вы»: как минимум, одна пуля из «Ремингтона» угодила в голову зверя и она наверняка была смертельной, ведь на таком расстоянии выходное отверстие получилось размером не меньше кулака. Но кроме того, и Сэндерс успел изрядно поработать своим огромным ножом, валявшимся теперь футах в двух от туши.
Подоспели и остальные охотники. Оттаскивая собак и переговариваясь вполголоса, они образовали полукруг над лежащим медведем.
— Уэйд, его лапа принадлежит тебе, — Джим Каразерс произнес это с одобрением и какой-то затаенной гордостью.
Уэйд хмуро покачал головой.
— Нет уж, скорее ему, — он указал в сторону Тигра, около которого хлопотал хозяин.
— Сплоховал, видать, немного Тигр, — возразил Каразерс. — Промахнулся. Если бы ему удалось вцепиться повыше, в самое горло, тогда бы он медведя, глядишь, и удавил бы.
«Это верно, — подумал Уэйд, — пес дал мне шанс. Но даже если бы ему и удалось как следует схватить медведя за горло, тот все равно не оставил бы его в живых,» — черные, словно лаком, покрытые свежей кровью когти медведя поражали своими размерами.
Сэндерс между тем стащил с себя полушубок и завернул в него Тигра.
— Дик, я отвезу его на твоем муле. Надо же на чем-то везти и его, — Джереми кивнул в сторону медведя. — А ты же знаешь: только мой мул совсем не боится звериного запаха.
— Что там, — махнул рукой Клэнси, — возьми, конечно. Только лучше бы тебе пристрелить его, беднягу. Ничем ему уже не помочь, только промучается больше.
Сэндерс молча покачал головой, бережно подсунул руки под полушубок, на котором лежал пес, и бесконечно медленно и осторожно стал подниматься с колен.
Все, давая ему дорогу, отступили в сторону на несколько шагов, словно Джереми или его пес были очень широкими, футов на пять-шесть в поперечнике.
Сэндерс, минуя кочки, пошел к краю поляны, где был привязан мул Дика Клэнси.
Все остальные, связав медведю передние и задние лапы вместе, перевалили его через седло мула Сэндерса и привязали, пропустив веревки под подпругу седла, предварительно связав лапы кольцом под брюхом мула.
— Да уж, — заметил кто-то, — у этого здоровяка все особенное. Ни его пес, ни его мул, ни сам он ни черта не боятся.
Уэйд держал под узду фыркавшего и прядавшего ушами Лавджоя: на таком расстоянии от хищника он нервничал. Зато мул Сэндерса спокойно воспринял процедуру погрузки, разве что только переступив ногами с места на место: все же медведь был тяжел.
7
Перед Рождеством они с Аннабел поехали в Атланту. В это трудно было поверить, но в свои семнадцать с половиной лет девушка выезжала за пределы округа считанные разы. Пару раз она была в Джонсборо, один раз в Атланте, да еще как-то совсем маленькой девочкой родители возили ее к родственникам в Нашвилл, в Теннеси. Безусловно, Нашвилл с тех пор мог считаться для нее краем света.
— Это и хорошо, — говорил, смеясь Уэйд. — Такой чудесный лесной цветок надо держать подальше от глаз людских. Вон как на тебя все оглядываются.
И в самом деле, многие прохожие обращали внимание на высокую темноволосую девушку редкой красоты: брови, напоминающие мех пушного зверька; странно-синий, даже переходящий в фиолетовый цвет глаз — большущих с широким разрезом; тонкий, с небольшой горбинкой, нос, ярко-румяные пухлые губы, выделявшиеся на фоне очень гладкой, матовой кожи.
Конечно, она не блистала образованностью, речь ее изобиловала всякими «оттудова», «отсюдова», но разве это могло хоть чуть принизить ее в глазах Уэйда? Он знал, что девушка отличается живым умом, что она на диво сообразительна. Другие, выросшие в сходных с ней условиях, казались на ее фоне заурядными глупышками. Но даже и не внешностью Аннабел в первую очередь пленился Уэйд — он был свято убежден в том, что вряд ли еще когда-нибудь в жизни встретит такую преданную, такую понимающую душу. Очень спокойная, даже застенчивая на вид Аннабел, тем не менее, обладала сильным характером — сильным не в том смысле, что могла подчинять своей воле других или идти к цели, сметая все на своем пути. Она отличалась почти бесконечным терпением, тактом, который иначе как врожденным и назвать было нельзя — откуда же еще ему было взяться у девочки, выросшей в рубленой избушке траппера? И еще одно качество отличало Аннабел — аккуратность. Конечно, аккуратность ее зиждилась на трудолюбии, а уж трудолюбия ей, единственной девочке в большой семье, было не занимать.
И все же какая-то щемящая нота звучала порой в симфонии любви под названием «Аннабел». Уэйд видел, с каким восхищением девушка рассматривает в общем-то простенькие платья, выставленные в витринах магазинов, как изумляется людской расточительности при виде самой настоящей иллюминации из сотен дуговых электрических ламп, горящих на улицах предприимчивой и энергичной Атланты. Но эта нота нисколько не вредила стройности симфонии, не звучала диссонансом, она только заставляла сердце сжиматься от сладкой боли, которой трудно было подыскать определение.
Поэтому Уэйд со смешанным чувством вводил девушку в ювелирный магазин. Она рассматривала кольца, броши, ожерелья, кулоны, выставленные на витрине под стеклом, и глаза ее восхищенно блестели. Но в том блеске не присутствовало даже и намека на алчность.
— Тебе нравится? — спросил. Уэйд.
— Да, — девушка улыбнулась милой, бесхитростной улыбкой. — Очень красиво.
— А вот из этих колечек тебе какое больше всех нравится? — он указал на ряд изящных, тонких золотых колечек.
— Из этих? — она слегка прищурила прекрасные синие глаза, отчего длинные черные ресницы стали похожи на тени. — Наверное, вот это.
— Которое?
— А третье слева.
Уэйд почти изумился: ведь она сейчас запросто могла указать на колечко пальцем, как делали все люди из ее окружения. Но Аннабел не стала поступать так. И вовсе не потому, что стеснялась своих рук — они выглядели почти что ухоженными, несмотря на то, что выполняли самую разнообразную работу, начиная с прополки огорода и заканчивая мытьем грязных, закопченных кастрюль. В любом случае руки Аннабел выглядели чистыми, с едва только заметными трещинами на кончиках пальцев.
Уэйд подозвал продавца, скучающего человека средних лет в светлом шерстяном пиджаке, в шелковом галстуке голубого цвета и с выглядывающим из нагрудного кармана платком — тоже шелковым, с каемочкой в цвет галстука.
— Покажите нам, пожалуйста, вот это колечко, — попросил Уэйд.
Продавец важно подал коробочку, устланную изнутри красным бархатом, Уэйд взял коробочку, но при этом перехватил взгляд, который продавец бросил на Аннабел Конечно, на ней была меховая шубка — дочь траппера могла себе такое позволить. Джим Каразерс был в состоянии сэкономить полтора-два десятка беличьих шкурок, продавая мех енотов. Но, сшитая мастерицей, не очень-то знакомой с веяниями моды, шубка выглядела довольно простенькой, равно как и суконная юбка, и грубоватые ботинки из свиной кожи.
— Ну-ка, надень его.
— Я? — глаза Аннабел вспыхнули светом синих звезд, а спросила она почти шепотом. — Я?
— Разумеется, — улыбнулся Уэйд. — Это же дамское колечко.
Он осторожно взял Аннабел за левую руку, вынул колечко из коробочки, и, наполняясь чувством щемящей нежности, надел колечко на длинный, ровный, изящный палец.
— Что же, и на пальце неплохо, а?
Она осторожно растопырила пальцы — тем особым жестом, какой может воспроизвести только дочь Евы в любом государстве, в любой момент истории.
— На пальце тоже очень красиво, — сказала Аннабел, и глаза ее засияли, как у ребенка, которому показали картинку в волшебном фонаре. Это не был блеск, которым блестят глаза того же ребенка, получившего в подарок новую игрушку — там все-таки присутствовала радость обладания вещью. Аннабел же только любовалась — Уэйд уже хорошо изучил поведение девушки.
— А может быть, тебе какое-то другое больше нравится? — спросил он.
Аннабел молча покачала головой.
— Хорошо, — улыбнулся Уэйд. — Значит, мы купим его.
— Купим?! — тихо, вполголоса ужаснулась она.
— Разумеется, — бодро ответил Уэйд, про себя пожелав продавцу, который прислушивался к их разговору, тут же провалиться в преисподнюю. — Мы покупаем это кольцо, — громко обратился он к любопытному служителю Меркурия, — сколько оно стоит?
— Девять долларов шестьдесят центов, — бесстрастно ответил продавец. — Будете расплачиваться чеком или наличными?
— Ну что вы, за такую мелочь можно и наличными.
Аннабел была потрясена — почти что десять долларов. Ей таких денег за год не собрать. Во всяком случае, она очень редко держала десять долларов в руках.
А Уэйд тем временем расплатился, продавец еще раз продемонстрировал ему кольцо, уложил его в коробочку и, улыбнувшись казенной улыбкой, подал Уэйду. Тот же сунул коробочку в карман пальто с таким видом, словно по меньшей мере раза два в неделю совершал подобные покупки.
Они вышли на улицу, и Уэйд сказал ей:
— Ну-ка, надень сейчас же.
Аннабел сняла рукавичку и позволила надеть колечко себе на палец.
— А теперь зайдем еще в один магазин.
В этом следующем магазине были куплены тонкие кожаные перчатки за один доллар.
— Господи, Уэйд, куда же я в них выйду? — Аннабел почти расстроилась.
— Ладно, может быть, представится тебе еще случай выйти куда-нибудь, — успокоил ее Уэйд. — Будем выбираться отсюда, что ли?
— Да, пора бы уж, темно совсем, — она поежилась. — Который теперь час?
— Восемь. В половине девятого с вокзала уходит поезд на Колумбус. В девять мы будем в Джонсборо, а оттуда уж рукой подать — час ходьбы.
— Тогда давай добираться на вокзал.
— А может быть мы поедем завтра утром? Сядем на поезд в девять утра и спокойно доберемся, при солнышке.
— Как это? — ужаснулась она. — А где же мы будем ночевать, на вокзале?
Конечно, ее не пугала перспектива спать даже на голой земле, но Аннабел очень настороженно относилась к большому городу и к большому скоплению разношерстной публики.
— Ох, Уэйд, говорила я тебе, что не дело это — ехать после обеда, надо было с утра, — она произнесла это без укора и даже без назидания, а просто как бы отмечая про себя: вот, говорила, не послушался, а получается теперь как.
— Что же делать? — пожал плечами Уэйд. — Не каждый день мы бываем в Атланте и не каждый месяц даже. А на вокзале ночевать вовсе незачем, ночуют обычно в отеле.
— А кто нас туда пустит? — осторожно спросила она.
— Да уж как-нибудь попадем, — беспечно ответил Уэйд. — В отели обычно пускают всех, у кого есть деньги.
— А у нас?
— Господи, Аннабел, — он даже развеселился. — Ну, конечно же, у нас есть деньги. Мы вот сейчас сядем на тот трамвай, он нас до ближайшего отеля и довезет.
В трамвае Аннабел совсем заробела, Уэйд это почувствовал. Она крепко держала его за локоть, и в ее больших глазах, которыми она пугливо поводила по сторонам, отражались огни уличных фонарей, свет ресторанов, магазинов.
По правде говоря, Уэйд не был полностью уверен в том, что их пустят вот так, вдвоем. Он уже как-то был в этом отеле, но один, в одноместном номере.
Однако портье только поинтересовался их именами и, вписав мистера и миссис Гамильтон в книгу гостей, выдал им ключи.
— Что же, выходит, мы будем спать с тобой в одной комнате? — тихо спросила Аннабел, когда они поднимались по лестнице.
— Выходит, — ответил Уэйд и сам слегка заробевший от ситуации, которую он создал. Но идти на вокзал было и в самом деле поздно, а возвращать ключи портье, просто совсем неудобно, если не сказать большего. Однако Аннабел больше ни о чем не спросила.
Уэйд отпер дверь номера и впустил ее первой. А в номере и его, и Аннабел ожидал сюрприз — никогда прежде не виденные лампы. Они были гораздо меньше дуговых, напоминали по форме большую грушу с ярко горящей внутри нитью.
— Вот это да, — восхищенно сказала Аннабел. — Похоже на елочную игрушку, правда?
Уэйду всегда нравилось, что в ее характере присутствует детская непосредственность, в которой в то же время не было присущей детям агрессивности и бестактности. Ведь ребенок сейчас бы стал добиваться объяснения устройства этой чудо-лампы, а Уэйд до сих пор встречал только дуговые. Он, конечно, не слыхал о Томасе Эдисоне, несколько лет назад запатентовавшем свое изобретение — лампу накаливания. Энергичный и предприимчивый изобретатель уже успел повсюду внедрить очередное чудо цивилизации — то есть, повсюду в больших городах. Для Аннабел же, которая в основном до сих пор знала керосиновую лампу, эта и в самом деле была чем-то сродни елочной игрушке, а устройство ее мало интересовало.
— Вот, — Уэйд взял на себя роль гида, — это гардероб, здесь можно раздеться, а там ванная комната.
И опять Аннабел напомнила ему Золушку. Когда он открыл кран горячей воды, и тугая струя ударила в стенку из эмалированной жести, Аннабел сказала:
— Сюда же, наверное, галлонов двадцать воды влить можно.
— Я так полагаю, что и все сорок.
— И всю эту штуку можно наполнить только горячей водой?
— Эта штука называется ванной. Разумеется, можно наполнить и даже не один раз.
— Но ведь это же сколько дров надо, чтобы столько воды нагреть! — Золушка выглядела озадаченной.
— Здесь вода нагревается наверняка углем. Его-то нужно гораздо меньше, чем дров.
— Все равно, — она явно прикидывала, сколько сюда войдет лоханок, в которой мылась ее семья. А никель кранов и трубочек, сверкающий в лучах электрической лампочки вводил ее в состояние, близкое к состоянию транса. — Уэйд, а сколько за все это надо платить?
— Не очень много, — успокоил он ее. — Меньше доллара за день.
Она опять задумалась, и Уэйд мог быть уверен в том, что в этой прекрасной головке сейчас пробегают колонки цифр.
— Ладно, Аннабел, коль скоро мы уже здесь, давай-ка раздевайся и влезай сюда.
Он вышел, оставив ее одну. Аннабел пробыла в ванной не менее получаса. Уэйд же тем временем, поудобнее усевшись в кресло, достал толстый блокнот с карандашом на шнурке и углубился в свои расчеты.
Расчеты не утешали. Он сегодня прошелся по разным закупочным конторам, поговорил с агентами. Он полдня потратил на то, чтобы узнать, нельзя ли где выручить больше доллара за три бушеля кукурузы. Оказалось, что нельзя. Значит, и здесь, в Атланте, платят столько же, сколько и в Джонсборо, Мейконе. Если даже перестать на некоторое время выращивать хлопок, а вместо него сеять кукурузу, в чем он вот уже года два убеждал Уилла, выигрыша никакого все равно не получится. А ведь дальше будет еще хуже Что они ни делай, чего они ни сей, результат будет один и тот же. Такая уж участь всех фермеров Джорджии, Вот Энтони Фонтейн опять заезжал к своим родственникам. Да, дядя Тони преуспел. Ему и сорока еще нет, а он уже стал одним из самых богатых скотопромышленников Среднего Запада. Гоняет гурты в тысячи голов скота в Небраску и Вайоминг, там продает. Невозможно даже представить себе, сколько надо иметь денег для того, чтобы купить хотя бы сотню бычков. А Тони покупает по тысяче и больше. Отчаянная голова. Он помнит, как Тони вернулся домой впервые, когда он, Уэйд, был еще мальчишкой — весь в серебре: шпоры, отделка револьверов, пояс, даже седло, которое зачем-то таскал с собой повсюду, и то серебром отделано. Со своими кольтами Тони до сих пор не расстался. Да при его-то рискованном занятии иначе и нельзя. Ладно, ему, Уэйду, путь Тони уже, наверное, не повторить. Его удел — Тара. На нем с Уиллом тетка Сьюлин, четыре девочки. Вообще-то, если бы всю землю отдать издольщикам, Уилл бы как-то справился, но издольщики загубят землю вконец, много среди них таких лодырей и неумех, как Сэм Грант. Да и неизвестно еще, как родители Аннабел посмотрят на их отъезд отсюда. Завтра и то, наверное, с пристрастием расспросят про то, где были сегодня, да как, да что… Нет, Джим Каразерс, разумеется, и слова не скажет, а вот Рут… Вообще-то они с Аннабел смотрели уже на женитьбу, как на дело решенное.
Он прислушался к плеску воды. Аннабел что-то тихо напевала. Нет, она — просто чудо. Ко всему сонму ее достоинств надо причислить еще рачительность, выходит. Да этого и следовало ожидать. Как же ей не быть рачительной — семья вон какая, огородишко с одеяло размером, Джим с ее братьями трапперствуют. Уэйд довольно улыбнулся, вспомнив, как он отдал половину медвежьей туши Джиму — вроде как подарок будущему тестю.
Дверь ванной комнаты отворилась, на пороге стояла Аннабел. Раскрасневшаяся, с мокрыми волосами, сияющая.
— Ох, как это здорово, — сказала она. — В последний раз, наверное, такое было, когда меня крестили.
— Ну уж, — усмехнулся Уэйд. — Вода ведь тогда была холодная, да и без мыла.
— Хорошо бы вот так хоть раз в месяц, — она произнесла эти слова без всякого намека на зависть к кому-то или на сожаление о том, что она не может себе такого позволить.
«Я должен себе поклясться, сейчас же поклясться, что мои дети никогда не будут произносить подобных слов. Мои и Аннабел дети. Они не будут испытывать лишений, им будет доступно все — даже то, что доступно сейчас богатым, таким, как моя мать и Ретт Батлер.» А еще он вдруг подумал, что малышка Кэт будет жить лучше, чем Элла. Нет, так не должно быть. В его, Уэйда, силах позаботится и об Элле, ее будущем. Он теперь взрослый, почти что уже женатый мужчина.
Именно — почти что. Интересно, как Аннабел будет сейчас выходить из положения? Она же видит, что здесь всего одна кровать, хотя и большая. Говорят, муж и жена — одно целое. Но ведь я сам сейчас испытываю такое же чувство, как на недавней медвежьей охоте. Да, меня самый настоящий озноб тряс тогда, когда мы с Сэндерсом взбирались на тот пригорок. Неизведанность — вот что было тогда, вот что есть сейчас. Я же ее совсем не знаю, хотя и люблю. Интересно, изменятся ли мои чувства, когда я познаю ее? Нет, любить ее я меньше не стану, но…
— Эй, Уэйд, мы что же, будем спать в одной постели?
Вот как, в Аннабел присутствует и извечное женское коварство? Она же видела с самого начала, что здесь всего одна кровать, а делает вид, что обнаружила это с минуту назад. Значит, даже такая простая душа…
— Аннабел, это не одна постель, это одна кровать. А места тут на четверых хватит, ты же видишь.
— Вижу. Только ведь эти постели, как ты говоришь, они же рядом.
— Ладно, тогда я буду спать в кресле.
— Нет.
— Ну, тогда, значит, на полу. Здесь толстые ковры, так что мне будет удобно.
— Нет.
— Понятно, милочка. Это ты будешь спать на полу, да? — смех у него получился не совсем естественный: а во взгляде, который он поднял на нее, пожалуй, не было прежней откровенности. Но, наткнувшись на ответный взгляд, он утонул, растворился в нем. Уэйд почувствовал, на сколько же она старше его — на одну жизнь это уж наверняка. Бесконечное понимание, бесконечная доброта и терпение. «Словно я — ее ребенок», — эта мысль впервые посетила его. «Да, раньше мне этого и в голову не приходило. А все просто — ведь раньше она на меня так не смотрела. Ни одна женщина еще не смотрела на меня так. Вот это, наверное, и есть любовь.»
— Ты, стало быть, хочешь уложить меня на полу? — она покачала головой, хотя на губах ее играла улыбка. — Хорошенькое дело ты задумал, Уэйд Гамильтон. Может быть, я зря собираюсь за тебя замуж, а? Эдак ты каждую ночь будешь класть меня на пол. Или уж лучше под кровать.
Ночью он проснулся и не сообразил сразу, где находится. Но почувствовав, что кто-то положил голову на его плечо, Уэйд мгновенно все вспомнил. Бесконечная благодарность наполнила все его существо, благодарность к женщине, лежащей рядом с ним. Он должен был благодарить ее и за то, что она, несмотря на полное отсутствие опыта, опекала его, как могла, его столь же несведущего, но все равно больше нуждающегося в опеке. Итак, он перешел в новое состояние. Конечно, в первые минуты после этого, он почувствовал даже некоторую заброшенность, словно перенесся в иной, незнакомый и даже несколько враждебный мир. А сейчас ничего, все просто. Он представил себе пальмы, растущие перед отелем, потом лес, дорогу до Тары, потом подумал сразу вдруг много о чем, и почти в последнюю очередь — о Скарлетт, которой безразличен он, которому безразлична сейчас она, потому что у него все есть сейчас.
«Можно ли чувствовать себя счастливым полностью, когда берешь на себя ответственность за судьбу другого человека? Наверное, нет. Есть тревога. Ну и что? Жизнь вообще состоит из одних тревог»
Последняя мысль укрепила в нем уверенность в счастливом исходе всех его начинаний, он опять вспомнил пальмы перед отелем, опять представил себе лес, начинающийся сразу после выезда из Атланты, опять дорогу к Таре и кедровую аллею…
Они поженились на день Святого Валентина. Уэйду к этому времени уже исполнилось девятнадцать лет, а Аннабел летом должно было исполниться восемнадцать. Уэйд мог бы дать телеграмму своей матери, если бы знал, где та находится.
Разумеется, жить они стали в Таре, в той же комнате, которую Уэйд занимал и раньше. Уэйд беспокоился, как бы Сьюлин не повела себя в отношениях с Аннабел высокопарно, как бы она не стала указывать девушке всем своим поведением на место, которое та должна занимать. Что ни говори, а Сьюлин, хотя она и вышла замуж за человека, находившегося явно ниже ее по происхождению, хотя и жила она уже больше пятнадцати лет жизнью, абсолютно непохожей на ее прежнюю жизнь, все же эта Сьюлин могла вспомнить, кем была ее мать, Эллин, и кем был отец того же Уэйда.
Возможно, Аннабел для Уэйда в глазах Сьюлин могла показаться еще менее выгодной партией, чем когда-то Уилл Бентин для нее самой: она тогда была одинокой, сиротой, а мужчин в округе, очень многих, поубивали на войне, особо привередничать не приходилось. Иное дело — Уэйд. Он унаследовал большую часть солидного имения, он был самостоятельный, хотя и относительно еще юный, он обладал красивой внешностью. Он мог бы выбрать себе кого-нибудь и получше Аннабел, у которой единственное неоспоримое достоинство — ее красота.
Так, или примерно так, по мнению Уэйда должна была рассуждать тетка Сьюлин. Возможно, у нее и возникали время от времени подобные мысли, только выхода наружу они не находили. Обращение ее с Аннабел было ровным и приветливым.
Но что больше всего радовало Уэйда — Элла очень подружилась с его юной женой. Может быть, ее, дурнушку, привлекала внешность Аннабел? Но тайком наблюдая за ними, Уэйд понял — в Аннабел Элле нравилось все, как и ему. Даже малышки Марта и Джейн относились к Аннабел с явной симпатией, чего, как и предвидел Уэйд, нельзя было сказать о Сюсси. Иногда, думая, что за ней никто не наблюдает, Сюсси бросала на свою удачливую соперницу взгляд, исполненный испепеляющей ненависти. Казалось удивительным, что в таком достаточно заурядном, вяловатом и даже ленивом создании возникает вдруг заряд злости поистине разрушительной силы — если эта злость найдет выход наружу.
Уэйд очень беспокоился за Аннабел, в голову ему приходили всякие мысли относительно того, что будет, если злость Сюсси все-таки прорвется когда-нибудь наружу. А еще он задумывался над тем, каким странным образом детям передаются свойства родителей. Вот Сюсси очень похожа на отца, как и две ее младшие сестры. Но характер Сюсси явно не напоминал характер Уилла Бентина — доброго, терпимого и терпеливого, очень наблюдательного, умеющего вовремя и ненавязчиво подсказать, дать совет. А кого Сюсси напоминала Уэйду? Он и сам не мог ответить достаточно исчерпывающе. Наверное, Сюсси была похожа на его мать и на Сьюлин, она была О’Хара.
Что касается Аннабел, то та сразу заметила странноватое поведение двоюродной сестры Уэйда. Мало того, она и причину даже определила. Как-то, находясь наедине с Уэйдом, Аннабел сказала просто, ничем не возмущаясь, ни на что не жалуясь:
— Не любит меня Сюсси, очень не любит.
— С чего ты взяла? — Уэйд постарался изобразить наивное удивление.
— Ладно, миленький, ты ведь сам прекрасно знаешь, с чего, — она улыбнулась такой улыбкой, с какой мать говорила ребенку: «Не волнуйся, я с тобой». — Она же ревнует.
— Но почему должна быть только эта причина? — слабо запротестовал Уэйд.
— Причин-то, может быть, и много, да только она меня не любит по одной.
«А ведь дело серьезнее, чем я предполагал, — открытие Аннабел очень огорчило Уэйда. — И не одна она это заметила — Уилл-то в наблюдательности ей не уступит. Ну да ладно. У него-то ума побольше, чем у Сюсси.»
8
Этой весной Сэм Грант не стал обрабатывать свой участок. Уэйд ожидал, что скорее рано, чем поздно, Грант покинет их округ. Может быть, даже тайно, не расплатившись с ним до конца. Конечно, лучше бы Сэму бросить занятие, разорительное для него самого и для других. Но Уэйда удивила причина, которую назвал Сэм, объясняя свой уход из Тары:
— Сейчас на Юге черному ничуть не лучше, чем полвека назад. Что президент Хейз, что президент Гарфилд — все едино, все для черного плохо. Гарфилд, поди, еще и похуже будет. Вот вы, мистер Уэйд, все разглагольствовали о том, что через свой труд человек обретает все права. Какие же это права приобрели черные, которые трудились, допустим в штате Теннеси, где они с этого года должны ездить в отдельных вагонах по железной дороге? Мыслимое ли это дело — могут оставаться свободные места на поезд, а черномазому не продадут билета по той лишь причине, что вагоны для черномазых уже переполнены? Как же это так, мистер Уэйд, вы ничего не слышали, такой образованный белый джентльмен? Или штат Теннеси так далеко от Джорджии находится? Ну так и в Джорджии черномазого ни за что не пустят в один ресторан с белыми, я уж не говорю — в один театр.
Естественно, так дело и обстояло, но Уэйд как-то не задумывался о подобных вещах, считая их обычными.
— Зачем же тогда было затевать такую войну? — продолжал Сэм. — А Реконструкцию? Сколько лет назад все это было? Когда это кончилось? Нет, мистер Уэйд, я уж лучше подамся на Север, хотя и там черному наверняка не слаще, чем здесь.
Уэйд ничего не мог возразить ему. Да, во всех южных штатах уже существовали запреты на межрасовые браки. Но вряд ли кто из жителей их округа — хоть черный, хоть белый, хоть коренной, хоть пришлый — мог представить себе ситуацию, когда, например, белая женщина отважится выйти замуж за негра. И это казалось естественным — что черные существуют отдельно, белые отдельно. Наоборот, их смешение скорее бы выглядело попыткой ущемить права как одной, так и другой стороны. А что касается театров или ресторанов, так Уэйд их не посещал и не чувствовал себя ущербным от этого. Видно у Сэма Гранта большие претензии в этом отношении.
Но в мае того, 1881, года произошло событие, заставившее Уэйда взглянуть другими глазами на взаимоотношения черных и белых. Как-то утром был обнаружен мертвым издольщик Гордон Казинс. Он ничком лежал около своей лачуги, рубаха на его спине была окровавлена. Из Джонсборо прибыл шериф с помощником, они установили, что Казинс скончался от удара ножом в спину, под левую лопатку. Само орудие убийства шериф с помощником не нашли. Мотивы убийства вроде бы отсутствовали. Если предположить ограбление, то брать у Казинса было абсолютно нечего. Участок свой — он был издольщиком у Тарлтонов — Казинс возделывал кое-как, банку задолжал на несколько лет вперед, да и в лавке Куэйла уже перестал получать виски в кредит. Словом он безоговорочно относился к той же категории людей, что и семейка О’Фланаганов. Конечно, лет двадцать назад он был бы бельмом на глазу добропорядочных плантаторов, его бы называли голодранцем, «придурком», «белой швалью», но сейчас таких в округе развелось достаточно много. Однако Гордон Казинс по уровню достатка, точнее, по уровню нищеты стоял даже ниже О’Фланаганов.
Убийств в округе не случалось почти что с самой войны. Конечно, бывали пьяные драки — только семья О’Фланаганов устраивала их чуть ли не с регулярностью до одного раза в неделю. Разумеется, по случаю драк шериф и помощник сюда не приезжали, даже если кулачные бои носили масштабный характер. И даже когда горел хлопок Бетчеллов, представители закона не сочли нужным прибыть на место происшествия, справедливо полагая, что все утрясется само собой.
Теперь же шериф устроил допрос близким приятелям убитого, а также лицам, видевшим Гордона Казинса в тот злополучный день, оказавшийся для него последним. И тут среди расспросов, домыслов и пересудов всплыло одно сообщение — якобы Казинс повздорил с Джоном Уоршем, негром-издольщиком, работающим на земле Уэйда Гамильтона. Когда до Уэйда дошли эти слухи, он только поразился их нелепости — Уорш казался ему воплощением долготерпения и кротости. Единственное, что могло нечаянно связать Казинса и Уорша — это случайная встреча на улице, где задиристый, наглый и беспардонный Казинс наверняка обругал бы Уорша. Этот никчемный забулдыга почему-то имел о своей персоне весьма высокое мнение. Поскольку белые знали ему цену и либо не снисходили до общения с ним, либо открыто смеялись над Казинсом, ему оставалось тешить свою гордыню публичными выпадами против негров. Зачастую это были самые откровенные провокации. Конечно, белые в таких случаях пускали в ход кулаки, негры же не осмеливались противостоять Казинсу ни в одиночку, ни группой.
Кончина забияки выглядела вполне логическим завершением его скандального существования. Каждый негр округи наверняка хоть раз подвергался издевательствам Казинса, так что врагов у него было более чем достаточно. Любой из них мог свести счеты с Казинсом — если бы хватило смелости, а точнее, отчаяния. Любой мог убить Казинса, но не Уорш. В этом Уэйд был убежден, об этом он сказал и Уиллу.
— Скорее всего, так оно и есть, — согласился Уилл, — хотя этот Казинс и святого мог вынудить к тому, чтобы тот его прикончил.
Но в тот же вечер обитатели Тары увидели факельное шествие по кедровой аллее.
— Какого черта! — вырвалось у Уэйда, когда он выглянул в окно, но, присмотревшись, он все понял. Быстро снял со стены свой «ремингтон», сунул в карман коробку с патронами, а по пути вниз прихватил еще дробовик Уилла, предварительно проверив, заряжен ли он. Выйдя на крыльцо и держа в левой руке дробовик, а правую вскинув кверху, так что «Ремингтон» лежал на его плече, Уэйд остановился, поджидая, пока небольшая толпа — не больше пятнадцати человек, как прикинул он — приблизится на расстояние, с которого можно вести разговор. Все пришельцы были одеты в длинные белые балахоны с прорезями для глаз. Уэйд подумал о том, узнает ли он кого — либо из них.
— Добрый вечер, джентльмены! — звонко выкрикнул он, когда передний ряд толпы — четыре человека, идущие в линию — оказались ярдах в пятнадцати от него. — Чем обязан столь странному посещению?
Идущие сделали еще три шага и остановились. У находившихся в переднем ряду не было факелов, оружия тоже, за исключением револьвера у одного, который он держал дулом книзу.
— Хэлло, мистер Гамильтон, — сказал человек с револьвером. Голос его был низким, густым. — А посещение наше нисколько не странное. Если уж белый джентльмен прибегает к таким мерам, значит, его заставили обстоятельства.
— Какие обстоятельства? — Уэйд все силился отгадать по голосу, кто же с ним говорит, и не мог — очевидно, он этого человека раньше не встречал вообще, либо встречал очень редко.
— А уж такие обстоятельства, что мы на своей земле вынуждены не только терпеть наглость черномазых, но еще и соблюдать осторожность, когда надо их проучить.
«Соблюдать осторожность, очевидно, значит устраивать маскарад», — Уэйд прикинул, как они отреагировали бы, если бы он сказал о маскараде вслух. Рядом скрипнула половица, послышался негромкий стук. Скосив глаза вбок, Уэйд увидел Уилла, вставшего рядом с ним.
— Короче, мистер Гамильтон и мистер Бентин, — густой, хрипловатый бас, кто бы это мог быть? — Мы ищем вашего черномазого, этого Уорша.
— А с чего вы взяли, что он должен быть здесь? — сказал Уэйд, думая о том, что маскарад этот все — таки удачен — белые балахоны срывают очертания туловища и головы, так что узнать в этом одеянии даже хорошо знакомого человека практически невозможно.
— Да уж есть у нас на то основания, чтобы так думать, — продолжил свою миссию мужчина с револьвером.
— Нет, джентльмены, вы ошиблись, — спокойно заявил Уэйд. — Даже не знаю, с чего это вам такая странная мысль пришла в голову.
В это время один из стоявших во втором ряду, находившийся по правое плечо от парламентера — или главаря? — подбросил короткий дробовик и снова поймал его, перехватывая поудобнее. Этот жест Уэйд видел несколько раз, такая манера была присуща только Дику Клэнси. Уэйду даже показалось, что он угадывает под балдахином очертания невысокой костлявой фигуры.
— И все же, мистер Уэйд и мистер Бентин, мы не ошибаемся, утверждая, что Уорш находится у вас, — настаивал неизвестный.
— Я могу только дать вам слово джентльмена. Белого джентльмена, если угодно, — Уэйд почувствовал, как в нем вскипает раздражение. — Мистер Бентин, бывший солдат Конфедерации, может подтвердить это, подтвердить мои слова. Или для многих из вас Конфедерация — пустой звук? Догадываюсь, что это не так.
— Да что там разговаривать! — крикнул кто-то из глубины толпы. — Надо обыскать дом.
Уж этот голос Уэйд узнал мгновенно.
— Ну, джентльмены, вы меня разочаровали, — сказал он, снимая «ремингтон» с плеча, переводя его в вертикальное положение и одновременно взводя курки. — Если уж у вас такие, как Тим О’Фланаган имеют право голоса, немного стоит ваша организация.
Кто-то вполголоса выругался, очевидно, все тот же О’Фланаган.
— Слушайте меня, джентльмены, — Уэйд повысил голос. — Если вы не верите мне и мистеру Бентину на слово, значит, вы не высоко цените нас. Что же, это ваше дело. Но предупреждаю: если хотя бы один из вас сделает один-единственный шаг по направлению ко мне и мистеру Бентину, он получит заряд картечи. В лоб. Здесь среди вас есть охотник, он знает, как это у меня может получиться.
— Он сделает это, — заговорил Уилл, и голос его казался на удивление спокойным, словно он давал кому-то совет по хозяйству. — Потому что так поступили бы на его месте многие из вас, если они хоть в какой-то мере ощущают себя мужчинами. Я уж не говорю — белыми мужчинами. Если вы нам не верите, сходите за шерифом, пусть он осмотрит дом. Вы немного подождете и убедитесь в том, что…
— Мистер Бентин, вы не хуже нашего знаете, что шериф сейчас уже находится в Джонсборо, — перебил его человек с револьвером.
— Ну и что? В таком случае пусть кто-то запряжет повозку или оседлает мула. Экая даль — Джонсборо! Даже до утра ждать не придется. А вы пока побудьте тут. Раз уж вам не спится по ночам, покараульте усадьбу. Если Уорш здесь, то он никуда и не денется. Подземных ходов у нас в усадьбе нет, а по воздуху летать Уорш наверняка не умеет.
В толпе белых балахонов послышался короткий смешок. Очевидно, кто-то представил себе Уорша летящим по воздуху.
— Вот видите, вам и самим смешно, — продолжал Уилл. — А если бы вы подумали заранее, чей дом вы идете обыскивать, то вам не только смешно бы стало, но и стыдно. Этот дом ведь обыскивали уже — янки обыскивали. Один из них, правда, попытался сделать это в одиночку. Его кости сейчас гниют в болоте, что позади усадьбы. И это сделала женщина. Неужели вы думаете, что ее сын, мужчина, окажется хуже?
На несколько секунд воцарилась тишина. Слова Уилла Бентина явно заставили задуматься одних и остудили пыл других — тех, кто не особенно привык думать и был ведом только своими эмоциями.
— А что, мистер Бентин, если мы сейчас поймаем вас на слове да пошлем за шерифом, а он обнаружит в вашем доме убийцу? — сказал мужчина с револьвером.
— Какого такого убийцу? Если бы Казинса убил и в самом деле негр, он что — ножом бы воспользовался? Не негритянское это оружие — нож. Вот бритвой по горлу полоснуть, это они умеют.
Уэйд поразился дипломатическим способностям Уилла. Ведь случись ему самому защищать Джона Уорша, он бы напомнил всем о том, какой это смирный негр, и тем самым навлек бы на себя новые подозрения. А Уилл сумел не только сильно остудить пыл преследователей Уорша и поколебать их уверенность в правильности их версии, но еще и дал понять, что уж он-то негров считает кровожадными — те только и знают, что бритвами махать.
— О’кей, джентльмены, — произнес предводитель белых балахонов после некоторого раздумья. — Мы, стало быть, поступаем так: наши люди покараулят усадьбу. А там уж видно будет: то ли шериф сюда пожалует, то ли Уоршу, если он тут сейчас, надоест сидеть взаперти. Не будете же вы его у себя целую вечность прятать.
Теперь ни Уилл, ни Уэйд не ответили ему.
Белые балахоны, повинуясь негромкой команде, повернулись и стали не спеша удаляться. Уэйд думал, что они осуществят угрозу и окружат дом и хозяйственные постройки, но вскоре ему стало ясно, что этого не случится.
— Жаль, конечно, Уорша, хороший был фермер, — вполголоса произнес Уилл, когда фигуры непрошенных гостей растворились в темноте.
Уэйд не стал уточнять, каким это образом Уорш из издольщиков перешел в фермеры.
— Судьба, значит, у него такая, что нигде ему не дают на своей земле спокойно посидеть.
— Что значит «нигде»?
— Так ведь у него была своя ферма, в Миссисипи. Не понравилось там кому-то, что он много хлопка выращивает, вот ему и пришлось сюда перебираться.
— Ты-то откуда знаешь, дядя Уилл? — ведь ему, Уэйду, Уорш и словом не дал понять, что у него где-то была своя ферма.
— Знаю, — просто ответил Уилл. — Вот ведь как несправедливо получается. Одним земля все равно как обуза, но они на ней сидят. Работать не работают, только землю эту портят. А Джон Уорш хотел и мог, да не дали ему хлопок и кукурузу выращивать. Он вообще-то что угодно мог выращивать, сдается мне. Ладно, дай ему бог благополучно добраться до Мейкона.
— До Мейкона? — удивился Уэйд.
— Я посоветовал ему ехать в ту сторону. Направься он в сторону Атланты, они бы его в два счета схватили.
— Значит?.. — Уэйд повернул голову, силясь в темноте рассмотреть выражение лица Уилла.
— Да то и значит. На болоте он пересидел, что за нашей усадьбой. Такое уж там место — лет шестнадцать назад, рассказывали, скот там от янки прятали. А все же заметил его кто-то, видать, когда он туда направлялся.
— Да ведь они могли его там найти!
— Нет, — Уилл сказал это убежденно. — Не могли. Им бы это и в голову не пришло. Они думают, что там просто невозможно спрятаться. Вот и решили, что он к нам в дом направился или в сарай. Даже самый догадливый из них не стал его искать на болоте. А теперь его уже и там нет. Уже часа два, как нет.
— Ну, дядюшка Уилл… — протянул Уэйд.
Они постояли еще немного, потом Уэйд повернулся, оставив Уилла одного, и поднялся в свою комнату. Аннабел встретила его у двери.
— Я все слышала, — она обняла его руками за шею и прижалась щекой к груди. — Я все слышала. Я очень боялась за тебя.
— По-твоему, я должен был впустить их в дом? — глухо спросил он. — В наш с тобой дом? Как бы я после этого мог спать с тобой в одной постели? Какое я имел бы на это право?
— Но ведь тебя могли убить. Я видела, у них были ружья.
— Не такие уж это отчаянные люди, Аннабел. Черного им, конечно, раз плюнуть линчевать, потому что отвечать за него вряд ли придется. А вот из-за белого у этих парней наверняка были бы проблемы. Даже наполовину конченые люди, вроде О’Фланаганов не рискнут связываться с законом.
— Это ты говоришь только для того, чтобы утешить меня, Уэйд Гамильтон. Вот что я тебе скажу: твоему ребенку нужен отец. Ты же сам рассказывал мне, как несладко приходится человеку, когда у него нет отца с самого рождения.
— Погоди-ка. Ведь у нас… О каком ребенке ты говоришь, Аннабел?
— О нашем с тобой, который появится в начале следующего года. Ты хочешь, чтобы у него была точь-в-точь такая же судьба, как у тебя: и родился-то он в январе, и отца у него к этому времени уже не было.
— Господи Иисусе, Аннабел! Да ведь ты мне ничего не говорила.
— Не время еще, значит, было говорить, — в синих глазах Аннабел читались только озабоченность и недавно пережитое потрясение. — Уэйд, ты же знаешь, что ты для меня — весь мир.
Он приблизился к Аннабел и прижался лбом к ее лбу. И, словно заглушаемые до этого момента, ворвались в комнату звуки южной ночи: голоса лягушек и цикад, слившиеся в сплошной вибрирующий гул, крики ночных птиц, затейливо в этот гул вплетающиеся, завершали построение симфонии. Слабый теплый ветерок, колышущий занавески, приносил запахи белой акации, жасмина и магнолии. Луна, покрывшая землю, траву, деревья, строения тонким налетом серебра, своим приходом остановила время, заставила все и вся грезить наяву.
9
Лето принесло новые заботы и новые разочарования. Уже ясно было, что новый урожай, не уступающий прошлогоднему, принесет заметно меньше дохода. Фермеры полностью зависели от частных банков, устанавливавших проценты на кредит, они вынуждены были либо отдавать почти что за бесценок свои хлопок и кукурузу шустрым агентам разных контор, либо платить за транспортировку столь значительные суммы, что результат все равно оказывался таким же плачевным. Все меры, сообща принимаемые фермерами, практически не приносили пользы. Очень многие разочаровались в Ассоциации защиты фермеров.
Уэйд побывал на заседании окружного отделения Ассоциации в Джонсборо, где была предпринята попытка продать будущий урожай хлопка хотя бы по прошлогодней цене. Но выяснилось, что дороже, чем по восемь центов за фунт, хлопок продать вряд ли придется.
Уэйд возвращался домой вместе с Кэннингхэмом и Осборном, чьи фермы находились милях в пяти-шести от Тары. Все трое ехали верхом.
— Ясное дело, крышка Ассоциации, — проговорил Эдлай Кэннингхэм, широкоплечий, краснолицый и рыжий здоровяк, одетый, несмотря на жару, в чесучевый пиджак.
— Конечно, — поддакнул Эндрю Осборн, мрачноватого вида мужчина в полосатой рубашке с галстуком и техасской шляпе. — Куда ж ей тягаться с компаниями да трестами, одними благими намерениями дело не поправишь. И этот новый Союз закончит так же. Разве может он заставить правительство обуздать частные железнодорожные компании или вынудить сделать частные банки государственными, чтобы те, в свою очередь, предоставляли фермеру кредит под более выгодные условия? Никогда? Эти ребята за свои деньги кого хочешь купят — и в правительстве, и в Конгрессе, и в Сенате.
— Что же, — Уэйд, как самый молодой, был настроен оптимистичней всех, — выходит, надо самим пробиваться в Конгресс и там требовать установления новых порядков.
— Разумеется, мистер Гамильтон, — с кислой миной произнес Осборн. — Вы самый молодой из нас, вам, значит, и карты в руки. Глядишь, лет через тридцать — сорок вы туда и пробьетесь, а нас к этому времени и в живых не будет.
— Какого черта, Эндрю, — рассмеялся Уэйд. — Ведь вы ненамного старше меня, тридцати-то вам еще нет. Так что даже через сорок лет вам, соответственно, не будет еще семидесяти. Сам-то я в политики идти не намерен, но знаю, что положение улучшится гораздо раньше.
— На чем же такая уверенность основана, Уэйд? — поинтересовался Кэннингхэм.
— На том, что хуже уже некуда. Если компании хотят покупать пшеницу, хлопок и мясо за границей, то они, конечно, и дальше будут продолжать грабить нас.
— Это смотря какую границу иметь в виду, — коротко хохотнул Кэннингхэм. — За нашей Границей, на Западе, сейчас можно выращивать все и при этом не платить никаких налогов. Так что кукуруза Небраски или Вайоминга даст сейчас сто очков вперед нашей. По урожайности — в первую очередь.
— Но хлопок там не растет, — заметил Уэйд.
— Хлопок не растет, — согласился Кэннингхэм. — Только и нам от него слишком мало проку. Семь — восемь центов за фунт — такой хлопок сжигать проще. И тепло получишь, и с перевозкой никакой возни.
— А ведь хлопковая пряжа стоит раз в пять дороже, — сказал Уэйд.
— Это верно, только ее еще надо получить. Но даже если и получишь пряжу, то опять наткнешься на трест при сбыте. Они, тресты, могут позволить себе на один — два цента сбить цену при сбыте, и ты погорел. Только на этот раз уже не с хлопком, а с пряжей — одно только отличие.
— Значит, круг замкнулся? — улыбнувшись, спросил Уэйд.
— Выходит, так, — кивнул Кэннингхэм.
— Но вы так не думаете, Эдлай?
— Стоит мне об этом подумать — и мне сразу крышка.
— Итак, нам стоит рискнуть.
— Чем рискнуть? — в один голос спросили спутники Уэйда.
— Я имею в виду установку хлопкоочистительной машины и небольших механических веретен, на которых мы будем получать пряжу.
— Лично я не против установки и того и другого, только ведь все это надо сначала купить. У вас, мистер Гамильтон, много денег? — в голосе Осборна чувствовалось некоторое раздражение.
— Примерно столько же, сколько и у вас, Эндрю.
— Прекрасно. Если еще учесть, что и у мистера Кэннингхэма имеется приблизительно такая же сумма, то мы получим то, от чего и отправились — я имею в виду, что ноль, умноженный на три, все равно даст ноль.
— Не прибедняйтесь, Эндрю. Можно подумать, что у вас все заложено-перезаложено, а питаетесь вы исключительно кукурузными лепешками. У меня есть вполне обдуманное предложение. Мы объединяем наши капиталы, ну, скажем, по тысяче долларов с каждого, покупаем хлопкоочистительную машину и десятка три станков.
— Но позвольте, Уэйд, — возразил Кэннингхэм. — Даже не вдаваясь в углубленные подсчеты, можно сказать, что этой суммы и на половину того, что вы перечислили, не хватит. Где мы возьмем недостающие деньги?
— У таких же, как мы, — ответил Уэйд. Теперь был вполне серьезен.
— Господи, да вы в своем уме? Кто же это отдаст вам свои деньги под какое-то сомнительное предприятие? А если и найдутся дураки, которые дадут, то под какой процент?
— Под более низкий, чем дают сейчас банки. Не выше десяти процентов годовых, во всяком случае.
— Ага, значит, фирма «Гамильтон, Кэннингхэм и Осборн» должна в глазах этих простофиль стать чем-то вроде Анакондовских медных рудников, чтобы они кинулись вкладывать в нее свои кровные? Может быть, нам еще и акции начать печатать? — Осборн был в своем амплуа вечного скептика и брюзги, но Уэйд знал, что сейчас он уже просчитывает в уме все варианты его проекта.
— Чем же мы их заманим? — продолжал язвить Осборн. — Что мы им пообещаем?
— Мы дадим им гарантии, что в следующем году возьмем у них хлопок по девять центов за фунт, — спокойно ответил Уэйд.
— Вот как! — встрепенулся доселе молчавший Кэннингхэм и наблюдавший за их спором, едва сдерживая зевоту. — А существует ли гарантия, что он везде не будет по девять?
— Я могу гарантировать лично вам, даже могу заключить с вами пари на то, что в следующем году хлопок не будет стоить больше семи центов за фунт — нигде. И очень даже может быть, что цена его опустится до шести центов за фунт.
— Да перестаньте вы, накаркаете еще, — отмахнулся Кэннингхэм.
— Но если будет по шесть или семь, а мы станем покупать по девять, то где гарантия, что мы не прогорим? Ведь надо же еще возвращать долги — с процентами — нашим кредиторам, — скептик и пессимист Осборн уже по уши влез в проект Уэйда.
— Риск, несомненно, существует, — прямо ответил Уэйд, — но я просчитывал все не один раз и думаю, что у нас гораздо больше шансов остаться с прибылью, чем прогореть. В крайнем случае просто окупим затраты на оборудование. А хлопкоочистительную машину я рассчитываю купить подешевле.
— Где же? — теперь уже Осборн задавал вопросы в чисто деловом тоне.
— В Джонсборо. Из двух пришедших в негодность мы сделаем одну. Мы только заплатим механику, за то, чтобы он собрал все воедино. Возможны, конечно, доделки, но все равно машина будет стоить значительно дешевле новой.
— Интересно, а почему же это прежние владельцы не додумались до этого? — с сомнением покачал головой Кэннингхэм.
— Не знаю, — просто пожал плечами Уэйд. — Очевидно, ни у кого не было сразу двух пришедших в негодность машин. А может быть, просто не захотели возиться.
— Кстати, относительно возни — где вы рассчитываете найти такого чудо-механика, — о котором вы говорили? — спросил Осборн.
— Я его уже нашел в Атланте, поэтому и говорю с такой уверенностью о затратах на ремонт.
— Послушайте, мистер Гамильтон, вы, кажется, втягиваете нас в очень сомнительное предприятие, — мрачно произнес Осборн. — Чистой воды авантюра, если уж называть вещи своими именами. Только поэтому я и согласен на ваше предложение. А Кэннингхэма я берусь уломать.
Уэйд не охотился ни в ноябре, ни в декабре этого года. Отчасти это объяснялось его занятостью в новом деле, которое, как оказалось, забирало гораздо больше сил и времени, чем он считал раньше. К тому же Уэйду не хотелось встречаться с тем же Диком Клэнси — он был почти уверен в том, что узнал Клэнси под балахоном тогда, в мае.
Жизнь в Таре шла свои чередом, напоминая течение болотистой речки Флинт, и ничто не вносило в нее особенных волнений, не говоря уже о бурях, если не считать внезапного приезда Ретта Батлера. Он пробыл в Таре совсем недолго, поздравил задним числом Уэйда и Аннабел, извинился за то, что они со Скарлетт были очень заняты — то в Колорадо, где дела у него, то в Европе, где дела у Скарлетт — не нашли времени и возможности написать им. Но теперь все вроде бы утряслось, поэтому они хотят взять к себе Эллу — если та особенно не возражает, поспешил уточнить он. Элла, коротко посовещавшись с Уэйдом, возражать не стала, и Уэйд отвез ее с Батлером на станцию в Джонсборо.
— Ты стал уже взрослым мужчиной, сказал Ретт на прощанье. Скоро даже станешь отцом. Я передам Скарлетт, что она скоро станет бабушкой. Не знаю, обрадует ли ее это сообщение, или огорчит скорее. А что касается меня, то я очень рад за тебя.
В январе 1882 года Аннабел родила здоровенькую девочку, которую назвали Констанцией Джемаймой. Уже через несколько недель стало ясно, что Конни очень похожа на мать. Уэйд даже огорчился в шутку.
— У меня создается впечатление, милочка, что ты вполне бы обошлась без меня.
К марту хлопкоочистительная машина была полностью собрана, и ее опробовали, воспользовавшись специально оставленным для этой цели тюком хлопка. Чуть позже из Атланты была привезена первая партия механических веретен. Располагая даже только этим оборудованием, компаньоны вполне бы могли расплатиться со своими кредиторами. Под здание прядильной фабрики они приспособили бывший железнодорожный склад, крыша которого была разрушена еще в войну, но стены прекрасно сохранились. Станцию с тех пор немного передвинули, выстроив комплекс зданий в другом месте, так что бывший склад оказался слегка на отшибе и по странному стечению обстоятельств никого не заинтересовал. Осборн воспользовался наличием у него знакомых в законодательном собрании штата, и постройка отошла к компаньонам за символическую цену Учитывая климат Джорджии, можно было не беспокоиться о том, что рабочие, которые будут обслуживать прядильные машины, станут испытывать какие-то неудобства даже в зимнее время. Уэйд в одиночку свалил несколько сосен, потом они с Уиллом распилили их и перевезли в Джонсборо. Таким образом, материалы для кровли были готовы. Компаньоны спешили: надо было покрыть здание до начала пахоты и перетащить в него оборудование из-под временного навеса.
Теперь Уэйд возвращался домой поздно вечером. Перепоручив Лавджоя хлопотам дядюшки Боба, он сразу же спешил к своим женщинам, как он называл Аннабел и Конни.
— Смотри, как мы уже ловко умеем переворачиваться на животик, — Аннабел с гордостью демонстрировала мужу очередное достижение их малышки.
Конни сосредоточенно выполняла недавно освоенное ею упражнение по переворачиванию, таращила на отца с матерью синие глазенки, потом ее беззубый ротик раскрывался в широкой улыбке.
— Она улыбается точь-в-точь как ты, — отмечал Уэйд.
— Так я буду улыбаться лет через сорок, когда у меня, может быть, совсем не останется зубов, — смеялась Аннабел.
Даже Сюсси стала теперь относиться к Аннабел без прежнего отчуждения. То ли она осознала, что с рождением дочери Уэйд окончательно утерян и не существует больше никакой возможности оторвать его от Аннабел, то ли сказывалось ее взросление. В этом году ей исполнялось шестнадцать.
10
За спиной у них остались Великие равнины, справа река Норт-Платт, где-то дальше слева проходила ветка Тихоокеанской железной дороги, а на горизонте, словно призраки, маячили в сизой дымке далекие горы. Но и горы, и железная дорога, и Норт-Платт — все это, казалось, осталось в другом времени, в другом мире. Здесь их окружали многие мили открытого пространства — земля и небо, то, что было и миллионы лет назад. Никогда еще Сюсси не приходилось наблюдать картины столь величественной: бесконечно огромный купол неба, под которым все казалось ничтожно малым, волнистое пространство прерии с ее густейшей высокой травой, играющей всеми оттенками зеленого и синего цветов при дуновении даже слабого ветерка, ярко — синие ленты далеких речушек и столь же яркие пятнышки таких же далеких озер.
У Сюсси в первое время просто дух захватывало от всей грандиозности увиденного. Где-то далеко, в совершенно ином времени и пространстве остались и Джорджия с ее густыми сосновыми лесами, и даже железнодорожная станция в пыльном Шайенне, которая теперь казалась оплотом цивилизации.
Да, все здесь было грандиозным, красивым, но одновременно и настолько незнакомым, непривычным, даже чуждым, что вселяло чувство подспудной тревоги.
Сюсси украдкой посматривала на своего юного мужа Дэна. Тот снял шляпу, и ветер прерий развевал его светлые волосы. Глаза Дэна были полуприкрыты, по выражению его лица нельзя было понять, то ли он сосредоточен, занимаясь изучением местности, то ли тоже пытается совладать с охватившим его волнением. Сюсси, все больше терявшая присутствие духа, скорее склонна была подозревать второе.
«Боже мой, — думала она, — если бы можно было Сейчас вернуться в Тару Как там тихо, как уютно, как пахнут магнолии и сосны. А здесь даже запахи резкие и грубые»
Увы, ей уже восемнадцать, она теперь замужняя женщина и свою будущую жизнь уже не в праве определять одна. Огромный зеленый океан несет ее сейчас на своих волнах. Океан незнакомых ей прерий. Совершенно безлюдные места. Здесь даже янки нет. Ничейные места, называемые Границей.
А понятие Граница включало в себя сотни миль территорий. Такое понятие существовало двадцать лет назад и десять лет назад, существовало оно и теперь, в 1884 году, хотя, вроде бы, все уже было сделано, чтобы размыть это понятие, стереть его — уже вот-вот будет разрушен последний оплот индейцев, так называемая концентрированная резервация на стыке Канзаса и Небраски. Словно огромная рука, ладонь которой простиралась от Флориды до Мичигана, мощное запястье составлял Техас, а пальцы протянулись вдоль Тихоокеанского побережья, сжалась в кулак и раздавила орех под названием Граница.
В этих местах, куда они приехали, еще жили племена шайенн, кайова, шошонов, юта, считавших земли, занятые поселенцами, своими. Они нападали на отдельные фермы, на караваны переселенцев, убивали людей, сжигала постройки, угоняли скот. Отдельные укрепленные форты с их немногочисленными гарнизонами и конные патрули, высылаемые из фортов, не могли обеспечить полный контроль над ситуацией.
Но орех уже был раздавлен. Последние участки земли — даровой земли попадали в руки тех счастливчиков или тех последних авантюристов, кто успел доскакать сюда.
Семья Маклишей добралась сюда, в место, отстоящее от Шайенна всего на каких-то двадцать миль. Выбор участка определялся близостью реки и небольшого леса. Конечно, по понятиям Джорджии это скопление деревьев не достойно было носить название леса, но в случае Маклишей именно этот лесок должен был дать начало их дому, их хозяйственным постройкам.
А дом поставили довольно быстро. Мужчины — Питер Маклиш, отец Дэна, его дядя Роджер и сам Дэн споро валили деревья, рубили сучья, везли стволы, навалив их на длинную телегу. Женщины по мере сил помогали им. Причем, помощь со стороны Присциллы Маклиш, матери Дэна, не шла ни в какое сравнение с помощью Сюсси. Миссис Маклиш орудовала топором, словно заправский лесоруб. Из тех же стволов и привезенного из Шайенна нехитрого строительного приспособления было сооружено подъемное устройство. В фундамент дома пошли огромные валуны, в изобилии устилавшие берега речки. Из этих же камней, размером поменьше, сложили очаг, возвели трубу. Строение получилось вместительным — примерно восемь ярдов на восемь. Стены выросли за каких-то сорок-сорок пять дней. Учитывая почти каменную прочность здешних деревьев, работу топоров и пил следовало назвать сверхбыстрой. Да и вообще подобные строения редко устраивались переселенцами, чаще они рыли примитивные землянки с крышей из веток и кусков дерна, с очагом, топившимся по-черному. Дожди превращали полы таких сооружений в лужи, наполненные жидкой грязью.
В то время, когда стены дома уже были готовы, появились люди из фирмы, поставляющей колючую проволоку. Этой проволокой на западных территориях ограждались поначалу огромные участки, иногда по нескольку десятков акров сразу. Маклиши поставили загон для скота размером полмили на полмили. Размах, поразивший Сюсси — вот так в течение нескольких дней они застолбили территорию, приблизительно равную площади всех обрабатываемых земель в Таре. Существенное отличие состояло в том, что эту землю не надо было обрабатывать. А под огород они заняли около двух акров вдоль пологого берега речки, сразу за выросшим домом.
С установкой крыши темп строительных работ несколько замедлился. Пока мужчины ставили стропила, Присцилла Маклиш вместе с Сюсси пароконным плугом поднимали целину. Полностью стальной, большой, но легкий для своих размеров плуг — чудо, выпущенное фирмой «Харвестер» — давал поистине великолепный результат. Деревянный плуг, у которого только лемехи покрывались железом — орудие, еще столь привычное для Джорджии — не прорезал бы здесь и одной борозды. Мощные корни травы, напоминающие жилы чудовища, живущего в земле, резались с громким хрустом и в изобилии покрывали поверхность вывороченного пласта. Зато уж почва здесь была не чета джорджианской, кроваво-красной — темно-коричневая, почти черная, она жирно блестела на срезе.
Присцилла Маклиш и за плугом шла, словно мужчина. В высоких мужских ботинках со шнуровкой, в высоко подоткнутой черной юбке, из-под которой выглядывали грубые нитяные чулки, в застиранной добела когда-то темно-синей кофте, с выбившимися из-под шляпы рыжими волосами, она ступала ровно и уверенно, и ручки плута только чуть вздрагивали в ее загорелых руках Два мерина буланой масти, которых вела под уздцы Сюсси, казалось, не тащили плуг, а просто шли, спеша уйти от фурии с растрепанными рыжими волосами, дабы не быть протараненными плугом, который она яростно толкала перед собой.
Тогда же Сюсси впервые в жизни увидела индейцев. Она стояла у только что засеянного участка и вдруг заметила нескольких всадников, спускавшихся по пологому склону холма с противоположной стороны реки. Сначала Сюсси подумала, что это кто-то из соседей-фермеров к этому времени Маклиши уже успели познакомиться с некоторыми из них. Но что-то в облике всадников показалось ей необычным. Они подъехали поближе, держа курс параллельно реке, между ними и Сюсси расстояние не превышало ста пятидесяти ярдов. Кожаные куртки, кожаные брюки, на рукавах курток и швах брюк различалась бахрома. Длинные черные волосы, перехваченные яркими полосками ткани, бронзовые неподвижные лица. Всадники ехали безмолвно и бесшумно, словно призраки. Даже лошади их не фыркали и, казалось, не стучали копытами. Только позже Сюсси узнала, что индейцы до сих пор не подковывают своих лошадей. Тогда же она просто оцепенела от удивления и еще какого-то чувства, напоминающего ужас. Она вросла ногами в землю и только зачарованно и медленно поворачивала голову, следуя взглядом за цепочкой всадников — их было шестеро — тянущейся вдоль берега.
А когда индейцы находились как раз напротив нее, то расстояние уже не превышало ста ярдов. Сюсси подумала, что им ничего не стоит повернуть лошадей, переправиться вброд через неглубокую речку…
— Это шайенны, — услышала она за спиной спокойный голос.
Быстро оглянувшись, Сюсси увидела за спиной Роджера Маклиша, стоявшего футах в пяти позади нее. Роджер мог считаться янки — он до войны жил в Мемфисе, потом, уже во время войны, попал в плен к северянам, был отвезен на пароходе вверх по Миссисипи в Сент-Пол, где янки формировали отряды для усмирения взбунтовавшихся сиуксов. Поскольку раньше Роджер служил в кавалерии, янки выбрали его не случайно. Он пробыл в Пограничье до конца войны, получил стрелу в плечо и удар копьем с кремневым наконечником в левую скулу, отчего глубокий ровный шрам и украшал частично спрятанную густой бородой левую сторону лица. Еще Роджер Маклиш, иммигрант из Шотландии всего во втором поколении, получил нашивки сержанта в армии северян. А в то же время его младший брат Питер дослужился в армии конфедератов до чина лейтенанта, что, впрочем, совсем не помогло ему в послевоенной жизни. Питер вернулся в Джорджию, тоже побывав в плену, поэтому возвращение его немного затянулось.
Хотя Питер Маклиш и не обнаружил свой дом разрушенным, а хозяйство полностью разграбленным, но к десятку акров земли ничего не прибавилось, скота даже убыло, налоги возросли. Восемнадцать лет он пытался, надрывая жилы, хотя бы как-то удержать свой участок, не дать ему уплыть на распродажу, а потом, поддавшись настойчивым уговорам брата, подался в Приграничье.
— Это Тайенны, — повторил Роджер Маклиш, бывший солдат армии Союза Штатов, охотник, а теперь фермер. — Их лица не раскрашены, значит, они не находятся на тропе войны. Да и вряд ли они захотят сейчас сделать это.
Словно в подтверждение его слов индеец, ехавший первым, повернул лицо в их сторону, поднял обе руки над головой и соединил их. Роджер повторил этот жест.
— Ну что же, правительство купило у них эти земли, чтобы отдать нам, — задумчиво проговорил Роджер, провожая взглядом едущих гуськом индейцев.
— А где же они сами будут жить? — спросила Сюсси.
— Или там, где захотят — но каждый по отдельности, или там, где им укажет правительство — в случае, если они захотят жить целым племенем или частью племени. Это называется резервацией. И то, и другое для них не подходит, насколько я их знаю.
— А как же эти?.. — Сюсси кивнула вслед индейцам, уже скрывшимся за зарослями ивняка.
— Эти, похоже, выбрали третье — живут между небом и землей. Возможно, они продержатся так какое-то время.
Сюсси уловила в тоне его голоса явно звучавшую нотку сочувствия.
Проходило лето с его испепеляющей все и вся жарой, когда температура поднималась до ста десяти градусов по Фаренгейту, когда только под вечер дуновение ветерка с далеких гор давало возможность вздохнуть свободно. Над всей равниной в жаркие дни воздух словно бы плавился подобно стеклу, и в этих струящихся извивах возникали миражи: то ли далекие озера, то ли горные вершины в снегу. Грозы, случавшиеся довольно редко, являли собой устрашающее величие этого края — молнии вспыхивали одна за другой, прорезая половину небосвода, раскаты грома оглушали и сбивали дыхание, ливни были подобны водопадам, порывы ветра грозили вырвать с корнем все живое и унести на много миль. После дождей небольшая речушка превращалась в мутный ревущий поток, уровень воды в ней повышался на ярд-полтора, прибрежный ивняк оказывался затопленным.
Кукуруза здесь росла на удивление высокой — до семи-восьми футов, с толстенными стеблями, ее заросли напоминали лес. Тыква, картофель, томаты — все это тоже поражало своими размерами. До сих пор разговоры об истощении почв в ее родной Джорджии казались Сюсси пустыми, но теперь она воочию убедилась в мифическом почти плодородии нетронутой до сих пор земли.
Далеко в прерии пробегали стада антилоп, по ночам койоты оглашали округу сумасшедшим воем и тявканьем. Все здесь было внове, все волновало и будоражило. Звезды ночью казались холодными и еще более далекими, чем звезды в Джорджии.
К середине августа мужчины полностью закончили строительство дома, и семья перебралась в него, окончательно покинув фургоны, крытые брезентом, которые служили ей временным пристанищем.
К тому времени уже пригнали скот: полтора десятка телят, двух коров. Теперь даже образовался избыток молока — настолько продуктивными оказались коровы.
Маклиши уже успели перезнакомиться почти со всеми соседями. Это были, в основном, такие же переселенцы, жили они вдоль той же речушки, впадавшей милях в десяти к северу в Норт-Платт, причем некоторые соседи жили уже на территории Небраски, штата, а Маклиши поселились на так называемой Территории Вайоминг. А соседями здесь называли тех, чья ферма находилась на расстоянии от двух до пяти миль.
Ближайшими соседями Маклишей оказались Мейсоны, их ферму можно было даже разглядеть, стоило только выехать чуть подальше от берега речки в прерию. Это по здешним понятиям называлось «рукой подать», то есть, до Мейсонов и двух миль не было. Семья Мейсонов состояла из восьми человек, у двоих женатых сыновей уже были дети. Мейсоны, по сравнению с Маклишами, могли считаться уже старожилами: они зимовали здесь дважды.
Кевин Мейсон, глава семейства, был крепким сухощавым мужчиной, совершенно седым. Ему шел уже шестьдесят восьмой год, но он уверенно держался в седле, легко справлялся с двухгодовалыми бычками, набросив на них лассо. Одевался Мейсон на индейский манер: кожаная куртка и брюки с бахромой, даже рубашка, и та кожаная, из светло-желтой, тщательно выделанной кожи. Только вместо мокасин он носил башмаки с высокими голенищами.
Мейсон рассказывал им о своеобразии здешнего климата: в начале октября здесь запросто мог выпасть снег, чтобы через день полностью растаять. А сопутствующий снегу морозец столь же быстро сменялся жарой, напоминающей летнюю.
— Впрочем, погода — не самая большая забота у нас, — подытожил как-то Мейсон.
— А что же, в таком случае, доставляет больше всего хлопот? — спросил Питер Маклиш.
— Не что, а кто, мистер Маклиш, — серо-стальные глаза Мейсона в упор взглянули на собеседника из-под густейших седых бровей. — Это некий Логан со своей шайкой.
— Вот как — в голосе Питера прозвучала тревога. — Кто же он такой, чем занимается?
— По призванию он бандит, а официально представляет здесь одну восточную компанию из этих, из «огораживателей». Сначала они арендовали пастбища индейцев за смехотворную плату, теперь, получается, земли краснокожих отошли к ним навечно. Прихватили еще и общественных земель, сколько успели. А то, что не успели заграбастать, хотят взять сейчас.
— Но ведь федеральное правительство объявило борьбу с «огораживателями», я знаю, — возразил Питер.
— Так-то оно так, — Мейсон улыбнулся одними уголками губ, — да только правительство в Вашингтоне, а Логан — здесь.
— И что он может сделать.
— Ну, вообще-то он вполне официально предлагает отказаться от своего участка в пользу компании. За вполне сносную плату, разумеется. Земля-то даровая, а он предлагает до десяти долларов за акр.
— И многие согласились?
Теперь уж Мейсон откровенно рассмеялся:
— Конечно, стоило сюда тащиться за сотни миль, чтобы все отдать каким-то проходимцам. Ведь при использовании эта земля за год даст прибыли больше двадцати долларов с акра, вы уж мне поверьте.
— Но на что, в таком случае, рассчитывает этот Логан? — нетерпеливо спросил слушавший до сих пор молчаливо Роджер.
— На то, что кто-нибудь дрогнет. Когда вдруг пропадает скот или сгорает сено — а случается все это вскоре после посещения Логана, который предлагает владельцу участка купить у него этот участок, то человек легко догадается, почему пропал скот или сгорело сено. Да и пулю в затылок можно получить, как случилось год назад со Стивером-старшим.
— Вот как? — Питер Маклиш нахмурился. Выглядел он озабоченным. Неизвестно, что волновало его больше — услышанное или то, что жена и невестка тоже слышали. — Но не обязательно же Стивер погиб от пули этого самого Логана или его людей.
— Не обязательно, — согласился Мейсон. — Но, скорее всего, именно так и было. Глупо подозревать соседей. Конечно, здесь случаются иногда кое-какие недоразумения, когда, например, несколько голов скота прибиваются к чужому стаду. Но это все не может служить поводом для столь серьезной расправы. Мест для водопоя здесь предостаточно, земли — тем более. Фермерам просто нечего делить здесь, поскольку они сами хозяйничают на своей земле. Ну, один-два наемных работника из пришлых — не в счет. А вот компания, которая огораживает изгородью участок в миллион акров — да-да, я слышал, такое было несколько лет назад в Колорадо — такая компания может себе позволить нанять сколько угодно народа, чтобы терроризировать одиночек.
— Что же, в таком случае остается делать нам? — напрямик спросил Роджер Маклиш.
— Держать ухо востро, если вы уж спрашиваете у меня совета, не поддаваться на уговоры, посулы, не бояться угроз. Наоборот, надо дать понять Логану, что совершенно не боишься его. И самое главное — держаться всем сообща. Мы ведь друг от друга совсем недалеко живем, не дальше полета пули, во всяком случае, — Кевин Мейсон опять улыбнулся уголками рта, но все его морщинистое, гладко выбритое лицо и особенно темно-серые глаза оставались предельно серьезными.
Сюсси тогда очень испугал этот разговор. Она долго не могла уснуть ночью, боясь перевести взгляд с бревенчатого потолка на окно, за которым стояла непроницаемая темнота безлунной ночи, Сюсси словно впервые почувствовала, сколь велики безлюдные пространства, окружающие несколько строений, прилепившихся к берегу реки.
Может быть, впервые она пожалела о том, что оставила Тару. Там было так спокойно, так привычно. Небо, и то другое. Какие там горячие звезды, они так сияют на южном небосводе, что кажутся мохнатыми, пушистыми. Как ласково, тихо шумит там ветер в ветках сосен, он словно шепчет что-то.
Сюсси почувствовала, как две крупные горячие капли выкатились из уголков глаз, поползли вниз по вискам, соскользнули в уши. Боясь всхлипнуть, она осторожно перевела дыхание, прислушалась. Только ровное дыхание Дэна слышалось в комнате. Как орут цикады в Джорджии по ночам! А здесь и сверчков-то приличных нету, так, пиликают потихоньку нечто унылое.
Индейцы, рыскающие по прерии — мало ли что Роджер рассказывал о миролюбии шайеннов. Они ведь должны как-то существовать. А раз у них все отобрали, значит, и они должны отбирать. Отбирать индейцы могут только у них, Маклишей, еще у Мейсонов, Кэссиди, Брендонов. Теперь этот Логан. Несомненно, это самая серьезная опасность, угрожающая их существованию здесь. Она же видела, как помрачнел Роджер Маклиш, когда Кевин Мейсон рассказывал о банде Логана. А ведь Роджера трудно чем-то устрашить, он давно живет в здешних диких условиях.
Они могут появиться ночью. Убить Дэна, он же совсем мальчишка еще в свои двадцать два года. Убить Питера и Роджера. Два дробовика мало что значат в схватке с настоящими бандитами, это даже она, Сюсси, понимает. Ведь здесь даже на поезда нападают, она слышала много рассказов об этом, а на поездах всегда ездит охрана.
Но ровное течение их жизни ничем не нарушалось в тот год. Пришла осень, пришли ранние заморозки, как и предупреждал Мейсон. Вся семья работала, поднимаясь в четыре часа утра и ложась в десятом часу вечера. Выходных не существовало, ведь за скотиной надо ухаживать каждый день.
Стаи гусей, крупных диких гусей, каких Сюсси в жизни не приходилось видеть, летели с севера, с бескрайних холодных просторов Канады, направляясь на юг и отдыхая на берегах небольших озер и речек. Они не подпускали к себе койотов, лис и охотников, поднимаясь в воздух с оглушительным гоготом и хлопаньем больших мощных крыльев. Но все же как-то Роджеру удалось подстрелить двух птиц. Они весили не меньше десяти фунтов каждая.
Рядом с домом вырос хлев для коров, навес для сена и небольшой загон для бычков. Большего мужчины просто не успели сделать, несмотря на то, что Питер Маклиш привозил на подмогу трех работников из Шайенна.
А зима пришла внезапно. Как-то, проснувшись утром, Сюсси обнаружила, что все вокруг покрылось белой пеленой. Такого она еще никогда не видела. У них на Юге зима была скорее холодной осенью, со слякотью, с бабьим летом в середине декабря, зима почти совсем бесснежная, короткая.
Этой зимой Сюсси впервые узнала, что такое настоящий холод, она впервые поняла, что такое настоящий снег, когда сугробы вырастали под самую крышу. И этой же зимой она почувствовала в себе новую жизнь.
11
По этой дороге Уилл Бентин ездил уже много раз. Ездил в двуколке, ездил в разбитой телеге, скрипевшей вне зависимости от того, смазывали ее или нет, ездил в повозке чуть получше, но всем всем предыдущим экипажам было далеко до его теперешней коляски. С изящными стальными спицами, с обтянутыми каучуком ободьями, с кожаными сиденьями, с откидным прорезиновым верхом, с рессорами, начисто избавляющими седоков от тряски при езде даже по неровной мостовой, не говоря уже про проселок, сверкающая лаком она вселяла в сердце Уилла чувство самой настоящей гордости за обладание ею. Да и лошади, здоровые, сытые, ухоженные, в новой сбруе, тоже были под стать коляске. Коляску можно было считать подарком Уэйда, потому что хотя он и покупал ее для совместного с Уиллом пользования, но почти никогда на ней не ездил, предпочитая услуги верного Лавджоя. Дела Уэйда и его компаньонов на фабрике в Джонсборо пошли настолько хорошо, что теперь он мог позволить себе не только покупку коляски.
Уилл ехал встречать Сюсси. Дочь прислала телеграмму, где были дата, номер поезда и слово «встречай». Сюсси не было в Таре вот уже больше года, с тех пор, как она уехала с семьей Маклишей куда-то на Запад. Именно: «куда-то», потому что точного местонахождения дочери Уилл так и не знал до сих пор. На конвертах с письмами, приходившими очень редко, стоял штемпель Шайенна, но Сюсси в первом же письме сообщила, что в Шайенне они не живут. В мае она написала, что, возможно, приедет в Тару осенью. С тех пор прошло три месяца, в течение которых от нее не поступало никакой корреспонденции. Так что телеграмма для Уилла и Сьюлин была подобна обильному ливню после долгой изнуряющей засухи.
На вокзале Уилл появился за полчаса до прихода поезда, уже заранее переживая, что поезд может немного опоздать или вообще не прийти сегодня. Он поставил коляску в тени здания вокзала и сидел на козлах, вперив неподвижный взгляд на сверкающие стальные нити, уходящие к темнеющей на горизонте гряде леса. Оттуда, с северной стороны, должен был появиться поезд, везущий его дочь. Лишь изредка Уилл переводил взгляд на фабрику Уэйда и его компаньонов, расположенную ярдах в двухстах от вокзала. Что и говорить, близость фабрики от железной дороги значила очень много.
Публика, заполнившая перрон, рассматривала неподвижную фигуру одноногого ветерана, неподвижно застывшую на козлах шикарной коляски. Многие, очевидно, полагали, глядя на его застиранный комбинезон и старое кепи, что это работник, посланный хозяйкой встретить хозяина, или нечто в таком роде.
Но вот между зданиями станционных складов неожиданно возник локомотив, и Уилл удивился — как же так он проморгал его подход. Толпа на перроне заметно оживилась, покатившись к платформе, куда, выбрасывая, словно громадные усы, клубы густого пара, подкатывала стальная черная громада, тянувшая за собой синие кубики вагонов.
Уилл принялся напряженно вглядываться в мельтешение голов, спин, рук, пытаясь найти Сюсси. Он надеялся на то, что его коляска и сам он хорошо видны с платформы, дочь сразу должна заметить. Но проходили минуты, а Сюсси не появлялась. Сердце Уилла забилось учащенно, он уже стал предполагать разные причины, по которым дочь не смогла добраться до Джонсборо. Толпа на перроне сильно поредела, теперь он должен уже должен был без труда отыскать Сюсси, если она и в самом деле приехала.
— Папа!
Уилл вздрогнул от неожиданности. Сюсси подошла совсем не с той стороны, в которую он смотрел. К тому же она очень изменилась, и Уилл в первое мгновенье даже не узнал ее: коричневые пятна на лице, распухший нос и большой, выпирающий живот. В правой руке Сюсси держала саквояж, на вид тяжелый.
— Господи Иисусе! Да что же ты… — он спрыгнул с козлов и, грохоча деревяшкой по камню перрона, подбежал к дочери, выхватил саквояж. — Нельзя же тебе, он такой тяжелый. Сюсси, доченька, да что же ты не написала раньше, не предупредила. Почему ты приехала одна? Где Дэниэл?
— Ну что ты, папа, — она улыбнулась измученной улыбкой, — у них столько дел сейчас. А я — ты сам видишь, теперь уже очень скоро. Мы с Дэнни решили, что лучше мне на это время поехать в Тару, — она прижалась щекой к плечу Уилла.
— Конечно, доченька! Тут же твой дом, тебе здесь будет лучше. Ну-ка, — он взял ее под руку и усадил в коляску, — вот здесь тебе будет удобно. Ход у этой штуки очень плавный, никакой тебе тряски, никаких толчков.
По пути Сюсси рассказывала о Вайоминге.
— Нет, папа, это надо видеть. Там все такое огромное, все такое… яростное. Боже, какой там снег лежит зимой! Лошадям по брюхо. А морозы какие, папа! А прерия — конца края не видно. Наша Джорджия кажется мне теперь такой маленькой, словно я из взрослой жизни в детскую комнату попала.
— Да уж, дочка, взрослой жизни ты хлебнула, — покачал головой Уилл. — Ничего, поживешь теперь с годик в Таре.
— А как вы тут?
— Грех жаловаться. Многие живут похуже. А мы по сравнению с прошлыми годами заметно прибавили. Все Уэйд с его фабрикой. Сама скоро все увидишь. Нет, у нас все хорошо. Марта уже совсем девица на выданье. Она, пожалуй, повыше тебя росточком будет.
— Но ведь и двух лет не прошло, как я уехала.
— Так жизнь ведь идет и в тех местах, где нас нет, дочка, — засмеялся Уилл. — Хоть у нас не Вайоминг, но жизнь заставляет побегать да посуетиться. Теперь у нас весело будет, с одним пополнением и с другим.
— Ты про какое другое пополнение говоришь, папа?
— А вот увидишь, — Уилл повернулся к дочке и подмигнул.
Все домашние высыпали на крыльцо встречать их. Очевидно, кто-то заметил коляску еще в самом начале кедровой аллеи и известил остальных.
Джейн, поразительно вытянувшаяся, голенастая, худенькая, как тростинка, сбежала с крыльца и бросилась к сестре, намереваясь с разбега обхватить ее руками, но рассмотрев за несколько шагов до Сюсси ее большой живот, замедлила бег и очень осторожно обняла ее поверх живота. Марту и в самом деле почти невозможно было узнать. Мало того, что она очень подросла, она еще и очень изменилась, превратившись в совершенно иное, взрослое существо.
А взглянув на Аннабел, Сюсси поняла, о каком еще пополнении говорил отец — у нее был точно такой же большой живот.
Несмотря на усталость, на волнение и трогательность встречи — у Сюсси только что в носу щипало и комок в горле стоял — ее очень позабавил, заставив на мгновенье позабыть обо всем комизм ситуации: «То-то будет весело, если мы вдруг вздумаем рожать в один день».
Уэйд показался ей еще красивее, чем раньше. Его каштановые волосы переливались в ласковых лучах сентябрьского солнца, большие коричневые глаза лучились. В правой руке Уэйд держал крохотную ручонку своей дочери Конни, очень серьезной трехлетней женщины. В круглой шляпке, коротеньком платьице с отложным воротничком, в белых чулочках и туфельках с помпонами, Конни, казалось, понимала всю серьезность момента и, не мигая, смотрела на гостью своими большими синими глазами.
Сьюлин, осунувшаяся, с частыми белыми нитями в волосах, молча приблизилась к дочери, поцеловала ее, заботливо отмечая и коричневые пятна, и распухший нос, и усталые глаза.
— Добро пожаловать на родину, доченька, — сказала она.
Шутливое предположение Сюсси почти что сбылось. В середине октября она родила девочку, которую по предложению Сьюлин назвали Джудит. «Раз уж вы с Дэнни хотели мальчика, да не вышло, пусть уж имя у нее будет, как у воительницы,» — сказала она, имея в виду библейскую Юдифь. Не успели еще улечься хлопоты и суматоха, связанные с рождением Джуди, как в первых числах ноября разрешилась от бремени и Аннабел. Теперь у Конни появился родной брат — Бартоломью Гордон Гамильтон.
— Малыш похож на тебя, Уэйд, — сказала Аннабел, показывая ему нечто сморщенное, красное, с редкими светлыми волосиками на удивительно маленько головенке. Уэйд никак не мог привыкнуть к виду младенца, хотя это был уже второй его ребенок. — У него будут такие же каштановые волосы, как у тебя. И глаза твои будут.
— Но ведь сейчас у него вроде бы голубые глаза, — возразил Уэйд. — Или мне показалось? Этот парень так редко открывает их, предпочитая дрыхнуть день и ночь.
— Глаза потемнеют со временем. А поспать он действительно любит, наверное, набирается сил на всю жизнь. То-то будет егоза и непоседа. Он еще в животе брыкался так, что дыхание перехватывало.
Да, в Барте чувствовалась мужская основательность и сдержанность, как полушутя — полусерьезно отмечали Аннабел с Уэйдом. Он был очень спокоен, в отличие от своей сестренки Конни, которая в его возрасте была изрядной плаксой. На любое неудобство, будь-то мокрые пеленки или голод, Барт реагировал только сдержанным покряхтыванием.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
1
Барт Гамильтон был чемпионом Чикагского университета по боксу. Занятия этим достаточно грубым и жестоким видом спорта — даже по мнению отнюдь не изнеженных американцев — не оставляли никаких следов на чистом лице молодого человека.
Конечно, он мог бы предпочесть такое освященное традициями занятие, как академическая гребля — трофеи в виде кубков и медалей вкупе с фотографиями гребных команд, победительниц регат, находились на видном месте в кабинете у ректора университета и у декана факультета права, на котором учился и Барт. Но в выбор спортивного увлечения вмешался случай.
В студенческом общежитии в ту пору считался признанным заводилой некто Аллен Маллиган, выходец из Род-Айленда. Этот длинновязый белобрысый отпрыск рода, жившего в Новой Англии с начала XVIII столетия, кичился тем, что знает своих предков до десятого колена. В жилах Маллигана, по его словам, текла кровь династии Тюдоров. Оставалось только удивляться тому, что столь высокородный юноша не избрал местом обучения Гарвард Нью-Йоркский университет или, на худой конец, учебные заведения Бостона и Филадельфии. Тем не менее, сын городского судьи из Провиденса учился здесь, в городе-выскочке, на состоянии самых известных людей которого лежала печать если не преступления, то махинаций на грани закона и беззакония. Маллиган, отличаясь безукоризненным произношением члена семьи, в которую вот уже два столетия не мог проникнуть никто, кроме как имеющий документально зафиксированные английские корни — опять же по словам самого Маллигана — в открытую высмеивал грубоватый язык юношей из Иллинойса или Айовы, а уж южный выговор Барта Гамильтона вызывал у него приступы какого-то прямо-таки восторженного злорадства.
Барт очень спокойно сносил выпады Маллигана, по крайней мере внешне. Но однажды Маллиган просто перешел те границы, которые он, Барт Гамильтон, считал границами дозволенного. А именно: он был обвинен в трусости, и его мужские качества были поставлены под сомнение.
Аллен Маллиган неплохо боксировал. Свое увлечение боксом он связывал в первую очередь с тем, что изобретение это типично британское, и хотя вначале являлось занятием простолюдинов, но впоследствии выросло в увлечение джентльменов, в настоящий спорт. В качестве примера Маллиган вспомнил лорда Байрона, известного своим увлечением кулачным боем, а также других представителей мира литературы и искусства. Младшие студенты и в самом деле побаивались этого рослого, длиннорукого и гибкого верзилу, а тот считал свое превосходство раз и навсегда установленным и даже не снисходил до напоминания об этом факте. Но в случае Барта Гамильтона Маллиган сделал исключение.
— Послушай, Гамильтон, — обратился он к Барту как-то раз, будучи явно навеселе. — Никак я не пойму, почему это ты такой смирный? Может быть, ты член какой тайной секты мазохистов, а? Секты мормонов по-джорджиански, этаких новых извращенцев, — он оглянулся по сторонам, призывая всех присутствующих принять участие в потехе, которую он сейчас устроит. Присутствовало при этом еще трое студентов, один из них жил в комнате Барта, где и происходили события, двое других пришли в гости. Все они не сочли нужным поддержать начинание Маллигана угодливым смешком, что вообще-то случалось довольно часто, но хранили напряженное молчание.
— Эй, Гамильтон, да ведь ты и в самом деле добрый самаритянин? Или нет, я, конечно, заблуждаюсь. Вы там у себя, но Юге, привыкли спать с негритянками, а уж их-то мужья не в состоянии постоять за свою честь. Но когда вы, проклятые плантаторы, сталкиваетесь с отпором истинных белых мужчин, то тут же поджимаете хвост.
— Аллен Маллиган, если ты сейчас же не захлопнешь свою грязную пасть и не уберешься отсюда, я тебя вздую, — эти слова Барт произнес очень внятно, но спокойно. На лице его при этом не читалось выражения злости или даже раздражения.
— О, джентльмены! — Маллиган воздел кверху свои длинные руки, призывая всех присутствующих в свидетели. — Он меня «вздует», — Маллиган прогнусавил, утрируя протяжный южный говор. — Да ты…
Окончание фразы было захлопнуто мощным ударом в челюсть снизу. Барт Гамильтон, до сих пор спокойно сидевший на стуле перед распинавшимся Маллиганом, внезапно выпрямился со скоростью предварительно сжатой стальной пружины и еще быстрее выбросил правый кулак. Маллиган, руки которого были слегка приподняты, вскинул их вверх еще больше, словно пытаясь уцепиться за потолок, и рухнул бы во всю длину своих шести футов четырех дюймов роста на пол, если бы его не подхватили на руки сидевшие сзади.
— Ну, Гамильтон!.. — выдохнул один из студентов, и в
восклицании его слышалось удивление, восхищение, смешанное с тревожным ожиданием неизбежных последствий.
Впрочем, последствия, как выяснилось, могли быть только достаточно отдаленными. Маллиган, побледневший, с появившейся в углу рта струйкой крови, не подавал признаков жизни. Только после того, как его уложили на кровать и вытерли ему лоб и шею мокрым полотенцем, специалист по благородному разбиванию физиономий разлепил веки и вперил мутный взгляд в потолок. Потом, когда взор его обрел осмысленное выражение, Маллиган порывисто встал, намериваясь расправиться с обидчиком, но один из студентов, кое-что понимающий в боксе, удержал его за плечи:
— Не дергайся, Аллен. Тебе лучше пока полежать, ты был в глубоком нокауте. Не думаю, что ты готов боксировать в ближайшие четверть часа.
— Хорошо, — произнес Маллиган вполне спокойно. — Я вообще не стану боксировать сегодня. Но я оставляю за собой право на ответный удар, — он приподнялся, помотал головой, потом встал и дошел до двери, слегка пошатываясь. — Я предоставляю тебе право выбирать время и место, сукин ты сын.
Последние слова, естественно, относились к Барту Гамильтону. Маллиган вышел, захлопнув за собой дверь.
— Да, Барт, — покачал головой Марк Айзеншмидт, тот самый студент, что удержал Маллигана от немедленного продолжения поединка, — похоже, у тебя появились серьезные проблемы. Удар у тебя, конечно, сокрушительный, ты прирожденный файтер[1]. Честно говоря, я даже не ожидал такого, хотя ты здоровый малый. Но в Маллигана очень трудно попасть, вот в чем фокус. Он успеет раз десять так врезать тебе по голове, прежде чем ты успеешь поднять руки, чтобы повторить свой сегодняшний успех, что у тебя просто ничего не получится, ты про все на свете забудешь.
— Что же, — улыбнулся Барт. — В таком случае мне придется воспользоваться его великодушным разрешением выбирать время поединка и отложить его года на три, пока я не закончу университет.
— Нет, Барт, — возразил Айзеншмидт, — ты так не поступишь. Уж я-то тебя знаю. Просто завтра же я отведу тебя к мистеру Диббетсу, наставленнику университетских боксеров. Ты ему понравишься, как мне кажется.
Мистер Диббетс оказался доволен новичком, как и предполагал Айзеншмидт.
— Да, сынок, у тебя просто идеальное сложение для бокса. Сухие длинные ноги, почти нет задницы, ручищи, что шатуны у локомотива, — он говорил так, словно перечислял достоинства лошади, которую продавал кому-то. — Где же ты такой вымахал, сынок? В Джорджии? Никогда не был в Джорджии.
Мистер Диббетс не употреблял в разговорах со студентами обращений «сэр» или «мистер Такой-то», даже если имел дело с родственниками профессоров этого университета. Высшей формой вежливости, но одновременно и признаком некоторого отчуждения считалась у него форма «молодой человек». Барта он с самого начала называл «сынком», что, по словам Айзеншмидта, означало симпатию.
Диббетс участвовал в высадке на Кубу в недавней войне с Испанией, тогда же он получил звание лейтенанта, ранение в ногу и военную пенсию. Ранение проявлялось только при обычной ходьбе в виде едва заметной хромоты, а на ринге Диббетс танцевал грациозно и неутомимо. Коренастый, с длинными могучими руками, он напоминал краба, прячущегося за камнем и угрожающего своей клешней, когда вставал в свою излюбленную боковую стойку. Сходство с крабом усиливала короткая шея Диббетса, немного выпученные глаза, сплюснутый нос и обширная лысина.
— Это у меня от рождения такой приплюснутый нос, сынок, — повторял он Барту, — а когда нос становится похожим на лепешку после занятий боксом, то это самое распоследнее дело. Меня всегда было трудно выцарапать из моей раковины.
И в самом деле, когда он стоял левым боком к противнику, высоко подняв левое плечо, так что за ним полностью прятался его квадратный подбородок, а массивные локти начисто преграждали доступ к корпусу, Диббетс казался абсолютно неуязвимым. Барт даже приходил в отчаяние тщась «раскрыть» его.
— Не суетись, сынок, — говорил Диббетс награждая его несильным тычком в лоб. — Вон какой у тебя красивый нос. Если будешь так открываться, тебе его в два счета изуродуют. Да и мозги вроде бы не самая последняя вещь в том деле, которое ты избрал. Ударить ты всегда успеешь. Удар у тебя от рождения. Твой папаша, наверное, хорошо дрался.
— Нет, скорее, от прадеда. Говорят, он, как и многие ирландцы, был хорошим кулачным бойцом, — смеясь, отвечал Барт. С мистером Диббетсом он чувствовал себя раскованно и обсуждал темы, о которых не упоминал в разговорах с другими.
— Что ж, ирландец так ирландец. Хотя я особо не выделял бы ирландцев. Хорошие боксеры получаются из кого угодно: из шведов, французов, итальянцев. Говорят, индейцы были когда-то хорошими воинами, а вот я встречал бойцов с примесью индейской крови — ничего подобного, такие же как все.
Когда Маллиган, встретив Барта, поинтересовался, когда же он получит сатисфакцию, то получил спокойный ответ:
— Не ранее конца этого года. Мне надо еще сдать экзамены и съездить попрощаться с родителями раньше, чем ты успеешь убить меня.
Маллиган только пожал плечами. Он видел, как прогрессирует новичок, наблюдая за его занятиями в гимнастическом зале, и в то же время, оставаясь снобом, просто не в силах был нарушить данного слова.
Но Барт Гамильтон тоже оказался верен собственному слову. После того, как сессия осталась позади, он подошел к Маллигану и просто сказал:
— Я пользуюсь предоставленной тобой возможностью и выбираю, кроме времени, еще и место поединка. Мы будем драться в зале. В перчатках и, если ты хочешь, без свидетелей.
— Почему ты думаешь, что я этого хочу? — вскинулся Маллиган.
— Потому, что я имел возможность наблюдать за тобой во время боев. Тебе не выстоять и пяти раундов в приличном темпе. Раз уж ты хочешь присутствия зрителей, то я предложу следующее: мы возьмем по паре секундантов и выясним наши отношения в десяти раундах по три минуты.
— О’кей, — согласился Маллиган после короткого раздумья.
Они встретились вечером в пустом зале, запертом изнутри. С Бартом пришли в качестве секундантов Айзеншмидт и однокурсник Фитцсиммонс. Маллиган пришел с джентльменами, носящими котелки, белые шелковые шарфы и шерстяные клубные пиджаки с инициалами.
Хотя Барт и уступал Маллигану около двух дюймов в росте, они были с ним приблизительно одинакового веса, так что условия поединка можно было считать идеально равными.
Первые два раунда противники провели, пытаясь «прощупать» друг друга. Одно дело, когда наблюдаешь за соперником со стороны, что делали Маллиган и Гамильтон, не встречавшиеся еще в очном бою, и другое дело — выйти на ринг, увидеть глаза, полускрытые плечом и перчатками, услышать учащенное дыхание, ощутить силу ударов на себе.
В третьем раунде Маллиган уже провел первые атаки, а в четвертом перешел в наступление. Барт уклонялся уходил, отвечая лишь изредка резкими ударами левой. Уже к концу этого раунда Барт понял — он выиграет бой, причем достаточно легко. Ясно было, что Маллиган проигрывает ему в выносливости, несмотря на большую поджарость. Алкоголь, к которому выходец из Новой Англии питал пристрастие, заставлял его учащенно дышать, сильно потеть, терять на какое-то время контроль за ситуацией после интенсивного обмена ударами.
— Он уже поплыл, — сказал Айзеншмидт после шестого раунда, вытирая шею и плечи Барта мокрой губкой, — ты его очень легко сделаешь.
— Я знаю, — спокойно ответил Барт. Он был свеж, словно отбоксировал всего один раунд, на лице его не оставил следа ни один удар противника, в то время как у Маллигана была разбита верхняя губа, а левый глаз слегка заплыл. — Теперь я как следует включу свою правую.
Он так и сделал. Едва рефери, менявшийся по очереди и представлявший то одну, то другую стороны, скомандовал «бокс», как Барт сделал ложный выпад, заставив Маллигана раскрыться, нанес ему удар в корпус левой, а боковым ударом правой сокрушил скулу. Удар основательно потряс Маллигана, взгляд его помутнел. Еще через пару секунд Барт встретил его ударом правой вразрез. Челюсти Маллигана клацнули, ноги подогнулись в коленях, и Барту оставалось только немного уйти в сторону, чтобы не мешать противнику улечься на ринге.
Досчитав всего до восьми, рефери — на сей раз со стороны Маллигана, объявил, что время раунда истекло. Барт только пожал плечами: ясно же, что Маллиган не дотянет даже до конца следующего раунда.
После команды рефери Маллиган с явным трудом поднялся из своего угла. Лицо его являло сбой удручающее зрелище, тело лоснилось от пота, ноги переступали грузно и вяло. Барт даже не стал бить его в голову, он провел сильный апперкот, достав Маллигана под ребра. Этого оказалось достаточно для того, чтобы Маллиган снова улегся на пол — на сей раз до счета «десять».
После того случая Маллиган избегал встреч с Бартом, будь то в учебной аудитории, студенческой столовой или в кемпинге. В этом году он сдал выпускные экзамены и исчез из поля зрения Бартоломью Гамильтона.
Но бокс так и не увлек Барта всерьез. Став чемпионом университета, он почти сразу же прекратил посещения зала.
2
Учился Барт серьезно, не увлекаясь особенно вечеринками, пикниками или просто праздным шатанием по кемпингу. В то же время нельзя было сказать, что он сторонится компаний или является трезвенником. Становиться профессором Барт тоже не собирался. Хотя это была весьма заманчивая перспектива для честолюбивого выходца из глубинки, сына фермера, хотя и состоятельного фермера. Можно было участвовать в конкурсе, можно было победить в нем, но Барт этого делать не стал, несмотря на довольно высокие баллы на экзаменах.
Он просто явился в контору к одному из директоров строительной компании «Лестрейд и Уорнингтон», а именно к мистеру Уорнингтону и сказал:
— Мистер Уорнингтон, в этом году я заканчиваю университет на факультете права и хотел бы работать поверенным вашей компании.
Уорнингтон, грузный мужчина лет пятидесяти с небольшим, одетый в дорогой шерстяной костюм, с золотыми запонками и бриллиантовой булавкой в галстуке, мог бы попросту выставить молодого нахала за дверь, со степенью вежливости, всецело зависящей от его прихоти. Еще бы — люди подолгу проработавшие адвокатами или судьями, не всегда удостаивались места в его сплоченной команде крючкотворов и сутяг, а тут заявляется желторотый юнец и желает, ни много, ни мало, как сразу же представлять интересы фирмы.
Но что-то во внешности молодого человека, одетого в достаточно скромное твидовое пальто и темную фетровую шляпу, заставило мистера Уорнингтона не спешить избавиться от назойливого просителя.
— А что же, молодой человек, — мистер Уорнингтон раздавил окурок сигары в массивной бронзовой пепельнице, сверкнув огромным перстнем на толстом волосатом пальце, — что же привело вас именно в нашу фирму. Ведь Чикаго — большой город. В десятках адвокатских контор требуются люди, вы же читаете объявления в газетах.
— Да, я читаю газеты, — спокойно ответил молодой человек. — Но кроме объявлений там мелькают и заметки, в том числе и о вашей фирме.
— Вот как? — мистер Уорнингтон посмотрел на него в упор. — И вы вычитали там что-нибудь хорошее — я имею в виду: что-нибудь похвальное о нашей компании?
— Нет, — просто ответил посетитель. — Ни единого похвального слова. Но я умею читать между строк, мистер Уорнингтон.
— Даже так, — теперь уже во взгляде директора компании забрезжил какой-то интерес, хотя, возможно, незнакомец просто забавлял его, внося какое-то разнообразие в жизнь, состоявшую из сделок, подсчетов, кредитов, прибыли, исков и той же закулисной возни с политиками и газетчиками. — А между строк что вам удалось прочесть, мистер… э?..
— Гамильтон, — подсказал Барт. — Между строк я прочел о том, что у вашей компании неплохое финансовое положение, несмотря на то, что «Кроникл», «Мейл» и «Пресс», в каждой статье, посвященной вам, говорят о полном отсутствии обеспечения, о дутых акциях, об обманутых вкладчиках. Но если у вас и в самом деле так плохи дела, почему вас кредитуют «Лейк-Сити Нейшнл» и «Прери Нейшнл»? Если вы все время обманываете вкладчиков, почему их число год от года растет? Если акции дутые, почему по ним любой акционер без задержки получает свои шесть процентов? И в конце концов, уже у меня возникает резонный вопрос: почему до сих пор вы не подали и не выиграли ни одного иска за диффамацию[2]?
— Ну, — улыбнулся Уорнингтон, — этих писак не так-то просто прищучить. Они на скандалах не одну собаку съели. Хорошо, мистер Гамильтон, — Барт приятно удивился тому, как его могущественный собеседник с первого раза запомнил фамилию, — со следующего месяца вы можете работать у нас.
Он нажал кнопку, и через несколько секунд в кабинете появился секретарь.
— Мистер Гамильтон поступает на службу в нашу компанию. Выясните у мистера Горовица, какое дело тот может поручить ему для начала.
Барт покинул фирму «Лестрейд и Уорнингтон», контора которой располагалась на Норт-шор-драйв, очень довольный тем, что все прошло гораздо удачнее, чем он предполагал. Конечно, он потратил довольно много времени на то, чтобы узнать о Лестрейде и Уорнингтоне все, что было в его силах. Он выяснил, что Уорнингтон поставил свою фамилию в названии второй по счету не потому, что так она должна была стоять по алфавиту. Нет, Уорнингтон был из тех людей, которые не любят высовываться. Барт уже знал, что Уорнингтон не только фактически заправляет всеми делами в этой компании, но еще и руководит двумя другими, где официально он является просто крупным пайщиком. Уорнингтон был, а не казался. Он имел роскошный особняк на Мичиган-авеню, он владел автомобилем, что к тому времени могли позволить себе даже не все состоятельные люди. Еще у Уорнингтона был дом в Спрингфилде, где он останавливался, часто выезжая туда по делам.
«Это и есть настоящий успех, — думал Барт, направляясь пешком по Ла-Саль-стрит к реке. — Конечно, когда у человека есть такие деньги, он не волен полностью распоряжаться собой. Наверняка Уорнингтон не может позволить себе вот так болтаться без дела по городу. Ну да впрочем, он может гораздо быстрее объехать все на автомобиле», — мысленно посмеялся над собой Барт.
Первое дело, которое поручил ему мистер Горовиц, сутуловатый, словно бы постоянно к чему-то принюхивающийся и приглядывающийся, отчего глаза его за стеклами очков всегда были прищурены, а крылья крючковатого носа трепетали, было дело по тяжбе «Лестрейда и Уорнингтона» с городским муниципалитетом. Тяжба возникла из-за участка на набережной реки, где «Лестрейд и Уорнингтон» вырыла котлован под строительство многоэтажного здания, а комиссия муниципалитета неожиданно объявила участок собственностью города, аннулировав тем самым решение муниципалитета прежнего состава. Случай был, что называется, беспрецедентный. Во всяком случае, Барт сразу не смог понять, как муниципалитет вообще решился на такое вопиющее нарушение закона. Конечно, компания наверняка далеко не совсем была законопослушна — несмотря на почти полное отсутствие опыта в ведении подобного рода дел, Барт в свои двадцать два года уже выделялся из среды сверстников тем, что одни называют приземленностью, а другие трезвостью — но одно дело — нарушение законов частной компанией, а другое дело — если законы нарушает государственный орган.
Разумеется, он не высказал вслух подобного рода соображения, а только поинтересовался у мистера Горовица, известно ли ему, кому муниципалитет собирается отдать свой участок.
— А почему вы решили, мистер Гамильтон, что участок будет кому-то передан? — Горовиц как-то странно посмотрел на него.
— Но какой же тогда смысл в решении комитета? Непохоже, чтобы они руководствовались благими намерениями или соображениями типа «закон превыше всего», — пожав плечами, ответил Барт. — Кто-то же за всем этим стоит.
— Браво, молодой человек, вы рассуждаете так, словно прожили по меньшей мере лет сорок, а не двадцать с небольшим. Комиссия муниципалитета в данном случае не руководствовалась принципами законности и высокой морали, тут вы абсолютно правы. А в остальном дело немножко сложнее. Понимаете ли, под строительство этого небоскреба, в котором должен будет размещаться отель, естественно брались займы, проценты по которым должны были выплачиваться вкладчикам немедленно вслед за тем, как только отель станет приносить доход. Среди наших вкладчиков есть очень влиятельные люди. Теперь их деньги «горят», поскольку полностью их вернуть мы не можем — строительство уже начато.
— Значит, все дело в тех, кто хочет оказать какое-то давление на этих… влиятельных людей?
— Правильно рассуждаете, мистер Гамильтон, абсолютно правильно. Так вот, давление оказывает некий Чарлз Теркс, небось, слыхали про такого?
— Да, конечно. Но ведь он же занимается железными дорогами. Значит, закрытие строительства небоскреба — только способ выкрутить кое-кому руки.
— Верно, мистер Гамильтон, опять верно! Только ведь нам никакого проку нет, от знания причин. Нам сейчас важно пробить разрешение.
— Простите, мистер Горовиц, но я не понимаю, что тут пробивать. Комиссия действовала в нарушение конституции штата Иллинойс. Я достаточно подробно ознакомился с делом. Мне кажется, надо обратиться в суд штата Иллинойс, который может опротестовать решение городского суда Чикаго, вынесшего постановление о правомерности действий муниципалитета.
— Может опротестовать, это вы верно заметили, но может и не опротестовать.
— Мистер Горовиц, вы упоминали о влиятельных людях, которые сейчас терпят убытки в связи с тем, что строительство отеля откладывается. Нельзя ли каким-то образом увязать их интересы с будущим решением суда штата?
— Так ведь они и так впрямую заинтересованы в том, чтобы суд вынес решение в нашу пользу, — улыбнулся мистер Горовиц. — Все дело лишь в том, что они не хотят принимать личного участия в обработке членов суда. Хотя среди них есть и сенаторы и члены палаты представителей, и даже кое-кто еще повыше.
Барт прекрасно понимал, что Горовиц сейчас устраивает ему экзамен и что от того, насколько успешно он этот экзамен выдержит, будет зависеть его положение в компании «Лестрейд и Уорнингтон».
— Раз среди наших клиентов есть столько людей, наделенных законодательными полномочиями, то не лучше ли нам провести отдельный законопроект, который бы отныне и наперед отрегулировал решение споров, подобных нашему? — немного подумав, предложил Барт.
— Вот это уже другой разговор, мистер Гамильтон, — Горовиц снял очки и помассировал веки. Барт понял, что экзамен он выдержал, хотя бы частично.
Барту пришлось проделать всю работу по подготовке текста законопроекта, поскольку, как он догадывался, столь основательной подготовки по юриспруденции не было ни у кого из поверенных «Лестрейда и Уорнингтона».
Потом Горовиц повез его в Спрингфилд. С некоторыми сенаторами они встречались вместе с Горовицом, на иные встречи главный поверенный Барта не брал, но все равно Барт понимал, что теперешняя их поездка неоценима для начинающего законника — он познакомился с людьми, еще недавно стоявшими в его представлении недостижимо высоко.
Теперь, при более близком рассмотрении, ореол небожителей развеялся, и перед Бартом предстали обычные люди с их слабостями и пороками. Довершил разрушение иллюзий мистер Горовиц, который вручил Барту пакет и сказал:
— Мистер Гамильтон, я сегодня очень устал, так что хотел бы просить вас передать вот это секатору Филлипсу. Можете проверить содержимое, там пятьсот долларов. Я уже позвонил Филлипсу, он будет ждать вас. Нет, — ответил он на немой вопрос Барта, — мистер Филлипс не входит в число пайщиков строительства отеля, но от него многое зависит при голосовании.
— Я должен еще что-нибудь передать ему на словах? — уточнил Барт.
— А это уже ваше дело, — благодушно сказал Горовиц, разваливаясь в кресле.
Барт нашел сенатора Филлипса в номере того же отеля, где остановились и они с Горовицом. Филлипс, высокий лысоватый мужчина, в темно-серых брюках, такого же цвета жилете и галстуке, курил гаванскую сигару, стряхивая пепел на дорогой ковер. Когда Барт представился, сенатор жестом указал ему на кресло.
— Мистер Филлипс, я должен передать вам это, — Барт впервые в жизни давал взятку и постарался, чтобы голос его звучал как можно более естественно.
— Ах, это, — сенатор небрежно сунул пакет в карман брюк. — Не хотите ли выпить?
Барт хотел сначала отказаться, но потом согласился, решив, что отказом он усугубил бы свое положение, казавшееся (как он догадывался — только одному ему) достаточно двусмысленным.
Мистер Филлипс тоже выпил виски с содовой, посетовал на давно установившуюся жару и отсутствие дождя, на чем они с Бартом и распрощались.
Выйдя из номера сенатора, Барт подумал о том, что он только что отдал этому человеку пятьсот долларов. Отдал только за то, что тот проголосует сам и, может быть, склонит своих коллег проголосовать за законопроект. Его отец за год выручал с фермы и прядильной фабрики, которой он владел совместно с компаньонами, немногим более полутора тысяч. А рабочие металлургических предприятий Карнеги при двенадцатичасовом рабочем дне и семидневной неделе получали за год чуть больше пятисот долларов — чуть больше того, что исчезло сейчас в кармане брюк человека, рассеянно обронившего: «ах, это.» Что ж, так всегда, наверное, был устроен мир. Он может немного меняться в ту или иную сторону, но вряд ли эти изменения зависят от усилий конкретных людей. Только безумцы, подобные тому, который шесть лет назад убил Мак-Кинли[3], могут пытаться изменить существующий порядок вещей. Даже сильные мира сего могут немногое. Барт был еще подростком, когда при президенте Кливленде по стране разрушительным ураганом пронесся кризис. А уж Кливленду нельзя было отказать в способностях политика, это Барт, как выпускник университета, мог сказать сейчас с уверенностью. Он знал из разговоров взрослых, что подобной паники никто не помнил с 1873 года, да и та, предыдущая, не шла ни в какое сравнение с этой. В их округе тогда многие лишились земельных участков, которые были заложены, так как кредиторы отказывали в выкупе закладных Трудно сказать, где был бы сейчас он, Барт Гамильтон, если бы у его отца не было участка. Но то ли благодаря деньгам бабки, то ли усилиями Уилла Бентина участок выстоял, вследствие чего он, Барт Гамильтон, может сейчас жить в дорогом отеле и давать взятки сенаторам.
К концу лета закон был принят собранием штата Висконсин, благодаря чему компания «Лестрейд и Уорнингтон» смогла продолжить строительство отеля. Барту был установлен оклад в две тысячи долларов в год, не считая премиальных. Теперь он мог снять не очень дорогую, но вполне уютную квартиру на 39-й улице на Южной стороне. Мистер Горовиц сообщил Барту, что тот может отдохнуть дней десять, и молодой поверенный компании «Лестрейд и Уорнингтон» с радостью этим воспользовался.
Уже на следующий день, преодолев в пульмановском спальном вагоне более семисот миль, Барт сошел на перроне в Джонсборо. И тут же он подумал, что поступил опрометчиво, не сообщив отцу и матери о своем приезде. Перспектива добираться пешком до Тары, да еще с тяжелым саквояжем, да еще в жару, да еще в этом великолепном костюме явно не приводила его в восторг. И тут он вдруг услышал окрик:
— Барт Гамильтон!
Оглянувшись, Барт увидел Бена Трумэна, бывшего своего соученика по колледжу в Атланте.
— Хэлло, Бен! Ты прекрасно выглядишь, — пожимая руку Трумэну, Барт рассматривал его клетчатый костюм с брюками гольф, шотландское кепи. В их округе явно не одевались так даже сейчас.
— Где уж мне! Это ты настоящим франтом. Я тебя уже лет пять не видел. Какими судьбами и откуда?
— Я еду к свои старикам в Тару. Только вот…
— Вот тут тебе крупно повезло. Я как раз тоже еду в ту сторону. Подброшу тебя. У меня есть на чем, — Бен указал на повозку, запряженную внушительного вида битюгами. — Я коммивояжер. Продаю сельскохозяйственные машины. Так что приходится часто перевозить достаточно крупные вещи.
Барт подумал, что везение, на которое он не мог пожаловаться в последнее время, является чем-то врожденным вроде цвета волос или глаз.
Вот случился же вовремя Бен Трумэн.
Бен всю дорогу расписывал прелести его нынешнего занятия и уже перед самым развилком на Тару как бы мельком поинтересовался:
— А ты где сейчас?
— Да так. В одном месте на озере Мичиган.
— То-то я замечаю, что ты говоришь, как настоящий янки.
— Приходится, — рассмеялся Барт. — Спасибо, дружище.
Пройдя кедровую аллею, Барт еще раз подумал об удивительном везеньи: из-за кустов магнолии выбежал его племянник Билли. Барт сразу и не узнал подросшего мальчишку — в последний раз он видел его три года назад. Левой рукой Билли сжимал лук, сделанный из ветки ивы, а через его плечо был переброшен самодельный колчан.
— Эй, вождь чероки, — окликнул его Барт и поставил чемодан на гравий дорожки, — кто сейчас дома?
— Я не вождь чероки, я вождь апачей, — серьезно ответил мальчик, разглядывая гостя.
— А я твой дядя Барт.
— Мама! — завопил вождь апачей. — Здесь дядя Барт, но он с усами.
В холле, как догадался по негромкому шуму Барт, возникла небольшая суматоха, и через несколько секунд на крыльце появилась его сестра Конни и отец.
— Боже мой! — закричала Конни звонким голосом. — Он и в самом деле с усами. Какой джентльмен!
Теперь уже на крыльце появилась мать. Морщинки на лице Аннабел разгладились, большие синие глаза осветились радостью узнавания.
Когда, наконец, Барт был обтискан, оглажен, обцелован, он смог снять пиджак, галстук, расстегнуть ворот сорочки.
— Барт, ты, конечно, всегда был самостоятельным мальчиком, но нам бы ты мог писать и почаще. Мы все-таки твои родители. Ты еще не совсем забыл об этом? — мягко упрекнула его Аннабел.
— Прости, мама, я был очень занят. Страшно сказать, я получал диплом об окончании университета. Теперь, открыв на старости лет адвокатскую контору, я помещу его в рамочку под стеклом и повешу на стену, чтобы никто не мог усомниться в моей компетенции.
Настала очередь показывать диплом. Потом последовали подарки.
— Вот теперь-то я избавился от тяжести, — сказал Барт. — Страшно подумать, что случилось бы со мной, если бы не Бен Трумэн. Он вез меня из Джонсборо. Он служит коммивояжером в какой-то фирме в Атланте.
Потом наступил черед новостей. Его двоюродные дед и бабка, Уилл и Сьюлин, наперебой принялись рассказывать о своих многочисленных внуках, рассеянных, как он понял, по всей стране. Причем у их внучки Джуди, родившейся здесь, в Таре, почти что в одно время с ним — он еще не забыл об этом? — у Джуди, живущей с мужем в Вайоминге, уже двое детей, их правнуков, а они их до сих пор не видели. Только у Джейн, их меньшенькой, ребенок, мальчик, еще совсем маленький, чуть больше Билли. Джейн живет в Мемфисе, хоть эта поближе к дому устроилась, потому что Марта забралась в Монтану — это вообще дальше края света. Одна Джейн только их, стариков, и навещает.
По мнению Барта, Сьюлин на старуху походила мало. Она красила волосы, обильно пудрилась, но даже и без этих ухищрений ей можно было дать на вид не больше пятидесяти, а ведь ей вроде бы как минимум, лет на десять больше. Если бы даже он и захотел высказать это замечание, то все равно не смог бы остановить поток ее красноречия.
Поток был остановлен Уэйдом.
— Барт, ты так редко писал, что, по здравому размышлению, я решил, что это объясняется твоей крайней занятостью. Поэтому и не сообщил тебе о смерти твоей бабушки Скарлетт. Я один ездил на ее похороны во Фриско.
— Вот как? — Барту, видевшему бабушку Скарлетт на фотографии, по правде говоря, было безразлично, кто и в каком составе ездил на ее похороны, но он изобразил приличествующее сожаление. — Но ведь ей было совсем немного лет. Отчего же она умерла?
— Сердечный приступ, — объяснил Уэйд.
Бабушка Сьюлин вытерла сухие глаза кружевным платочком. Барт мог бы сейчас держать пари, что Сьюлин тоже совсем мало горевала, получив известие о смерти родной сестры.
Только покончив с официальной частью, как язвительно определил про себя Барт необходимое общение со Сьюлин и рассказ отца о похоронах Скарлетт, он смог поговорить с Конни.
— Мне очень повезло, что я застал тебя в Таре, — Барт чувствовал себя совершенно раскрепощенным, потому что теперь он говорил то, что думал. Конни он любил. В детстве она казалась ему самой красивой девушкой в мире. Да, она была очень похожа на мать, но если это и была копия, то копия более живая. Очевидно, оправдывая расхожее мнение о том, что родители больше любят детей, похожих на них Аннабел была более строга Барту, чем к Конни. Конни же, чувствуя это, всячески опекала младшего брата. — А почему ты без Генри? Он все занят строительством флота Штатов?
Муж Конни служил в штабе военно-морских сил, в Вашингтоне.
— Нет, — Конни, смеясь, покачала головой. — Теперь он бросил флот и занялся строительством авиации.
— Чего-чего? — удивился Барт. — Я-то, по правде говоря, считал, что это нечто среднее между клубом самоубийц и цирком. Я думал, что у аэропланов нет будущего, во всяком случае, близкого будущего в смысле практического применения.
— Вот видишь, я выдала тебе стратегическую тайну Да, Генри говорит, что очень скоро, лет через пять максимум, эти штуки, эти аэропланы, смогут участвовать в войне. А Генри не успел еще навоеваться. Война с Испанией, по его мнению, была удручающе короткой — всего десять недель.
— Ну, мне кажется, что все будущие войны будут такими. Это уже просто достояние истории: Столетняя война, Тридцатилетняя война. Теперь даже года будет много для того, чтобы расколошматить всех и вся вдребезги, — Барт говорил сейчас не думая, он мог сказать, что просто болтает сейчас. Как хорошо вот так сидеть, расслабившись, и не заботиться, как ты выглядишь в глазах собеседника, не опасаться, как будут истолкованы твои слова.
— А вот Генри утверждает обратное. Буры воевали с англичанами больше года, японцы с русскими тоже, но это, по его мнению, совсем не те войны — не совсем настоящие, что ли.
— Ну, да ты, как я погляжу, здорово поднаторела в вопросах стратегии. Значит, доктрина Генри сводится к тому, что Штатам надо готовиться к длительной войне?
— Вроде того. Ему тридцать три, он капитан, хотя, как ему кажется, заслуживает большего.
— А ты как считаешь?
— Ну что ты, Барт, я же в этом ничегошеньки не смыслю. Генри, наверное, не совсем виноват в том, что малость помешался на всех этих походах, маршах, смотрах, инспекторских проверках. Он славный парень, разве что не по возрасту бесшабашный. Но когда тебя буквально с пеленок заставляют маршировать, а потом не оставляют тебе никакого выбора, кроме Вест-Пойнта, тут уж трудно остаться полностью нормальным человеком. Его отец был лейтенантом во время войны Севера с Югом, дед — генералом, прадед тоже служил в каком-то чине…
— А как твое преподавание литературы?
— Думаю, что я смогу по-настоящему научить только своего сына. Правда, Билли? — обратилась она к большеголовому серьезному крепышу. — Расскажи-ка дяде Барту, что ты сейчас читаешь?
— «Песнь о Гайавате», — мальчик ответил без тени обычного детского хвастовства.
— А кто написал эту поэму? — продолжила Конни импровизированный экзамен.
— Генри Уодсворт Лонгфелло, — Билли даже как-то досадливо дернул плечом, словно желая сказать: ну к чему весь этот спектакль.
— Ага, вот, значит, откуда лук и стрелы, — догадался Барт. — Что же, познания у него уже достаточно обширные. Я в его годы был совершеннейшим дебилом, а после — порядочным балбесом. Может быть, знание поэзии когда-нибудь и пригодится Билли. Только я полагаю, что жизнь имеет тенденцию к огрублению, к упрощению.
— Бартоломью Гамильтон, ты говоришь чепуху, — Конни произнесла эти слова почти сердито. — Наша мать едва могла расписаться в твои годы, а ты закончил университет.
— Наш дед — я имею в виду, конечно, дедушку Чарлза — тоже был образованным, но он плохо кончил, зато бабка Скарлетт, та что недавно умерла, насколько я знаю из рассказов, не была перегружена книжными премудростями, зато достигла в жизни весьма многого.
— Барт, но ты же совсем их не знал — ни деда Чарлза, ни бабушку Скарлетт, — покачала головой Конни, — откуда же столь категоричные заключения?
— Я же говорю: мне достаточно много рассказывали о них.
— Кто? — понизив голос, спросила Конни. — Бабушка Сьюлин? Боюсь, что ее рассказы не были достаточно объективными.
— Ладно, Конни, это был другой мир — тот в котором они жили. Даже наш отец жил в мире, непохожем на наш.
— Барт, — мягко сказала Конни, — каждый человек выбирает для себя свой мир. И живет в нем, с большим или меньшим успехом, отражая попытки окружающих проникнуть внутрь этого мира. «Душа изберет сама свое Общество — замкнет затвор. В это божественное Содружество — не войти с этих пор.»[4]
— «Напрасно будут ждать колесницы — у тесных ворот. Напрасно — на голых досках — колени преклонит король», — продолжил Барт. — Ах, Конни, если бы ты знала, сколько в людях таится злой, разрушительной энергии, какая ими движет алчность, сколько совершается подлостей. Драка, самая примитивная, вульгарная драка — вот что представляет из себя мир людей. Причем, дерущиеся даже на очень стараются соблюдать видимость игры по правилам.
— Отец нашей матери был простым траппером, наш отец тоже не старался перегрызть кому-то глотку — наверняка ему такая мысль ни разу не приходила в голову в течение всей жизни. И тем не менее, они как-то выжили, уцелели, — Конни пожала плечами.
— Хм, может быть, ты и права. Может быть, мы все не из того теста, что остальные. Мы — это ты и я, наш отец, наш дед Джим. А если это так, то я выбрал себе не слишком подходящее занятие. Мне надо постоянно носить маску, иначе меня ждут серьезные осложнения, — закончил он уже с бодрым смешком.
Билли, сидя напротив, очень серьезно слушал.
— Послушай, малыш, — обратился к нему Барт. — Хочешь, я научу тебя боксировать?
— Барт, ему ведь только семь лет, — укоризненно сказала Конни.
— Ему уже целых семь лет. Ты не волнуйся, мы не будем драться всерьез, и он не изувечит своего дядюшку Барта. Правда, Билли, — подмигнул он племяннику.
Барт пробыл в Таре неделю, в течение которой буквально влюбил в себя Билли. Если раньше кумиром мальчика был дедушка Уэйд, учивший его ловить рыбу и только обещавший сводить как-нибудь на охоту, но так свое обещание и не исполнивший, то дядя Барт сразу же продемонстрировал свое умение ходить на руках и лазать по деревьям, словно белка. А еще дядя Барт сделал ему большой лук, совсем как у вождя Гайаваты. Дядя Барт рассказывал, что Гайавата жил на озере Верхнем и был вождем ирокезов, а сам он живет на озере Мичиган, это почти рядом.
Уезжая, Барт сказал Уэйду, отвозившему его на вокзал в Джонсборо:
— Отец, если у тебя будут какие-то финансовые проблемы, сразу же напиши мне, не стесняйся.
— Ну что ты, малыш, я никогда не начинал настолько крупных дел, чтобы влезть в долги.
— Значит, надо начать. А про долги забудь, не обижай меня.
— Ладно, сынок, как-нибудь напишу.
Барт вспрыгнул на ступеньку вагона, когда поезд уже отходил. Он знал, что отец наверняка никогда не напишет ему про свои трудности. Да и он теперь нескоро приедет сюда — это Барт предчувствовал. Но его отец очень неплохо выглядит в свои сорок пять — загорелый, подтянутый, седина почти отсутствует. Да, Уэйд Хэмптон Гамильтон прожил жизнь в своем мире, который ему, Барту, кажется наивным, скучноватым, пресным. Он никогда не произнес бы этих слов вслух — насчет наивного и скучноватого мира его отца. Но он знал, что не остался бы жить здесь, даже если бы жизнь оставила совсем мало выбора.
Вернувшись в Чикаго, Барт уже на следующий день позвонил Горовицу и справился, нет ли у главного поверенного желания загрузить его работой.
— Разумеется, есть, мистер Гамильтон. На отсутствие работы нам с вами грех жаловаться.
И Барт снова принялся за ежедневное, рутинное копание в пунктах договоров и параграфах законов. Он внимательно просматривал тексты служебных постановлений, встречался с олдерменами и членами муниципального совета, членами палаты представителей штата и сенаторами. Он всегда был в курсе дел крупных предприятий не только Чикаго, Детройта и Сент-Пола, но также и городов Востока — Нью-Йорка, Бостона, Филадельфии, хотя «Лестрейд и Уорнингтон» и не требовала от него таких сведений. Не обладая таким стажем работы, как его старшие коллеги, а самое главное, их жизненным опытом, Барт сделал ставку на максимальное использование всяческих законов для нужд «Лестрейда и Уорнингтона». И вскоре он уже с непонятной гордостью слышал доходившие до него отзывы противников, поверженных в поединках, напоминавших Барту боксерские, но с гораздо более высокими ставками. Они, эти противники, называли его крючкотвором, клещом, бульдогом за его поистине мертвую хватку.
Но противников — их скорее даже можно было назвать соперниками и уж ни в коем случае не врагами — у Барта было меньше, чем союзников и просто хороших знакомых. Он обладал многими качествами, позволяющими снискать симпатии окружающих. Высокий, широкоплечий, подтянутый молодой человек, красивое лицо которого часто озарялось доброжелательной улыбкой, не мог не нравиться. Он всегда готов был помочь советом, охотно консультировал по правовым вопросам всех, кто к нему обращался. И почти всегда взаимно получал совет, какие акции лучше купить сейчас, от покупки каких воздержаться, где открыть кредит — причем, в последнем случае за него, как правило, ручались, что существенно облегчало и ускоряло процедуру открытия кредита.
Всего за год, не рискуя, Барт сумел таким образом собрать более трех тысяч долларов, что практически равнялось его доходам в «Лестрейде и Уорнингтоне» вместе с премиальными. Он видел, какие возможности открыты перед финансистами, но в то же время прекрасно понимал, что чем выше поднимается тот или иной человек по лестнице финансового успеха и влияния, чем более высокие ставки использует он в своей игре, тем больше вероятность риска. Там, наверху, ревели ураганные ветры, только истинные колоссы могли противостоять им. Трезво оценивая свои способности и склонности, Барт сознавал, что никогда не сможет стать кем-то вроде Моргана, Гарримана или коммодора Вандербильта[5] — таким надо родиться, как рождаются художниками или музыкантами. Однако, анализируя накопленные им сведения, Барт был уверен в том, что ему по силам подняться гораздо выше своего нынешнего финансового положения.
Но для того, чтобы подниматься наверх, мало было отдавать всего себя работе и удачно использовать предоставленные ему возможности. Деловые контакты еще не давали должного эффекта, надо было использовать личные связи, а связи эти выходили иногда довольно далеко за рамки деловых отношений. Существовали приемы, ужины, пикники, вечеринки, театральные премьеры, вернисажи, общение в закрытых клубах с присущими для разных случаев кодексами, канонами, необходимыми условностями. Барт знал, что Уорнингтон, например, обладая солидным состоянием и весом в деловом мире, все же довольно холодно принимался в чикагском высшем обществе, где зачастую имели успех люди менее богатые, чем он. Конечно, можно было по-разному относиться к успеху в свете, но в конечном итоге этот успех оказывал заметное влияние и на отношения с деловыми партнерами.
В последнем Барт вскоре убедился на собственном опыте. По работе ему часто приходилось встречаться с неким Дональдом Иствудом, служащим городской прокуратуры. Иствуд был одного с ним возраста и тоже недавно закончил университет, только учился он в Нью-Йорке. Естественно, у молодых людей нашлись и другие общие темы для разговоров, кроме служебных. Они даже пару раз пообедали вместе в недорогом ресторане неподалеку от городской прокуратуры. И вот Дональд пригласил его на званный ужин.
3
Чикаго к этому времени уже не был грязной дырой, городом скотобоен и мыловаренных заводов, как полагали еще лет двадцать назад, впрочем, безосновательно полагали — в восточных штатах. Сейчас город не только вырос вширь и ввысь, не только приумножил свое богатство, но и значительно облагородил внешний облик — это касалось архитектуры и качественного состава высшего света. Раньше последний составляли, в основ ном, нувориши, самым страстным желанием которых было поразить, ошеломить — с помощью нарядов, украшений, безвкусных, аляповатых, всегда излишне роскошных. Иначе и не могло быть в сборище людей, где все решали деньги, где они служили единственным мерилом достоинства. Разве что наследственные титулы могли соперничать с полнотой мошны, но в Америке, а тем более в Чикаго, этим мало кто мог похвалиться.
Но теперь наравне с богатством ценилось образование, известность, обретенная на каком-либо поприще, будь то наука, музыка, живопись или театр.
Иствуды жили в доме на бульваре Эшланд, в районе особняков. Явившись в назначенное время и встреченный у входа в дом дворецким, очень вежливо осведомившимся о его имени, Барт поразился богатому убранству приема. Галерея перед домом была ярко освещена, на лужайке стояли столики с шампанским в серебряных ведерках, с вазами, тарелками, фужерами. Бессмысленно было пытаться сосчитать, во что Иствуду-старшему выльется этот прием.
Барту еще никогда не приходилось бывать в такой обстановке. Он мысленно посмотрел на себя со стороны, желая убедиться в том, что он не выглядит инородным телом в богатой толпе — пока еще гости только начина — ли собираться, но по внешнему виду приехавших в одно с ним время мужчин и женщин можно было определить, что это за публика. Однако Барт сразу успокоился: костюм, ботинки, галстук — все было достаточно дорогим, но не бросалось в глаза, во всем присутствовали вкус и мера.
— Барт, дружище, как хорошо, что ты появился, — Дональд Иствуд, во фрачной паре, в черном шелковом галстуке, с белоснежным платочком, выглядывающим из нагрудного кармана, вовсе не напоминал того достаточно скромно одетого юношу, которого Барт привык встречать в здании городской прокуратуры. — Отец, это Барт Гамильтон, о котором я тебе рассказывал.
Отец Дональда Иствуда, мужчина лет пятидесяти, тоже во фраке, с благородной сединой на висках, с сединой в усах, с дорогой сигарой — он, конечно же, был джентльменом с головы до пят, или, как сказали бы англичане, от подметок до короны. Барт даже почувствовал некоторую неловкость, решая, каким образом ему приветствовать Иствуда-старшего, но тот уже протянул ему сухую холодную ладонь.
— Да, мистер Гамильтон, наслышан о вас, — он оценивающе окинул Барта взглядом серо-стальных глаз. — Вы, значит, всю жизнь мечтали служить поверенным в строительной компании? — он улыбнулся, продемонстрировав два ряда безупречно здоровых зубов.
— Нет, сэр, — Барт постарался выглядеть как можно более естественным. — Просто в то время подобная работа наиболее устраивала меня.
— Понимаю, — кивнул Иствуд-старший. — Но мне кажется, что сейчас место поверенного — не совсем то, чего вам хотелось бы, не так ли?
— Возможно, — Барт пожал плечами и вежливо улыбнулся. — Но все дело, наверное, в том, что мой опыт в практической юриспруденции достаточно мал, а способности весьма средние.
— Вы либо ужасный скромняга, либо неплохой дипломат, — сказал отец Дональда. — Я полагаю, что скорее всего верно второе предположение. Все-таки на вашем месте я бы подумал о некотором пересмотре приоритетов. Не думаю, что вас очень интересуют деньги, тем более, в основном, те, что вы зарабатываете для других. Вам нужно заняться делом посерьезнее, Барт. Но у нас с вами еще будет время поговорить об этом.
Он кивнул Барту и отошел.
— Может быть, тебе и стоит послушаться его совета, Барт? — спросил Дональд. — Советы — сейчас его основное занятие, поэтому он дает их вполне профессионально.
— Да? — Барт постарался не выглядеть назойливо — любопытным, поэтому выдерживал тон безразличной вежливости. — А кому он дает советы большую часть времени?
— Губернатору штата Иллинойс, — рассмеялся Дональд. — В губернаторы, как сам понимаешь, не всегда избирают законников. Вот и приходится подсказывать им время от времени, чтобы они, не ровен час, не загремели в уголовную тюрьму, — теперь он расхохотался, но не слишком громко, чтобы не привлекать внимания гостей.
А Барт не верил своим ушам. Советник губернатора обратил на него внимание? Чему же он должен быть обязан — дружбе с его сыном? Дональд не выглядел светским повесой, этаким папенькиным сынком, который, благодаря протекции, через определенные промежутки времени обязательно поднимается на очередную ступеньку служебной лестницы. Тот Дональд, которого он видел на службе, был энергичным, собранным и производил впечатление довольно толкового парня. Да и о своем отце он не распространялся раньше — так, обронил вскользь что-то типа «государственный служащий». Конечно, советник президента Соединенных Штатов тоже относится к государственным служащим.
— Но, если я послушаюсь его совета, — осторожно начал Барт, — то в таком случае мне, насколько я понимаю, надо идти на государственную службу.
— Разумеется, Барт. Ты же не рассчитываешь сделать карьеру у этого прохиндея Уорнингтона? Не думаю, что оскорбляю чувства верноподданного слуги мистера Уорнингтона. Давай называть вещи своими именами. Теперь ты смотришь на него несколько иными глазами, чем вначале работы на его компанию.
Да, правоту Дональда следовало признать. Он работал у Уорнингтона чуть больше года, и первоначальный его энтузиазм несколько поубавился, хотя Барт относил это к обычному привыканию. Работа, как он был убежден, не должна служить источником душевного комфорта. Но к рутине каждодневного служения на благо компании примешивалось и чувство неудовлетворенности. Нет, его достаточно ценили, да и зарабатывал он прилично, но скоро Барт понял: его работа, пусть и достаточно кропотливая, запутанная с виду, все же сводится к выполнению набора довольно примитивных операций. Еще несколько лет занятий такой деятельностью, и он незаметно для себя деградирует.
— Наверное, ты в чем-то прав, Дон, — произнес Барт после некоторого раздумья. — Только одного моего желания мало. Если бы люди сразу получали то, что им нравится, жизнь потеряла бы остроту и вкус, — он обратил все в шутку.
— Тебе надо будет поговорить с мистером Колтрейтом, прокурором района Лейк-Вью, — сказал Дональд. — Ему нужен помощник.
— И он подозревает о моем существовании?
— Представь себе, что подозревает. Ладно, поговорим об этом позже. Тебе надо развлекаться самому, а мне — развлекать гостей. Вон как раз и мэр пожаловал.
Теперь уже Барт ничему не удивлялся. Не удивился он и тому, что в его направлении движется привлекательная девушка в серебристо-зеленом вечернем платье. Открытые плечи и низкий вырез декольте позволили Барту сделать заключение, что девушка скорее плотная, чем пухленькая. Гладко зачесанные темные волосы, темные бархатные глаза, пухлые губы, рубиновые сережки в тон им.
— Мне велели развлекать вас. Дон велел, — вместо приветствия сказала девушка. — Но я вовсе не гетера — если вы, конечно, подумали об этом — я кузина Дональда. Зовут меня Сильвия. А вас, как мне сообщили, Барт?
С женщинами Барт еще не научился вести себя. То есть, он не испытывал особой робости в их присутствии, но они его иногда ставили в тупик своим поведением. Вот и сейчас Сильвия принялась достаточно бесцеремонно рассматривать его. Улыбнуться, пожать плечами, также уставиться на нее в упор?
— Принесите, пожалуйста, что-нибудь выпить, — Сильвия, наконец, перестала испытывать его терпение.
Барт решил, что ей больше понравится шерри, себе он взял виски с содовой.
Сильвия поблагодарила его и поднесла бокал к губам. При этом она опять посмотрела на Барта.
— Послушайте, — не выдержав, рассмеялся он, — ведь вам велено развлекать меня.
— Чем я и занимаюсь, — ответила девушка достаточно спокойно.
— Нет, похоже, это вы ждете, чтобы я развлекал вас.
— Вот это, как раз, и входит в мою программу развлечений. Иначе вы будете откровенно скучать. Поди узнай, что вы больше всего любите. Пить вы не очень любите, насколько я успела заметить.
— Надеюсь, вы не заставите меня сразу же перечислять, чего я еще не люблю, — рассмеялся Барт.
— Не заставлю, — она улыбнулась в ответ. — Вы совсем не похожи на Дона. Все его друзья похожи на него, они такие же шалопаи.
— Вот уж чего не замечал за ним, — попытался протестовать Барт.
— Я знаю его давно, так что уж поверьте мне на слово, — мягко остановила его Сильвия. — В вас чувствуется самостоятельность, присущая человеку, который вынужден постоянно принимать решения, который должен надеяться только на себя.
— Бог мой, сколько нового я узнал о себе, — притворно изумился Барт, не зная, как еще реагировать на этот довольно грубоватый комплимент. — Вы, очевидно, медиум?
— Ах, оставьте вы, — она махнула рукой. — Вы говорите со мной всего пять минут, а уже подозреваете невесть в чем. Вы с Юга, закончили Чикагский университет, теперь работаете на Уорнингтона. Спиритизм не нужен для получения таких сведений. Взгляните вон на того джентльмена в белом костюме, который стоит у цветочной вазы. Это крупный оптовый торговец пшеницей. Его состояние, включая недвижимость, оценивают миллиона в три-четыре. У него крупная коллекция картин, в которых он, правда, ни черта не смыслит, у него куча любовниц, среди которых встречаются и жены весьма влиятельных особ, как, например, миссис Чатауэй — это дама в платье из фиолетового шелка, ей сейчас целует руку Дон. Мистер Чатауэй — член правления Железнодорожной Компании Иллинойса. У вас наверняка должны быть акции ЖКИ. Городского прокурора, мужчину с благородной сединой и гордой осанкой, одетого, несмотря на духоту, в строгий темный костюм, вы, конечно, знаете. Вот он берет сейчас бокал с подноса. Это вообще его слабость — выпивка. Но больше всего он любит власть. Господин прокурор уже во второй раз баллотируется в Конгресс от штата Иллинойс. У него обширные связи в Вашингтоне. Наверное, в этот раз он пройдет. Если вы принесете мне еще выпить, то я продолжу свидетельские показания по делу кого угодно из присутствующих здесь. Только на этот раз возьмите что-нибудь покрепче, желательно бренди.
Сильвия кивнула ему, когда он вернулся:
— Благодарю. Послушайте, а может быть, вас интересуют материалы по моему делу?
— Очень интересуют, — сказал Барт. — Вы меня прямо-таки заинтриговали. Вы, наверное, профессионально занимаетесь собиранием разного рода… сведений?
— Вы хотели сказать — сплетен? Ну, любая женщина является сплетницей по природе, она просто рефлекторно собирает, как вы выразились, сведения. Я же решила, что не стоит подавлять в себе врожденные склонности, и теперь, развивая их, даже могу тешить себя иллюзией относительной финансовой независимости. Я — газетчица, работаю в «Инкуайере». Вы еще не встречали женщин — репортеров? Я вообще-то не собираюсь непосредственным сбором материалов, я скорее, анализирую их. Но пишу я, разумеется, под псевдонимами. Эмансипация женщин в этой передовой стране не достигла еще того уровня, чтобы женщины могли становиться, например, владельцами газет. Владелица аптеки — пожалуйста. После смерти мужа — как правило, прежнего владельца. А уж женщина-губернатор штата — это вообще абсурд, не правда ли?
— Да, — смеясь, покачал головой Барт. — Я вообще-то не задумывался над этим…
— …Но все же, на ваш взгляд, существует множество типично женских профессий: стенографистка, посудомойка, гладильщица белья, продавщица, на худой конец даже рудокоп — вы не знаете, что на угольных копях Колорадо существует и женский труд? — или поэтесса. Вы затосковали, подумав; «Вот ведь как не повезло, Дональд подсунул суфражистку.» Нет, я не участвую в демонстрациях и не собираю подписи.
«Бог мой, — подумал Барт, — а я ведь плохо разбираюсь в людях. Мне казалось, что кроме первого взгляда на человека — да, это сакраментальное: «внешность обманчива» — достаточно еще послушать его минуты две-три, и о нем можно получить достаточно точное представление. А что я подумал о ней в те самые две три минуты? Чувственная самочка, ищущая незатейливых приключений. Особа со склонностью к психопатии — это в следующие две минуты. А теперь я решительно не знаю, что о ней и думать».
— Нет, — сказал Барт, — откровенно говоря, я не затосковал, совсем даже наоборот. Я растерялся, вот что… — Он чувствовал, что на него начинает действовать спиртное, к которому он так никогда, наверное, и не привыкнет. — Не знаю, достаточно ли точно выражусь, когда приведу такое сравнение — чем реже человек отрывает взгляд от кончиков своих туфель и чем меньше он смотрит на горизонт, тем более он утверждается в мысли, что земля — плоская. Я ограничил свою жизнь достаточно узким кругом общения, полагая, что все остальное мне не очень нужно. Но сегодня, я считаю, мне очень повезло в смысле расширения горизонта, — с улыбкой закончил он.
Гости все прибывали, и скоро на лужайке стало тесно. Сильвия называла Барту имена вновь прибывших, сопровождая краткие сообщения о роде занятий и имущественном положении комментариями:
— Мистер Рейнольдс — сталь Чикаго. Ему сорок шесть лет, из которых добрых двадцать он скитался по Колорадо, Монтане и Орегону. Навыки джентльмена с узких горных троп здорово пригодились ему в равнинном Иллинойсе. Впрочем, число таких, как Рейнольдс, в Чикаго уже превысило некий допустимый предел, и, похоже, игра теперь будет вестись по их правилам.
— То есть, вы хотите сказать, что правила эти будут совсем свободными, — предположил Барт.
— Да, я хочу сказать, что правила эти будут заключаться в минимальном наличии каких-либо правил. Вы же знаете, как легко закон отступает там, где вступают в игру корысть и нажива. — Сильвия показалась ему настолько усталой и разочарованной, что Барту захотелось спросить, сколько же ей лет. На вид не старше него, но наверняка больше умудрена практическим опытом. Барт даже почувствовал укол самолюбия.
Небо над ними уже отливало чернильной темнотой, особенно контрастной на фоне электрического зарева. Барт вдруг представил себе, как почти за тысячу миль отсюда существуют его мать, отец, Конни, Билли. Странное дело, но Сильвия при этом воспоминании не показалась ему чужой — значит, он каким-то образом связывал ее с обитателями Тары?
— Сильвия, вы родились в Чикаго? — спросил он.
— Нет, в Спрингфилде. Но в Чикаго я, можно сказать, с младых ногтей. И не могу определенно сказать: к сожалению или к счастью. Вам повезло больше: у вас была смена разнообразных впечатлений.
— Не так-то уж много у меня и было впечатлении.
— Почему же? Для меня, например, Юг — это экзотика. Растения, которых нет здесь, небо, которое там совсем не такое, как здесь, люди…
— Единственное, чего нет здесь, так это растений, с этим я согласен, — усмехнулся Барт. — А все остальное такое же, уверяю вас. Конечно, там существуют некоторый обычаи и привычки… Но я не склонен был их усваивать. Поэтому и отличаюсь умеренным потреблением виски, не очень люблю верховую езду и терпимо отношусь к янки.
— Последнее обстоятельство вселяет в меня надежду, — Сильвия посмотрела на него в упор своими темными глазами, обретшими сейчас бездонную глубину. Барт не мог отвести от нее взгляда — в первое мгновенье из вежливости, потом из-за какого-то непонятного упрямства, а после ему просто не хотелось смотреть куда-либо еще. Он не мог точно сказать, сколько времени продолжался этот безмолвный диалог.
— Послушайте, — начал Барт, и голос его, к его собственному удивлению, звучал несколько сипло. — Мне кажется, что вы блестяще справились со своей задачей. То есть, вы великолепно ухаживали за мной…
— …И теперь я могу удалиться, чтобы вы имели возможность побыть в одиночестве или подыскать себе другое общество, — воспользовалась его секундным замешательством Сильвия.
— Нет, вы решительно суфражистка. Вам бы только покуражиться, — засмеялся Барт. — Совсем даже наоборот. Я хотел перехватить инициативу, хотел всячески ублажать и развлекать вас. Для начала я схожу за выпивкой.
Он так и сделал, стараясь, чтобы решительность и быстрота передвижения оставались в соответствии с правилами приличия.
— Вот, — он подал ей высокий стакан. — Я очень стараюсь для вас. Что я еще могу сделать? Попытаться увезти вас отсюда?
— Можете попытаться, но не сейчас. Ведь не прошло и получаса с момента приема. Это будет выглядеть не совсем прилично.
— Ага, — сделал он кислую мину. — Значит, правила приличия не такая уж и условность для вас.
— Барт, — укоризненно произнесла она. — Ведь это в ваших же интересах. И даже больше, чем в моих. Ну, потерпите немного, — она положила руку на его плечо, и это прикосновение подействовало на него не только умиротворяюще, но и придало ему неведомую доселе уверенность.
Именно в этот момент из толпы гостей выделился Дональд Иствуд и направился в их сторону.
— Барт, ты доволен ею? — весело осведомился он. — Она еще не переагитировала тебя в социалистическую веру? Самые опасные агитаторы — это те, кто обладает несомненным обаянием. Прости, дружище, я забыл тебя предупредить, что моя кузина отличается некоторой оригинальностью, если не сказать эксцентричностью во взглядах на общественное устройство. Сильвия, я заберу на время этого мужественного и обаятельного молодого человека.
Он взял Барта под руку.
— Сейчас как раз появился Колтрейт, прокурор района Лейк-Вью. Думаю, имеет смысл решить все сразу.
Колтрейт оказался коренастым лысым мужчиной среднего роста с пышными светлыми усами. Он крепко пожал руку Барту и сразу же отвел его в сторону.
— Мистер Гамильтон, я думаю, что вы сможете принять решение достаточно быстро. Вот моя визитная карточка. Позвоните по одному из этих телефонов, а еще лучше — появитесь лично по указанному здесь адресу. Вы, кажется, занимались боксом?
— Да, в университете, — Барт решил, что не стоит слишком уж хвалиться успехами на этом поприще.
— В таком случае у нас одинаковые пристрастия. В ваши годы я тоже увлекался благородным искусством кулачного боя. Правда, в те времена бокс еще не получил должного признания. Но в нашем деле боксерские навыки, как вы сами успели убедиться, иногда оказываются очень кстати.
Барт чувствовал, что они с Колтрейтом расстались почти что приятелями. Он подумал, что в этот вечер ему просто неприлично везет. Но он тут же заставил себя смотреть на происходящее в более сдержанном, если не сказать мрачном свете.
«Хорошо, уйду я от Уорнингтона — и кто знает, может, многое потеряю, а здесь ничего не приобрету. Там у меня есть хоть какой-то опыт, навыки, а здесь придется начинать все практически заново. Да и обязанности в отношении Иствудов это налагает немалые. Что, если цена окажется слишком высокой, такой, на какую всего меня не хватит?»
Похоже, что его перспективы и в других отношениях тоже не были такими блестящими: он только что осознал неопределенность своего положения после ухода от Уорнингтона, а тут еще рядом с Сильвией появился мужчина представительной внешности, лет сорока, с кудрявыми светлыми волосами, кудрявой бородой. На нем был синий бархатный костюм, на правой руке, которую мужчина держал на отлете, стряхивая пепел с толстой, как огурец, сигары, поблескивал перстень с драгоценным камнем. Он что-то говорил Сильвии, говорил уверенно, не торопясь, в его осанке, жестах сквозило ощущение спокойного превосходства.
Барт словно бы наткнулся на препятствие. Хорош же он был, разомлев от умиления и развесив уши: «Я попытаюсь увезти вас отсюда.» Как же, станет она уезжать с каким-то ходоком по делам, подвизающимся на третьих ролях, которого ее родственник из странного каприза пригласил на прием. У Барта сразу же выветрились из головы алкогольные пары, он почувствовал опускающуюся сырость, огни большого города вновь обрели четкость, перестав служить декорацией для волшебной сказки. Надо уйти. Всего, что можно было достичь на этом вечере, он достиг. Даже, пожалуй, перехватил через край, особенно в части притязаний и планов. Но как уйти? Надо ли прощаться с Иствудами? Нарушение писаных и неписаных правил и этикетов может иметь те же неприятные последствия, что и нарушение официального закона.
И тут он заметил, что Сильвия смотрит на него. Причем, не только смотрит, но и делает знаки, чтобы он подошел. Ощущая ужасающую двусмысленность своего положения, его глупость, Барт сделал несколько неловких шагов в направлении Сильвии и величественного мужчины и остановился, чуть не дойдя до них.
— Мистер Гамильтон, — голос Сильвии, когда она повысила его, прозвучал очень мелодично, а прежде Барту казалось, что он у нее хрипловатый, низкий. — Мистер Гамильтон, я хочу представить вас мистеру Станишевски. Вот, мистер Станишевски, это очень способный молодой юрист мистер Бартоломью Гамильтон.
— Вы, очевидно, адвокат, — Станишевски медленно протянул ему мясистую ладонь.
— Увы, — Барт изобразил крайнюю степень досадливой озабоченности: надо же, так старался стать адвокатом, чтобы только угодить вам, мистер Станишевски, да вот не вышло! — Увы, совсем наоборот. Я — прокурор. — Барт словно против своей воли произнес последние слова.
— О! — глаза Станишевски даже слегка округлились. — Очень, очень приятно.
Он еще поговорил на общие темы типа удачного устройства вечера и благоприятствующей в этом году погоды для подобных празднеств и отошел. Столь неожиданный оборот прямо-таки изумил Барта.
— Хм, я думал…
— Вы думали, что какой-то медный, стальной или мясной магнат пытается заполучить меня в свое ложе, и не хотели этому мешать из-за врожденной скромности и целомудренного южного воспитания, не так ли? — теперь глаза Сильвии смотрели насмешливо, но все же издевки в ее взгляде не чувствовалось. — Все не так, дорогой мистер Гамильтон.
— Сильвия, я вовсе не думал…
— Думали, нет ли — какая разница.
— Ладно, — он взял себя в руки и даже ощутил легкое раздражение от того, что опять попал впросак. — Значит, я оказался не очень догадливым, признаю. Мистер Канишевски — мукомольный магнат.
— Мистер Канишевски — профессиональный паразит, если вам это интересно. Род его занятий даже для меня представляет загадку. У него очень обширные знакомства и связи. Каким образом добывает средства к существованию? Вероятнее всего, карточной игрой. Здесь он достиг вершин совершенства. В других сферах деятельности его успехи поскромнее. У него неплохая коллекция антиквариата, он считается знатоком. Канишевски учился живописи в Европе, так что здесь он считается тоже авторитетом.
Слушая ее монолог, развенчивающий мистера Канишевски, Барт чувствовал, как его переполняет радостная уверенность в том, что вечер этот закончится великолепно, в том, что завтра жизнь тоже будет благосклонна к нему и подарит ему много волнующего и интересного.
— Значит, теперь, когда мистер Канишевски устранен, я могу осуществить свои дерзкие замыслы по вашему умыканию, — его тон был почти утвердительным.
— Можете, — заговорщицким тоном ответила Сильвия. — Только лучше будет, если мы покинем это празднество поодиночке. Вы подождете меня.
Барт никогда не думал, что его так озаботят условности. Район, в котором расположена его квартира, убранство квартиры — понравится ли все это Сильвии? Первый случай, когда он привозит сюда гостью…
Но все же его волнения оказались напрасными. Всем своим поведением Сильвия дала понять, что она в восторге от проведенного вечера — в особенности от его продолжения на массивной дубовой кровати. Очевидно, Барт думал о такой ситуации, когда ему придется делить ложе с кем-то. Поэтому он и предпочел этот массивный и громоздкий предмет мебели, не прельстившись новомодными стальными изделиями с никелированной спинкой и плетеной сеткой вместо матраца. Конечно, ему пришлось изрядно потратиться, зато теперь он испытывал чувство законной гордости, переданное ему в наследство через сотни или даже тысячи поколений мужчин тем неизвестным предком, что приводил свою подругу в пещеру, устланную шкурами убитых им зверей и освещаемую чадящим факелом. Теперь вместо шкур присутствовало творение неизвестного столяра с высокой резной спинкой, с массивными ножками в форме лап льва, тигра или еще какого-то неведомого хищника, вместо факела присутствовало бронзовое бра с тремя электрическими лампами, а вместо естественного водоема, располагающегося внутри грота, была довольно вместительная ванна.
Правда, Барт не очень высоко ценил свою роль в вечернем спектакле с бурной постельной сценой в финале. Нельзя, конечно, сказать, что он был статистом, но все же инициативу следовало отдать Сильвии. Она знала его не больше часа, она согласилась поехать с ним, она была естественна и мила.
Именно с этой мыслью Барт проснулся, скосив глаза на подушку рядом со своей, где разметались темные густые волосы, полуприкрывшие нежный изгиб скулы и подрагивающую кожу века.
В этот же момент тонкие мягкие пальцы легли на его губы, ласково огладили усы.
— С пробуждением, Барт. Ты великолепен, Барт.
Он молчал, будучи не в силах собраться с мыслями — она, значит, проснулась раньше и наблюдала за ним, полуприкрыв глаза.
— Ты чем-то недоволен, милый? — голос Сильвии со сна звучал хрипловато, как вчера в начале вечера. — Или ты недоволен кем-то?
— Ох, да что ты такое говоришь, — пробормотал он. — Еще бы мне быть недовольным.
— Ну, тебе, возможно, не нравится, что я так быстро соблазнила тебя. В таком случае я должна извиниться, но ты мне очень, о-очень понравился. Да, как только я увидела тебя вчера там, у меня даже мурашки по коже пробежали. Это уже было выше меня, понимаешь? И я сразу попросила Дона познакомить меня с тобой.
Барту почему-то не очень понравилось, что Дональд каким-то образом вовлечен даже в это.
— Нет-нет, — она словно прочитала его мысли. — Дон, скорее всего и не подозревает о… продолжении. Твоя репутация останется все такой же безукоризненной.
— Сильвия, не говори, пожалуйста, такой ерунды. При чем здесь моя репутация? И кому какое дело, в конце концов?..
— Ладно, если не хочешь, не будем об этом. Однако, нам пора уже подниматься. Тебе уже, очевидно, надо поторапливаться к своему Уорнингтону…
— К черту Уорнингтона! — прорычал Барт.
— …А я наверняка буду привлекать внимание энергичных и деловитых горожан, которые, спеша по утрам делать деньги, вдруг увидят подгулявшую дамочку в вечернем туалете. И, поскольку у тебя не существует специального халата для посетительниц, придется тебе отвернуться, так как я не могу шествовать в ванную в том же платье для коктейля.
Он не отвернулся, проводив восхищенным взглядом эту воплощенную Венеру с картины Веласкеса: точно такая же линия спины, такие же плечи, такой же изгиб бедра, как у женщины, глядящей в подставленное амуром зеркало.
4
Барт начал работать помощником Колтрейта, уйдя в это занятие целиком, как он привык делать, так как относился к любому профессиональному занятию очень серьезно. Меньше всего ему нравилась перспектива, когда Колтрейт намекнет Иствудам, что их подопечный оказался не на должной высоте.
Сильвия, навещавшая его теперь два-три раза в неделю, отнеслась к рвению Барта весьма критически:
— Милый, если уж ты решил сделать карьеру, тебе не стоит так много работать. Да-да, тянущий воз никогда не станет погонщиком. Это же банальная истина.
Он должен был признаться себе в том, что Сильвия являлась для него авторитетом в очень многих вещах, к ее советам Барт не просто прислушивался, он глубоко обдумывал их, поражаясь их своевременности и состоятельности. И в то же время его самолюбие глубоко задевал тот факт, что женщина всего на два года старше его обладает таким обширным житейским опытом и наделена столь практичным умом.
— Тебе иногда не нравится то, что я говорю, — она словно читала его мысли, — но ты всегда убеждаешься в моей правоте по прошествии времени.
Так оно почти всегда и выходило. Иногда Барт пробовал противиться. Так было в случае с делом Клейтона, уличенного в подкупе районных чиновников с целью добиться разрешения в прокладке трубопровода.
— Дорогой, Клейтон тебе не по зубам, — озадаченно сказала Сильвия, как всегда, узнав о случившемся от него.
— Что значит не по зубам? — возмутился Барт. — Мало того, что он, не спросившись, влез в пределы частных землевладений, так он еще и будет брать воду из городского водопровода, практически бесплатно будет ею пользоваться — не считая, конечно, его расходов на взятки. Я не знаю, как он вообще получил разрешение на строительство пивоваренного завода в таком месте, хорошо еще, что это не кожевенный завод и не металлургическое производство. Ладно, это было до меня…
— Вот именно, — прервала его Сильвия. — Колтрейт каким-то образом закрыл на это глаза, зачем же тебе сейчас реагировать на гораздо меньшее зло? Завод-то, считай, уже полностью построен. Для производства пива, насколько я понимаю, нужна вода, так что Клейтон просто вынужден был пойти на этот шаг — дать взятку.
— Клейтон обязан был поступить совсем иначе. Он должен был получить разрешение районного управления или даже муниципалитета на прокладку трубопровода в том месте, где ему указали бы. Он должен был проложить этот трубопровод за собственные деньги. Но он поступил совсем по-бандитски, забрав воду у целого квартала и подрыв фундаменты частных строений.
— Хорошо, — Сильвия была бесконечно терпелива. — Как отреагировал на твое сообщение Колтрейт? Он одобрил объявление тобой войны Клейтону? Ах, он оставил все на твое усмотрение? Тоже неплохая тактика: в случае, если ты дожмешь Клейтона, лавры победителя достанутся ему, а в противном случае он во всем обвинит тебя.
— Боже мой, Сильвия, — схватился за голову Барт, — почему ты еще до сих пор не занимаешь место Иствуда-старшего?
— Дорогой мой, я тебе тысячу раз уже говорила: это общество, даже наше, кичащееся своей ужасной прогрессивностью — косно, консервативно, инертно, — очень спокойно, скучающим тоном объяснила она.
— Но у тебя есть выход, Сильвия, — произнес Барт с нарочитыми интонациями дешевого трагизма. — А именно: стать первой леди. Или на худой конец женой губернатора штата.
— Что же, — очень серьезно сказала она. — Это было бы весьма рациональное решение. Я могла бы подождать, пока ты подрастешь до чего-то, приблизительно равного по уровню, а потом подождать еще немного, пока ты сделаешь мне предложение.
— Вот как? А ты не могла бы уменьшить срок ожидания на величину второго, заключительного этапа? Выйти за меня замуж уже сейчас и дожидаться моего восхождения?
Она положила свою изящную руку с длинными гибкими пальцами на руку Барта, широкую, мощную, с грубыми, слегка узловатыми суставами.
— Барт, я восприняла это предложение как сделанное в шутку. Иначе ты был бы огорчен — наверное, я на это даже надеюсь — в глубине души официальным отказом. Как мужчина ты просто великолепен, Барт. Я без ума от тебя, честное слово. Но унылое, тусклое существование — это ужасно, Барт. Я уж не говорю про существование в бедности. У нас есть еще время, нам с тобой нет и тридцати.
— Господи Иисусе! — Барт опять настроился на ернический лад. — И это говорит прогрессивно мыслящая женщина, зараженная — даже страшно сказать — социалистическими идеями.
— Разве прогресс заключается в увеличении числа бедных и обездоленных? — Сильвия была предельно серьезна. — Социалистические идеи, если на то пошло — просто чушь собачья. В обществе всегда должна быть элита и должны быть аутсайдеры. Это и есть необходимое для нормальной жизни общества динамическое равновесие. Конечно, очень плохо, когда успеха стараются достичь, играя не по правилам, но так уж, наверное, положено, чтобы правила игнорировались в определенные периоды.
— Послушай, по-моему, ты противоречишь сама себе. В тот вечер, когда мы с тобой познакомились, ты, как мне кажется, осуждала игру без правил, — приводя в пример стального короля Рейнольдса.
— Да? — спросила она, как бы припоминая что-то. — У тебя хорошая память. Ты вообще чертовски неглупый парень, Барт Гамильтон. Но, во-первых, тебе действительно показалось, что я осуждаю игру без правил — я просто констатировала факт, что такая игра ведется, вот и все. Осуждать не зависящий от тебя порядок вещей — все равно, что осуждать погоду. Во-вторых, я все-таки женщина, мне свойственно непостоянство.
«Вот ведь положение, — сокрушался Барт. — Мне же такие женщины вроде бы никогда не нравились — до предела прагматичные, приземленные. Что у меня в ней вызывает самое большое раздражение, так это ее постоянная правота. И еще цинизм. Я могу порвать с ней в любой момент, но вся загвоздка в том, что я не хочу этого делать».
И действительно, инициатива их встреч теперь исходила только от Барта. Он звонил Сильвии, и она появлялась, исключения случались только по независящим от нее причинам. Однако когда он однажды опять полушутя повторил свое предложение, Сильвия сказала:
— Барт, я всегда буду твоей любовницей — во всяком случае, до тех пор, пока ты будешь хотеть меня. Захочешь ты одновременно иметь еще дюжину подружек или одну законную супругу — это твое дело. Свое отношение к раннему браку я уже объяснила и не хочу возвращаться к этой теме.
Ранний брак! Ведь ей уже двадцать шесть лет. Мать и отец Барта поженились, когда им было, соответственно, девятнадцать и восемнадцать лет. Его бабка вообще вышла замуж в шестнадцать, бабка Скарлетт. Другая бабка приняла на себя семейные заботы ненамного позже. Ладно, бабушка Рут не в счет, та ни в чем не отступала от обычаев и традиций. Но бабушка Скарлетт! Своенравная и напористая. Трое детей от троих мужей, из которых его отец был, пожалуй, самым нелюбимым. Хм, вот тут, пожалуй и загадка. Его бабушка Скарлетт и его дед Чарлз, наверняка составляли неравную пару. Барт слышал от Гамильтонов, у которых он жил в Атланте, рассказы о своем деде. Увы, Барт должен был признаться себе в том, что характер его содержит некоторые черты характера деда Чарлза. Даже внешне он был похож на него, если старый дагерротип не врет.
Но при всем своем прагматизме Сильвия обнаруживала склонность к занятиям, которые не могли бы принести какой-либо осязаемой пользы. Однажды они с Бартом гуляли по берегу озера. Внимание Сильвии привлек художник, расположившийся со своим мольбертом почти у самой кромки воды.
— Когда-то я тоже мечтала стать художницей, — сказала она.
— Вот как? — удивился Барт. — И что же тебе помешало? Скорее всего, ты слишком рано поняла, что любого художника, будь то живописец или литератор, ожидает одна участь — прозябать в нищете.
— Ничего подобного. Я поняла, что не обладаю достаточным талантом для серьезного занятия живописью. То, что я делаю время от времени сейчас, конечно, нельзя назвать художественными работами в полном смысле этого слова.
Барт попросил показать свои картины и удивился:
— Послушай, ты слишком строго судишь себя. Я-то всегда считал, что ты одержима манией критицизма только по отношению к другим. Я, конечно, не слишком большой знаток живописи, но, как мне кажется, все эти вещи заслуживают быть выставленными.
— Ну что ты, я сгорю со стыда, выставив их.
— Но ведь очень многие картины, которые я встречал в домах своих знакомых или в галереях, похуже твоих.
— Тебе показалось, — со вздохом сказала Сильвия. — Понимаешь, в моей мазне нет главного — собственной мысли. Это все компиляция. Подметила у одного мастера, запомнила, как сделал другой, срисовала у третьего.
— Мне так не кажется. В любом случае они сделаны на достаточно профессиональном уровне.
— Возможно. Но главное не это. Любой мало-мальски развитый человек может научиться таким вещам.
— Не скажи. Вот я, например, и за десять лет не выучусь рисовать так, как рисуешь ты. А я к мало-мальски развитым людям имею наглость себя причислять.
— Ты года за два выучишься писать на таком же уровне.
— Ну что ты, Сильвия. Не хочешь же ты сказать, что все люди, без исключения, обладают одинаковыми способностями.
— Нет, разумеется. Но многие и не подозревают, какими способностями они обладают. Найти свое призвание значит уже более чем наполовину стать счастливым.
— Сильвия, в твоем случае с этим все нормально. Я считаю, что эти картины следует выставлять. Мне, например, они очень нравятся.
— Это все от того, что ты не беспристрастно относишься ко мне, — Сильвия поцеловала его.
— Ладно, не хочешь выставляться, попробуй продать их. Я бы сам мог этим заняться — их продажей, но, боюсь, у меня нет способностей торгового агента.
— Даже если их и удастся продать, много ли за них выручишь? — покачала она головой. — Не это главное.
— А что же главное? Ведь ты тратила на их создание время и душевные силы.
— Я получала удовольствие, мне нравится писать пейзажи и натюрморты.
— Ни в чем я тебя не могу убедить, — Барт расстроился. — Это все потому, что ты умнее и самостоятельнее меня. Ты даешь мне советы, к которым я прислушиваюсь, а потом обнаруживается, что я поступил правильно. Я оставил в покое прохвоста Клейтона, и он каким-то образом смог умаслить всех, кому он перешел дорогу.
— Ты смог бы принять решение оставить Клейтона в покое и без моего совета. Просто ты подумал бы чуть дольше и пришел бы к такому же выводу.
— А вот теперь уже ты даешь мне повод уличить тебя в пристрастном ко мне отношении, — рассмеялся Барт.
— Так ведь я особо и не скрываю своего отношения к тебе.
И это было правдой. Сильвия бывала с ним на людях, причем не только в ресторанах и театрах, но также и на приемах, званых обедах, ужинах и тому подобных торжествах, где достаточно много знакомых могли видеть их вместе. Дональд Иствуд сказал Барту при встрече:
— Видишь, как здорово, старина. Я и не подозревал, что во мне дремал талант великого сводника. Еще я должен сказать, что вкус у тебя неплохой.
— От меня мало что зависело, — кисло улыбнулся Барт. — Выбор-то сделала она. И она же в любой момент может расстаться со мной.
— Ну нет, тут ты не прав. Ведь я знаю ее родителей. Они живут в Спрингфилде. Сильвия даже внешне похожа на свою мать, а та прожила с мужем вот уже тридцать лет почти, и, говорят, у них не случалось ни скандалов, ни измен. Спрингфилд — не Чикаго, там все на виду, а люди, как все обитатели провинции, обожают копаться в грязном белье соседа. То есть, если бы у родителей Сильвии случались просто мелкие неурядицы, то сплетники имели бы повод говорить о драках в семье, — со смехом закончил Дональд.
Пожалуй, так оно и было. И то, что родители Сильвии находились на виду у всех больше, чем любая другая известная семья в Спрингфилде, объяснялось профессией отца, врача-терапевта.
5
— Послушайте, Барт, если мы не прижмем хвост этому сукиному сыну Бергсону, то деньги законопослушных граждан, идущих на наше содержание, можно считать выброшенными на ветер, — Колтрейт, вызвавший его для беседы, выглядел озабоченным и хмурым, даже лысина его сияла как-то тускло.
Сукин сын Бергсон, чьи родители переехали в Чикаго из Швеции, представлял из себя относительно новое для правоохранительных органов явление. Начинал он мелким воришкой и хулиганом, за что получал небольшие сроки заключения в исправительных тюрьмах штата Иллинойс. Потом Бергсон решил прекратить практику мордобоя и примитивного воровства. Зачем рисковать, тратить много сил для достижения непредсказуемого результата, если можно установить твердую сумму налога, которую жертвы регулярно будут поставлять в сроки, им же, Бергсоном, установленные.
Все оказалось не так-то просто осуществимым на практике. Свою карьеру вымогателя Бергсон начал со стычек со столь же сообразительными коллегами, уже «застолбившими» участки. Да и мелкие лавочники, с которых громила пытался требовать дань, обнаружили удивительную неуступчивость, доходящую до открытого сопротивления: Бергсон был даже ранен, правда, легко. Тут-то он и попал в поле зрения полиции, уже в новом амплуа. Привлеченный к суду за вымогательство, Бергсон был отпущен под залог за недоказанностью состава преступления. В последний момент свидетели вдруг изменили свои показания. Для Колтрейта, следившего тогда за делом Бергсона, этот факт означал одно: бывший хулиган успешно освоил новую преступную специальность. Рэкет не занимал в то время много места в полицейских сводках, но не замечать его прогресса значило бы прятать голову в песок. То, что от жертв вымогательства теперь почти не поступало жалоб, значило только одно — они были запуганы, находясь в полной зависимости от таких, как Бергсон. Следовательно, полиция была уже повязана с преступниками, имея отчисления от «выколоченных» сумм. Порочный круг замкнулся, в него уже почти не имела доступа прокуратура.
— У меня есть сведения, — сказал Колтрейт, — что последним сдался Стивенсон, владелец обувного магазина. С месяц назад в магазине случился последний погром, с тех пор установилась тишина.
— И это не может означать, что Бергсон от него отвязался, — вставил Барт.
— Верно, не может, — кивнул Колтрейт. — Этот тип уже набрал силу, во-первых. А во-вторых, неподчинение Стивенсона подало бы дурной пример для остальных плательщиков дани. Вам надо встретиться со Стивенсоном, Барт. Возможно, он еще не полностью смирился с необходимостью отваливать часть прибыли крутым ребятам. Если у нас будут только его показания, мы сможем открыть дело на Бергсона, и тут уж я своего шанса не упущу — он получит максимальный срок. Можете встретиться со Стивенсоном в его магазине, можете где-нибудь на нейтральной территории, но вызывать его в прокуратуру нежелательно.
Барт понимающе кивнул.
Он воспользовался своим правом рядового покупателя, чтобы попасть к Стивенсону, предварительно позвонив ему и попросив не отлучаться в указанное время.
Перемерив с помощью продавца в торговом зале несколько пар обуви, Барт так и не нашел подходящих ботинок.
— Очень жаль, — улыбнулся он. — У меня просто такой высокий подъем, что подбирать обувь — сплошное мученье. А не могу ли я поговорить с владельцем магазина? Он здесь?
— Мистер Стивенсон? Да, конечно.
Разумеется, продавец мог быть как-то связан с вымогателями. Еще он мог знать в лицо Бартоломью Гамильтона, помощника районного прокурора. Но Барт решил, что вероятность сочетания двух таких фактов достаточно мала.
— Мистер Стивенсон, — начал без обиняков Барт, появившись в кабинете владельца магазина. — Раз уж вы согласились встретиться со мной, я рассчитываю на вашу помощь.
— О какой помощи может идти речь? — осторожно осведомился худой, несколько сгорбленный человек лет пятидесяти с небольшим, с серебристой щеточкой усов под унылым вислым носом.
— О помощи в восстановлении порядка в пригороде Лейк-Вью, если выражаться официальным языком. Но я прибыл к вам полуофициально. То есть, — он махнул рукой в сторону запертой входной двери, — для продавцов и посетителей вашего заведения я — всего лишь клиент, озабоченный подбором обуви на свои не слишком стандартные ноги. А для вас я лицо официальное, обладающее необходимыми полномочиями для того, чтобы защитить вас.
— Защитить от кого, простите? — Стивенсон выглядел непроницаемым.
— От людей, занимающихся поборами, — прямо сказал Барт. — Конечно, вы могли уже разувериться в том, что закон в состоянии оказать вам какую-либо помощь, и все же нам предоставляется шанс для выигрыша.
— Нам? Шанс? — глаза Стивенсона, похожие на глаза больной птицы, выражали слишком нарочитое непонимание для того, чтобы Барт поверил ему.
— Да, именно: нам с вами. Вы ведь платите людям Бергсона сравнительно недавно. И вы, как мне кажется, не совсем смирились с установившимся положением.
Теперь уже Стивенсон молчал, и Барт счел его молчание благоприятным признаком.
— Я предлагаю вам сообщить мне время и место очередной передачи денег вымогателям. Все остальное будет просто делом техники, можете на меня положиться.
Он посмотрел на Стивенсона в упор.
— Хорошо, — заговорил владелец магазина. — Допустим чисто теоретически, что все обстоит именно так, как вы говорите. Допустим, что я кому-то плачу. Допустим, что вам удастся поймать кого-то во время передачи этих воображаемых денег. Вы что же, полагаете, что это будет крупная рыба? Вы считаете, что, обломав мелкую ветку, можно уничтожить дерево? Нет, мистер Гамильтон, в следующий раз мне уже установят более высокий размер платежей, если, конечно, не последуют иные неприятности.
Барт выслушал его, не перебивая.
— Мистер Стивенсон, ведь я же не зря сказал, что все остальное будет делом техники. Нашей техники. Поверьте, у нас есть полная возможность проследить прохождение денег по всей цепочке, или, как вы выражаетесь, от веточек к стволу дерева. Мы сможем подрубить этот ствол, уверяю вас.
Стивенсон с сомнением покачал головой:
— Если бы все обстояло так, как вы утверждаете, не существовало бы вообще никакой преступности. Даже воображаемой, — он улыбнулся невеселой улыбкой. — Болезнь зашла слишком далеко. Вы не можете поручиться за то, что ею не поражена уже и значительная часть вашего аппарата.
— Не могу, — согласился Барт. — Более того, мне доподлинно известно, что некоторые полицейские находятся в сговоре с вымогателями. Я не идеалист, мистер Стивенсон, и пусть вас не вводит в заблуждение моя относительная молодость. Мы тщательно взвесили все шансы, мы разработали самый подробный план операции. Срывы практически исключены. Давайте, рискнем вместе, мистер Стивенсон. Давайте допустим, — он улыбнулся, — что в один прекрасный день некто придет к вам, и вы передадите ему несколько меченых банкнот. Сам факт передачи денег мы, опять же допустим, зафиксируем. А потом мы зафиксируем факт получения их Бергсоном либо факт передачи денег на его счет — такой вариант мы тоже учли.
Стивенсон опять задумался.
— Я понимаю ваше положение, — сказал Барт. — Взвесьте основательно все то, что я вам говорил, и примите правильное решение. Вот мой телефон. Вы всегда можете застать меня от девяти утра до шести вечера.
Стивенсон позвонил ему уже на следующее утро. Он должен был передать семьдесят пять долларов какому-то типу, которого он знал только в лицо. Барт попросил описать его подробнее. Потом рассказал о приметах Колтрейту.
— Красавчик Донован, — почти уверенно заявил Колтрейт. — Что же, наши предположения оказались верными, это и в самом деле человек Бергсона.
Когда этот высокий мужчина с красивым лицом, которое немного портил белый хрупкий шрам, протянувшийся от скулы к подбородку, вышел из магазина Стивенсона, его тут же схватили под руки два агента уголовной полиции. Красавчик Донован не стал сопротивляться и был препровожден в автомобиль, привезший его в прокуратуру.
— Привет, Донован, — помахал рукой Колтрейт. — Хочешь, я угадаю, что у тебя в кармане? Так вот, в кармане у тебя конверт, в котором находятся семьдесят пять долларов с такими номерами. — Он подсунул Доновану листок с колонкой цифр. — В этот раз тебе не удастся отвертеться, Донован. Ты привык, что с тобой играют по правилам, поэтому у тебя на всякий случай припасена отговорка — как, например, сейчас, когда ты собираешься заявить, будто тебе подсунули эти бумажки. Не выйдет, Донован. Вот свидетельские показания, — он поднял со стола несколько листков и помахал ими в воздухе. — А пока ты будешь требовать адвоката, тебя успеют пристрелить при попытке к бегству.
— Как я погляжу, у вас тут все заготовлено, босс, — криво ухмыльнулся Красавчик Донован.
— Да ведь нам с вами иначе и нельзя. Итак, выбор у тебя небогатый: пуля в затылок за попытку к бегству в худшем случае, а чуть получше будет срок за вымогательство с применением насилия, незаконное ношение оружия и сопротивление полиции при задержании. Этот револьвер был у тебя изъят при аресте, и ты успел произвести из него три выстрела прежде, чем тебя скрутили. Вот заключение. Не скалься, сынок, никакой адвокат тебе не поможет. Но у тебя есть еще третий выход. — Колтрейт побарабанил короткими пальцами по крышке стола. — Ты сообщаешь нам, где и при каких обстоятельствах ты должен отдать эти деньги своему боссу. В этом случае срок будет гораздо меньше. Тебе просто будет вменено пособничество в вымогательстве — Бергсон велел тебе пойти и взять какие — то деньги. Ты мог и не знать, что это за деньги, поэтому скорее всего ты отделаешься условным сроком. А потом мы дадим тебе возможность быстро покинуть Чикаго.
— Складно у вас все получается, босс, — Красавчик Донован покачал головой. — Все-то вы за меня расписали, все учли. Только я, наверное, предпочту срок — это в том случае, если вам удастся доказать мою вину.
— Удастся, еще и как. Это я тебе заявляю при своем помощнике, мистере Гамильтоне.
Они находились в кабинете Колтрейта втроем.
— Только срок меня не очень устраивает, — продолжил Колтрейт. — Скорее всего будет пуля в затылок. А пока мы тебя вразумим, сукин ты сын. Мистер Гамильтон, вы не забыли еще левый боковой? Сдвиньте-ка немного печень этого субъекта влево. Ну-ну, не смущайтесь, — подбодрил он удивленного Барта.
Красавчик Донован немного привстал, собираясь ему что-то возразить, и в этот момент Барт нанес ему мощный удар — как раз в то место, куда велел Колтрейт. Красивое лицо Донована посерело, он кулем рухнул на стул.
— Так-то оно лучше, — удовлетворенно сказал Колтрейт. — Хорошенькая взбучка приносит куда больше пользы, чем цитирование статей кодекса. С этими мерзавцами по-другому и нельзя. Ты по-прежнему еще хочешь адвоката, ублюдок? — обратился он к Доновану.
Тот отрицательно помотал головой.
Барт еще не видел Колтрейта таким, и сам он не оказывался еще в подобных ситуациях. Но он предполагал существование и такой реальности. Наверное, Колтрейт прав, отходя от установленных законом норм задержания и допроса. Красавчик Донован, кажется, понял, что выбор у него и в самом деле не слишком богатый.
— Хорошо, босс, — обратился он к Колтрейту, — но вы точно гарантируете мне беспрепятственный выезд из Чикаго, если я соглашусь работать на вас?
— Точно, — кивнул Колтрейт. — Теперь ты скажешь, где и при каких обстоятельствах ты должен передать деньги своему боссу.
— Я должен сейчас позвонить ему домой и прийти к нему.
— Вот как, у этого сукиного сына дома уже установлен телефон, — хмыкнул Колтрейт. — Да, поди побегай за этими бандитами, если они снабжены всем необходимым. У него же и автомобиль есть, вот что самое занятное. Ладно, делать нечего, Красавчик, звони.
Он указал на аппарат, стоявший на тумбе, а сам снял трубку другого аппарата, стоявшего на столе.
— Хэлло, босс, — начал Красавчик Донован, когда его соединили с собеседником на другом конце провода. — У меня все в порядке с нашим другом. Да, без задержки. Откуда я звоню? Из … бара, что на углу, недалеко от заведения нашего друга. Нет, босс, как прикажете.
Тут Колтрейт сделал ему знак, и Красавчик Донован положил трубку.
Колтрейт нажал кнопку звонка, и в кабинете появился один из агентов, что брали Донована.
— Возьмите еще Барнетта и Лефлера, — распорядился он. — Его, — Колтрейт указал на Красавчика Донована, — посадите с собой. Проследите, чтобы он не выкинул какой-нибудь фортель. Пошли, — это уже относилось к Барту, — и прихватите с собой оружие.
Сам Колтрейт раскрыл ящик стола, вынул из него внушительный «кольт» тридцать восьмого калибра, выбросил барабан, крутнул его, проверяя наличие патронов, снова защелкнул.
Они все вышли. Во дворе к ним присоединились Барнетт и Лефлер, севшие в один автомобиль с Колтрейтом и Бартом. Агенты посадили в другой автомобиль Красавчика Донована и выехали первыми. Барт понимал, что они вмешиваются в работу полиции участка Лейк-Вью, более того, они подменяют полицию полностью, нарушая при этом установленное законодательство. Как бы в ответ на размышления Барта Колтрейт сказал:
— Поступать надо нетривиально, иначе за этим сукиным сыном Бергсоном нам пришлось бы бегать до конца века. Лично мне такая перспектива не светит.
Бергсон жил неподалеку от набережной, на тенистой улочке. Не доезжая ярдов ста пятидесяти до его особняка, автомобиль, шедший первым, остановился. Один из агентов, выбравшийся из него, сказал подоспевшему Колтрейту:
— Это вон там, шеф, — и указал рукой на въезд в особняк.
— Ага, — проворчал Колтрейт. — К нему незамеченным не подберешься.
Барнетт и Лефлер сели в автомобиль и, развернувшись, отъехали.
— Ты, Красавчик, сейчас пойдешь к нему и передашь деньги, словно ничего не случилось. Смотри, не вздумай сотворить какую-то глупость. Иначе она будет последней в твоей жизни, это я тебе гарантирую.
Барт понимал, что Колтрейт не шутит. Можно было сказать, что сейчас он поставил на карту свою карьеру и пошел ва-банк.
— Как только он войдет в дом, — обратился Колтрейт к двоим агентам, — сразу же бегите и занимайте места с боков дома. Мы с мистером Гамильтоном последуем за вами.
Он выждал некоторое время и скомандовал Красавчику Доновану:
— Пошел!
Барт наблюдал за тем, как удалялся Донован, в своем шикарном, но изрядно измятом костюме, в шляпе, сдвинутой на затылок, как на его спину и плечи падает тень каштановой листвы. Его охватило ощущение нереальности всего происходящего. Почему-то Барту казалось, что Красавчик Донован не дойдет до двери особняка — он либо сбежит по пути, либо просто испарится, исчезнет.
— Так, все нормально, — произнес Колтрейт, и Барт подивился его способности ощущать момент. Именно эти слова подсознательно он ожидал более всего сейчас, да и агенты тоже наверняка думали о том же.
Красавчик Донован нажал на невидимый звонок у калитки, отпер ее, прошел по газону, прикоснулся рукой к притолоке входной двери и через несколько секунд скрылся внутри дома.
— Вперед! — скомандовал Колтрейт агентам. Те с места рванули бегом, в несколько секунд достигли калитки, пробежали по газону и промчались дальше, занимая места по обеим сторонам от дома.
Колтрейт, держа руку в правом кармане пиджака, заспешил следом за агентами. Он сделал Барту знак рукой, приказывая тому держаться сзади, а не рядом. Уже находясь в нескольких футах от двери дома, Барт заметил за противоположным его углом Лефлера, державшего в обеих руках поднятый вверх стволом револьвер.
Колтрейт поднялся на крыльцо и быстро нажал на кнопку звонка. Никто не открывал.
— Хартмэн! — скомандовал Колтрейт невидимому агенту. Зазвенело стекло разбитого окна. Через десяток секунд дверь дома распахнулась, ее открыл Хартмэн. Колтрейт, выхватив револьвер и держа его перед собой, ворвался в дом.
Первое, что увидел Барт, вбежав следом за Колтрейтом, это Красавчика Донована и еще двух мужчин, стоявших с поднятыми руками. Другой агент держал их под прицелом своего револьвера.
— Хартмэн, обыщите их, — распорядился Колтрейт.
Агент быстро обыскал сначала Красавчика Донована, вынув из его кармана револьвер, разряженный еще в прокуратуре, потом — мужчину с белесыми волосами и такими же бровями.
— Мистер Колтрейт, это нарушение неприкосновенности жилища, — спокойно заметил белобрысый.
— А это — незаконное хранение оружия, — парировал Колтрейт, принимая у агента отнятый у белобрысого револьвер. — И еще кое-что посерьезнее, — прибавил он с удовлетворением, беря конверт, который Красавчик Донован недавно передал адресату.
— Этот джентльмен, разумеется, друг дома? — насмешливо спросил Колтрейт, кивнув в сторону другого мужчины. — А у него пушка для чего? Пистолеро[6] Гусман! Сплоховал ты нынче, амиго, что и говорить. На тебя плохо действует северный климат, твоя горячая мексиканская кровь, даже наполовину разбавленная текилой[7] все же не циркулирует здесь, как надо.
Мужчина — низкорослый, но широкоплечий, со смуглым цветом лица и густыми черными бакенбардами — угрюмо молчал, его налитые кровью глаза могли выражать что угодно: злобу, ярость, тупое недоумение, и хотя выражали они эти чувства как-то особенно, не как у других людей, за одно мог поручиться Барт: пистолеро Гусман не питал дружеских чувств ни к нему, ни к агентам, ни к Колтрейту.
— О’кей, Бергсон, — естественно, это был тот самый Бергсон, — тебе, значит, требуется документ, по которому мы можем нарушить неприкосновенность твоего жилища? Вот этот документ. — Колтрейт вынул левой рукой из кармана пиджака сложенную вдвое бумажку и помахал ее перед лицом Бергсона. — Постановление прокурора участка Лейк-Вью на проведение обыска у тебя. Мое, то есть, постановление.
— Не могу понять, чем же я обязан столь высокой чести — такой высокий чин вдруг навещает меня в моем скромном доме, — кривя губы в презрительной усмешке, произнес Бергсон.
— Это еще что. Вот сейчас здесь появится твой добрый знакомый, лейтенант Холтон. Я решил преподнести сюрприз — ему и тебе. С твоего позволения я воспользуюсь телефоном, — Колтрейт подошел к аппарату и попросил соединить его с полицейским управлением.
— Срочно разыщите Холтона, — распорядился он. — Да, это Колтрейт.
Потекли напряженные секунды ожидания. Колтрейт угрюмо смотрел на Бергсона и Гусмана, по-прежнему стоявших с поднятыми руками. Наконец, Холтон отыскался.
— Холтон, — приказал Колтрейт. — Срочно берите четверых полицейских и появляйтесь в доме нашего общего знакомого, мистера Бергсона. Как, вы не знаете его адреса? Ну, старина, вам следует всерьез побеспокоиться о своей памяти.
Он назвал адрес, и Барт понял, почему прокурору понадобился именно Холтон — очевидно, что-то связывало лейтенанта с Бергсоном.
Наконец, Колтрейт велел Гусману, Бергсону и Красавчику Доновану опустить руки и сесть. Красавчик Донован расположился почему-то рядом с Гусманом, который теперь находился между ним и Бергсоном.
Лейтенант Холтон не заставил себя долго ждать. Минут через пять послышался шум автомобильных моторов, потом торопливые шаги у входа в дом, и в дверь вошел мужчина лет тридцати, тучный для своего возраста, с маленькими холеными усиками на бледноватом отечном лице. Он был в форме, как и четверо сопровождавших его полицейских.
— Холтон, — обратился Колтрейт к лейтенанту. — Арестуйте этих троих. По подозрению в вымогательстве и незаконном хранении оружия. Можете обыскать их, лишний раз не помешает.
Люди Холтона обыскали троицу и надели на всех наручники.
— Теперь слушайте меня внимательно, Холтон, — сказал Колтрейт. — Мистер Бергсон поедет в одной машине с нами. А тех двоих вы побыстрее доставите в управление и разместите их в разных камерах. В одиночных камерах. Постарайтесь подыскать помещения.
— Да, сэр, — ответил Холтон, хотя Колтрейт не был его непосредственным начальником.
Подождав, пока Гусмана и Красавчика Донована выведут, Колтрейт обратился к Бергсону.
— Уж теперь-то вы можете быть довольны, мистер Бергсон: вас арестовали с соблюдением всех необходимых формальностей. Пришел лейтенант Холтон со своими людьми, предъявил вам постановление на обыск, изъял у вас оружие. В рапорте он, очевидно, отметит, что вы не оказали сопротивление при задержании. Ведь вы вели себя хорошо? — участливо осведомился он.
— Не трудитесь, мистер Колтрейт, не объясняйте, я свои права знаю, — спокойно ответил Бергсон.
— Разумеется, разумеется, — поспешно, как бы даже извиняющимся тоном, согласился Колтрейт. Барт не мог не отметить, что свое перевоплощение прокурор сыграл очень убедительно. — Вам будет предоставлен адвокат по первому вашему требованию.
— Я должен позвонить ему сейчас, — заявил Бергсон.
— Сейчас? — приподнял бровь Колтрейт. — Боюсь, это невозможно. У вас что-то с аппаратом. Очевидно, придется вызвать механика, чтобы он проверил В управлении аппараты получше, вы с большим успехом можете вызвать своего адвоката туда.
— Я должен позвонить ему сейчас, — повторил Бергсон.
— Это произойдет не позже, чем через десять минут, — Колтрейт решительно подтолкнул Бергсона в спину. — Такая смехотворная задержка мало что решает.
— Ладно, — сказал Бергсон. — Мой адвокат передаст вам мой протест.
— Да-да, разумеется, мистер Бергсон, — ворковал Колтрейт, чьи физические действия совсем не соответствовали тону его обращения — он просто выталкивал Бергсона взашей.
— Я подчиняюсь насилию, — заявил Бергсон, выходя из дома.
— Ну, мистер Бергсон, вам-то лучше знать, что такое насилие.
Доставив задержанного в управление полиции, Колтрейт вызвал дежурного офицера и распорядился запереть Бергсона в отдельное помещение, так и не дав ему возможности связаться с адвокатом.
— Чем дольше его сообщники не будут знать об аресте, тем лучше, — подмигнул он Барту. — Вот, мистер Гамильтон, очень даже возможно, что мы дожмем этого сукиного сына. Послушайте, — обратился он к проходившему мимо полисмену, — вы не могли бы подсказать мне, где сейчас находится лейтенант Холтон?
— У себя в кабинете, сэр.
— Отлично. Идемте, Барт.
Войдя в кабинет к Холтону, Колтрейт попросил у него протокол задержания, который лейтенант как раз печатал на машинке.
— Обязательно отметьте, что задержанные оказывали сопротивление при аресте, лейтенант, — сказал он, пробежав глазами несколько листков. — Так будет лучше для вас, — добавил он с непонятной интонацией.
Потом они с Бартом поспешили к Стивенсону. Колтрейт посоветовал владельцу обувного магазина пожить некоторое время в другом месте. Если у мистера Стивенсона нет родственников или знакомых, он, Колтрейт, может на время предоставить ему квартиру.
Процесс Бергсона проходил в здании районного суда Лейк-Вью. Стивенсон дал показания — именно такие, которые требовались прокурору для того, чтобы выиграть дело. Прокурором на процесс Колтрейт назначил своего старого приятеля Фейнмана. Тот не оставил адвокату Бергсона ни единой возможности для зацепки, и Бергсон получил пять лет тюрьмы за вымогательство с применением насилия, незаконное хранение оружия и сопротивление полиции. Гусман получил два года и год — Донован.
Когда Барт осторожно напомнил Колтрейту о его обещании дать Доновану условный срок, тот только пожал плечами:
— Так у него меньше шансов попасть под подозрение Бергсона. Если бы он получил условный срок и уехал отсюда, то вероятнее всего, что люди Бергсона все — таки нашли бы его.
Через месяц Колтрейт получил повышение. Его переводили сразу в Спрингфилд, в комитет при администрации штата. Перед отъездом он пригласил Барта пообедать с ним в ресторане на Ла-Саль-стрит.
— Вы наверняка останетесь вместо меня, — без обиняков заявил Колтрейт. — Я подал представление, это во-первых. Ну, а во-вторых, вы и сами знаете. Но не думайте, что я расцениваю ваше повышение по службе как исключительно только следствие протекции, — он решительно помахал своей короткопалой рукой. — Вы мне нравитесь, Барт. Но мой вам совет — не задерживайтесь долго на месте прокурора района. Вы уже достаточно успели присмотреться к окружающей обстановке, а я вполне четко улавливаю тенденцию. Лет через пять, ну, через десять все полицейские, возможно, станут такими, как Холтон. — Лейтенант Холтон сразу же после завершения дела Бергсона подал в отставку. — А число свидетелей, соглашающихся давать показания, будет стремительно сокращаться. Органы прокуратуры как бы зависнут в вакууме — им будет трудно защищать закон, с которым не станут считаться много сограждан. Вы знаете, что в истории нашей страны уже были такие периоды. Мы, собственно говоря, еще не совсем выкарабкались из последнего периода, достаточно длинного. Теодор Рузвельт[8], конечно, здорово поработал. Хотя его старания мало что значили бы без таких, как вы или я. В мире очень мало праведников, Барт, но если вы или я не станем хотя бы воровать железных дорог или продавать миллионами акции, обеспеченные только воздухом, мы уже продвинем этот мир к справедливости и равновесию.
6
Барт, как и предсказывал Колтрейт, был утвержден в должности прокурора района Лейк-Вью. Он мог перебраться в другую квартиру, попросторней. Теперь он пользовался служебным автомобилем с шофером, теперь он присутствовал на заседаниях муниципального совета.
— Видишь, дорогой, — говорила Сильвия, появлявшаяся у него теперь реже, чем раньше. — Кое-чего тебе удается достигнуть и без моих подсказок.
— Зато исключительно благодаря удачному стечению обстоятельств. Без тебя у меня мало что получится, — смеясь, повторял Барт. — Видно, уж не смогу я больше без того, чтобы меня кто-то опекал.
Он привычно подтрунивал над собой в ее присутствии, но сам себе отдавал отчет в том, что сделать такую карьеру меньше, чем за четыре года, не смог бы, если бы не помощь Иствуда вначале и не поддержка удачно сработавшего Колтрейта потом. И все же Барт чувствовал, как мало он может сделать сам — подобно всем другим людям. Он уже усвоил истину, гласившую, что никто своими стараниями не может прибавить себе роста хоть на локоть[9]. Иногда достаточно просто плыть по течению, то есть поступать так же, как все остальные поступают в сходных обстоятельствах, следя только за подводными районами и мелями, а течение само вынесет тебя на нужное место.
Но именно это — его конформизм — оказывается, и способствовал охлаждению к нему Сильвии.
— Ты становишься похожим на всех, — как-то сказала она, выпив, может быть, на одну порцию больше, чем нужно.
— Но не этого ли ты хотела? — вскипел, задетый за живое, Барт. — Ты же сама все время прививала мне, темному провинциалу, правила и кодексы, запрещающие быть непохожим на других, вести себя так, чтобы нравиться как можно большему числу людей, а теперь, когда я достаточно хорошо усвоил преподанные тобой уроки, ты заявляешь, что я превратился в одного из многих.
— Знаешь ли, существует такая пословица: послушай женщину и сделай все наоборот, — Сильвия подмигнула ему.
— Какое коварство, — отшутился он, понимая, что Сильвия все-таки права. Взять того же Колтрейта — разве он не нарушал не только общепринятых норм, но даже и законов, которые сам был обязан блюсти в первую очередь, заставляя своим примером своих же сограждан поступать точно так же? И что же в результате? Мистер Колтрейт числится в героях. А героям, даже если и обнаруживается когда, что они в чем-то согрешили, прощается многое.
Барт хорошо помнил совет Колтрейта относительно того, что находиться на посту прокурора района равно — сильно тому, что находиться на муравейнике — надо либо быстро спрыгнуть, либо все время отряхиваться. Пока что он отряхивался: иски частных лиц частным лицам, иски частных лиц компаниям, иски компаний компаниям, обжалования и пересмотр дел в городском суде, после того, как дела были рассмотрены в суде района. И еще пресса — от этих надо было отбиваться энергичнее, чем от других.
Он хорошо понимал, какие дела творятся у него в районе: Бергсон был достаточно крупной рыбой, выловленной его предшественником, но не единственной из оставшихся, а главное — не самой крупной. Вымогательство, проституция, торговля кокаином, подпольный игорный бизнес — для того, чтобы бороться только с этими бедами, требовалось по меньшей мере вдвое увеличить полицейский аппарат, обслуживавший район. Да и то при условии, что полицейские не будут брать взятки и закрывать глаза на преступления. А уж про подкупы государственных чиновников он знал не понаслышке — служба в компании Уорнингтона сразу открыла ему мир больших злоупотреблений властью.
Разумеется, рост числа преступлений происходил во всех районах Чикаго, причем, в гораздо более быстром темпе, чем в тихом Лейк-Вью. И было бы наивно пытаться остановить его кордоном полицейских агентов, Барт это отлично понимал. Единственным выходом, который он избрал для себя, была сеть доверенных людей в полицейских участках, докладывавших ему об истинном положении дел в районе. А реальное положение достаточно сильно отличалось от картины, создаваемой сводками, докладами, рапортами. Особенно тревожил Барта участок Стэнтона. Милрей и Блейк, полицейские, служившие у Стэнтона, доносили Барту о том, что их начальник давно уже вошел в тесный контакт с неким Кверчетани. Этот уроженец Италии, которому едва перевалило за тридцать, был привезен в Америку подростком. Выходец из многодетной, очень бедной семьи, он рано усвоил законы выживания. В Чикаго Кверчетани начал свою карьеру с занятия лоточника у владельца лавки. Подвижный, темпераментный юноша достаточно быстро сколотил кое-какой капиталец и на паях открыл небольшой трактирчик. Потом его компаньон неожиданно исчез — говорили, что выехал неизвестно куда. Семьи у компаньона не было, родные тоже находились достаточно далеко — он, как и Кверчетани, был иммигрантом, только приехал в Штаты в уже достаточно солидном возрасте. Так что никто не стал разыскивать пропавшего компаньона. Кверчетани же это было нужно меньше всех — дела харчевни только-только пошли на лад, приходилось много работать. Молодой итальянец вызвал в помощь себе родственника из Нью-Йорка, так как уже не справлялся один.
И с того времени началось стремительное его восхождение к вершинам благополучия. Кверчетани открыл еще один небольшой трактир, точнее, купил его. Покупка выглядела довольно странно — владелец, кстати, тоже недавний иммигрант, никому не сообщал о своем намерении продать свое заведение, он только что встал на ноги. И тем не менее Кверчетани он трактир продал, потом тоже уехал из Чикаго, как и первый компаньон Кверчетани. На вновь купленный трактир тоже был вызван очередной родственник из Нью-Йорка.
Конечно, два трактира, собирая достаточное количество посетителей, могут принести вполне приличную прибыль. Но дела в обоих трактирах шли ни шатко, ни валко, как и во множестве подобных заведений вообще. Исходя из этого, следовало сделать вывод, что Кверчетани и его родственникам только и удается, что сводить концы с концами. Однако в действительности все было не так. Один только внешний вид молодого итальянца говорил о его процветании. Каждый день менявший дорогие костюмы, благоухающий самыми изысканными духами, с пальцами, унизанными массивными перстня — ми и кольцами, Кверчетани совсем не походил на мелкого лавочника, заботы которого сводились только к выживанию. Он купил себе загородный дом, одним из первых в районе приобрел автомобиль, а к тому времени, как Бартоломью Гамильтон стал прокурором, уже владел роскошной яхтой, на которой устраивал вечеринки с французским шампанским, икрой, устрицами и ананасами.
Лейтенант Милрей сам вышел на контакт с Бартом. Появившись в прокуратуре по какому-то делу, он прозрачно намекнул Барту о том, что неплохо было бы встретиться в неслужебной обстановке. Барт назначил ему встречу в парке и приехал туда на автомобиле, которым управлял сам, отпустив шофера.
Милрей, мужчина лет тридцати, с рыжеватыми волосами и бровями, широкоплечий, с крупными широкостными руками, внешне воплощал собой основательность, рассудительность, неторопливость. У него было широкое красноватое лицо и немигающий взгляд серых глаз, сразу расположивший Барта к персоне лейтенанта Милрея.
— Мистер Гамильтон, вы человек у нас относительно новый, — начал Милрей, спокойно глядя в переносицу Барта. — То есть, вы, конечно, успели уже кое с чем ознакомиться, будучи помощником мистера Колтрейта, но одно дело — быть помощником, а другое — следить за всем самому. Я думаю, будет неплохо, если вы станете опираться на людей, которые готовы информировать вас об истинном положении дел в районе.
Барт догадывался, что мотивом, побуждающим Милрея доносить «об истинном положении дел» является стремление подсидеть Стэнтона, одним из заместителей которого он являлся. Милрей располагал обширными материалами, он достаточно глубоко проследил связи Стэнтона с воротилами подпольного бизнеса. Источниками стремительного обогащения Кверчетани, оказывается, явились два казино — подпольных в прямом смысле слова, потому что располагались в подвалах трактиров, принадлежавших ему — и один дом свиданий. Этот бордель официально именовался доходным домом, а владельцем его значился некий Рейнхарт — лицо явно подставное. В устройстве казино и дома свиданий Кверчетани проявил недюжинную смекалку и предусмотрительность. Мало того, что в трактирах под видом посетителей постоянно находились два-три его человека, готовые в любую секунду подать сигнал тревоги. Эти заведения снаружи охранялись еще и полицейскими, повязанными с капитаном Стэнтоном круговой порукой и получавшими свою долю. А если бы кто вздумал вдруг проверить список жильцов в доме Рейнхарта, то он обнаружил бы, что там квартируют не одни только особы женского пола, но и мужчины, которые, правда, на момент проверки могли отсутствовать на месте.
Когда Барт очень осторожно, не спеша — на это ушло не меньше полугода — начал глубже знакомиться с деятельностью Кверчетани, он обнаружил, что энергичный пришелец с Аппенин распространил свое влияние и на другие районы. В частности, он набрал большую силу в Западном районе, где ему не только принадлежало несколько публичных домов, но также и другие владельцы подпольных кумирен любви платили ему своеобразный налог. Это было уже нечто новое — паразит паразитировал на других паразитах. Но, очевидно, Кверчетани было проще слегка припугнуть конкурентов, чем устранить их и взвалить на свои плечи нелегкую заботу по управлению еще несколькими заведениями.
Барт никому не рассказывал о своей работе по Кверчетани — до поры, до времени. Он чувствовал, что выкладывать все сведения лично прокурору города или кому-то из муниципалитета не имеет смысла: это вовлекло бы в расширенное расследование заведомо нежелательных людей, так или иначе связанных с преступниками. До некоторых пор он не обмолвился ни словом даже с Дональдом Иствудом. Но после того, как Иствуд-младший стал помощником прокурора города, Барт решил посвятить его в свои секреты.
Дональд, которого он попросил о встрече, пригласил его к себе домой. Они вид елись достаточно редко с тех пор, как Барт на приеме у Иствуда — старшего познакомился с Сильвией. Поэтому первое, о чем спросил Дональд, были их отношения:
— Старина, очень странно, что ваши отношения не дошли до логической развязки — точнее говоря, до завершающей связи, до брачных уз, — улыбнулся Дональд. — Или Сильвия очень изменилась, или… Как я тебе уже говорил, она происходит из семьи, где постоянство введено в ранг высшей добродетели. Что же, будем надеяться, что все еще изменится к лучшему, то есть, статус кво в ваших отношениях восстановится.
— Вряд ли, — поспешил замять разговор на эту тему, которой он в последнее время избегал касаться, Барт. — Собственно, я теперь настолько поглощен работой, что даже и не придаю особого значения личным делам.
— Это объяснимо, — принимая во внимание твой почтенный возраст, — с комической важностью изрек Дональд.
Барт, которому шел двадцать восьмой год, только пожал плечами.
Их беседа происходила в кабинете Дона, просторной комнате, обставленной добротной старинной мебелью — безо всякого намека на модерн. На стене висел портрет нового президента, Вудро Вильсона, под портретом на листе плотной бумаги был крупным шрифтом набран текст инагурационной речи:
«Зло пришло вместе с добром, и немало было попорчено высококачественного золота, с богатством пришла и непростительная расточительность… мы были бесстыдными расточителями и в то же время на удивление способными людьми».
— Это очень способный политик, — сказал Иствуд, перехватив взгляд Барта. — Уж он-то наведет порядок, поверь мне.
Барт подумал, что утверждение Дональда верно наполовину. Президент Вильсон находился у власти считанные месяцы, а уже успел подчинить всю банковскую и денежную систему правительству, установил контроль над деятельностью трестов, существенно снизил тариф. Что же, дельцам типа Уорнингтона стало жить потруднее, зато настало время таких, как Кверчетани.
— Вот об этом я и пришел посоветоваться с тобой. Конечно, президент Вильсон может даже распространить действие «сухого закона» на все штаты, сделав его федеральным законом, и с выпивкой в Иллинойсе станет совсем туго, — Барт усмехнулся, — но никто никогда не будет в состоянии решить все проблемы.
И он в общих чертах изложил результаты своих наблюдений за Кверчетани.
— Ты никому не рассказывал об этом, кроме меня? — спросил Иствуд. Он выглядел серьезным, даже озабоченным.
— Нет, в любом случае это не поднялось выше моего уровня, выше уровня района. Да и там в это посвящен только очень узкий круг людей.
— Это хорошо, — удовлетворенно сказал Иствуд. — У тебя, естественно, все это достаточно подробно отражено — я имею в виду: есть какие-то записи, заметки.
— Конечно.
— Принеси мне их, Барт. Я внимательно ознакомлюсь с ними, а потом мы с тобой подумаем, что можно будет предпринять.
— Да я, собственно, захватил эти записи, документы с собой уже сейчас, — Барт расстегнул портфель и вытащил оттуда толстую папку.
— Отлично. Я тебе позвоню, когда смогу все это переварить, Иствуд с улыбкой взвешивал папку в руке.
Но его звонка Барту пришлось ждать довольно долго. Проходили дни, прошла неделя, другая… Барт решил напомнить Иствуду о содержимом папки, переданной ему.
— Ах, да, старина, я, разумеется, обо всем помню. Только, понимаешь ли, возникли кое-какие обстоятельства, требующие дополнительной проверки. Перезвони мне через несколько дней, через неделю, допустим. Нет, лучше дней через десять.
Барт выждал и перезвонил Иствуду через две недели. Уж теперь-то, как он полагал, все должно было окончательно проясниться.
— Хорошо, — в голосе Иствуда не чувствовалось особого энтузиазма, — давай встретимся у меня завтра.
Они встретились поздно вечером в том же кабинете с портретом Вильсона и цитатой о зле о добре. Дональд молча подал ему руку, указал на кресло.
— Я чертовски устал за сегодня, старина, — сказал Дональд потирая виски длинными сухими пальцами. — Давай-ка для начала выпьем, если ты не против. И в самом деле, вот введут в штате Иллинойс «сухой закон», тогда только и останется, что вспоминать веселые денечки.
Он достал из шкафчика бутылку бренди, сифон с содовой, не спеша наполнил стакан Барта, потом налил себе. Они сделали по нескольку глотков, только после этого Иствуд начал говорить.
— Видишь ли, старина, лично у меня и еще у кого возникли сомнения относительно беспристрастности твоих… источников информации. Складывается впечатление, что кто-то «копает» под капитана Стэнтона, например, обвиняя его в несуществующих связях с Кверчетани. Нет, — поспешно добавил он, увидев, что Барт хочет возразить, — я же не утверждаю, что это — стопроцентная ложь и оговор, я просто говорю, что у меня сложилось такое впечатление, субъективное впечатление. Надо все очень тщательно проверить…
— Послушай, Дон, — перебил его Барт. — Проверять можно до бесконечности, особенно, если поручить проверку капитану Стэнтону. Да, было бы неплохо поручить это дело именно ему, — он нервно усмехнулся. — Ладно, можно до бесконечности проверять взаимоотношения Стэнтона со своими коллегами — я и сам не уверен в непредвзятом к нему отношении некоторых из них. Но ведь налицо факт стремительного, сказочного обогащения Кверчетани. Ясно, каким путем он нажил деньги. — Барт вдруг остановился и погрузился в размышления, словно бы силился вспомнить нечто очень важное.
— Давай-ка лучше еще выпьем, — сказал Иствуд после того, как пауза затянулась более, чем на полминуты.
— Давай, — согласился Барт. — Дон, насколько я понимаю, кто-то в муниципалитете будет очень недоволен, если как следует тряхнуть Кверчетани? Да тут и гадать нечего, кто именно будет недоволен — в бумагах, что я тебе дал, они все перечислены. Дон, но ведь и я не могу все это просто так оставить. Я собрал много материалов на этого мерзавца Кверчетани и не только на него — и, выходит, ничего не получу взамен? Все останется на своих местах? Все и вся — я останусь прокурором района, Кверчетани будет по-прежнему заниматься вымогательством, подкупом чиновников и расширением сети подпольных борделей. Если я в благодарность за то, что знал все и смолчал, получу только прежнее положение вещей, то уж лучше мне подать в отставку со своего поста и заняться адвокатской практикой. Стану защищать тех, кого собирался упрятать за решетку. Уж я-то буду знать, как действовать против обвинителей и насколько слабы их позиции!
— Нет, тебе не стоит подавать в отставку, Барт, — покачал головой Иствуд. — Скоро тебе предстоит занять место советника мэра.
— Вот как? Но ведь оно…
— Все правильно. Сейчас его занимает Пири, но он уходит. — Иствуд улыбнулся. — Вернее, уезжает. В Спрингфилд.
— Послушай, — Барт готов был расхохотаться — горько и недоуменно, — неужели все это связано с делом Кверчетани? Выходит, надо себя вначале чем-то скомпрометировать, как это сделал Пири, связавшись с Кверчетани, чтобы потом получить повышение?
— Нет, старина, тут ты не угадал, — сухо ответил Иствуд, — Пири давно уже готовился заменить кого-то в администрации штата. Возможно, что шум по делу Кверчетани — хотя и не поднятый еще шум — только ускорил его уход.
— О’кей, Дон, я все понимаю. Но уж Стэнтона-то никак нельзя оставлять на своем месте.
— Ладно, что-нибудь придумаем, — махнул рукой Иствуд.
7
Сразу же после того, как он занял место советника мэра, Барт позвонил Сильвии:
— Детка, ты не хочешь меня навестить?
— Боюсь, что нет, Барт.
— А завтра?..
— И завтра тоже.
— Мне будет позволительно узнать, чем это объясняется?
— Разумеется. Я выхожу замуж.
— Вот как?.. Это следует понимать так, что ты выходишь замуж не за меня?
— Это следует понимать так, Барт.
Ему было наплевать на то, что их разговор наверняка слушает телефонистка. Ему было вообще на все сейчас наплевать. Два стакана виски, выпитые им перед тем, как он снял трубку, начинали действовать.
— Сильвия, я хочу понять, что я сделал не так.
— Ты все сделал, как надо, Барт.
— Нет, я постоянно что-то делаю не так, только не могу понять, что именно и когда. Тот парень, за которого ты выходишь замуж, он-то, конечно, хитрован. О! Он мудр, как змий, черт его дери. Что же вы тут за умники такие? Я тоже не могу назвать себя законченным неудачником, знаешь ли, но все равно чувствую себя круглым дураком. Этот твой избранник, естественно, денежный мешок, лопающийся от самодовольства или же владелец какой-нибудь паршивой газетенки, изо всех сил пыжащийся показать свою полнейшую независимость от всего и от всех, а на самом деле служащий на задних лапках и виляющий хвостом перед каждым, кто бросит ему кость с остатками мяса.
— Нет, Барт, — голос в трубке звучал на удивление ровно, — он ни то, ни другое.
— Да кто же он, в таком случае? — Барт от раздражения чуть не забыл, зачем он вообще звонил ей. — Конгрессмен, сенатор?
— Нет, он художник.
— Худож-ник?! — он отказывался верить собственным ушам. — Ты сказала — художник?
— Именно так. Живописец.
— Ничего не понимаю. Чем же он тебя привлек? Тем, что лучше тебя рисует?
— И этим тоже.
— Погоди-ка… Он американец?
— Нет, он из Европы, испанец.
— Ага… — Барту казалось, что он разгадал какую-то загадку, не дававшую ему покоя долгое время. — Стало быть, испанец. Понимаю. Все дело в темпераменте, да?
— Барт, ты несешь ужасную чушь. Мне кажется, ты пьян.
— Да? Наверное. Видишь, мы угадываем друг о друге разные интересные вещи.
— Ничего ты обо мне не угадал. Все, прощай.
— Погоди-ка один момент. Ты что же, собралась уезжать в Европу?
— Я еще не решила. Пока.
— Счастливо.
Он повесил трубку. Очень странная, непостижимая Сильвия. Ладно, он это переживет. В конце концов надо признаться себе, что он не любил ее так уж сильно, чтобы горевать из-за потери. И все-таки жаль, ему было хорошо с ней. Наверное, он должен испытывать то, что испытывает всякий оставленный мужчина. Ни черта он не испытывает. Вот он нальет себе еще стаканчик и хлопнет его. Твое здоровье, Барт! Никаких комплексов. В мире найдется много женщин, которых заинтересует советник мэра Чикаго, у которого есть деньги, все в порядке со здоровьем и ни-ка-ких комплексов.
«Мои отец и мать поженились по любви, следовательно, они действовали вопреки логике. А я любил Сильвию? Нет, сейчас я точно могу сказать, что нет. Ну, разве что самую чуточку — красивое лицо, красивое тело, да и неглупа она. Нет, это была не любовь, влечение. Мне надо жить простой, естественной жизнью, как мои мать и отец, мне надо полюбить кого-то и жениться по любви. Но я уже отравлен тем, что называется цивилизацией. Беру взятки и вообще всячески извлекаю выгоду из своего положения, совершаю служебные подлоги и пренебрегаю служебными обязанностями ради так называемых групповых интересов. И все объясняется только тем, что я поступаю так, как должен поступать цивилизованный человек. И Сильвия тоже так поступает, она ужасающая эгоистка, только делает вид, что руководствуется высшими духовными побуждениями. Как же!.. Держу пари, что этот испанский сукин сын, этот художник — самый обыкновенный прохиндей, тот же самый Кверчетани от искусства. Уж он-то не будет умирать в нищете. А художник — если он настоящий художник — должен умирать в нищете. Сильвия — цивилизованная сучка, она ни за что на свете не связала бы свою судьбу с нищим».
Он вылил в стакан остатки виски из бутылки, удивленно повертел бутылку в руках. На мгновенье у него возникло желание запустить бутылку в стену, но это желание сразу же уступило место обычной его рассудительности.
Барт очень осторожно, чтоб не выдать своей заинтересованности и пристрастности, навел справки об этом испанце, даже посмотрел несколько его картин, выставленных в городском художественном музее. Ему подумалось, что точно определил суть избранника Сильвии — прохиндей. Конечно, в глазах так называемой интеллектуальной элиты он — гений, восходящая звезда, революционер от искусства. Модернист — так определяют род его занятий критики. Барт был почти убежден в том, что смог бы малевать точно так же — синяя морковка вместо носа, двухцветный треугольник вместо туловища и щупальца осьминога снизу.
Барт не без основания мог считать, что он разбирается в живописи. Конечно, современные художники не обязаны писать так, как писал Рембрандт, Тициан или Констебль. Ему нравились многие вещи импрессионистов, он понимал Гойю. Но он был убежден, что вне зависимости от величины таланта художник должен обязательно овладеть тем, что называется основами мастерства, школой. А испанец, как показалось Барту, никогда ничему серьезно не учился.
Но этот парень очень далеко должен пойти, подумалось ему. У него надолго хватит умения и желания дурачить людей. А большинство из них прямо таки ущербными себя чувствуют, если их не дурачат — то ли политики, то ли такие вот модернисты.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
1
Заведение Рика Бауди в Шайенне знал каждый мужчина, если он бывал в этом городе чаще двух раз в году и если он при этом не являлся трезвенником. Заведение нынче гордо именовалось баром, хотя раньше оно называлось салуном, а изменения в нем в течение двух десятков лет — с тех пор, как оно возникло — произошли совсем небольшие.
Здесь подавалось пиво и виски, а посетителями, как и двадцать лет назад, были в подавляющем большинстве мужчины, состав которых тоже не слишком изменялся. Если раньше основную массу посетителей салуна составляли скотопогонщики, гордо именовавшие себя ковбоями, и окрестные фермеры, делавшие, в принципе, ту же работу, но ковбоями себя не считавшие, а еще разношерстая толпа, которая могла иметь название «городские жители», то теперь последняя категория как раз и составляла основной процент, приносящий доходы заведению, фермеры заняли второе место, оно же, пожалуй, и последнее. Ковбои здесь появлялись только по праздникам, коими считались ярмарки да разного рода сельскохозяйственные выставки.
Бар находился неподалеку от вокзала, что давало повод некоторым острякам почти всерьез доказывать, что вокзал, дескать, во времена прокладки Северной Тихоокеанской и Большой Северной находился в совершенно другом месте, а потом его перенесли сюда, поближе к бару.
Шутки шутками, но значение вокзала и железных дорог для Шайенна было трудно переоценить. Затерянный в глубине прерий, он оставался таким же маленьким и пыльным, как и во времена существования скотопрогонных троп, он был типичной столицей захолустья. Но жизнь в Шайенне все ж заметно оживилась после прокладки Большой Северной и других железных дорог в конце восьмидесятых годов прошлого столетия.
Санни Маклиш, двадцатитрехлетний рабочий железнодорожных мастерских, посещал бар Рика Бауди довольно часто. Заметно чаще, чем другие парни его возраста. Родители Санни жили на ферме милях в двадцати от Шайенна, там же жила и его старшая сестра Джудит с мужем и детьми.
— Нет, что ни говори, а занятие ковбоя не по мне, — говорил Санни своим приятелям Крису Лэмбу и Стэнли Бреверу. — Для этого, ребята, надо быть таким жуком навозным, как муж моей сестры, Джон. Ну, да ясно, Джон он и есть Джон[10]. Ладно, нам приходится вкалывать по десять часов, но ведь они-то вообще света белого не видят: как проснутся, так сразу и принимаются выгребать навоз. Из-под бычков, коров, свиней. И как только они это дерьмо заканчивают убирать, время снова ложиться спать. У меня вся семейка фермеры: где-то на Юге дед с бабкой в земле роются, здесь дед с бабкой, отец с матерью да Джуди с ее муженьком роются в навозе, но на мне все должно закончиться, потому что так вообще-то не всегда было — я имею в виду фермерство. Моя бабка, та, что в Джорджии, когда — то жила себе припеваючи, потому что у ее папаши был целый полк черномазых, которые работали за одну жратву.
— Да, славные, наверняка, были времена, — мечтательно протянул Крис Лэмб, молодой мужчина с черными волосами, расчесанными на прямой пробор, и длинными густыми бакенбардами. Он служил приказчиком в скобяной лавке. — Только для того, чтобы жить припеваючи тогда, надо было подгадать не родиться черномазым.
— Ну это дело нехитрое, — сказал Стэн Бревер, веснушчатый здоровяк примерно того же возраста, что Санни и Крис, работавший в типографии городской газеты и поэтому претендовавший в троице на роль интеллектуального лидера. — Надо было только проследить за своей мамашей, чтобы она не путалась с черными.
— Или за папашей, — вставил Крис Лэмб. — Чтобы он не спал с негритянками.
— С этим у них на Юге, говорят, строго было, — заметил Санни Маклиш. — Спариваться с неграми значило примерно то же, что спариваться со скотиной.
Они помолчали, сосредоточенно вливая в себя пиво из высоких стаканов, потом Бревер сказал:
— Слыхали, ребята, в Европе какой-то псих укокошил родственничка императора Австро-Венгрии. Теперь там может быть большая заваруха.
— С чего бы это? — спросил Лэмб, весьма туманно представлявший себе местонахождение Европы, а тем более Австро-Венгрии. — У нас такой же псих ухлопал президента, но все обошлось без лишнего шума.
— Нет, европейцы народ особый, обидчивый, — хохотнул Бревер. — Стоит им только плюнуть в физиономию, как они лезут в драку. Хотя мы, конечно, от них не больно отстаем — здорово всыпали мексикашкам.
— Верно, нас трогать опасно, — согласился Маклиш. — Взять, к примеру, моего покойного деда Роджера. То есть, он вообще-то покойником был еще до того, как я на свет появился. Так этот самый дедушка всю жизнь стрелял в здешних местах краснокожих. А после, значит, решил заделаться фермером. Но вот банда придурков решила заставить его поделиться с ними. Он ухлопал пятерых, а шестой застрелил его.
— Веселые были времена, — покачал головой Бревер. — Одно слово — Граница. А сейчас тут такая скукотища, хоть вой. Никакой тебе стрельбы, никаких налетов, никаких грабежей. Разве что в кинематографе только и увидишь по-настоящему крутых парней.
— Если сидеть на заднице в заведении Рика Бауди, да в кинематографе, то вряд ли научишься стрелять по-ковбойски, с двух рук.
— И что же ты предлагаешь? — Крис Лэмби внимательно посмотрел на него.
— Я? Я никогда никому ничего не предлагаю, — пожал плечами Маклиш. — Каждый волен сам выбирать себе занятие по душе. Например, продавать лопаты, мотыги, амбарные замки…
— … Или орудовать кувалдой, — спокойно парировал Лэмб. — На это ума еще меньше надо.
Маклиш хотел было вспылить, но сдержался.
— Крис, тебе ведь что ни предложи, ты все дерьмом обольешь, — устало улыбнувшись, сказал он. — Так что я предложу тебе выписать по почте револьвер долларов за десять, ухлопать своего хозяина, заграбастать дневную выручку и рвануть в Калифорнию. А там уже начать прожигать жизнь.
— Чтоб ты пропал, — беззлобно выругался Лэмб. — Я тебя серьезно спрашиваю.
— Здесь? — спросил Маклиш, понизив голос и обведя взглядом переполненный зал. — Неплохо. Еще лучше нам с тобой сейчас выйти на привокзальную площадь, встать в разных концах ее и побеседовать друг с другом, обсуждая наши планы. Да и что обсуждать-то, ведь нам почти невозможно собраться втроем — Стэн складывает из букв эту их брехню по ночам, а мы с тобой заняты днем. Вечером опять же не с руки — надо промочить горло у Бауди. Остается воскресенье. Мы надеваем маски, врываемся в церковь и грабим прихожан, заодно прихватывая и церковную кассу.
Бревер захохотал, ему понравилась шутка Маклиша.
— Да, — кисло поддержал веселье друзей Лэмб, — а потом, поделив награбленное, рвем в Калифорнию, чтобы там начать прожигать жизнь.
— Ладно, слушайте меня, — великодушно согласился Маклиш, жестом призывая приятелей придвинуться к нему. — Пятнадцать долларов умножить на двести — это сколько будет, а, Крис?
— Три тысячи, — вполголоса ответил Лэмб.
— Неплохо, правда? По тысяче на брата. Целый год, почитай, можно заниматься, чем хочешь.
— Да, — восхищенно прошептал Бревер, — знать бы только место, где эти три тысячи лежат.
— Предположим, я такое место знаю, — сказал Маклиш. — Иначе откуда бы мне знать сумму?
— Верно, — согласился Лэмб. — Где-то, значит, ты засек эти пятнадцать, помноженные на двести.
— «Где-то» — это в кассе железнодорожных мастерских. Каждую субботу. Мои пятнадцать долларов за неделю тоже лежат среди них.
— Хм, — с сомнением покачал головой Лэмб. — Надежно они лежат, ничего не скажешь. Там же, наверное, охрана?
— В том-то и дело, что никакой охраны, кроме кассира, вооруженного револьвером, и его помощника. Правда, в помещении, где располагается касса, на двери и окошке решетки.
— Вот видишь, — сказал Лэмб. — Сложно будет выковырять монеты оттуда.
— Конечно, — кивнул Маклиш. — В случае, если уж они попали в кассу, наверное, и пытаться не стоит. При малейшем подозрении кассир включает сирену, а это значит, что туда в момент сбежится целая толпа народа. Деньги надо брать в тот момент, когда они уже покинули банк, но еще не попали в кассу.
— То есть, по дороге, — подытожил Лэмб. — В чем их возят?
— Возят их в обычном автомобиле, я несколько раз видел его. Кассир и помощник забирают деньги в банке, загружают их в автомобиль, потом везут в мастерские. У ворот мастерских автомобиль на какое-то время останавливается, здесь его взять удобнее всего.
— Нет, — засомневался Лэмб. — Если там поднять шум, это будет то же самое, что и сирена в кассе. Надо будет все как следует взвесить и просчитать. — Взвешивать и просчитывать он любил. Сколько уже было похоронено планов и проектов, разработанных Маклишем или предложенных Бревером. К тому же все предыдущие идеи не подразумевали вооруженного нападения.
— Я согласен, дело это непростое, — сказал Маклиш. — Надо присмотреться. Это хорошо, что Стэн работает по ночам. Он подежурит у банка, посмотрит, может, что-нибудь удастся сделать и там. Завтра как раз суббота. Номер автомобиля у меня записан.
В субботу Бревер проторчал битых два часа неподалеку от здания банка, рискуя навлечь на себя внимание как случайных прохожих и владельцев лавочек, так и полицейских.
— Два этих типа выносят мешок из банка, — докладывал он приятелям вечером. — В это время у входа стоит коп. Потом они загружают мешок в автомобиль, один садится на заднее сиденье, рядом с мешком, другой — за руль. Как только машина отъезжает, коп сразу возвращается в банк.
— Видите, — восторженно сказал Маклиш, — все очень просто. Целую милю, даже больше, они едут по улицам. Одни. Вооруженные от силы двумя пушками.
— Все равно это очень сложно — обчистить их среди бела дня, — возразил Лэмб. Похоже было, что он собирается поставить крест и на этом предприятии.
— Черт тебя побери, Крис, — разозлился Маклиш. — Я ведь тысячу раз уже повторял: либо ты рискуешь, либо продолжаешь сидеть в дерьме. Это даже и ребенку, наверное, понятно. Не бывает идеальных планов, идеально разработанных операций — в том смысле, что всегда что-нибудь сорвется в последний момент, риск всегда есть. Если ты не хочешь рисковать, так и скажи.
— Нет, я не против всей этой затеи, Санни, но…
— Вот что, — прервал его Маклиш и наставил в нос Лэмбу указательный палец, — давай договоримся, если уж ты не против: ты выслушиваешь меня без твоих вонючих замечании, и мы начинаем действовать.
Он развернул большой лист бумаги с нарисованным на нем планом.
— Смотрите, по этой улице ходит только трамвай. Автомобиль сворачивает вот тут вправо и едет вдоль высокой стены мастерских. Улица там узкая, а поворот очень крутой, так что водитель, если он не хочет с кем-то столкнуться за поворотом, обязательно притормозит. Он почти остановится. А от поворота до въезда в мастерские добрых двести ярдов, да не по прямой. Короче, тот поворот не виден от въезда в мастерские. Так что, если машина остановится, никто из мастерских не заметит. Забор там высокий, футов до девяти.
— А что с противоположной стороны улицы? — спросил Крис Лэмб. — Там, как мне помнится, вроде бы магазин какой-то?
— Все правильно, но в магазине сейчас ремонт, витрины закрашены известью, а чуть дальше, по направлению к въезду в мастерские, стоит обычный двухэтажный домишко.
Маклиш чувствовал, что его приятели думают о том же, о чем думал он — уж слишком нереальной кажется эта затея. Он уже в который раз представлял себе картину едет автомобиль, преодолевает поворот, замедляя движение, и… продолжает ехать дальше. Просто невозможно было представить себе, каким образом что — то может оставить его.
Они долго совещались, выдвигая разные варианты, пока не остановились на одном, предложенном Стэном Бревером — выпустить на автомобиль повозку и, загородив ему дорогу, прижать к стене. Потом один спрыгивает со стены, а другой, карауливший приближение автомобиля из-за угла магазина, подбегает к автомобилю с другой стороны. Они наставляют оружие на водителя и кассира, разоружают их, забирают мешок и, связав ограбленных, быстро уезжают на повозке — водить автомобиль никто из них не умел.
Приятели пошли к месту предполагаемого нападения, распределили роли. С забора, естественно, должен был прыгать Санни Маклиш, он в это время находится в мастерских, с повозкой подъедет Стэн Бревер, он будет ждать ярдах в пятидесяти от поворота, а Крис Лэмб, отлучившись на час из своей лавки, будет дежурить за углом и подаст сигнал Бреверу.
Неделя прошла в приготовлениях. Самым сложным делом оказалось достать повозку. Наконец, к пятнице Бреверу все же удалось договориться с одним своим знакомым, который одолжил повозку и лошадей якобы для перевозки мебели.
И вот наступила суббота. Санни Маклиш извелся, наблюдая со своего поста за дверью кассы. Наконец, кассир вышел, неся свернутый холщовый мешок. Как буднично все происходило! Вот он подошел к автомобилю, стоявшему в глубине двора, поговорил со своим помощником, сидевшем в машине, открыл дверцу, сел. Санни готов был взорваться от нетерпения, ожидая, когда автомобиль выедет со двора.
Санни, стараясь идти неторопливо, тоже пересек двор, вышел в ворота, отмахнувшись от окликнувшего его охранника, спокойно, словно он вообще забыл, зачем все-таки вышел на улицу, перевел взгляд на противоположную сторону.
Повозка была на месте. На передке ее очень похоже изображал полуденную дрему Стен Бревер, надвинувший соломенную шляпу на самый нос.
Теперь надо было ждать. Все зависело от того, насколько быстро кассиру выдадут деньги в банке. Он мог вернуться через полчаса, через сорок минут, а то и через час. Минут через десять Санни прокрался на свое место под стеной. Со стороны двора он практически не был виден: здесь складировались оси вагонов, поставленные в три ряда по высоте. Под стену, в том месте, где должен был взбираться на нее, Санни натаскал ящиков из-под инструментов, по ним легко было взобраться почти на самый верх стены.
Санни не думал о том, что помощник и кассир могут узнать его, вернее, это его не беспокоило — у него был свой вариант плана ограбления, вполне вписывающийся в общую схему, разве что вносивший некоторые коррективы в судьбы участников действия, которому суждено было разыграться. Лично для себя он уже все решил. Револьвер привычно оттягивал карман комбинезона.
Он оглянулся, взобрался на ящики, выглянул на улицу. Повозка все на том же месте, а Крис Лэмб еще вроде бы не появился. Но теперь уже нет смысла что-то менять, а тем более откладывать операцию. Он и сам может проследить за приближением автомобиля.
По улице прошла женщина, она двигалась по тротуару под стенами здания, в котором размещался магазин. Санни взглянул на забеленные окна, они производили впечатление заброшенного кладбища. Нет, место все же выбрано очень удачно.
Раздался звонок трамвая. Трамвай они не слишком принимали во внимание, справедливо рассудив, что вероятность появления его одновременно с автомобилем достаточно мала. Но если такое случится, нападение придется отложить до следующей субботы.
Трамвай прошел, и Санни еще раз выглянул из-за забора. Все в порядке, Лэмб появился, ему теперь не стоит вылезать на улицу до появления автомобиля. Санни вплоть до этого момента не был уверен в Лэмбе. Слишком уж Крис осторожен и вял. Нет, прямо-таки удивительно как это он решился на такую вылазку. Ладно, пусть теперь наблюдает.
Опять потянулись минуты, заставляя снова воспринимать нападение, как нереальное. То начинало казаться, что автомобиль сегодня не вернется вообще, то Санни вроде бы совсем забывал, зачем он сидит под стеной в обеденный перерыв. Он долго отсутствовал, и до перерыва десятник или даже мастер наверняка хватался его. Плевать. Теперь-то уж ему точно на все и на всех наплевать. Потому что он так решил, потому что он на это решился.
Ухо Санни уловило легкий шум. Да, похоже, это рокот мотора. Быстро вскочив на ящики, Санни увидел, что Лэмб вышел из-за стены и машет Бреверу, указывая на закругление стены.
Бревер хлестнул лошадей вожжами. Повозка очень медленно тронулась с места.
— «Чтоб ты пропал!» — выругался про себя Санни. Уж на Бревера он-то рассчитывал.
Нет, все нормально. Повозка набирает скорость.
Задранные кверху лошадиные морды. Скрежет тормозов автомобиля. Лицо Лэмба, снизу закрытое черным платком.
Санни спрыгнул, рискуя угодить на крышу автомобиля, револьвер он уже держал в руке. Распахнув заднюю дверцу, он увидел бледное лицо кассира, прижимавшего к себе левой рукой холщовый мешок. В правой его руке дрожал револьвер, вороненный «Смит и Вессон». Санн, инстинктивно становясь боком, словно таким образом хотел сделаться неуязвимым для пуль, нажал на спусковой крючок — почти не целясь и с удивлением замечая, что рядом с носом кассира возникла дыра. Сначала это было просто углубление, потом оно стремительно наполнилось черной кровью. Санни это вроде бы и не должен был уже заметить, потому что он быстро обернулся, услышав звук еще одного выстрела. Он не мог с уверенностью сказать, когда этот выстрел прозвучал — раньше того, как стрелял он, или позже, разница была в доли секунд. Лэмб схватился рукой за горло, ниже черного платка, и рухнул на автомобиль. Санни, чувствуя, как его охватывает странное спокойствие, аккуратно прицелился в искаженное ужасом лицо водителя и аккуратно нажал на спуск. «Кольт» и на этот раз сработал безотказно.
Мешок оказался на удивление тяжелым, словно был набит камнями. Санни потащил его на себя, преодолевая еще сопротивление левой руки кассира, прижавшей мешок к телу еще тогда, когда тело было живым, да так и оставшейся судорожно напряженной. Мешок покинул тело кассира, прополз по сиденью, зацепившись за приоткрытую дверь, и наконец оказался в левой руке Санни — правая крепко держала револьвер.
Санни быстро обежал повозку, на которой Бревер встал во весь рост, пытаясь справиться со вставшими на дыбы лошадьми. Помогая себе правой рукой, из которой он так и не выпустил револьвер, Санни перебросил мешок через борт повозки и вспрыгнул в нее.
— Гони! — заорал он Бреверу.
Оглянувшись, он увидел, как стремительно отдаляется черный автомобиль, возле которого растянулся во весь рост Крис Лэмб, всю жизнь сомневавшийся, но так и не сумевший принять единственно правильного решения в последние секунды этой жизни.
Сидя на дне повозки, Санни быстро перебросил пачки банкнот из мешка в заранее приготовленный саквояж. Здесь же, в большом мешке, оказался и маленький мешочек, наполненный серебряными долларами и мелочью.
— Помедленнее, — спокойно скомандовал он Бреверу, — не то передавишь полгорода. Давай к вокзалу, как договорились.
По улице шли прохожие, ехали повозки, мчались автомобили. Никому не было никакого дела до повозки, которой правил мужчина в соломенной шляпе — по виду фермер, приехавший в город за покупками, и в которой сидел угрюмый светловолосый молодой человек в рабочем комбинезоне — очевидно, его работник.
Они остановились на привокзальной площади, в самом ее углу, там, где притулились еще несколько повозок.
— Иди и возьми два билета на любой ближайший поезд, идущий на Восток, — приказал Санни.
Бревер открыл было рот.
— Через несколько станций мы сойдем, там и разберемся.
2
Чикаго поразил и ошеломил Санни Маклиша, вообще-то готового увидеть нечто подобное. На каждом шагу автомобили, подземка, высоченные дома, толпы озабоченных людей, словно бы спешащих сделать последнее, самое неотложное дело в своей жизни.
До сих пор Санни не видел города больше Шайенна, и первые часы, в течение которых он покидал центральный вокзал Чикаго, ехал на трамвае, потом в подземке, потом просто шел по вечерней улице, были для него временем настоящего потрясения.
На Маклише был очень приличный костюм за тридцать долларов, черные комбинированные ботинки с белым верхом, в правой руке он держал все тот же шайеннский саквояж. Сумма в мешке кассира оказалась даже большей, чем предполагаемые три тысячи долларов. Они с Бревером аккуратно, до последнего никеля[11] разделили все, потом расстались, так решил Санни. Бревер не очень возражал.
Ближе к вечеру Санни нашел отель за восемь долларов в сутки с ванной и туалетом. Он накупил газет и следующие полдня провел за их изучением.
Вскоре он снял отдельную комнату на Западной стороне за пятнадцать долларов в месяц. В комнате находились только железная кровать, небольшой расшатанный стол и стул в таком же состоянии. Зато здесь имелись водопроводный кран и стальная раковина под ним. Санни, которого не успел за несколько дней избаловать отдельный номер отеля, это вполне удовлетворило. За всю предыдущую жизнь он привык довольствоваться даже худшими условиями.
В первый месяц он знакомился с городом. Поднимался в шесть утра, умывался, брился и покидал свое убежище, чтобы вернуться часов в семь вечера. У домохозяина, мистера Поклэнски, наверняка сложилось о нем впечатление, как о молодом человеке, имеющем хорошо оплачиваемую — судя по внешнему виду — работу.
Санни посещал пивные, харчевни, бары, небольшие кафе, высматривая и прислушиваясь ко всему, что могло интересовать только его. В начале следующего месяца он спокойно ограбил кафе на Северной стороне. Вошел туда, заказал чашку кофе и сэндвич с ветчиной, расплатился, поел, рассеяно разглядывал полупустое помещение — поток утренних посетителей схлынул — потом поднялся, подошел к хозяйке, стоявшей за стойкой и тихо сказал:
— Это ограбление, мэм. В правом кармане моего пиджака револьвер, так что не советую шуметь.
Он держал руку в кармане.
Женщина за стойкой побледнела и не двигалась.
— Поживее, мэм, — напомнил он. — Я очень спешу. Деньги у вас в коробке, вон там, — он кивнул.
Словно зачарованная, она подняла коробку до уровня стойки. Санни спокойно выгреб бумажки левой рукой, оставляя в коробке металлические монеты и мелочь, сунул деньги в карман.
— Спасибо, мэм, — сказал он, приподняв шляпу все той же левой рукой, — вы свободны.
Удалился он неспешной походкой, но, выйдя из кафе, тут же стремительно юркнул в ближайший переулок, пересек несколько параллельных улиц и остановил таксомотор. В автомобиле он спокойно подсчитал добычу. Чуть меньше двадцати долларов. На первый раз неплохо. За такие деньги он должен был вкалывать в Шайене шесть дней по десять часов в день.
Он остановил такси в центре, зашел в бар, заказал порцию виски, посидел, размышляя о чем-то своем, потом подошел к телефонному аппарату, висевшему в застекленной кабинке в углу, снял трубку, назвал номер.
— Хэлло, — сказал он. — Ты свободна?
Она, то есть, Эдна, оказалась свободной. Значит, ему еще раз повезло за сегодня. С Эдной он познакомился недели две назад. Точнее говоря, она с ним сама познакомилась. Трехдолларовая проститутка с отдельной комнатой и телефоном. Ночь с нею стоила семь долларов, угощение за счет клиента. Покидая ее в тот раз, Санни подумал, что вряд ли она работает одна — хоть Чикаго и большой город, но такой юной особе вряд ли позволительно заниматься самостоятельной деятельностью.
Когда он тогда взглянул на Эдну, то в первый момент не понял, зачем она обратилась к нему. Высокая, стройная, ухоженная, благоухающая дорогими духами, она и отдаленно не напоминала шлюху — такую, как Санни встречал в Шайенне и в других, столь же заброшенных и грязных городишках. Те были, все как одна, грубо размалеваны, лица многих из них носили печать злоупотребления алкоголем, одевались они либо неряшливо, либо кричаще, но чаще то и другое сразу.
Да и в обращении это было небо и земля. Санни было даже слегка неловко на следующий день после встречи с Эдной: воспитанность, вежливость и вместе с тем гораздо большая раскованность по сравнению с прежними партнершами, новизна ощущений.
Он позвонил ей снова, но она оказалась занятой. Занятой она могла быть только другим. Это сначала очень огорчило, даже расстроило Санни, но потом он вернулся в свое обычное состояние. Ничему не следует слишком радоваться и ни от чего не стоит приходить в лишком большое уныние.
В этот раз Санни купил шампанское, ликер, бисквиты — на большее у него просто не хватило фантазии, хотя денег он не жалел — и поехал к Эдне.
Она открыла ему, свежая и чистая, и Санни во второй раз подумал о том, что шлюха не должна быть такой.
Но Эдна оставалась такой даже после бурных занятий любовью. Она сидела в постели, обнаженная, только бедра прикрыты простыней, в правой руке держала фужер с шампанским, а левой подносила ко рту песочное пирожное, изящно оттопырив розовый мизинчик с наманикюренным ноготком. При этом она умудрилась не уронить на простыню ни одной крошки.
— Мне бы хотелось почаще бывать с тобой, — сказал Санни, думая только о том, о чем он говорил.
— Не вижу к этому препятствий, — спокойно ответила Эдна и отхлебнула глоток. — Но я тебе слишком дорого обойдусь.
— Что значит — дорого?
— Дорого — это значит пятнадцать долларов в день.
— И в ночь?
— Ну, пусть будет и в ночь.
— Хорошо, меня устраивают твои условия, — серьезно ответил Санни.
— Слушай, ты все-таки занятный малый, честное слово, — она не смотрела на него, продолжая ловить крошки пухлыми розовыми губками, потом облизывать губы проворным язычком, а Санни смотрел на ее точеный профиль, на белокурый локон, свисающий вдоль мраморного лба с голубоватой веной, на мохнатые ресницы и опять думал о том, что шлюха не может быть такой. — Я тебя вижу всего во второй раз, но ты мне начинаешь нравиться.
— Выходит, в первый раз я тебе совсем не понравился? — безо всякого выражения спросил Санни.
— Почему же не понравился? Зачем бы я к тебе в таком случае подходила? Я говорю о том, что ты — интересный парень, хотя, признаться, с первого взгляда ты произвел впечатление довольно неотесанного.
Ее логика озадачивала Санни — если он произвел на нее впечатление неотесанного, то как же он мог ей нравиться? Но он промолчал, уж чего-чего, а переговорить ее он не в состоянии.
— Ты, наверное, недавно в Чикаго? — предположила Эдна.
— Да как сказать… — неопределенно пожал он плечами. Может быть, для нее и год — недавно.
— И ты ищешь приключений, — теперь уже уверенно заключила она.
Вот с этим Санни уж никак не мог согласиться.
— Нет уж, я предпочитаю жить без приключений. Не всегда, правда, получается.
— То-то и оно, что не всегда, — согласилась она. — Но у тебя было бы гораздо меньше проблем, если бы ты кого-то знал здесь, не правда ли? Того, кто мог бы помочь тебе?
Иной бы на месте Санни сейчас вздрогнул, а он и бровью не повел. Это не объяснялось тем, что у Санни была замедленная реакция. Нет, он испугался, что Эдна так легко раскусила его. Он даже выругался про себя, внешне оставаясь спокойным. Нельзя сказать, что он этот месяц болтался по городу совершенно неприкаянным, абсолютно ни с кем не встречался, не говорил. У него даже знакомые появились в одной пивной в Лейк-Вью. Он с ними виделся уже чуть ли не десяток раз. Два раза он пользовался услугами проституток — не считая Эдны, конечно. Нет, он не чувствовал себя одиноким в полном смысле этого слова и все же… Пожалуй, она точно уловила суть его ситуации, выразив ее одной фразой, из-за чего Санни в очередной раз подумал, что шлюха не должна быть вот такой.
— Может, оно и так, — осторожно согласился он.
— Тогда тебе стоит побывать в баре на 35-й улице. Бар называется «Золотая пчела».
— И что же я там найду, в этой «Золотой пчеле»?
— Не что, а кого. Людей, конечно же.
Он хотел спросить, каких людей, но не стал этого делать, опасаясь раскрыть себя до конца. Да и не хотелось ему выглядеть неотесанным, как она выразилась.
— Там у них всем заправляет Бак Форрестер, — она вытерла изящные розовые пальчики бумажной салфеткой, — но это не значит, что ты можешь врываться туда и требовать от всех, чтобы тебе его показали.
А все-таки она считает его полудурком, подумал Санни, это плохо.
— Это уж я и сам как-нибудь сообразил бы, — проворчал он.
3
В «Золотой пчеле» он появился уже на следующий день, точнее, на следующий вечер. Находясь здесь в первый раз, он просто сидел и присматривался, но вскоре понял, что присматриваются и к нему. Многие здесь звали друг друга по имени, посетители — скорее их следовало назвать завсегдатаями — собирались группками. Но Санни знал, что он должен был выдержать и косые взгляды с многозначительными перемигиваниями, которые он не то что подозревал, а просто кожей чувствовал и, как ему несколько раз показалось, даже успел заметить.
Конечно же, Бака Форрестера в тот раз в «Золотой пчеле» не оказалось. Санни вернулся в свою комнату в половине первого, чем удивил мистера Поклэнски — впервые так поздно со времени появления в его доме, если не считать, конечно, нескольких ночей, в которые Санни отсутствовал полностью.
Он появился в баре во второй и в третий раз, но объект его поисков все отсутствовал. Санни вполне мог предполагать, что его приняли за полицейского агента. Так оно и случилось, потому что когда Форрестер все-таки появился, ему сразу указали на нового человека и выразили свои соображения по его поводу. Бак Форрестер, высокий, худой, черноволосый, с бледным и нервным лицом кокаиниста, сразу распорядился, чтобы «с этим парнем разобрались». Двое подручных Форрестера направились к Санни, решившему, что хотя и возможны сложности, но он все же прорвется.
— С тобой хотят поговорить, — наклонившись к нему, тихо произнес один из посланцев, — идем.
Санни поднялся и пошел — держа курс на Бака Форрестера. Но когда до того оставалось шага три — четыре, один из сопровождавших схватил Санни за локоть мертвой хваткой и, указав на запасный выход, произнес сдавленным голосом:
— Туда!
Дело принимало весьма скверный оборот, об этом и дурак мог догадаться. О том, чтобы убежать, не могло быть и речи. Они шли по узкому проходу: впереди человек Форрестера, за ним Санни и замыкал шествие второй проводник, у которого — в этом Санни мог быть на сто процентов уверен — револьвер, находившийся в кармане, смотрел в его спину.
Идущий впереди собирался уже было толкнуть ногой дверь, ведущую на улицу, как та вдруг распахнулась, будто бы сама собой, и одновременно раздался выстрел. Человек, шедший перед Санни, стал медленно оседать. Одной секунды Санни хватило для того, чтобы, схватив левой рукой падавшего за шиворот, выхватить из кармана пиджака револьвер и выстрелить точно в лоб появившемуся в проеме двери человеку. Оставаться в узком пространстве коридора было опасно. Санни выстрелил еще раз, не целясь, прыгнул в темноту за дверью, ожидая увидеть перед собой вспышку и ощущая уже заранее яростный тупой удар в грудь или в лоб.
Но ничего этого не произошло. Задний двор был пуст. Зато из бара доносились выстрелы. Санни, держа револьвер у бедра, бросился обратно, перепрыгнув через два трупа, лежавшие по одну и другую стороны от двери. Человек Форрестера» сопровождавший его раньше, тоже сориентировался в ситуации и теперь крался по проходу, прижимаясь к стене. Он подскочил к двери, ведущей в бар и стал стрелять, сжимая револьвер обеими руками.
Санни видел, что у входа в бар, у того входа, что с улицы стоит мужчина в низко надвинутой на лоб шляпе и поливает зал огнем из двух пистолетов. Он не спеша поднял револьвер, старательно прицелился и нажал на спусковой крючок, а потом — уже увидев, что мужчина в шляпе дернулся, запрокидывая голову и поднимая руки с пистолетами вверх — выстрелил еще раз, для верности. В зале раздались еще два выстрела, потом все стихло.
Человек Форрестера, несколько минут назад сопровождавший Санни, теперь обернулся к нему, покачал головой и ухмыльнулся — как отметил Санни, удивленно.
— Что дальше? — одними губами произнес Санни.
Человек Форрестера пожал плечами. Потом он крикнул в зал:
— Эй, Бак! Ты в порядке?
— В порядке, Стив, — послышалось из зала. — Во дворе больше никого нет?
— Все чисто, Бак. Давай сюда.
Из зала послышался шум, потом в дверном проеме появился Форрестер. Правой рукой с пистолетом в ней он держался за левое плечо. Левый рукав светлого пиджака и даже часть полы была пропитана темной кровью. Следом за Форрестером в тесный проход вступили еще двое.
Стив указал Санни на выход, и тот, мгновенно поняв его, пошел впереди всех, держа перед собой револьвер в обеих руках.
Бак Форрестер, с лицом бледнее обычного, голый по пояс, с толстой, пропитанной кровью повязкой на левом плече, полулежал на низкой кровати, прихлебывая виски прямо из горлышка бутылки и с интересом рассматривал сидевшего перед ним Санни.
— Значит, ковбой, тебе рекомендовали обратиться ко мне? — спросил он.
— Выходит, что так, — кивнул Санни.
— И кто же тебе рекомендовал?
— Да так, один человек, который тебя знает.
— Вот как? Тот человек случаем не из полиции?
— У меня пока нет знакомых в чикагской полиции.
— Пока нет. Но ты, конечно, надеешься вскоре познакомиться с кем-нибудь?
— Не больше, чем ты, — Санни выглядел абсолютно спокойным.
— Послушай, ковбой, а ведь ты вообще-то наглец, — покачал головой Форрестер. — Тебя подослали копы, мы тебя раскусили, а ты еще пыжишься доказать что-то.
— А мне нечего доказывать. Я кое-кому кое-что доказал в вашей забегаловке.
— И что же ты доказал? Уложил одного из своих — то ли с перепугу, то ли что-то напутав — а теперь втираешь мне очки, рассказывая байки о том, какой ты крутой парень с Запада.
— Я уложил двоих, а не одного. А если бы это были копы, ты бы сейчас не говорил уже со мной, ты это не хуже моего знаешь.
— Нет, ну ты и нахал, ковбой, — Форрестер покачал головой, поморщился и приложился к бутылке. Оторвавшись от горлышка, он еще раз поморщился и спросил:
— Ведь он нахал, Стив?
— Еще и какой, Бак! — с готовностью ответил Стив. — А двоих-то он ухлопал точно. Даже если он и фараон, — тут Стив осклабился, — все равно стреляет будь здоров.
— Вот он тебя как-нибудь и ухлопает, — проворчал Бак Форрестер. — Так ты говоришь, что тебя зовут Санни Мейсон?
Санни на всякий случай назвал фамилию Мейсонов, чья ферма находилась недалеко от фермы его родителей в Вайоминге.
— Именно, — кивнул он, — Санни Мейсон.
— Ну, черт с тобой, Ковбой Мейсон. Перед тем, как ты пристрелишь Стива, признайся ему, что ты из полиции.
4
Налет на бар «Золотая пчела» совершили люди Лесли Пратта, оспаривавшего у Форрестера права на его участок. Лесли послал пятерых, которые все погибли. Четверо людей Форрестера были убиты в перестрелке, а сам он получил достаточно неопасное ранение, в самый последний момент успев перелететь через стойку бара. Конечно, это были достаточно мелкие стычки начинающих главарей, некоронованных королей Чикаго в будущем. На фоне самой настоящей войны банд, начавшейся здесь лет пять-семь спустя, первые попытки оспорить права на единоличное владение территорией выглядели дилетантскими.
Но и в то же время, во второй половине 1914 года, Бак Форрестер сделал все возможное, чтобы укрепиться на своем участке. При этом он вел себя очень естественно — как хищник, желающий победить другого хищника. Только в случае диких зверей возможно обычное изгнание соперника с территории, а в случае Форрестера и Пратта альтернативы физическому устранению одного из них не существовало.
После налета на «Дикую пчелу» Лесли Пратт залег на дно. Даже полицейские, те, что находились на содержании Бака Форрестера, не знали местонахождения Пратта. Ясно было, что тот сейчас быстро перестраивал свои ряды, обдумывая планы очередной атаки. Потеря времени стороной Бака Форрестера грозила последнему самыми серьезными осложнениями — теперь Пратт уже не остановится ни перед чем, он просто обречен был наступать.
Тихая квартира на 31-й улице была раскрыта женщиной, бывшей подружкой Лесли Пратта. Несколько дней Стив, Санни, получивший с легкой руки Форрестера кличку Ковбой Мейсон, и еще один из людей Форрестера вели наблюдение за домом на 31-й улице. Наконец, на четвертый день Стив удовлетворенно сказал:
— Точно, он наверняка здесь. Вон те два типа — из его банды. Самые что ни на есть приближенные к Пратту люди. Уж Вонючку Пити я всегда узнаю, сукиного сына.
Решено было провести самую настоящую разведку боем. План состоял в том, что в банде Пратта никто не знает Санни. Он должен будет подняться на площадку третьего этажа, где размещалась квартира, в которой, как предполагалось, скрывался Пратт и, громко постучав или позвонив в дверь, быстро подняться на площадку этажом выше. Далее надлежало действовать по обстоятельствам, наблюдая реакцию обитателей квартиры. План этот предложил сам Санни, а его сообщники согласились.
Ковбой Мейсон так и сделал. Поднявшись на третий этаж, он долго звонил, рискуя быть изрешеченным через дверь, потом взбежал наверх, выхватил револьвер и стал ждать. Дверь медленно отворилась, из нее осторожно выглянул мужчина. Пуля из револьвера Санни попала ему в голову чуть выше и сзади правого уха. Расчет Ковбоя Мейсона был удручающе прост — если в квартире и в самом деле засел Лесли Пратт, то на одного обороняющего станет меньше, если же девица соврала, а предположения Стива насчет Вонючки Пита ошибочны, то несколько погибших жителей Чикаго явятся просто неизбежной платой за неточности в расчетах.
Но, как выяснилось через секунду, верным оказался первый вариант: из двери выскочил человек, сразу же прилепившийся к стене и пославший пулю в направлении Санни. Это был очень опытный и умелый стрелок, пуля просвистела всего в нескольких дюймах от головы Санни и, ударившись о стену, срикошетировала. Санни моментально вжался в стену и наугад выпалил вниз, но промахнулся. Зато стрелявший снизу, который теперь оказался в абсолютно равных с ним условиях, стрелял поточнее: пуля из его револьвера задела плечо и шею Санни и хотя прошла по касательной, но вызвала сильное кровотечение.
Неизвестно, сколько времени продолжалась бы эта дуэль у стены, если бы появившийся на нижней площадке Стив не влепил ловкачу, выскочившему из двери квартиры, пулю в нижнюю челюсть. Стрелок согнулся, отделившись от стены, а в следующий момент его прошили две пули — одна снизу, другая сверху.
— Черт тебя побери, Ковбой! — заорал Стив. — Ты еще, чего доброго, и меня пришьешь.
— Как-нибудь позже, — спокойно отозвался Санни.
Он осторожно спустился по лестнице, прижимаясь к стене, и, сунув руку в открытый проем двери, выпалил два раза наугад. Из квартиры прозвучал залп не менее чем из трех револьверов или пистолетов.
— Неплохо, — сказал Санни. Он выбросил барабан револьвера и заменил в нем четыре отстрелянных патрона новыми. — Слушай, нам надо или побыстрее кончать с ними, или сматываться, пока сюда не нагрянули фараоны.
— Надо кончать, — прокричал снизу Стив. — Иначе у нас будут еще большие проблемы.
— К черту проблемы, — сказал Санни, вставляя барабан на место. — Сейчас мы их сделаем.
Он еще раз сунул руку в дверной проем и снова выстрелил. На этот раз из квартиры прозвучала самая настоящая канонада. Как только последняя пуля ударилась о противоположную стену, Санни, перескочив через два распростертых тела, влетел в квартиру. Он прижался к стене, помня о том, что в барабане у него осталось пять патронов, а здесь его ждут, как минимум, три ствола, готовые изрешетить его в долю секунды.
— Эй, Стив! — крикнул он. — Я уже здесь.
Смельчак, возникший на фоне окна и выстреливший на звук его голоса, тут же рухнул. Пуля попала ему в левую сторону груди.
— Входи, Стив, не бойся, их уже совсем мало осталось, — позвал Санни.
Стив ввалился в открытую дверь вместе с Майком, третьим участником налета. Майк должен был наблюдать снаружи и прикрывать их, если вдруг у осажденных появится подкрепление с улицы.
— Эй, Пратт, лучше тебе застрелиться самому, если ты здесь, ублюдок, — крикнул Стив.
В ответ раздался выстрел. Очевидно, кто-то быстро высунул руку с оружием из-за утла и быстро нажал на спуск.
Стив тут же быстро рванулся вперед. Он выставил вперед левое плечо и нырнул вниз, перекатываясь через него. Санни даже восхититься не успел, как Стив уже палил с пола. Послышался грохот падающего тела — очевидно, Стив достал кого-то. Санни, держа перед собой револьвер обеими руками, вбежал в комнату, где был Стив и выстрелил, едва только увидел перед собой темное движущееся пятно. Он понял, что попал, уже инстинктивно бросившись к стене и прижавшись к ней спиной. Спина его была мокрой от крови, более мокрой, чем он мог предположить.
— Ку-ку, — произнес Стив. — Похоже, все.
Он прошел в другую комнату, но никого там не обнаружил. Человек, которого застрелил Санни, сжимал в обеих руках по пистолету.
— Это Вонючка Пит, — сообщил Стив. — Отстрелялся. А Пратта все-таки завалил я. — Он перекатил ногой тело мужчины, которого поразил, падая на пол. — Но без тебя, Ковбой, мне бы ни в жизнь такого не наворотить. Однако теперь нам уж точно пора сматываться.
5
На следующий день Санни позвонил Эдне и сказал: — Эй, детка, если даже ты и занята, я все равно приду к тебе сейчас же. Объясни парню, если какой есть сейчас у тебя, что лучше бы ему смотаться подобру-поздорову.
Появившись у нее, он снял пиджак. Под воротом его сорочки выпирала толстая нашлепка.
— Теперь-то я уж точно могу сказать, детка, что предоставлю тебе пятнадцать монет в день Кто-нибудь, кроме тебя, будет возражать, если все монеты останутся у тебя?
— Теперь уже нет, — просто, безо всякого выражения ответила Эдна.
— Вот ведь как? — деланно удивился Санни. — А я-то думал, что у тебя по-прежнему есть дружок, который тебя опекает.
Дружок, опекавший Эдну, отказался от нее, едва только Бак Форрестер достаточно вежливо попросил его об этом.
Убрав Пратта и одновременно получив в подручные Ковбоя Мейсона, Форрестер существенно укрепил свои позиции на занятой территории. Теперь уже никто не стоял на его пути, кроме, разумеется, полиции, предпочитавшей до поры, до времени не слишком быстро реагировать на жалобы тех последних владельцев заведений, которых Форрестер сжал мертвой хваткой. Теперь он обложил поборами всех до одного лавочников, рестораторов, сутенеров, держателей подпольных игорных заведений.
Однако Форрестеру, как натуре неуравновешенной, столь слишком быстрое возвышение не пошло на пользу. Он попросту не вынес испытания величием — хотя и относительным. Через несколько недель после своего окончательного воцарения в районе Бак Форрестер был застрелен полицейскими в собственной постели. Естественно, в руке он сжимал пистолет, из которого успел сделать несколько выстрелов, оказывая сопротивление полиции.
Когда возник естественный вопрос, кто теперь заменит Форрестера, Санни не мешкал ни секунды. Конечно, он был новичком, работал на Форрестера меньше трех месяцев, конечно, Стив мог считаться ветераном по сравнению с ним. Однако Санни твердо усвоил, что всякая уступка, пусть даже небольшая жертва в пользу другого — это слабость, это сползание вниз. Никто не мог соперничать с Ковбоем Мейсоном в решительности, хладнокровии, жестокости. Это понимал и Стив. К тому же Стив слишком долго пробыл на вторых ролях, слишком привык к беспрекословному подчинению. Он не часто принимал самостоятельные решения, потому что Форрестер очень подозрительно относился к проявлению инициативы своими подчиненными, инициативу позволялось принимать только в тех случаях, когда надо было спасать самого Форрестера или спасать собственную жизнь, устраняя противника с наименьшим для себя вредом и издержками.
Сделавшись главарем, Санни быстро укрепил связи с полицией, руководствуясь чисто интуитивно принципом: «Хочешь иметь добычу в следующий раз — поделись добытым сейчас». Он лично встретился со старшим лейтенантом Даубеллом и передал ему аккуратный пакет.
— Это скромный знак благодарности от жителей района, — малограмотный выходец из вайомингской глубинки мог в случае необходимости изъясняться достаточно высоким слогом. — Вы навели у нас порядок, мистер Даубелл. Мы и впредь желаем видеть вас на своем посту, причем, находящимся в добром здравии.
Эта встреча происходила в служебном автомобиле Даубелла, за рулем которого находился он сам. Санни извлек глубокие уроки из случая взбалмошного и капризного своего предшественника. У него пока еще было слишком мало сил и влияния не только для того, чтобы позволить себе не то что говорить с полицейскими в том пренебрежительном тоне, который позволял себе Форрестер, но даже и в малом прекословить им. Хотя он ни в коем случае не вел себя заискивающе и подобострастно, он просто выражал уважительное почтение, как делает это младший по иерархии хищник в стае.
Конечно же, он покинул дом мистера Поклэнски и переселился на 35-ю улицу — в одну квартиру с Эдной. Они встречались теперь почти каждый вечер — за исключением только тех случаев, когда Санни отсутствовал ночью. Эдна поразила его: оказалось, что она весьма неплохо готовит. Да и порядок в квартире, какой-никакой, она все же поддерживала самостоятельно.
— Странное дело, — сказала ему как-то Эдна. — Мы с тобой живем в этой квартире уже больше месяца, а я о тебе почти ничего не знаю.
— Разве это обязательно? Неужели ты будешь чувствовать себя более счастливой, если узнаешь что-то обо мне? — пожал плечами Санни.
— Да как сказать… Ведь у тебя же было какое — то прошлое.
— Еще бы ему не быть. Только знаешь, я так думаю, что как только человек начинает ворошить свое прошлое, так ему тут же и крышка. Или еще наоборот бывает — если человеку конец приходит, так он прошлое обязательно вспомнит, — криво усмехнулся Санни. — Я же тебе говорил, что я из Вайоминга. Там просто ничего не случается. Вернее, сейчас не случается, в наше время. Раньше-то на ферме, где жили моя мать и отец, случалось многое. Меня еще на свете не было, когда один парень захотел выкурить всех моих родственников с фермы. Много там шума было. И я так думаю, что отец с матерью здорово испугались. Они наверняка были испуганными, когда делали меня, — он опять ухмыльнулся. — Так что я вроде как испуганным от рождения получился. Я знаю одно — надо каждый день быть начеку. Может быть, со мной когда-то что-то и случится, такое, что поневоле придется прошлое вспоминать, потому как больше ничего и не останется. А до тех пор я только про свой вечный испуг и помню, и это хорошо — иначе бы мне давно уже на ходу уши оборвали.
Большего Эдна не могла от него добиться, да она, собственно, и не очень добивалась. Сама она родилась в большой семье в Сент-Поле. Во время кризиса девяносто шестого года, когда ей было семь лет, отец потерял работу и значительную часть своих сбережений. С тех пор Эдна практически никогда не видела его трезвым. Спустя несколько лет к отцу присоединилась и мать, но финала Эдна не видела — в шестнадцать лет она бежала из дома с коммивояжером. Впрочем, определение «бежала» не слишком подходило в ее случае — родители наверняка нескоро заметили ее отсутствие, а заметив, не очень горевали. Коммивояжер бросил ее здесь, в Чикаго, но ее почти что на следующий день подобрала одна довольно состоятельная семья, где сын пленился ангельским видом молоденькой простушки, сочинившей, кроме того, весьма трогательную историю о заболевших и умерших почти что в один день родителях — переселенцах. Эдна была принята в семью, а через несколько месяцев молодой человек женился на ней. Она прожила в той семье два года, которые, наверное, следовало бы назвать счастливыми. Но у молодой пары не было детей, и неизвестно, кто являлся тому виной — Эдна или ее молодой супруг. Вряд ли только это обстоятельство способствовало тому, что Эдна стала изменять мужу, скорее всего, она просто не могла этого не делать. Связь довольно скоро раскрылась, потому что любовник Эдны был хорошим знакомым ее мужа, во-первых, и отличался излишней словоохотливостью в подпитии, во-вторых. Эдну изгнали из дома. В восемнадцать с половиной лет она уже была достаточно самостоятельной для того, чтобы не затеряться, не пропасть в большом городе. Она сделала ставку на свою внешность и стала выигрывать кон за коном. Эдна никогда не стояла на панели в прямом смысле этого слова. Ее клиентами почти всегда были состоятельные люди, по нескольку месяцев содержавшие ее. Некоторые даже снимали для нее квартиры. Некоторых она выбирала потому, что они ей нравились, как это было в случае с Санни. Так она прожила около четырех лет, пока один из ее клиентов не стал паразитировать на ней.
6
Ковбой Мейсон достаточно успешно контролировал свой участок, но полный контроль, конечно, был недостижим даже в принципе. Ограбление ювелирного магазина Залкинда явилось первой достаточно крупной неудачей Санни с тех пор, как он правил вместо Форрестера.
Барри Залкинд регулярно платил Форрестеру, столь же регулярно он продолжал платить и Санни, так что этот пожилой еврей имел все основания быть недовольным, когда его ограбили. Одно дело, когда платишь полиции в виде налогов, отдаваемых государству — поди узнай, сколько из этой суммы попадает к полицейским твоего города и района. И совсем другое дело, когда отдаешь живые, кровные человеку, обязавшемуся всячески ограждать тебя.
Самое досадное заключалось в том, что ювелирный магазин Залкинда размещался всего в двух кварталах от дома, в котором жил Санни; Судя по описаниям внешности грабителей, они были даже не из близлежащих районов. Стив и другие «старожилы» в один голос заявили, что таких рож по соседству не водилось. Выходит, их следовало искать по всему Чикаго, как минимум. Они вообще могли оказаться «гастролерами», приехавшими из другого города на несколько дней.
Но вскоре был ограблен магазин одежды. Приметы грабителей совпадали с приметами тех, кто ограбил Залкинда. Санни надо было действовать, чтобы его авторитет не упал непоправимо низко. Действовать, но как? Ведь не поставишь же на круглосуточное дежурство своих людей во все заведения, платившие дань — для этого просто народа не хватило бы. Санни понял, что ему надо было уже после случая с Залкиндом рекомендовать владельцам заведений в случае нападения на них в первую очередь звонить не в полицию, а ему, Мейсону. Он бросил на время все дела и теперь почти по целым дням сидел дома, ожидая звонка, и однажды телефон зазвонил.
— Это Линда Флеминг, — голос женщины звучал странно тихо, она говорила почти что шепотом.
— Да, миссис Флеминг, — Санни узнал жену Флеминга, владельца небольшого ресторанчика. — Почему вы так тихо говорите? К вам пришли? — догадался он.
— Да, — еле слышно прошелестела трубка.
Санни, ни секунды больше не раздумывая, схватил два револьвера, сунул их в карманы и, даже не набросив пальто, выбежал во двор, где стоял его новый автомобиль. Грабителей наверняка было несколько человек. Заехать за Стивом или кем-то еще из своих людей? Некогда.
Он остановил автомобиль недалеко от входа в ресторан, обратив внимание на другой «Форд», подъехавший, судя по отпечаткам протекторов на снегу, совсем недавно. Если грабители приехали в нем, то все в порядке — во-первых, их не так много, во-вторых, они еще в ресторане и возвращаться будут только сюда.
Санни сунул руки в карманы пиджака, взвел курки револьверов и, не вытаскивая рук наружу, заспешил к двери. Осторожно открыв дверь ногой, он увидел человека, стоявшего у входа. Незнакомец в светло-сером шерстяном пальто и желтых перчатках держал в одной руке пистолет, подняв его дулом вверх.
Раздумывать было некогда, да Санни, собственно, всегда в подобных случаях действовал чисто автоматически, рефлекторно. Вот и сейчас он нажал на спуск револьвера, находившегося в правом кармане, и сразу же отпрянул назад, чтобы потом броситься в сторону, под спасительное прикрытие стены. Теперь он не сводил глаз от входа в ресторан. Грабители должны будут выйти только сюда — из ресторанчика просто нет другого выхода, если, конечно, исключать возможность побега через окно туалета с противоположной стороны здания. Человека в сером пальто он наверняка ранил, его в узкое окно не вытащишь.
По улице шли люди, проезжали автомобили. Падал негустой мокрый снег, который сразу же превращался на мостовой в мокрую кашу. Никто не обращал внимания на человека без пальто, стоявшего под стеной дома без пальто и шляпы, и ожидавшего невесть чего.
В дверях появился мистер Флеминг. Он шел, неестественно прогибаясь вперед. Через мгновенье Санни понял, чем объяснялась такая странная манера передвижения — человек сзади мистера Флеминга держал его левой рукой за шиворот, а правую, очевидно, с оружием в ней, приставил к спине ресторатора. Человек этот все правильно рассчитал, а выйдя на улицу, он мгновенно сориентировался в обстановке.
— Эй ты, ублюдок, — крикнул он Санни, — попробуй только пошевелиться, и я тут же продырявлю его.
Санни не оставалось ничего иного, как только наблюдать вынос раненого его двумя сообщниками. Что же, он хотя бы убедился в том, что грабителей было четверо, как и во всех предыдущих случаях. Интересно, как эти типы выкрутятся сейчас? Поднимать стрельбу прямо здесь, на оживленной улице, они вряд ли решатся, так что ему, наверное, не стоит опасаться пули, выпущенной из автомобиля. Этим парням вообще теперь дополнительные осложнения ни к чему, им бы удрать с меньшими потерями.
Те двое уже закончили погрузку в автомобиль своего раненого товарища. Человек, державший Флеминга, стал тоже передвигаться к автомобилю — боком, располагая Флеминга таким образом, чтобы тот все время оказывался между ним и Санни. Достигнув автомобиля, он что-то негромко скомандовал сообщникам. Подождав некоторое время, пока заведется и разогреется мотор, он быстро влез в автомобиль и втащил вслед за собой Флеминга.
Скверно, подумал Санни. У него оставался один выход — преследовать грабителей на автомобиле. И делать это придется в одиночку. Водитель из него никакой, за руль он сел впервые месяца два назад. Играть на чужом поле, да еще не в свою игру — вот что ему предстояло. Рискнуть?
Он подбежал к своему автомобилю и тут же решил отказаться от преследования. Надо делать то, что у него получается лучше всего. Встав за «Форд» и используя его как прикрытие, Санни прицелился и выстрелил в правый задний скат уже отъезжавшего автомобиля. Есть! Автомобиль еще шел ровно, но Санни уже почувствовал, что пуля пробила баллон. Он выстрелил во второй раз, целясь во второе колесо, затем для верности, произвел и третий выстрел. Кажется, и в этом случае все было, как надо. Теперь уже автомобиль, вильнув сначала в одну, затем в другую сторону, остановился.
Что же, Санни мог теперь пожелать этим парням выкручиваться, как они сумеют — сверху по улице уже неслось несколько полицейских машин. Оказались они неподалеку случайно и поспешили на звуки выстрелов, или та же миссис Флеминг успела дозвониться также и в полицию — это Санни не интересовало, ему лучше было побыстрее смотаться отсюда. Пусть уж теперь его друг капитан Даубелл поработает — в том числе и на его репутацию.
Полицейские и в самом деле сработали, как надо, арестовав четверых вооруженных грабителей. Те даже не стали оказывать сопротивления — шансы были слишком неравными. Конечно, весь успех этой операции полиция присвоила себе, но в данном случае Сан — ни надо было просто избавиться от докучливых конкурентов. А вообще-то неизвестно, кто теперь оставался кому должен — он Даубеллу или Даубелл ему.
7
Соединенные Штаты вступили в войну, а вместе с этим «сухой закон» распространился повсюду, как забота президента Вильсона, конгресса и правительства о дисциплине и порядке на рабочих местах.
Естественно, что введение «прогибишна»[12] явилось для очень многих тем же, чем было когда — то открытие золота в Калифорнии или меди в Монтане. К этим многим относился и Ковбой Мейсон, который, во-первых, сразу же наладил оптовые поставки запрещенных крепких напитков в Чикаго, а во-вторых, открыл на своей территории подпольные бары и магазины, торгующие виски.
Но как большая вода, разлившись, меняет весь ландшафт, так изменилась и обстановка в Чикаго в связи с введением «прогибишна». Ковбой Мейсон сейчас вовсе не чувствовал себя намного более уверенным, чем четыре года назад, когда впервые попал в этот огромный город. Хотя сейчас у него была роскошная, по сравнению с прошлой, квартира, два автомобиля, а людей на него работало раза в четыре больше, чем на его предшественника Форрестера.
Раньше, едва разбогатев, он любил посидеть с Эдной в ресторане пошикарнее, любил не спеша прокатиться по улицам в автомобиле. Сейчас же в дорогих ресторанах он выбирал для себя, как правило, отдельный кабинет, а в зале при этом оставлял два-три человека охраны. Точно так же он ездил по городу: машина с охраной впереди, а Ковбой Мейсон с телохранителем — на заднем сидении второго автомобиля. Расправа с конкурентами теперь производилась гангстерами более дерзкая и жестокая. Убивали за столиками уличных кафе, на открытых верандах ресторанов, расстреливали в упор из окон автомобиля, остановившегося на другой стороне улицы, приканчивали из револьверов, пистолетов, армейских винтовок, обрезов охотничьих ружей и даже из пулеметов. А конкурентом мог сейчас считаться любой, кто уже имел преступные доходы, или, наоборот, стремился отобрать эти доходы у того, кто уже владел ими.
И война с полицией теперь повелась более жестокими средствами. Ковбой Мейсон мог вспоминать свои почти что идиллические отношения со старшим лейтенантом Даубеллом разве что с нотками тоски по невозвратно ушедшим дням — если бы у него была такая привычка, если бы он не игнорировал прошлое с таким презрением. С тех пор, как прокурором города стал некий Дональд Иствуд, человек молодой, но очень жесткий и решительный, он усилил надзор за полицейскими, да и федеральные агенты теперь тоже подключились к борьбе с бандитами.
Где-то в далекой Европе уже заканчивалась война, в которую Соединенные Штаты послали своих первых солдат только летом прошлого года. Где-то заканчивался уже передел мира, совершаемый миллионными массами людей, предводительствуемых своими монархами, королями, президентами, в то время как здесь он только начался, чтобы греметь еще около двух десятков лет. Так бывает, когда в большом доме делают капитальный ремонт, перекрывая крышу, ломая перегородки, меняя оконные рамы и двери, прокладывая новые трубы и провода, а внизу, в подвале, тем временем крысиная жизнь тоже идет своим чередом, подвластная только законам, присущим миру крыс.
Но как люди вынуждены сталкиваться с крысами, которые всегда обитают около их жилищ, питаясь не только отбросами, но и совершая набеги на хранилища и склады, так и большой мир не мог не быть озадачен проблемой существования мира «подвального», угрожающего не только распространением инфекций, но и серьезным материальным ущербом.
Ковбой Мейсон должен был получить крупную партию виски, разлитого в пятидесятигаллонные стальные бочки и перевозимого под видом химикалий. Груз, стоивший многие десятки тысяч долларов, поставлялся из Канады, перевозился по железной дороге через штаты Мичиган и Индиану, поступал в Чикаго на запасные пути товарной станции, где тихо перекочевывал в кузова грузовиков, а уж те везли его в более укромное место, где семидесятиградусная жидкость разливалась в более мелкую тару, чтобы уже потом разойтись по стаканчикам, бутылкам или карманным фляжкам.
Груз обычно сопровождал Стив или кто-то еще из ближайших подручных Ковбоя Мейсона. В этот раз поехал Стив. Все происходило, как обычно — были сорваны пломбы с дверей товарных вагонов, тяжелые щиты раздвинулись, открывая взгляду ряды голубых цилиндров с надписью «Осторожно, яд!». Хмурые рабочие в кепи и коротких пальто стали привычно перекатывать бочки в кузов подкатившего грузовика, затем загрузили второй и третий.
Но едва был закрыт борт последнего грузовика, как внезапно вспыхнули два прожектора, размещенные где-то высоко на невидимых опорах. Снопы яркого света вырвали из тьмы караван машин, готовый тронуться в путь, а голос, усиленный рупором, прокричал:
— Всем бросить оружие на землю! Выходить из машин, руки за голову! Вы окружены. Здесь федеральная служба расследования.
Один из гангстеров, излишне нервный и неосторожный, распахнул дверцу кабины грузовика, который он сопровождал, и выстрелил, пытаясь погасить один из прожекторов. Пуля прошла мимо, так как невозможно было как следует прицелиться против яркого света. Но исправить свою ошибку стрелок уже не смог: его прошила пулеметная очередь, выпущенная с той же стороны, откуда гремел предупреждающий голос. Следом ударила еще одна, поднимая завесу из крошева льда, снега и грязи перед колесами грузовиков. Смертоносный шквал придвинулся — и баллоны всех трех автомобилей были пробиты с правой стороны.
Стив сидел в легковом автомобиле, всегда сопровождавшем грузовики. Он мгновенно оценил обстановку — надо было спасать себя.
— Обходи грузовики слева! — крикнул он водителю. — И жми на всю железку, если хочешь уцелеть!
Высунув в окно ствол тяжелого пулемета «льюис», Стив вел безостановочную стрельбу в направлении предполагаемой преграды. Автомобиль проскочил строй грузовиков, пролетел ярдов пятьдесят вдоль стены станционной постройки, но тут его ветровое стекло разлетелось вдребезги. Водитель упал на руль, а Стив почувствовал сильную боль в левом плече, словно его ударили тяжелой железной палкой. Автомобиль, потеряв управление, вильнул влево и ударился крылом о стену. Стив, уже открывший дверцу, вывалился от толчка и покатился по земле, выронив при падении пулемет. Остановив свое качение, он, полусогнувшись, припадая на ушибленную левую ногу и свесив вдоль тела безжизненную руку, попытался подбежать к пулемету. Сбоку ударила очередь, и Стив почувствовал сильный удар в правое бедро, отчего он снова свалился.
8
Санни ждал прибытия грузовиков. Прошло уже больше двадцати минут сверх установленного срока, а Стива с грузом все не было. Нервничая и предчувствуя недоброе, Санни подошел к телефону и позвонил своему человеку, служившему на железнодорожной станции:
— Беннет, быстренько смотайся к месту погрузки и выясни, какого черта они там застряли!
— Там стреляли, босс, — Беннет говорил приглушенным голосом.
— А теперь?
— Теперь все стихло. Похоже, это были фараоны, босс.
Первым побуждением Ковбоя Мейсона было немедленно помчаться на место схватки, но уже через несколько секунд он остыл и стал размышлять над тем, как можно побыстрее узнать о судьбе Стива и остальных своих людей. То, что тысяча галлонов спирта пропала, уже не подлежало сомнению. Но почему все-таки обмишулился Стив? Полиция, наблюдавшая за погрузочной станцией, была куплена Ковбоем Мейсоном на корню. О том, чтобы «запсиховал» кто-то из полицейских, не могло быть и речи — все они получали от Санни суммы, более чем вдвое превышающие их служебные оклады. Тогда, значит, проболтался кто-то из своих. А если Беннет ошибся, и нападение совершила вовсе не полиция, а кто-то из конкурентов? Но ведь Беннет имел какие-то основания полагать, что на его людей напали полицейские.
Санни позвонил Делинджеру, опытному адвокату, услугами которого ему уже приходилось пользоваться. Но, как назло, Делинджера не оказалось дома. Санни удалось соединиться с ним только в половине первого ночи:
— Мистер Делинджер, у одного нашего общего приятеля возникли проблемы. Срочно нужна ваша помощь.
— Давайте обсудим это завтра, — по голосу Делинджера чувствовалось, что его меньше всего сейчас волнуют чьи-то проблемы.
— Нет, мне необходимо встретиться с вами сейчас же, — он понимал, что должен во что бы то ни стало «дожать» адвоката.
— Ладно, — проворчал Делинджер.
Санни был у него через двадцать минут. Адвокат встретил его в холле, одетый в светло-серые шерстяные брюки, черные лакированные штиблеты и синий шелковый халат, надетый поверх рубашки с галстуком — «бабочкой». Очевидно, Делинджер был на каком-то приеме. Санни вдруг захотелось спросить адвоката, как там было с выпивкой. Естественно, он не стал этого делать. Он достаточно вежливо извинился и сказал:
— Не могли бы вы, пользуясь вашими связями и знакомствами, узнать, что случилось со Стивом Кокрейном? Он поехал на вокзал встречать одного нашего общего знакомого, но там его, похоже, арестовала полиция. Естественно, что это какое-то недоразумение.
— Откуда вам известно, что он арестован? — в голосе Делинджера слышалось недоумение.
— Он успел позвонить мне.
— Вот как? Значит, я должен узнавать о том, что же там с ним случилось на самом деле? Каким же образом я буду пользоваться своими связями и знакомствами?
Подавляя в себе страстное желание выхватить из кармана револьвер и сунуть его в ноздрю адвокату, Санни сказал:
— Насчет того, каким образом вы это сделаете, то не мне вас учить, мистер Делинджер. К вам я обратился потому, что доверяю. Очень надежный вы человек. Мы же не одно уже дельце вместе с вами обтяпали, — теперь уже Санни отбросил деликатничанье, в голосе его чувствовался нажим. — Здесь тысяча долларов, — он подал адвокату пачку, — и это даже не аванс, это просто скромная плата за то, что вы узнаете, как же это так вдруг арестовали ни в чем неповинного человека. А уж потом, если у полиции все-таки возникли к нему какие-то претензии, мы с вами попытаемся помочь Кокрейну. Вы меня знаете — я в долгу никогда не оставался.
— Значит, скорее всего, какие-то проблемы у него наверняка уже возникли? — адвокат вертел в руках пачку банкнот, он явно раздумывал над тем, стоит ли ему ввязываться в дело, могущее поставить его в щекотливую ситуацию. Делинджер до сих пор не был особенно разборчив в выборе средств для получения заработка, и такие, как Ковбой Мейсон составляли довольно значительную часть его клиентов. Но, во-первых, в данном случае он просто интуитивно почувствовал вдруг грядущие серьезные осложнения, а во-вторых, с некоторых пор он связал свое будущее с политикой и теперь тщательно взвешивал на весах общественного мнения каждый предстоящий процесс, думая прежде всего о том, какой резонанс он вызовет в прессе.
Санни не понимал причин колебания адвоката. Ведь раньше тот был гораздо смелее. Что-то подсказало ему не применять тактику прямого давления, и он, подавляя в себе злость и раздражение, сказал:
— Мистер Делинджер, я вас уверяю, что ничего противозаконного Кокрейн не совершил. Правда, он временами бывает вспыльчив, мы с вами знаем это, ну да с кем не случается, — Санни улыбнулся адвокату самой бесхитростной улыбкой, на которую только был способен. — Время позднее, так что я лучше уж пойду.
Он поклонился, все так же лучезарно улыбаясь, и попятился к двери:
— Я позвоню вам завтра.
Выбежав из дома Делинджера и усевшись за руль автомобиля, Санни дал выход своей ярости, ругаясь на чем свет стоит. Да что же случилось с этим адвокатишкой? Всегда был такой покладистый, шел на любое дело. А сейчас, видно, почуял неладное, уже трусит — еще до того, как начать вытаскивать Стива. Что же от него ожидать дальше? Но самое плохое заключалось в том, что неуверенность адвоката передалась и ему. Почему? Ведь он уже достаточно твердо стоял на ногах, он убрал многих конкурентов, а с нынешними держит ухо востро и не позволяет застать себя врасплох, он заработал уйму денег, из которых много скормил и полиции, адвокатам, чиновникам, он знает, несмотря на все былые успехи, что есть силы, гораздо более могущественные, чем Ковбой Мейсон, и он всегда опасался попадать в сферу влияния этих сил. Почему же он так неуверен сейчас во всем: в себе, в своей удаче, в Стиве, в остальных, что были со Стивом, в адвокате Делинджере?
На следующий день Санни позвонил адвокату.
— Боюсь, что вы сообщили мне вчера не всю правду о вашем приятеле, — сразу же сухо сказал адвокат в ответ на приветствие. — У него более крупные неприятности, чем вы даже могли предполагать.
От дальнейших комментариев адвокат уклонился, и Санни бросился к нему домой. Здесь он был принят еще более настороженно, чем вчера ночью.
— Его обвиняют в крупном преступлении против Соединенных Штатов. Кокрейна арестовали федеральные агенты, при этом он оказывал вооруженное сопротивление. Это все, что я могу вам сказать, — Делинджер посмотрел куда-то поверх головы Санни.
— Черт вас подери с вашей образованной болтовней, — со злостью сказал Ковбой Мейсон. — Не пойму, вы говорите то, что знаете, или то, что можете?
— Это уже мое дело, Мейсон, — адвокат поджал узкие губы.
— С чего бы это ты так осмелел, сукин сын? Что ты из себя невинного корежишь, дешевка? Да тебя в большем можно обвинить, чем Кокрейна.
Он вылетел, остервенело хлопнув входной дверью.
Ладно, пусть он провалится, этот дерьмовый адвокатишка. Появилась хоть какая-то зацепка, хоть какие-то сведения есть для того, чтобы действовать дальше. Уже до полудня, связавшись со знакомым полицейским в центральной тюрьме, Санни узнал, что Стив Кокрейн серьезно ранен, сейчас он находится в тюремном лазарете, где его охраняют федеральные агенты, так что вызволить его оттуда даже и не стоит пытаться. Еще Ковбой Мейсон узнал о том, что один из его людей убит в стычке с агентами, а шестеро остальных тоже арестованы, как и Кокрейн, только помещены они в другую тюрьму, где также находятся под контролем федеральных агентов.
События принимали совсем уже нежелательный оборот, словно кто-то очень могущественный взъелся именно на него, Ковбоя Мейсона. Санни позвонил домой.
— Детка, — сказал он Эдне, — я скоро заеду за тобой. Мы с тобой на время покинем Чикаго. Пора уже проветриться, я так полагаю. Возьми самое необходимое из вещей — мы поедем ненадолго.
— Хорошо, — ответила Эдна не совсем уверенно, но потом словно спохватилась: — Так когда же тебя все-таки ждать?
— Думаю, что минут через сорок я буду.
И действительно, через сорок минут он уже подъехал к дому и вошел в подъезд. Во внутреннем кармане пиджака Ковбоя Мейсона лежали две пачки банкнот по десять тысяч долларов, а в карманах пальто — два «кольта» тридцать восьмого калибра, его излюбленное, привычное и безотказное оружие.
Поднявшись по лестнице, Санни по привычке оглянулся и отпер дверь своим ключом. Первое, что он увидел — испуганное лицо Эдны. Оно было белым, как мел, а глаза имели непривычное, странное выражение: ужас, растерянность и в то же время чувство вины и мольба читались в них.
Санни мгновенно все понял, рука его привычно рванула револьвер из кармана, а окрик: «Не двигаться! Руки на голову!» он слышал, уже кувыркнувшись вперед — так, как учил его Стив. Боковым зрением он увидел человека, находившегося справа от входной двери. Едва Санни коснулся пола, как его правая рука с совершенством и четкостью отлаженного механизма направила револьвер точно туда, куда было нужно, и револьвер выстрелил два раза — будто бы сам собой, и пули из него поразили человека у стены — одна в грудь, другая в шею.
В следующее мгновенье Санни уже стоял за спиной Эдны, прижимая ее к себе левой рукой с зажатым в ней револьвером, а правой он приставил другой револьвер к ее виску. Два человека, направившие на него оружие, замерли.
— Не двигайтесь, иначе я пристрелю ее, — очень спокойно сказал Санни, потому что увидел в дверях еще двоих, тоже с оружием. — Не двигайтесь, — повторил он, чувствуя, как его охватывает дивное безразличие и свинцовая усталость. — О’кей, — произнес он, чувствуя себя уже более, чем мертвым. — Я сдаюсь.
9
Открыв дверь, Барт Гамильтон удивился, увидев перед собой незнакомую женщину в длинном суконном пальто, ботах, подбитых мехом и круглой шляпе с широкими полями, каких не носили уже лет десять по меньшей мере. На вид женщине можно было дать и сорок пять и пятьдесят пять. Она была достаточно высокой и стройной, ее фигура не успела расплыться и, видно, не обещала расплыться никогда больше. Лицо, что называется, хранило следы былой — если и не красоты, то уж приятности точно. Странное лицо, отметил про себя Барт, словно капризный ребенок мгновенно сделался пожилым человеком, у которого большие обиды на жизнь. Голубые, почти прозрачные глаза хранили одновременно и ленивый, томный покой, и плескавшееся в них, словно пламя на ветру, неизбывное отчаяние. Мягкие черты лица и две горестные складки у рта.
— Мистер Барт Гамильтон? — ему показалось, что голос значительно моложе обладательницы.
— Да, — ответил он, не зная, куда же деться от этого цепкого, но вместе с тем жалкого, словно у побитой собаки, взгляда. Кого-то она ему напоминала, словно остатки сна, возникающие днем. — Чем могу служить? — Барт, наконец, стряхнул с себя оцепенение.
— Вы родились в Джорджии. На несколько недель позже, чем моя дочь Джудит. Она родилась там же. Я — ваша родственница из Вайоминга. Вам, наверное, рассказывали?
— Ах, да… — Барт поскреб пальцем бровь. — Вы, очевидно, — он не помнил ее полное имя и поэтому назвал женщину так, как звали ее в Таре: — Сюсси, да? Ох, входите, прошу. Вы одна, без супруга?
— Я одна, — она опять посмотрела ему в лицо столь пристально, что Барту стало неловко.
— Вы раздевайтесь, пожалуйста, вот здесь, — он совершенно не знал как вести себя с такой женщиной в такой обстановке. — Мод, поди сюда! — Барт позвал на помощь жену. — У нас гости.
Мод появилась в двери гостиной, улыбаясь приятной и вместе с тем вопрошающей улыбкой.
А Барт непрестанно ощущал на себе взгляд гостьи, поэтому повернулся к ней, улыбаясь так же, как улыбалась его жена.
— Вы похожи на своего отца, на Уэйда, — сказала Сюсси с непонятной интонацией.
— Да, говорят, — кивнул он, продолжая улыбаться напряженной улыбкой.
— Мы росли там, в Джорджии, вместе с вашим отцом, — она говорила это так, словно от того, поверит Барт в факт совместного возрастания или нет, зависело очень многое.
Мод пришла ей на помощь, помогла раздеться.
— Давайте пройдем в гостиную, — жена Барта выглядела все же менее растерянной, чем он.
Сюсси прошла в гостиную, села туда, куда ей указали.
— Понимаете, я вообще-то знала, что вы живете в Чикаго, но я не ожидала, что вы… что вы… занимаете такое высокое положение. Я достаточно долго искала вас.
— Мод, — прервал он сбивчивый монолог гостьи, обратившись к жене, — может быть, ты приготовишь для всех нас кофе? Давайте, пройдем все-таки в гостиную. Вот сюда, прошу.
Она села, утопая в мягком кресле — чужеродная в своем твидовом, почти мужского кроя пиджаке, в длинной юбке из синей шерсти, в ботах, подбитых мехом. Она представляла другой мир, контрастируя с небольшой елочкой, увешанной игрушками, с гирлянда — ми из цветной бумаги и фольги, с листом плотной бумаги, украшенной затейливой надписью «Счастливого Рождества!», с пещерой, сделанной из папье-маше, с размещавшейся в этой пещере крохотной колыбелькой, освещавшейся спрятанной в папиросной бумаге маленькой электрической лампочкой. Бра со стеклянным абажуром в виде лепестков тюльпана бросала на гостью мягкий свет, немного сглаживая этот контраст.
Барт опять ощутил некоторую неловкость из-за того, что Сюсси все улыбается странной улыбкой и словно бы украдкой бросает взгляды по сторонам. Создавалось такое впечатление, что это бывшая хозяйка пришла в богатое, некогда принадлежавшее ей жилище, которое пошло с молотка. Она помнит каждую вещь, помнит все, что с ней связано, но она же абсолютно забыла о времени, представив себе, что все осталось, как прежде, что не было никакой распродажи.
— Я вас разыскивала, — гостья посмотрела на Барта, но теперь взгляд ее был бесконечно усталым — так выглядит человек, силящийся что-то сделать, или разрешить какую-то жутко сложную задачу, или вспомнить нечто очень важное, но терпящий постоянные неудачи на протяжении долгого времени.
— Хорошо, теперь-то все позади — вы меня отыскали, — Барт улыбнулся ей ободряющей улыбкой.
— Да, — она кивнула, выражение ее лица при этом сделалось виноватым. — Знаете, мне очень неловко вас беспокоить, но… В моем положении, наверное, уже и неважно, как я буду выглядеть, не правда ли?
— Извините, я не совсем понимаю…
— Мой сын, Санни Маклиш, он… попал в беду, — поспешно сказала она. — Я не знаю, может быть, оно и правда — все, что о нем написали — да только ведь надежда — она всегда остается… Даже если и знаешь, что надеяться вроде и не на что.
— А что с ним?
— Да вот… Если все это правда, что о нем тут пишут, то это все ужасно, конечно. Только ведь он мой сын.
Барт взял у нее номер «Кроникла», истрепанный, порванный на сгибах. Номер почти двухнедельной давности. Подчеркнутый чернильным карандашом заголовок: «Ковбой Мейсон — раскрываются новые факты» и чуть пониже, шрифтом поменьше: «следы ведут в Шайенн». Барт пробежал глазами заметку: «Убийство федерального агента… Удачно проведенная операция… преступники получили свыше тысячи галлонов спирта, использовавшегося… Сеть подпольных питейных заведений… Небывалый размах… Ограбление кассы в Шайенне… Два убийства на совести…»
— Мейсон — это он? — Барт поднял глаза от газеты. Теперь он вспомнил — случилось это с месяц назад. Все правильно, было совершено убийство федерального агента. — Что же…
Естественно, он готов был спросить тоном, в котором отчетливо слышалось бы раздражение: «Что же вы теперь хотите от меня?! Это опасный преступник, главарь банды».
Но уже начав говорить, он вдруг осознал — словно бы только что, секунду назад — кем эта женщина приходится гангстеру, которому только убийства федерального агента с лихвой хватит для электрического стула. Как это ни было дико, неестественно, но он представил себе на ее месте свою мать, Аннабел. У его матери были вот такие же руки, он помнил — как за ними ни ухаживай, как их ни отмывай, они все равно грубеют, каждодневная работа не проходит бесследно. Он тут же украдкой бросил взгляд на руки Мод. Почему это он раньше не обращал внимания на то, как выглядят руки разных женщин?
Но Барт тут же одернул себя — нашел время для размышлений. Конечно, это катастрофа для Сюсси. Но и его положение сейчас — интересней не придумаешь. Кандидат в члены палаты представителей штата Иллинойс — родственник известного гангстера. Очень неплохо звучит, все заголовки были бы в таком ключе. Все правильно, родственник. Кем он ему приходится? Ах, да, троюродным братом. Что, если кто-то начнет копать? Нет, полиция, прокуратура, федеральная служба расследования этим заниматься не станут, это удел пишущей братии — искать жирных червей в навозе.
— Что же, — повторил Барт, — что же мы сможем предпринять?
На следующее, предрождественское, утро он поехал к Дональду Иствуду. Дональд в свои тридцать с небольшим производил впечатление человека, многое на своем веку повидавшего. Барту вспомнилась характеристика, данная Дону его кузиной Сильвией лет десять назад: «шалопай, как и все его друзья». Нет уж, Иствуд-младший во всем напоминал своего отца, на которого все больше походил даже внешне.
— Дон, — Барт сразу перешел к делу. — Мне ужасно неловко занимать твое внимание и отнимать время в такой день, но я должен посоветоваться с тобой. Речь идет о некоем Ковбое Мейсоне.
— Как же, — кивнул головой Иствуд, — прекрасно помню. На первые числа января назначено слушание по делу его банды.
— Так быстро?
— Ну, тут все яснее ясного. У самого Мейсона выход вообще один — электрический стул. На нем висят три стопроцентно доказанных убийства и еще с пяток таких, которые доказать — раз плюнуть. С остальными тоже возни особой не нужно. Материалов вполне хватает. А дел у судов и прокуратуры по подобным субъектам — выше головы. Нет смысла отвлекать силы и средства на дополнительное расследование, хотя за этой бандой наверняка многое еще числится.
— Да, с этим трудно поспорить, — согласился Барт. — Но это дело, как оказалось, странным образом касается и меня.
— Тебя?! — изумление Дональда Иствуда было неподдельным, он даже как-то развеселился. — Ага, догадываюсь — именно ты поставлял им виски.
— Если бы, — невесело усмехнувшись покачал головой Барт. — Тогда бы уж я точно знал, за что мне придется отвечать. А так я оказываюсь в совершенно идиотском положении. Ведь этот Ковбой Мейсон, настоящая фамилия которого Маклиш, приходится мне родственником по женской линии — это сын моей двоюродной тетки, как совсем недавно выяснилось. То есть, мне он приходится троюродным братом. Сейчас в Чикаго находится его мать. Если в ходе судебного разбирательства будет достаточно часто повторяться ее имя — а совершенно исключить упоминание о ней, как мы с тобой понимаем, невозможно — то существует вероятность, что кто-то обнаружит и ее родственные связи. Я понимаю, что вероятность эта очень невелика, но ты же знаешь настырность газетчиков. Сейчас развелось столько теорий о наследовании предрасположенности к преступлениям и столько журналистов, следующих этим новомодным веяниям, что мне грозит опасность быть обвиненным во всех своих последующих злодеяниях одним махом.
— Да, такой вариант развития событий нельзя исключить полностью, — сказал Иствуд. — Но я думаю, что в наших силах свести до минимума упоминание имени твоей тетушки в ходе судебного разбирательства.
В рождественский вечер миссис Маклиш не пришла к Гамильтонам. Не появилась она и на следующий день. И только вечером третьего дня женщина в старомодной шляпе возникла на пороге дома Барта. Но он уже был готов к встрече с ней.
— Я поговорил с людьми, которые занимаются его делом, — он говорил уверенно, энергично, глядя прямо в глаза Сюсси. — Думаю, что нам удастся добиться вынесения максимально мягкого приговора. До суда вам не разрешат свидания с ним, такая уж… — он хотел произнести слово «специфика», но спохватился, что эта пожилая женщина с наивными светло-голубыми глазами вряд ли поймет, — такая уж особенность у этого дела. Я советую вам вернуться домой, встретить Новый год в кругу семьи, — улыбка, на которою он максимально мобилизовал себя, получилась достаточно ободряющей, — а потом вернуться в Чикаго в январе и поговорить с … ним.
— Может быть, надо… — она замялась, будучи не в состоянии произнести то, о чем хотела сказать еще в первую встречу, — надо как-то… У нас с мужем не очень много денег, но они все-таки есть. Поймите меня правильно, мы ничего не пожалеем.
Эх, знала бы она, насколько жалко выглядит, подумалось Барту. Вот бы рассказать кому-то из своего круга, как эта несчастная высказала предположение, что за несколько тысяч долларов — вряд ли у них с мужем есть больше — можно заставить множество людей, облеченных властью, достигших какой-то ступеньки карьеры, связанных обязательствами, приученных действовать в узких рамках писаных и неписаных законов рисковать всем, чего они достигли. Ведь об ужасных злодеяниях Ковбоя Мейсона помнит сейчас множество людей.
— Нет, — тем же бодрым тоном возразил Барт, — в этом нет абсолютно никакой надобности. Иначе зачем бы мне числиться вашим родственником?
И Сюсси ушла от него, почувствовав уже на улице, на морозе и в чужой тьме, разрываемой огнями фонарей, что эта встреча с сыном Уэйда была для нее последней, что она никогда уже не переступит порог его дома.
Она ехала в трамвае, ехала в поезде на жестком сиденьи третьего класса, а перед мысленным взором ее всплывало то лицо Барта, так похожее на лицо Уэйда, то лицо его жены, на котором приветливое выражение не могло скрыть подспудной тревоги и настороженности. Они были счастливыми, устроенными, благополучными людьми. Сюсси уже не была завистливой, годы тяжкого труда и лишений, как ни странно, притупили в ней чувство зависти, свели его почти что на нет. Да, сын Уэйда хорошо устроен в этой жизни. Сын Уэйда и Аннабел. А если бы это был сын Уэйда и Сюсси? Смог бы он стать таким, как Барт? Сюсси вспомнилась до мельчайших подробностей богатая обстановка его дома. Ей, привыкшей подсчитывать каждый десятицентовик, и в голову не пришло прикинуть, сколько это все может стоить — дорогая мебель, дорогие ковры, просторный дом. И вовсе не потому только, что она перестала завидовать богатым, что Барт был человеком из другого мира, который она уже привыкла не замечать почти, так как он совсем мало касался ее — разве что иногда нанося жестокие удары, как сейчас, угрожая лишить жизни Санни. Нет, Сюсси смотрела на Барта теми же глазами, что и четырнадцатилетняя девчонка, наблюдавшая за удалявшимся по кедровой аллее Уэйдом. Ничего нельзя вернуть. Ничего нельзя переделать. Господь Бог непреклонен.
Сюсси плакала. Слезы сбегали по щекам, падали на воротник пальто. Зачем ей суждено было покинуть отчий дом, милую Тару, где сейчас покоится прах ее матери, где доживает одинокий отец? Сюсси словно бы забыла, что у нее самой уже подрастают внуки, она перелистала страницы книги назад и смотрела сейчас на то место, где Уэйд скачет на лошади, а она стоит и провожает его взглядом. Вся ее последующая жизнь сжалась до нескольких строк, до беглого перечисления событий, казавшихся на удивление незначительными.
Господь Бог непреклонен, говорила себе Сюсси. Слезы не приносили ей облегчения, их вряд ли хватит для того, чтобы оплакать всю свою жизнь, начиная с того момента, когда она провожала взглядом стройную фигуру всадника в шерстяной кофте, и заканчивая той минутой, когда она прочитала письмо, отпечатанное на казенной бумаге, сообщающее, что с ее сыном случилась непоправимая беда. Все дни, все закаты, рассветы и луны сжались теперь в нечто серое и невыразительное.
Она приехала в Шайенн, разыскала на постоялом дворе фермера, который в тот день собирался ехать в том же направлении, в котором надо было добираться и ей, и уже под вечер переступила порог своего дома. Дэниэл встретил ее тревожным, вопрошающим взглядом. Сюсси вдруг стало нестерпимо жаль его, седого, выглядевшего стариком в свои пятьдесят семь лет, всю жизнь видевшего только свою ферму, свою работу да равнодушное, бесконечно огромное небо Вайоминга.
— Ничего, Дэнни, ничего, — через силу улыбнулась она, чувствуя комок в горле, готовый взорваться потоком предательских слез. — Я видела своего племянника, Барта. Он сказал, что все не так уж плохо. А Санни я не видела. Говорят, что не положено до суда.
Дэниэл молча обнял ее, легонько похлопал по спине.
— Да, старушка, — произнес он после довольно долгой паузы, подождав, пока слеза надежно увязнет в усах, и осторожно переведя дыхание, дабы не вырвался предательский всхлип, — будем надеяться, теперь нам другого и не остается.
Она получила свидание с сыном, когда уже прошел суд, и надеяться было абсолютно не на что. Санни, осунувшийся, небритый, с серым лицом, в дорогом, но уже сильно измятом костюме, выглядел за стеклом, затянутым металлической сеткой, еще более отчужденным, чем в зале суда. Он был уже несуществующим.
Сюсси вздрогнула, увидев его. Она на несколько мгновений потеряла сознание и изо всех сил вцепилась пальцами в крышку стола, чтобы не упасть. Залоснившиеся доски помнили, наверное, множество таких отчаянных, судорожных прикосновений, когда в руки уходит вся боль сердца, вся безнадежность, все отчаяние. Сюсси поняла, сколько страшных часов ее сыну пришлось провести наедине с самим собой, чтобы стать вот таким — живым мертвецом.
— Ничего, ма, — он словно прочел ее мысли, — теперь-то уже мне все равно. Теперь мне уже ничего не страшно.
Он хотел еще добавить «и ничего не жалко», но сдержался, осознав, что мать продолжает жить в отличном от его мире, где существуют еще надежда, сожаление и боль.
— Может быть, еще случится чудо, — он напряг деревянные мускулы лица, но вместо улыбки получилась страшная гримаса, похожая на застывший оскал покойника.
Чуда, разумеется, не случилось, если не считать того факта, что он довольно бодро поднялся, когда за ним пришли, чтобы обрезать ему штанины, грубо, словно на животном, выстричь клок волос на затылке. Сюда должны были накладывать электроды, чтобы электрический ток мог беспрепятственно проникнуть в тело и убить его.
Будто наблюдая за собой со стороны, Санни садился на жесткий стул, совершенно бесстрастно реагировал на прикосновение холодного металла к лодыжкам, запястьям и затылку, отмечая только, что это предпоследние ощущения в его жизни.
Еще он подумал, что в такие моменты, наверное, положено вспоминать свою жизнь. А ему вот ничего не вспоминалось — так, какое-то неинтересное мельтешение. Он заставил себя задержать в памяти образ Эдны и подумать о том, что шлюха не должна выглядеть так.
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
1
Небольшой древний паровозик пыхтел, стучал шатунами — ни дать, ни взять, старикашка, обутый в тяжелые кованые башмаки и бредущий шаркающей походкой. Вот локомотив одолел, наконец, затяжной подъем и выбрался из теснины обступивших узкоколейку огромных глыб темного гранита, поросших серо — зеленым мхом.
Перед полуразрушенным зданием бывшей лесопилки паровозик, отдуваясь, остановился. Он длинно, со свистом, выпускал струи пара, что позволяло заподозрить у старичка кроме ревматизма еще и астму. Узкоколейка вот уже пять лет как служила веткой для пассажирского поезда, с тех пор, как лесоразработки и заготовка древесины в округе прекратились. Пассажиров никогда не набиралось полностью даже на один-единственный вагон, который паровозик таскал за собой.
В данном же случае из вагона спрыгнул на каменные плиты перрона — глыбы того же гранита, кое-как обтесанные или просто прижатые плотно друг к другу — единственный пассажир Он был одет в черные армейские ботинки, форменные брюки цвета хаки и такого же цвета френч без погон и знаков различия. В правой руке пассажир — высокий юноша со стриженными под бокс каштановыми волосами — держал достаточно вместительный чемодан из мягкой желтой кожи, перетянутый ремнями.
Молодой человек махнул машинисту рукой и быстрым шагом направился по широкой просеке мимо бывшей лесопилки. Чувствовалось, что путник торопится. Просека вывела его на вырубку, уже поросшую проворным и достаточно густым подлеском, потом вырубку сменила дубовая роща, а когда и она закончилась, молодой человек вышел на дорогу, лениво и бессистемно извивающуюся то среди стен шелестящей темно-зеленой листвой кукурузы, то между полей хлопчатника с уже полураскрывшимися коробочками.
Вот он взобрался на невысокий холм, отер тыльной стороной ладони пот со лба, расстегнул несколько пуговиц на форменной рубахе, перебросил чемодан в другую руку и быстро, почти вприпрыжку, стал спускаться с холма.
Внизу, где дорога разветвлялась, он уверенно шагнул влево — туда, к густым зарослям кедров. Еще двести ярдов, и неширокая дорога с разбитыми колеями, заполненными пылью цвета ржавчины, свернула вправо, чтобы теперь уже перейти в более ухоженную, даже посыпанную гравием — правда, вероятнее всего, достаточно давно — аллею, усаженную такими же кедрами, только старыми, с голыми коростливыми стволами. А в конце аллеи виднелся неуклюжий двухэтажный домик, широкий, приземистый, словно второй этаж, представляющий из себя тело, пытался поднять с земли крылья — первый этаж.
«Как подраненный ястреб», — в который уж раз вспомнилось молодому человеку придуманное им же сравнение. Он словно бы перестал спешить, как делает это человек, пришедший на свидание и обнаруживший, что на месте условленной встречи никого нет. Поставив чемодан на гравий, покрытый полусгнившей хвоей, путник достал из кармана носовой платок, вытер им шею, грудь в распахнутом вороте рубахи, щеки, лоб.
— Готов поклясться, что под сотню градусов наверняка, — пробормотал он, не отрывая взгляда от деревянной террасы, густо оплетенной глицинией и диким виноградом.
На террасе, в темном проеме входной двери возникла белая фигура — свободная блуза, такого же цвета брюки, длинные белые волосы, белая борода. Одной рукой старик опирался на большую палку.
— Билли, малыш! — старик испустил вопль, казавшийся из-за тона дребезжащего и слабого голоса испуганным. — Эй, кто там есть, — он застучал кизиловой палкой по полу, — все сюда!
Первой на зов старика появилась высокая темноволосая синеглазая женщина в сером платье и фартуке. Она сделала несколько шагов по террасе и тут же была подхвачена на руки юным пришельцем, который закружил ее, словно невесомую.
Вслед за высокой женщиной в объятия гостя попала старая, сморщенная негритянка, высохшая от возраста настолько, что, казалось, прижми ее юноша чуть покрепче, и к ногам его с тихим, едва слышным стуком осыплется совсем маленькая кучка костей. Поэтому он скорее прикрыл ее слабую вздрагивающую спину, словно крыльями, своими большими руками и стоял так до тех пор, пока старушонка не перестала причитать — слишком громко и интенсивно для своего возраста.
— Нянюшка Люти, — сказал он и, нагнувшись, бережно поцеловал ее в сморщенный лоб, на самой границе с чепцом, который сейчас можно было увидеть на старых дагерротипах да в музеях.
Потом перед ним появился пожилой мужчина, своим видом заставляющий делать догадки, каким будет юноша лет через сорок. Одного с ним роста, такой же узкий в талии и бедрах, такой же широкоплечий, с крепкими лопатообразными руками он был очень похож на юношу или, точнее, юноша был похож на него, хотя черты лица вроде бы были и разные. Волосы мужчины еще не полностью поседели, сохранившие свой естественный цвет пряди были точно того же цвета, что и волосы юноши.
— Билли, мальчик мои, — мужчина осторожно сжал плечи гостя своими жесткими лапищами и уколол его щеку аккуратно подстриженными усами.
Затем настал черед еще одной женщины, пожилой, которая, в свою очередь, была почти точной копией высокой синеглазой красавицы, встретившей юношу первой.
А уж потом право приветствия получил совсем древний негр, еще более древний, чем нянюшка Люти. Этого старика звали дядюшка Боб, по возрасту он не уступал белому, как лунь, обладателю кизиловой палки, который уже заканчивал восьмой десяток своего существования на этой земле.
— Ну вот, Билли, ты снова в Таре, — пожилой мужчина, похожий на Билли, ласково, но достаточно настойчиво оттер его от чемодана, который юноша пытался взять с нижней ступеньки, и подтолкнул ко входу в дом.
Нянюшка Люти продолжала утирать концом идеально чистого фартучка частые слезы, катившиеся по обезьяньему личику.
Старик с кизиловой палицей, неуклюже повернувшись — одного его движения хватало стороннему наблюдателю для того, чтобы понять, что вместо одной ноги у старика протез — пропустил гостя с облепившими его женщинами, молодой синеглазой и ее постаревшей копией, а затем и семенившую маленькую негритянку в дом.
Здесь сразу же воцарилась суматоха из-за того, что высокая синеглазая и ее копия постарше не могли распределить роли в приготовлении праздничного обеда, переодевании гостя с дороги и накрывании на стол. Негритянка в очень аккуратном фартучке только усугубила путаницу, ежесекундно выкрикивая высоким голосом:
— Миссис Аннабел! Миссис Констанция! Миссис Аннабел!
Наконец хаотическое движение перешло в какое — то подобие упорядоченного, молодой человек был умыт, переодет в домашнюю рубаху, переобут в домашние туфли и препровожден в столовую, где старая светлая мебель, довольно безвкусно подобранная в свое время, теперь, потемнев немного от времени, обрела вид строгий и почти благородный.
Билли был усажен в торце длинного стола, за которым когда-то сиживало и больше, чем сейчас, домочадцев, собиравшихся в столовой по несколько раз в день.
Самый старый, седой и белобородый мужчина на одной ноге оказался на диво проворным — именно он водрузил на стол огромную бутыль, вмещавшую по меньшей мере две кварты.
— Что, сынок, в Европе-то сухого закона поди нет? — спросил он и, не дождавшись ответа, продолжил. — В нашей округе — тоже. Несмотря на то, что есть шериф, его помощник, окружной прокурор в Джонсборо и федеральный суд там же. Виски у нас гонят все, кому не лень, большинство это делает почти что на собственном дворе.
Билли улыбнулся одними глазами, повернувшись к похожему на него пожилому мужчине — деду Уэйду. Говорили, что в достаточно молодые годы его тезка Уилл Бентин был очень немногословен и флегматичен. Теперешнее его всегдашнее возбуждение и суетливость следовало, пожалуй, относить к издержкам преклонного возраста.
Конни, синеглазая женщина, что помоложе, столь же проворно, как и старик бутыль, подала стеклянный кувшин холодной воды с толченой мятой и сахаром.
— Ничего нет в мире лучше этого напитка, правда? — подмигнул внуку Уэйд. — Все эти концентраты, лимонад в фабричных бутылках и фабричное виски ни в какое сравнение не идут с самогоном, разведенным обычной колодезной водой, с мятой и сахаром.
— Особенно, если этот самогон, вода и мята — из Тары, — согласился Билли, с удовольствием отхлебывая глоток.
— А что, малыш, здорово вы там, в Европе, им всыпали? — с возрастом светло-голубые глаза Уилла Бентина совсем выцвели, а теперь быстро подействовавшее на него виски превратило их вообще в два суетных сгустка тумана.
— Нет, дедушка Уилл, лично мне не посчастливилось, чтобы очень уж здорово всыпать. Поздновато я попал туда, перемирие заключили раньше, чем я успел сделать с десяток вылетов.
— Но ты хотя бы…
— Я бомбил немецкие позиции. Возможно, мои бомбы и убили нескольких германских солдат.
— А в тебя стреляли? — понизив голос, спросил Уэйд, проживший свои молодые и зрелые годы без участия в каких-либо войнах. А от той далекой войны, которую он застал практически младенцем еще, у него остались смутные, размытые воспоминания, да и то, скорее всего, на основании рассказов других людей.
— Еще и как, — сдержанно улыбнулся Билли, разительно напоминая Уиллу Бентина деда юноши в таком же возрасте, — меня однажды даже сбили. Подбили, вернее.
— Сбили, подбили? — в один голос переспросили Уилл Бентин и Уэйд, — оба, не сговариваясь, свистящим шепотом и почти одновременно оглядываясь на полуоткрытую дверь галереи, ведущей на кухню.
— Да, — опять та же сдержанная улыбка, — но я успел дотянуть до своего аэродрома. — Почти успел. Я сел на каком-то поле, кажется, картофельном. За это меня наградили серебряной медалью. Короче, в этой войне мне повезло.
— И тебе присвоили офицерское звание? — спросил Уэйд.
— Всего-навсего старший лейтенант. До отца мне уже наверняка не дотянуть.
Отцу Билла, Генри Коули, было бы сейчас сорок три года. Майор Коули погиб три года назад, будучи в составе армии Першинга, отправленной в Мексику. Генри Коули тоже был летчиком. Его самолет разбился, когда он бомбил лагерь сподвижников Панчо Вильи.
— Наверное, на твой век войн хватит, мальчик? — осторожно спросил Уэйд.
— Наверное, — тон, в котором он ответил, и какие-то совсем не соответствующие его возрасту складки вокруг рта, то ли почудившиеся Уиллу Бентину, то ли в самом деле появившиеся на мгновенье, заставили его пристальнее вглядеться в лицо юноши.
— Да, — проворчал Уилл, напомнив Уэйду прежнего Уилла, каким тот был лет сорок назад, — уж на нашу долю войн предостаточно выпало. Не успел я помереть, как убили твоего отца где-то в Мексике, а тебя запросто могли убить в Европе. Я уж толком не помню, за что воевали мы больше полувека назад, здесь, у себя дома, за что я потерял ногу, а уж относительно Европы да Мексики понимаю и того меньше.
— Но, дедушка Уилл, Вудро Вильсон и так максимально затянул наше вступление в войну. В конце концов германские субмарины успели потопить более десяти наших судов, не говоря уже о британской «Луизитании», где было больше ста американцев, — заметил Билли.
— Э, знаю я все это. Вильсон — янки. И этим все сказано.
— Ну вот, Уилл, — рассмеялся Уэйд, — только что заявлял, будто не помнишь, за что воевал, и тут же нападаешь на янки. Хорошо уже то, что нынешний президент — демократ. Ладно, оставим все разговоры про Вильсона и Першинга. Билли, ты знаешь, какое у меня там, — он указал за плечо большим пальцем, — приобретение? Газолиновый трактор. Вот это дело!
— Да уж, — рассмеялся Билли. — Задержался ты с этим. Точно так же, как и Вудро Вильсон со вступлением в войну. Наверняка уже у всех в округе газолиновые давно, только у тебя оставался паровой.
— Как бы не так, — почти обиделся Уэйд. — Очень у многих еще паровые. Взять хотя бы того же Джо Фонтейна…
— Старика Фонтейна? — быстро переспросил Билли.
— Ну да, старого Фонтейна. Он, кстати, на целый год моложе меня. А мне всего пятьдесят семь, мой мальчик.
— Да, но выглядит он постарше тебя. Я хочу сказать — выглядел, когда я его видел в последний раз, дед.
— Ладно, как бы он там ни выглядел, но трактор — то у него паровой.
Тут разговоры о преимуществе трактора с двигателем внутреннего сгорания над паровыми были прерваны появлением матери и бабушки Уильяма Коули. Они быстро начали выставлять на стол ветчину, тушеную фасоль, жареную тыкву, горошек, индейку, пирог со сладким картофелем — и все это сразу, будто опасаясь, что кто-то может преждевременно прервать их трапезу.
— Господи! — воскликнул Билли в притворном ужасе. — Да кто же все это съест?
— Э, мальчик, да ты уже совсем отвык от нормальной жизни, — начал разглагольствовать старик Уилл. — Уж я-то знаю, что такое голодать по-настоящему. Мне приходилось обходиться без еды по нескольку суток подряд, а потом довольствоваться ямсом, вырытым из мерзлой земли, с грядок, которые еще не успели до конца обчистить янки. Вот еще не хватает здесь жаркого из опоссумов. В Европе-то, поди, станут воротить нос от опоссумов?
— Отчего же? — со смехом покачал головой Билли. — С этим у них как раз полный порядок, они, можно сказать, всеядны. Лягушки и улитки у французов в меню часты.
— Господи Иисусе, — сказала бабушка Аннабел, вовсе, правда, не выглядевшая бабушкой. — Вот уж чего сроду не стала бы есть, даже помирай я вовсе с голоду.
— Ладно, — опять рассмеялся Билли, чувствующий, что у него начинает кружиться голова от крепкого напитка. — С газолиновым трактором голодать не придется. Но вот у меня есть кое-что похлеще трактора, дед. Я с собой это привез.
— В чемодане? — спросил Уэйд.
— Нет, в чемодане подарки для ма, бабушки и Люти. А это «кое-что» прибудет скоро в Джонсборо.
2
Вещь, обещающая оказаться похлеще газолинового трактора, появилась в Таре через три дня. Вернее, Билли Коули появился на ней.
Новенький «Форд» с хромированным радиатором, с грушей клаксона, со стальными, тоже хромированными спицами, с новенькими черными шинами, кожаными сиденьями, откидным кожаным верхом въехал на лужайку перед домом в Таре.
На гудок клаксона высыпали все домочадцы, а еще дядюшка Боб и его племянник из сарая.
— Ага, вот зачем он ездил в Джонсборо! — воскликнула Конни.
— Да, вот сюрприз так сюрприз, — покачал головой Уэйд. — Наверняка на эти деньги можно было купить трактор или пяток взрослых мулов. Эй, Билли, а эта твоя тележка способна доехать за час хотя бы до Джонсборо?
— За час она шутя доедет до Атланты. А до Джонсборо и четверти часа для нее много.
— Да ну! — тут Уэйд изумился, хотя не привык подавать вида, что удивляется чему-либо и когда-либо. — Мы сейчас же должны это проверить.
— Как же! — осадила его супруга. — Вы обязательно расшибетесь.
— Почему это вдруг мы должны расшибиться?
— Потому что ты будешь подзуживать Билли.
— Я?!
— Да, ты. Ведь твой дед был ирландцем. Все знают, до чего довели его дикие скачки.
— Аннабел! — взмолился Уэйд. — Что ты такое говоришь? Он погиб вовсе не из-за скачек. И потом, я за всю жизнь не подал тебе повода…
— Еще и как подал! — с Аннабел Гамильтон можно было сейчас лепить скульптуру воительницы либо писать картину, вложив в ее руку Конституцию или звездно-полосатый стяг.
— Хорошо, дед, есть выход, — рассмеялся Билли. — Пусть бабушка прокатится с нами. Она не даст тебе подзуживать меня.
— Куда ей! — замахал руками Уэйд. — Она и лошадей-то обходит десятой дорогой, боясь, что они лягнут ее, не говоря уже о мулах. А при путешествии по железной дороге ей всегда становится плохо.
— Мне? Плохо? Ты бессовестный лгун, Уэйд Гамильтон! — уж теперь ей для позирования можно было вручить старинную саблю отца Уэйда, хранившуюся в доме, или, на худой конец, длинноствольный пистолет.
Уэйд только ухмыльнулся, зная, что если его супругу как следует разозлить, то она теряет не только чувство юмора, но и чувство осторожности.
— В таком случае почему бы тебе и не доказать свою храбрость и крепость здоровья, — змий-искуситель наверняка действовал не так прямолинейно, как Уэйд сейчас, но он все же дал промашку, переоценив свою осведомленность относительно душевных сторон супруги.
— А тут и доказывать нечего, — Аннабел быстро сбежала вниз по ступенькам, в считанные секунды оказалась рядом с автомобилем, что-то тихо сказала внуку, тот распахнул ей дверцу. Аннабел уселась рядом с Билли, мотор, до того равномерно урчавший, вдруг взревел. Уэйд, понявший, как его обыграли, да еще при таком скоплении зрителей, попытался сохранить лицо, длинными шагами пожирая пространство между террасой и «Фордом». Автомобиль выпустил небольшое облачко сизоватого дыма и, описав дугу уже вне досягаемости Уэйда, выкатился в аллею. Уэйд застыл с протянутой рукой. Он намеревался быстро открыть дверцу и лихо плюхнуться на сиденье сзади.
Автомобиль уже подъезжал к концу аллеи, и Уэйду оставалось только созерцать коротко стриженный затылок своего внука, развевающиеся волосы супруги, роскошный откидной верх да запасное колесо сзади.
Но Уэйд Гамильтон не был бы самим собой, если бы не умел не казаться смешным в любой, даже самой невыигрышной для него ситуации. Вот и сейчас он сделал такой жест, словно руку вытянул для того, чтобы подтолкнуть автомобиль, а потом этой рукой помахать ему вслед.
Но так как Конни все-таки рассмеялась, он обернулся и изобразил на лице такую хитрую мину, будто это он все подстроил, он разыграл такой спектакль.
Автомобиль тем временем выкатил на дорогу, ведущую в усадьбу, которая когда-то называлась Прекрасные Холмы. Ветер свистел в ушах. Аннабел, ездившая раньше в открытых средствах транспорта, перемещавшихся со скоростью не более десяти миль в час, сейчас просто испугалась. Она признавалась себе в том, что испытывает самый настоящий страх, и, чтобы не выдать себя, уперлась посильнее ногами в пол, а спиной вдавилась в мягкую спинку сиденья. Рука ее, лежавшая сбоку на дверце вроде бы даже расслабленно, на самом деле была готова в долю секунды судорожно сжаться.
Вот из-за верха холма показались морды мулов, а над ними коричневое лицо в обрамлении полей соломенной шляпы. Расстояние стремительно сокращалось, теперь уже мулы были видны в полный рост, а озабоченность, растерянность, затем ужас на коричневом лице прорисовывались все более отчетливо. Мулы взбрыкнули, потом одновременно изобразили карикатурную версию того, что у лошадей называется вставанием на дыбы — слишком коротки были их ноги по сравнению с ушами и шеями, слишком толсты и округлы их туловища.
Повозка свернула на хлопковое поле — то ли негр, управлявший ею, в последний момент успел направить животных туда, то ли обезумевшие мулы, повинуясь инстинкту самосохранения, рванулись прочь с пути этого жуткого фырчащего чудовища с огромными глазами. Последнее, что успела увидеть Аннабел — приподнявшиеся с одной стороны в воздух колеса повозки, балансирующую фигуру в бледно-голубом комбинезоне и улетающую прочь шляпу из рисовой соломки.
Зрелище небольшой катастрофы заставило Аннабел на какое-то время забыть о собственных ощущениях. Но тут автомобиль взлетел на самый верх холма, потом сразу начал безостановочное падение вниз. Аннабел ощутила жуткую пустоту под ложечкой, почувствовала, как становятся чужими, непослушными руки и ноги, и на несколько мгновений зажмурила глаза. Когда она вновь открыла их, то обнаружила, что автомобиль уже мчится вдоль стены леса. Аннабел медленно повернула голову влево — не заметил ли Билли ее состояния. Но тот спокойно смотрел перед собой, все внимание его было обращено на дорогу.
Они въехали на открытое пространство, обставленное с трех сторон одно- и двухэтажными домишками. Здесь когда-то, очень давно, размещалась усадьба под названием «Двенадцать дубов», но, похоже, дубы были срублены еще в начале века. Сейчас на этом стояла почта, аптека, школа, небольшой магазин сельхозинвентаря, контора хлопкоочистительной компании и несколько обычных жилых домиков. Здесь уже пролегли тротуары вдоль фасадов строений, а между деревянных столбов протянулись провода. По ночам эта площадь освещалась электрическими фонарями. Словом, данное место теперь являло собой центр цивилизации в радиусе до пяти миль.
Но автомобилей эта площадь еще не видела. Немногочисленные зеваки застыли, наблюдая из дверей парикмахерской, из дверей аптеки, из распахнутых окон конторы за верхом человеческого вожделения и фантазии, воплощенных в стали, хроме, резине и коже.
Площадь недолго любовалась автомобилем. Вот он, поднимая облачка красноватой пыли, промчался в угол замкнутого пространства, рискуя на полном ходу снести изгородь небольшого палисадника, но в самый последний момент резко повернул и, квакнув клаксоном, покинул небольшой оазис цивилизации среди безмолвных кукурузно-хлопковых просторов.
Теперь Аннабел испытывала нечто, схожее с восторгом. Ей хотелось снова и снова переживать впечатления от картины под названием «Проезд автомобиля по площади», но другие картины мелькали уже справа и слева.
— Билли, — она почти кричала, не зная, насколько нужно повышать голос, чтобы быть услышанной в свисте ветра и рокоте мотора. — А мы в Джонсборо можем проехать?
— Да, мэм, — спокойно и негромко ответил внук, но она его не расслышала.
До Джонсборо они добрались за каких-то четверть часа, Здесь автомобили уже появлялись, но они были такой же редкостью, как и открывшийся года два назад кинотеатр. Аннабел попросила Билли остановиться у входа в магазин недалеко от железнодорожной станции, хотя у нее при себе не было ни цента. Сейчас под заинтересованно-восхищенными взглядами она медленно открывала дверцу, неторопливо шла к крыльцу, потом неспешно шествовала по ступенькам. Девушка из лесной глуши, попавшая в отель Атланты, воспринимала окружавший ее мир несколько по-другому, сейчас же Аннабел, в свои пятьдесят шесть, выйдя из автомобиля, которым управлял ее совсем взрослый внук, отдавала дань условностям, хотя вообще-то не слишком считалась с ними. Она пожалела, что не встретила сейчас никого из своих джонсборовских знакомых — правда, столь немногочисленных, что вероятность встречи с ними была исчезающе малой.
Билли терпеливо ожидал ее, прохаживаясь вокруг автомобиля время от времени легонько пиная тугие черные баллоны колес носком ботинка.
3
— У меня два трактора, из которых, как ты знаешь, один работает на газолине. Еще у меня семь работоспособных мулов, четыре лошади. Это здесь, в Таре. Небольшая хлопкоочистительная фабрика на паях, где полсотни веретен мои — это в Джонсборо. Пока что я со всем этим справляюсь, малыш. И буду справляться, наверное, еще достаточно долго. Уиллу уже ничего не надо. Тетка Сьюлин умерла три года назад. Уилл, похоже, просто обескуражен тем, что так надолго задержался на этом свете. Ведь он был старше ее на целых девять лет, сейчас ему уже восемьдесят два. А сестры О’Хара, как оказалось, не отличались долголетием. Самая младшая, правда, еще жива. — Уэйд повертел в руках большой стакан с толстым дном, посмотрел на Билли, словно хотел увидеть его реакцию на сообщение о недолговечности сестер О’Хара.
От куста мимозы, росшего под самым окном, на лимонно-желтой стене дрожало кружево теней. Легкий ветерок заносил сладкие запахи, колыхал сетку от мух и комаров, которой было завешено окно. Далекие монотонные звуки доходили сюда, словно из-под земли: это за сараем работал электрический насос.
Билли сидел неподвижно, выражение его лица можно было бы назвать безучастным, если бы не сосредоточенная тоска в глазах. Тоска жила сама по себе, смеялся ли он, слушал ли внимательно кого-нибудь, или сам рассказывал что-то.
— Твоей матери всего тридцать семь, в таком возрасте плохо оставаться одной. То есть, я не хочу сказать, что Уилл чувствует себя намного лучше, оставшись одиноким, — поспешно поправился Уэйд. — Но твоя мать все же женщина, еще молодая женщина, а она вот пропадает в Таре.
В его голосе прозвучала нескрываемая боль, которую Билли мог легко понять, представив себе, что ему сейчас пятьдесят семь, а у него есть любимая старшая дочь, которая так рано овдовела, и он, умудренный жизнью, сделавший уже достаточно много, не может ума приложить, как сделать своего ребенка счастливым — просто потому, что это не в его силах. Он может продать свои почти что триста акров земли, продать два трактора, мулов, лошадей, коров, продать свой пай на хлопкопрядильной фабрике, но все равно это не сделает его дочь счастливой.
— Может быть, ей лучше уехать куда-нибудь? — осторожно спросил Билли, чтобы хоть как-то приглушить ноту боли, слишком отчетливо звучавшую в этой комнате с потрескавшейся старой мебелью, с лимонно-желтыми обоями и неуловимым сладковатым запахом.
— А куда она уедет? Назад, в Бостон? Вряд ли.
— Или к дяде Барту в Чикаго.
— У Барта, похоже, масса проблем и без нее, — покачал головой Уэйд. — С тех пор, как он стал политиком, у него просто ни на что нет времени. Хорошо еще, что успел жениться, — Уэйд погладил свои каштановые, с проседью усы. — Он писал мне в начале года. Ты знаешь, я должен рассказать тебе одну вещь, но ты об этом должен молчать. Уилл ни в коем случае не должен знать этого. В январе этого года казнили его внука, сына твоей двоюродной бабушки Сюсси. Она обращалась к Барту за помощью, он сделал все, что в его силах, но уж слишком много натворил этот парень. Барт, похоже, очень переживал тот случай. Если еще у него под боком будет женщина, у которой сходные проблемы, это не улучшит его самочувствия.
— Если бы у моей матери были другие дети, кроме меня, то, как ни парадоксально, у нее, наверное, было бы меньше проблем, — сказал Билли, словно размышляя вслух и ни к кому не обращаясь.
— Наверное, они с твоим отцом слишком любили тебя. Ты появился у Конни, когда ей было неполных восемнадцать лет. А это уже были совсем не те времена, когда девица обязана была выскочить замуж до двадцати, иначе к слову «дева» обязательно прибавлялось определение «старая».
— Ты хочешь сказать, что я должен остаться здесь, чтобы моя мать имела возможность хоть как-то устроить свою жизнь?
— Я вовсе не хочу этого сказать, — Уэйд протянул свою широкую руку, охватил горлышко кувшина бережно, но крепко, поднял кувшин, вмещавший три кварты и сейчас еще на две трети заполненный, наклонил его, и широкая струя плеснула в стакан. — Я и то мало чем могу помочь ей. — Он долил в стакан воды из другого кувшина. — Совсем ничем не могу помочь, если уж говорить честно. Разве что поверну время вспять, да уговорю этого мексиканского бандита[13] не нападать на Техас. Или президента Вильсона уговорю не посылать туда генерала Першинга. Ты волен поступать, как тебе хочется, малыш. Можешь оставаться здесь, можешь жить сколько угодно в Таре. Моя мать, твоя прабабка, когда — то догадалась завещать мне две трети всех здешних угодий. Одна треть до сих пор принадлежит Уиллу, правда, чисто номинально. У его трех дочерей столько народу, что даже тысячи акров не хватит на всех, я думаю. Так что земля вся моя, можно сказать. И мне просто некому завещать ее. Когда-то мы с Уиллом дорожили ею. И он, и я прожили здесь большую часть жизни.
— Тебе то еще долго жить предстоит, как я полагаю, — сказал Билли. — Но из меня, наверное, путного фермера не получится, дед. И бизнесмена наверняка не получится. Мне всего девятнадцать, дед, но я уже много о себе знаю, потому что достаточно успел повидать. Нет, вовсе не потому, что был на войне — я просто обязан был присутствовать там… ну, чтобы ничего не пропустить. Хотя, когда видишь, как много народа расстается с жизнью в молодом возрасте, волей-неволей начинаешь по-иному относиться и к своей собственной. Понимаешь, я отослал кое-какой материал в «Нью-Йорк джорнел»… И в другие места тоже отсылал, но только в «Нью-Йорк джорнэл» взяли.
— Что за материал? — Уэйд поднял на него взгляд.
— Как бы тебе объяснить… Короче, я написал обо всем, что там было — на Марне, Мез, под Верденом.
— Ага, значит, ты собираешься стать репортером?
— Нет, — рассмеялся Билли. — Думаю, для этого занятия у меня недостаточно нахальства. Это не совсем то же самое, что газетные статьи — то, что я написал.
— В таком случае ты вознамерился стать вторым Марк Твеном.
— Ну, я полагаю, что до него мне никогда не дорасти, — покачал головой Билли. — Доживи он до наших дней, люди многое бы видели в ином свете, чем сейчас видят — я имею в виду тех, кто не потерял способность и охоту читать. Уж Сэм Клеменс[14] наверняка поднял бы большую бучу по поводу того, зачем нам Мексика, как раньше шумел из-за Гавайев и Филиппин. Хотя я, разумеется, не во всем с ним согласен. Понимаешь, там, в Европе, я видел людей, которым нравится воевать. Я думаю, что вообще очень многим нравится воевать. Чувство мести, патриотизм, долг — это скорее предлог, повод. Это как неосторожный толчок или неосторожное слово для драчуна, у которого постоянно кулаки чешутся. Людям нужна война, очень многим людям. Для них это естественное состояние, а уж каким образом они воюют — делают друг другу мелкие пакости или палят в друг друга из пушек — неважно.
Уэйд вдруг подумал, что перед ним сидит еще мальчишка, которому только в конце этого года исполнится двадцать лет. И он, этот мальчишка, говорит такие вещи, в которых его дед Уэйд Хэмптон в свои двадцать не разбирался, как не разбирался и гораздо позже. Конечно, он был взрослым, а в чем-то гораздо более самостоятельным, чем Билли в свои двадцать, но он был другим.
4
Чтобы попасть в магазинчик Мак-Гроу, надо было подняться по деревянной, довольно шаткой и ненадежной, лесенке на второй этаж здания. На первом этаже размещался склад сельхозинвентаря Джорджианского отделения компании «Интернешнл Харвестер», который, правда, почему-то был закрыт большую часть времени.
Заведение Мак-Гроу представляло из себя узкую комнату с полками, доходившими почти до потолка, по обеим сторонам. Полки эти были заполнены всякой всячиной, начиная от банок с консервированным горошком и заканчивая хлопчатобумажными комбинезонами и огромными болотными сапогами. Консервированный горошек не очень-то ходовая вещь в местах, где этот овощ занимает хотя бы небольшой клочок огорода даже у самого нерадивого фермера. Ходовой товар у Мак-Гроу продавался на веранде, куда можно было попасть через дверь, расположенную в противоположном от входа конце узкой комнаты. Официально на веранде продавался — точнее, подавался, поскольку там было три столика, за которыми могли сидеть посетители, если они того хотели — лимонад. Бутылки с лимонадом и сельтерской водой выносил на веранду негр, убиравший заведение Мак-Гроу.
Естественно, что посетители веранды — все поголовно мужчины — не являлись в массе своей любителями столь несерьезных напитков. И конечно же, в бутылках с лимонадом и сельтерской всегда присутствовала и другая жидкость. Сюда, то есть, в лавку Мак-Гроу как-то наведывался помощник шерифа из Джонсборо. Во всяком случае, несколько очевидцев утверждали это. Но те же очевидцы в один голос заявляли, что на веранду помощник шерифа уж точно не заглядывал.
Уильям Коули зашел в лавку Мак-Гроу для того, чтобы купить леденцов для женщин. Он мог бы купить здесь же шляпку для своей матери или перчатки для бабушки Аннабел, но не был уверен, что его женщины будут в восторге от этих приобретений. Более того, его не слишком большой опыт в этой области давал основания смутно догадываться, что мать и бабушка скорее всего могут оказаться недовольными, хотя вида, конечно, не покажут. Поэтому Билли и решил довольствоваться леденцами.
— Гляди-ка, ребята, этот залетный щенок сосет леденцы, — услышал он, когда клал большую жестяную коробку в карман брюк. Сказано было достаточно громко, явно в расчете на то, что он услышит.
Билли обернулся и увидел говорившего. Он, собственно, просто определил, кто мог говорить. Мужчина лет шестидесяти, маленький, с искривленными тонкими губами, обнажавшими редкие желтые зубы, напоминающие клыки грызуна. Мужчина этот был плешив, потен и изрядно пьян — последствие посещения веранды, где подают лимонад и сельтерскую. А окружали пожилого джентльмена двое мужчин помоложе и значительно крупнее его. Молодые мужчины походили друг на друга — одинакового соломенного цвета волосы, розовые округлые лица, широкие, слегка приплюснутые носы. Что-то подсказало и наличие родственных связей между молодыми мужчинами и плешивым стариком с крысьими зубами.
— Лопни мои глаза, если это не внук Уэйда Гамильтона, — теперь Билли, кажется, догадывался, кто перед ним. Он смутно помнил этого человека, хотя видел его больше десяти лет назад, когда сам был еще ребенком, он приезжал тогда в Тару с матерью. Да-да, эти зубы и кривые узкие губы, делающие лицо похожим на крысиную пасть.
— А это, если не ошибаюсь, — ирландский бойцовый петушок О’Фланаган, — очень спокойно, оскорбительно спокойно произнес Билли.
Сморщенное лицо старика побелело и скривилось еще больше, словно он испытывал жуткую боль. Лица сопровождавших его здоровяков, наоборот, покраснели до полного подобия с кусками сырой говядины.
— Если ты, щенок, будешь себе позволять говорить со мной вот в таком тоне, я велю своим мальчикам вздуть тебя как следует, — прошипел О’Фланаган.
— Эй, Тимоти, — окрикнул старика из-за прилавка Мак-Гроу, — попрошу улаживать свои дела не у меня, а где-нибудь в другом месте.
— А никаких дел и быть не может, Лесли. Сейчас этот ублюдок уберется отсюда, вот и все дела.
— Я уберусь отсюда вместе с вами, сэр, — теперь уже Билли вроде бы даже заскучал.
— О, какая вежливость, какие манеры! Это тебя янки так научили разговаривать? — хриплый смех О’Фланагана походил на надсадный кашель.
— Да. И чем быстрее мы выйдем отсюда, тем будет лучше для всех.
— Что ж, ребята, — Тим О’Фланаган одновременно хлопнул ладонями по спинам краснолицых здоровяков, — послушаемся этого джентльмена и выйдем, а?
Те промычали что-то утвердительно и обрадованно.
— Ну, что же ты, задавака, — ирландец вроде бы даже забеспокоился, видя, что Билли остается неподвижным, — передумал убираться вместе с нами, а? Слабо, сукин ты сын?
— Я сказал — улаживайте свои дела не здесь! — опять прогремел Мак-Гроу.
— А мне показалось, что это вам всем слабо, — сказал Билли.
— Ну ладно! — О’Фланаган задергался, словно паяц, которого дергали за веревочки безо всякой системы и порядка. — Мы выйдем. Но попробуй только не выйти вместе с нами!
Он даже подпрыгивал от злости, когда выходил, а дверью хлопнул так, что затряслась передняя стена, а на полках что-то звякнуло.
Билли вышел вслед за О’Фланаганами.
Скатившись по ступенькам на тротуар, Тим О’Фланаган тут же обернулся к Билли и просипел:
— Или ты сейчас извинишься за «бойцового петушка», или…
— Стоп! — теперь уже голос потомка Гамильтонов не предвещал ничего доброго, светские манеры словно слетели с него, подобно шелухе, перед О’Фланаганом предстало подобие молодого Уэйда, только подобие еще более опасное, чем сам Уэйд. — Никаких «или». Сейчас я вам преподам урок вежливости, джентльмены, коль вы уж напросились.
Сказав это, он быстро повернулся к одному из «мальчиков» Тима О’Фланагана и изо всех сил саданул его кулаком в грудь. Удар оказался настолько неожиданным и мощным, что крепкий мужчина свесил руки, колени его подогнулись, и он кулем свалился на неровные камни тротуара.
Второй крепыш взмахнул кулачищем, и этот снаряд из костей, жил и мышц наверняка уложил бы любого, чья голова или грудь встретились бы на его пути. Но сейчас на пути кулака ничего не встретилось, поэтому его обладатель в значительной степени утратил равновесие. А в следующий момент он уже сильно откинулся назад, и челюсти его громко лязгнули — кулак Билли молниеносно впечатался в его подбородок. Еще один удар, последовавший на долю секунды позже и угодивший в скулу незадачливого драчуна, уложил его на спину основательно и надолго.
— А ты, старый пьяница, заслуживаешь только хорошего пинка, — Билли шагнул к ошарашенному и вроде бы отрезвевшему уже Тиму, но тот достаточно резво отскочил в сторону. — Вот и заруби себе на носу, — Билли поднял вверх указательный палец, — впредь тебе надо переходить на другую сторону улицы, когда заметишь меня. А еще лучше тебе и твоим ребятам вообще не попадаться мне на глаза.
И он пошел к своему автомобилю, а Тим О’Фланаган на всякий случай отбежал еще подальше.
— Ну, мальчик мой! Я слыхал о тебе вообще фантастические вещи, — это были первые слова, произнесенные Уэйдом Гамильтоном при появлении Билли в доме. — Ты отдубасил Лайэма и Шона О’Фланаганов! Да еще, говорят, отделал так, что их долго не могли привести в чувство!
— Вот как, — улыбнулся Билли, целуя в щеку испуганную мать, — значит, это были его родственники? Что-то они не очень похожи на всех О’Фланаганов. Во всяком случае, ты их не так описывал.
— Так это вовсе другое поколение. Лайэм и Шон — сыновья Тима. Это они в мамашу такими удались, в Морин. Здоровяки, не то, что их отец. Но подраться любят не меньше его. Они здесь были грозой всего округа вот уже лет пятнадцать. Как только чуть подросли, так и начали колошматить всех подряд, кто только встречался на их пути. Но ты их отделал так, что, наверное, весь штат узнает.
— Господи, папа, что ты такое говоришь?! — Конни Коули, похоже, охватил самый настоящий ужас. — Ведь они же настоящие бандиты, эти О’Фланаганы. И их так много…
— Да их здесь, почитай, никого уже и не осталось. Тим — самый старший из всех. Все его братья с семьями подались на Запад — где уж прокормить такую ораву на нескольких акрах. Тут остались только сыновья Тима Лайэм и Шон со своими женами и детьми. Но у них ребята еще не доросли до того, чтобы драться со взрослыми мужчинами, а уж тем более с такими, как наш мальчик. — Уэйд Гамильтон удовлетворенно рассмеялся. — Мне пришлось как-то поцапаться с Тимом и его братьями. А было мне тогда чуть больше лет, чем тебе, Билли, а может быть, и столько же… Не совсем точно помню, почти сорок лет прошло с тех пор. Да, странно все же устроены эти ирландцы, честное слово. Ведь Тим дожидался, когда подрастет мой внук, коль уж сын уехал отсюда, чтобы на нем выместить всю злобу, которую копил все время.
5
Лето 1919 года перевалило за середину и стремительно заскользило вниз. Подошла пора сбора хлопка. Уэйд нанял целую бригаду сборщиков и пригнал прямо в Тару хлопкоочистительную машину. Уже готовые тюки отвозились в больших повозках на станцию узкоколейки, а уже оттуда в Джонсборо, на хлопкопрядильную фабрику.
Потом настала очередь кукурузы. К трактору — той самой новинке с двигателем внутреннего сгорания — прицепили комбайн, и за два дня Билли, Уэйд и дядюшка Боб сумели не только скосить кукурузу на всех семидесяти акрах, где она была посеяна, но еще и облущить кукурузные початки. Еще за два дня были порезаны стебли и листья на корм скоту. Следом пошли овощи. Дыни, тыквы, яблоки, батат — все это заполнило корзины, ящики, полки кладовой.
Вечера, короткие южные вечера, когда солнечный диск едва успевает упасть за кромку земли, а темное небо уже заполняется большими золотистыми звездами, обрели способность дивного звучания, когда стремительно холодеющий воздух переносил крик лесной птицы, далекую песню или какой-нибудь вовсе непонятный, таинственный звук и держал все это странно долго, с переливами и повторами.
А какая гамма запахов буйствовала в это время — запахов горьковатых, терпких, неизъяснимо печальных, как спокойное осознание неизбежности конца, как усталая усмешка зрелости, как здоровое утомление после тяжелой работы в жару.
По вечерам вся семья собиралась на террасе и, не зажигая света, сидела, наблюдая за тем, как полотно освобожденной от растений земли заполняет сначала ярко-розовая краска, потом багрово-красная, а потом цвет приобретает волшебный фиолетовый оттенок, сменяющийся в какой-то неуловимый момент серебряным. Луна, большая, таинственная, повисла над пораженным внезапным безмолвием пространством, смещала границы грез и яви, заставляла забывать одно и вспоминать о другом.
— Где-то теперь бродят души умерших? — ронял неторопливо Уэйд. — Твой прапрадед Джералд О’Хара, твоя прабабка Эллин — она ведь умерла совсем молодой, в тридцать пять лет… Душа Сьюлин, душа твоего прапрадеда Джима Каразерса, твоей прапрабабки Рут, его жены… Где они все?
— Здесь, наверное. В местах, которые им были дороги, — тихо говорила Аннабел.
— И душа моей матери, Скарлетт? — тут в тоне Уэйда начинал звучать скептицизм. — Вряд ли. Она осталась там, где мать похоронена, в Калифорнии. Странно, она ведь родилась здесь, она боролась за Тару, которая должна принадлежать ей до последнего комочка земли. Если бы не моя мать, Тара пошла бы с молотка.
— Да, так оно и было, — подавал голос Уилл. — Уж такие были времена…
И снова шло бесконечное повторение истории этих мест, но каждый раз рассказы звучали все же как-то по-иному, из-за чего никому не надоедали. Конни слушала их и не слышала. Ее заботил сын. Но это была не та забота, когда надо выходить малыша, отогнать от него болезнь или вовремя предостеречь от будущих ошибок.
Он молодой мужчина, а проводит все время — вот уже три месяца почти в обществе троих пожилых людей и относительно молодой вдовы. Его никуда не тянет: ни в компанию сверстников — а ведь он мог хотя бы ходить здесь в гости в те дома, где есть девушки — ни в город. Его, прожившего в городе больше половины своей, пусть и не очень долгой, жизни, прельщает жизнь в этой глуши. Ладно, с ней самой все решено — она-то уж точно нужна Уэйду и Аннабел. Или они ей. Стареющая растерянная женщина — вот кто она. Ее единственный сын, которому она должна посвятить все жизнь, просто не примет этой жертвы, не примет и простого участия, и помощи по мелочам не примет. Просто он во всем этом не нуждается. Он похож на Уэйда своим поведением. Нет, возможно, даже и на Уилла. Старик в неполных двадцать лет. Юное, сильное тело и странно уставшая душа. Но что сделало его таким? Война? Боже, ей надо было изо всех сил воспротивиться, не впускать его в военную школу. Раньше он был совсем другим, раньше он не был таким… таким — она отгоняла от себя это определение, но оно упрямо стучалось в сознание — таким мертвенно-спокойным. Может быть, гибель Генри так подействовала на него? А как гибель мужа подействовала на нее самое? Ей ничего не хочется. Может быть, со временем это и пройдет, но времени минуло уже три года, а у нее по-прежнему какая-то дивная успокоенность, словно у нее все в порядке, словно Генри вместе с ней и Билли, и ей вовсе не о чем беспокоится.
Билли много пьет. От него часто пахнет виски. Конечно, он молодой крепкий мужчина. Даже Генри, воспитанный своим отцом в строгости, любил в этом возрасте выпить. Но все же он делал это гораздо реже и, самое главное, становился после выпивки веселым. Он вообще был веселым парнем, Генри Коули. От него исходил безудержный оптимизм, как пишут в романах. Писательство — приятнейшее из времяпровождений, нечто сродни курению опиума или действию алкоголя. Ее литературный опыт ничего не стоит здесь, на родине ее отца и матери. Здесь царит сплошной послеполуденный сон. Надо быть очень твердым, чтобы не быть занесенным песками времени. Или песками забвения? Нет, принято говорить «трава забвения». Сплошные штампы. Поэтессе не пристало мыслить штампами. «Он был поэт — гигантский смысл умел он отжимать из будничных понятий — редчайший аромат»[15]. «Высшая фикция»[16] — вот смысл человеческого существования. Интересно, что сказала бы на все это ее бабка Скарлетт О’Хара? Наверняка бы выругалась. Вот уж кто никогда не витал в облаках. Я ее ни разу в жизни не видела, но видеть и не обязательно. Данте не был в аду, а написал похоже. Опять штамп. Да, бабка… Бедный отец, он, похоже, побаивался бабки до самой ее смерти, а ведь ему было уже за сорок, когда умерла Скарлетт. Это была женщина — стихия, примитивная и грубая, чего уж тут кривить душой. Но ведь в ней самой, в Конни, течет какая-то часть крови Скарлетт. И часть крови бабушки Рут. Ох, эти ее чепцы и полдюжины длинных юбок! Бабушка Рут была смешной в своей строгости. Ее же никто никогда не боялся, ее ворчание не пугало и даже не раздражало, как не раздражает шум дождя или свист ветра. Хорошо, когда у человека есть бабушка и дед. Особенно, если не так уж повезло с отцом. Что же, Уэйд Хэмптон Гамильтон своего отца знал только по дагерротипу, ему повезло меньше, чем Билли, который потерял отца, будучи уже почти взрослым мужчиной. Да, он слишком мужчина в его возрасте, ему бы можно быть и понаивней, в его возрасте многие так беспечны. Нет, ему уже не быть беспечным, наивным и беззаботным.
Она коснулась рукой плеча Билли, для чего ей пришлось слегка привстать со своего кресла. Он повернулся, весь почтительное, хотя и несколько рассеянное внимание:
— Да, ма?
— Послушай, Билли, ты ведь когда-то знал Джессику Фонтейн?
Его высокий лоб, освещенный голубоватым лунным светом, казался высеченным из слоновой кости, полузакрытые глаза походили на холодные тени.
— Джессику?
— Это внучка старого Джо Фонтейна.
— Ну да, — кивнул Билли, — у которого старший брат нефтяной миллионер в Техасе?
— Верно. Только это его двоюродный брат, Джереми. — Уэйд, конечно, знал обо всех и обо всем. — А отца Джереми, Энтони Фонтейна я хорошо помню. Он начинал скотопрогонщиком, потом стал крупнейшим скотопромышленником на Среднем Западе. На покой ушел, уже нажив миллионы, которые Джереми приумножил.
— Дед, но ведь ты, кажется, говорил, что у Джо Фонтейна до сих пор только паровой трактор?
— Что с того? У Джо свои принципы. Да и времена сейчас несколько иные. Говорят, еще полвека назад родственники крепко держались друг за друга. А еще раньше эта связь была еще крепче…
— Папа, нас вовсе не интересуют Джо и Джереми Фонтейны, — мягко остановила его Конни.
— А кого интересует эта девчонка? — хмыкнул Уэйд. — Ей сколько лет, кстати?
— Восемнадцать, кажется, — ответила Конни.
— То-то. Девушке в такие годы да в такой глуши только и остается, что торговать в лавке Мак-Гроу.
— Уэйд, перестань, — укоризненно остановила его супруга. — Девочка будет учительствовать в здешней школе. И потом, твоему внуку тоже почему-то нравится эта глушь, как ты ее называешь.
— Билли — совсем другое дело, — заявил Уэйд. — Правда, мой мальчик?
Слабое пожимание плеч в ответ, а выражения его лица Уэйд не мог видеть.
Когда-то это было поместье, называвшееся Мимозой. Старый домик наполовину разрушился, а со стороны въезда в усадьбу его теперь почти полностью закрывали деревья и кустарники. Местом обитания Фонтейнов служил веселенький двухэтажный коттедж из красного кирпича. Перед домом красовался довольно ухоженный обширный газон и две цветочные клумбы, расположенные по обе стороны от крыльца с портиком.
— Ага, дед, похоже, зря так охаивал техасского родственника здешних Фонтейнов, — сказал Билли, высматривая место, где можно было бы поставить автомобиль. — Судя по тому, как он отзывался о Джо, тому в одиночку ни за что не поставить бы такой дом и не обустроить бы такой усадьбы.
— У Джо Фонтейна есть еще младший брат, Стив. Он большую часть времени проводит в Бирмингеме, в Алабаме. У него там дела в каком-то металлургическом тресте, он вроде бы даже входит в совет директоров.
Билли подумал, что его мать, пожалуй, проявляет слишком большой практицизм для дамы из литературно-театрального света. Того и гляди сама затеет какое-нибудь предприятие или войдет в долю с кем-нибудь. Он усмехнулся своим мыслям.
— Тебя забавляют Фонтейны? — от внимания Конни не ускользнула его улыбка.
— Меня забавляешь ты, ма. Уж очень деловой и энергичной ты становишься. Я никак не могу взять в толк, от кого в тебе это — от деда или от бабушки Аннабел.
— Нет, это у меня от моей бабушки Рут, — совершенно серьезно ответила Конни. — Ноблесс оближ, как выражаются французы, то есть, положение обязывает. Я не могу уже позволять себе прежних слабостей, а тем более капризов.
— Зачем это, ма? — Билли уже открывал ей дверцу. — Если тебе нужно выйти замуж, то эти жертвы и лишения на пользу не пойдут, совсем даже наоборот.
— Господи Иисусе, что же ты такое говоришь, Билли?! — поспешно сказала она. — Как ты мог подумать такое?
— Ничего страшного, — рассмеялся он — невесело рассмеялся, как показалось Конни. — Ты пытаешься устроить мою жизнь, а я — твою.
— Мою жизнь поздно устраивать. Тридцать семь лет — это…
— Тридцать семь лет — это ерунда, совсем ничего. Ты слишком рано вышла замуж за отца, поэтому у тебя сейчас взрослый сын. Но именно это обстоятельство и работает на тебя — за взрослым сыном уже не надо никакого присмотра.
— Ох, прекрати, Билли! Добрый день, Стелла, — произнесла она значительно громче, увидев на крыльце невестку Джо Фонтейна. — Здесь принимают гостей?
— Конечно, моя дорогая Конни! Вы так редко бываете у нас, что каждый ваш визит — просто событие. Это Билли, конечно. Я несколько раз видела его издалека — в автомобиле. Сейчас мне предоставилась возможность рассмотреть его поближе. Вблизи он выглядит еще более красивым и мужественным. А в последний раз я видела его лет… о, это было целых пять лет назад, тогда вы все вместе приезжали к Уэйду Гамильтону, — Стелла Фонтейн, женщина примерно того же возраста, что и Конни, но пониже ростом и поживей темпераментом, говорила не останавливаясь, успев обнять Конни, взять под руку Билли, ввести их в большой полутемный холл.
Помещение это, обставленное стильной мебелью, устланное ковровыми дорожками, дало Билли повод для заключения о том, что человек, задумавший интерьер, отличался достаточно развитым чувством меры и вкуса. Дорогие вещи, которые не производили впечатления таковых и не заставляли чувствовать себя скованным — такой эффект не мог получиться сам собой. И тут же он отметил, что не Стелла, пожалуй, задумала и осуществила проект под названием «холл в доме Фонтейнов» — слишком уж пристально та следила за реакцией гостей.
Реакция не заставила себя ждать — хотя бы со стороны Конни. Впрочем, она восхищалась даже больше, чем за двоих. Билли рассеянно подумал, что его мать, возможно, уже видела мебель, ковры, вазы, картины и камин, столь ненужный на Юге, столь нехарактерный для него, но все равно на диво гармонирующий со всем остальным.
— Джесси, девочка, иди сюда, — миссис Фонтейн только чуть-чуть повысила голос, но была услышана дочерью, которая через несколько секунд появилась на витой лестнице, ведущей на второй этаж.
Джессика Фонтейн не была похожа на свою мать — достаточно высокая, темноволосая, с большими серыми глазами, она, несомненно, уступала Стелле в живости характера.
— Джесси, сделай нам что-нибудь выпить, пожалуйста, и подходи сама побыстрее.
Когда Джессика принесла «что-нибудь», Билли рассмеялся в душе: да уж, в этом доме свято чтут «сухой закон». Лимонад, мятный чай, арахис и печенье.
Очень интересно, думал он, очень интересно, как будет вести себя эта сероокая красавица с шелковистыми черными бровями в другой обстановке. Как она ведет себя в школе, понятно — дети интуитивно тянутся ко всему красивому, они боготворят красивых. Значит, в школе она исполняет роль дежурной богини — до тех пор, пока у детей не появится новый кумир. Но, надо думать, ее это не очень занимает — детское восхищение — и вовсе не приносит ей удовлетворения, если она не законченная дура. А она, похоже, совсем не дура.
— Нет, мэм, моя мать преувеличивает мои успехи в журналистике да и способности к занятию ею тоже, — Билли успевал вести светскую беседу. — Если уж чем-то заниматься сейчас, так это юриспруденцией. Наконец-то мы приходим к осознанию того, что законы надо не только чтить, но и руководствоваться ими. Хороший адвокат стоит управляющего концерном.
Ну и чушь я несу, думал он при этом. Три женщины, две из них одинокие. Точно, у девчонки что-то не заладилось. Расстроилось замужество с преуспевающим дельцом. Убили жениха на европейской войне. Непохоже ни на то, ни на другое, да и ма обязательно бы сказала мне об этом. Религиозность без чувства меры. Вряд ли, это, возможно, было характерно для здешних мест лет сто назад. И не похожа она на… Впрочем, Клотильда была похожа на монашенку, а все закончилось тривиальным армейским триппером. Первое и единственное серьезное ранение молодого американца, спасителя Франции. Хорошо еще, что это был не первый сексуальный опыт, иначе у молодого американца здорово упал бы интерес к жизни. Это был второй опыт, и интерес к жизни упал только наполовину.
— Нет, во Франции не так уж жарко, как у нас на Юге. Но будь у них даже выше сотни градусов, французы все равно не заметили бы. Они все время пьют. Нет, не прохладительные напитки. Вино, конечно же, вино. Кварту за обедом, кварту за ужином, а между завтраком и обедом, а также между обедом и ужином — еще кварты две, это уж просто для утоления жажды. Нет, миссис Фонтейн, я вовсе не шучу, так оно и есть на самом деле. Но ведь виноградное вино — не виски. Смогли бы французы справиться без нас? Вряд ли. Даже англичане поначалу не справлялись с немцами, а их воевать не надо учить. Возможно, что мы одолели немцев потому, что нас было очень много. Одних американцев там было миллиона два, да еще французы, англичане, русские. Встречал ли я там русских? Нет. Но, похоже, что у русских, как и у французов, война не очень получалась, поэтому мы и были там. Хотя Клемансо считал, что американцы слишком медленно освобождают Францию. Он даже просил заменить генерала Першинга.
А ведь мой первый опыт мог бы запросто закончиться тем же, чем и второй. Наверное, мне не надо придавать этому столько значения. Впечатлительный юнец, вот кто я. Нет, вообще-то я не очень впечатлителен. Видел же я трупы, из которых вываливались внутренности. Скорее всего, что трупы немцев, среди которых рвались мои бомбы, выглядели так же. Все дело в том, что Клотильда напоминала монашенку. Медицинская сестра, всеобщая утешительница. Говорят, мой прадед в ту войну умер от какого-то инфекционного заболевания. Не надо было нам ввязываться в войны, если мы все время норовим подцепить какую-то гадость. Нет, то, что мой прадед умер не от дизентерии — вроде бы факт, точно установленный.
— Да, мэм, войны становятся ужасными. От газов слепнут, они разъедают легкие так, что остаются одни лохмотья. Простите, но мы, наверное, слишком долго и подробно обсуждаем эту тему. Ну, теннис — совсем другое дело. Хотя, честно говоря, я в нем не здорово разбираюсь. Я отдавал предпочтение другой вещи, тоже изобретенной англичанами — боксу. Нет, бокс вовсе не так груб и жесток, как о нем говорят. Это нечто сродни фехтованию.
Потом, когда уже почти совсем стемнело, возвратились Лесли Фонтейн, муж Стеллы, и его отец, тот самый Джо Фонтейн, о котором постоянно рассказывал Уэйд. Билли и его мать вежливо, но очень настойчиво отказались от ужина, несмотря на то, что хозяева очень настаивали.
— Ох, ма, — покачал головой Билли, когда мотор уже ровно рокотал, а фары были включены — не доведет нас до добра это южное гостеприимство.
— Нет, — возразила Конни. — Гостеприимство в полной мере так и не проявилось. Нас должны были оставить до следующего утра, а потом еще до вечера, — вот что такое прежнее южное гостеприимство.
Два луча света скользнули по кустарникам, выхватили из темноты то ли блеснувшие кусочки стекла, то ли чьи-то глаза, потом в лучах света побежал гравий, сменившийся двумя неровными колеями.
6
В октябре пришли бандероли с верстками его статей — сразу из трех журналов, хотя он почему-то считал раньше, что статьи взяли только в одном. Октябрь был слишком жарким даже для Джорджии, хотя по ночам на землю уже опускался холод, нередко оставляя на опустевших полях серебристый налет, исчезающий сразу же, едва диск солнца вставал над горизонтом.
Билли возил Уэйда в Джонсборо, Мейкон и Атланту. Туда же он возил и Конни — с той только разницей, что Уэйду надо было по делам, а маршруты поездок с матерью возникали где-нибудь за проселочной дорогой и сильно зависели от настроения. Он стал играть в теннис с Джессикой Фонтейн на корте позади их усадьбы. Он оказался очень способным учеником и, случалось, уже выигрывал у нее по нескольку сетов подряд.
Это было странное зрелище — нет, не для стороннего наблюдателя. Ему, этому наблюдателю, не показалось бы странным, что молодой человек, одетый в свитер и брюки-гольф, играет с девушкой, одетой в свитер и юбку, не закрывающую колен — последнее не совсем обычно для здешних мест, но вполне терпимо. И игра не показалась бы никому странной — перебрасывание длинными ракетками маленького мяча через низко натянутую сетку. Ситуация казалась странной Билли, и он имел все основания предполагать, что столь же странной она представляется и его партнерше. Он стоял, ударяя мячом о землю, готовясь подавать, и видел напротив себя полусогнутую фигуру в неизменном сером свитере, а под шерстяной повязкой, охватывающей волосы — настороженный взгляд больших серых глаз.
Он не мог определить, к чему относится эта настороженность — то ли к готовящейся подаче, то ли к тому, кто будет подавать. Такое выражение глаз можно наблюдать у животных — оно практически одно и то же, когда лиса, например, издалека осматривает капкан, обнаруженный ею, и когда та же лиса наблюдает за другой лисой. Сравнение с лисой очень понравилось Билли, он с трудом удерживался от улыбки, когда стоял вот так, бил мячом о землю, ловил его при отскоке и смотрел в упор на девушку, замершую в ожидании — чего?.. Джессика ни разу не смутилась: не отвела взгляда, даже выражение ее глаз не менялось. Она его изучала, как изучает собрата ли, врага ли, человека ли осторожное и умное животное. И он готов был поклясться, что и она видит его точно таким же — изучающим.
Золотистые краски бабьего лета, гулкие удары мяча о землю, особенно четко слышные в дивно умиротворенном воздухе — кажется, уставшем уже разносить всякий шум и шорох, гам, скрежет и прочие грубые звуки и по странной прихоти или из лени передающем только звуки чистые и однотонные — да абсолютно безоблачное небо, отсвечивающее своей синевой на все и вся — это заставляло забыть о времени, выпасть из его течения.
«Наверное, так чувствует себя умерший спустя несколько мгновений после смерти, — думал Билли, — когда душа, покинув тело, раньше мучавшее ее своими страстями, желаниями и нуждами, бесстрастно и спокойно взирает на мир — прекрасный и гармоничный, а еще совсем недавно казавшийся таким зловещим и суетным».
Только это связывало их — игры на корте три раза в неделю: обязательно по воскресеньям и еще когда придется среди недели.
— Надеюсь, я не обязан на ней после этого жениться, — как-то шутливо спросил Билли, — или существующие здесь правила приличия уже обязывают к этому?
— Пока еще нет, — со странной улыбкой ответила Конни.
Он внимательно и серьезно посмотрел на мать.
— Ты и впрямь полагаешь, что мне это необходимо?
— Ты сам должен решить.
— Хорошенькое дело, — рассмеялся он. — Ты втянула меня в эти игры, ма, а выпутываться теперь должен я один. Слушай, а если говорить серьезно, то я почти убежден в том, что ее загнала в глушь, не несчастная любовь, а непризнание или неудача в какой-то сфере деятельности. Она не суфражистка, ма? Нет, для этого ей не хватает воинственности. Тогда остается одно — непризнанный талант. Она стихов не пишет, как ты? Нет, скорее всего — актриса.
— Отчего тебе так кажется?
— А, долго объяснять.
При следующей встрече с Джессикой, он спросил как бы невзначай:
— Вы были на Западе? В Калифорнии?
Раньше такие вопросы попросту исключались. Их разговоры сводились к погоде, к упоминанию о событиях, случившихся по соседству — словно бы они безвылазно провели здесь всю жизнь, выезжая в лучшем случае на расстояние не больше двадцати миль.
— Да, — удивленно произнесла она.
— Вас удивляет, что я спросил об этом? — Билли в упор посмотрел на нее.
Девушка явно смутилась, но совершенно не хотела подавать вида. «А она с характером, — отметил про себя Билли, — хотя и не суфражистка.»
— Я никому не расскажу об этом, — продолжил он, улыбнувшись совершенно бесхитростно. — Вы пытали счастья в том роде занятий, о котором еще ваши отец и мать не имели понятия — в кино, не так ли?
— Да, — теперь в ее взгляде светилось любопытство. — А как вы?..
— Узнал об этом? Просто догадался. Существует ведь много вещей, по которым можно кое-что узнать о человеке. А умение увязывать эти вещи в какую — то систему называется интуицией.
— Я думала, что это называется логикой.
— Вот как? — он взглянул на Джесс так, словно видел ее впервые. — Разве киноактрисе надо знать это? Я-то думал, что в кино все решает внешность и умение более-менее естественно держаться перед камерой. Впрочем, глядя на Бастера Китона или Чарли Чаплина, этого не скажешь — это я о естественности.
— Вам не нравится кинематограф?
— Почему же? Занятно иногда поглазеть на все эти пинки и подножки. Занятно, но не более того. Кинематограф, извините, тот же цирк.
— Совсем нет, — она выглядела расстроенной, раздосадованной, но никак не разозленной и не возмущенной. — У кинематографа большое будущее. Ведь вы сами только что сказали: каких-то двадцать лет назад о нем мало кто имел понятие. Как и об авиации, собственно говоря.
— Но ведь у кино так мало выразительных средств. Это далеко не театр, не говоря уже о литературе.
— А вы считаете, что у литературы есть шансы на развитие этих… выразительных средств. Мне кажется, что она уже исчерпала себя в этом смысле. Античные авторы писали точно так же, как Амброз Бирс или Джек Лондон.
— Вот, — Билли посмотрел на нее с комическим торжеством, — наконец-то мне удалось завести вас. Кровь Фонтейнов заговорила в вас. Говорят, ваши предки были вспыльчивы и весьма опасны во гневе?
— Говорят, — она не приняла шутки.
— Так вот, — Билли поднял ракетку так, как поднял бы указательный палец. — Джек Лондон — это еще не вся литература и далеко не лучшая ее часть, как я полагаю. И даже Амброз Бирс все-таки отличается от древних греков, этого может не заметить только тот, кто очень не хочет замечать или совсем ничего не замечает.
Ни тени запальчивости не было в его тоне, он произносил слова очень спокойно, даже со слегка скучающей миной, но в то же время и очень серьезно.
— Скажите пожалуйста! — теперь что-то новое и непонятное блеснуло в ее взгляде — отличное от того обычного изучающе — любопытствующего выражения. — И к кому же, по-вашему, я отношусь? К тем, кто не в состоянии ничего замечать?
— Нет, — он снова спрятался за завесой обычной своей иронии. — Вы-то как раз не относитесь ни к первым, ни ко вторым. Вы же оригинальны.
Он в упор уставился на нее, ожидая ответной реакции, весь отдавшись на несколько мгновений самому внимательному наблюдению. Сначала в ее больших серых глазах плеснулось нечто, похожее на раздражение, потом взгляд ее потух.
— Нисколечки я не оригинальна, — неожиданно просто произнесла Джесс. — И я закончу свои дни здесь, получая две тысячи долларов в год. В лучшем случае удачно выйду замуж.
— Это совсем неплохо. «Лучше видеть глазами, чем бродить душою, потому что это — также суета и томление духа». Это Экклесиаст, — прибавил он в ответ на удивленно приподнятые густые брови.
— Вы-то сами, похоже, не очень руководствуетесь этим советом, — сказала она.
— Увы! Совсем даже наоборот, — обезоруженно рассмеялся Билли. — В противном случае я бы давно уже попытался соблазнить вас.
И он опять очень спокойно окинул ее взглядом: длинные темные волосы, слегка повлажневшие на лбу под белой «индейской» повязкой, тоненькая белая шея, выступающие ключицы, острые груди, обтянутые тонким серым свитером — призывная и одновременно беззащитная, хрупкая плоть.
Вопреки ожиданию, она не покраснела, не смутилась и не перевела все в шутку.
— Я уже потеряла всякую надежду на это, — и она вздохнула так, как если бы произнесла перед этим: «Какая жалость, сегодня, кажется, опять пойдет дождь».
— Что же, выходит, я потерял столько времени, находясь в неведении? — тихо спросил он.
— Выходит.
Через несколько дней он подобрал Джесс на железнодорожной платформе близ Джонсборо, где она ждала его. Гостиница в Джонсборо, конечно, не была дворцом, но она превзошла ожидания Билли — он боялся, что она окажется чем-то средним между постоялым двором и меблированными комнатами в доме свиданий.
Льняные простыни, зеркала, мебель из ореха, новые ковровые дорожки, душ — весь набор приятно обрадовал его. Джесс вела себя очень естественно, словно она уже по крайней мере с десяток раз ложилась с ним в одну постель. Билли самому было трудно дать себе отчет в том, нравится ли ему такая простота в ее поведении, или нет. «После того, что я увидел, узнал, перечувствовал за все предыдущие годы, приключение с ней и не могло закончиться по-иному, и она сама не могла оказаться другой», — ирония была почти печальной. «Надо признаться, что мне все-таки немного не повезло в том, что я не оказался у нее первым. Честное слово, я этого заслуживал. Нет, пожалуй, мы этого заслуживали».
Когда они выходили из отеля на задний двор, Джессика взяла его за рукав.
— Эй, — спросила она, — ты почему такой грустный?
— Ничего подобного, — он улыбнулся обычной вежливой улыбкой — слишком обычной и удручающе вежливой для такой ситуации. — Ничего подобного, я в полном порядке. — Он накрыл своей ладонью ее ладонь, которую она держала на сгибе его локтя. — У нас все хорошо, просто день догорает.
Листья ясеней и платанов светились печальным светом на фоне пронзительно-синего неба.
Он открыл перед Джесс дверцу, помог ей сесть.
— Уезжая из Джонсборо, мы словно уезжаем из другого мира, — сказал Билли, когда они уже проехали железнодорожный вокзал.
— Удивительно, но я подумала о том же сейчас. У нас дома мы остаемся взрослыми детьми, даже несмотря на то, что у нас есть какое-то прошлое и существует много обязанностей. А здесь мы вроде бы ничем никому не обязаны и от всего свободны, но спокойней на душе не становится, не так ли?
— Наверное, так, — ответил он, немного подумав. — Но у нас все хорошо.
Он обнял ее за плечи свободной рукой, ощутив, насколько же эти плечи слабы и податливы. На какое — то время на него накатила волна щемящей жалости — больше к Джесс и немного к себе. «Все дело, наверное, в этих безлюдных полях и в этом потухающем небе».
Билли подвез ее к самому дому Фонтейнов. Она должна была сказать матери, что Уильям Коули подобрал ее за околицей, когда она возвращалась со станции узкоколейки.
7
Уже ноябрь подходил к середине, и Уэйд стал готовиться к выезду на охоту. Собственно, выезд должен был состояться из подворья Рэнсома, а до него от Тары было около шести миль. Раньше Уэйд добирался туда на повозке, запряженной мулом. Теперь же он достаточно неохотно согласился на предложение внука поехать туда на автомобиле. Вот уже несколько лет подряд он предлагал Уиллу Бентину взять его с собой, просто поприсутствовать, не охотиться, но старик все отказывался:
— Да нет, я своей деревяшкой все зверье за милю распугаю.
— Но раньше-то ты на этой деревяшке вон куда забредал и никого не распугивал.
— Э, раньше зверье было другое, не такое пуганное. И лес раньше подступал к самому крыльцу, с крыльца-то я и палил, — отшучивался Бентин. — А теперь все вокруг вырубили, до настоящего леса полдня добираться. Нет сейчас настоящей охоты, короче.
— Вот это уж ты зря, дядюшка Уилл. И оленей, и лис, и диких индюшек еще хватает.
— Ну, индюшек этих раньше собакам скармливали.
Уилл Бентин никогда не был настолько богат или настолько расточителен, чтобы скармливать мясо дикой индейки собакам, но эту фразу он всегда произносил, как решающий аргумент в споре с Уэйдом, доказывая, что природа вконец истощилась.
Они выехали, загрузив на заднее сиденье брезентовую палатку, съестные припасы на несколько дней для себя и обрезки от недавно забитой свиньи — для собак Рэнсома, две бутылки виски, ружья, порох, патроны, дробь и еще ворох разной мелочи.
Уэйд ворчал, что раньше в повозку он мог загрузить сколько угодно всякой всячины, а теперь из — за экономии места чем-то приходится пожертвовать, что-то останется.
— Дед, с этим все в порядке, — смеялся Билли, — двадцать раз смогу вернуться в Тару, если мы что-то забудем или что-то нам неожиданно понадобится там.
— Какая же это будет охота? — досадливо морщился Уэйд. — С таким же успехом можно охотиться на своих уток.
В тот день небо затянуло пологом туч, настолько тяжелых и густых, что из них, казалось, можно было дождаться заряда снега, столь редкого в этих краях и в январе. Но тучи стали сеять мелкий, словно пыль, холодный дождик.
— Лучшей погоды для оленьей охоты и не придумаешь, — удовлетворенно покряхтывал Уэйд.
Уилл, женщины, нянюшка Люти высыпали на крыльцо посмотреть на их отъезд. Уэйд только досадливо махнул рукой:
— Обычное дело, что нас провожать.
Сначала автомобиль бодро мчался по мощеной гравием дороге, ведущей в Джонсборо, но потом Уэйд велел свернуть на проселочную, ведущую на вершину поросшего кустарником холма. Едва только они поднялись на холм, у Билли даже дух захватило: настолько чудесная картина открылась перед ним.
До самого горизонта, поднимаясь волнами на взгорьях и холмах, тянулся лес, казавшийся совсем нетронутым. Можно себе представить, что за зрелище открывалось с холма на густые заросли дубов, падубов, кипарисов, камедных деревьев в лучах неяркого осеннего солнца. Но и сейчас любой мог чувствовать себя так, словно он посетил мир в иную историческую эпоху.
— Да, мой мальчик, таких мест, может быть, и немного осталось у нас в Джорджии, — Уэйд, конечно, предвидел, какое впечатление произведет на внука вид пущи. — Странное дело, ты бывал в Таре, когда приезжал сюда с матерью и отцом, я водил тебя в ближайший лес, помнишь — это милях в двух отсюда, вправо, там стояла хижина моего тестя Джима Каразерса. А теперь лес там снесли, дом-то, правда, стоит еще, но он уже смотрит на пашню. А ведь лет сорок назад там и медведи случались, честное слово. Нам же сейчас надо ехать прямо, вон туда, — он указал на едва различимый просвет в густом кустарнике у подножья холма, куда вела тропинка, петлявшая среди огромных гранитных валунов, загромождавших склон.
— Раньше, — продолжал Уэйд, явно довольный эффектом, который пуща произвела на Билли, — этот лес тянулся до самой реки Чаттахучи.
— В тех местах в Европе, где пришлось побывать, тоже были невысокие горы, поросшие лесом. Арденны. Но они, конечно, ни в какое сравнение не шли с этим краем.
— Да что там говорить, малыш, во всем мире, наверное, нет уголка, который сравнится с нашей Джорджией, — прочувствованно произнес Уэйд. — Уж лично я в любом случае убежден в этом. Ни Запад, ни Калифорния не сравнятся с этими краями.
Билли осторожно вел машину по едва заметной колее, минуя гранитные глыбы.
— Бог знает, сколько тысяч лет уже лежат эти камни, — сказал Уэйд. — И они наверняка совсем не изменились. Вот раньше здесь жили чероки. А теперь от них разве что название осталось. Там, у Эда Рэнсома, ты встретишь чероки. Впрочем, он не совсем чероки, у него мать была негритянка.
Лесные заросли смыкались над узкой, едва различимой дорогой настолько плотно, что осенний свет, и без того скупой из-за непогоды, почти не попадал сюда. Билли пришлось напрячь все внимание, чтобы не помять крылья автомобиля о гигантские корни, выползающие от стволов на дорогу, словно доисторические ящеры. Сложно даже представить себе было, как Уэйд добирался сюда на повозке, как ехал по этой дороге.
Но вот заросли поредели, показалась обширная поляна, на противоположном конце которой Билли увидел несколько повозок и, к своему удивлению, небольшой грузовичок.
— Вот, дед, а ты говорил, что на повозке добираться лучше, — заметил Билли.
— Это наверняка майор Джиффорд из Атланты — на грузовике.
— Майор? Почему майор? Что здесь делать майору? — Билли спросил это чисто машинально, уж больно не вязалась эта пуща с тем, что ему пришлось видеть еще год назад.
— Ну, этот майором стал очень давно, еще во времена испанской войны. Он воевал на Кубе. Джиффорд — мой одногодок, даже чуть постарше. Но все помнят, что он когда-то был майором. Просто он время от времени напоминает об этом. А вообще-то раньше я с другими охотился, но это же как давно было. Эта компания у нас лет десять назад подобралась.
Билли подкатил ближе к навесу, под которым стояли повозки и рядом с которым стоял грузовик, пригнанный майором Джиффордом из Атланты.
Чуть подальше, в самом углу поляны, мысом вдающейся в лес, стоял, как понял Билли, дом Эда Рэнсома. Дом этот представлял из себя деревянное строение, стоявшее на четырех мощных столбах. Присмотревшись, можно было заметить, что два столба — это пни от спиленных деревьев, а два других врыты в землю. Сейчас под домом уже нашли убежище от дождя собаки.
Охотники же, точнее, трое из них, стояли под большим деревом и тихо беседовали о чем-то.
— А, вот и мистер Гамильтон, — обратил один из них внимание на подходивших.
— И не один, а с внуком, как и обещал, — сказал Уэйд, по очереди здороваясь за руку со всеми и представляя Билли. — Вот это и есть Уильям Коули, знакомьтесь.
Билли почему-то был доволен, что среди этих троих не оказалось майора Джиффорда.
Уэйд сразу стал присматривать место, где они поставят палатку.
— Вон там, малыш, под камнем. Не будет задувать хотя бы с одной стороны. Змеи сейчас уже спрятались на зиму. Последнего медведя здесь видели лет двадцать назад, а пума, которая тоже вряд ли сюда забредет, побоится собак. Уж они ее, во всяком случае, заметят. Предпочитаю спать на свежем воздухе, потому что у Эда Рэнсома в его избушке воздух достаточно тяжелый. Проще говоря, у него там вонища.
Вытащив из машины палатку и установив ее, Уэйд с Билли поднялись в дом Эда Рэнсома.
Хозяин, мужчина лет сорока с неровно подстриженными волосами и бородой, одетый в засаленные штаны и телогрейку поверх клетчатой рубахи, демонстрировал собравшимся гостям щенков — как он утверждал, породы эрдель-терьер. У Билли возникли сомнения относительно того, что эти ублюдочного вида создания превратятся когда-либо в красивых и умных собак, но он оставил свои сомнения при себе.
Билли понял, что имел в виду дед, когда говорил о «не слишком свежем воздухе» в жилище охотника. А жилище было чем-то средним между хлевом и амбаром. Пространство, освещаемое керосиновой лампой даже днем, потому что в крохотное окошко, немытое уже неизвестно сколько лет, свет снаружи почти не проникал, было захламлено до предела. В углу на распялках были натянуты шкурки енотов, на железной плите громоздились горы посуды, покрытой толстым слоем копоти и жира, на столе, сбитом из неоструганных реек и досок, валялась какая-то обувь, одежда, капкан, несколько коробок из-под ружейных патронов, приклад. На стене висела рыболовная сеть.
Эд Рэнсом закончил демонстрацию щенков, поместил их в фанерный ящик у стены, поскреб бороду короткими грязными пальцами, прошелся среди великолепного бедлама, заложив руки за спину, и обратился к человеку в чистой, хранившей еще складки от хранения на полке магазина, охотничьей одежде, сидевшему на колченогом стуле:
— Так вот, относительно того рогача, майор Джиффорд. Я вас уверяю, что тому красавцу по меньшей мере лет пять будет. Вот в дверь он, наверное, не пройдет — настолько у него рога большие.
— Откуда же он здесь в такое время взялся? Тот, которого мы попытались взять в прошлом году, был явно поменьше, — возражал, лукаво посмеиваясь в аккуратно подстриженные серебряные усы, майор Джиффорд.
— Если бы этот лес был в какую-то сотню акров размером, я бы, возможно, сказал вам, откуда он пришел, из какого места. Тот, которого мы упустили в прошлом году, тоже наверняка бродит где-нибудь неподалеку — летом я видел его у Трех Скал, которые отсюда, как вы знаете, всего милях в пяти. Но очень даже может быть, что это уже третий самец. А вот одна олениха с малышом ходила почти у самой Фейетвиллской дороги — насчет этого я даже поклясться могу.
— Когда вы видели олениху, Эд? — спросил Уэйд Гамильтон.
— В августе.
— Выходит, не все еще потеряно для наших краев. Хотя, конечно, я помню времена, когда оленя здесь можно было подстрелить чуть ли не с крыльца усадьбы. Я, во всяком случае, как-то уложил довольно здорового трехлетка не далее, чем в миле от хлопковой плантации.
— И когда это было? — поинтересовался Эд Рэнсом, сунув лапищу за ворот рубахи и энергично почесываясь.
— Да уже лет сорок прошло с тех пор, — улыбнувшись, ответил Уэйд.
— Вот. Нынешние-то молодые охотники в это уже с трудом верят, а лет эдак через десять — пятнадцать, глядишь, олени только в воспоминаниях и останутся, — Эд отошел в угол и сплюнул за железную печку большой ком табачной жвачки.
— Однако вы совсем уж мрачную картину нарисовали, мистер Рэнсом, — покачал головой майор Джиффорд. — Наверняка все будет чуть получше. Вырубку леса здесь прекратили, число желающих выращивать хлопок в этом округе явно не увеличивается, скорее наоборот. Так что на наш век зверья хватит.
— На наш-то, может быть, и хватит. А что же делать тем, которые придут сюда после нас? Что делать, например, внуку Уэйда Гамильтона?
— Ну, уж молодые-то люди занятие для себя найдут, — майор Джиффорд посмотрел на Билли. — Внук Уэйда Гамильтона уже летал в небе. Возможно, это ему нравится даже больше охоты. А вот Джона Самнерса, небось, в небо и на лассо не затащишь. Так ведь, Джон?
До сих пор этот очень невысокий — на вид не выше пяти футов трех дюймов — но коренастый, с широкой грудью, длинными тяжелыми руками человек воспринимался Билли как предмет домашнего обихода в жилище Эда Рэнсома — настолько неподвижно он стоял у стены, настолько его лицо напоминало цветом сильно закопченный медный котел, валявшийся здесь же в углу.
— Это уж точно, мистер Джиффорд, — разлепил тот потрескавшиеся губы. — Мое дело — по земле ходить, уж этому я кое-как научился.
Его короткие кривые ноги могли легко проделать путь до двадцати миль в день, преодолевая при этом буреломы, валунные завалы и топи. Основным занятием Джона Самнерса было трапперство, а ловушки он расставлял на площади чуть ли не в половину штата, как говаривал о нем Эд Рэнсом, так что для обхода всех требовалось достаточно много времени.
Билли старался не смотреть очень уж пристально на Джона Самнерса, но все же не мог отвести взгляд от человека, чьи предки ходили по этой земле сотни, а то и тысячи лет назад. И он, сохранивший в своих жилах по крайней мере половину их крови, сохранил и много способностей, навыков, большинство из которых уже никогда не понадобится человеку другой расы. Эд Рэнсом, единственный из находившихся здесь белых, тоже добывал себе пропитание охотой и рыбалкой. Но Эд был уникумом, осколком другой эпохи, его дети — если они у него где-то имелись — наверняка занялись уже или собирались заняться чем-то другим. А вот Джона Самнерса Билли не мог себе представить находящимся в ином месте, кроме этого полутемного осеннего леса. Эда Рэнсома, предварительно вымытого хотя бы в трех водах, побритого и остриженного, можно поставить за стойку бара, посадить за стол клерка и даже нацепить ему бляху шерифа — он занял бы достаточно подобающее ему место. А Самнерса, у которого и настоящее имя звучало наверняка по-другому, Билли, сколько ни напрягал воображения, не мог увидеть где-то еще, кроме этой запущенной избушки да безлюдных лесных троп.
Билли подумал, что и его дед, и майор Джиффорд, и приехавшие сюда чуть позже Коэн, Ле Спейн и Куртни наверняка очень давно знакомы с Рэнсомом и Самнерсом, они все стоят намного выше их на социальной лестнице, но в отношениях между лесными бродягами и людьми, владеющими недвижимостью, состояниями и чисто городскими профессиями, не заметно признаков старшинства и подчиненности. Разве что майор Джиффорд, по чисто армейской привычке покомандовать, мог позволить себе распоряжаться кем-то — в данном случае только водителем своего грузовичка, исполнявшем при нем что-то вроде обязанностей адъютанта.
Поговорив о том, что в этом году расплодилось на удивление много белок и пернатой дичи на ручьях и болотах, все стали располагаться на ночлег. Джиффорд и водитель спали в кузове под тентом, а Коэн, Ле Спейн и Куртни поставили палатки. Все собаки — свора Эда Рэнсома и трое гончих Ле Спейна — лежали под избушкой, а уж внутри ее могли находиться только Рэнсом с Самнерсом.
Билли лежал, застегнув спальный мешок до самого подбородка, и все равно ощущал холод и сырость. То ли мелкий дождь шуршал по брезенту палатки, то ли это ветер, налетавший порывами, швырял сухие листья и мелкие веточки. Билли думал о том, что надо бы что-то изменить в этой жизни, да вряд ли ему это под силу. Он не знает, как сделать счастливой свою мать. Ей, конечно, можно посоветовать вернуться в Бостон, чтобы находиться там в среде, которая была привычной для нее на протяжении почти половины ее жизни. Но она сама избрала Тару местом добровольного заточения. Что же, это в их семье случается не в первый раз. Семейное предание, тетка Уэйда, ушла в монастырь в возрасте восемнадцати лет, после того, как на той войне погиб ее жених. Войны, наверное, неизбежны, на них кто-то обязательно должен гибнуть — либо целиком, физически, уйдя из этого мира, либо потеряв значительную часть души, идеалов и иллюзий. Последнее наверняка случилось и с ним самим. Он, как и мать, тоже забился в монастырь под названием «Тара», но здесь его поджидала еще одна беда — Джессика. Инстинктом еще оставшейся здоровой части своего существа он чувствовал губительность этой связи для себя — хотя бы потому, что она не приведет, не может привести к логической развязке. «Логическая развязка, — усмехнулся он про себя, — это, конечно же, законный брак. Так поступили в свое время мои дед с бабкой и отец с матерью. Нет, «законный брак» — не более чем символ. Главное, они взяли на себя бремя самостоятельного решения. Или просто подчинились раз и навсегда заведенному порядку? Что же, и на это надо решиться. Плыть по течению или против него — должен выбирать для себя каждый. Но ведь от человека так мало зависит, ничтожно мало, в этом-то и вся его драма, существа, очень рано, чуть ли не с рождения осознавшего свою конечность, свою ограниченность во времени. Болезни, потери, разочарования — всего с лихвой хватает на столь недолгом пути. Я не могу заставить Джессику отказаться от ее мечты — по моему мнению достаточно бредовой, эфемерной. Но расскажи я тому же Эду Рэнсому о своем писательстве, он в лучшем случае пожмет плечами. Так что Джесс безусловно права по — своему. А мне уже трудно расстаться с ней, наверное, она достаточно много стала значить для меня».
Он не заметил, как заснул. Но сон, начавшийся, как ему показалось, всего несколько минут назад, был прерван громким криком.
— Вставайте, кофе готов! — орал кто-то, невидимый в непроглядной ночной тьме.
Билли выпростал руку из спального мешка. Часы с фосфоресцирующими стрелками показывали четыре утра. Уэйд уже бодро выбирался из палатки. Из — под откинутого полога виднелось звездное небо — значит, дождь прекратился и теперь не будет идти достаточно долго. Когда Билли выполз из палатки, оказалось, что о готовности кофе так громогласно объявлял Эд Рэнсом. Уэйд позвал его в избушку. Они взяли по огромной жестяной кружке напитка, который, к удивлению Билли, больше оказался похожим на настоящий кофе, а не на безвкусное пойло. Уэйд заставил его съесть кусок копченой грудинки, которую они взяли из дома. Все выглядели хмурыми, обменивались только односложными репликами. Собаки заворчали, завозились под полом. Повелительный бас пса, принадлежавшего Ле Спейну, перекрыл жалобно-скандальные вскрики гончих Рэнсома.
Билли почувствовал себя так, как чувствовал на аэродромах Европы — полеты, как правило, начинались ранним утром. Война закончилась год назад, но он уже знал, что война будет вспоминаться ему в мельчайших деталях, в оттенках ощущений, звуков, запахов еще долго. Тогда он охотился на немцев в их собственных окопах, сейчас он охотится на оленей в их собственном лесу. Билли не очень надеялся, что им удастся кого-то подстрелить сегодня. Слишком уж это кажется мудреным, сложным — Рэнсом и Самнерс, кажется, только приблизительно знают маршрут, которым следует чудо-олень. А видели они его несколько дней назад. Теперь, если собакам удастся не только взять след, но и заставить побежать оленя на расставленные посты, то кому-то в случае совсем уж удачного стечения обстоятельств может повезти и он уложит лесного красавца ярдов с сорока. Конечно, у него самого был великолепный «винчестер», Уэйд располагал безотказным «ремингтоном» — любовь к этой марке его дед пронес через всю жизнь — но вряд ли им повезет больше других.
Но собаки, как ни странно, взяли след довольно быстро, хотя неизвестно было, чей это след — барсука, енота или того, кто был всем на самом деле нужен. Тем не менее, Эд Рэнсом поставил их в засаду, а отчаянный лай покатился по лесу дальше, затих, почти пропал, потом снова зазвучал все ближе и ближе. Уэйд поправил на поясе серебряный рожок — именно из этого рожка он должен будет подать сигнал в случае удачного выстрела.
Где-то совсем близко, не дальше четверти мили, возник звук, напоминающий раскат грома.
— Это дробовик Эда Рэнсома, будь я проклят, — взволнованно сказал Уэйд и взвел курки. Билли чисто рефлекторно сделал то же и стал напряженно всматриваться в сизоватую утреннюю дымку, пытаясь различить что-то между деревьев. Они находились в самом низу осыпи, а сверху был огромный валун, целая скала, и если бы олень решил обойти скалу с другой стороны, то он был бы потерян, недосягаем для их «винчестера» и «ремингтона». Но с другой стороны скалы рос густой кустарник, а с их стороны, слева от осыпи, олень мог пройти. На этом, собственно, и строился расчет Рэнсома, достаточно примитивный, достаточно авантюрный, но оказавшийся верным — настолько верным, что Уэйд и Билли сейчас не поверили своим глазам, увидев перед собой мускулистую грудь, тонкие ноги, нервно и чутко пробующие край осыпи, закинутую назад голову и рога — точно такие, какими их описывал Эд Рэнсом. Чудо возникло перед ними. Олень появился совершенно бесшумно, и это еще больше усиливало подозрение в его призрачности, бесплотности. Первым опомнился Уэйд — когда расстояние между ним и оленем составило не более тридцати ярдов. Еще мгновение, и чуткое животное — конечно же, учуявшее их еще раньше, то ли обонянием, то ли еще каким чувством — свернет влево, скроется за стволами деревьев и разомкнет кольцо, в которое было так удачно взято. Тогда снова будут лаять где-то далеко собаки, снова надо будет идти очень далеко по лесу, чтобы в лучшем случае определить направление, в котором пошел олень и попытаться опять заставить его пойти вдоль постов — на следующий день.
Уэйд вскинул ружье, и два выстрела прозвучали с интервалом не более чем в полсекунды. А следом выстрелил Билли — тоже навскидку, не имея времени как следует прицелиться, но увидев продолжением ствола дернувшуюся голову, заметивший вдруг, как исчезла грациозность в движениях животного, словно олень в одно мгновенье превратился в неуклюжую корову со спутанными передними ногами.
Олень падал вниз долго, словно в самый последний момент своей земной жизни сделался невесомым. Все дело, конечно, было в ветвях подлеска и кустарника, за которые цеплялось тело оленя, опускаясь на самый низ ложбины.
Только когда тело успокоилось, улеглось на сырую и прохладную землю, Уэйд спустился следом, тронул шею животного стволом ружья, снял с пояса рожок и протрубил.
— Это было красивое животное, — сказал Билли, когда они на следующий день возвращались домой.
— Наверное, у него такая же судьба, как у большинства других оленей — гибнуть от пуль охотников, — пожал плечами Уэйд. — Раньше они в большинстве своем гибли от когтей медведя, клыков пумы, стрел чероки, теперь гибнут от пуль и картечи. Не от старости же им умирать.
— А что, если бы это вдруг стало возможным?
— Тогда в мире бы многое поменялось — если бы оленям позволили умирать от старости. В национальных парках их все равно продолжают уничтожать естественные враги.
— Да, дед, ты, пожалуй, прав. В мире бы многое изменилось, если бы оленям позволили умирать от старости. И вообще всем существам, похожим на них. Так или иначе, а сейчас у нас есть с полсотни фунтов оленьей вырезки, пара рогов и масса воспоминаний.
— Это твой первый олень, малыш.
— Которого убил ты, дед. Стреляю я похуже тебя, но уж разобраться в том, чья пуля его уложила, я как-нибудь сумею.
— Ничего ты не сумеешь. Одна из пуль была твоей.
— Если бы ты не стрелял, моя пуля в лучшем случае ранила бы оленя в шею, но не свалила бы его. Его голову и шею прошили пули из «ремингтона».
— Вот приедем домой и посмотрим повнимательнее.
— Тут и смотреть нечего, дед, — Билли отнял руку от руля и потрепал Уэйда по плечу. — Что-то упущено в моем воспитании. Я раньше начал убивать людей, а только после этого животных.
— Билли, но на войне…
— Убийство не считается убийством? Это ты хотел сказать? Возможно, дед, возможно. Надо бы спросить об этом старого солдата Конфедерации, мы с ним ни разу не беседовали на эту тему.
Они уже сворачивали в кедровую аллею. Светлый домик на возвышении сиял, словно вымытый, в лучах заходящего солнца. Было очень тепло, как может быть только в Джорджии во второй половине ноября.
Едва Билли подкатил к крыльцу, как на нем появилась Аннабел. Мужчины сразу обратили внимание на ее изменившееся, осунувшееся лицо, покрасневшие глаза.
— Аннабел! — осипшим от волнения голосом крикнул Уэйд. — Что случилось?
Он не мог дождаться, пока Билли затормозит, и растерянно переводил взгляд с жены на дорожку и обратно.
Наконец Уэйд открыл дверцу и в два прыжка преодолел расстояние от автомобиля до крыльца.
— Что-нибудь с Уиллом? — напряженно вглядываясь в лицо жены, спросил он.
Та отрицательно покачала головой, ее синие глаза вновь наполнились слезами.
— Генри… нашелся, — еле слышно выговорила она.
— Генри? Генри?.. Как это он мог найтись? Ведь он погиб.
— В том-то и дело, что нет. Было бы, наверное, лучше, если бы он погиб.
— Господи Иисусе, да что же ты такое говоришь, Аннабел? — Уэйд словно только сейчас вспомнил, что Билли находится здесь и все слушает. Он растерянно оглянулся и увидел напряженное внимание на лице внука. И не только это — еще и какое — то предвкушение несчастья. Именно — не ожидание, а предвкушение, словно испытывая боль, он желал еще большей боли, дабы, потеряв чувствительность, перестать чувствовать что-либо вообще.
— Но почему ты так говоришь, Аннабел? — продолжал допытываться Уэйд. — Он изувечен, да? Он серьезно ранен?
— Он лишился рассудка, — она сжала губы и в порыве безутешного отчаяния замотала головой, словно силясь, как наваждение, отогнать дурную весть, которую сама же только что сообщила.
— Черт побери, — растерянно пробормотал Уэйд. — Но как же так получилось, ведь он пропал в самом начале семнадцатого года, с тех пор прошло два с половиной года, почти три…
— Все это время мексиканцы держали его в тюрьме — так сказано в том письме из военного госпиталя в Новом Орлеане.
— Где мама? — потерянно спросил Билли.
— Там, в доме, — Аннабел взяла его за руку. — Билли, мальчик, она собирается немедленно ехать туда, в Новый Орлеан.
— Хорошо, ба, хорошо. Наверное, она решила правильно.
Он мягко, но настойчиво освободился от ее руки и быстро прошел в дом. Мать он нашел в небольшой комнатке на втором этаже. Конни обернулась на стук в дверь, на звук его шагов. Глаза ее, такие же синие, как у Аннабел, были сухими, а на губах блуждала какая — то странная улыбка.
— Вот, Билли, папа нашелся, — она взяла со стола сложенный вдвое лист бумаги с гербовым грифом и протянула ему.
— Да-да, бабушка нам все уже рассказала, — он быстро пробежал глазами строчки сухого официального сообщения. — Ты приняла правильное решение, ма. Мы поедем туда вместе.
8
В Новом Орлане стояла такая же солнечная и теплая для ноября погода, как и у них в Таре. Госпиталь, куда они добрались на такси, размещался в здании архитектуры французского колониального стиля, очень старом, обсаженном высокими пальмами.
В приемном покое они справились о майоре Генри Коули.
— Об этом вам надо поговорить с доктором Брэдшоу, — медицинская сестра в белой высокой наколке посмотрела на Конни в упор сквозь толстые стекла очков.
Доктор Брэдшоу, маленький, вежливый, аккуратный, с серебряной, ровно подстриженной бородкой и такой же серебряной, с идеальным пробором прической, в халате поверх военной формы, принял их у себя в просторном кабинете.
— Итак, вы миссис и мистер Коули, жена и сын майора Коули… Молодой человек уже тоже успел повоевать? — он, конечно, обратил внимание на то, что Билли явился в мундире со споротыми нашивками, но с медалью. — Ах, конечно, европейский театр военных действий. У нас много военных — жертв европейской кампании. Война — это не только трупы. Это еще и масса калек… — он побарабанил пальцами по столу. — Мексиканская экспедиция для многих была эпизодом, а подавляющее большинство граждан нашей страны ее вообще не заметило. Но как были люди, непосредственно пострадавшие от налета на Колумбус, так существует, увы, и статистика мексиканского похода Першинга.
И миссис, и мистер Коули, разумеется, могли бы прервать политическую лекцию военного врача, но не сделали этого — уж так они были устроены.
А майор Брэдшоу исчерпал уже все известные ему интерлюдии, поэтому выразился достаточно приближенно к предмету разговора:
— Видите ли, какое — то время вы можете не забирать его из госпиталя. Все-таки здесь профессиональный уход.
— Сэр, — напрямик спросил Билли, — вы хотите сказать, что он так плох?
— Да, — после некоторой паузы ответил майор Брэдшоу. — Думаю, это последствия черепно-мозговой травмы. Хотя я не исключаю и психологического шока от содержания в плену.
— Но если он в самом деле был настолько серьезно ранен или травмирован, неужели у мексиканцев не существовало медицинского осмотра или настолько несостоятельны были их военные медики, что они поместили его в общую тюрьму, не оказав никакой помощи? — недоуменно спросил Билли.
— Конечно, в Вашингтоне уже знают об этом. Но что толку вручать ноты теперь или снаряжать другую экспедицию? — пожал плечами Брэдшоу.
— Ладно, — сказал Билли. — Мы можем прямо сейчас посмотреть его?
— Разумеется. — Брэдшоу словно бы хотелось сказать еще что-то, но только повторил: — Разумеется.
Он вежливо извинился и вышел из кабинета. Билли взял руку матери в свою и пожал:
— Ничего, ма, может быть, все не так уж страшно.
Но все оказалось гораздо страшнее, чем даже предполагал он сам. Появившийся вместе с майором Брэдшоу санитар провел их в отдельный бокс, запиравшийся на ключ, где находился бывший военный летчик майор Коули.
Они вздрогнули, увидев страшно исхудавшего — раньше он весил не меньше ста восьмидесяти фунтов — Генри с ужасным шрамом, тянувшимся от правой брови через весь лоб и заметном еще дальше, в коротко стриженных волосах. В уголках полуоткрытого рта пузырилась слюна, глаза совсем не изменили выражения, когда перед ним предстали жена и сын.
— Господи Иисусе, — вырвалось у Билла.
Ему приходилось слышать об ослепших после газовых атак, об ампутированных конечностях, он и сам видел распухшие трупы. Но только тут он понял, что не до конца осознавал — такое могло случиться и с ним. Он ушел на войну, чтобы заменить погибшего отца. Заменить в армии Соединенных Штатов. Его имя появилось в газетах. Он до сих пор хранит вырезки. Он жертвовал собой на другом конце света, чтобы отомстить неведомо кому в Мексике. Конечно, «Звезды и полосы на все времена»[17]. Он жертвовал собой не из-за того, что немцы топили американские корабли, он что-то кому-то доказывал. Как же, он доказал, получил серебряную медаль, звание старшего лейтенанта, кроме того, ему оказано много почестей, имеющих символическое значение. Разумеется, в это время кто-то другой устраивал свою жизнь, как мог, как считал нужным — например, срывал жирный куш на военных поставках.
Но Билли тут же оборвал себя: «Нет, я рассуждаю ужасно глупо. Кто-то должен быть жертвой. Вот мы с матерью и созданы для заклания. И в самом деле — кто знает об экспедиции Першинга в Мексику?»
Он много еще о чем успел подумать, разглядывая это существо, очень похожее на его отца, но вовсе не бывшее его отцом.
Кокни, до того молча слушавшая, подошла к мужу. На лице ее отразилась грустная покорность судьбе и в то же время ласка.
— Генри, — сказала она и положила руку на голову больного. — Генри, мы приехали за тобой.
Тот почти никак не отреагировал на прикосновение, только слегка повернул голову — непонятно было, то ли он силился сбросить руку, то ли хотел, чтобы его погладили, словно животное. Но глаза его, как заметил Билли, продолжали смотреть с прежним выражением — нет, это не были пустые глаза идиота, но глаза человека, который глубоко задумался. Это можно было бы назвать выражением болезненно-сосредоточенного внимания. Человек со шрамом на лбу словно бы напряженно бился над разгадкой какой-то проблемы, и все попытки достучаться к нему извне были явно обречены на провал.
— Док, — тихо спросил Билли у Брэдшоу. — У него есть хоть какой-то шанс выкарабкаться?
— Возможно, — все так же не повышая голоса, ответил врач. — У него сохранилась способность… э-м… произносить звуки, правда, практически абсолютно невнятные. Он ходит, но, опять-таки в том случае, если его вести. Пищу он принимает вполне нормально, то есть, глотательный рефлекс в норме, но ест он не самостоятельно, его надо кормить. Таким образом, у него сохранилось достаточное количество рефлексов, в основном, к сожалению, двигательных. Мы наблюдаем его здесь уже третий месяц, и за это время замечали, что он поворачивал голову, в том числе и реагируя на громкие звуки.
— На меня он производит впечатление человека, который спит с открытыми глазами и изо всех сил пытается проснуться.
— Да, очень точное замечание, — согласился Брэдшоу. — Очевидно, он был волевым человеком, но теперь не все зависит от его воли.
Конни тем временем прижала голову Генри к своему бедру и стояла над ним неподвижно.
— Мистер Брэдшоу, — слегка повернув голову, сказала она, — мы можем забрать его сейчас?
В декабре в Тару приехали с Востока отец и мать Генри. Полковник Коули, широкоплечий, плотный джентльмен, все время говорил так, словно отчитывал подчиненных, и у Билли опять возникло то чувство, которое всегда охватывало его при встрече со старшими армейскими чинами — какая-то подсознательная, глубинная робость и в то же время настоя — тельное желание надерзить. Надо сказать, что второе чувство в нем всегда побеждало, из-за чего Уильям Коули имел достаточно много неприятностей во время службы, достаточно короткой для того, чтобы эти неприятности переросли в серьезные. В данном случае положение усложнялось тем, что полковник Коули, как ни крути, приходился ему родным дедом. Разумеется, он ни в какое сравнение не шел с Уэйдом Гамильтоном, но все же был ближайшим родственником и обладал соответствующими правами. Однако наступил момент, когда Билли просто не смог уже выслушивать наставлений полковника о том, как им всем здесь — включая Уилла, Уэйда, Аннабел и, возможно, еще нянюшку Люти — следует ухаживать за больным. Жена полковника, бабка Билли, которую тот видел всего несколько раз в своей жизни, сидела во время тирад полковника прямая, как палка, всем своим видом изображая полнейшее согласие с речами супруга.
«Черт побери, — подумал Билли, — а ведь она за все время пребывания здесь подошла к моему отцу считанные разы — да, что-то два или три раза. Это к своему-то сыну, который оказался в таком положении! Нет уж, наверное, прав был Уэйд, говоря о бесконечном эгоизме янки».
— Сэр, — обратился Билли к полковнику Коули, но глядя поверх плеча того, — вы, очевидно, являетесь крупным специалистом в медицине? Нет? Так по какому же праву тогда вы поучаете всех?
Багровое лицо полковника побагровело еще больше, седые кустистые брови удивленно поднялись кверху.
— Билли, малыш, что с тобой? — попытался остановить его Уэйд. — Перестань…
— Что я должен перестать, дед? — резко перебил его Билли. — Говорить с мистером Коули в таком тоне? Но он же позволяет себе командовать нами всеми. Вы не в генштабе, сэр, где вы протирали брюки в течение сорока или скольких там лет. Если уж говорить начистоту, то большая часть вины за то, что случилось с отцом, лежит на вас. Все эти кодексы офицерской чести — орудие негодяев с одной стороны и ловушка для наивных и легковерных — с другой.
— По-твоему, негодяй — это я? — полковник Коули весь трясся.
Билли резко поднялся с места и, не глядя ни на кого, быстро вышел из гостиной.
— Билли!
Он оглянулся — это мать догоняла его.
— Билли, сынок, ты не должен был разговаривать со своим дедом в таком тоне, — Конни выглядела расстроенной.
— Ма, я считаю, что у меня есть только один дед — это твой отец Уэйд Хэмптон Гамильтон. А этот старый надутый козел, который, кстати, всегда считал, что ты не ровня его великолепному сыну, может убираться отсюда ко всем чертям. Ты что же, всерьез воспринимаешь эти дурацкие условности? Это не похоже на тебя, ма.
Она подошла к нему, поникшая, беззащитная, и Билли словно в первый раз заметил частые нити седины в ее темных волосах. Он обнял мать за плечи и прижался щекой к ее лбу.
— Ох, как же тебе не повезло, ма, как не повезло!
Полковник Коули с женой уехали в тот же день. Уэйд запряг лошадей в повозку с верхом, на которой он не выезжал с самой весны, и отвез их на железнодорожный вокзал в Джонсборо.
9
Он в ту зиму разобрал и починил старый трактор Уэйда, осмотрел новый, выбирался с Уэйдом на охоту, притерпелся к запаху Эда Рэнсома. И Джон Самнерс уже не казался ему таким экзотическим и таинственным, и майор Джиффорд — таким заносчивым, хотя по-прежнему приезжал на своем грузовичке с водителем, и водитель оставался готовить еду, не участвовал в охоте. Они видели след оленя, собаки даже несколько раз гнали его, но, очевидно, везение на какое-то время покинуло их. Эд Рэнсом ворчал, что дичь, пожалуй, исчезнет гораздо раньше, чем он предполагал, майор Джиффорд возражал ему, указывая на непомерно расплодившихся диких кроликов, опоссумов, уток.
Связь с Джессикой Фонтейн стала чем-то обыденным. Он уже не боялся потерять ее — очевидно, потому, что обладал ею достаточно давно, потому что частое ее присутствие рядом с ним породило иллюзорное убеждение в том, что так будет всегда.
Они с Джессикой возвращались из Джонсборо среди застывших полей, где засохшие и скрюченные стебли хлопчатника рождали ощущение всеобщей покинутости. Билли останавливал автомобиль, они стояли, глядя на полосу заката над кромкой далекого темно — синего леса, и Джессика говорила:
— Ты очень странный, Билли. Наивно пытаться задержать течение времени, а тем более — повернуть его вспять. Со временем надо смириться.
— Не знаю, — нервно пожимал плечами он. — Я всегда расценивал время, как врага, которому я постоянно проигрываю. Время приносит человеку новые неприятности, потери, новую боль. Ведь весной ты собираешься уехать отсюда?
Она неопределенно пожимала плечами.
— Возможно. Но не исключено, что мы уедем отсюда вместе, вдвоем с тобой.
— Мне-то в Калифорнии уж точно делать нечего. Да и ты там станешь совершенно иной. К тому же без меня матери будет еще хуже.
— Что, с отцом так уж безнадежно?
— В том-то и дело, что нет. Дня три назад он вдруг заплакал. Мы с матерью находились рядом с ним, а он, как всегда, смотрел перед собой, словно пытаясь решить что-то очень важное для себя, и вдруг перевел взгляд на нас. Честное слово, мне показалось, что в этом взгляде было столько боли, отчаяния, столько безнадежности… И сразу же — слезы градом, крупные, что называется, с горошину. Я себя тогда так почувствовал — словно при мне с него с живого кожу сдирают, а я помочь не могу. А уж о матери и говорить нечего…
Вскоре после этого Генри произнес первые слова. До этого он только нечленораздельно мычал, тяжело и надсадно стонал. А теперь он достаточно четко сказал:
— Аова… олит.
Находившаяся рядом с ним Конни быстро переспросила:
— Что, Генри? Что ты сказал?
— Гао-ва… болит.
— У тебя болит голова?! — она сорвалась с места, охватила голову несчастного ладонями, приблизила свое лицо к его лицу, и глаза их глядели в упор друг на друга.
— Генри, милый! — в отчаянной надежде закричала она. — Ты меня узнаешь?
— Ко… н-ни, — это слово далось ему очень трудно, и целые потоки слез заструились сразу же по его щекам.
Конни видела, как много усилий он прилагает, чтобы вырваться из цепкой трясины беспамятства.
— Генри, успокойся, милый. Я с тобой. Только ты успокойся, ради Бога. Билли, Билли! — закричала она, так громко, что сын, находившийся внизу в столовой, услышал ее.
Он вбежал в комнату, и первое, на что он наткнулся, был живой, осмысленный взгляд отца.
— Папа…
— Смотри, Генри, это Билли, ты узнаешь его?! — только сейчас Билли, пораженный, осознал, сколько силы, сколько несгибаемой воли, сколько упрямства в этой женщине, его матери.
Генри кивнул в ответ и утомленно прикрыл глаза. Именно прикрыл, может быть даже зажмурил. Раньше он спал — или просто впадал в беспамятство — с полузакрытыми глазами.
Билли оглянулся на стук. В дверях комнаты стоял Уилл Бентин. Слезы скатывались по острым скулам старика и сразу исчезали в густой белой бороде.
— Такое уж это место — Тара, — хрипло произнес он, словно ни к кому не обращаясь, — что воскресают тут из мертвых.
На следующий день Билли вместе с дедом помчался в Атланту, где жил знакомый Уэйда, врач-психиатр Оскар Левинсон. Мистер Левинсон, старый еврей, перебравшийся сюда всего лет двадцать назад из Германии, говорил по-английски все с тем же чудовищным акцентом, с каким он говорил и вскоре после своего приезда в Штаты.
— Чито я фам могу сказайт, миста Гамильтон? Состояние фашего зятя намного лючше, чем ф тот раз, когда я его осматриваль фпервые. Тогда у нефо почти отсутствовали реакции на что-либо.
— Значит, есть надежда, мистер Левинсон, что улучшение будет прогрессировать? — осторожно спросил Билл.
— Конечно, молодой человек, конечно. Эта штука, — он постучал себя по высокому морщинистому лбу, словно карниз свисавшему над крючковатым носом, — эта штука еще так плохо изучена человеком и, даст Бог, никогда не будет изучена настолько хорошо, чтобы не преподносить сюрпризы. Я знаю случай, когда человек несколько лет пролежал в коме. И что вы думаете? Он из нее вышел! У вашего отца, к большому счастью, комы не было. Может быть, у него была гематома, которая рассосалась, может быть… А-а, тут вот, — он постучал себя по лбу еще раз, — все может быть.
Уэйд ни за что не хотел отпускать мистера Левинсона, не накормив его ужином. Мистер Левинсон пропустил пару стаканчиков виски, поел сочного жаркого и уверил всех домашних, что дела у Генри Коули теперь уж точно и окончательно пойдут на поправку.
И его уверенность словно бы влила новые силы в Генри, который, конечно, не слышал разглагольствований мистера Левинсона. Уже через несколько дней после визита врача он самостоятельно спустился вниз, в холл. Походка его была шаркающей, руки дрожали, он обливался потом, словно сейчас было лето, а он поднимался на высокую гору.
Генри изумленно взирал на открывшийся из окна вид на кедровую аллею, на синее небо с редкими облачками.
— Это… где? — спросил он у подоспевшей Конни.
— Это Тара, милый, — поспешно объяснила она.
— Ага, — он вытер вспотевший лоб дрожащей рукой. — Я… будто бы долго спал.
— Да, ты и в самом деле долго спал, — она видела, как Генри озадаченно ощупывает глубокий шрам у себя на лбу.
— Это была… Мексика, да? — взгляд его опять обрел выражение того мучительного раздумья, когда он метался в кольце беспамятства, пытаясь прорвать его.
— Да, милый, да, — Конни поспешно обняла его за плечи и внутренне содрогнулась — она словно впервые, теперь, когда муж превратился в прежнего Генри, ощутила, насколько же ослабела, одряхлела его плоть. — Тебе нельзя перенапрягаться, ты долго болел. Пойдем, я отведу тебя. Ты ляжешь и хорошенько выспишься.
Он подчинился, словно послушный ребенок. Конни отвела его наверх, крепко охватывая рукой его костлявые плечи и спину. И она снова вспомнила, какой мощной, упругой, тяжелой даже на ощупь была его плоть.
А еще через какое-то время Билли вывез отца на прогулку. Неизвестно, сколько времени тот был без свежего воздуха, и даже необычайно теплая мартовская погода не произвела на него ожидаемого эффекта. Кожа его, бледная, сухая, словно пергамент, вовсе не порозовела, он кутался в теплое пальто, недавно купленное Конни, тер уши под енотовой шапкой Уэйда и улыбался извиняющейся улыбкой.
— Ничего, отец, — сказал Билли, — климат Тары даже покойника способен на ноги поставить, а ты-то у нас совсем молодцом сейчас выглядишь.
— Билли, мальчик мой, — он всматривался в сына очень пристально, — ты так изменился. Ты водишь машину. Давно?
— Ну да, па, я же тебе говорил. Как только вернулся из Европы, так сразу и купил.
— Да-да, я припоминаю, — тут лицо его радостно просветлело. — Ты говоришь, Штаты воевали в Европе?
— Да, но это была очень короткая для нас война. В апреле семнадцатого Вудро Вильсон объявил немцам войну, весной восемнадцатого я попал туда, а уже осенью они капитулировали.
— Вот как, — Генри опять потер лоб рукой. — А я, кажется, влип в эту передрягу в начале семнадцатого года.
— Эй, па, — Билли озабоченно повернулся к нему. — Ты не очень-то напрягайся, не вспоминай. Лучше как-нибудь позже вспомнишь. Тебе сейчас спешить некуда, а доктор сказал, что переутомляться тебе нельзя.
— Ладно, не буду, — устало улыбнулся Генри. — Значит, ты тоже был летчиком?
— Да, па, как только мы с мамой получили то извещение, так я сразу и подался в школу летчиков. Это было в марте семнадцатого, к концу года меня уже выпустили оттуда. А воевать, как я говорил, пришлось и того меньше.
— Но я, как выясняется, воевал еще меньше.
— Ладно, хватит с нас с тобой войн, отец.
— Билли, ты… ты очень повзрослел. У меня такое впечатление, что я не видел тебя лет десять по меньшей мере.
— Пора бы мне уже повзрослеть. У меня самого такое чувство, что мир сейчас на глазах стареет.
Опять, уже в который раз, наступила пора пахоты. Теперь Билли помогал Уэйду, распахивая поле на новом тракторе с двигателем внутреннего сгорания. Им понадобилось всего два работника со стороны да дядюшка Боб с племянником и внуком, чтобы распахать и засеять все триста акров, принадлежавших теперь Уэйду единолично. Уилл Бентин сразу после смерти жены передал ее долю ему. Но Уилл обычно каждую весну помогал в работе сеятелям — то ли сортируя семена, то ли вспахивая на муле маленькие клочки неудобья у болота. Теперь же он стал быстро уставать, голова его, руки и ноги как-то сразу, незаметно для всех домашних, стали дрожать старческой дрожью. Кожа на его лице приобрела восковой оттенок, глаза еще больше ввалились, лоб и скулы, казалось, вовсе лишенные плоти поверх костей, несли на себе зловещий признак. Большую часть времени Уилл проводил на лавочке с южной стороны сарая, одетый в суконную куртку, которой было чуть ли не столько же лет, сколько и ему.
— Не греет меня больше солнышко, — словно извиняясь, говорил Уилл. — А земля, наоборот, тянет к себе. Пора мне уже, пора. Моя Сьюлин уже давно зовет меня к себе. Теперь снится почти каждую ночь. Э, пережил я всех, не дело это. Восемьдесят третий год смотрю на белый свет.
Он говорил, и его выцветшие почти добела бледно-голубые глаза слезились, губы, ставшие за последний год фиолетовыми, тряслись.
— Хорошее здесь место, — говорил он, указывая рукой на семейное кладбище, расположенное совсем недалеко от усадьбы. — И мистер Джералд, славный старик, и миссис Эллин, жена его, там. И Сьюлин моя. Скарлетт вот только косточки свои сложила далеко от родного гнезда, пусть ей там земля пухом будет. Эх, Скарлетт, Скарлетт, и я тебя пережил. Что же делать, значит, Господь так решил, что б я оставался и смотрел на этот мир. Я должен благодарить Его за то, что у нас в Таре сейчас все хорошо, что он сподобил меня увидеть все это. Большего мне и не надо. Чуть-чуть только погожу, чтобы вы с севом управились, а там уже и лягу.
Он смотрел на сосны, на кресты и надгробья кладбища, на недалекое болото, и взгляд его был умиротворенным. Видел он себя таким, каким появился здесь больше полувека назад. Он сохранил эту землю, он все время обрабатывал ее, он взрастил своих троих дочерей, а еще племянника с племянницей, которых любил не меньше собственных детей, и он был бесконечно благодарен Богу за то, что тот дал ему силы во все пятьдесят четыре года, которые он прожил в Таре, работать, работать, работать. Уилл Бентин никому не мешал, ни с кем не ссорился, его почти не интересовало то, что происходило чуть дальше, чем за двадцать миль от Тары.
И он остался верен себе до последнего вздоха — свидетелем этого последнего вздоха не был никто. Уилл и тут постарался никому не докучать. Дядюшка Боб нашел его за сараем, лежавшего на теплой весенней земле так, словно он прилег отдохнуть. И все заботы, связанные с севом, уже оказались позади — Уилл сдержал свое слово. Тело его, когда и Билли подняли Уилла с земли, оказалось на удивление легким — фунтов сто, не больше. Уилл словно позаботился о том, чтобы не обременять других.
На похороны Уилла съехались три его дочери, с мужьями и детьми, с внуками. Даже у самой младшей, Джейн, был один внук. Сюсси выглядела очень постаревшей, смерть сына подкосила ее. Была здесь и живая история — Кэррин, превратившаяся в маленькую старушку с кукольным фарфоровым личиком. Морщины почти отсутствовали на ее лице, несмотря на то, что Кэррин уже исполнилось семьдесят два года. Кэролайн-Айрин О’Хара, почти не помнившая уже своих мирских забот, тем не менее, помнила все, что было связано с Уиллом.
— Уэйд, мальчик мой, — говорила она своим слегка скрипучим голоском, — ты же помнишь, какой это был человек. Я буду молиться Богу, чтобы душа его попала в рай. Только кажется мне, Господь и без моей молитвы примет ее туда — эту прекрасную, бесхитростную, беззлобную душу. Он понимал всех, он знал душу человеческую, следовательно, знал слабости и пороки. Но он умел прощать. Никто, абсолютно никто не может сказать об Уильяме Бентине худого слова.
И Билли убедился, насколько была права эта худенькая, стерильно — аккуратная старушка в монашеской одежде — не меньше ста человек со всего округа пришли посмотреть на Уилла Бентина в последний раз. Билли не знал подавляющего большинства из этих фермеров, торговцев, владельцев солидной недвижимости, рабочих, потомков плантаторов и батраков — негров, державшихся обособленно от белых, чуть поодаль, но все равно пришедших и провожавших. Он не ожидал увидеть такого скопления народа — ведь Уилл Бентин не был какой-то слишком уж известной личностью, особенно в последние годы его жизни.
Как только последний ком земли был брошен на могилу, пролился ласковый апрельский дождик, причем нельзя было понять, откуда он накрапывает — туч не было весь день, да и сейчас они казались светлыми и легкими, неспособными уронить ни капли воды.
— Вот таким он был — как этот дождик, — заметила Кэррин. — Это знак Божьей благодати.
Уилл упокоился рядом со своей женой Сьюлин на кладбище, которое уже становилось тесным: очевидно, люди, жившие в этой усадьбе раньше, не особо задумывались над тем, сколько еще придет и уйдет после них. Уэйд успел заказать и привезти гранитную плиту с именем и датами: «15 июня 1837 года — 18 апреля 1920 года».
«Вот какой кусок смог он вырвать у самого главного, самого коварного из врагов человека — времени. Сколько людей, сколько судеб, таких разных, было утянуто в забвение. Даже эти холмы, сосны не вечны, русло реки не вечно. Что уж говорить о людях, Лучший выход — уподобиться природе, быть простым и мудрым, как был мудр этот человек, лежащий под гранитной плитой. Он только и знал всю жизнь, что возделывать эту красную, не слишком-то и щедрую землю. Но даже его жизнь, такая простая со стороны была исполнена драматизма. Или взять хотя бы Кэррин О’Хара — кем она мне, кстати, приходится? Кажется, двоюродной прабабкой — ведь за ее добровольным уходом в монастырь стоит какая-то трагедия. Да, жизнь каждого человека надо рассматривать, как драму. Господи, но как давно это было — миг рождения Уильяма Бентина, и все же он наверняка не очень много мог вспомнить в другой миг — миг смерти».
10
Наступило лето, Джессика Фонтейн уехала в Голливуд и, как следовало заключить из ее письма матери, «теперь-то уж зацепилась», то есть, получила роль в каком-то фильме. Генри Коули поправился почти окончательно, но это «почти» наверняка должно было оставаться с ним до конца его жизни в виде спорадических приступов головной боли, периодически нападавшего на него настроения безнадежной тоски и бессознательного страха. Но Билли мог теперь считать свою мать счастливой. Почти счастливой. Относительно счастливой. По ее внешнему виду можно было заключить одно: выглядела Констанция Гамильтон Коули более веселой, чем до возвращения мужа.
Почти счастливым Билли мог считать и себя, обретшего неожиданное пристанище в этом уголке, который раньше, когда он был мальчишкой, привлекал его к себе разве что большой свободой передвижений. Его совсем не влекли к себе большие города, хотя большую часть своей жизни он провел в Бостоне. Только в больших городах можно было по-настоящему заниматься бизнесом, но бизнес его не привлекал абсолютно. Однако Билли прекрасно понимал, что для занятия той же журналистикой атмосфера большого города тоже необходима. Хотя те несколько статей, опубликованных в журналах и принесших ему неожиданно большие для такого не очень серьезного, как он все же полагал в глубине души, занятия деньги вовсе не могли определить его окончательный выбор. Он послал по тем же адресам рассказ об участнике войны, шотландце, который и воевал в шотландском полку, и форму носил шотландскую — клетчатую юбку-кильт вместо брюк. Сам Билли не видел в Европе шотландских стрелков, но достаточно, по его мнению, слышал о них для того, чтобы описание получилось правдоподобным. Естественно, тот шотландец из рассказа не пошел на войну добровольцем, как пошел добровольцем Уильям Коули, а был послан, как были посланы правительствами разных стран миллионы ему подобных. Ужасы войны полностью убили душу в том шотландском стрелке, от человека, в сущности, осталась одна оболочка, да и та имела очень плачевный вид.
Из одного журнала в ответ на свою бандероль Билли получил письмо редактора, извещавшее о том, что рассказ журнал возьмет для публикации, но мистер Коули желает подробнее узнать о перспективах дальнейшего сотрудничества, то он должен приехать в Нью-Йорк лично.
Билли посчитал, что доля его участия в работах на ферме деда позволяет ему совершать подобные поездки и попросил необходимые для этого несколько сотен долларов. Он уже немного научился считать фермерские деньги и знал, что за те же три сотни можно сторговать достаточно хорошего рабочего мула, например, но он также понимал, что в результате этой поездки может окупиться стоимость нескольких мулов, если уж вести счет такими единицами.
Уэйд не только согласился с его доводами, но даже предложил гораздо больше своего участия:
— Малыш, тебе не надо зарывать себя здесь, в Таре. Ты понимаешь, о чем я говорю — ты можешь наезжать сюда время от времени, жить, сколько тебе захочется или сколько будут требовать занятия твоим делом. И правда, зачем же тогда я занимаюсь своими полями, своей фабрикой, если не ради вас. Твой дядя Барт, как ты знаешь, уже достаточно определился в жизни, встал на ноги, его в Тару и силком не затащишь. Уж для него-то здесь самая настоящая глушь. А твоей матери и твоему отцу, я считаю, лучше остаться здесь. Ну, на какое-то время хотя бы. И моих денег, в том числе и заработанных с твоей помощью, вполне хватит и на твои поездки, и на что угодно еще, тем более, что твоему отцу теперь платят военную пенсию. Билли, поверь мне, — вложить во что-то средства и силы вовремя — самая необходимая на свете вещь. Когда мне было чуть меньше лет, чем тебе сейчас, мы с Уиллом испытывали определенные трудности. Поддержка со стороны очень много значила для нас. Но банки брали в то время грабительский процент за кредиты, а из родных нам могла помочь только моя мать. Но мы с Уиллом не обратились к ней. Уилл считал, что она и так слишком много сделала сначала для спасения Тары, а потом и для ее расцвета. Я же хотел самостоятельности, хотел, чтобы нами никто не командовал — просить помощи у твоей прабабки для меня означало лишиться доли независимости. О, она была очень властной женщиной. И мы тогда как-то выкрутились сами, но нам было очень, очень трудно. Зачем же я теперь буду создавать трудности своему внуку?
Приехав в Нью-Йорк, Билли с удовлетворением отметил про себя, что вовсе не испытывает почтительной робости перед этим городом городов. Он даже специально съездил посмотреть на самый высокий небоскреб «Вульверт», но рукотворный утес, поднявшийся к небу на восемьсот двадцать футов, не слишком поразил воображение Уильяма Коули.
Редактор Пирсонс, пославший ему письмо в Тару, оказался плотным мужчиной лет сорока с внимательным взглядом серо-стальных глаз, с залысинами над гладким высоким лбом и неожиданно мощным для человека такой профессии рукопожатием.
— Вот, стало быть, вы какой, Уильям Коули? — сказал он, рассматривая Билли. — Южанин, значит?
— Родился я на Юге, но большую часть жизни прожил в Бостоне.
— Ну, Бостон, наверное, оказал на вас совсем мало влияния — как на литератора, я имею в виду. У вас стиль, манера письма обстоятельные, неторопливые. Вы едете в повозке, а не проноситесь в автомобиле мимо того, о чем вы рассказываете. Сейчас молодые авторы стараются не писать так, их произведения напоминают репортажи с места событий.
— Вы полагаете, что и мне надо учиться писать так же? — спросил Билли.
— Ни в коем случае! Научиться писать вообще нельзя, с этим надо родиться. Да вы и без меня это прекрасно понимаете, вы же не учились писать. Кстати, какое у вас образование?
— Колледж.
— А у меня сложилось впечатление, что вы закончили университет. Вы ни в коем случае не должны бросать занятия литературой, сочинительством. У вас будет накапливаться опыт. Вы будете наблюдать жизнь, и просто писать обо всем, что вы знаете. И даже о том, чего вы не знаете. В данном случае я имею в виду ваш рассказ. Вы правильно поступили, не сделав его героем американца.
— Почему?
— Ну, в данном случае он был бы встречен в штыки определенной частью сверхпатриотов, скажем так.
«Тех, которые настоящего штыка в руках не держали, да и вряд ли возьмут когда из боязни порезаться», — подумал Билли, а вслух произнес: — Да, думаю, и англичане не будут на меня в обиде. Можно было бы вообще сделать главным героем гуркха — это колониальные непальские войска, вооружены гуркхи кроме всего прочего кхукри, таким серповидным ножом, которым они рубят головы своим врагам. Пленных гуркхи не берут, поэтому вселяют в противника неизъяснимый ужас.
— Я оценил вашу шутку, мистер Коули. Вряд ли этот азиатский головорез испытывал бы чувство опустошения или раскаяния после войны.
— Возможно. Никогда не пытался влезть в шкуру азиата, — он стал совсем серьезным. — Равно как в шкуру негра, потому как это бесполезное дело, все равно ничего не получится.
— Вы считаете негров настолько сложными натурами? — приподнял брови Пирсонс.
— Скрытными, себе на уме уж во всяком случае. То, что они вроде совсем отказались от всяческих прав, мало что значит. Они давно поняли, что война между Севером и Югом велась не за них, не за их освобождение.
— У вас есть основания для таких заключений? — осторожно поинтересовался редактор.
— Такие основания были еще у моего деда. Он практически безвыездно прожил почти всю жизнь в самой что ни на есть южной глубинке. Он рассказывал мне о надеждах и разочарованиях по истечению нескольких лет после окончания войны. Если для возвращения знамен потребовалось почти двадцать лет[18], то с правами черных покончили раньше и быстрее.
— Хм, а на чьей стороне были бы вы лет шестьдесят назад? — мистер Пирсонс с нескрываемым интересом посмотрел на Билли.
— Разумеется, на стороне южан, — рассмеялся тот. — Мой дед, например, считает, что вообще зря все это затевалось. Он полагает, что все можно было бы утрясти без войны. А если говорить серьезно, то мне кажется, что писатель не должен влезать в политику, во всяком случае, влезать слишком глубоко.
— Интересная мысль, мистер Коули. И еще более удивительно слышать, когда ее высказывает человек вашего возраста. Вам, кстати, сколько лет?
— Почти двадцать один.
— О! Я считал что вы постарше. Да, политическая жизнь сейчас слишком бурная для того, чтобы игнорировать ее.
— А я считаю, что за всем этим стоят простые чувства: голод половое влечение, желание подавлять или желание нравиться, страсть к самоутверждению и тому подобное. Ту же самую политику делают люди, у которых свои страхи, свои желания, свои страсти и страстишки. Все различие заключается только в комбинации тех или иных человеческих черт. Или нужд больших масс людей. «Бывает нечто, о чем говорят: смотри, вот это новое, но оно уже было в веках, бывших прежде нас.»
— Вот как! Вы цитируете Экклесиаста, юный южный мудрец? — чувствовалось, что Пирсонса все более занимал этот серьезный молодой человек, с виду больше похожий на лесоруба или механика, чем на литератора.
— Цитировать его все равно, что цитировать истину, — Билли опять укрылся за завесой иронии. — Всегда беспроигрышный вариант.
— О’кей, чувствуется, что вы уже достаточно сложились, как личность. Но в джунглях литературы вы еще новичок. Да, вы несомненно талантливы, но одного таланта маловато в наше время. Вам просто повезло, что ваше творение попало к такому редактору. Другой — а после него второй, третий, десятый вернул бы его вам, посоветовав выбрать другое занятие. Вы мне нравитесь. Но кроме вас мне нравятся и другие авторы. А надо мной стоят издатели, руководствующиеся прежде всего конъюнктурой. Ну да, у вас оригинальный стиль, но поглядите со стороны — ведь ваш материал взяли из-за темы, из-за военной темы. Схлынет волна ура-патриотизма, и подобные материалы редакции будут брать куда как менее охотно.
— Так что же я, по-вашему, должен делать? — Билли и в самом деле не понимал, к чему Пирсонс говорит все это.
— Что делать? То, что делают все — завести себе литературного агента. Человека, который будет пристраивать ваши сочинения и получать за это ваши деньги.
— Боюсь, что я не смогу найти такого человека достаточно быстро.
— Меня радует, что у вас к тому же и трезвый подход к делу. Я могу присоветовать вам одного такого человека, его зовут Бен Лоуэлл. Сейчас я прямо при вас позвоню ему и, если я застану Бена в его конторе, то вы можете переговорить с ним.
Контора Лоуэлла оказалась адвокатской конторой и располагалась она на довольно престижной, как узнал Билли, Пятой авеню.
— Не удивляйтесь, старина, — сказал Лоуэлл, широко улыбаясь и протягивая руку Билли, — ведь я юрист по роду занятий. А литературный агент я по призванию, по зову души, так сказать. Сам когда-то начинал писать, но понял, что на литературные заработки не проживешь. Уж не знаю, — улыбнулся он из-под роскошных каштановых усов, — то ли у меня литературные способности оказались недостаточно развитыми, то ли потребности в достатке и комфорте переразвитыми. В любом случае адвокатская практика здорово помогает мне. Иногда мне удается прищучить издателя так, что он, бедняга, только зубами скрипит, а поделать ничего не может, платит. Значит, вы пишете прозу?
— Прозу взяли к публикации, — осторожно ответил Билли.
— Все, что вы написали? — напирал Лоуэлл.
— Ну, у меня есть еще кое-какие вещи…
— Послушайте, старина, так дело не пойдет. Если уж я соглашусь работать на вас, то только при одном условии: я должен знать в каждый момент не только о том, что лежит у вас на рабочем столе, но и о том, что у вас зарождается в голове. Стихи у вас есть?
— Да, есть, — Билли был поражен проницательностью Лоуэлла.
— И вы их привезли с собой?
— Привез.
— Так, на всякий случай, да? — Лоуэлл опять широко улыбнулся. — Этакий типичный южанин — все себе на уме. Стихи мы пристроим в «Скрибнерс мэгэзин» или в «Азерс» — в том случае, если эти сумасшедшие скажут, что эти вещи хоть отдаленно напоминают стихи.
— А кто эти сумасшедшие? — поинтересовался Билли.
— Поэты, друг мой, поэты. Всякого молодого человека, если он наделен даром сочинительства, в самом начале творческого пути, в юности, тянет писать стихи. Я сам этим переболел, что делать. Но если уж человек занимается этим в зрелом возрасте, он либо слегка помешан в уме, либо записной прохвост, — Лоуэлл рассмеялся, показывая ровные белые зубы. — Есть у нас на Бродвее такой кабачок для избранных, мы сегодня же покажемся там. Вы захватите свои стихи, а я постараюсь заставить кого-нибудь из небожителей посмотреть их.
К восьми вечера Билли опять появился в конторе Лоуэлла, они вышли вдвоем, остановили такси и поехали в тот самый «кабачок для избранных», на вид показавшийся Билли обычной забегаловкой. Но, как выяснилось, только на вид. Потому что дверь оказалась запертой, а когда Лоуэлл постучал в нее, используя массивное медное кольцо, появился дюжий привратник, открывший дверь на нечто, опять-таки похожее на пароль.
Внутри кафе оказалось небольшим и очень уютным, вместо электрических лампочек оно освещалось свечами, установленными в массивных настенных бра и тяжелых бронзовых канделябрах на столах.
Бенджамин Лоуэлл быстро окинул помещение цепким взглядом и, подхватив Билли под локоть, потащил его к столику у стены, где скучал в обществе бутылки калифорнийского вина и длинной тонкой сигары благообразный седой джентльмен.
— Мистер Робинсон, — Бен Лоуэлл поклонился преувеличенно вежливо, в лице его появилось даже нечто, похожее на подобострастие, — позвольте нарушить ваше уединение.
Седовласый джентльмен досадливо поморщился.
— Привет, Бен. Опять ты со своими бандитскими штучками?
— Ни в коем случае, мистер Робинсон. Я хочу представить вам молодую поросль, вот этого юного джентльмена с Юга.
Мистер Робинсон перевел раздраженный взгляд с Лоуэлла на Билли и немного подобрел.
— Ладно уж, присоединяйтесь, — кивнул он. — Как вас зовут, молодой человек?
— Уильям Коули, сэр.
— Эдвин Робинсон, — представился седовласый джентльмен, подавая длинную сухую руку.
— Эдвин Арлингтон Робинсон?! — поразился Билли.
— Да, если угодно, — седовласый джентльмен улыбнулся даже какой-то застенчивой улыбкой, он стал совсем непохожим на того человека, который с минуту назад так неласково встретил их. — Откуда же вы меня знаете? — Он внимательно посмотрел на Билли, и тот поразился: насколько же у него бездонные, бесконечно мудрые глаза.
Билли даже оцепенел на несколько секунд, пытаясь осмыслить самого себя в этой ситуации.
— Ну как же, сэр, — сказал он несколько хрипловатым от волнения голосом. — Я читал ваши сборники «Дети тьмы», «Городок на реке» и «Человек на фоне неба».
— Вот как? — складки на лице мистера Робинсона разгладились. — Вы хотя бы слышали о таких вещах, Лоуэлл?
— Конечно, слышал, — нервно улыбнулся тот. — Я даже знаю о «Трех тавернах», уже вышедших в этом году.
— Похвально, Бен, похвально. Вы постоянно совершенствуетесь в избранном вами ремесле.
— Каждый должен в чем-то совершенствоваться, — пожал плечами Лоуэлл.
— Вы откуда, мистер Коули? — спросил Робинсон.
— Из Джорджии, сэр.
Робинсон кивнул.
— А чем вы занимались раньше?
— Так, ничего интересного. Разве что воевал.
— Где воевали, в Европе?
— Да, сэр.
— А как же вы успели?
— Я постарался, — Билли совсем уже освоился в обществе мэтра. — Мне с некоторых пор стало казаться, что надо спешить.
— Куда спешить? — теперь в глазах Робинсона сияли искорки смеха.
— Во всех направлениях, возможно, в каждый следующий момент — в ином.
— А вам не кажется, что вы быстро устанете, если будете поступать таким образом?
— И это тоже кажется, — Билли впервые улыбнулся. — Очевидно, поэтому я решил остаться на ферме своего деда.
— И что же вы там собираетесь делать?
— То же, что и сейчас. Работать.
— Похвально, похвально. А отчего же вы стали читать мои сборники?
— Мне как-то попалось стихотворение «Ричард Кори». Мне оно показалось созвучным…
— Созвучным с чем?
— С тем, что я думаю об этом мире. И еще — я знал достаточно много таких людей, которые… которые хотя и не застрелились, как Ричард Кори, но были в достаточной степени сломлены несовершенством этой жизни. У меня даже были такие среди моих родственников. Никто не достоин зависти, но каждый человек достоин жалости.
— Ну-ну, — Робинсон задумчиво кивнул. — Послушайте, Лоуэлл, распорядитесь, чтобы нам подали еще пару бутылочек. Можно даже три. Плачу я, не вздумайте кутить за счет этого парня.
Когда официант принес бутылки, бокалы и поднос с фисташковыми орешками, Робинсон подождал, пока тот уйдет, и спросил:
— Вы упомянули своих родственников, которые были похожи на Ричарда Кори?..
— Да, дед рассказывал мне о муже своей тетки. Кажется, это типичный случай «Сумерек богов». Его век уходил, он пережил свое время, будучи еще совсем молодым.
Робинсон открыл бутылку, разлил вино в бокалы.
— Понимаете ли, в чем дело, друг мой, — разумеется, «друг мой» относиться только к Билли, вряд ли мэтр удостоил бы Бена Лоуэлла такого титула, — «Сумерки богов» могут ведь наступить и для отдельного человека, когда он сделается слишком хрупким, слишком прозрачным для этого мира. А мир, как мне кажется, становится все хуже и хуже.
— Я не думаю, мистер Робинсон, что это относится конкретно к нашему времени. Мне кажется, так было всегда. Рождаясь, человек находится на вершине счастья, жаль только, что он абсолютно не осознает этого. И чем дальше он спускается с этой вершины, тем больше делает ошибок, глупостей, терпит лишения, страдания. А оказавшись в самом низу, он видит прекрасную вершину и ужасную, полную опасностей и разных ловушек, дорогу вниз. Чем раньше человек осознает трагизм этого спуска, тем раньше наступят для него «Сумерки богов».
— Вот как, — покачал головой Робинсон. — Похоже, для вас эти «Сумерки» уже наступили.
— Да, похоже, — просто ответил Билли. — И я не думаю, что это — обычный, банальный страх перед жизнью.
— Так чем, вы говорите, занимаетесь у себя в Джорджии? — Робинсон почему-то переменил тему разговора.
— Я помогаю своему деду на его ферме.
— И пишите?
— И пишу.
— Хм… Дайте-ка ваши стихи.
Билли вынул из тонкой кожаной папки тетрадь в коленкоровом переплете. Робинсон взял тетрадь, а взамен протянул ему квадратик плотной глянцевой бумаги.
— Это моя визитная карточка. Подъедете завтра, во второй половике дня.
Билли приехал в его небольшой особнячок на Лонг-Айленде, и Робинсон сказал:
— Это хорошие стихи. Скажите этому сукиному сыну Лоуэллу, что я одобрил их, если, конечно, его это интересует. У него, у Лоуэлла, тоже был какой-никакой талант, среди родственников его сплошь и рядом встречаются знаменитые поэты, это фамильное. Только вот сам Бен предпочитает не замечать «Сумерек богов» — очевидно, для того, чтобы чувствовать себя увереннее и безопаснее.
Лоуэлл, узнав об отзыве Робинсона, сказал:
— Давайте поступим так. Мы выпустим небольшой сборник. Небольшим тиражом. Все расходы на печатание я беру на себя. Потом, по мере того, как сборник будет раскупаться, издатель выплатит вам гонорар, из которого я возьму причитающиеся мне двадцать про — центов.
Билли прикинул и согласился. Он сразу же вернулся в Тару, потому что подоспело время окучивать хлопчатник.
11
Опять приближалась осень. Билли работал с утра до вечера, помогая Уэйду. Они раздобыли прицеп к новому трактору и теперь возили хлопок прямо в Джонсборо. На фабрике, которую держал Уэйд с компаньонами, поставили новую хлопкоочистительную машину, теперь пряжа получалась более чистой, более качественной, хотя цена ее, как заметил Билли, практически не выросла.
— Послушай, дед, мы же остаемся в убытке. Цена должна быть более высокой, в нее должны войти за — траты на новую хлопкоочистительную машину, — как-то качал он разговор с Уэйдом.
— Я-то понимаю, малыш, да только Кэнингхэм с Осборном боятся потерять клиентов. Если у нас вообще никто не станет брать пряжу, какой бы хорошей она ни была, тогда уж мы точно прогорим. По правде говоря, я не вижу иного выхода, кроме как продавать пряжу по прежней цене. Трудно найти новых покупателей на пряжу. Куда нам тягаться с крупными компаниями.
— Ну, с этим я не совсем согласен. У нас-то все под боком, а им приходится везти хлопок достаточно далеко. Оборудование у них, конечно, получше, но не намного. Единственное, чем они нас побивают — это размерами партий поставок. У нас есть два выхода, как я считаю. Первый — найти клиента, которому именно такая чистая качественная пряжа нужна для производства какой — то особой ткани. А второй — производить из этой пряжи ткань самим.
— Я уже думал об этом, Билли, о ткани, Но опять же Кэнингхэм и Осборн вряд ли решатся на это. Расходы слишком большие — надо строить новое здание, чтобы установить там ткацкие станки. И станки тоже надо на что-то покупать. На все нужны деньги.
— Ты же, наверное, знаешь, где взять деньги, дед… — Билли хитро прищурился.
— Наверное, знаю. Ты, конечно, имеешь в виду дядю Барта?
— Вот именно, его.
— Хм, а какой процент захочет он с нас взять под кредит? — теперь уже прищурился Уэйд.
— Дед, я тебя не узнаю! Ты же мне всегда рассказывал о том, что в нашей семье все всегда приходили на помощь друг другу.
— Ну, допустим, не всё и не всегда, я рассказывал тебе семейное предание о Джералде О’Хара, слышанное мною от тетушки Мелани, о том, как он, поставив на кон деньги общего с его братьями предприятия, выиграл в карты поместье. Только ведь случилось это лет восемьдесят назад. Времена с тех пор сильно изменились, малыш.
— Ладно, дед, я все понимаю. Придется сделать поправку на время, но рискнуть мы обязаны.
Поезд, делавший до семидесяти миль в час, помчал Билли через Чаттанугу, Франкфорт, Индианаполис Большие участки дикой прерии сменялись такими же большими территориями возделанной земли, через реки, которым он уже потерял счет, пролегли мосты, словно гигантские стальные скобы, стягивающие берега. Зрелище было захватывающим: под куполом неба, казавшегося особенно высоким из-за равнинного характера местности, уходили вдаль без конца и без края то сизоватая прерия, то ярко-желтая полоса скошенной пшеницы. В стеклянно-синем воздухе, словно молодое вино в бокале, играли золотые лучи солнца. Огромные города вставали, подобно призракам — сначала это было нечто, висящее в воздухе, окутанное голубоватой дымкой, напоминающее то ли пароход, скользящий по реке, то ли стаю огромных животных. Пространства обманывали — проходило не менее получаса, пока пароход или стадо животных только чуть увеличивались в размерах, а потом перспектива вдруг резко менялась, являя взору нагромождение зданий, клубок железнодорожных путей у вокзала, лес электрических опор, копошение пестрой толпы людей.
Чикаго, куда поезд пришел под вечер, напомнил Билли картинку, нарисованную на голубом стекле — озеро Мичиган служило фоном для рисунка, исполненного карандашом, оставлявшим полупрозрачные линии.
Билли в который уже раз задумался над тем, как не соответствуют свойства предмета его внешнему облику, особенно, если смотреть на этот предмет, любуясь только извивами линий или игрой красок. Да, Чикаго, конечно, можно было назвать «жемчужиной прерий». Но в том-то и дело, что с прериями город уже мало что связывало, за исключением разве что знаменитых боен, о которых Билли тоже был наслышан.
Город этот рос, подобно взрыву. За последние пол — века он увеличил свое население почти в пять раз. Теперь число жителей Чикаго перевалило за два миллиона. И в этом гигантском муравейнике, населенном наряду с потомками пионеров Запада и рудокопов Калифорнии и Скалистых гор также шведами, венграми, русскими, жил вот уже больше пятнадцати лет его дядя, Бартоломью Гордон Гамильтон. Дядя Барт, бывший моложе его матери на три года и покинувший Джорджию в возрасте восемнадцати лет. Дядя Барт, приезжавший в Тару тринадцать лет назад и дававший ему первые уроки бокса, дядя Барт, рассказывавший ему о Гайавате. Но сейчас, когда масштабы времени изменились, когда он, Билли, уже не был семилетним мальчишкой, получалось, что дядя Барт еще довольно молод и только на пятнадцать лет старше его.
Бартоломью Гамильтон сейчас жил в южной части города, на Мичиган-авеню. Билли без особого труда разыскал очень прилично выглядевший особняк с аккуратным газоном перед ним, с ухоженным цветником.
Позвонив у двери, Билли стал ожидать. Прошло с полминуты, прежде чем ему отворили. Молодая женщина — не старше тридцати лет на вид — с коротко стриженными платинового цвета волосами, с темно — серыми, широко поставленными глазами, со слегка вздернутым симпатичным носиком, в коротком шелковом платье, открывающем точеные колени, предстала перед ним.
— Добрый день, мэм, — Билли слегка наклонил голову. — Мне нужен мистер Бартоломью Гамильтон.
— Мистер Гамильтон сейчас отсутствует, — женщина окинула его внимательным взглядом.
— Но я надеюсь, он сейчас в Чикаго?
— Да, он в Чикаго, — Билли подумал о том, что женщина не слишком приветлива, несмотря на свою вроде бы располагающую внешность. Вообще, несмотря на правильные черты, лицо ее не притягивало к себе взгляда — типичный образчик того, что называется холодной красотой.
— Извините, мэм, я забыл представиться. Меня зовут Уильям Коули, я племянник мистера Гамильтона. А вы, очевидно, миссис Мод? Дядя Барт упоминал о вас в письме, которое он написал своему отцу. Правда, это письмо было написано достаточно давно — больше полугода назад. Надеюсь, за это время у вас ничего не изменилось?
— А что у нас должно было измениться? — она посмотрела на Билли так, как смотрит на назойливого посетителя портье отеля.
«Хм, кроме того, что она не особенно приветлива, ее еще нельзя назвать и остроумной. Чем же это дядя Барт так пленился в ней?»
— Измениться мог, например, адрес одного из вас.
— То есть, вы хотите сказать, что мистер Гамильтон за это время мог выставить меня из дома?
— Или вы его, — без задержки, но очень спокойно ответил Билли и посмотрел на нее в упор.
— Вы полагаете, что и такое возможно? — выражение ее лица почти не изменилось, только чуть сузились глаза.
— Да, я не исключаю и такой вариант развития событий. Послушайте, вы не могли бы мне сказать, в котором часу возвращается мистер Гамильтон, чтобы я мог подойти к этому времени?
— Разве вы не подождете его здесь?
— Здесь — это на газоне? — Билли улыбнулся самой простодушной улыбкой, на какую только был способен.
— Зачем же на газоне? Входите, пожалуйста, — она немного отступила, давая Билли дорогу.
— Спасибо, мэм, вы очень добры.
«Одно из двух: либо она, держа меня у входа битый час, давала любовнику возможность улизнуть через заднюю дверь, либо она чокнутая. Ни в первом, ни во втором случае дядюшке Барту не позавидуешь».
— Присаживайтесь, пожалуйста, где вам удобнее, — она обвела рукой просторный холл.
Удобнее всего Билли показался небольшой диванчик.
Не сказав ни слова, женщина удалилась в соседнюю комнату. Билли откинулся на спинку дивана и вытянул ноги. Судя по всему, дядю Барта придется ждать довольно долго и ждать в одиночку.
Но тут же он был приятно удивлен: миссис Гамильтон выкатила из комнаты, куда она недавно удалилась, столик, уставленный блюдечками, вазочками и бутылками.
— О! — вырвался у него удивленный возглас, и Билли привстал, чтобы помочь ей.
— Спасибо, — поблагодарила она. — Вы удивлены?
— Чем?
— Ну, вы думали, что вам придется коротать время до возвращения Барта в одиночку. Признайтесь, ведь вы так и думали? — спросила она, разливая из бутылки какой-то напиток по стаканчикам.
— Примерно так, — улыбнувшись, кивнул Билли.
— Приятно разубеждать человека в его худших предположениях, — она серьезно взглянула на него и уселась в кресло, очутившись сбоку от Билли, так, что он мог рассматривать ее в профиль. — Что ж, буду продолжать разубеждать вас. Как вы полагаете, что в вашем стаканчике?
Билли поднял стаканчик, и лицо его вытянулось от удивления.
— А как же?..
— «Прогибишн»? Действует, так же, как и у вас в Джорджии. Вы там, поди, только и пьете, что колодезную воду да лимонад.
— Я бы не сказал, — покачал головой Билли.
— Если вы на самом деле племянник члена палаты представителей штата Иллинойс Бартоломью Гамильтона, то вы не донесете, надеюсь, на его супругу, без его ведома нарушающую закон. А если вы не его племянник, то тем более не донесете.
— Разумеется, не донесу — ни в первом, ни во втором случае, — пошутил Билли.
— Вы не знакомы с индуизмом, буддизмом? — спросила Мод.
— Нет, — он покачал головой, опять слегка удивленный. — А что?
— Простите, я все время просто проверяла вашу реакцию. Существуют, знаете ли, коаны, это такие парадоксальные вопросы типа: «Ты знаешь, что такое хлопок двух ладоней, а знаешь ли ты, что такое одной ладони хлопок?» Но коаны могут быть не только словесными, они могут быть и поведенческими — ведь вам же показалось несколько странным мое поведение, не так ли?
— Немного, — признался он.
— Ну вот, здесь меня интересовала ваша реакция. Что может подумать человек, которого не впускают в дом? «Сукин сын этот хозяин, почему он не доверяет мне?» или «Вот стерва эта хозяйка, чего она боится? С ее рожей мало у кого возникнет желание что-то делать с ней». А если спустя какое-то время его все — таки впустили в дом? В нашем случае вы наверняка подумали, что я давала возможность моему любовнику уйти.
— Вовсе я не думал о таком, — Билли изо всех сил старался не покраснеть.
— Значит, вы подумали другое: «У этой дамы наверняка что-то не порядке с головой.» Или что-то в этом роде.
— Вы, значит, всерьез занимаетесь восточной философией, дзен-буддизмом, шаманством, вызываниями духов и разным другим колдовством? То есть, вы занимаетесь этим профессионально? — Билли решил перехватить инициативу.
— Ну, вряд ли психоанализ можно считать профессией — в данное время, во всяком случае. Ладно, Билли, пейте виски, забудьте о коанах. Просто Барт читал мне письмо вашего деда, мистера Уэйда Гамильтона, где тот рассказывал о том, что вы качали заниматься литера — турой. Я решила, что у вас реакция должна быть несколько отличной от реакции так называемого среднего человека.
— Вот тут я уж точно пропал, — рассмеялся Билли. — Лучший из тестов на наличие таланта. И я его не выдержал. Я безнадежен, да?
— Отнюдь.
— Но как же? Вы все время утверждали, что я слишком стереотипно, стандартно мыслю, что я постоянно попадаюсь в ваши ловушки.
— Ничего вы не попались, — теперь Мод выглядела вполне естественной, даже скучающей.
— Ладно, не утешайте меня. Буду читать «Махабхарату», «Бгахавадгиту» и всякую подобную всячину, чтобы не попасть впросак в следующий раз, когда опять встречу такого же … нестандартного человека. Значит, дядя Барт уже член палаты представителей штата? В нашей семье это, наверное, самый большой политический успех. Он сделал то, что безуспешно пытался сделать его отец, мой дед.
— Вот как? — лицо Мод вытянулось. — Барт никогда не рассказывал об этом.
— Значит, он утаил это от вас. А может быть, ему не рассказывал об этом дед, хотя во время тех событий дядя Барт уже был достаточно большим, мог бы и сам понимать, что происходит. Ладно, это неважно. Важно то, что была попытка проникнуть в коридоры власти. Когда деду было лет тридцать, ему показалось, что он нашел то, что искал — он вступил в ряды Народной партии. Это была партия фермеров, в основном с Юга и Запада. Так вот, поскольку Уэйд Гамильтон всю жизнь безвыездно прожил в Джорджии и был с самого начала яростным сторонником идеи объединения фермеров в политическую партию, он просто не мог не познакомиться с Томом Уотсоном, руководителем этой самой Народной партии. Он, выражаясь современным языком, ходил в его команду. Тогда, в начале 90-х годов прошлого века, эти ребята прорвались даже в Сенат в Вашингтоне, а их человек Уильям Брайен едва не победил на президентских выбор 1896 года. Дед встречался и с Брайеном, здесь, в Чикаго, на их партийном съезде. Что же касается личных успехов деда в политике, то он не пошел дальше кандидата в члены законодательного собрания штата Джорджия. Дядя Барт эту ступеньку уже перешагнул. Кстати, он представитель от какой партии?
— Он республиканец, — улыбнулась Мод, предчувствуя реакцию Билли.
— Боже мой! — он схватился за голову с театральным ужасом. — Его дед Чарльз Гамильтон, сражавшийся и погибший за Конфедерацию, наверняка перевернулся бы в гробу, узнав об этом.
— Что делать? — Мод развела руками, и жест этот тоже не был лишен сценического налета. — Барт превратился в стопроцентного янки, во-первых, а во-вторых, он вот уже лет десять общается только с богатыми да сановными людьми. Среда, знаете ли, затягивает, — закончила она шутливо-удрученным тоном.
— Это уж точно, — согласился Билли. — Затягивает, как водоворот, чтобы иногда вышвырнуть в совершенно ином месте.
— О, это достаточно тонкое и точное замечание. Наверняка вы пришли к такой мысли самостоятельно, ведь вы же литератор.
— Понимаю, вы издеваетесь надо мной?
— Отнюдь. Литература сейчас встает в ряд занятий респектабельных, как и прочие похожие сферы деятельности, раньше считавшиеся несерьезными.
— Например?
— Например, театр. Я ведь театральная актриса.
— Вот он что! — протянул Билли. — Тогда с вами нужно держать ухо востро.
— Почему?
— Ну, а как же — профессиональное притворство, привычка примерять и носить разные маски.
— Нет, — покачала головой Мод. — Наверняка я была плохой притворщицей, о всяком случае, мне так показалось. Я хочу сказать, что театр я оставила. Отчасти это произошло, конечно, и по настоянию Барта.
— Почему? Ему не нравилась ваша профессия?
— Не профессия, как он считает, а занятие. Да, он полагает, что у политического деятеля супруга не может быть актрисой.
— Ага, значит, не все считают театр и литературу серьезными занятиями. Сколько же все-таки условностей! — Билли покачал головой. — Хорошо, что у меня нет тяги к политике.
— Условности существуют в любой отрасли человеческой деятельности. Разве вы не столкнулись с ними, встретившись с издателем?
— Не то, чтобы совсем не столкнулся … — он вспомнил Пирсонса, Лоуэлла и Робинсоне. — Мне, пожалуй, просто повезло в первый раз. Послушайте, я все хотел спросить об одной вещи… Вы можете не рассказывать мне об этом, но дед упоминал об одном вашем родственнике, отправленном на электрический стул. Это было в начале прошлого года.
Лицо Мод помрачнело.
— Достаточно тягостная история. Лучше вам не напоминать об этом Барту. Дело этого родственника было совершенно безнадежным. Сюда приехала его мать, с которой он, кстати, не поддерживал никаких отношений в течение нескольких лет. Похоже, что в полиции так и не узнали бы, откуда он. Но этот человек вдруг сказал свое настоящее имя, рассказал, где живут его родные. Вот тогда только его мать и узнала о случившемся. Было слишком поздно пытаться предпринять что-то.
— Понимаю, — поспешно кивнул Билли.
— Билли, — Мод смотрела куда-то за него. — Познакомьтесь с Грейс, это моя подруга.
Он поспешно обернулся. Девушка лет двадцати в платье, кроем напоминавшем тунику, таком же коротком, как и то, что было на Мод, черноволосая и стройная, казавшаяся еще более тонкой из-за высоких каблуков туфель, возникла из ниоткуда. С улицы она не могла войти. Значит, все это время сна находилась в доме? Но почему Мод не представила ему Грейс раньше? Все же очень странная, Мод.
Билли встал с диванчика и поклонился, Грейс подала ему руку, и он подержал в своей руке холодные вяловатые пальцы. Орехового цвета глаза девушки глядели на Билли почти с абсолютным равнодушием. Он не считал себя записным сердцеедом, но не мог не отметить, что такое, почти открытое игнорирование себя особью противоположного пола встречает впервые.
— Очень приятно, — произнесла девица довольно низким, хрипловатым голосом.
— Билли приехал из Джорджии, — сообщила Мод.
— Очень интересно, — тон Грейс доказывал совершенно обратное тому, что она говорила.
— Грейс, посиди с нами, — предложила Мод.
— Я бы это сделала с превеликим удовольствием, но очень спешу сейчас. Ты, наверное, забыла уже, как реагирует Эванс на каждый случай опоздания на репетицию.
— Ох, — Мод сделала испуганное лицо. — Еще не забыла.
— Вот, а у меня остается не более получаса. Счастливо.
— Пока, — Билли показался странным взгляд Мод, которым та проводила свою подругу, шествующую по холлу походкой, напоминающей походку армейского сержанта — никакого покачивания бедрами. — Очень способная молодая актриса, но, наверное, здесь ей суждено всю жизнь быть на вторых ролях.
— Почему?
— Все те же условности, все те же правила игры, дорогой Билли. Вы себе просто не представляете, через что нужно пройти, чтобы пробиться наверх. Вернее, в нашем случае стоило бы говорить не «наверх», а «вперед» — то есть, к самой рампе. Далеко не всем хватает места под юпитерами, за него дерутся, пуская в ход зубы, когти, локти.
— Как и везде, наверное.
— Нет, — она покачала головой. — Актеры — народ особенно себялюбивый и посему особенно безжалостный и циничный.
— Одна моя знакомая хочет пробиться в Голливуд. Наверное, там существуют такие же правила игры?
— Я полагаю, что даже жестче. Голливуд сейчас становится настоящим Эльдорадо. Год от года становится все больше кинотеатров, которые посещает все большее количество зрителей. Кинематограф сейчас обрастает деньгами, словно бродячий пес паразитами.
Билли даже слегка шокировало такое выражение, прозвучавшее из уст молодой привлекательной женщины.
Не прошло и получаса, как появился Барт. Он оказался довольно толстым и мешковатым. В любом случае он теперь мало напоминал Билли того атлета, с обликом которого тот привык связывать своего дядю Барта. Ранняя проседь в густых темно — каштановых волосах. Четко обозначившийся второй подбородок, тугой живот, который Билли ощутил, когда Барт обнимал его. Да, значит, теперь надо воспринимать его таким.
— Малыш, это очень приятный сюрприз, — говорил Барт, пристально разглядывая его. — Хотя ты и твой дед писали мне о своем намерении посетить меня, да разве от вас дождешься исполнения ваших обещаний. Тебе еще повезло, что ты застал меня в Чикаго. Сейчас я очень много времени провожу в Спрингфилде.
За ужином они пили превосходное испанское вино, а также не уступавшее ему калифорнийское, ели лосося, картофель по-французски, страсбургский паштет и пирог с земляникой.
Билли отметил про себя, что Барт ест скорее с жадностью, чем с аппетитом. Аннабел и Уэйд даже в их годы выглядели более стройными и подтянутыми, чем их сын. Хотя, конечно, лицом Барт все больше походил на отца. Можно сказать, это была более упитанная копия Уэйда.
Барт расспрашивал племянника о делах на ферме Уэйда, вспоминал добрым словом покойного Уилла Бентина, восхищался мужеством и самоотверженностью Конни, интересовался состоянием здоровья Генри. Его тон позволял надеяться, что это не просто дань вежливости — проявление участия к событиям в родных местах. Билли все оттягивал объявление о главной цели своего визита. Он решил обсудить с Бартом вопрос его участия в ткацком производстве после ужина, когда они останутся вдвоем. И он сразу же заговорил об этом, едва Мод оставила их:
— Дядя Барт, я вообще-то приехал в Чикаго для того, чтобы предложить тебе одно дело.
— Я догадываюсь, малыш, о чем пойдет речь. Сколько нужно вам для реорганизации этой фабрики?
— Дед говорил о сорока тысячах долларов, — осторожно начал Билли. — Еще он говорил, что надо обсудить с тобой условия, на которых ты согласишься участвовать в этом предприятии.
— Хм … Там есть какие-то перспективы?
— Несомненно. Я прикидывал размер чистой при — были, и у меня получилось, что она может составить не менее пятидесяти тысяч только за первый год. То есть, твои инвестиции полностью окупятся. Мы можем вернуть тебе сорок тысяч через год, а проценты с них — в течение второго года.
— Ладно, малыш, я позже решу, на каких условиях буду участвовать в вашем деле. Но деньги, естественно, дам сейчас.
Он тут же выписал чек на пятьдесят тысяч долларов на имя Уэйда Хэмптона Гамильтона и вручил его Билли.
— Спрячь подальше и не потеряй, — он подмигнул, напомнив Билли того дядю Барта, который ходил на руках, карабкался по деревьям и рассказывал о Гайавате. — Твой дед писал, что ты достаточно серьезно занялся сочинительством?
— Да, — Билли немного смутился, вспомнив финал театральной карьеры Мод. — Возможно, со временем это станет приносить мне какой-то ощутимый доход.
— И поэтому ты избрал местом обитания Тару? — Барт смотрел на племянника, раздумывая о чем-то своем.
— Наверное, — пожал тот плечами. — Хотя это и противоречит правилам достижения успеха. Считается, что надо вращаться среди человеческих особей, которые занимаются тем же, чем и ты. И чем больше этих типов будешь видеть каждый день, тем больше вероятность, что и тебя заметят.
— Такие правила, наверное, существуют везде, — сказал Барт, и Билли подумал, что слышал подобные слова от его супруги несколько часов назад.
— Да, но мне это не нравится.
Барт внимательно посмотрел на него.
— Что же, возможно, у тебя это и получится — делать только то, что тебе нравится, и при этом добиться успеха. Не каждому в твоем возрасте удается попасть на такую войну. — Он помолчал. — И не каждый стремится туда, вот что главное.
12
Осень и зима прошли в хлопотах и беготне. Престарелые компаньоны Уэйда оказались на удивление тяжелыми на подъем. Билли с дедом пришлось и наблюдать за выгрузкой станков, и руководить строительством нового здания, и улаживать дела в городском совете Джонсборо, неожиданно предъявившем права на часть площади, занимаемой компаньонами под пристройку к старому зданию. Прежние приятели Осборна в законодательном собрании штата уже давно ушли на покой, так что теперь нельзя было рассчитывать на поддержку сверху.
— Послушай, дед, это, конечно, не совсем мое дело, но я бы отделился от столь малоподвижных джентльменов. Чем ты обязан Кэнингхэму и Осборну? Тем, что они почти сорок лет благосклонно позволяли тебе обеспечивать прибыль — им и себе? — Билли склонен был решить проблему радикально.
— Нет, Билли, раньше-то мы работали на равных, — качал головой Уэйд. — Я просто не могу после стольких лет сотрудничества взять да и объявить, что расхожусь с ними. Да и сложно это будет сделать — поделить производство. Надо будет строить отдельное помещение, а ты сам видел, сколько шишек пришлось набить, прежде чем мы получили разрешение на строительство пристройки.
Билли предлагал свои планы, позволяющие хотя бы по-другому делить доходы от предприятия, но Уэйда трудно было переубедить.
В самом конце зимы Билли начал писать повесть. Билли показалось, что материал более чем благодатный — история жизни солдата Конфедерации, прообразом которого должен был послужить Уилл Бентин.
Он писал эту повесть, в основном, по ночам, оставляя на сок не более четырех часов, но потом нахлынули весенние заботы, повесть пришлось отложить.
А летом того же, 1921-го, года он с удивление отметил успех Джессики Фонтейн. Стелла, ее мать, рассказала Конни при встрече, что вышел фильм, в котором снималась ее дочь. Конни, естественно, тут же потребовала отвезти ее в кинотеатр в Джонсборо.
Билли сидел рядом с матерью, отцом и Аннабел, которых Конни тоже прихватила, чтобы продемонстрировать им успех «девочки Фонтейнов», смотрел на прыгающие на экране фигурки и не понимал, чем все-таки кинематограф так привлекает публику. Конечно, очень занятно видеть запечатленных если не навечно, то хотя бы на время сохранения этой чудо — ленточки из целлулоида людей — не застывших, как на фото, а движущихся, как в жизни. А всякое подобие связного сюжета вызывало у зрителей интерес, граничащий с маниакальным. Билли не без некоторой ревности вынужден был согласиться с этим.
Но в том-то и дело, что сюжеты всех без исключения фильмов, которые ему пришлось видеть до сих пор, были в лучшем случае просто добросовестно — наивными. Лента, запечатлевшая Джессику Фонтейн, исключением не была. Фильм сплошь состоял из перестрелок с вылетающими при этом из стволов револьверов и ружей густыми клубами дыма, заставляющими вспомнить паровые машины, из скачек на полудиких лошадях, из нападений на поезда, нападений на банки, нападений из засады. Джессике Фонтейн досталась роль явно не главная, но и не эпизодическая. Она изображала подружку отрицательного персонажа, бандита, который постоянно откусывал кончик сигары и выплевывал его. В перерывах между плевками он в чем-то наставлял подружку, подвешивал к высоко расположенной перекладине массу невинных жертв, предварительно связав их. Естественно, в финале он погибал, изрешеченный, как минимум, полусотней пуль. Его подружке тоже не оставалось ничего иного, как застрелиться, ибо она натворила столько безобразий, подзуживаемая своим возлюбленным, что просто не имела права оставаться в живых.
Билли насчитал, самое малое, пять крупных планов Джессики. Ее выразительные брови с помощью обильного грима стали сверхвыразительными, большие глаза выглядели просто огромными, а жесты рук могли сравниться разве что с жестами профессиональной танцовщицы фанданго[19].
И все же это был несомненный успех, это была оглушительная популярность. Во всем округе акции Джессики Фонтейн поднялись чуть ли не выше акций ее знаменитых техасских родственников.
Конни заставила его смотреть этот фильм два раза. В третий раз он просто не смог этого сделать, предоставив матери упиваться созерцанием загримированной и отчаянно жестикулирующей «девочки Фонтейнов» без него.
— Боже мой, — говорила она по пути назад. — Все прочтут в титрах ее имя, по всей стране.
— Не исключено, что фильм будет демонстрироваться и в Канаде, а также в Европе, — в тон ей поддакнул Билли.
— Не исключено, — не приняла шутки Конни. — А ведь у вас с ней, кажется, все так хорошо начиналось.
Интересно, подумал он, что мать подразумевает под словом «хорошо» — партии в теннис или занятия любовью в отеле в Джонсборо?
— И что же я, по-твоему, должен был сделать? Жениться на ней и не отпускать ее в Калифорнию? Но в таком случае ты не смогла бы увидеть ее на экране. Судя по всему, ты получаешь больше удовольствия от созерцания одной только Джессики, чем от всего остального фильма. А если бы я имел несчастье уехать в Калифорнию, то обязан был бы тоже сниматься, изображая в лучшем случае этого кретина, который в продолжение всего действия ест сигары. Ма, я тебя не узнаю. У тебя развитый вкус, ты сама писала довольно неплохие стихи, а тут восхищаешься так, словно тебе восемнадцать лет, ты едва научилась читать и писать и работаешь в Джонсборо на фабрике своего отца и его компаньонов прядильщицей. Ведь все это ужасно примитивно и невыразительно. Пантомима и балет в тысячу раз совершеннее.
— Ах, Билли, разве дело только в выразительности? Важен успех. Она же не одна там была. И даже не один десяток таких, как она, пытались пробиться, а может быть, в сто раз больше. Но в результате все видят в титрах ее имя.
— Хорошо, ма, я согласен. Успех любым путем, в любой сфере — что может быть желаннее для американца.
Так он прекратил тогда спор с матерью, но почему-то через несколько дней отложил в сторону свою повесть о ветеране Конфедерации и стал писать историю девушки из глубинки, вознамерившейся стать актрисой. Билли поместил ее в место, очень похожее на их округ. Он даже О’Фланаганов не забыл вставить, только, разумеется, фамилия у них была другая, но все равно фамилия была ирландской, и ни у кого из знакомых с О’Фланаганами не возникло бы сомнения в том, что написано именно о них. И девушка эта, отправляясь на завоевание — нет, не Голливуда, об атмосфере, царящей там, он мало знал даже понаслышке, — театра в каком-то городе на Востоке или Среднем Западе. Чикаго был бы очень кстати. Мод кое-что рассказывала о тамошнем театре, этого на первых порах достаточно. Нельзя слишком хорошо знать предмет, о котором пишешь, иначе это будет уже не литература, а инструкция по пользованию, например, посудомоечной машиной.
Итак, девушка терпит провал, в труппу театра набора уже нет, она возвращается к себе домой, куда в то же время возвращается и ее сверстник, друг детства. Он возвращается с европейской войны, где успел провести больше года — Билли «отправил» его туда летом семнадцатого, чуть ли не сразу после того, как Америка вступила в войну. А воевать ему пришлось в Италии. Воевал он в пехоте, экзотика вроде авиации тут ни к чему. Но весь смысл заключался в том, что тот солдат был ранен, а следствием ранения явилась импотенция.
Встреча друзей детства не может перерасти в полноценную любовную связь. Девушка обнаруживает, что влюблена в своего сверстника, она страдает, потом уезжает в большой город, спит с режиссером театра, получает роль. У нее обнаруживается какой-никакой талант, но она не чувствует себя счастливой. Занимаясь любовью все с тем же режиссером, который очень привязался к ней и даже подумывает оставить жену, провинциалка все время видит перед собой друга детства, который вследствие ранения уже не может заниматься плотской любовью.
Набросок этой истории Билли сделал буквально за пару дней. И сразу же ринулся достраивать здание, нанизывая на каркас слова, эпизоды, характеры, портреты, описания. Он бросил все, даже перестал помогать Уэйду, предоставив отцу заниматься этим. Билли работал по двенадцать часов в день. Бегло набросав карандашом начало эпизода или диалога, он садился за пишущую машинку и, перепечатывая текст набело, на ходу додумывал, достраивал, исправлял.
И случилось чудо — за пятьдесят дней он создал около четырехсот страниц машинописного текста. Несомненно, это был роман — много героев, много планов, особенно во времени, достаточно прочный сюжет.
Он дал телеграмму Лоуэллу, чтобы тот сообщил, сможет ли он немедленно заняться своим клиентом Уильямом Коули. Лоуэлл ответил: «Куда вы запропастились? Приезжайте.»
Через два дня он уже сидел в конторе Лоуэлла в Нью-Йорке.
Бен Лоуэлл совсем не изменился, он выглядел так, словно прошел не один год, а один день с тех пор, как Билли покинул его.
— Старина, а вы изменились, — словно в ответ на размышления Билли о внешнем облике сказал Лоуэлл. — Вы здорово повзрослели. Но у меня такое впечатление, что вас совсем не интересует ваша собственная судьба — как литератора, я имею в виду. Уже прошло около полугода с тех пор, как выпущен ваш сборник стихов. У него, несмотря на небольшой тираж, появилась обширная критика. — Лоуэлл нашел ячейку в стеллаже за своей спиной вынул оттуда стопку газет и журналов. — Далеко не каждая новая книга удостаивается такого внимания. Сразу хочу вас предупредить — здесь около половины ругательных отзывов. Ни в коем случае не воспринимайте это всерьез. За каждым таким отзывом стоят зависть, амбиции, а то и чей-то заказ. Да-да! Это особое искусство — создавать имя. Если бы вы знали, старина, сколько на это тратится времени и сил. Ну да ладно, давайте теперь делить прибыль.
— Какую прибыль? — удивленно спросил Билли.
— Старина, вы очень счастливый человек, честное слово, — Лоуэлл покачал головой. — Ведь у нас был подписан договор относительно издания вашего сборника стихов. Он, сборник, правда, еще не совсем до конца разошелся, но тысяч шесть-семь вы уже сможете получить. Как только появились ругательные статьи, он стремительно стал распродаваться. У вас уже есть имя, молодой человек! Вы даже не можете представить себе, как много это значит.
Лоуэлл поднял пачку газет и журналов и потряс ею в воздухе.
— По меньшей мере около полумиллиона читателей — заинтересованных читателей, следящих за новинками литературы — прочтут это. Если бы сейчас, по горячим следам, запустить еще какую-нибудь вашу вещь, она бы распродалась вмиг.
— У меня такая вещь есть, — сказал Билли. — Именно поэтому я к вам и приехал.
— Что же это, — спросил Лоуэлл, — стихи, проза?
— Проза. Я так думаю, что получился роман.
— Даже так, — Лоуэлл сосредоточенно постучал пальцами по столу. — Хм. — Он посмотрел на часы. — Вот что, старина. Вы где остановились?
— Пока еще нигде, — пожал плечами Билли.
— Тогда вперед. Я закажу вам номер в отеле «Ридженси». Оплатите из гонорара, вернее, я сам оплачу с вашего позволения. В ресторане отеля сегодня собираются несколько литераторов, которых бы я назвал новой элитой. Все новые, за исключением одной очень старой. Это старушка Стоун — не слыхали о такой?
— Слыхал, — пожал плечами Билли, — но я не думал, что она…
— Зря вы так не думали, — перебил его Лоуэлл. — Вы считаете, что если она сама за свою долгую жизнь не создала ничего путного, то ее мнение ничего не значит. Ошибаетесь, мой юный друг! Я же говорил вам, к каким ухищрениям прибегают люди, чтобы создать себе имя. Иногда, правда, это происходит и без их участия, но для этого нужен несомненный талант. А бывает и так, что человек очень мало написал, да и то малое, что он создал — сплошь дерьмо при ближайшем рассмотрении. И вдруг в один прекрасный день обнаруживается, что он знаменит — хотя бы в литературных кругах. Этого вполне достаточно, чтобы бывать на приемах, занимать деньги в долг или попасть к кому-то на содержание.
Билли вспомнил, что говорили о Лоуэлле Пирсонс и Робинсон с год назад. Член семьи литераторов, у которого то ли недостает таланта, то ли недостает трудолюбия. Наверняка устами Лоуэлла говорит уязвленное честолюбие, но не прислушиваться к его словам было бы по меньшей мере неосмотрительностью. Есть истина в его рассуждениях об удаче — достаточно вспомнить оленя, которого они с Уэйдом убили прошлой осенью — одна пуля, как оказалось, была пулей из его «винчестера», а ведь он в подметки не годится своему деду как охотник.
— Итак, слушайте, — Лоуэлл отпер сейф. — Вот вам пятьдесят долларов — все в счет гонорара. Я вычту их, как и оплату за проживание в «Ридженси». Эти пятьдесят долларов для того, чтобы расплатиться за ужин. Этого даже много, но не мелочитесь, надо произвести впечатление. Вы ведь почти что знаменитость уже, понимаете?
— Не понимаю, — серьезно ответил Билли.
— Господи Иисусе, ведь я же объяснял вам, что если вас не знают в вашем медвежьем углу на Юге, то на Востоке вы известны не намного меньше, чем боксер Демпси. Так вот, на ужине будет издатель Снизуэлл. Я как бы невзначай заведу разговор о том, что у вас — тоже совершенно случайно, мы эту операцию якобы и не готовили заранее — оказалась рукопись нового романа. Почему все должно производить впечатление экспромта? Снизуэлл в любом случае возьмет ваш роман, но если у него возникнет впечатление, что мы хоть в какой-то степени навязываемся ему, он заплатит вполовину меньше, даже невзирая на успех вашего сборника. Смекаете, старина?
Когда Билли появился в «Ридженси», для него уже был заказан одноместный номер с ванной, душем и телефоном. Помывшись, побрившись, он критически оглядел свой костюм и подумал, что для ужина в таком шикарном отеле надо было бы надеть что-нибудь получше, но ему и в голову не пришло заботиться о приобретении нового костюма. Пусть принимают его таким, каков он есть. Тем более, что, как сказал Лоуэлл, половина критических статей содержала сугубо отрицательные отзывы. Вообще-то, судя по тому, что он уже успел просмотреть по дороге в отель, его наверняка ругали и во всех остальных статьях. Лоуэлл просто подсластил пилюлю.
Вскоре раздался телефонный звонок, это был Лоуэлл.
— Старина, минут через двадцать спускайтесь в ресторан. Рукопись романа, естественно, должна оставаться в номере, но вы должны быть готовы забрать ее оттуда сразу же, если понадобится. Вы меня понимаете?
— Понимаю, — сказал Билли. Лоуэлл уже начинал утомлять его. Вспомнилось, как обращался с Лоуэллом Робинсон. Ясное дело, Лоуэлл никогда в жизни не стал бы суетиться, если бы не светили щедрые комиссионные.
Билли не спеша оделся, прошелся щеткой по костюму. Черт с ними, с этими снобами, пусть зубоскалят, если им захочется. А вообще для колорита неплохо было бы появиться в голубом хлопчатобумажном комбинезоне и тяжелых ботинках из воловьей кожи. Он представил себе выражение лица Лоуэлла в случае своего появления в таком виде и хмыкнул. Ладно, пора уже опускаться.
Едва Билли переступил порог ресторана, как Лоуэлл сразу поспешил ему навстречу. Широчайшая улыбка освещала лицо литературного агента.
— Все в порядке, старина, — Лоуэлл улыбался столь широко, что непонятно было, как он при этом умудрялся еще и говорить. — Снизуэлл здесь и Гертруда Стоун тоже. Остальные значения практически не имеют, но постарайтесь их хотя бы не особенно злить.
Он подвел Билли к столу, во главе которого сидела тучная дама в глухом темно-коричневом платье с доброй полусотней мелких пуговиц и очках в тонкой никелированной оправе. Это и есть Гертруда Стоун, догадался Билли. А кто же из них Снизуэлл? Внезапно его внимание привлекла девушка лет двадцати. Легкое светлое платье, практически полное отсутствие косметики, из украшений только изумрудные сережки. Ее нельзя было назвать красавицей, но черты ее лица — каждая по отдельности не очень правильная: и широковатый нос, и тяжеловатый подбородок, и выдающиеся скулы — образовывали то, что называется совершенным ансамблем. Особенно привлекали к себе глаза, серо-зеленые, с широким разрезом.
Билли очень хотелось, чтобы Лоуэлл усадил его так, чтобы девушка оказалась если не напротив него, то хотя бы так, чтобы он мог видеть ее, не рискуя свернуть себе шею. Лоуэлл не подложил ему свинью, девушка оказалась сидящей наискосок от него, отделенная всего двумя соседями.
— Леди и джентльмены, — громко сказал Лоуэлл, — разрешите представить вам Уильяма Коули, наделавшего столько шума в этом году. Я считаю, что у этого молодого человека многообещающее будущее.
Лица всех повернулись в их сторону. Билли почувствовал, что краснеет.
— И представьте себе, что он почти равнодушен к своей популярности, — продолжил Лоуэлл.
— Они ко всему равнодушны, — ровным и негромким голосом произнесла Гертруда Стоун, но все мгновенно умолкли, едва она начала говорить, — таково нынешнее поколение. Да, молодые люди, все вы — потерянное поколение.
Представители «потерянного поколения» — кроме Билли ими являлись девушка с серо-зелеными глазами и молодой человек с длинными волосами, с бородой и в очках — кисловато улыбнулись.
Билли убедился, что и здесь, как и в Чикаго, «сухой закон» если не нарушается, то мягко обходится. То, что подавалось в стаканах под видом крюшона и прохладительного напитка, на самом деле было коктейлем и легким вином.
Лоуэлл сразу взял быка за рога.
— Мистер Снизуэлл, — обратился он к достаточно скромно одетому мужчине, сидевшему рядом с Билли, — вы себе не представляете, какой оригинал этот Коули. Оказывается, у него уже достаточно долгое время лежит роман, а он все раздумывает, стоит ли его кому-то показывать.
— Вот как? — на Билли взглянули внимательные и серьезные карие глаза. — О чем же роман?
— Если в двух словах, то о последствиях войны, — смущенно улыбнулся Билли. — Боюсь, эта тема не скоро меня отпустит.
— Ну что же, эту тему нельзя назвать избитой, — тут он наклонился к Билли и заметно понизил голос, — что бы нам ни утверждали «мэтры» и «мэтрессы». А большой ли получился роман?
— Не очень. Если его напечатать, получится вот такая книжка, — Билли осторожно развел большой и указательный пальцы.
— Если напечатать? Он не так уж и прост, ваш южанин, — Снизуэлл улыбнулся Лоуэллу сдержанной улыбкой, повернувшись к нему. — О’кей, мистер Коули, я бы хотел взглянуть на этот роман. Да, я хочу лично просмотреть его, — ответил он на удивленный взгляд литературного агента. — Иначе я ничего не стою, как книгоиздатель. Если бы я во всем полагался только на консультантов, то мог бы продавать все, что угодно — свинину, нижнее белье или средство от облысения.
Они договорились с Билли, что тот передаст ему рукопись романа завтра в офисе издательства.
Молодой человек с бородой начал читать свои стихи, написанные верлибром. Билли стихи не понравились, но он вежливо сделал вид, что слушает, изредка бросая взгляды на девушку, сидевшую наискосок от него. Один раз она тоже посмотрела на него и слегка улыбнулась.
Темы бесед за столом менялись, как в калейдоскопе. Новый музыкальный театр на Бродвее, постановка в Метрополитен — опера, новый сборник стихов поэта, имя которого мало что говорило Билли, и он тут же забыл его, едва услышав.
Внезапно Билли вздрогнул: кто-то четко произнес «Джессика Фонтейн». Он повернул голову в сторону говорившего. Мужчина с матовым цветом лица и тонкими усиками рассказывал:
— Сейчас она снимается сразу в двух фильмах. Такое у нас в Голливуде редко случается.
— Успех везде и всегда случается довольно редко, — заметила сидящая рядом с ним дама с очень короткой стрижкой и в платье фиолетового цвета с широкими рукавами.
— Нет, здесь явление вообще уникальное, — продолжал мужчина с усиками. — По первой роли, причем не главной, ее замечают и сразу же дают еще две.
— Между прочим, — шепнул Лоуэлл Билли. — Это Фитцсиммонс, сейчас подвизается в Голливуде, пишет сценарии.
— Как? — так же шепотом переспросил Билли. — С его известностью? Его так много издают, зачем же ему еще и этот балаган?
— Значит, там неплохо платят, — усмехнулся Лоуэлл. — По его сценариям уже сняли несколько фильмов.
— Вот уж никогда бы не подумал, что для этой ерунды надо еще писать сценарии.
— Не знаю, — пожал плечами Лоуэлл. — Очень многие утверждают, что у кинематографа большое будущее.
— Но вы-то пока так не думаете?
— С чего это вы сделали такое заключение? — удивленно поднял брови Лоуэлл.
— Иначе вы бы уже давно бросили книгоиздательство и занялись кинематографом, — серьезно ответил Билли.
— Вы мне льстите, — с притворной скромностью ответил Лоуэлл, — не такой уж у меня и нюх. Послушайте, мистер Коули, вы обратили внимание на ту девушку в светло — сером платье?
— Обратил внимание? — Билли сделал вид, что рассеянно ищет за столом объект, указанный ему Лоуэллом, но едва взгляд его остановился на ней, девушка посмотрела на него в упор. — Ах, да, конечно, но не больше, чем на остальных, — сказал он, поспешно переводя взгляд на Лоуэлла. — Она тоже какая-то знаменитость?
— Я бы не сказал. Это Мэрджори Янг. Пишет довольно средние стишки, сейчас собирается отправиться с какой-то бродячей актерской труппой. Я обратил на нее ваше внимание потому, что, во-первых, она с Юга, как и вы. Это мне доподлинно известно, в отличие от того, издавала ли она свои стихи, или нет. Если бы было что-то путное, я бы ею обязательно заинтересовался. А во-вторых, она все время посматривает на вас. Это мне уже доподлинно известно.
— Ого, мистер Лоуэлл, вы не только профессиональный литературный агент, но еще и профессиональный сводник.
— А еще я профессиональный адвокат, друг мой. И знаю, что у нее здесь, в Нью-Йорке есть богатые родственники.
— Хм… С чего бы ей тогда связываться с бродячими комедиантами?
— Это как раз классическая иллюстрация того, что у богатых свои причуды. А потом, вы же слышали отзыв миссис Стоун о вашем поколении?
— Слышал, но, по-моему, от него отдает снобизмом в лучшем случае.
— А в худшем? — Лоуэлл заинтересованно улыбнулся.
— А в худшем — маразмом, — очень тихо произнес Билли.
— Берегитесь, — адвокат и литературный агент в одном лице закатил глаза в притворном ужасе. — Боги жестоко карают ослушников.
— Ослушником можно быть лишь в том случае, если соглашаешься служить или верить кому-то. Я никогда не присягал на верность миссис Стоун. Пусть те, кто заносил шлейф ее старомодного платья в Париже, пытаясь обратить на себя ее благосклонное внимание, опасаются потерять расположение своей богини. А мне терять нечего, я был во Франции с совершенно другой миссией.
— Э, мой друг, да у вас, оказывается, оригинальная система ценностей, — удивленно произнес Лоуэлл. — Нет, вы, пожалуй, зря так игнорируете авторитеты.
— Возможно, — пожал плечами Билли. — А вот эта женщина, напоминающая обликом Пьеро, она сидит рядом с Фитцсиммонсом — тоже что-нибудь пишет?
— Это Мэри Филдинг, — почтительным шепотом произнес Лоуэлл.
— Вот оно что, — Билли тоже перешел на шепот. — А я считал ее старухой.
Оркестр в углу заиграл грустную мелодию. Билли подумал о том, что неплохо бы пригласить на танец Мэрджори Янг, но ее увел какой-то тип с длинными белокурыми волосами, вьющимися и напоминающими то ли парик, то ли гриву пуделя.
Билли перевел взгляд на мэтрессу Стоун. Несколько молодых людей придвинули к ней стулья и, наклонившись к знаменитости, напряженно слушали ее. Билли показалось, что некоторые из них готовы шикнуть даже на музыкантов, чтобы те не заглушали откровения их кумира. «Интересно, чего в этом больше — фанатизма или лицемерия?» — подумал Билли и почувствовал на своем плече чью-то руку.
Подняв голову, он увидел Мэри Филдинг, стоявшую над ним. Секунды две он размышлял, подняться ему или не стоит. Но все же присущий ему такт и некоторая робость в отношениях с женщинами пересилили — он встал.
— Мистер Лоуэлл, — обратилась Мэри Филдинг к соседу Билли, — я уведу от вас вашего собеседника, так что вам придется поскучать в одиночестве.
Это было произнесено тоном, каким говорят приказчику в магазине: «Эту вещь я, пожалуй, возьму. Заверните мне ее».
«А что, если я откажусь пойти с ней? То-то у нее физиономия вытянется».
Словно дискутируя с ним, Мэри Филдинг сказала:
— Вы не откажетесь потанцевать со мной, мистер Коули?
— Весь к вашим услугам, мэм, — галантно поклонился Билли и выругался про себя.
Проход между столиками был широким, некоторые пары танцевали здесь. Миссис Филдинг решила не уводить свою жертву слишком далеко. Она положила руку на плечо своего кавалера и не отводила взгляда от его лица.
Билли же упорно смотрел поверх ее головы, лишь изредка встречаясь взглядом со взглядом васильковых глаз.
— А ведь вы здесь откровенно скучаете, — вдруг сказала она.
— Ну что вы! Уверяю вас, это вам просто показалось, миссис Филдинг.
— Можно просто Мэри. Желательно просто Мэри. Нет, я вполне понимаю вас. Лоуэлл притащил вас сюда, потому что это больше нужно ему, а вы не можете отказать Лоуэллу.
Ну не упоминать же имя Снизуэлла в качестве контраргумента. Ладно, пусть думает, что Лоуэлл привел его для показа, как диковинку, как экзотическую зверушку.
— Да, я не могу отказать Лоуэллу, — слегка улыбнувшись, сказал Билли. — Потому что в случае отказа он не станет продавать моих книг, и я умру с голода.
— Ну, уж это вам не грозит. У вас наверняка есть еще какое-то занятие, способное прокормить вас. Иначе откуда бы у вас взялись такие независимость и открытое игнорирование авторитетов.
— Если вы имеете в виду себя, Мэри, то тут все объясняется самой обычной провинциальной робостью и моим косноязычием.
— Не валяйте дурака! Уж вам-то плакаться по поводу косноязычия. Другие полжизни бьются, вырабатывая стиль, а вы сразу взяли карандаш, бумагу и заставили говорит критиков о поэтике Коули.
— Что-то я не слыхал таких отзывов, — с сомнением в голосе произнес Билли. — Относительно беспорядочного нагромождения слов мне уже приходилось читать, относительно того, что, дойдя до конца фразы в моем рассказе, рискуешь забыть, что же было в ее начале, я тоже читал, а вот о поэтике…
— Я вас уверяю, такие отзывы есть. А говоря об авторитетах, я, конечно же, имела в виду миссис Стоун. Любой другой на вашем месте сейчас бы сидел рядом с ней и, раскрыв рот, почтительно внимал ее пророчествам и поучениям.
— У меня будет много проблем, если я до самого конца вечера так и не подойду к старушке?
— Возможно. К ее мнению еще очень прислушиваются.
— Значит, я обречен на безвестность и тусклое существование из-за своей строптивости. Но ничего не могу с собой поделать — писанина Гертруды Стоун мне не очень нравится.
— А моя? — она все-таки поймала его взгляд.
— О! Это высший класс стихосложения. Только для меня это слишком умно, Мэри.
— Ну, вы и хитрюга! В вашем-то возрасте…
Музыка прекратилась, он повел Мэри Филдинг к столу, усадил на место.
Мэрджори Янг куда-то запропастилась.
Билли поговорил еще с мистером Снизуэллом, уточнив место их завтрашней встречи и, стараясь сделать это как можно более незаметно, ускользнул из ресторана.
Поднявшись к себе в номер, он с удовольствием снял галстук, сбросил пиджак, ботинки, расстегнул ворот рубашки и, прихватив ворох газет и журналов, которые ему дал Лоуэлл, плюхнулся поверх покрывала на широкую кровать.
О чудо! на сей раз первый материал, попавшийся ему под руку, содержал если не дифирамбы в адрес Уильяма Коули, то, во всяком случае, заставлял заподозрить его автора в симпатии к молодому таланту. Значит, Мэри Филдинг не соврала.
Билли внимательно прочел все заметки. Их было девять, что — это было ясно даже и без подсказки Лоуэлла — означало проявление явного внимания критики. Четыре статьи содержали ругательные отзывы, в трех его хвалили, а две — они-то и показались Билли самыми толковыми и содержательными из всех — отмечали как сильные, так и слабые стороны молодого поэта. Это неплохо, совсем неплохо. Прочти он эти заметки он и со Снизуэллом разговаривал бы чуть по-иному. То есть, он с ним почти не говорил, но из пары десятков фраз, которыми они успели обменяться, вырисовывалась картина явкой зависимости Уильяма Коули от издателя и благосклонно-покровительственного отношения старшего партнера к младшему.
Ладно, завтра он даст понять мистеру Снизуэллу, что вполне уже знает себе цену и не считает публикацию своего романа его издательством благотворительной акцией.
На прикроватном столике зазвонил телефон. Кто бы это мог быть? Если Лоуэлл, он пошлет его подальше.
— Мистер Коули? — высокий женский голос, звучавший в трубке, можно было бы назвать писклявым, если бы не явно звучавшая в нем тональность серебряного колокольчика.
— Да, здесь Уильям Коули, — Билли еще не решил, раздражаться ли ему, или чувствовать себя заинтригованным.
— Вы один, мистер Коули?
— Да, пока что один.
— И вы не ждете гостей?
— Хм, смотря каких гостей…
— Ну, например, мистера Лоуэлла.
— О нет, им я на сегодня сыт, — непроизвольно вырвалось у Билли. — Погодите-ка, а откуда вы знаете Лоуэлла?
— Мистера Лоуэлла трудно не знать, если занимаешься определенным делом.
— Каким делом?
Возникла пауза — небольшая, секунд на пять, но Билли забеспокоился, решив, что их разъединили.
— Алло, мэм?
— Да, — ответила трубка все тем же высоким голосом.
— Вы сказали о занятии каким-то делом?..
— Я думаю, это не имеет особого значения. Итак, вы один в номере?
— Один. Вы собираетесь меня ограбить?
— Возможно, — ответила трубка и умолкла.
Билли пожал плечами, положил трубку на аппарат и подумал о том, что Нью-Йорк — веселый город, и отель «Ридженси» в нем не самое скучное место.
Минут через пять в дверь номера осторожно постучали. Билли, уже собиравшийся идти в ванную, открыл.
На пороге стояла та девушка, которую Лоуэлл назвал Мэрджори Янг.
— Привет, — сказала она. — Похоже, вы меня не обманули.
— В каком смысле? — начал было Билли, но тут же все понял. — Это вы только что говорили со мной?
— Вы поразительно догадливы, — кивнула она, оставаясь серьезной. — Может быть, вы выйдете в коридор, или я войду в комнату. Не очень-то удобно разговаривать через порог.
— О, простите! Входите, прошу.
Она вошла. Одета она была все в то же светло-серое платье, в руке держала сумку. Длинные загорелые ноги, открытые до колен, гибкая фигура, в которой, однако, отсутствовало то, что называется «женской хрупкостью». «Ленивая грация дикой кошки», — подумал Билли. — Хоть и избитое сравнение, но верное».
— Вы неплохо устроились, — Мэрджори окинула взглядом номер.
— Не знаю. Я совсем не знаю Нью-Йорка и не в состоянии понять, что значит устроиться здесь хорошо или устроиться плохо.
— Да? А какой город вы знаете?
— Бостон. Я жил там какое-то время.
— Вот как? А я-то считала вас настоящим южанином.
— Мне очень жаль, мэм, что я обманул ваши ожидания, — Билли взглянул на нее и бесхитростно улыбнулся.
Она тоже улыбнулась в ответ.
— Вы совсем не похожи на робкого провинциала, — сказала Мэрджори.
— И опять я вас разочаровал, да?
— Нет, но вы очень разочаруете меня, если у вас не найдется пары стаканов.
Она раскрыла сумочку и вынула оттуда бутылку виски.
— Это вовсе не дешевый самогон, к которому вы привыкли, а настоящее шотландское виски, к тому же ввезенное контрабандой.
— Что вдвое повышает его ценность, — в тон ей продолжил Билли. — А если еще учесть, что в мой номер его доставила столь прекрасная девушка, то этому напитку и вовсе цены нет.
Он позвонил вниз и попросил подать в номер две бутылки лимонада и два стакана. Не позже, чем через пять минут заказ был исполнен.
— Вот теперь я начинаю понимать, что значит неплохо устроиться, — рассмеялся Билли.
Он разлил в стаканы немного виски, и они выпили. Виски оказалось превосходным.
— Просто сказки тысячи и одной ночи, — Билли помотал головой. — Так и ждешь, что кто-нибудь явится и скажет: ну, все, малыш, выметайся, игры закончились.
Они оба рассмеялись беззаботным смехом.
— Нет, не волнуйтесь, — сказала Мэрджори, — сегодня этого уж точно не случится.
В ответ на вопрошающе-веселый взгляд она многозначительно подмигнула.
Мэрджори осталась в его номере на всю ночь. Она совсем не напоминала в постели ту несколько замкнутую и отчужденную девицу, образ которой начал складываться у Билли после вечера в ресторане. Она была очень естественной и милой, отдаваясь с радостным воодушевлением, словно ей пришлось заниматься любовью в первый раз в жизни.
Под утро она осторожно выбралась из постели, стала одеваться. Билли, полуприкрыв глаза, рассматривал светлые полоски незагоревшей кожи на бедрах и спине. Потом она подсела к нему и поцеловала в лоб.
— Ты уходишь? — спросил он. — Так рано?
— Не хватало еще, чтобы меня увидела горничная, — она тряхнула копной густых темных волос. — Если ты хочешь увидеть меня еще раз, то позвони в четыреста шестой номер, здесь же, в «Ридженси».
— Вот как?
— Да, вот так, — он состроила ему детскую гримаску. — Пока желаю удачи.
Он проспал еще часа два, с удовольствием ощущая сквозь полудрему приятный запах ее духов на простыне и подушке.
Около десяти утра Билли позвонил Снизуэллу. Издатель ждал его у себя на 9-й авеню. Когда Билли, расплатившись с таксистом, поднял глаза на дом, в котором размещалось издательство Лоуэлла, он подумал, что сказки Шехерезады продолжаются — здесь было по меньшей мере тридцать этажей. И Лоуэлл, как оказалось, занимал три из них. Он встретил Билли в обширном кабинете, за столом, обставленным мягкими кожаными креслами, хранившими, как почудилось Билли, запах дорогих сигар.
Но Билли тут же заставил себя не слишком поддаваться чарам комфорта, вспомнив те самые три доброжелательных отзыва о «несомненно талантливом» Уильяме Коули.
Он выложил на стол рукопись.
— Мистер Снизуэлл, мне бы хотелось, чтобы вы побыстрее дали ответ.
— А что значит — побыстрее? — осторожно спросил издатель, но в глазах его загорелись веселые искорки.
Билли улыбнулся.
— Если уж вы захотите напечатать эту вещь, то для того, чтобы у кого-то сложилось мнение о ней, достаточно недели — именно за это время можно, не торопясь, прочесть ее.
— Идет, — серьезно ответил Снизуэлл. — Позвоните мне через четыре дня, если уж вы так спешите, и я дам вам ответ.
На том они и расстались. Лоуэлл, когда Билли рассказал ему о разговоре с издателем, остался не совсем довольным:
— Я же предупреждал вас, мистер Коули, не надо на него давить. Вы себе не представляете, сколько времени и сил я затратил на обработку Снизуэлла. И еще меньше вы представляете себе, сколько шустрого, пробивного народа атакует его ежедневно и ежечасно, пытаясь «протолкнуть» свои творения или творения своих клиентов.
— Очень даже представляю, — Билли вспомнил мельтешение людей в издательстве Снизуэлла. — Но я считаю, что и излишнее рассыпание бисера много пользы не принесет. Это во-первых. А во-вторых, я не собираюсь злоупотреблять гостеприимством даже такого города, как Нью-Йорк.
Лоуэлл воспринял это как намек и выплатил ему остающуюся часть гонорара за сборник стихов.
Возвратившись в «Ридженси» к вечеру, Билли сразу же позвонил Мэрджори Янг:
— Детка, ты не хочешь показать мне огни города прохладной ночью конца августа?
Она захотела, и они прогуляли до часа ночи, вернувшись в отель усталыми и умиротворенными.
Оказалось, что Мэрджори и в самом деле скоро отправится на гастроли по южным штатам. Собственно говоря, поездку в такое время гастролями нельзя было назвать. Лоуэлл был прав, называя труппу, в которой участвовала Мэрджори, бродячей. Руководил ею некий О’Лири, начинающий драматург, по словам Мэрджори, гений.
Он спал с Мэрджори, гулял с нею по Лонг-Айленду, любовался океаном и видом небоскребов на фоне чистого предзакатного неба.
— Ты странный, — говорила Мэрджори, — ты производишь впечатление человека, который знает, что ему осталось жить несколько дней, но он проводит их не в безудержном веселье и не в подавленном унынии, а с деловой, обстоятельной неторопливостью.
— В тебе говорит впечатлительность поэтессы и актрисы, — посмеивался Билли. — А жить мне и в самом деле осталось несколько дней — до решающего разговора с издателем. Я ужасающе невежествен в подобных вопросах, но в то же время не хочу в них слишком уж углубляться.
Он появился у Снизуэлла в назначенный день, и издатель заявил:
— Я беру у вас этот роман, но с одним условием — я, что называется, закупаю его на корню, то есть, он поступает в мое единоличное распоряжение.
— О’кей, — согласился Билли, — я подпишу с вами такой договор, но перед этим я еще должен подумать, сколько хочу получить с вас.
Он сразу же бросился разыскивать Лоуэлла. Адвокат и литературный агент в одном лице, еще совсем недавно увещевавший Билли, предостерегавший его не вести себя слишком независимо в отношениях со Снизуэллом, теперь запел в совершенно иной тональности:
— Ох, мистер Коули, не стоит соглашаться на его условия. Чует мое сердце — ваш роман будет «бомбой». Вы все куда-то спешите, нет бы дать почитать ваше произведение какому-нибудь критику до того, как он попал к Снизуэллу. А теперь тот учуял материал, на котором можно будет здорово подзаработать и хо — чет получить на ваш роман все права.
— Хорошо, — прервал его излияния Билли. — Если его не возьмет Снизуэлл, на обработку которого вы, судя по вашим утверждениям, потратили столько сил и времени, то кто возьмет роман кроме Снизуэлла?
— У меня есть еще на примете пара-тройка издателей. Я имею в виду таких, которые наверняка возьмут. Например, «Бэнтам букз». Но там должны внимательно просмотреть рукопись.
— Послушайте, да ну их к дьяволу, — Билли махнул рукой. — Давайте поторгуемся, как следует, со Снизуэллом. Может он мне заплатить, допустим, тысяч тридцать?
— Сразу?
— Нет, конечно. Сразу пусть заплатит какую-то часть.
Они обсудили с Лоуэллом условия, на которых можно будет согласиться на то, чтобы Снизуэлл получил все права на роман, и уже на следующий день с проектом договора отправились к издателю.
— Хорошо, — Снизуэлл согласился неожиданно легко, что опять привело Билли в замешательство. — Вы даже получите аванс в двадцать тысяч долларов. — И за все по договору вы получите сорок тысяч — в том случае, разумеется, если книга будет хорошо распродаваться, сюда входят и потиражные.
Билли, которому весь этот торг уже изрядно надоел, согласился и подписал договор, по которому Снизуэлл получал все права на роман, в присутствии Лоуэлла.
— Ну, старина, — заявил литературный агент, когда они остались наедине, — если станете знаменитостью, не забывайте человека, отправившего вас в первое плавание.
— С чего это вы решили, что я буду более знаменит, чем сейчас?
— Э, Снизуэлл наделен абсолютным чутьем по части бестселлеров. Ему даже консультанты не нужны. Вот только опасаюсь я, что мы с вами все же продешевили.
— Ладно, мы свое еще возьмем, — беззаботно сказал Билли. Результаты и так превосходили его ожидания.
Он рассказал Мэрджори о своих переговорах со Снизуэллом. Она тоже была наслышана об исключительном чутье издателя на будущий успех произведения.
— А вот мне не посчастливилось договориться с ним, — покачала она головой.
— Значит, ты мне завидуешь?
— Что ты! Ведь ты мужчина. А что положено Юпитеру, не положено быку. И потом — нельзя сбрасывать со счетов моего особого к тебе отношения, — она поцеловала его в щеку. — Надеюсь, ты будешь вспоминать обо мне иногда.
— Да что ты, Мэрджори, почему же иногда. Будь у меня столько денег, сколько у моего дяди, я бы женился на тебе и запретил тебе быть актрисой, как поступил мой дядя со своей женой. Только с моей стороны это не более, чем благие намерения — ты же, ко всему прочему, еще и поэтесса. Ты можешь написать мне в мою Тару.
Попрощавшись с Мэрджори, попрощавшись с Лоуэллом, он уехал из Нью-Йорка. «Господи, да что же это мне все сплошь актрисы попадаются и все ужасно независимые, вот напасть-то», — в его самоиронии было достаточно горечи.
Осенью того же года они смогли вернуть Барту его пятьдесят тысяч, которые тот давал на устройство ткацкого производства. Теперь уже Уэйду стал помогать Генри. Билли же никак не мог оторваться от своих дел, целиком захвативших его.
13
К Рождеству он получил бандероль от Лоуэлла. Бандероль была довольно увесистой. Вскрыв ее, Билли обнаружил экземпляр книги. На обложке стояло его имя. «Земля пребывает вовеки». Он поставил названием цитату из любимого им Экклесиаста.
В бандероли обнаружилась и приписка, даже целое письмо:
10 декабря 1921 года
Нью-Йорк
Мистер Коули!
Вы оценили оперативность Снизуэлла? Поверьте моему опыту — столь быстро не печаталась еще ни одна книга. Он сразу выпускает ее в твердой обложке, как вы смогли убедиться. Но не это главное — до меня дошли слухи о том, что он хочет печатать какую-то часть тиража в Европе, где у него есть филиал его издательства. Вот тут-то мы с Вами и погрызем локти — когда он еще, чего доброго, начнет распродавать права на публикацию другим европейским издательствам. Я буду держать Вас в курсе событий.
Счастливого Рождества.
Ваш Бенджамин Лоуэлл.
Прочтя послание Лоуэлла, Билли удивленно пожал плечами — адвокат, похоже, перегнул палку, заподозрив Снизуэлла в торговле правами в Европе на, по существу, еще не вышедшую книгу. Какие-то у Лоуэлла странные фантазии.
А под Новый год он получил письмо от Мэрджори Янг. Она писала о том, что сейчас занята в нескольких спектаклях, которые их главный режиссер О’Лири ставит по своим пьесам. Сейчас они играют в Ричмонде, в ее родной Виргинии. Спектакли имеют бешеный успех, все проходят при полном аншлаге. Газеты несколько раз уже писали об их труппе — в Северной Каролине, Теннеси, Кентукки и даже в их Джорджии. Еще Мэрджори писала, что до нее дошли слухи о предстоящем оглушительном успехе «Земли».
Это уже просто заинтриговало Билли. А что, если Мэрджори и Лоуэлл сговорились и просто трунят над ним? Но он тут же отбросил такое предположение. Нет, скорее всего это просто обычные окололитературные сплетни. А Мэрджори обращает внимание на его дела, значит, он ей не безразличен.
Он принялся за отложенную повесть. Ничто не отвлекало его, он был счастлив. Он даже не ощущал одиночества. Вечерами бродил по кедровой аллее, выходил на проселочную дорогу, смотрел на унылые поля, на гряду синеющего на горизонте леса, возвращался в дом, где каждый вроде бы был занят своим делом и друг другом — Уэйд тихо беседовал с зятем о делах на их фабрике, Конни и Аннабел обсуждали дела домашние, а ему оставалось беседовать разве что с нянюшкой Люти, ставшей уже почти бесплотной, словно дух этого дома. Но Люти часов по двадцать в сутки дремала в своей каморке на первом этаже, да и собеседницей она оказалась неважной, как Билли убедился.
Иногда он садился в автомобиль, выезжал из сарая, ехал по проселку, доезжал до Джонсборо, проезжал там мимо знакомого отеля, потом ехал в Атланту, покупал там целый ворох прессы, возвращался и читал. И в самом деле, там встречались заметки о театре О’Лири. Что ж, Мэрджори нисколько не преувеличивала популярности «гения», а относительно его, Уильяма Коули, книги существовали, наверное, пока что одни слухи. Он с удивлением прислушивался к себе: вот оно, честолюбие, вот она, потребность нравиться другим. А уж он-то вроде бы и не всерьез начинал заниматься литературой, даже подтрунивал сам над собой на первых порах.
Но то, что случилось с ним, вернее, с его «Землей», превзошло все ожидания. Билли был не первым представителем человечества, на себе почувствовавшем, что означает фраза: «В одно прекрасное утро проснуться знаменитым.»
Сначала он заметил эту книгу в книжном магазине в Атланте. Продавец сказал, что это новая, нашумевшая вещь, раскупают ее очень быстро, и он собирается закупить еще пару сотен экземпляров.
Потом пришло известие оттуда, откуда Билли и не ожидал — из Чикаго. Барт Гамильтон писал, что довольно часто слышит разговоры о книге Уильяма Коули.
Наконец, в начале марта пришла телеграмма от Лоуэлла. В ней стояло всего два слова: «Срочно приезжайте». Ему не оставалось ничего иного, как поехать.
Лоуэлл встретил его в своей адвокатской конторе, лицо его казалось озабоченным. Он молча подал Билли руку, указал на стул.
— Послушайте, Бен, — не выдержал Билли. — Давайте не будем разыгрывать друг перед другом роли авгуров. У нас и в самом деле какие-то проблемы?
— Разумеется, старина, — Лоуэлл был предельно серьезен. — Нас провели, как воробьев на мякине. Это называется упущенной выгодой. Сукин сын Снизуэлл печатает уже третий тираж. Гонорар вы получаете только за первый, который составил всего пятьдесят тысяч экземпляров. Второй уже был сто тысяч, а третий — двести. Процент от каждого последующего тиража убывает вдвое. Так что сумма, которую вам предстоит получить, не превысит пятидесяти тысяч. А если бы мы учли возможность таких огромных тиражей, да еще публикацию романа в Европе, мы бы заработали тысяч до двухсот.
Цифра эта впечатляла, что и говорить, но Билли, никогда не державший таких денег в руках, отнесся к заявлению Лоуэлла недоверчиво:
— Да будет вам, Бен. Так, наверное, не бывает. Если вам верить, то любой бумагомаратель за два-три года может стать миллионером.
— Да в том-то и дело, черт побери, что вы — не любой. Как знать, может быть, вам больше не удастся написать вторую такую книгу. А эта уже сейчас имеет скандальный успех. Вы знаете, что «Землю» уже издают во Франции. На французском языке, естественно. И я завален письмами и телеграммами от издательств, но у меня связаны руки — ведь Снизуэлл получил на роман все права.
— Эй, Бен, я что-то не пойму, кто из нас литературный агент — я или вы? Не вы ли похвалялись опытностью в вопросах книгоиздательства и книжной продажи? Еще в первую нашу встречу, вы, помнится, еще хвалились и тем, что как юрист, съевший собаку на исках и тяжбах, можете прижать любого книгоиздателя. За чем же сейчас дело стало? Разве Снизуэлл — не «любой книгоиздатель»?
— В том-то и дело, что нет, — огрызнулся Лоуэлл. — У него десятка два адвокатов, каждый из которых, как минимум, меня стоит. Не надо было вам так спешить, Билли, стоило с ним еще поторговаться.
Билли подумал о том, что надо подыскать себе другого агента. А вслух он сказал:
— Да полно вам, Бен. Что уж теперь сожалеть о том, чего не вернешь? Пятьдесят тысяч для меня — очень большие деньги. Я на них года четыре могу жить припеваючи. А за это время, глядишь, и еще что-нибудь накропаю. И потом неизвестно, как бы все дело повернулось, будь вместо Снизуэлла кто-то другой. Может быть, он и не сумел бы обеспечить такой успех моей книге.
Да, хотя Снизуэлл, по утверждению Лоуэлла и ободрал его, как липку, он обеспечил Уильяму Коули широчайшую известность. Это, по существу, была первая публикация — ведь не брать же в расчет печатание в журнале его рассказа да тоненькую книжку стихов тиражом в две тысячи экземпляров. Итак, первая крупная публикация принесла автору известность даже за океаном. Такие случаи в истории литературы можно перечесть буквально по пальцам. А если еще к этому прибавить, что автору едва исполнилось двадцать два года, то остается только недоумевать, как такое вообще могло случиться.
Билли читал заметки о некоем Уильяме Коули, и, кажется, не до конца еще отдавал себе отчет в том, что речь идет о нем самом.
Он вернулся в Тару, где его уже ждало письмо от Джессики Фонтейн: «Мне, наверное, теперь следует скрывать факт знакомства с тобой — уж очень подробно ты описал меня в своем романе. Тот факт, что твой Джеффри Драйден — импотент и друг детства героини, не делает ее привлекательной. Вот если бы ты написал обо всем, что было между нами, получилась бы довольно классная вещь. И вообще — две знаменитости на один небольшой округ в Джорджии — это многовато, ты не находишь? Так что, когда меня спрашивают, не знаю ли я лично писателя Уильяма Коули, я отвечаю, что он живет в Джорджии, но достаточно далеко от меня. Джессика Фонтейн.»
Билли скомкал письмо и швырнул его в угол. Какая она, оказывается, дура: «получилась бы довольно классная вещь», «две знаменитости на один небольшой округ». Черт бы побрал этих Фонтейнов! Верно говорил дед, что у них в роду все полусумасшедшие. Да они под стать О’Фланаганам, если уж на то пошло, разве что О’Фланаганам не посчастливилось заработать столько денег.
В один прекрасный апрельский день у дома в Таре остановился открытый «додж» черного цвета с тремя мужчинами в нем. Двое из них вышли, оглядываясь по сторонам. У одного из вышедших через плечо был переброшен на ремне фотоаппарат с огромным зеркало — «блицем».
Тут-то уж Билли мог не сомневаться — эти люди приехали к нему. Он неторопливо вышел навстречу журналистам. Тот, который был без фотоаппарата, заметив Билли, торопливо пошел ему навстречу:
— Мистер Коули, если не ошибаюсь?
— Вы не ошибаетесь, привет.
— Мистер Коули, меня зовут Дуглас Корнби, я из «Атланта Стар». Вы не можете уделить мне несколько минут внимания?
«Несколько минут? — подумал Билли. — Они, наверное, полагают, что здесь днем и ночью не протолкнуться от газетчиков, хотя они-то и есть первые ласточки».
И он сказал репортеру:
— Да, пожалуй, с десяток минут я смогу уделить вам, мистер Корнби.
— Вы разрешите сфотографировать вас, мистер Коули?
И, не дожидаясь ответа, он махнул человеку с «лейкой». Уильям Коули был запечатлен на фоне усадьбы.
— Это ваш дом, мистер Коули?
— Нет, это дом моего деда, мистера Уэйда Гамильтона.
— Где вы, в основном, создаете свои произведения?
— Зимой в своей комнате, а летом — на сеновале, — не сморгнув глазом, соврал Билли.
— Вот как? — Корнби начал торопливо записывать в своем блокноте. — Вы участвовали в войне?
— Да, я был военным летчиком.
— Вы были ранены, мистер Коули?
— Нет. И давайте в этом отношении расставим точки над «i». Джеффри Драйден — это вовсе не я. Он, кстати, журналист в романе, а я сроду не был журналистом. Хотя я очень уважаю эту профессию, — поспешно добавил Билли. — Ранения, повторяю, тем более такого, какое было у Драйдена, моего героя, я не получал, так что пусть мои читатели, а особенно читательницы меня не жалеют, — он широко улыбнулся.
— О’кей, — Корнби лихорадочно записывал.
— Что же касается героини, — если эту идею подсказал Билли бесенок, сидевший у него за ухом, то сейчас бесенок должен был удовлетворенно хихикать и потирать ручонки, — что касается героини, то она списана с реально существующей девушки, жившей здесь неподалеку.
— Вот как? — рыбак, вытащивший рыбину весом в пятнадцать фунтов, наверняка выглядел бы менее счастливым по сравнению с Корнби. — Вы сказали: жившей? Значит, она сейчас не живет здесь?
— Видите ли, даже если бы она и жила здесь, то ей, наверное, не очень бы хотелось, чтобы ее имя упоминалось только в связи с «Землей». Она и без того уже достаточно известна. Извините, мистер Корнби, но мне бы не хотелось больше распространяться на этот счет.
Он мог быть уверен в том, что газетчик безошибочно выйдет на след Джессики Фонтейн — «второй знаменитости» в округе.
Корнби задал еще несколько стандартных вопросов, касающихся планов новой джорджианской знаменитости. Новая джорджианская знаменитость ответила, что пишет сейчас роман, который намеревается предложить издательству «Бэнтам букз».
Через пару дней он уже с удовлетворением читал «Атланту Стар», где сообщалось, что Уильям Коули работает не меньше шестнадцати часов в сутки, что он с трудом выкроил полчаса для репортера «Атланты Стар»: «Я коренной южанин, — сказал Уильям Коули, — будь это журналист-янки, я бы, пожалуй, сослался на занятость».
Естественно, этот сукин сын в два счет откопал и другую джорджианскую знаменитость: «довольно известная голливудская актриса». Имени актрисы не сообщалось, но известная актриса в их округе была только одна. Особенно же Билли понравился пассаж про сеновал и упоминание об издательстве, к которому не имел никакого отношения Снизуэлл, как и оно к нему.
На снимке он получился вполне узнаваемым, дом — тоже.
«Очень жаль, — подумал Билли, — что у меня нет адреса второй джорджианской знаменитости. Надо бы отослать ей экземпляр газеты».
Через пару недель он получил от Лоуэлла экземпляр «Земли» на французском языке. В бандероли, как всегда, оказалась приписка — Лоуэлл сообщал, что провел предварительные переговоры с лондонским отделением «Пан букз», и они якобы готовы взять на себя публикацию его будущего романа.
Не откладывая устройства судьбы романа в долгий ящик, Билли тут же съездил к Лоуэллу, вспомнив про себя, что не так давно зарекался иметь с ним какие — то дела. Агент устроил ему встречу с представителем «Пан букз». Билли настоял на том условии, что издательство может выпускать роман любым тиражом, но никаких исключительных прав, как это было в случае со Снизуэллом, оно не приобретает.
Тайком от Лоуэлла он посетил еще два довольно безызвестных нью-йоркских издательства. Теперь он начинал понимать, что значит имя в литературном мире. Он мог диктовать условия, и только в том случае, когда его требования даже ему самому казались несколько завышенными, если не сказать большего, ему вежливо отвечали: «Извините, мистер Коули, но это стоимость чуть ли не половины тиража. Мы, конечно, попытаемся изыскать средства…»
Отголоски его интервью репортеру «Атланты Стар», оказывается, достигли и Нью-Йорка. Мэри Филдинг, которую он нашел в том же кабачке на Бродвее, где когда-то Лоуэлл знакомил его с Робинсоном, слышала об этом или читала. Она сидела за столиком с каким-то типом в клетчатом кургузом пиджачке, с черными усиками и такими же черными, коротко стриженными и расчесанными на аккуратный косой пробор волосами.
Мэри махнула рукой, приглашая Коули за их столик. Он подумал и решил, что можно принять приглашение.
— Вы так редко появляетесь здесь, мистер Коули, что и впрямь можно подумать, будто вы круглый год только тем и занимаетесь, что пьете виски на сеновале.
— Не понял, — насторожился Билли.
— Э, друг мой, — миссис Филдинг взглянула на него с сочувствием. — Вы не слыхали ответ этого остряка Брайтуэя о вас?
— Кто такой Брайтуэй? — спросил Билли, заметив, как под усиками спутника Мэри Филдинг зазмеилась улыбка. Фамилия спутника была то ли Рафферти, то ли Рапперти, Билли она ничего не говорила он не расслышал толком, но переспрашивать не стал.
— Он из «Таймса». Известный репортер. Освещал события на итальянском фронте. Недавно выпустил сборник рассказов на основе своих военных заметок.
Возможно, Билли что-то и слышал уже об этом Брайтуэе, но сейчас вспомнить не мог.
— Ага, — на всякий случай сказал он, — понятно. И что же это за отзыв?
— Не знаю, стоит ли говорить, лучше вам самому отыскать номер…
— Не буду я этим заниматься, — сказал Билли. — Только мне и дел, что разыскивать всякую пачкотню. Если не хотите говорить, не говорите.
— Но я не хочу выглядеть сплетницей, а тем более доносчицей.
«Ты и так выглядишь и той, и другой. А еще выглядишь самой настоящей сукой».
— Ладно, — пожал плечами Билли, — если не хотите выглядеть сплетницей вы, то пусть мне мистер Рапперти расскажет. Просто сгораю от любопытства.
«Ну, сукин сын, выдавай. Тебе же это доставит неизъяснимое удовольствие, пачкун ты дерьмовый».
— Рафферти, — поправил его мужчина в клетчатом пиджачке.
— Виноват. Мистер Рафферти.
— Ну, я тоже не хотел бы …
«Да хочешь ты, хочешь! Давай, выкладывай, вонючка».
— Он прошелся относительно вашей «Земли». Он сказал, что для того, чтобы писать так, как вы, нужны три вещи: сеновал, кварта виски и полное забвение синтаксиса, — со странной улыбкой доложил мистер Рафферти.
— Великолепно, — Билли за время его доклада и бровью не повел. — Я, собственно, ни от кого и не таюсь — относительно сеновала. А после виски синтаксис, конечно, забывается. Особенно, после кварты. Ведь правильно, мистер Рафферти?
Тот скромненько пожал узкими плечиками.
— А вы тоже разделяете мнение этого Брад, … х, виноват, Брайтуэя, Мэри? — Билли задал вопрос таким тоном, словно спрашивал ее совета относительно покупки нового галстука.
— Относительно сеновала и виски?
«Чванная, бездарная сучка».
— Виски я тоже пью. Правда, в интервью об этом я не упоминал — у нас в Джорджии, как и везде, «сухой закон». Он даже еще раньше был введен, чем везде. Но меня интересует ваше мнение по поводу синтаксиса, а не виски.
— Манера письма, конечно, не совсем привычная…
— Вы полагаете, что традиционная манера письма лучше?
— Нет, я вовсе этого не сказала, — Мэри Филдинг запротестовала так горячо, словно ее уличили невесть в чем.
— Ага, — Билли понимающе кивнул. — А вы, мистер Рафферти?
— Что — я?
«Надо узнать, что же этот пачкун сам успел сделать».
— Вы тоже пишете в традиционной манере?
— Он просто обязан это делать, — Мэри Филдинг отвечала за Рафферти. — Литературный критик не может себе позволить каких-то отклонений от принятых норм.
— … И стандартов, — добавил Билли с самым простодушным видом. — Но я очень благодарен вам, мистер Ра… фферти, за информацию.
Умненький мистер Рафферти опять скромно улыбнулся в свои холеные усики.
— Кстати, миссис Филдинг, — Билли спохватился, словно вспомнил чрезвычайно важную весть, — я видел ваши стихи в «Скрибнерс». Это великолепно!
Оттопыренные уши миссис Филдинг, полуприкрытые короткими волосами, стриженными, как всегда, то ли под пажа, то ли под Пьеро, порозовели.
— Вы в самом деле так думаете, мистер Коули?
— Что вы, мэм! Оттого-то у меня и все неприятности, что я всегда говорю только то, что думаю.
На следующий день он навел справки о Брайтуэе. Лоуэлл знал его только понаслышке.
— Зачем он вам понадобился, Билли? Да мало ли что литераторы говорят за спиной друг у друга.
— За спиной? Не знаю, что он еще там говорил и за спиной, но статью-то его обо мне вы читали?
— Разумеется. Но за нее вы должны поблагодарить его. Лучшая реклама — это ругань вот в таком стиле.
— Может быть. А что же он все-таки говорил, кроме той паршивой статейки?
Билли подумал, что зря он не завел здесь себе если не хороших друзей, то просто хороших знакомых. Он знал только одну Мэрджори Янг, которая здесь, к сожалению, и раньше не жила.
И тогда он вспомнил старика Робинса. Еще когда в прошлом году он бродил с Мэрджори по Лонг-Айленду, его не покидала мысль: а что, если нанести визит Робинсу? Теперь же Билли каким-то чудом разыскал в записной книжке телефон Робинса и позвонил ему. Робинс, к счастью, оказался в Нью-Йорке, оказался в своем доме на Лонг-Айленде и снял трубку. Он помнил Билли Коули и согласился принять его.
— Я с интересом прочел ваш роман, — Билли подумалось, что человек с такими глазами просто не может врать. — Мне он понравился. В этой вещи много поэзии. Гораздо больше, чем в иных стихах. Знаете, я ни от кого не скрывал своего мнения относительно прозы — это самая последняя вещь, за которую стоит браться литератору. По мне — что беллетристика, что газетные репортажи, все едино, разницы большой нет. Но вы, я должен признаться честно, поколебали мои убеждения. Проза, оказывается, может быть и высокопоэтичной.
— Да, но очень многим не нравится мой стиль, — осторожно заметил Билли.
— Плюньте! Любая гениальна вещь рождается, как парадокс, а умирает, как банальность. Пройдет какое — то время, и ваши хулители наперебой станут восхвалять вас. Если, конечно, вы не бросите писать, — старик хитро улыбнулся.
Билли уехал домой успокоенным. Слова Робинса значили для него чуть ли не больше, чем несомненный читательский успех.
В Таре его ждало еще одно письмо от Джессики Фонтейн.
«Билли, я должна тебе сказать, что ты — сукин сын. Я всегда знала, что ты был паршивым нытиком, но никак не ожидала, что ты ко всему прочему окажешься и таким подонком. Мало того, что ты изобразил меня в своем бредовом романе, ты еще имел наглость рассказать этому щелкоперу из «Атланта Стар» обо мне. Я не очень мстительна, но оставляю за собой право на ответный удар. Кстати, один из моих знакомых, увидев на фото в той же «Атланте Стар» твою волосатую грудь, выразил сомнение в том, что волосы настоящие, а не накладные — все так и будут считать, как бы ты ни оправдывался, что своего гнилого Джеффри Драйдена ты списал с себя. Хотя я и знаю, что волосы у тебя на груди настоящие, но в последнее время тоже стала сомневаться в этом».
Это письмо задело его, он должен был признаться себе в этом. Билли разыскал номер «Атланты Стар» с тем злополучным интервью. Все правильно, ворот рубашки широко распахнут, видна волосатая грудь, так как снимок получился довольно четким. Надо будет отыскать этого знакомого Джессики Фонтейн и набить ему морду.
Словно выполняя свою угрозу использовать право на ответный удар, Джессика появилась в новом фильме, который они опять смотрели втроем: Конни, Генри и Билли. Теперь уже тема была не ковбойская, она связывалась с криминальной историей, очень незамысловатой. Джессика (или ее героиня, Билли даже не разделял их) и молодой человек со светлыми усиками любили друг друга, но тут возник злодей, тоже влюбленный в Джессику (или героиню). Мало того, что этот тип похитил драгоценности в доме героини (Билли с удовольствием переносил на мисс Фонтейн все качества этой слащавой дурочки), так он еще подбросил драгоценности молодому человеку со светлыми усиками (типичному кретину, по мнению Билли). Дело кончилось тем, что молодого человека зацапали полицейские, он был препровожден в тюрьму, опозорен в глазах родителей девушки. Но только не в ее собственных глазах. Обманом она вынудила злодея, погубителя своего возлюбленного, признаться во всем, причем, признание это он произнес вслух. Про то, что это именно он подбросил украденные драгоценности, слышали родители девушки — размещенные за какой-то занавеской, как того и требовали законы идиотского жанра.
Злодей был наказан, юный герой вызволен из тюрьмы, девушка вышла за него замуж.
— Я бы сдох от стыда, если бы мое имя стояло в титрах — как сценариста этого фильма, — сказал Билли после просмотра.
На сей раз Конни не стала дискутировать с ним. Ее сын уже был писателем, о котором знало, пожалуй, не меньше народу, чем о Джессике Фонтейн.
Зимой Билли поехал в Европу, но сначала заглянул к Барту Гамильтону в Чикаго. Здесь его ждал сюрприз — Барт теперь жил один.
— А что же с Мод? — осторожно спросил Билли. — Вы были идеальной парой. Во всяком случае, мне так показалось.
— Именно, что показалось, малыш. Это просто удивительно, до чего извращенные бабы мне попадаются. Я, оказывается, был почти не нужен ей как мужчина. Неизвестно, сколько существовал наш треугольник. В треугольнике всегда две особи одного пола и одна — противоположного, правильно?
— Правильно, — ничего не понимая, машинально кивнул Билли.
— И у нас было две женщины и один мужчина.
— Значит, она тебя застукала с кем-то, дядя Барт?
— Если бы. Это я их застукал.
— Ты?.. Кого — их?
— Мод с ее возлюбленной Грейс.
— Вот это да! — вырвалось у Билли. Он мгновенно вспомнил прошлый свой приезд в Чикаго, показавшееся странным поведение Мод и ту самую Грейс.
— Уж лучше бы она мне с мужиком изменяла, — Барт покачал седеющей головой. — Детей она, видит ли, не хотела, никакого иного занятия, кроме кривлянья на сцене, не признавала, а в любви предпочитал Грейс мне. Веселенькая история. Но это должно оставаться между нами, малыш.
— Конечно, — поспешно сказал Билли.
— Я прочел твою книгу. Ты знаешь, очень впечатляет. Словно сам влезаешь в шкуру этого бедолаги Джеффри Драйдена. Да и места наши у тебя здорово описаны. Мне пришлось жить в Таре только в раннем детстве, но, оказывается, я очень много помнил. Твоя книга эту память и проявила. Хорошо было в детстве, правда, малыш?
— Хорошо. — Он понимал, что Барту сейчас, наверное, ничего уже не хочется — ни денег, ни политической карьеры, ни новых приключений. Барт не растолстел больше с тех пор, как Билли видел его в последний раз, но как-то весь обмяк. Черты его лица стали размытыми, кожа казалась смазанной жиром и отливала неестественной краснотой.
Он заключил договор с лондонским издательством на своего «Ветерана» — так он решил назвать роман, где прообразом главного героя послужил Уилл Бентин. То же самое Уильям Коули сделал и в Париже.
Вернувшись домой, в Штаты, он пробыл в Нью-Йорке всего три дня, а потом поспешил в Тару — надо было закончить роман не позже апреля.
14
— Билли, — он задремал часов в пять утра да так и уснул в кресле, а теперь, взглянув на часы, обнаружил, что уже девять. Неизвестно, как давно Конни стучала в его дверь.
— Да, ма, — он потер лицо рукой. Щеки и подбородок покрылись жесткой густой щетиной. Уж пару дней Билли не брился.
— Билли, пора завтракать.
Он подошел к двери и отпер ее.
— Боже мой, ты опять не спал всю ночь, — Конни всплеснула руками.
— Нет, не всю ночь, — он устало улыбнулся. — Несколько часов мне удалось урвать для сна.
— Билли, ты знаешь новость?
— Какую еще новость, ма? Что каурая кобыла ожеребилась?
— Какая же это новость? Это случилось два дня назад.
— Да? А мне показалось, что вчера. Как-то удивительно быстро бежит время.
— Билли, ты совсем свихнешься с этой писаниной. Неужели нельзя работать поменьше?
— Нельзя. Я должен был закончить рукопись пять дней назад, а закончу ее только завтра, если повезет. Так что там еще за новость?
— Джессика Фонтейн приехала. Вчера после полудня.
— Вот как? Ее что же, вытурили из Голливуда?
— Совсем нет. Она приехала повидаться с родителями, а заодно решить тут какие-то дела, связанные то ли с покупкой, то ли со строительством магазина.
— У нее уже так много денег?
— Похоже, — Конни пожала плечами. — Ты бы побрился.
— Для кого, ма? — он хитро прищурился. — Для Джессики Фонтейн?
— Для меня и для бабушки, — Конни поджала губы.
— Хорошо, для тебя и для бабушки побреюсь.
Они встретились с Джесс, можно сказать, на нейтральной территории. Билли возвращался из лавки Мак-Гроу и увидел ее, идущую вверх по дороге. Поравнявшись с Джессикой, он остановил автомобиль.
— Привет, Джесс. Тебе не жарко в этом пальто?
Действительно, пальто с воротником из чернобурки было тяжеловато для джорджианского марта, тем более, что и март подходил к концу.
— Привет, — она не улыбнулась ему, только внимательно посмотрела, словно пытаясь найти какие-то изменения в его облике.
— Ты ищешь скрытые следы разложения? — пошутил Билли.
— Нет. Ты прекрасно выглядишь и глупо было бы надеяться эти следы найти.
— Похоже, это тебя не очень радует?
— Мне это безразлично.
— Вот как? Но раз у тебя когда-то появились сомнения в натуральности происхождения волос на моей груди, значит, ты не беспристрастно относишься к моему физическому состоянию.
Она не ответила, только еще раз посмотрела на него.
— Давай-ка, я тебя подвезу, Джесс.
Он открыл дверцу, и она села рядом с ним. Билли почему-то был уверен в том, что она вот так вот молча сядет и не станет торопить его, чтобы он трогал с места.
— Говорят, ты собираешься скупить здесь подокруга? — Билли наблюдал за ней, ожидая реакции.
— На это у меня денег не хватит.
— Пока что не хватит, да? Но достаточно скоро ты будешь в состоянии купить здесь пяток усадеб, настроить съемочных павильонов и начать соперничать с Голливудом.
— Нет, мне бы не хотелось вкладывать деньги в столь сомнительное предприятие.
— Ого! Что я слышу, Джесс? Уж не надоело ли тебе твое занятие?
— Одно дело — быть актрисой, а другое — содержать студию, — она оставалась убийственно-серьезной.
— Джесс, а зачем тебе понадобилось покупать или строить твой магазин именно здесь? Ты хочешь полкой победы над этими местами?
— А вдруг это зов родной земли? — она впервые улыбнулась. — Почему мы стоим?
— А что мы должны делать?
— Ехать, разумеется.
— Тебе этого хочется?
Она пожала плечами:
— Мы глупо выглядим со стороны.
— Хорошо, — согласился он, — тогда мы поедем. Только куда же нам ехать? Неужели к тебе домой?
— Конечно, я же туда направлялась.
— Но тебе не очень хочется сейчас домой?
Он завел мотор, плавно тронул с места, вырулил на проселочную дорогу. Джессика молчала.
— Кое-кто начинает уже пахать, — он указал на ползущий вдали трактор. — Ты все еще сердишься на меня за «Землю»?
— Уже нет. Вокруг этой книги столько разных разговоров, что я уже подумываю: а не объявить ли во всеуслышание о том, что главная героиня написана с меня. Глядишь, это прибавит мне популярности.
— Что ж, популярность при твоем занятии не последнее дело.
— Не последнее. Уж не в Джонсборо ли ты собрался?
— Нет. Я вдруг сообразил, что там нас сразу узнают, особенно тебя.
— Да, нескучная сценка получится: мисс Джессика Фонтейн и мистер Уильям Коули желают снять номер для занятий любовью. Когда мы оттуда выйдем, в холле отеля яблоку будет негде упасть: все станут просить автограф.
И она рассмеялась, беззаботно и весело.
— Ох, Билли, — продолжила она, — сукин ты сын. Ты явно подбиваешь меня заняться этим делом прямо в твоем автомобиле.
— Если бы сейчас мы были в твоем, то я предпочел бы его.
Он привлек ее к себе и поцеловал Она ответила длинным и страстным поцелуем, прикусив ему нижнюю губу. Он дрожащими руками стащил с нее это дурацкое пальто, стал расстегивать пуговицы на платье. Джесс помогала ему, разоблачаясь с какой-то яростной, отчаянной поспешностью.
Билли взял ее, так напоминающую сейчас ту Джесс, которая напряженно следила за его готовящейся подачей на корте, и увидел, как из-под длинных густых ресниц скатилась слезинка.
— Мы с тобой не занимались этим уже тысячу лет, — сказал он, когда Джесс стала неспешно одеваться.
— И кто в этом виноват? — спросила она, глядя перед собой.
— Не знаю, наверное, я. Но я не могу по-иному. Может быть, мне и стоило бы поехать в Лос-Анджелес, писать для вас сценарии, как это делает Фитцсиммонс, но я бы не смог там долго выдержать, я чувствую.
— А я бы не смогла выдержать здесь.
— Что же поделаешь, все вы, Фонтейны, бродяги. Нет у вас чувства отчего дома.
— Это ты верно подметил. Ты вообще очень многое верно подмечаешь. Ты очень точно написал о том, что я все время помню о тебе, даже бывая с другими. Вот из-за этого я и разозлилась. Понимаешь, это же все равно, что показывать публике мою фотографию, на которой я стою нагишом, и говорить: видите, какая у нее грудь? А задница?
— Вот тебе и на! Ты уж и в самом деле все на себя примерила. Та женщина в романе, кстати, не очень на тебя похожа внешне.
— Главное, что она похожа внутренне. Ты буквально влез мне в душу, а потом эту душу расписал на страницах своей паршивой книжонки.
— Не надо о ней так уничижительно отзываться. Вот увидишь, лет через двадцать на этой книге кое-кто станет делать себе благосостояние, сочиняя критические статьи, по объему превосходящие сам роман.
— Да уж так оно, наверное, и будет. На ней, на этой книге, сейчас уже многие помешались.
— Ага, значит, ты не можешь не признать, что вещь это все-таки стоющая? — смех его прозвучал торжествующе-демонически.
— Кто же с этим спорит? — безразличным тоном ответила она.
— Ну, например, тот твой приятель, который утверждал, что у меня на груди накладные волосы.
— Он просто глупый голливудский жеребец.
— Я собирался набить ему морду. Ты обязана показать мне его.
— Хорошо, как-нибудь обязательно покажу, если случай представится. Давай-ка уже ехать, мне домой пора.
— Как прикажете, мэм. Я могу вас увидеть завтра?
— Да, можешь, черт бы тебя побрал. Я снова привыкну к тебе, вот что самое ужасное.
— Привыкнешь, так и не отвыкай, — он сказал это серьезным тоном и посмотрел на нее в упор.
— Ты же прекрасно понимаешь, что это невозможно.
— Но почему? Джесс, неужели ты не можешь оставить эти свои фильмы хотя бы на полгода?
— Разумеется, нет. Чем я тогда стану заниматься?
— Тем же, чем занимаются миллионы женщин, которые не снимаются в кино.
— Вот еще, проще сразу удавиться, — она передернула плечами, словно он только что сказал ей о какой-то ужасно мерзости.
Он вздохнул и отвез ее домой.
Джессика Фонтейн пробыла в усадьбе родителей еще неделю. За это время она развернула настолько бурную деятельность, что Билли, да и Уэйд с Генри, только разводили руками. Мощный бульдозер фирмы «Катерпиллер», пригнанный сюда из Джонсборо, разровнял участок под строительство здания. Были завезены кирпич, цемент, стальные балки. И «девочка Фонтейнов» распоряжалась всем этим, торгуясь с подрядчиками за каждый доллар и сетуя на нерасторопность строителей, начавших возводить фундамент.
— И откуда что берется? — недоумевал Уэйд. — Бывают же такие женщины. Ну, тут за примерами далеко ходить не надо. Моя мать была такой, еще даже покруче.
Кончилось тем, что Джессика сдала дела своему отцу Лесли Фонтейну и укатила, наскоро попрощавшись со всеми, в том числе и с Билли.
Он поспешно вернулся к своему роману, чувствуя себя так, словно недавно побывал в эпицентре какого-то стихийного бедствия.
Билли закончил роман, практически уложившись в сроки, назначенные издательствами.
ЧАСТЬ ПЯТАЯ
1
— Уже пятые сутки полный штиль, — жаловался мистер Флетчер. — Если бы все это происходило в те времена, когда ходили под парусами, мы бы давно загнулись от жары и тоски. Даже электрические вентиляторы, которых не было во времена парусного флота, не спасают. Как же они все-таки переплывали океан, эти сумасшедшие?
— Очевидно, у них было какое-то средство, — его собеседник, высокий поджарый американец с густыми каштановыми усами, в кепке с длинным козырьком, сидел в шезлонге, вытянув длинные ноги, уже загоревшие дочерна.
— Вы, мистер Коули, просто стоически переносите эту жарищу, — с завистью сказал Флетчер. Он был одет так, как одевается типичный англичанин в тропиках: белые полотняные шорты, такая же полотняная куртка с короткими рукавами и пробковый шлем. Красное, обрамленное рыжими бакенбардами лицо Флетчера лоснилось от пота.
— Уверяю вас, в этом совсем нет моих заслуг, — сказал американец. — Я ведь из штата Джорджия, а у нас там летом почти так же. Такая же солнечная погода.
— Вы называете это погодой, мистер Коули? По мне это пекло!
— Ничего, мы уже стали сваливаться в южные широты, в Кейптауне будет совсем холодно, ведь у них сейчас зима.
— До Кейптауна еще едва ли не неделя хода, — проворчал Флетчер.
— Дня четыре, не больше. Не вешайте нос. «Правь, Британия, морями» — ведь это про вас сказано?
— Наверное, и про меня тоже. Угораздило же нас иметь такую империю, где солнце никогда не заходит. А если еще такое солнце, как сегодня и в предыдущие четыре дня… — он махнул толстой красной рукой, покрытой рыжими волосами.
— Трудно быть гражданином великой державы, — рассмеялся американец. — В этом я с вами согласен. Вам приходится мотаться по белу свету, поспевая во все концы империи, постоянно смотреть за соседями, чтобы они не оттяпали себе кусочек, но зато у вас не было «сухого закона», от которого так страдали мы, американцы. Больше полутора десятков лет жажды. Теперь все позади. «Сухой закон» уже с год, как отменен, кризис, кажется, тоже идет на убыль, так что есть достаточно много поводов для оптимизма. Появятся такие поводы и у вас.
— Ну, лично вас, мистер Коули, кризис не здорово коснулся, как я полагаю, — сказал Флетчер.
— Почему вы так решили?
— Так ведь ваши книги читает весь мир. Вы их писали, кто-то их да покупал — не в одних только Штатах. Так что кризис сам по себе, а вы сами по себе.
— Нет, я тоже почувствовал это на своей шкуре, — покачал головой Коули. — Я большую часть времени, с самого начала кризиса, жил в Штатах, в усадьбе моего деда. Он чуть не разорился. У него были ткацкая и прядильная фабрики, которые пришлось закрыть на время. И фермеры вокруг разорялись. А быть среди всего этого и чувствовать себя счастливым, даже если у тебя есть деньги, просто невозможно, уверяю вас. Да, с моими деньгами я не чувствовал себя счастливым. Правда, без них я был бы еще несчастнее, — он улыбнулся какой-то мальчишеской, застенчивой улыбкой.
— Ваш дед что же, занимается еще делами в его возрасте? — удивленно спросил Флетчер.
— Так ведь он ненамного меня старше — всего-то на тридцать семь лет, — пошутил Коули. — Ранние браки во времена молодости деда и моих родителей тоже были явлением обычным. А относительно возраста я могу сказать вот что: если человек забудет о нем, то он и стареть будет медленнее. У нас, у нашей семьи, есть няня, негритянка, которой сейчас восемьдесят девять лет. Она помнит рабство, прекрасно помнит войну Севера и Юга. И представьте себе, это еще очень бодрая старушка. Она выглядит так, как выглядела и десять лет назад.
— Это все, наверное, оттого, что ей климат вашего штата подходит, — кисло пошутил Флетчер, — где жарко, как в Африке. Только тут черные не особенно долго живут. Особенно на рудниках да шахтах.
Флетчер был горным инженером и он знал, о чем говорил.
— Ладно, уже время готовиться к обеду, — Коули взглянул на часы и бодро вскочил с шезлонга. — Вы остаетесь, мистер Флетчер?
— Да нет, тоже пойду. Может, душ и вентилятор прибавят мне бодрости.
Спустившись с прогулочной палубы, Коули постучал в дверь своей каюты. Невысокая белокурая женщина с большими голубыми глазами открыла ему.
— Как ты, Джоан? — в голосе Коули слышалась озабоченность.
— Уже гораздо лучше, Билли. Через пару дней я окончательно приду в форму, и тебе не придется сожалеть о том, что ты потащил за собой такую развалину.
— Милая ты моя развалина, — он поцеловал ее. — Старая ты моя старуха. Ничего, на этих широтах многие раскисают. Неисследованное медициной явление под названием «лихорадка пятнадцатой широты». Наверное, от нее умер и Наполеон — где-то тут неподалеку остров Святой Елены. Ничего, ты придешь в норму.
Обедали они в кают-компании с капитаном судна мистером Крошоу, высоким, высохшим, словно палка и не потеющим даже в тропическую жару.
Разговоры за обедом вертелись вокруг погоды и политики. Поскольку погода в последние несколько дней стояла на редкость однообразная, то и разговорная тематика давала крен на другой борт.
— С Германией это добром не кончится, помяните мои слова, — говорил Бриджес, англичанин, который, как и Флетчер, ехал работать в какую-то компанию в Родезии. — То, что там к власти пришли фашисты, обязательно будет иметь следствием неприятности для близких соседей — для нас, англичан, и для французов.
— Но ведь в Италии у власти тоже стоят фашисты, — возразил ему один из немногих американцев, тоже, как и Коули, находившихся на борту «Куин Мэри», грек из Нью-Йорка по фамилии Пипиридис. — И там полнейший порядок. Все бандиты сидят в тюрьмах, поезда ходят строго по расписанию, почти нет безработицы. А мы, американцы, только-только начали выползать из самой глубокой ямы за всю нашу историю. У нас полно безработных, на наших улицах средь бела дня палят из автоматов, а если бандиты и попадают в тюрьмы, то только за неуплату подоходного налога.
— Итальянцы — одно, немцы — другое, — стоял на своем Бриджес. — Недаром в мировой войне Италия воевала в союзе с англичанами, французами и американцами против немцев и австрийцев.
«Все они прекрасно разбираются в политике, — думал Коули, — все они прекрасные стратеги, все они выдающиеся философы. Единственное, чего им не хватает, так это ума, чтобы скрыть все свои дарования от других.»
Потом они с Джоан опять вернулись в свою каюту, он лег на жесткую, привинченную к полу койку и стал читать. Джоан, сидя на такой же койке напротив, спросила:
— Это у тебя Фитцсиммонс?
— Да, — ответил Уильям Коули. — Сладенький Фитцсиммонс. Не надо бы ему писать сценарии для Голливуда. Был же у него какой-никакой талант. А он все думал, что сценарии сделают его богатым. Он вообще богатых считал особой кастой, не такими, как все остальные люди. Ошибался. А когда понял, что ошибался, тут ему и крышка. Как ты думаешь, а мне скоро будет крышка?
— Ну что ты! Когда в год делаешь по роману, то, наверное, невольно начинаешь думать, что наступит год, когда ты не сможешь сделать столько, сколько сделал в предыдущий. Ты просто устал, тебе необходимо сменить обстановку.
— Вот мы ее и меняем. Знаешь, это ты верно подметила, что я боюсь, когда приходит следующий год, и у меня ничего не готово. Вот в этом году, например, я еще ни черта не сделал.
— А это и не обязательно, Билли! Тебе тридцать пятый год, а ты уже выпусти целых семь книг.
— Всего семь книг, Джоан! Свою первую книгу — я имею в виду большую, настоящую книгу — я увидел напечатанной, когда мне было двадцать два года. Я был молод, меня обдирали издатели, но я создавал одну вещь за другой, чтобы уж на следующей-то, очередной книге наконец разбогатеть. А теперь есть богатство, но почти нет желания кому-то что-то доказывать. Все проходит — банально звучит, но есть в этом неумолимость формулы. Ты помнишь, еще лет пять-шесть назад в Голливуде мелькала некая Джессика Фонтейн? Ну, выразительная, большеглазая, с высокой грудью, к которой она постоянно прикладывала руку?
— Да, теперь припоминаю что-то, — сказала Джоан. — У нее были такие дивные, густые брови.
— Звук, пришедший в кино, уничтожил ее.
— А ты откуда знаешь про Джессику Фонтейн?
— Еще бы мне про нее не знать. Она была моей соседкой, когда я жил в Джорджии неподалеку от маленького городка Джонсборо. Так вот, Джессика Фонтейн, наверное, тоже все стремилась кому-то что-то доказать. И не наверное, а точно… У нее были деньги, она там, в Джорджии, чуть ли не весь округ скупила. А тут в кино пришел звук, и ей, как выяснилось, просто нечего стало делать.
— И чем она теперь занимается?
— Своими приобретениями: магазином готового платья, теннисными кортами, полем для игры в гольф, конным заводом. В том округе теперь лошадей наверняка больше, чем людей, потому что был там уже один конный завод. Ей бы, Джессике Фонтейн, раньше сообразить, что в кино придет звук, что тогда эта ее пантомима никому не будет нужна, да заняться пораньше этими магазинами и полями для гольфа, а то теперь выясняется, что она и со своим бизнесом вроде как опоздала. Я вот о чем думаю — если у меня ничего не будет получаться с писаниной, может, мне сделаться, например, профессиональным охотником?
— Не болтай ерунды, все у тебя будет получаться. Никто, кроме тебя, не пишет в год по роману.
— Еще и как пишут. И раньше писали. А относительно занятия охотника — из моего деда вполне мог бы получиться профессиональный охотник, если бы не ферма да другие подобные дела. Было бы интересно притащить его с собой в Африку. Будучи совсем молодым, он убил медведя. Понимаешь, там даже во времена его молодости с медведями было туговато. А он умудрился своего медведя уложить. Это я к тому, что везение есть необходимая составная часть таланта охотника. У моего деда и сейчас еще глаз и рука, что надо.
Он помолчал, потом заговорил снова:
— Джоан, совсем тебя измучило это плавание, да?
— Наоборот, я начинаю привыкать, мне все больше это нравится.
— Может быть, из Кейптауна можно будет добраться самолетами? Я дам телеграмму Уильямсу в Найроби. Уильямс — наш будущий опекун, он профессиональный охотник. Белый охотник, как там говорят.
— Вряд ли можно добраться туда самолетами из Кейптауна, — покачала головой Джоан, — ведь это несколько тысяч миль.
— Сейчас-то это уже несложно. Совсем я тебя измучил, старушка?
— Билли, перестань говорить об одном и том же. Я себя прекрасно чувствую. Если уж ты решил меня бросить, так и скажи.
— Ну что ты, детка. Ты же прекрасно знаешь, что я тебя никогда не брошу. Просто я не могу сейчас сидеть на месте, поэтому таскаю тебя за собой… Но самолетами, наверное, возможно — в несколько приемов. Я тебе рассказывал, какие были самолеты лет пятнадцать назад? Это были бамбуковые палочки, обтянутые брезентом. Просто удивительно, как это они не рассыпались в воздухе. Ты хочешь виски?
— Нет, да и тебе, наверное, хватит. Ты пил вино за обедом, а еще два коктейля.
— Дорогая, да ведь это детская доза. — Он поднялся, бросил книгу Фитцсиммонса на прикроватный столик, прошлепал босыми ногами к холодильному шкафу, достал бутылку, пластмассовый стаканчик с кубиками льда, налил себе, не разбавляя водой, только бросив в стакан два кубика.
— Ты не представляешь, как пьют в Джорджии, — продолжал он, садясь на свою койку и отхлебывая из стакана.
— Так же, как и везде, — усмехнулась она.
— Э, нет. Из глиняных кувшинов, вмещающих по три кварты, по полкувшина за раз — этого ты не хотела?
— Нет, — сказали она. — Этого я не хотела никогда. А сейчас я тебя хочу.
В Кейптаун они пришли утром. Было довольно свежо, почти холодно. Город словно бы сползал розовато-белой пеной в бирюзовую воду с холмов.
Корабль должен был простоять здесь почти целый день. Коули вышел вместе с Джоан в город. Он дал телеграмму Уильямсу в Найроби, чтобы тот встретил их через несколько дней в Дар-эс-Саламе.
2
Уильямс оказался краснолицым, не очень высоким, коренастым. На нем был охотничий костюм, состоявший из защитного цвета френча, таких же бриджей и высоких шнурованных башмаков. Голову белого охотника прикрывала широкополая шляпа, когда-то, очевидно, бывшая того же защитного цвета, что и костюм, но теперь совершенно вылинявшая от солнца.
— Я, как вы догадываетесь, получил вашу телеграмму, — сказал Уильямс. — Вещей у вас много с собой?
— Нет, три не очень больших чемодана и еще рюкзак, — ответил Коули.
— Отчаянный вы народ, — покачал головой Уильямс. — А некоторые берут с собой барахла столько, что и в двух грузовиках не вывезешь. Сейчас мы проедемся вон на той развалюхе к аэропорту, точнее — к тому месту, где может сесть самолет.
«Развалюха» оказалась довольно вместительным двухосным автомобилем с брезентовым верхом. Водитель автомобиля тоже был белым, как и Уильямс.
До импровизированного аэродрома, то есть, относительно ровного участка местности, оказалось миль пять. Дар-эс-Салам, промелькнувший за запыленным стеклом, показался Коули декорацией, вырезанной из цельного куска известняка. Людей на улицах было мало, это совсем не соответствовало представлению Коули об этом городе.
Он подмигнул Джоан, переоблачившейся в новый комбинезон цвета хаки, панаму и башмаки с толстой подошвой и сидевшей напротив него на крашенной деревянной скамеечке:
— Все только начинается, старушка.
Самолет оказался почти таким же небольшим, как и автомобиль, разве что корпус его был дюралевым, но скамеечки внутри очень напоминали те, что были в автомобиле.
— Мы сейчас летим в Арушу, — сказал Уильямс. — Все интересное можем увидеть уже сейчас.
Места в салоне самолетика — если это можно было назвать салоном — оказалось мало. Чемоданы и рюкзак заняли почти все пространство, свободное от трех тел. Кресло пилота находилось прямо перед пассажирами.
Сначала мотор оглушительно затрещал, фюзеляж самолета задрожал противной мелкой дрожью, потом треск мотора перешел в ровный рев. Самолет немного развернулся и, слегка покачиваясь на неровностях поля, побежал. В окошках замелькали далекие кустарники и деревья, там и сям разбросанные по желтой равнине. Потом последовал несильный толчок, кучки деревьев и кустов быстро ушли вниз, к земле, будто сплющившись. Открылась панорама, которую нельзя было увидеть снизу: звериные тропы, тянущиеся цепочками к пересохшим водопоям, несколько неглубоких водоемов, которые еще не высохли, горы на горизонте.
— Глядите-ка, сколько зверья сразу, — Уильямс, перекрикивая рев мотора, показывал в иллюминатор.
Там, внизу, бежали зебры — сверху были видны только их округлые спины, на которых нельзя было разглядеть полос — и антилопы-гну. Животных и в самом деле было много, они растянулись в несколько цепочек. Когда тень самолета падала на них, они отчаянно шарахались в сторону.
Но потом зебры и антилопы стали совсем крохотными, и нельзя было различить уже, бегут они или стоят на месте. Цвет равнины из желтого сменился на сероватый, вскоре пошли предгорья, где антилопы карабкались вверх по едва заметным тропам. Затем возникли горы, серые, с ярко-зелеными зарослями в ущельях, со склонами, покрытыми молодой бамбуковой порослью.
Растительность постепенно редела, исчезала, горные пики становились острее, ущелья — темнее. Они видели однообразную картину в продолжение полутора часов, потом вдруг что-то стало наплывать сбоку, с северной стороны, и они увидели квадратную белую вершину, даже на таком расстоянии казавшуюся огромной.
— Вот она, красавица, — Уильямс выглядел очень довольным, будто это величественное, сверкающее льдом и снегом творение природы было делом его рук.
— Килиманджаро. Почти двадцать тысяч футов. Масаи называют вершину горы «Домом бога».
А гора проплывала сбоку — величественная, безмолвная. Казалось, и рокот мотора не мог достигнуть этой холодной, безжизненной поверхности. Они пролетали мимо горы необычайно долго, словно бы самолет завис в воздухе и не продвигался вперед.
Коули прильнул губами к уху жены:
— Вот, детка, только ради этого стоило попасть сюда.
Вскоре опять пошли горные озера, заблестели, словно струйки расплавленного металла, бегущие речки, зазеленели ущелья. Минут через десять самолет приземлился в Аруше.
С непривычки к высоте было тяжело дышать, сердце учащенно билось.
— У вас может поначалу кружиться голова, — предупредил Уильямс. — Здесь высота над уровнем моря до четырех тысяч футов. Ничего, скоро мы спустимся пониже.
Они заночевали в небольшой гостинице. Ночью было слышно, как где — то работает радиостанция. Попискивание, сигналы, обрывки музыки, слова незнакомой речи. В гостинице было опять две койки, что напомнило им каюту корабля.
Джоан не стала спать на своей постели, перебралась к нему, стало тесновато. Но Коули было очень приятно, что Джоан сейчас с ним — вот так, совсем рядом, тесно прижавшись. Она спала, положив голову на его плечо. Англичанка, которая была старше его на два года, имевшая двоих, уже почти взрослых, детей.
Она разошлась с мужем давно, больше десяти лет назад. Уильям Коули никогда не спрашивал о том, что это был за человек. Бывший муж Джоан был ему безразличен.
Он лежал и думал о том, как хорошо, что Джоан с ним сейчас. И как плохо, что они не нашли друг друга раньше.
Да, он встретил ее чуть больше трех лет назад. Он только что развелся тогда. Удивительная вещь, сейчас в Атланте живет женщина, с которой он прожил без малого шесть лет, а он эту женщину почти не вспоминает. Получается, что просто нечего вспоминать. Эстер, так зовут женщину, которая была его первой женой. С ней живет его сын, которому в этом году исполняется девять лет. Когда сын подрастет, хорошо бы взять его с собой вот в такое путешествие. Он славный парнишка, Эрни. Только бы мать не испортила его своим воспитанием. Нет, обязательно испортит. Женщина-трясина, женщина-пустыня, женщина-катастрофа. Остается спросить себя, как это его угораздило жениться именно на ней, да еще жениться в Атланте. У Эстер все время простодушное выражение лица. Этим-то она его, наверное, и пленила. Он привык видеть печать лицемерия на лицах окружавших его в то время людей, а тут вдруг наивность и непосредственность. Святая, можно сказать, простота. А потом эта женщина стала делать из него нечто, похожее на предмет домашнего обихода. Это было хуже, чем если бы он был альфонсом. В той ситуации его нельзя было назвать альфонсом по двум причинам. Во-первых, после выхода третьего романа денег у Коули было, пожалуй, побольше, чем у отца Эстер, владеющего самым большим отелем в городе. А во-вторых, положение альфонса обязывает его постоянно заботиться об утолении сексуального аппетита своей дамы, у Эстер же этот аппетит был более чем умеренный. Ей, наверное, стоило бы родиться мужчиной и дослужиться до чина полковника. Эстер наверняка бы дослужилась. Очень жаль, что он прожил с нею эти шесть лет. Она считала занятие мужа чем-то несерьезным. Черт бы их побрал, эти уважаемые семьи Атланты! Она чуть не погубила его. Муж-писатель устраивал ее гораздо меньше, чем муж-бизнесмен, муж-биржевой маклер и даже, наверное, муж-водитель трамвая.
И Джоан все это время была с другим. Это ужасно несправедливо — то, что они не встретились лет на десять раньше. Нет, лучше на двенадцать лет раньше — он, кажется, именно тогда был в Лондоне в первый раз. Все равно, и это не помогло бы — она к тому времени уже была замужем. Ее сыну уже семнадцатый год.
Становится холодно, подумал он, а здесь только эти тонкие одеяла, напоминающие армейские. Хорошо бы забрать еще то, что Джоан оставила на своей кровати, когда перебиралась к нему. Ничего не получится, тогда он разбудит ее.
Джоан почти всю жизнь провела в Лондоне. Из всех видов спортивных развлечений знала только теннис. Он научил ее стрелять. И Джоан оказалась способной ученицей. Коули почему-то казалось, что она будет закрывать глаза на первых порах, когда нажимала на спуск. Но этого не произошло. Сюда она взяла свое отлично пристрелянное ружье — «манлихер» калибра 6,5.
Интересно, подумал Коули, ей самой никогда бы и в голову не пришло заниматься охотой на крупного зверя. Да и вообще охотой она не стала бы заниматься. Может быть, она научилась всему этому только потому, что так нравилось ему, Уильяму Коули? Она вообще во многом слушалась его. Женщина с большим житейским опытом, она, наверное, имела полное право относиться к нему, как к своему сыну, которому пошел семнадцатый год.
Утром их разбудил осторожный стук в дверь. Это был бой, посланный Уильямсом. Коули посмотрел на часы — половина седьмого.
Вода из-под крана отдавала ржавчиной, очевидно, она поступала в кран из какого-то железного бака. Но полотенца, оставленные вчера для них боем, были чистыми и довольно приличными на вид.
Уильямс ждал их в холле за накрытым столом. Кофе, консервированный апельсиновый сок, зато абрикосы свежие и копченое мясо антилопы куду — как уверил Уильямс, тоже свежее. Кофе, который сварил бой, получился удачным.
Когда они закончили завтрак, Уильямс отдал бою какое-то распоряжение на суахили, тот ответил:
— Ндио, бвана[20], — и стал убираться.
Уже выйдя из гостиницы, Уильямс кивнул назад, подразумевая боя:
— С ними можно вполне ладить при одном только условии: никогда не следует баловать их. Если вы это усвоите, все будет хорошо.
— А мне показалось, что у него какое-то недовольное выражение лица, — сказала Джоан.
— Это обычное выражение для здешних племен. Воины и охотники. Они не могут себе позволить условностей светского этикета. То же самое, что постоянная улыбка для китайца, только с обратным знаком.
Неподалеку от гостиницы их уже поджидал автомобиль с закрытым стальным кузовом. Водителем автомобиля на сей раз был туземец. Здесь хлопотало еще несколько туземцев, загружая в автомобиль палатки, тенты, ящики с консервами и напитками.
— Это недалеко отсюда, милях в двадцати, — Уильямс указал на север. — Но ее, — он повернул руку в сторону Килиманджаро, — мы оттуда уже почти не увидим.
Они разместились в грузовике — белые сразу за водителем, туземцы сзади, среди ящиков, тюков и свертков. Мотор закашлял, заурчал, и автомобиль начал свое неспешное путешествие вниз.
Дорога извивалась среди зарослей бамбука, гигантских папоротников, акаций со странной формой кроны, словно ветром снесенной в одну сторону.
Потом дорога вообще исчезла, автомобиль пошел еще медленнее, объезжая ямы и высокие, в половину человеческого роста, муравейники.
Джоан оглядывалась по сторонам с нескрываемым восхищением. Вот с левой от них стороны мелькнула стайка антилоп, вскидывающих с неожиданной грацией свои грузные тела над высокой серо-желтой травой.
— Это и есть антилопа куду, — пояснил Уильямс, — там, на месте, мы сможем настрелять их, сколько угодно.
А на место, то есть туда, где Уильямс предполагал разбить лагерь, они прибыли примерно через четверть часа. Здесь тек ручей, сбегавший, очевидно, с отдаленной горы, но уже растерявший в этом месте свою прыть и теперь лениво хлюпающий в поросших густой зеленой травой берегах. За исключением этой травы да еще той, что росла в тени деревьев, вся остальная была желтая и высохшая.
Едва автомобиль остановился, как туземцы споро выволокли из автомобиля большой тент, раскатали его на земле и водрузили под большими акациями на разборных металлических шестах.
— Да, эта штука побольше шляпы будет, — прокомментировал Уильямс. — На здешнем солнышке в момент подкоптиться можно.
Туземцы между тем установили три палатки: две побольше — для Джоан с Коули и для себя — и одну поменьше — для Уильямса. Потом они столь же быстро вынесли из автомобиля складные кровати, расставили их в палатках для белых, разложили складной стол и стулья под навесом.
— Вы не против что-нибудь выпить? — спросил белый охотник.
— Можно виски, — сказал Уильям Коули, — а вместо содовой лимонад.
— Годится, — согласился Уильямс. — Это неплохая идея. Мэмсаиб желает того же?
Джоан кивнула.
Уильямс распорядился, отдав приказание на суахили, и один из боев достал из ящика бутылку виски, а из другого ящика три бутылки с лимонадом и подал стаканы. Приятный ветерок долетал от небольшого леска, запахи были свежими.
— Здесь неплохое место, — сказал Коули.
— Неплохое, — согласился Уильямс. — Только все равно жарко будет. К полудню даже под тентом будет трудно дышать. Вы отдохните пока немного, а я схожу осмотрюсь.
Он вынул из кузова автомобиля свой короткий штуцер с толстым стволом, щелкнул затвором. Положив штуцер на плечо, он неспешно двинулся вдоль ручья, внимательно глядя себе под ноги и изредка оглядываясь по сторонам. Временами высокая трава скрывала Уильямса почти полностью, видна была только его шляпа-панама, да и та по цвету сливалась с травой.
Белый охотник вернулся минут через двадцать.
— Там дальше водопой, — он указал вправо от скопления деревьев. — Следов много. Без мяса уж точно не останемся. Вы с собой захватили фотоаппарат?
— Да, — кивнул Коули.
— Это вы правильно сделали. А вообще-то с фотоаппаратами приезжают все, — нельзя было понять, хвалит ли он Коули, за предусмотрительность, или же снисходительно трунит над очередным своим работодателем и клиентом.
— Надо бы им заплатить? — Коули кивком указал на туземцев, уже принявшихся разводить костер из стеблей сухой травы и акаций.
— Можно, — согласился Уильямс.
— А сколько надо?
— Фунта будет достаточно. Я же говорил, что с ними вполне можно ладить, только если не баловать их.
Он подозвал одного из туземцев и передал ему деньги Коули.
— Там вдоль ручья я видел несколько водяных антилоп. Если хотите размяться, можно попытаться подстрелить хотя бы парочку к обеду.
— Идет, — согласился Коули. — Заодно и ружья проверим. Тут никого покрупней нет?
Уильямс взглянул на него с непонятным выражением.
— Я, во всяком случае, не видел следов, — белый охотник покачал головой. — А вообще-то не исключено, что ниже по течению, там, где ручей разливается шире, могут быть буйволы. Но пока мы их трогать не станем, они нас тоже не тронут.
«Ага, — подумал Коули, — он и в самом деле посчитал, что я боюсь любой твари покрупнее водяных антилоп.»
— Джоан, — обратился он к жене, — ты не хочешь с нами пройтись?
— Еще бы я этого не хотела! Что же мне, только сидеть и прохлаждаться?
Уильямс взял с собой троих туземцев, один из них нес патроны и «манлихер» Джоан.
— Не имеет значения, куда их бить, этих антилоп? — спросил Коули.
— Лучше всего, разумеется, в голову или в шею. Но они некрупные, так что для такого калибра сойдет и пуля в грудь.
Они прошли дальше, здесь русло реки углублялось, оно уже было каменистым. Ниже по течению в высокой траве мелькнули фигурки, напомнившие Коули бумажных чертиков. Уильямс поднял руку.
— Вот они. Ветер дует сбоку, они нас не скоро учуют.
И они опять пошли вдоль ручья, только сейчас уже крадучись, стараясь ступать осторожней: впереди Уильямс, за ним Коули, потом Джоан, а сзади туземцы.
Коули снял свою винтовку с предохранителя и нес ее дулом вниз в правой руке, держа за цевье.
Внезапно он услышал легкий свистящий шелест впереди и чуть слева. Он и сам не успел дать себе отчета в том, что делают его руки, как ощутил у своего плеча приклад винтовки, а на мушке увидел голову с рогами, показавшимися ему непомерно длинными для столь небольшого создания. Коули сдвинул ствол винтовки чуть вправо, так, чтобы он оказался чуть впереди скользящей над волнами желтой травы рогатой головы, и нажал на спуск.
Плечо его ощутило легкую отдачу, винтовка раскатила свое сухое «драанг» над равниной, заставив двух грифов, сидевших на засохшем дереве, взлететь. Но прежде, чем грифы оторвали когтистые лапы от таких же корявых и жестких, как когти, веток, винтовка Коули еще раз произнесла свое «драанг», а потом еще.
Шорох в траве теперь не был легким и свистящим, он напомнил звук «шшрумм» — будто кто шмякнул тюк сена, надетый на вилы, о что-то твердое.
— Отлично, — Уильямс повернул к нему голову. — Неплохая у вас реакция.
— Вы думаете, я ее достал? — спросил Коули.
— Конечно. Вы это и сами знаете.
Антилопа лежала ярдах в девяноста — примятая трава, тело, словно бы продолжающее бег-полет, голова с длинными изогнутыми рогами неестественно повернута на мускулистой шее. Аккуратное отверстие располагалось чуть позади челюсти под самым ухом, напоминающим клочок серого фетра.
— Очень, очень неплохо. Поздравляю, мистер Коули. Это самец, — кивнул в сторону туши белый охотник.
— Пойдем дальше? — спросил Коули.
— Вряд ли есть смысл. Остальные-то улепетнули. А бегают они очень быстро, вы же сами видели.
Да, прыжки этих животных напоминали полет — тело сначала размыто в воздухе, потом оно обретает четкость очертаний и парит в воздухе невообразимо долго, словно презрев закон тяготения.
Когда-то очень далеко отсюда невообразимо медленно падал по каменной осыпи олень, цепляясь за ветки кустарников и подлеска. Коули вспомнился даже тогдашний воздух — сизоватый, влажный, пахнувший прелыми листьями.
— Очень шустрые создания, эти водяные антилопы, — опять сказал Уильямс, — в них Нелегко попасть.
— Ладно вам, — ответил Коули, — вы меня испортите, если будете излишне хвалить.
— Тогда не буду, — белый охотник улыбнулся жестковатой улыбкой и велел туземцам подобрать тушу.
Возвращались они в обратном порядке. Впереди шел старик туземец, по имени Боронги, за ним еще двое несли антилопу, привязав ее за ноги к шесту. Шест — обычный, которым пользуются туземцы при продвижении в густой высокой траве — был коротковат и антилопа висела на нем как бы скрючившись.
— Ну, жарким мы на несколько дней обеспечены, — сказал Уильямс, когда они вернулись в лагерь. — Вы чем-то недовольны?
— Нет, ничего, — ответил Коули. — Так, разные ассоциации.
— Что? — не понял белый охотник.
— Когда-то, очень давно, я был на оленьей охоте. И первый олень не принес мне слишком много счастья.
— Ага, — кивнул Уильямс.
Он, конечно, ничего не понял или вовсе не так понял, но не рассказывать же ему, что после возвращения с охоты его, Коули, ждала не совсем счастливая весть.
Неподалеку от лагеря туземцы быстро свежевали антилопу, орудуя плоскими ножами с широкими клинками, похожими на короткие мечи.
Ночью за стенами палатки слышался далекий вой гиен. Было прохладно, с трудом даже верилось, что завтра днем будет настоящее пекло.
— Надо будет поискать что-нибудь покрупнее, — сказал Коули за завтраком.
— Поищем, — бодро пообещал Уильямс. — Это мой кусок хлеба, мой шаури.
— Да уж, мы должны постараться, — сухо произнес Коули, которому изрядно надоело, что Уильямс постоянно подчеркивает свою зависимость как наемного работника. Если бы он умел делать что-то стоящее, не подался бы в Африку обслуживать богатых клиентов и их жен. Да, жен он, конечно, тоже обслуживает — бесплатно выполняет некоторые пожелания клиенток, не предусмотренные контрактом.
«Он только и ждет, сукин сын, чтобы я вляпался в дерьмо, — безо всякой злобы глядя на Уильямса, сосредоточенно отрывающего ломтики копченой рыбы и отправляющего их в рот, думал Коули. — Есть очень много народа, заставляющего соперника играть на незнакомом поле. Можно сказать, что такого народа большинство. Уильямс выбрал для себя полем саванну, в подручные взял туземцев, находящихся в полной зависимости от него. Он презирает меня, потому что у меня много денег, потому что я могу приехать в эту страну в любое время и покинуть ее, когда мне заблагорассудится. А уж ему-то, небось, ехать некуда.»
На следующий день Джоан подстрелила антилопу куду, ту самую, из которой получаются исключительные бифштексы. Они видели нескольких буйволов, но буйволы ушли на пойму ручья, в топь, где их невозможно было достать.
Они решили поменять лагерь, проехав вдоль ручья еще миль десять. Здесь уже местность было более открытой. Тент и палатки теперь стояли без прикрытия деревьев. Далеко в саванне проносились стада антилоп и зебр, хорошо различимые в бинокль.
— Ладно, можно считать, что ты уже недаром добиралась сюда, старушка, — сказал он Джоан. — Повесишь свою фотографию с антилопой и будешь вызывать приступы зависти у всех своих знакомых.
— Если они сочтут нужным завидовать участию в сафари.
— Если они сочтут нужным показать, что завидуют, — он произнес эти слова, словно экзаменатор, поправляющий испытуемого. — А уж завидуют-то они всему. Равно как и презирают всех и вся.
— Ты сердишься, дорогой? — тон ее был участливым.
— Не знаю, — пожал плечами Коули. — Если мне и есть на кого сердиться, так это только на себя. А вместо этого я сержусь на Уильямса, ревную его к тебе.
— И совсем зря ты это делаешь. — Джоан положила руку на его локоть.
— Хотелось бы верить, — он повернул к ней лицо. Голубые глаза Джоан наполняла усталая тоска. — Как ты себя чувствуешь? — Коули сдвинул брови.
— Я чувствую себя лучше всех, кто находится здесь, — она улыбнулась, но глаза не изменили своего выражения.
В эту ночь кроме воя гиен Коули расслышал и далекий, раскатистый рев — словно где-то запирали гигантский ржавый засов. «Мне страшно? Черта с два мне страшно. Завтра же велю Уильямсу разыскать эту тварь».
Утром, умывшись из складного походного тазика, он подошел к Уильямсу. Тот брился, сосредоточенно глядясь в маленькое круглое зеркальце, прикрепленное к пеньку акации.
— Вы слыхали? Сегодня ночью кто-то подавал голос.
— Да, это был стоющий голос, — ответил Уильямс, не меняя позы.
— Он был один?
— Возможно. Судя по голосу, это достаточно молодой лев. С ним может быть львица, а то и несколько. У львиц, знаете ли, чисто женское коварство. Если уж она и покажется человеку, то только для того, чтобы отвлечь его внимание от льва, который в следующий момент бросится на вас из засады. А если он холостяк — тот, что подавал голос сегодня ночью — то хлопот с ним у нас будет поменьше. На автомобиле мы его всегда сможем отыскать.
Он хотел оставить Джоан в лагере, но она настояла на том, что тоже поедет с ними.
— Слушай, ты, наверное, так и ждешь момента, когда я струшу, промахнусь или еще каким-то образом окажусь по уши в дерьме, чтобы иметь основания бросить меня, — мрачно сказал Коули.
— Я никогда-никогда не брошу тебя, — она коснулась его губ мягкими губами. — Для меня не имеет абсолютно никакого значения тот факт, умеешь ли ты стрелять львов, или нет.
— Зачем же ты, в таком случае, хочешь ехать вместе с нами? — он устало улыбнулся.
— Чтобы защитить тебя, — ее голубые глаза глядели на него так, словно хотели впитать в себя.
— Да уж, — он покачал головой. — Ладно, ничего с тобой, как видно, не поделаешь, ты всегда умеешь настоять на своем.
Они вышли из палатки.
— Мэмсаиб тоже поедет с нами? — осведомился Уильямс.
— Да. Она говорит, что лев вряд ли станет нападать на автомобиль.
— Она правильно говорит, — совершенно серьезно сказал белый охотник. — Для льва наша развалюха — незнакомый зверь с неведомым запахом. Он предпочитает уклониться от встречи с незнакомым зверем. Только излишке любопытный захочет подойти поближе, чтобы рассмотреть и обнюхать его.
— А если нам как раз попадется такой любопытный? — спросил Коули.
— Сталь ему в любом случае не по зубам, — пожал плечами Уильямс.
«Ладно, поглядим еще, что кому не по зубам».
— Мэмсаиб может сесть рядом с водителем? — Коули посмотрел на охотника, пытаясь понять, что же тот в данный момент думает о нем.
— Разумеется, если ей так будет удобнее.
Он сказал водителю что — то на суахили, тот кивнул.
Автомобиль медленно катился среди высоких деревьев, отстоящих друг от друга ярдов на пятнадцать — двадцать.
— Мы сможем найти его? — спросил Коули.
— Если мы окажемся достаточно близко от него, он поднимется и побежит. В противном случае мы должны подкараулить его вблизи водопоя.
Но поднять льва им не удалось до полудня. Они вернулись в лагерь, пообедали и отдохнули. Ближе к вечеру поехали к водопою. Теперь уже рядом с водителем сидел Уильямс. По пути к водопою им то и дело встречались стайки антилоп и зебр.
— Если этот парень не ел достаточно давно, он обязательно сейчас ходит где-то поблизости, — Уильямс повернулся к ним.
Коули сидел рядом с прижавшейся к нему Джоан. Сзади в кузове сбились в кучу туземцы — с мрачными, неподвижными лицами.
Они проехали еще раз около места водопоя, делая круг пошире, и Уильямс вдруг сказал:
— Вот он!
Рука его показывала на льва, стоявшего на открытом пространстве.
Сказочный зверь со светло-рыжей шерстью, казавшейся в лучах предзакатного солнца золотой. Он, наверное, и в самом деле воспринял автомобиль, как незнакомое животное.
«Ладно, теперь мой ход», — Коули, казалось, не испытывал никаких чувств, кроме возбуждения. Руки и ноги его тряслись крупной дрожью, и он крепко сжал ладонями колени, чтобы никто не заметил этой дрожи.
— Выходите первым, — тихо сказал Уильямс, — и не дайте ему убежать далеко. На расстоянии больше ста ярдов у вас мало шансов свалить его.
Коули открыл дверцу автомобиля и перенес тяжелую, словно чугунную, ногу через бортик.
«Сволочь!» — выругался он про себя и, стараясь не смотреть прямо на льва, пошел в том направлении, где он видел его перед тем, как выйти из автомобиля.
Сделав четыре-пять шагов, Коули поднял голову. Да, теперь до льва оставалось, наверное, меньше ста ярдов. Он обрадовался, почувствовав, что озабоченный тем, как не дать льву уйти, он словно бы прогнал все остальные чувства. Лев смотрел на него, его бугристая морда, казалось, выражала недоумение.
Пройдя еще несколько ярдов, Коули проверил, снята ли винтовка с предохранителя и стал медленно поднимать ее. И в то время, когда лев повернулся к нему мощной шеей, которую наполовину прикрывала сероватая грива, Коули выстрелил, целясь в шею поближе у туловищу льва.
Лев вскинулся, подняв передние лапы, словно бы пытаясь отмахнуться от назойливого насекомого, так больно ужалившего его только что. Он хрипло и как-то визгливо зарычал.
Коули шел на него, словно солдат на батальной картине — винтовка в обеих руках на уровне плеча, взгляд направлен вперед.
«Драанг, драанг», — он словно чувствовал через отдачу, по толчкам приклада, как пули входят в тело льва.
Лев упал, ткнувшись бугристой мордой в землю, по направлению к Коули. Теперь уже Коули мог видеть его прищуренные глаза. Он спокойно, очень спокойно и медленно поднял винтовку и поймал на мушку бугристый лоб между этих прищуренных глаз.
«Драанг», — над туловищем льва, словно струйка жидкости, взметнулся хвост с черной кисточкой на конце и тут же упал.
— Осторожнее, — услышал он за спиной.
Но лев уже не подавал никаких признаков жизни, когда они с Уильямсом подошли к нему. Вернее, Коули понял, что лев мертв, когда белый охотник шагов за тридцать до распростертого тела опустил свой тупорылый штуцер, который до того держал наизготовку, дулом вниз.
Уильямс, повернувшись к автомобилю, что-то громко прокричал, призывая туземцев.
— Хорош, хорош, — теперь уже в голосе белого охотника чувствовалось настоящее удовлетворение.
Невесть откуда взявшиеся мухи облепили окровавленный лоб льва, ползали по шее, откуда все еще вытекала темная струйка и тут же терялась с сухих стеблях травы и комочках почвы, давно не знавшей дождя.
— Поздравляю, — сказал Уильямс. — Надо было сфотографироваться.
— Так положено, да? — Коули посмотрел на него и встретил недоумевающий взгляд. — Ладно, раз положено, будем фотографироваться.
Он подошел к автомобилю. Навстречу ему спешили туземцы, о чем-то возбужденно переговариваясь на ходу.
Джоан стояла у машины. Лицо ее было бледным. Коули взял ее за руку и улыбнулся.
— Вот мы и убили нашего первого льва. Главное, не показывать никому, что ты боишься.
Он залез в кузов, достал из рюкзака фотоаппарат. Потом они с Джоан не спеша направились к льву. Коули поставил жену, все еще недоверчиво косившуюся на поверженное страшилище, в двух ярдах от распростертого тела, отошел, навел резкость и щелкнул затвором. Он сделал несколько снимков Джоан, заставив ее даже прикоснуться рукой к телу льва.
— Ну вот, — удовлетворенно сказал он. — Будем надеяться, что я поставил правильную выдержку.
— А как же вы? — Уильямс выглядел очень удивленным.
— Что — я?
— Вы не будете фотографироваться?
— Нет, — Коули простецки улыбнулся. — Я не нуждаюсь в накладных волосах.
— Что?! — теперь уже Уильямс решительно ничего не понимал.
— Я сказал, что не нуждаюсь в накладных волосах, — он подмигнул белому охотнику. — Ведь этот парень был совсем безоружным.
— Бросьте валять дурака! — теперь уже Уильямс, похоже, разозлился. — Это была игра по правилам, это была честная охота.
«Можешь считать меня позером, если это способно потешить твое самолюбие. Но уж трусом ты не сможешь меня считать».
А вслух Коули сказал:
— Теперь, наверное, надо снять с него шкуру?
— Конечно, — тон Уильямса был почти что обиженным. Он что — то крикнул туземцам, и те завозились со львом, надрезая ему шкуру на лапах, переворачивая его на спину, удивительно ловко, словно с домашнего животного, сдирая с него шкуру. Вся операция заняла, наверное, не более двадцати минут. Освежеванный лев напоминал Коули кролика в мясной лавке: те же белые нити сухожилии те же светло-розовые гладкие мышцы. Он, конечно, выглядел чудовищно, но не был страшен.
Потом туземцы столь же споро скатали шкуру и отнесли ее в автомобиль.
Когда они вернулись в лагерь, Коули сказал Уильямсу:
— Послушайте, мистер Уильямс, я думаю, что сегодня надо дать свежевальщикам два фунта.
— Дело ваше, — пожал плечами белый охотник.
— Но ведь их можно испортить, если слишком баловать, — Коули хитро прищурился. — Вам же с ними впредь работать, не мне.
— Да перестаньте вы ерунду болтать, — проворчал Уильямс. — Чем вы недовольны?
— Я — недоволен? — Коули в упор посмотрел на него. — Я даже очень доволен. Всем доволен. У нас ведь есть шампанское? И виски? Такое дело нельзя не отметить.
Бутылка шампанского была выставлена боем на складной стол, виски тоже. Коули откупорил бутылку с хлопком, но так, чтобы пена не брызнула. Он разлил в стаканы — сначала Джоан, потом Уильямсу и, наконец, себе. Они чокнулись, и Коули ждал, пока кто-нибудь скажет.
— За вашего льва, — сказал Уильямс. Тон его был нейтральным.
Они выпили.
— Перестаньте дуться, мистер Уильямс, — сказал Коули, чувствуя, как у него уже начинает шуметь в голове — очевидно, сказывалось напряжение, которое сейчас спадало.
— Честное слово, — Уильямс наконец-то улыбнулся. — Я впервые встречаю такого странного и строптивого клиента. Никак не могу взять в толк, про какие это накладные волосы вы говорили.
— Старая история, — Коули улыбнулся в усы. — Один тип как-то сказал, что у меня на груди ненастоящие, накладные волосы.
— Но вы-то, надеюсь, отдубасили его, как следует? — лицо белого охотника было краснее, чем обычно.
— В том-то и дело, что нет. Я не мог до него добраться, и теперь вот уже который год срываю зло на других.
Уильямс расхохотался, а Джоан покачала головой.
3
Их обратный путь пролегал через Красное море. Тут было еще жарче, чем в тропиках Атлантики. Джоан чувствовала себя плохо. Однажды ее стошнило после обеда, после этого она не ела целый день.
— Старушка, ты заставляешь меня испытывать чувство вины, — обескураженно говорил Коули, сидя на ее кровати.
— Ничего, завтра я буду, как огурчик.
Она и в самом деле вскоре почувствовала себя лучше. В Суэце Джоан выглядела совсем бодрой.
Приехав в Александрию, они прожили там две недели. Погода стояла сухая и не очень жаркая. Они сидели в уличных кофейнях, заполненных, казалось, только одними европейцами, бродили по набережной, любуясь ослепительной синевой моря и силуэтами далеких кораблей.
— Как здесь хорошо, — говорила Джоан. — Знаешь, у меня сейчас такое ощущение… Ощущение давно забытой безмятежности. Как бы тебе объяснить?.. Когда в детстве летними вечерами я оставалась одна, уверенная в том, что закат, зеленая лужайка, старый дуб, мои родители, я сама — все это будет и завтра, и после завтра, и будет пребывать вечно. Да, — она улыбнулась своей мягкой улыбкой, — я была очень, очень большой оптимисткой тогда. И теперь у меня такое чувство, что время для нас остановилось, что мы можем наверстать все, что угодно, даже если мы пробудем здесь очень долго.
И тут же спохватилась:
— Господи, но все-таки я помню, сколько стоит наш номер в сутки. Неужели нельзя было снять ничего подешевле?
— Зачем? Нам теперь принадлежит весь мир, давай не будем обращать внимания на такую ерунду, как деньги.
Из Александрии они направились в Тунис, откуда — в Марсель.
Франция начала сентября была великолепна. Экспресс проносил их мимо бесконечных виноградников, мимо желтых прямоугольных полей, мимо уютных деревушек с домиками, казавшимися игрушечными — белые стены, красные черепичные крыши, аккуратные палисаднички.
— Знаешь, мне вообще вся Европа кажется этаким небольшим ухоженным садиком, — говорил Коули. — Но, наверное, мне этот садик показался бы тесноватым, проживи я здесь хотя бы с год.
— Но полгода бы ведь жил здесь?
— Да, но я переезжал с места на место. Нет здесь американских масштабов. И дикости нашей нет.
Они приехали в Париж и поселились в отеле «Крийон». На следующей же день он повез Джоан показывать ей свой Париж, те места, в которых жил несколько дней когда-то, будучи совсем молодым, только начинавшим завоевывать этот мир, который сейчас был весь его.
Он показал ей улицу с высокими и узкими домами, где размещалась гостиница — очень дешевая, неказистая — в которой когда-то умер Поль Верлен и в которой жил он двенадцать лет назад. Это было место, откуда весь Париж казался лежавшим у ног — все его холмы, крыши и высокие печные трубы.
И теперь все казалось таким же. И не таким. Винная лавчонка, выкрашенная все в тот же зеленый цвет, что и двенадцать лет назад, и вино в ней было таким же хорошим и дешевым. Впрочем, нет, вино немного подорожало, но все равно для него оно было сейчас намного более дешевым, чем тогда, когда он был победнее.
И запах нищеты, запах виноградных выжимок и мочи — он теперь воспринимался острее, он не позволял совсем уж отвлеченно любоваться домиками под зелеными крышами, домиками, стены которых по-прежнему аккуратно белились известью и на которых наводилась коричневая панель снизу.
Они пили кофе в кафе «Ротонда» на Монпарнасе, обедали в ресторане Леконт на острове, пили вино в Булонском лесу, любовались желтеющими каштанами Люксембургского сада. Им самим с трудом верилось в то, что всего какой-то месяц назад было сафари, жара, был лев с облепившими его мухами. Впрочем, о льве не давала забыть его шкура, которую они везде таскали за собой. Шкура была очень тяжелой и занимала много места в багаже. Вообще у них, как ни странно, прибавилось много вещей, хотя они все должны были растерять по дороге, занявшей у них почти все лето 1934 года.
Коули купил пишущую машинку и несколько стопок бумаги. Как-то просто, словно бы между делом, он написал два рассказа об африканском сафари. Один рассказ был об американце, приехавшем поохотиться на крупных зверей, но оказавшимся трусом. В белом охотнике из этого рассказа угадывался Уильямс — хотя бы по внешнему описанию. Джоан, прочтя рассказ, сказала:
— Это великолепно. Это гораздо более яркое напоминание о том, что с нами было, чем фотографии и чем даже львиная шкура, в которой скоро заведется моль. Только Уильямс у тебя получился совсем уж каким-то героем и рыцарем.
— Ничего себе рыцарь! Он же спал с женой этого бедняги — американца.
— Это она спала с ним.
— Какая разница?
— Разница большая.
— Хм… Может быть. Я плохо разбираюсь в женщинах.
— Ну уж нет, милый. Во всем ты великолепно разбираешься. Таких женщин, как та, что в рассказе я встречала.
— Очень хорошо, что ты у меня не такая. Ты у меня просто прелесть.
Джоан выглядела усталой. Великолепный ее загар как-то уж очень быстро сошел, кожа лица приобрела синеватый оттенок, под глазами появились темные круги.
— Тебе надо побольше спать, — говорил Коули. — Тебя измотало это кругосветное путешествие.
— Нет, оно может считаться только полукругосветным — да и то, когда мы вернемся в Лондон. Но мне, честно говоря, не очень хочется туда возвращаться. А осень на меня всегда так действует, я словно в спячку впадаю.
— Раньше с тобой такого не было.
— Милый, ты просто не замечал меня, даже тогда, когда я находилась рядом с тобой.
— Ох, Джоан, Джоан… Послушай, может быть тебе стоит показаться врачу?
— Ты здесь кого-нибудь знаешь?
Этот вопрос на время поверг его в уныние, заставив почувствовать, какие они все же беззащитные и одинокие в этом волшебном городе даже с его, Коули, деньгами. Но вслед за унынием его охватило деятельное возбуждение. Он поговорил с женой хозяина отеля, та посоветовала ему обратиться к доктору Лемуару. Джоан поначалу и слышать не хотела о визите к врачу, но через несколько дней, когда ее опять стошнило после обеда с легким белым вином, Коули все-таки настоял на посещении Лемуара.
Добродушный лысоватый толстячок с черными и блестящими, словно оливки, глазами, доктор Лемуар после осмотра Джоан посоветовал ей лечь в клинику для обследования.
— Мне не нравится ваша печень, мадам. Надо понаблюдать какое-то время, — сочувствие в глазах Лемуара нельзя было объяснить только отрабатыванием щедрого гонорара, Коули это вмиг понял. Он плохо знал французский язык, но из разговора Джоан с врачом разобрал, что ее мать умерла в относительно молодом возрасте от болезни печени.
Он не мог не заметить, как подействовал на Джоан визит к врачу.
— Джоан, насколько я понял, он предлагает тебе всего-навсего провести более подробное обследование? Ничего страшного.
Они стояли у массивной чугунной ограды госпиталя Валь-де-Грас между бульваром Дю-Пер-Рояль и улицей Сен-Жак.
Джоан со странной улыбкой взглянула на витые решетки.
— Ты хочешь упрятать меня сюда?
Словно молния вспыхнула в его мозгу: госпиталь в Новом Орлеане, отец с напряженным, остановившимся взглядом. И осознание своего бессилия — кичем нельзя помочь. Нет, это не банальное дежа вю — его сейчас охватило точно такое же душевное состояние, как тогда, в военном госпитале, когда они с матерью вошли в бокс и увидели человека, которого раньше звали Генри Коули и который в тот момент не помнил этого, как не помнил вообще ничего.
И тут же у него забрезжила надежда: ведь отец его выздоровел, пусть даже он и не стал стопроцентно прежним человеком.
Он, словно боясь сглазить свою мысль об исцелении, прикоснулся губами к волосам Джоан, потом сказал:
— Но ведь это совсем ненадолго. Наверное, ненадолго. Я буду навещать тебя каждый день. Все равно скоро пойдут дожди, надо будет сидеть под крышей. Я буду торчать в нашем номере в «Крийоне», писать об Африке. Раз уж у меня ни о чем больше не получается писать.
Она крепко, изо всех сил обняла его.
Разумеется, через неделю пошли дожди. Он сидел в «Крийоне» — неподвижно, пытаясь сосредоточиться на своей писанине, но в голове было сплошное мельтешение, какой-то реестр ошибок и неудач, словно пришло время подбивать баланс.
«Черт побери, — думал он. — Лучше бы это я сейчас лежал в клинике. Я-то, похоже, дошел до точки, как Фитцсиммонс».
Но Коули тут же спохватился, убеждая себя в том, что помещение Джоан в клинику — обычная предосторожность, перестраховка.
Он вставал, надевал плащ, нахлобучивал шляпу, отправлялся в кафе «Клозери де Лила», в «Веселый негр», в «Купол». Так, обходя и объезжая их до десятка за вечер, он создавал для себя иллюзию нахождения среди людей, будучи довольным тем, что здесь не надо соблюдать никаких условностей, как в дорогом ресторане, здесь можно напиться до бесчувствия, и никто тебя не попрекнет, разве что хозяин иногда заметит, что тебе, пожалуй, уже хватит. Иногда его узнавали незнакомые ему люди, здоровались с ним. Почти на лицах всех узнававших его, он читал изумление и немой вопрос: «Как? Уильям Коули, тот самый? У него уйма денег, а он сидит у стойки в дешевой забегаловке?» Конечно, они имели все основания считать, что у него не все в порядке с головой или что это странная блажь богатого человека. Ему было наплевать, что о нем думают, вот в чем он мог себе самому с удовольствием признаться.
Утром, придя в себя, побрившись, приняв душ, выпив крепкого кофе, он направлялся в клинику. Джоан все больше бледнела, теперь ее кожа приобретала какой-то зловещий шафрановый оттенок. Врач, наблюдавший ее в клинике, мсье Морандон, настаивал на операции.
— Вы понимаете, — говорил он, — опухоль разрастается, она сжимает желчные протоки.
Морандон немного говорил по-английски, но для убедительности он разводил длинные гибкие пальцы, изображая, как разрастается опухоль, как она что-то сдавливает.
Коули видел, как страдает Джоан. Иногда она замирала, скорчившись и слабо постанывая. Он знал, что если уж она показывает при нем, что ей больно, значит, боль нестерпимая.
Он уговаривал ее решиться на операцию, но она только качала головой.
— Это же ничего не решает, Билли, — устало и просто говорила Джоан. И это было все равно, как если бы она говорила: «Билли, ты же знаешь, что за летом приходит осень, а уж за нею зима».
— Надо решаться, старушка, — сказал он в который уже раз, сам нисколько не веря своим доводам.
— Нет, — она покачала головой. — Забери меня отсюда, милый. Я хочу в Лондон.
Они покинули «Крийон», когда уже была слякотная французская зима. Коули нанял автомобиль, который отвез их в Гавр — со всеми их вещами, с львиной шкурой, в которой, как уверяла Джоан, уже начинала заводиться моль.
4
Февраль в Британии похож, пожалуй, только на февраль в Британии, подумал Уильям Коули. И он тут же спохватился: не должны ему в голову приходить такие мысли, потому что он возвращается с кладбища, на котором упокоилась Джоан Пиккет Коули, его жена.
Густой туман наползал клочьями, а в перерывах между этими клочьями проглядывало солнышко, и тогда видно было, что трава уже достаточно подросла, что она ярко-зеленого цвета, новая, а не пожухлая прошлогодняя. Как ни странно, но Коули окружающий пейзаж при солнце казался более зловещим.
«Все мы, англичане, снобы и консерваторы», — кто же из этих проклятых англичан так выразился? Это уж точно, это у них не отнимешь. Наверное, погода и островная жизнь сделали их такими. Джоан была лучшей из всех англичан. Она вообще была лучшим человеком из всех, кого он когда-либо знал. И ей суждены были ужасные муки перед тем, как оставить этот паршивый мир.
Паршивый, паршивый, вонючий мир.
Коули обнаружил, что откололся от родственников Джоан и теперь идет один по дороге от кладбищенской ограды до квартала невысоких двух — и трехэтажных домишек с высокими крышами. Господи, как у них тут тесно, подумал Коули. Кладбище в ста ярдах от жилища. Совсем как в Таре. Странно, что он вспомнил о Таре. Родные места, куда ему вовсе не хотелось возвращаться. Ему вообще не хотелось никуда идти, ехать, плыть, лететь. Очень плохо только, что такое состояние охватило его здесь, среди этих сволочных англичан. Первый муж Джоан был на похоронах. Вот уж не удивительно, что Джоан разошлась с ним. Удивительно, как с таким типом может жить женщина, тем более такая, как Джоан. Ее бывший муж — судья. «Ваша честь» — так они, кажется, величают судей? Этой их чести сорок с небольшим, но выглядит их честь на все пятьдесят — отчасти наверняка из-за своего занудства. У него лысина, которую он на заседаниях суда прикрывает париком. Они все там надевают парики — традиция. «Его честь» — мумия, из которой вынули всю требуху, а взамен запихали туда чванство, ворох предрассудков под названием «здравый смысл», да еще клубок правил типично британского этикета. И этот сукин сын прожил с Джоан несколько лет. Это абсурд какой-то. Здесь все отмечено знаком абсурда, за их растреклятым Английским каналом. Он, Уильям Коули, определенно свихнется. При его нынешнем состоянии запросто можно пустить себе пулю в лоб, что вообще — то было бы неплохим выходом из ситуации.
Эти вонючки повели с ним осторожные разговоры о наследстве. Им очень интересно было, полностью ли перейдет дом Джоан к ее детям, или не полностью. Они подумали, что муж Джоан захочет остаться здесь. Вот так они привыкли, живя здесь в страшной тесноте, отвоевывать друг у друга дюйм за дюймом.
Теперь он шел по улице, типичной лондонской улочке — закопченные кирпичные фасады, газончики размером с почтовую марку, почтовые ящики, выкрашенные в ядовито-синий цвет.
Ох ты, подумал Коули, да ведь у меня и в самом деле что-то с мозгами происходит.
Вывеска паба подействовала на него примерно так же, как действует внезапный ливень на ошалевшего от жары и жажды путника, бредущего по пустыне.
Внутри паб оказался полупустым. Коули подошел к стойке и заказал две двойных порции виски. Человек за цинковой стойкой, одетый в жилет и полосатую рубашку с галстуком, отмерил дозы, разливая виски из большой бутылки с надетой на ее горлышко изогнутой стеклянной трубочкой.
Вот беда-то, это же все, наверное, не со мной происходит. Честное слово, я или сплю, или умер уже. Если ад существует, он должен выглядеть, как этот дерьмовый паб. Здесь должно пахнуть серой.
Коули залпом опрокинул сначала один стаканчик, затем второй. Дерьмовое у них виски, сказал он себе. И сразу заказал еще двойную порцию с кружкой пива. Теперь он уже поискал глазами свободный столик и сел за него. Столик был накрыт аккуратной скатеркой, на которой лежали круглые подставки под пивные кружки, сделанные из плотного белого картона. Коули, не отрываясь, выпил больше половины кружки. Оказывается, он испытывал сильную жажду.
Вслед за чувством утоления жажды возникла теплая хмельная волна, качнувшая его, заставившая опустить плечи, повесить голову вниз. Он не спал две последние ночи. Моя бедная голова, подумал Коули отстраненно — словно голова его была сама по себе, а он сам по себе. Нет, он точно свихнется. Он даже не представлял себе, что когда-либо ему будет так плохо. «И настанут дни, про которые будешь говорить: нет мне в них утешения».
Он стал медленно потягивать виски. Что надо делать человеку, чтобы заглушить запредельную боль, рвущуюся ниоткуда? Это «ниоткуда» называется человеческой душой. Человеку надо напиться и нарваться на какую-нибудь драку, чтобы его отдубасили до смерти.
Виски в стаканчике закончилось, как ни старался Коули отдалить этот момент. Попросить еще у сукиного сына в жилете? Более идиотскую ситуацию трудно придумать: он еще вспоминает о каких-то условностях.
Коули поднялся из-за стола, расплатился за уже выпитое и попросил еще одну двойную порцию. Конечно, этот чертов разливальщик поглядел на него так, словно увидел перед собой привидение — четыре двойных порции в течение каких-то десяти минут.
— И еще одно пиво, — поспешно добавил Коули.
Человек за стойкой выполнил и этот заказ.
Он отошел за столик и попробовал сосредоточиться, собрать воедино расползавшиеся мысли. Итак, что же произошло? Джоан умерла, она должна была умереть. И лучше было бы, если бы это случилось раньше, потому что последний месяц был месяцем морфия. Ничего, ничего нельзя было сделать.
Он попытался найти какую-то точку отсчета, когда можно было что-то сделать. Ровно год назад? Они жили тогда в Нью-Йорке. Ничто не предвещало беды. Почему же она не рассказала раньше о своей матери, про то, что та умерла в сорок с небольшим? Сама она и столько не прожила.
Ладно, надо что-то делать, надо выбираться из этого дерьма. Все это напоминает кошмарный сон, из которого можно вырваться, только проснувшись.
Коули допил виски, допил пиво, расплатился и вышел из паба. На улице его вдруг охватило непреодолимое желание уехать в Париж. Желание было настолько сильным, что от невозможности исполнить его тотчас же из глаз Коули брызнули слезы. Так он простоял некоторое время, тупо глядя в тротуар, расплывавшийся из-за пелены слез. Потом зашел в небольшой магазинчик, взял бутылку виски, попросив завернуть ее. Пакет получился очень благополучным.
Он вышел на улицу, остановил такси и попросил отвезти его в отель, где он поселился со дня их приезда в Лондон.
На следующий день он уже был на борту корабля, покидавшего лондонские доки и державшего курс на Нью-Йорк.
5
Он стоял босыми ногами на шкуре льва, убитого им на сафари около года назад и стучал на машинке, стоявшей на высокой конторке — примерно на уровне его груди. Коули заканчивал печатать очередной рассказ из серии о Юге. Рассказ, который он допечатывал сейчас, повествовал о молодом негре, у которого умерла жена. Негр этот работал грузчиком на лесопилке. Его горю не было предела, он ни о чем другом не мог думать ни секунды, кроме как о смерти жены. Он пытался заглушить боль, надсаживаясь на работе, пытался залить ее виски. Ничего не помогало. И тогда он решился, по существу, на самоубийство: уличил в жульничестве при игре в кости белого, обманывавшего всех уже не первый год, а когда тот схватился за пистолет, перерезал ему горло, тем самым подписав себе смертный приговор.
Коули очень хорошо помнил свои ощущения после смерти Джоан. Он был близок к тому, чтобы совершить нечто, похожее на поступок молодого негра из своего рассказа. Боль от утраты Джоан не прошла, но свое тогдашнее состояние он уже достаточно давно воспринимал как-то отстраненно, словно все случилось с другим человеком. Это был очередной опыт его жизни, нечто вроде охоты на хищника или вечера в ресторане, проведенного в обществе незнакомой женщины. Увы, для человека, который будет читать его книги, все эти три события тоже будут равноценными. Хуже того, хорошо прописанный эпизод ужина с незнакомкой может восприниматься сильнее, чем описание львиной охоты или сообщение о смерти близкого человека. Коули по-прежнему, как и пятнадцать лет назад, был убежден в том, что жизнь любого человека является драмой. Просто сейчас он уже свыкся с драмой, написанной судьбой для него, Уильяма Коули. Что-то подсказывало ему: самые большие испытания уже позади, впереди разве что только то, что объединяет и уравнивает абсолютно всех людей — смерть. Может быть, в юности он предчувствовал испытания, уготованные ему судьбой. Отсюда и состояние тревожного ожидания беды, не покидавшее его в течение многих лет.
Он подумал, что не стоит, пожалуй, обольщаться тем ощущением, что судьба вроде бы отпустила его. Он очень хорошо знал ее коварство. Счастье никогда не бывает долговечным. В том числе и счастье от ощущения того, что у тебя никогда больше не будет несчастий.
Он закончил печатать, вынул листок, положил его на стопку таких же отпечатанных листков, спрятал стопку в ящик. Потом подошел к бару в стене, достал бутылку коньяка и, отвинтив пробку, отхлебнул прямо из горлышка Приятное тепло разошлось по телу, он почувствовал знакомую истому в уставших плечах.
Продолжая отхлебывать коньяк маленькими глоточками, Коули подошел к окну. В миле от его дома на Лонг-Айленде начиналась полоса прибоя. Океан вдали сливался с небом. Если поплыть вдоль побережья, подумал Коули, можно достичь Саванны, порта в его родном штате. Мысль эта довольно часто приходила ему в голову, когда он смотрел вот так из своего окна, выходившего на юг, и она, эта мысль, всегда по здравому размышлению занимала приличествующее ей место между романтической мечтой стареющего мальчика и блажью богатого человека. На сей раз он решил не противиться этой блажи.
6
Джессика Фонтейн жила в отдельном особняке, отстоящем от особняка ее родителей ярдов на сто — сто двадцать. Соснам, росшим около дома, построенного в стиле средневекового замка, было уже лет по десять. Дорогу, ведущую к особняку, покрывал асфальт. Коули даже присвистнул — только дорожного указателя, стрелки с надписью «Фонтейн-Холл» не хватает. Да, у «девочки Фонтейнов» всегда чувствовалась тяга к эффектам, ей всегда был присущ размах. Коули подумал, что он, мягко говоря, поторопился, вынося несколько лет назад приговор коммерческим начинаниям Джессики.
Коули ехал верхом на вороном жеребце по кличке Лавджой, принадлежавшему деду. Очень-очень давно у его деда была первая в его жизни породистая скаковая лошадь, которую Уэйд Гамильтон назвал Лавджоем. С тех пор он время от времени, поддаваясь воздействию воспоминании, называл так каждое удачное свое приобретение. Наверное, для Лавджоев старика Гамильтона надо было ввести нумерацию, как для монархов. Этот, на котором сейчас ехал Уильям Коули, был Лавджоем Четвертым или Лавджоем Пятым.
Он легонько сжал бока жеребца каблуками, разогнал его и, привстав в стременах, заставил перепрыгнуть через один из барьеров, установленных по бокам въездной дороги. Да, это был великолепный конь, препятствие он преодолел с ощутимым запасом.
Подъехав поближе к дому, Коули поискал, куда бы привязать Лавджоя, Ничего более подходящего, чем витая решетка на окне первого этажа, просто не попало в коле его зрения.
Он хотел уже было позвонить в парадную дверь, как та распахнулась, и на пороге предстала женщина с подкрашенными завитыми волосами, в светлой блузке и открытым воротом и синей короткой юбке. На лице женщины читалось чувство большее, чем изумление.
— Господи Иисусе, Билли! Чтоб ты пропал. Ты бы еще грохнулся с неба мне на крышу.
— Хорошо, в следующий раз так и сделаю, — пообещал Коули. — Хэлло. Мы с тобой не виделись, по меньшей мере, восемь лет.
— Девять, — быстро подсказала она.
— Вот, девять лет, а ты так приветствуешь своего старого верного друга. Ты не хочешь меня обнять?
Джессика сделала два шага навстречу и обняла его. Коули тоже обнял ее, постоял неподвижно несколько секунд, потом похлопал по ягодицам.
— Ты ничего не ощущаешь? — спросил он.
— Я ощущаю, что ты все такой же сукин сын, — ответила она, смеясь не очень веселым смехом. — Ты нисколечко не изменился. Я помню, что шестнадцать лет назад ты вел себя точно так же.
— Э-э, — Коули покачал головой. — Если бы это было так, сколького мне удалось бы избежать. Ты не приглашаешь меня в свой великолепный дом?
— Ну, куда же от тебя денешься, — сказала она с глубокой безнадежностью. — Конечно, я приглашаю тебя в свое великолепный дом.
Она взяла его за руку и вела за собой в холл. Коули почувствовал, что рука у нее горячая.
Шестнадцать лет назад мать, тоже чуть ли не за руку ввела его в дом Фонтейнов.
Холл был великолепен — витражи на окнах, кожаные диваны, бар из черного дерева, толстые ковры на полу.
— Я даже не спрашиваю о том, хочешь ли ты выпить, — Джессика уже доставала высокие стаканы, бутылку, лед.
— Что предпочитаешь — джулеп, хайбол или…
— Предпочитаю наш родной джорджианский самогон.
— Вот уж чего не держу, — она развела руками.
— Ладно, тогда предпочитаю чистое виски со льдом.
— У нас одинаковые вкусы.
— Возможно. Ты знаешь, эти сукины дети англичане тоже нашустрились пить виски без содовой. — Он сделал изрядный глоток.
— Никогда не была в Англии.
— И ничего не потеряла. А я там потерял очень многое.
— Да, я слыхала.
— Очень странно.
— Что — странно?
— То, что ты что-то слыхала обо мне, что тебя интересует моя жизнь.
— Ничего тут странного нет. Ты же теперь весь на виду.
— Ах, вот оно что…
— Нет, мой интерес к тебе вовсе не объясняется твоей известностью. Мой интерес к тебе — особый.
— С каких пор?
— Ты же знаешь с каких.
— Не знаю.
— Хорошо, с тех самых пор, как мы играли с тобой в теннис.
— Да, отличное занятие — теннис. Но я, знаешь ли, забросил его. Давно забросил. — Он словно бы спохватился. — Да, в прошлом году я был в Африке на сафари. Я там убил льва. Здоровенного, понимаешь ли, льва. Он весил фунтов четыреста. И я его ухлопал. Теперь его шкура лежит на полу в моем доме.
— А я в своем доме живу одна, — она тоже словно бы хвалилась.
— Да, — он покачал головой, — тесно здесь не покажется. А ты не пробовала здесь жить с кем-то?
— Ты хочешь спросить — не пробовал кто-то здесь жить со мной? Пробовали, конечно.
— Ну, и…
— И ничего. Ты выпьешь еще?
— Разумеется. У меня может сложиться впечатление, что ты жалеешь виски для старого друга.
Они выпили еще и помолчали.
— Понимаешь, — снова заговорила Джессика, — я, наверное, ужасная баба. То есть, я хочу сказать, что живу одна по собственной инициативе.
— Отсюда следует, что тебе нравится жить одной.
— Отсюда следует, что мне пока не встретился тот, с кем бы я пожелала жить вдвоем.
— Не знаю, что тебе и посоветовать. Но лучше, конечно, не связываться с тем, кто тебе не нравится. Моя первая жена, Эстер, оказалась такой ужасной стервой. Я даже не знаю, как случилось так, что я женился на ней.
— Да, так вот и бывает: ты принимаешь какое-то решение или же не предпринимаешь ничего вообще, а потом вдруг спохватываешься и обнаруживаешь, что какая-то часть жизни прожита неудачно, бездарно. И чем дальше ты живешь, тем меньше тебе можно допускать таких ошибок и тем больше их цена.
— Давай-ка лучше еще выпьем и перестанем себя жалеть.
— Давай, — согласилась она, разливая виски, — а друг друга мы можем пожалеть?
— Мы этого не делали до сих пор, а теперь наш достаточно преклонный возраст не дает много надежд на то, что мы изменимся.
— Ты говоришь ерунду, Билли. — Она сидела напротив него, уже пунцовая от виски, так напоминавшая прежнюю Джессику Фонтейн и давно уже не бывшая ею. Черты ее лица огрубели, и это нельзя было приписать возрасту, ведь ей едва исполнилось тридцать четыре года, просто она слишком много пила.
— Ты говоришь ерунду, Билли, — повторила Джессика, и Коули понял, что она уже опьянела. — Ведь не даром же считается, что с возрастом человек должен остепениться.
«А как все хорошо начиналось, будь я проклят. Я бил мячом о землю, готовясь подавать, а она наблюдала за мной. А потом мы бросились в разные стороны — добиваться успеха, стараться понравиться как можно большему числу других людей, урвать побольше удовольствий. Хотя нет, о себе я, пожалуй, не могу сказать, что я так уж стремился к удовольствиям. «Сердце мудрого — в доме печали, сердце глупого — в доме веселья», — я всегда подспудно руководствовался этим принципом».
— Хорошо, — сказал он. — Будем считать, что мы с тобой остепеняемся с этого дня. Какой первый шаг сделаешь ты?
— А почему я?
— Потому что я первый спросил.
— Ну, если так… Я сделаю первый шаг… по направлению к тебе.
— А в чем он конкретно будет выражаться, этот шаг, Джесс? Ты сможешь оставить свои джорджианские владения и переселиться ко мне в Нью-Йорк? Или же ты затащишь меня сюда?
Взглянув на нее, он понял, что зря задал вопрос так резко, в лоб. Перед ним сидела одинокая, растерянная женщина, которая даже и не пыталась скрывать от него, насколько она одинока и насколько не уверена сейчас в себе. А еще он вдруг осознал, что не имеет права принимать ее жертвы — позволять ей бросать все и идти с ним. В его ли силах сделать ее счастливой?
— Я не знаю, Билли, честное слово, не знаю, — она зажмурилась и закачалась из стороны в сторону, словно испытывала жуткую боль.
— Хорошо, — он наклонился к Джессике и положил ей руку на плечо, — у тебя есть время подумать. — И чуть погодя добавил: — У нас есть время, чтобы все решить.
Она подняла на него свои прекрасные, большие серые глаза, столько раз смотревшие на миллионы зрителей с экрана и заставлявшие всех сопереживать ей. Но теперь она не играла — Коули ясно различал в этих глазах боль, отчаяние, боязнь одиночества.
«Милый, милый звереныш. Как наблюдала ты за мной, какой была настороженной. Хитрая лиска, перехитрившая самое себя.»
— Билли, — тихо произнесла она. — Но хотя бы сегодня ты у меня останешься?
— Разумеется, Джесс. Только надо где-то пристроить Лавджоя.
7
Они договорились с Джессикой, что та решит к осени, продавать ли ей свою недвижимость в Джорджии или оставить кого-то, например, своего отца управлять ею. Потом она должна будет приехать к нему в Нью-Йорк.
Сам же Коули попрощался со всеми своими в Таре и уехал с каким-то смутным чувством вины. Они все там доживали свой век. Уэйд за последние два-три года сильно постарел. Нет, он все еще был бодр и подтянут, несмотря на свои семьдесят три года. Он уверенно ездил верхом, столь же уверенно водил свой «фордик» 1929 года выпуска. Но волосы его поседели почти полностью, он заметно похудел, когда-то мощные, широкие его ладони теперь напоминали птичью лапы. И бабушка Аннабел не выглядела моложе его — седая, тонкая, как тростиночка, синие глаза растерянно глядели сквозь толстые стекла очков. Так же будет выглядеть и Конни, потому что она повторит путь своей матери и, может быть, даже в худшем для нее варианте.
Сейчас их окружает незнакомый, стремительно несущийся куда-то мир, Совсем недалеко от Тары уже проложена новая автострада — асфальтовое шоссе, по которому днем и ночью проносятся вереницы машин. Заправочные станции, издалека заметные сиянием неона, такие же заметные ресторанчики и кафе у дороги, новые поселки строителей, возводящих нечто такое, чего здесь прежде в глаза не видели.
Чем он может помочь им всем? Забрать с собой? Оки не выживут долго там, оторванные от родной почвы — даже Генри и Конни, его мать и отец, уже сроднившиеся с Тарой.
Он приехал в Нью-Йорк, и хоровод неотложных дел тут же закружил его. Коули дописал еще несколько рассказов из своей джорджианской серии. Перечитав все, что у него получилось, он решил объединить рассказы и небольшие повести в роман под названием «Тепло очага». Да, построение романа получалось несколько необычным — десяток новелл, объединенных не только местом действия (все происходило в его родном округе, которому Коули присвоил, конечно, совсем другое название), но и героями, действующими в нескольких новеллах. Издатели приняли такую идею весьма благосклонно. Все тот же Снизуэлл, с которым Коули продолжал поддерживать отношения, правда, весьма осторожные, охарактеризовал новое произведение как «живое и занимательное», отметив при этом вскользь, что предыдущий его роман был скорее романом для критиков, чем романом для читателей.
Как бы там ни было, он мог себя поздравить — ему еще есть, что сказать. Да и серия рассказов об Африке показалась ему весьма удачной. Напечатанные в журналах Нью-Йорка и нескольких городов Восточного побережья, эти рассказы собрали хорошую критику.
Уже наступил октябрь, письма от Джессики, столь редкие в последнее время, вообще перестали поступать. Коули прекрасно понимал ее состояние, поэтому не очень волновался и не тревожился.
Но в середине октября, когда стояла чудесная солнечная погода, когда были видны за много миль корабли в океане, Коули получил телеграмму от матери. «Джессика Фонтейн умерла».
Коули перечитывал слова телеграммы, и смысл их не доходил до него — до того слова нелепо сочетались, до того первая часть послания противоречила второй.
Телеграмму он вынул из ящика вечером. Уже на следующий день Коули выехал в Атланту, там нанял такси, всю дорогу упрашивал водителя ехать побыстрее — и не успел на похороны. Уже в который раз посетила его мысль о том, что удел его — всегда опаздывать.
Маленький, изящный «Смит и Вессон», никелированный, с отделанной розоватым перламутром рукояткой, тот самый, что Джессика показывала ему летом, сыграл в драме ее жизни свою роль, заставив опустить занавес.
— Она была такая ухоженная — я имею в виду: когда ее хоронили — завитая, с очень аккуратным маникюром. И дырочка на виске почти совсем незаметная, — голос Конни, когда она рассказывала, звучал странно спокойно, будто она повествовала историю, не имевшую отношения ни к ней самой, ни к ее близким и знакомым людям.
Коули больше не стал никого ни о чем расспрашивать и покинул Тару столь же поспешно, как и приехал сюда.
8
Запах полыни — вот что было отличительной чертой для Испании. Однажды он всю ночь проговорил с интербригадовцем, который прикрывал отход диверсионной группы, взорвавшей мост в тылу франкистов. «Камарадо Вилли», как звали здесь Коули, принес на встречу с интербригадовцем, который уцелел только чудом, который никак не мог уцелеть по всем законам жанра этой странной, но по-настоящему жестокой и серьезной войны, целый ящик вина «риоха альта». Коули выпил за ночь все вино практически в одиночку и совсем не опьянел чем привел интербригадовца, парня, говорившего по-английски так же плохо, как и по-испански, в настоящий восторг. Коули интересовало все — и чисто технические детали операции по подрыву моста, и то, что чувствовал интербригадовец, и то, что его окружало тогда. Хотя у интербригадовца просто не было возможности смотреть по сторонам и замечать что-либо, но он, вспомнив, сказал с некоторым даже удивлением, словно о чем-то необычном:
— Полынь сильно пахла.
Когда Коули прочел написанное им тому интербригадовцу, парень с внешностью то ли турка, то ли корсиканца радостно сказал:
— Очень похоже. Вы словно были там рядом со мной, камарадо.
Серая полынь росла и вокруг небольшого аэродрома под Уэской.
Зной и белые меловые холмы — вот еще что Коули считал характерным для этих мест. Самолет брал на борт только восьмерых пассажиров. Восьмым был он, Уильям Коули, с трудом упросивший генерала интербригадовцев, кажется, венгерского еврея, позволить ему лететь на передовую. Похоже, решающим аргументом явился тот факт, что известный американский писатель участвовал в мировой войне в качестве летчика, что он совершил больше десятка боевых вылетов.
Они взлетели, и Коули стал жадно пожирать взглядом выжженные солнцем серовато-белые холмы, горы с прилепившимися на их склонах ослепительно-белыми домишками, ленты рек, отливающие матовым серебром. Это тоже характерно для Испании, отметил он про себя, что реки не синеют на виде с самолета, как в Америке, и не сверкают струйками расплавленного металла, как в Африке, но отливают старинным серебром.
Самолет пробыл в воздухе уже более получаса, скоро пилот должен был повести его на посадку, когда все в салоне вдруг заволновались, заговорили, показывая на что-то друг другу в иллюминаторах. Резкий толчок швырнул Коули сначала в проход между сиденьями, а потом назад, и он больно ударился спиной о шпангоут фюзеляжа. Пол впереди салона резко ушел вниз — самолет, похоже, пикировал. Коули видел, как дернулся один из сидевших напротив него, как он свалился с сиденья, как по полу, потек из-под него — почти мгновенно — ручеек крови. В борту зияло несколько отверстий с рваными краями, в каждое из которых можно было запросто просунуть два пальца. Коули услышал, как затакал пулемет в хвосте самолета, но потом самолет еще раз сильно дернулся, и пулемет умолк. Следующий удар по фюзеляжу оторвал Коули от сиденья, хотя он пытался удержаться изо всех сил. Ослепительная вспышка перед глазами, будто внутри черепа разорвалась граната, и черная пустота.
Когда он очнулся, то увидел над собой белый потолок. Коули попытался пошевелиться, но почувствовал адскую боль в спине, мгновенно перехватившую дыхание и повергшую его на несколько секунд опять в небытие. Когда он снова обрел способность что-то видеть, то обнаружил склонившееся к нему лицо в роговых очках.
— Вам нельзя двигаться, — сказало лицо на довольно сносном английском, — у вас поврежден позвоночник.
— Что со мной было? — Коули не мог понять, зачем он здесь лежит и почему у него поврежден позвоночник. Потом он вспомнил.
— Вы в порядке, — сказало лицо в очках. — Теперь-то уж вы точно в порядке. Когда вы чуть окрепнете, я дам вам почитать ваши некрологи.
Дж. Уоллер
Унесенные ветром
ВЕК XX
Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.
Примечания
1
Буквально — боец. В боксе — обладатель нокаутирующего удара.
(обратно)2
Нанесение ущерба путем публикации неверных сведений.
(обратно)3
6 сентября 1901 года в президента Мак-Кинли стрелял анархист, через неделю президент скончался. Его место занял Теодор Рузвельт.
(обратно)4
Стихи американской поэтессы Эмили Дикинсон. Здесь даны в переводе В. Марковой.
(обратно)5
Дж. П. Морган (1837–1913) — крупнейший финансовый магнат. Эдвард Гарри Гарриман (1848–1909) — владелец крупнейших железных дорог «Юнион Пасифик» и «Санта Фе». Корнелиус Вандербильт (1794–1877), прозванный коммадором, по аналогии с капитаном, управляющим сразу несколькими судами, за то, что управлял он несколькими компаниями сразу.
(обратно)6
Пистолеро (исп.) — дословно: стрелок. Здесь в значении бандит или наемный убийца.
(обратно)7
Мексиканская водка.
(обратно)8
Президент США, правивший два срока — с 1901 по 1909 год.
(обратно)9
Перефразировка стиха 26 из главы 12 Евангелия от Луки.
(обратно)10
Здесь обыгрывается одно из значений слова. Джон в просторечии еще обозначает сортир (прим. переводчика).
(обратно)11
Монета в 5 центов.
(обратно)12
Прогибишн (англ.) — запрет, здесь применяется во втором значении: «сухой закон».
(обратно)13
Имеется в виду рейд Панчо Вильи на город Колумбус в штате Техас.
(обратно)14
Настоящее имя писателя.
(обратно)15
Стихи Эмили Дикинсон.
(обратно)16
По У. Стивенсу, американскому поэту, высшая цель поэтического творчества, особый воображаемый мир.
(обратно)17
Популярная песня времен американско-испанской войны 1898 года.
(обратно)18
В 1887 году Гровер Кливленд президентским указом распорядился вернуть знамена мятежной Конфедерации, захваченные во время войны, но указ встретил яростное сопротивление ветеранов-северян. Знамена были возвращены только при президенте Теодоре Рузвельте в 1905 году.
(обратно)19
Старинный испанский танец.
(обратно)20
Да, господин (суахали)
(обратно)





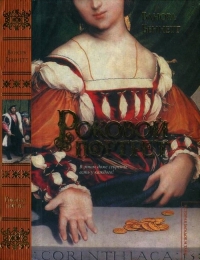
Комментарии к книге «Унесенные ветром. Век XX», Джеймс Уоллер
Всего 0 комментариев