Уинстон Грэхем Фортуна — женщина
Издательство ”Арт Дизайн” продолжает серию ”Голубая луна”
ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ ФИЛЬМОВ ”КОЛАМБИА ПИКЧЕРЗ”!
Роман ”Фортуна — женщина” вскоре после выхода в свет был экранизирован в Великобритании, еще через два года под названием ”Игра с огнем” — в Соединенных Штатах Америки!
РОМАН ”БАРЬЕРЫ” ПОЛУЧИЛ ПРЕМИЮ АССОЦИАЦИИ АВТОРОВ ДЕТЕКТИВНЫХ РОМАНОВ!
В серии ”Голубая луна” издательство ”Арт Дизайн” выпустило бестселлер Уинстона Грэхема ”Корделия”!
Blue Moon
Blue Moon — это золотой фонд мировой литературы!
В следующем выпуске — впервые переведенный на русский язык роман самой читаемой писательницы Великобритании Кэтрин Куксон ”БОЛОТНЫЙ ТИГР”!
УИНСТОН ГРЭХЕМ
один из крупнейших английских писателей XX века.
Автор нескольких десятков книг, переведенных на 18 языков.
Среди них:
”Ночное путешествие”,
”Возьми мою жизнь”,
”Греческий огонь”,
”Черная луна”,
”Женщина в зеркале”,
”Спящий партнер”,
а также пьесы и сценарии.
Многие романы экранизированы.
Член Королевского литературного общества, нескольких престижных клубов.
В течении долгого времени занимал пост Председателя Общества писателей Великобритании.
В 1983 году из рук Королевы получил высшую награду страны — Орден Британской Империи. Родился в Манчестере.
Женат, сын — преподаватель в Оксфорде.
В настоящее время Уинстон Грэхем живет и работает в Бакстеде, графство Суссекс.
Хобби: садоводство, плавание и гольф.
Я помог ей надеть плащ. Она не отвела взгляда и не попыталась вырваться. Я наклонился и поцеловал ее — сначала в щеку, а затем в губы. Странное, неизведанное чувство.
Я ощутил слабое сопротивление и сразу отпустил ее. Она обернулась — вроде бы сердито, но в ее глазах я не увидел гнева.
— Молчите, Оливер. Не сейчас. Видите, вы были правы: из этого ничего не выйдет. Мне не нужно было приходить.
(”ФОРТУНА — ЖЕНЩИНА”)
Дверь оказалась незапертой. Предпринять обыск в незнакомом доме, средь бела дня, возможно, и не самый разумный шаг, но во мне с самого утра зрела решимость ускорить события. Да, я был в спальне Леони. Я узнал запах ее духов, босоножки, шарф, а на нижней створке ставней сушился зеленый купальник без бретелек. На складной деревянной подставке покоился чемодан с ярлыками аэропортов; видно было название рейса: Амстердам — Рим. Сделав над собой усилие, я открыл крышку чемодана.
(”БАРЬЕРЫ”)
ФОРТУНА-ЖЕНЩИНА
Фортуна — женщина
Макиавелли, Принцип, гл. 25Глава I
О нашей первой встрече вряд ли можно сказать, что она была исполнена смысла. Столь многое изменилось с тех пор, что порою кажется: ее и вовсе не было. И все-таки, чем больше я об этом думаю, тем важнее кажется начать именно с нее, иначе трудно понять остальное.
С рассветом я уже был на ногах: до пробуждения прислуги выскользнул из сарая позади деревенской пивнушки, где держали пустые бутылки, и взял курс на Солсбери в надежде добраться туда дотемна. Но мне только раз удалось остановить грузовик; водитель с ярко выраженным тиком подбросил меня на расстояние в десяток миль — это было небольшим отклонением от маршрута, но и то, когда начался дождь, я пожалел, что не поехал с ним дальше в Эндовер: уж очень не хотелось ночевать под открытым небом.
Автомобиль стоял на обочине; девушка меняла колесо — во всяком случае, без особого энтузиазма совершала манипуляции с домкратом, но, заслышав мои шаги, выпрямилась и обернулась. Она была еще совсем дитя. В машине больше никого не было. Я спросил, что произошло; она пробормотала что-то о проколе и разбитой молочной бутылке. Я предложил свою помощь — она обрадовалась.
— Спасибо. Большое спасибо! Я уже боялась, что не хватит сил справиться с домкратом.
Автомобиль был марки ”даймлер”, гоночная модель. Девушка явно гнала слишком быстро. Ей еще повезло: обочина оказалась широкой. Я установил домкрат и с его помощью приподнял машину. Вначале девушка только наблюдала за моими действиями, а потом достала фонарик — очень кстати в надвигающихся сумерках — и держала его в руке, одетой в черную перчатку. Мы почти не разговаривали — о чем? — но мне пару раз показалось, будто фонарик качнулся, позволяя ей рассмотреть меня с головы до пят.
Установив запаску, я принялся закручивать гайки, но колесо проворачивалось. Я придержал его и в первый раз за все время в упор взглянул на девушку. Она заволновалась.
— Вы поранили руку?
— Пустяки. Может, вы сядете за руль и нажмете педаль тормоза?
— Зачем?
— Колесо крутится вместе с гайками.
— Понимаю, — она отдала мне фонарик и быстро забралась в машину. Я крепко затянул гайки и опустил машину. Убрал в багажник инструменты и поврежденное колесо и захлопнул крышку. За все это время мимо не проехало ни одной машины. Я вытер руки о тряпку и подошел к дверце.
— Все в порядке. Можете ехать.
— Благодарю, — сказала девушка. — Может, вас подвезти?
— Я собирался в Солсбери.
— Я живу в миле от города.
Я обошел автомобиль. Она включила свет в салоне.
— Как бы я не испачкал…
— А, ерунда. Садитесь.
Я сел. Она нажала на стартер. Автомобиль плавно снялся с места и устремился вдаль; мощный двигатель работал легко, без натуги. Обе они были первый класс — и машина и девушка. Для такого, как я, нет места в их жизни.
Я дал бы ей не больше восемнадцати; она была немного выше среднего роста, слегка полновата — это встречается у девушек ее возраста — и явно предпочитала гнать машину на огромной скорости. То ли опаздывает, подумал я, то ли ей не терпится избавиться от случайного попутчика.
Через некоторое время она решила нарушить тягостное молчание и спросила, из Солсбери ли я; я ответил, что никогда там не бывал. Постепенно всплыл тот факт, что я ищу работу, — давно ли? Довольно давно. Она бросила на меня быстрый взгляд, очевидно, прикидывая мой возраст, — это было несколько затруднительно из-за слоя пыли.
Было странно сидеть, откинувшись на спинку очень удобного сиденья и отдавая себе отчет в том, что через несколько минут автомобиль скроется из виду, оставив меня в темноте, под дождем, среди табличек ”Торговля с рук воспрещается”. Время от времени на лице девушки вспыхивал отраженный свет от фар встречного автомобиля; временами я видел его отблески у нее на чулках, или матово поблескивала кожа на запястьях, между рукавом пальто и перчаткой. У нее были густые, темные, очень длинные волосы, небрежно завязанные узлом на затылке, и молочно-белое лицо, такое гладкое, что его можно было принять за камею, если бы не живой и, если можно так выразиться, вполне земной рот. Идеальный овал этого лица говорил о том, что через какой-нибудь год, от силы два, она превратится в настоящую красавицу.
Один раз ей пришлось притормозить, пристроившись в хвост колонны армейских грузовиков; при первой же возможности она торпедой пронеслась мимо них, обронив какую-то реплику насчет вероятности войны. В то время это служило основной — наряду с погодой — темой светских бесед, поэтому я решил, что отвечать необязательно. Через несколько минут девушка повторила попытку.
— Как вы думаете, будет война?
— Если и будет, то не моя.
— Как это?
— Ну… пусть дерутся те, кому есть за что.
После недолгой паузы она спросила:
— Думаете, диктатура позволит вам вести прежнюю жизнь?
— Хуже не будет.
— У меня нет слов.
Я стер с тыльной стороны руки запекшуюся кровь.
— Возможно, для вас все так просто и понятно, потому что таким, как вы, есть что терять не только в материальном смысле. У меня же ничего подобного нет. Мое единственное право — это право оставаться парией, — я не видел ее лица, но угадывал его выражение. — Так что, если разразится война, постараюсь убраться из страны. А коли застряну здесь, в Англии, выдам себя — ну, хотя бы за пацифиста, или твердокаменного евангелиста, или адвентиста второго дня… Это единственный способ не замарать рук — и пусть другие корчат из себя героев.
Не представляю, что на меня нашло: ведь что бы ни было на душе, я не имел привычки откровенничать. Возможно, в ней было что-то такое, что меня спровоцировало. Вот сейчас она остановит машину и скажет мне убираться; я отнесся бы к этому как к чему-то знакомому, вполне в порядке вещей, и спокойно продолжил бы путь на своих двоих. Но она не сделала ничего подобного, а, помолчав, произнесла:
— Мне еще не встречались люди с такими взглядами.
— Дорого вам обошлась замена колеса!
— Этого я не говорила.
Мы въехали в небольшой населенный пункт.
— Это Солсбери?
— Нет еще.
— Беда в том, — сказал я, — что мы с вами говорим на разных языках.
— Наверное.
Мы проехали, видимо, по единственной улице поселка и снова оказались за городом. Я не видел в темноте ее ног, но скорее всего она с силой жала на педаль акселератора. Нам больше нечего было сказать друг другу.
Однако через несколько минут что-то заставило меня нарушить молчание.
— А что станете делать вы в случае войны?
— Брошу свое теперешнее занятие и поищу другую работу.
— Вы разве… чем-то занимаетесь всерьез?
— Это вас удивляет?
— В какой-то мере.
— Этого следовало ожидать.
Я не унимался:
— Вы чему-нибудь учитесь?
— Балету. Хочу сделать его своей профессией, — и с вызовом добавила: — Возможно, в ваших глазах это не работа, и тем не менее…
— Я ничего не говорю. Просто это так далеко от меня…
— Откуда вы родом?
— Это имеет значение?
— В общем-то нет.
— Я… англичанин.
— Вот уж ни минуты не сомневалась!
Я хотел спросить, что она имеет в виду, но автомобиль резко затормозил.
— Вот здесь я живу. Если вам нужно в центр, идите прямо.
— Спасибо.
— Но… вы поранили руку… Хотите, зайдем к нам, я сделаю вам перевязку?
Мы остановились перед тяжелыми двойными воротами. Дом светился огнями.
— Нет, ничего. Пойду, пожалуй.
В свете фар белела ведущая к дому дорожка. Я открыл дверцу.
— Спасибо, что подвезли.
Вместо ответа девушка порылась в сумочке, и не успел я выбраться из машины, как она сунула мне в ладонь пару монет. Я резко отдернул руку; одна монета покатилась по полу. Мы одновременно собрались что-то сказать, но в это мгновение из темноты вынырнул какой-то человек.
— Это ты, Сара? Где ты пропадала? Кто с тобой?
Он был примерно одного со мной роста, сухопарый, с металлическим блеском седых волос.
— Засиделась у Валери, папочка. А на обратном пути проколола шину. Этот человек помог мне заменить колесо, а я его подбросила.
— Все в порядке, — подтвердил я. — Это не стоило мне никаких хлопот. И потом, меня подвезли.
Отец девушки оглядел меня сверху донизу, очевидно, не пропустив ни двухдневной щетины, ни ботинок не по размеру.
— Вот как… Понимаю, — чопорно произнес он. — Весьма признателен. Доброй ночи.
Девушка простилась со мной несколько более сердечно, и они ушли. По дороге она начала рассказывать ему о Валери: должно быть, чувствовала потребность выговориться и таким образом снять напряжение от путешествия в моем обществе.
Я несколько секунд смотрел им вслед. Скорее всего, они в ту же минуту забыли обо мне — безымянном бродяге, который сделал свое дело и может уходить, человеке из другого мира, простирающегося за пределами того, где шла их приятная, обустроенная жизнь. И, хотя я привык к таким вещам, это меня задело. Я пошел прочь. За спиной послышался шум двигателя — автомобиль загоняли в гараж. И только через несколько минут я обнаружил у себя в руке монету в полкроны.
* * *
Ночлежка была еще открыта, и для меня нашлась свободная койка. На другое утро я отправился к человеку, чей адрес мне дали. Как выяснилось, он уехал на каникулы, так что я оказался там же, где и раньше. Стояла пора сенокоса, однако погода была для этого явно неподходящей; наверное, и я тоже. Возможно, людей настораживали не столько мои лохмотья, сколько жесткость взгляда. Все во мне противилось тому, чтобы пытаться их разжалобить. Поэтому в то утро мне только и досталось, что девятипенсовик да брошюра под названием ”Слово Твое — мой Светоч”.
После полудня я подрядился колоть дрова. Это не было работой в полном смысле слова, потому что старушке, которая меня наняла, было нечем платить, но я все-таки согласился. В самый разгар моих трудов явился полисмен. Его интересовало, кто я и давно ли появился в городе.
Я ответил на все вопросы, и тогда он задал последний:
— Вы — тот самый человек, который менял колесо машины доктора Дарнли, а за это вас подвезли до города?
Ведя такой образ жизни, не станешь смотреть на полисмена как на лучшего друга и защитника. Испокон веков тянется необъявленная война, даже если ты ничего не нарушил. ”А ну, вали отсюда!”, ”Нечего тут разлеживаться!”. Даже если они не открывают рта, все равно, глядя на тебя, делают зарубку в памяти — на случай, если позже обнаружится мелкая пропажа. А ты смотришь на них, и у тебя на лице написано все, что ты о них думаешь.
Этот полисмен был совсем молоденький.
— Да, это я заменил колесо.
— Тогда попрошу вас пройти со мной в участок и ответить на парочку вопросов.
— А в чем дело?
— У мисс Дарнли пропал браслет. Вот мы и ищем. Вы же не хотите неприятностей, правда?
Старуха, для которой я колол дрова, все это время торчала в одном из окон второго этажа, всем своим видом показывая: она давно подозревала, что дело нечисто, а теперь вот и всем стало ясно, что я — замаскированный детоубийца.
— По-вашему, это я его стибрил?
— Нужно удостовериться, — примирительным тоном ответил полицейский и повторил: — Вы же не хотите неприятностей, правда? Идемте, потолкуем в участке.
Я понял: он блефует, у них нет никаких оснований предъявлять мне обвинение. Но, поскольку мне было нечего скрывать, я всадил топор в чурку и последовал за ним. Само собой, я злился и ожидал встретить в участке вчерашнюю девушку.
Однако там не оказалось никого, кроме здоровенного плешивого сержанта и еще одного полицейского, устроившегося в уголке за дверью. И, конечно, в нос тотчас шибанул стойкий запах хлорки.
Меня спросили о происхождении, обстоятельствах моего появления в городе, а также не видел ли я бриллиантовый браслет, где провел ночь и куда ходил утром. Потом вежливо осведомились, не возражаю ли я против личного досмотра. Я возмутился: с какой стати? Я что, арестован? И если да, то за что?
Сержант подозрительно уставился на человека, который выказал чересчур хорошее знание правил игры.
— Вы когда-нибудь подвергались задержанию?
— Да.
— За что?
— За избиение полицейского.
Это немного охладило их пыл.
— Сколько вам дали?
— Семь суток.
Сержант встал и, покусывая большой палец, вышел из-за стола.
— Слушай, сынок, мы прекрасно знаем людей твоего сорта. Если тебе нужны неприятности, ты их получишь, и, можешь мне поверить, ни одна живая душа не придерется. Но, если ты ответишь на все вопросы и подчинишься личному досмотру без предъявления ордера, мы поступим с тобой по-человечески. Так что выбирай.
Я обдумал ситуацию. Дело попахивало избиением младенца.
— О’кей. Если вам от этого легче…
Меня обыскали. Обычно полицейские не отличаются богатой фантазией, зато к их услугам широкий ассортимент уловок, применяемых жуликами всех мастей. Этот обыск убедил меня: полисмены — способные ученики.
— Ну что, довольны? — буркнул я, когда все было кончено.
Должен признаться, сержант вел честную игру. Он поскреб лысину и, с отвращением поглядев на меня, вышел в приемную, где стоял телефон. Через несколько секунд второй полисмен вышел вслед за ним; в приоткрытую дверь я ухватил ничтожную часть разговора, однако этого было достаточно, чтобы понять: он звонил доктору Дарнли. Как выяснилось, доктор Дарнли был местным мировым судьей.
Наконец сержант вернулся.
— Ладно, сынок, можешь идти. Мы не станем предъявлять тебе обвинение.
— Вот спасибо! Должен ли я ставить вас в известность о своих дальнейших передвижениях?
— Послушайся моего совета, придержи язык, а не то он доведет тебя до беды.
Я промолчал. Какой смысл в мальчишеских выходках? И вообще, я сыт по горло. Если бы я позволил себе открыть рот, вышло бы именно то, против чего он меня предостерегал. Я спустился с крыльца, машинально подбрасывая на ладони монету в полкроны. Кто знает, с дерзостью молодости думал я, возможно… когда-нибудь… Но, разумеется, в душе я прекрасно знал, что это несерьезно.
Глава II
И в самом деле, ничего из того, что я тогда нафантазировал, не сбылось. Однако встреча состоялась — через девять лет.
Я не успел до объявления войны покинуть пределы Англии, хотя и отправился в Ливерпуль в надежде сесть на какое-нибудь судно. Но было уже поздно, и вскоре после Дюнкерка меня призвали в армию.
Нет, я не рисовался перед Сарой Дарнли. Я и сейчас готов был подписаться под каждым словом. Однако рассуждать о своих намерениях гораздо легче, чем осуществить их или хотя бы сделать шаг в этом направлении. Я импульсивная натура, а в данном случае импульс отсутствовал. У меня нет более вразумительного объяснения.
На первых порах дела шли из рук вон плохо. Меня угнетала не сама по себе военная подготовка, а необходимость дисциплины. Все же спустя несколько месяцев я приспособился — в ущерб лучшей части своего ”я”. Потом мне присвоили звание и маховик завертелся.
Я прослужил шесть лет и порядочно попутешествовал. У меня было много друзей, но двое из них взяли на себя заботу о моем будущем на гражданке. Рой Маршалл, родом из Новой Зеландии, так красочно описывал жизнь на острове, что мне показалось заманчивым эмигрировать в другую страну, чтобы начать с чистого листа. Я уже начал готовить документы, но тут подвернулось второе предложение, от Майкла Аберкромби, и через месяц я побывал в его офисе на улице Короля Вильямса. Кончилось тем, что я дал согласие работать в системе страхования.
Не последнюю роль сыграло то, что я довольно-таки привязался к Майклу. Это был великан сурового вида, с крутым изломом бровей — в минуты озабоченности они складывались буквой ”V”. Внешне он производил впечатление человека решительного, прирожденного лидера, однако на самом деле был в высшей степени деликатен, даже застенчив.
Помню, после знакомства с его отцом мы вышли обсудить это за чашкой кофе. Он спросил, заинтересовало ли меня его предложение. Я вызвал в памяти просторные кабинеты его фирмы на четвертом этаже административного здания с табличкой: ”Аберкромби энд Компани. Страховая инспекция. Основана в 1841 году”, маленькую машинисточку в приемной — она носила туфли на трехдюймовых каблуках — и прочих сотрудников, из которых каждый был занят своим делом. Мне было нелегко представить себя в этой обстановке.
Майкл растолковал мне, чем они занимаются. Если фирма, или частное лицо, или морское судно терпит бедствие и несет убытки, они предъявляют иск страховой компании. В задачу страхового агента входит произвести экспертизу, определить размеры понесенного ущерба и составить исковое заявление таким образом, чтобы оно устраивало обе стороны.
— Если не брать в расчет старые фирмы, как наша, в период между войнами этот род бизнеса не пользовался особой популярностью, однако времена меняются. Страховые эксперты начали объединяться в ассоциации, дело ставится на профессиональную основу, требования растут: к примеру, в настоящее время нужно знать бухгалтерский учет…
— Откуда же, по-твоему, у меня возьмется необходимая квалификация?
— В данном случае это не главное, хотя я и рассчитываю, что со временем ты наверстаешь по части знаний и умений, — Майкл поднес ко рту чашку с кофе. — Мой дед скончался восемь лет назад. А отец, по правде говоря, не тянет. В некоторых ситуациях он действует исключительно грамотно, но случаются и такие, которые требуют определенной твердости характера, а где ее взять? Страховщики же мигом чуют слабину. Сам я хочу специализироваться на кораблекрушениях — больше ни к чему не лежит душа. Признаюсь тебе, я и сам похож на отца — такой же слабохарактерный. Мы с ним дополняем друг друга. Хотелось бы иметь партнера с противоположными качествами.
— Я что-то не пойму: это комплимент или оскорбление?
Майкл ответил без улыбки:
— Наверное, и то, и другое — всего понемножку. Мы слишком много пережили вместе, чтобы я пытался подсластить пилюлю. Оливер, я испытываю к тебе огромное уважение.
— О, Господи!
— Нам нужна цельная натура, человек волевой, приятный в обращении, но способный, если нужно, настоять на своем; толковый и хорошо разбирающийся в людях.
— Как ты можешь судить о цельности моей натуры? Все, что тебе известно, это то, что, исполняя обязанности полкового казначея, я не растратил казенные деньги.
— Я знаю то, что слышал от тебя самого.
Я немного подумал и произнес:
— После окончания школы я устроился в аэропорт; два года проработал механиком в гараже и одновременно занимался на вечерних курсах журналистики. После смерти отца отовсюду ушел и стал скитаться по дорогам. Пересек — в качестве кочегара — Атлантический океан, нанимался к фермерам… Не очень-то вяжется с той работой, что вы мне предлагаете. А насчет приятности в обращении — у тебя слишком богатая фантазия.
Подошла официантка. Майкл заплатил по счету.
— Я знаю тебя четыре года и успел составить собственное мнение. Мне кажется, ты находишься в плену довоенных представлений о самом себе. Возможно, смотрясь по утрам в зеркало, ты видишь себя прежнего — но это чисто внешнее впечатление. Забудь о нем. До войны ты вел сомнительный образ жизни, но, нравится тебе это или нет, война в данном случае оказалась как нельзя более кстати. Знаменитый натиск Бранвелла! Но теперь пора приспосабливаться к мирной жизни.
Я заерзал от смущения.
— Беда в том, что я чувствую себя подделкой. Ни рыба, ни мясо, ни птица. До войны я, по крайней мере, знал, кто я и что я — пусть даже мое место было среди отщепенцев.
— Тебе нужно сменить критерии, взять иную точку отсчета. Во всяком случае, это — один из способов, — Майкл подождал и, так и не дождавшись ответа, продолжил: — Конечно, в каком-то смысле такая работа может показаться пресной. После первого заместителя командира полка трудно всерьез посвятить себя поиску доказательств того, что шуба миссис Смит действительно не подлежит ремонту, или установлению причин поломки водопровода.
Мы вышли на улицу. Накрапывал дождь. По мокрому асфальту шуршали шины проносящихся автомобилей; на тротуаре было полно народу. У входа в аллею какой-то человек торговал спичками. Я купил коробок. Вот о чем я думал: не прошло и восьми лет, как ты ночевал на товарном складе Суиндона, и примерно столько же — с тех пор, когда тебе дали семь суток за то, что ты заехал в глаз полицейскому; а двенадцать лет назад твой отец открыл газ, и, когда ты вбежал в дом, он, уже почти не дыша, лежал на полу в луже собственной блевотины. Мистер Бранвелл — в отложном воротничке и черном галстуке, только что возвратившийся электричкой в девять пятнадцать из Сербитона…
Так чего же я жду, почему медлю? Потому что работа на ферме в Новой Зеландии представляется мне более заманчивой перспективой?
— Как бы я тебя не подвел через каких-нибудь полгода. Не успею толком овладеть профессией, как она мне осточертеет и захочется перемен…
— Это не исключено. Но я не думаю. В любом случае, тебе не обязательно сию минуту принимать решение. Не горит. Даю тебе несколько дней на размышление.
Мы перешли через дорогу и свернули на Кэннон-стрит.
— Мне нужно зайти к приятелю, — сказал Майкл. — Это как раз по дороге. Пройдем еще немного пешком, а там… какой тебе нужен автобус?
— Майкл, меня больше не нужно убеждать. И я не нуждаюсь в нескольких днях на раздумья. Хватит одного вечера. Завтра я к тебе загляну. О’кей?
Должно быть, он понял, что я решил принять его предложение. Несмотря на все свое добродушие, он редко улыбался, — а теперь расплылся в улыбке и дотронулся до моей руки.
— Отлично, Оливер.
* * *
Наверное, война перевернула жизнь многих людей, не только мою. Но временами меня разбирал смех при мысли о том, что результатом всей пролитой крови, пота и слез явилось превращение паршивого бродячего кота в респектабельного домашнего любимца, наслаждающегося всеми удобствами жизни того самого общества, которому он так яростно бросал вызов.
Иногда я нарочно напоминал себе об этом, потому что способность человека удивляться весьма ограничена: не успеешь понять, на каком ты свете, как необычное становится само собой разумеющимся, будничным, и ты ведешь себя так, словно иначе и быть не могло. Личность не есть нечто неизменное. Она, как кора дерева, подлежит обновлению. Хотя, если уж быть точным, работа страхового инспектора — тоже не сплошной праздник. Случается, вам звонят в любое время дня и ночи, и приходится мчаться в Шерборн, Саутгемптон или Ширнесс.
Я снял двухкомнатную квартиру над магазином дамского платья на Джордж-стрит. Можно было найти и подешевле, но мне нравится жить в Вест-энде, усиливая, таким образом, ощущение иронии судьбы. У меня никогда не было корней. И, если я потеряю эту работу или она мне надоест, я не оставлю за собой ничего, кроме ключа в замке.
Первые полгода Майкл меня усиленно натаскивал. Где только мы ни побывали вдвоем! Постепенно я даже начал находить интерес в некоторых аспектах этой работы. Оказалось, что она не сводится к рутине, элементарному набору повторяющихся операций. Нужно было быть легким на подъем, знать цену людям и вещам, а зачастую приходилось выступать и в качестве детектива.
Со временем я понял, что имел в виду Майкл, говоря о том, что фирма нуждается в ужесточении своей политики. И он сам, и его отец были милейшими людьми, но не совсем подходили для этой работы. Вероятно — хотя они и не желали себе в этом признаваться, — все дело было в том, что они считали других такими же порядочными, как они сами. Возможно, это неделикатно с моей стороны, но мне кажется, это идет от гордости, не позволяющей допускать низость ни в себе, ни в других — словно это нанесло бы ущерб их совершенству.
Мне стали поручать простейшие дела, которые сводились к примитивному отчету. После того как мою работу одобрила фирма ”Ллойд и Ллойд” и мне удалось уладить дело без ущерба для Сити, меня стали подключать к другим несложным сделкам. Одна история, связанная с кражей автомобилей, напомнила мне событие девятилетней давности. Интересно, думал я, что сталось с той девушкой? Все ли она еще живет там с отцом и нашелся ли ее браслет? Впрочем, интерес был не настолько велик, чтобы специально наводить справки.
В первые два года я не обзавелся новыми друзьями. Майкл делал все от него зависящее, даже уговорил меня стать шафером у него на свадьбе, чтобы я почувствовал себя своим в среде страховщиков. Он постоянно твердил, как важно ощущать себя причастным к общему делу. Но я не мог поступиться какой-то существенной частью своего ”я”.
Единственная завязавшаяся было дружба с одним из коллег рухнула из-за девушки. Фред Макдональд работал страховым агентом фирмы ”Бертон энд Хикс”. Мы пару раз встречались по делам, и однажды он пригласил меня к себе в Харроу. Макдональду было под пятьдесят, он рано облысел и отличался склонностью к полноте; приятное, располагающее к себе лицо начало обрастать вторым подбородком. Приехав к нему домой, я обнаружил, что у него есть дочь на выданье, девушка двадцати двух лет по имени Джоан. Мы подружились, время от времени я куда-нибудь приглашал ее; по-видимому, все решили, что дело в шляпе, но в один прекрасный день я проснулся с ощущением, что она ничего для меня не значит. Я тотчас порвал отношения. Девушка сильно огорчилась, хотя ровным счетом ничего не потеряла.
Однажды поступило сообщение о пожаре в жилом доме в графстве Кент. Старика свалила простуда, а Майкл был занят, так что пришлось поехать мне. Фамилия хозяина дома была Мортон, адрес — Ловис-Мейнор, Слейден, близ Тонбриджа. Я немного заплутал и в конце концов убедился, что это примерно на таком же расстоянии от Тонбриджа, как и от Севенокса. Я оставил свой двухместный ”райли” выпуска десятигодичной давности возле массивных дубовых ворот со сторожкой, больше похожей на флигель, и пошел по дорожке, ведущей к дому.
Я не особенно разбираюсь в архитектуре, но, по-видимому, что-то привлекло мое внимание, потому что я, помнится, замешкался у парадного, и не только затем, чтобы взглянуть на сгоревшую крышу либо безглазое окно.
Это был старинный, внушительного вида деревянный особняк; казалось, он стоит здесь так давно, что успел стать частью местного пейзажа. У меня даже возникло ощущение, будто он не был построен, а вырос наподобие дерева. Центральная часть дома уходила вглубь; по обеим сторонам от нее вперед выступали два крыла. Дорожка переходила в усыпанный гравием дворик с палисадниками вдоль стен дома и ступеньками, ведущими на лужайку и в сад.
Дверь открыл полный мужчина в твидовом костюме. Я объяснил причину своего приезда. Он представился: мистер Трейси Мортон — и предложил мне войти в дом.
— Здесь нечего особенно смотреть, — как бы оправдываясь, сказал он. — Мы проснулись от дыма и успели потушить огонь до приезда пожарных. Пострадал главным образом мой кабинет.
В комнате с низким потолком царил обычный беспорядок: мебель почернела, занавески висели клочьями, полуразрушенная стена имела такой вид, будто ее рубили топором. Я внимательно все осмотрел. Сгорели портьеры и еще кое-какие вещи. Обуглились некоторые предметы мебели, но в общем я не увидел каких-то капитальных разрушений, если не считать стены, изрубленной пожарными.
— Очевидно, все дело в дымоходе, — рассказывал мистер Мортон. — Пожарные предполагают, что одна балка давно начала гнить и наконец обрушилась на ту часть трубы, что расположена в кладовке, — между этой комнатой и кухней. Косяки и загорелись. Моя мать первая почувствовала запах гари и разбудила нас с женой. Вы не против, если я подожду снаружи? Мне вреден дым.
Я протиснулся через кладовку в кухню — к изумлению пожилой служанки, чистившей картофель. Она смотрела на меня так, словно я выскочил из бутылки с уксусом.
Я нашел мистера Трейси Мортона; он устало повел меня в просторную гостиную в другом конце дома. Там он налил мне виски с содовой.
— Вам повезло, что не было сквозняка, — сказал я. — Иначе остались бы без крыши над головой.
Он кивнул, закашлялся и поставил свой бокал на маленький столик с резными ножками — очевидно, семнадцатый век. В этой комнате было немало дорогих, ценных вещей.
— Надо будет пригласить архитектора, проверить остальные трубы.
— В кабинете было что-либо, представляющее особую ценность: ковры, мебель, еще что-нибудь? — Я допил виски и повертел в руке бокал из старинного бристольского стекла.
— К счастью, ничего особенного, если не считать одного Бонингтона. Вот это действительно большая потеря.
За два года я узнал достаточно, чтобы тотчас понять, о чем идет речь.
— Я заметил две картины. Одна — как будто морской пейзаж, а вторая совсем обгорела.
— Морской пейзаж — дешевая репродукция, а вот Бонингтон был подлинный. Мало того, он изобразил рощу и мельницу, которые когда-то были недалеко от нашей усадьбы. Мой прадед специально заказал ему эту картину, — он закурил, однако не предложил мне сигарету. В ту же минуту аромат целебных трав объяснил, почему. Мистер Мортон устремил на меня сквозь завесу дыма равнодушные глаза цвета ржавчины.
— Вы имеете хотя бы приблизительное представление о ее стоимости?
— Кажется, она застрахована на тысячу фунтов, но, если принять во внимание сентиментальную сторону, она имеет для нас гораздо большую цену, — хозяин дома встал. — Где-то у меня был полис… Нет, он, конечно, остался у моего адвоката.
— Это неважно. Ознакомлюсь с ним, когда вернусь в город. Что же касается повреждений пола…
Я не закончил фразу, потому что как раз в этот момент в комнату вошла молодая женщина с букетом желтых хризантем. Она начала что-то говорить, заметила меня и осеклась.
— Ох, извините, я думала…
Мортон небрежно произнес:
— Это мистер… э… Бранвелл. Он приехал насчет страховки. Моя жена.
Мы обменялись парой дежурных фраз, и она, подойдя к массивному пианино, поставила цветы в высокую зеленую вазу. Она не узнала меня — даже проблеска воспоминания я не обнаружил в ее глазах, Зато сам я сразу ее узнал. Поразительно! Я уж думал, что забыл о ней. Но оказалось, что где-то в дальнем уголке памяти хранились мельчайшие подробности давней встречи, чтобы моментально ожить при ее появлении.
Глава III
После того как она удалилась — две или три минуты спустя, — я уже несколько иными глазами смотрел на человека, с которым мы еще не закончили обсуждать наше дело.
Ему было лет сорок или немного больше; редкие русые волосы спадали на виски. Он постоянно пощипывал тонкие усики; при этом в проникавших сквозь зарешеченные окна солнечных лучах поблескивал перстень с печаткой. Во всех его движениях сквозили нервность и раздражительность человека, опоздавшего на поезд. Курение трав не принесло ему сколько-нибудь ощутимой пользы.
Я с трудом оправился от потрясения, вызванного неожиданной встречей. Самым удивительным было то, что это по-прежнему что-то значило.
Опорожнив свой бокал, я вернулся в кабинет, чтобы точнее определить размер нанесенного Мортонам ущерба. Подлинник Бонингтона ”Роща и мельница” значительно увеличивал первоначальную сумму. Перед уходом я еще раз увиделся с Трейси Мортоном. Он неожиданно спросил:
— Вы служили в Восьмой армии?
— Да. Как вы догадались?
Он пожал плечами.
— По некоторым оборотам речи. Армейский жаргон…
— Вы тоже в ней служили?
— Более или менее. В сорок втором я был ранен под Тобруком.
— В каком месяце?
— В июне.
— Я принимал участие в боевых действиях, начиная с конца сорок первого. В июне был в Хайфе. Вас туда не забросило немного позднее?
— Нет. Меня взяло на иждивение итальянское правительство[1].
В таких случаях всегда происходит одно и то же. Если раньше мистер Мортон еле сдерживал раздражение, то теперь его тон стал гораздо дружелюбнее. Он проводил меня до дверей. Слуг по-прежнему не было видно, если не считать старухи на кухне. На крыльце мы расстались. Я пересек посыпанный гравием дворик и скосил глаза через лужайку. По обеим сторонам обсаженной падубом[2] дорожки начинался сад с зеленой изгородью из самшита, солнечными часами и прудом, поросшим лилиями. Трейси Мортон вернулся в дом. Я обошел особняк, обогнув возведенное из камня крыло явно более древнего происхождения, и, нырнув под арку, вышел еще в один, на этот раз усыпанный галькой, дворик. Какой-то человек в одной рубашке выметал сор из бывшей конюшни, очевидно, переоборудованной под гараж. Он даже не удосужился поднять голову.
Дальше дворик пошел под уклон и закончился рядом лужаек в виде террас, окаймленных тисом. Я увидел теннисный корт и луг, на котором беспрепятственно пасся одинокий пони. За домом расположились две оранжереи и несколько сараев — скорее всего, в них держали садовый инвентарь. В одной оранжерее мелькнул силуэт миссис Мортон.
Оглядываясь теперь назад, я думаю, что, скорее всего, сознавал всю важность своего следующего шага. Я запросто мог повернуть назад, сесть в свой ”райли” и укатить — и тем бы и кончилось. Или войти в оранжерею — отрезать себе все пути к отступлению.
Я вошел в оранжерею.
Она собирала помидоры и, по-видимому, уже заканчивала: у кустов был помятый вид; кое-где оранжево пестрели недозрелые плоды; следующий урожай обещал быть таким же богатым. На скамейке стояли цветы в горшках и раскидистый куст папоротника. Миссис Мортон не сразу заметила мое присутствие — это дало мне возможность рассмотреть ее.
Несмотря на то, что я мгновенно ее узнал, в ней произошли большие перемены. Она похудела и стала очень стройной. Тонкая талия, густые темные ресницы. Волосы подстрижены покороче и уложены в другую прическу; в эту минуту они растрепались и блестели на солнце.
Она стремительно обернулась, и я прочел на ее лице удивление, естественное для хозяйки дома, если случайный посетитель начинает разгуливать где ни попадя.
— Вы ищете мужа?
— Нет… Я видел, как вы направились сюда, и решил вернуть старый долг.
— Мне?!
— Да, — я вытащил из кармана полкроны. Миссис Мортон недоуменно взглянула на монету.
— Ничего не понимаю.
— Ваша девичья фамилия Дарнли? Сара Дарнли?
Это убедило ее в том, что она имеет дело не с полоумным.
— Прошу прощения… я вас не помню. Как, вы сказали, ваше имя?
— Оно вам ничего не скажет, — я положил монету на деревянную скамью. — Вы дали мне ее в тридцать девятом. Помните, вы прокололи шину на безлюдном шоссе?
В ту первую встречу я не разглядел, какого цвета у нее глаза. Теперь же она подняла их на меня, и они оказались чуточку светлее волос и ресниц. Они светились умом и добротой и таили в себе некую загадку.
— Да, я припоминаю такой случай. Однако… — она запнулась. — Вы не… Силы небесные!
Мы несколько секунд молча смотрели друг на друга. Из крана в углу с размеренностью метронома капала вода.
— Вы нашли тогда свой браслет?
Она смутилась.
— Не могу передать, как нам было стыдно. Он нашелся — на том самом месте. Должно быть, выпал, когда я сражалась с домкратом, еще до вашего появления. Мне следовало помнить, что замок ненадежен.
— Бродяги тоже.
Девушка покраснела.
— Мне, право, очень жаль. Но откуда нам было знать, что вы — не просто человек с улицы?
— Я им и был.
— Но это невозможно! Не могли в вас — в вашей жизни — произойти столь разительные перемены!
— Война, — лаконично произнес я. — Я угодил в котел, из которого никто не выходит таким, как прежде.
— Но мне показалось… Во всяком случае…
Я ждал продолжения, но оно не последовало. Я перевел взгляд на монету.
— Возможно, это она принесла мне удачу. А теперь сделает то же для вас.
— С чего вы взяли, будто я в этом нуждаюсь?
— Все мы в этом нуждаемся. В любом случае, спасибо, — я повернулся, чтобы уйти, но замер, услышав за спиной:
— Подождите.
Я обернулся.
— Да?
— Я… так и не знаю вашего имени.
— Оливер Бранвелл.
Она дружелюбно улыбнулась.
— Простите, что мы причинили вам неприятности — из-за браслета.
— Забудьте об этом.
— Тогда не будете ли и вы так добры забыть об этих деньгах? Понимаете…
Она взяла монету и протянула мне. Ее пальцы были слегка запачканы — после возни с помидорами.
— Нет, — возразил я. — Мне нечего понимать. Монета ваша, миссис Мортон. Я всегда плачу свои долги.
* * *
На следующей неделе мне снова выпало посетить те края — нужно было повидаться с местным архитектором и уладить дело о страховке.
Как и в прошлый раз, Трейси Мортон лично впустил меня в дом. Его жены не было видно. Мы немного потолковали о делах. Возникло новое осложнение: мистер Мортон обнаружил, что дым попортил полировку на старинной мебели в холле, и хотел, чтобы данные предметы были внесены в перечень. К примеру, бюро орехового дерева времен королевы Анны, за реставрацию которого он только что выложил шестьдесят фунтов. Разумеется, это был правомерный подход к делу, хотя и сулил небольшую затяжку в оформлении искового заявления.
Покончив с делами, Мортон предложил мне сигарету — естественно, не из своего портсигара, а из резной антикварной шкатулки, обитой атласом, и небрежным тоном спросил:
— Вы, кажется, и раньше встречались с моей женой?
Я не ожидал, что она сочтет нужным рассказать ему об этом.
— Да. Правда, она меня не запомнила.
— Это неудивительно. Вы в самом деле тогда были ”человеком с улицы”?
— Если вы заподозрите в этом трюк с романтической подоплекой, то очень ошибетесь.
Он провел средним пальцем по холеным усикам.
— Война — это тигель для переплавки человеческих судеб. Чего только в нем не намешано! Одни выходят из него облагороженными. Другие — ущербными, ожесточившимися. Вы служили в стрелковой бригаде?
— Нет, в запасной стрелковой роте.
— Я знавал бригадного генерала Уотертона. И майора Морриса-Скотта.
— Знаю бригадного генерала Уотертона — правда, только в лицо. Моим непосредственным начальником был подполковник Иден.
— Иден… должно быть, его знает мой брат. Он сейчас не в Чартерхаузе[3]?
— Не знаю, — сухо ответил я.
— Да, навряд ли, — мистер Мортон закашлялся; мы направились к выходу.
— С самого окончания войны я не состоянии работать. Длительное переохлаждение — и вот, пожалуйста, астма! Никак не могу от нее отделаться. Мой дед тоже страдал этой гнусной болезнью. Приезжайте как-нибудь пообедать с нами.
Я был безмерно удивлен и не успел хорошенько подумать, как выпалил:
— Спасибо. С удовольствием.
Его безучастный взгляд скользнул по моему лицу.
— Скажем, в воскресенье?
— Большое спасибо.
* * *
Я оставил свой автомобиль за воротами и теперь шагал по обсаженной падубом дорожке — среди зелени ало поблескивали ягоды. Садовник сгребал опавшую листву. Увидев меня, он кивнул и дотронулся до шляпы.
Вдалеке на лугу паслась корова. Освещенные солнцем осени деревья отбрасывали длинные тени. Интересно, подумал я, как себя чувствует человек, родившийся и выросший в такой усадьбе, как эта? Несмотря на всю свою небрежную манеру, мистер Мортон произвел на меня хорошее впечатление; кажется, я на него тоже. По-видимому, приглашением на обед я был обязан тому обстоятельству, что мы оба служили на Ближнем Востоке, — или мимолетному знакомству с его женой…
Едва я подошел к своему автомобилю, послышался шум. Еще прежде, чем машина вынырнула из-за поворота, я уже знал, что за рулем сидит миссис Мортон.
Подъезжая к воротам, она немного сбавила скорость; я поднял руку, и машина остановилась. Это был ”бентли”, довоенная модель, но в приличном состоянии. Миссис Мортон была без шляпы, но в длинном, свободном пальто с поднятым воротником. Всякий раз ее лицо приводило меня в замешательство, потому что его выражение постоянно менялось, мгновенно реагируя на перемены в настроении. Рядом с ней в машине сидел коккер-спаниель.
— Доброе утро, — поздоровался я. — Сегодня без проколов?
— Да, — она тоже улыбнулась, но, как мне показалось, несколько прохладно. — Вы только что приехали?
— Нет, уезжаю. Хочу перед вами извиниться.
— За что?
— За неуклюжую попытку заплатить старый долг.
— Вы имели на это право.
— Спорное утверждение, но не будем на этом зацикливаться. Я запомнил не только плохое.
— Я рада.
— Вам тогда попало за подозрительное знакомство?
— Более или менее. К слову — вот тот самый браслет.
Она немного отвернула рукав пальто, и я уставился на украшение у нее на запястье.
— Красивая вещица.
Кажется, голос меня выдал. Она поспешно опустила рукав. Спаниель забрался к ней на колени и завилял хвостом. Его налитые кровью глаза смотрели дружелюбно и чуточку грустно.
— Миссис Мортон, могу я задать вам один вопрос?
— Конечно.
— Вы всегда лихачите?
Она негромко засмеялась.
— Просто я вечно тороплюсь. Сегодня перед отъездом забыла кое-что снять с плиты.
Я отступил в сторону.
— Не теряйте времени. Надеюсь увидеться с вами в воскресенье. Большое спасибо.
— В воскресенье?.. Ах да, конечно, я и забыла.
Она нажала на стартер. Я смотрел вслед удаляющемуся автомобилю. Потом сел в свой двухместный ”райли” и двинулся в противоположном направлении. Она постаралась замять, но я понял: инициатива моего приглашения исходила не от нее.
Глава IV
Стоял погожий октябрь, а это воскресенье и подавно выдалось отменное. Я катил в южном направлении, минуя бесконечные и, как ни странно, создававшие ощущение пустыни кварталы многоквартирных жилых домов.
Подъезжая к Ловис-Мейнору, трудно было отрешиться от мысли, что в этом особняке разместились бы добрых восемь семей, если брать за точку отсчета то жизненное пространство, которым они располагают в тридцати милях отсюда. Со всеми пристройками и прирезанными участками усадьба Мортонов казалась городом в миниатюре, только, в отличие от города, на нее было приятно смотреть. Огромный приземистый особняк словно разлегся на солнышке, подставляя ласковым лучам деревянные стены, окна с освинцованными рамами, старинные эркеры на резных деревянных консолях и стройные ряды труб.
На этот раз я доехал до самого крыльца; Эллиот, которого я в свое первое посещение видел выгребающим мусор из гаража, впустил меня в дом. Это был человек лет шестидесяти, с морщинистым лицом и такой же шеей, на которой свободно болтался надетый по такому случаю воротничок.
В гостиной я обратил внимание на картину, явно принадлежащую кисти французского художника. В это время вошел Трейси Мортон, поддерживая под локоть пожилую даму.
— Рад вас видеть, Бранвелл. Любуетесь моим Ватто? — он сделал паузу, чтобы отдышаться. — Разрешите представить вас моей матери. Мама, это майор Бранвелл.
Ага, значит, он наводил справки… Старшая миссис Мортон была высокого роста, с хорошей фигурой и почти прозрачной кожей. В то же время в ней угадывались живость и кипучая энергия, а также способность быстро принимать решения — и не менять их впоследствии.
— Сын много говорил о вас, майор Бранвелл. Кажется, вы вместе служили в Восьмой армии?
— Не то чтобы вместе — в одних и тех же местах. Боюсь, однако, что я по меньшей мере два года назад утратил право носить звание, так что это уже устарело.
— Такие вещи никогда не устаревают, — парировала она.
В это мгновение в гостиную вошла Сара; пока Мортон разливал напитки, мы поддерживали легкую светскую беседу. Обед проходил в продолговатой, наполовину обитой панелями комнате в глубине дома, с узорчатым оштукатуренным потолком и овальным чиппендельским[4] столом. За ширмой скрывалась дверь, ведущая на кухню. Нам прислуживал все тот же старик с болтающимся воротничком. Хозяева проявили вежливый интерес к моей работе, и я постарался объяснить, в чем заключается работа страхового агента, особенно напирая на то, что хотя он и представляет интересы страховой компании, но обязан быть абсолютно объективным и не становиться ни на чью сторону, особенно если истец не в состоянии воспользоваться услугами своего консультанта. Я все еще был не большой мастер по части застольных бесед — это давалось мне с огромным трудом. В разгар трапезы Трейси извинился и, отклонив предложение Сары что-то принести, вышел из столовой. С минуту все молчали.
— Чем дальше, тем хуже, — вполголоса произнесла Сара, обращаясь к свекрови. — Срок действия адреналина неуклонно сокращается.
— Осень для него — самое трудное время. Только напрасно он так быстро капитулирует. Случалось, приступы проходили и без ингалятора.
Я молчал, но миссис Мортон сочла нужным дать мне кое-какие объяснения:
— Перед своим пленением мой сын девять часов подряд провел в холодной воде. Тогда-то это и началось. Да и сам плен не мог не отразиться на его состоянии — не только физическом.
— У вас есть еще один сын, миссис Мортон?
— Да. Адвокат. Он служил в гвардии, как его отец. Но ему больше повезло.
Я бросил на нее вопросительный взгляд.
— Мой муж потерял ногу при Сомме.
Старый слуга унес тарелку Трейси — подогреть.
— Я часто думаю, — продолжила миссис Мортон, — насколько я счастливее тех женщин, что принадлежали к старшим поколениям! Их единственным уделом было оставаться дома. Нет ничего страшнее бездействия: оно разъедает душу, — на ее лице отразились боль и гнев. — Один из Мортонов пал при Креси и два брата — при Бленхайме. Основатель рода сложил голову при Марстон-Муре.
— У вас воинственный род.
— Если учесть, что все эти события имели место на протяжении шести столетий, то вряд ли. Иногда проходили довольно долгие периоды без войн, охватывавшие целые поколения. Наши предки стремились жить в мире. Это — наше родовое гнездо. Мы не искали войн. Но, если они все-таки случались, мы исполняли свой долг.
Я окинул взглядом просторную столовую.
— Вам было за что драться.
— Да, — согласилась она. — И было что терять.
* * *
Минут через пять вернулся Трейси — в его состоянии произошла благотворная перемена. После обеда он настоял на том, чтобы показать мне дом. Прежде всего он повел меня в бывший холл с каменными стенами, возведенными в четырнадцатом веке; снаружи к нему примыкала конюшня. Холлом больше не пользовались по назначению. Нынешний огромный холл прежде был зимним двориком, поэтому потолки здесь оказались выше, чем в других помещениях. Я увидел тяжелые балки под потолком, восходившие аркой к двум маленьким окошкам; широченная лестница вела на галерею с сильно заплесневелыми перилами и кручеными столбиками балюстрады. Окна имели внизу широкие, как сиденья, подоконники. Снаружи эти окна заросли кустарником, так что с трудом пробивавшийся сквозь них свет имел зеленоватый оттенок.
— В старину люди спали на свежем воздухе и там же принимали пищу. Но с начала восемнадцатого века этот обычай стал выходить из моды, и дворик превратился в закрытое помещение.
Поднимаясь по лестнице, я остановился на полдороге, чтобы рассмотреть еще одну картину: трое мудрецов приносят дары на Рождество Христово. Трейси нетерпеливо окликнул меня:
— Здесь всего полдюжины действительно стоящих картин. Отец ими не занимался, но я позаботился о том, чтобы их почистили и отреставрировали. Это работа Филиппино Липпи, примерно тысяча пятисотый год. А вот та, на противоположной стороне, — ранний Констебль.
Верхние помещения имели более обжитый вид. Знаки запустения встречались здесь значительно реже: пятно на потолке, рассохшаяся дверь… Казалось, Мортону доставляло удовольствие отмечать их, один за другим.
— Этот дом — тяжкое бремя на моих плечах. Не проходит дня, чтобы я не проклинал его. И в то же время я ни за что не согласился бы расстаться с ним. Даже сейчас, когда я не могу зарабатывать деньги, чтобы поддерживать его в хорошем состоянии.
— А до войны?
Он скорчил привычную гримасу, точно проглотил что-то несъедобное.
— До войны мне не приходилось зарабатывать — по крайней мере, в том смысле, как это обычно понимают: каждое утро расписываться в журнале. Во время и после войны благодарное правительство ввело это в обычай. Я же сейчас и подавно на это не способен. Давайте спускаться.
Несмотря на простоту, даже небрежность манер, во всей его повадке чувствовалась порода. Даже в толпе на железнодорожной платформе вы не приняли бы его, скажем, за фермера, даже если бы он был соответственно одет. Вот что значит шесть столетий пребывания во дворянстве! А еще я подумал: бедность — понятие относительное. Мортон считает себя бедняком, имея троих слуг и ”бентли”, — лишь на том основании, что не может держать егерей и квартиру в центре Лондона.
Внизу мы застали еще двоих гостей; один, прислонившись к камину, пил кофе. Это был крупный, с глазами навыкате, мужчина лет тридцати в сером клетчатом костюме и желтом шелковом галстуке. Вторая гостья оказалась хорошенькой смуглой девушкой с шифоновым шарфом вокруг шеи; меня поразила ее осанка. Мужчина высоким тенорком рассказывал что-то смешное; он скосил на нас глаза, но все-таки довел историю до ”плачевного финала”. Некая леди Кэролайн Стокхолм, вечно шокировавшая знакомых аляповатыми чехлами для мебели, однажды снизошла до того, чтобы прислушаться к мнению рассказчика, однако поняла его неправильно и вместо того, чтобы сменить чехлы, позволила какому-то прохиндею-приказчику уговорить ее приобрести новый мебельный гарнитур.
Все смеялись. Рассказчик в сером костюме хотел было добавить постскриптум, но, взглянув на меня, решил временно пожертвовать им ради церемонии знакомства. Его звали Клайв Фишер; мы обменялись рукопожатием, и он, добродушно улыбнувшись, продолжил свое повествование. Девушка по имени Амброзина оказалась его сестрой; она едва заметно наклонила голову в знак приветствия.
Я собрался уходить, но Трейси Мортон замахал рукой, чтобы я остался.
— Здесь, в Кенте, Клайв — некоронованный король по части хорошего вкуса. Никто и ничто не обходится без его санкции. Когда мне вернули после реставрации моего Липпи, я знал, что, только заручившись его одобрением, решусь повесить картину на прежнее место.
— Ну, я тут ни при чем, — запротестовал Клайв, который, едва заслышав свое имя, обратился в слух. — Существуют общепринятые нормы, известные всем здравомыслящим, высококультурным людям. К примеру, если их применить к Эль Греко, отреставрированному в Национальной галерее, каждому станет ясно, что эти иконоборцы заслуживают быть повешенными на Трафальгарской площади.
— Не только Эль Греко, — лениво заметила Амброзина. — Все их картины стали похожими на открытки.
Я прислушивался к дискуссии, но не вступал в нее. Настоящая культура слишком поздно и бессистемно вошла в мою жизнь. Эти люди говорили на знакомом с детства языке. У Трейси, например, был вид человека, который всюду побывал и все видел. Возможно, так оно и было.
Сара подошла к боковому столику, чтобы налить себе кофе. Я вдруг почувствовал на себе ее взгляд и мгновенно обернулся, но она успела отвести его в сторону. За все это время мы не сказали и двух слов. А ведь я приехал затем, чтобы говорить с нею. Не то чтобы я рассчитывал чем-то ее поразить, нет, просто мне хотелось сгладить впечатление, которое могло у нее сложиться. Пусть не думает, будто мною владеют старые обиды.
Я все ждал удобного момента. Наконец миссис Мортон, прямая и чопорная, удалилась; атмосфера сразу же стала непринужденнее. Фишер явно чувствовал себя как рыба в воде. Насколько я мог понять, он и сам был художником и, судя по костюму, извлекал из этого занятия немалую выгоду.
Вернулась миссис Мортон, и я понял, что упустил свой шанс. Пора ехать домой. Я поднялся, страшно недовольный собой и уверенный, что Сара останется с Фишерами, но она вместе с Трейси проводила меня до дверей и даже вышла на крыльцо. Я осмелился задать вопрос:
— Вы часто наведываетесь в Лондон?
— Раз в месяц, — борясь с одышкой, ответил Трейси, — я езжу на Харли-стрит, где мне делают укол. Зато Сара бывает там два раза в неделю. Она разрабатывает модели дамской одежды для фирмы ”Делахей”.
— Может, как-нибудь пообедаем вместе? — предложил я Саре, одновременно давая понять, что имею в виду как ее одну, так и их обоих. — По каким дням вы приезжаете?
Она уклонилась от прямого ответа.
— Через пару недель Трейси предстоит поездка в Лондон. Правда, он никогда не задерживается допоздна. Почему бы вам еще раз не навестить нас в Ловис-Мейноре?
Вот так!
— Благодарю вас, — сказал я. — С удовольствием. Еще раз спасибо за сегодняшний обед.
Я сел в машину, нажал на стартер и оглянулся. Они стояли рядом на крыльце. Сара была одного роста с мужем. Когда я развернулся, она подняла руку, но лишь затем, чтобы заслонить глаза от солнца.
Глава V
Я был у себя в офисе, когда поступило сообщение о краже на Прентисс-стрит. Это рядом с Джордж-стрит, прямо за углом, поэтому я вызвался зайти туда по дороге домой. Ориентировка ”Ллойдов” была, как всегда, предельно лаконична:
”Страхователь — мистер Джеральд Литчен, 13, Прентисс-стрит, 1.
Полис № 70647, на сумму 5000 фунтов.
Характер инцидента: ограбление.
Дата: 2 ноября.
Срок действия страхового полиса: 12 месяцев с 7 августа с.г.”
Добравшись до Прентисс-стрит, которая пересекает Уигмор-стрит и заканчивается тупиком сразу за Селфриджем, я отыскал номер 13. Дверь открыла косоглазая горничная с выщипанными бровями. Она неприязненно уставилась на меня, словно подозревая, что я пришел всучить ей неходовой товар, а когда я объяснил цель своего прихода, пробурчала, что мистер Литчен в отъезде, а миссис Литчен от потрясения слегла, так что не мог бы я зайти в другой раз? Я отказался; пришлось ей впустить меня в прихожую и отправиться с докладом к госпоже.
Через пару минут девушка вернулась и сообщила, что миссис Литчен велела показать мне место происшествия, после чего она примет меня в спальне. Я очутился в гостиной, где на стенах с позолоченными обоями висели сюрреалистические маски, а выкрашенная в белый цвет мебель наводила на мысль о кукольном домике. С красных карнизов свисали бледно-желтые портьеры. Под ногами у меня простирался пушистый ковер королевского голубого цвета.
— Сами осматривайте окна. А мне велено показать вам буфет, где лежало серебро.
Окно оказалось разбитым; сюда было нетрудно добраться снаружи. Буфет опустел — если верить служанке, раньше он был полон столового серебра эпохи короля Георга — мистер Литчен его коллекционировал. Сообщив это, горничная удалилась.
Здесь уже побывала полиция. Все, что я мог сделать, это возможно более подробно описать способ, которым грабители проникли в дом. Завтра справлюсь, верны ли мои догадки.
В доме было тихо. После осмотра гостиной я закурил в ожидании горничной. Та все не шла; не докурив полсигареты, я смял ее и выбросил в окно. Маски злорадно скалились мне в лицо. Охота же людям жить в окружении всякой нечисти!
Я поискал кнопку звонка, чтобы вызвать горничную. Наконец она явилась и провела меня в спальню с персиковыми стенами и шелковыми портьерами цвета слоновой кости. Лежащая в постели женщина распорядилась:
— Все, Долорес. Можешь идти.
— Хорошо, мэм.
— Миссис Литчен? — уточнил я.
— Да. Присаживайтесь. Здесь полнейший бардак, но, я думаю, вы меня извините. У меня адская мигрень. Сами знаете, как это бывает, когда тебя будят за два часа до положенного времени.
За Долорес закрылась дверь. Миссис Литчен была блондинкой лет двадцати семи, с тяжелыми веками, правильной формы носом и угрюмо опущенными уголками рта. Длинные волосы падали на плечи и блестели, словно женщина только и занималась их расчесыванием. На ней была белая шелковая ночная рубашка в тон портьерам. А еще мне бросились в глаза длиннющие — никак не меньше дюйма, покрытые бледно-розовым лаком ногти.
Мы побеседовали.
Я узнал, что Джеральд в отъезде, а она не решилась ему звонить, потому что, узнав о пропаже серебра, он пришел бы в бешенство. Она даже подумывала, не попытаться ли заказать дубликаты и ничего не говорить мужу. Бывает, он по целым неделям не подходит к буфету.
Хлопнула входная дверь. Адью, Долорес!
Я спросил миссис Литчен, взято ли что-нибудь, кроме серебра. Нет. Лично она не стала бы проливать по нему слезы: в современных квартирах слишком мало места для подобных вещей. Не буду ли я так добр смешать ей напиток?
Я оказался добр, и она предложила мне выпить за компанию. Сама пригубила и в знак одобрения наклонила голову с пажеской прической.
— Вы недурно смешиваете джин, мистер Оливер Бранвелл. Жаль, что я чувствую себя совершенной развалиной. Вы не могли бы дать мне закурить?
Я дал ей закурить. Она поблагодарила, взмахнув ресницами. Я сказал, что уже осмотрел все, что нужно, и постараюсь в возможно более короткий срок составить исковое заявление. Она вытянула под одеялом длинные ноги.
— Я рада, что вы заглянули. Спасибо, что прояснили для меня картину. Но куда вы торопитесь? Впереди еще целый вечер — надо же как-то его убить.
— Он уже наполовину мертв.
— Вам что, не терпится увидеть жену с детишками?
— Я не женат.
— Не женаты? — она смерила меня взглядом. — Весьма разумно с вашей стороны. Как же вы обходитесь?
— Во всяком случае, у меня не бывает лишних вечеров, чтобы их убивать.
— Не вижу связи, — женщина закрыла глаза и уронила голову на подушку. От зажатой во рту сигареты поднималась тонкая струйка дыма.
Я сделал движение, чтобы уйти. Она остановила меня вопросом: каким образом полиция собирается искать воров? Я пустился в объяснения, но на ее лице появилось выражение скуки. Она лениво закинула руку за голову. По другую сторону кровати стоял телевизор. На стене висела футуристическая картина в деревянной раме кофейного цвета. В нише сверкало трюмо; в нем отражалась хрустальная статуэтка — скаковая лошадь.
— Что это за картина? — полюбопытствовал я.
— Ах, эта? Ранний Бредански. Угри в банке.
— А я думал — лабиринт в Хэмптон-Корте, вид с высоты птичьего полета.
— Вы презираете современную живопись?
— Нельзя презирать то, чего не знаешь.
— Да? А я думаю, можно. Многие мои знакомые всю жизнь этим успешно занимаются.
Пауза.
— Спасибо за напиток. Я…
— Плесните-ка мне еще. Я не могу сама встать — пока вы здесь.
Я наполнил бокал. Женщина зорко следила за моими движениями.
— Скажите… Что, все страховые агенты такие же, как вы?
— То есть?
— Ну… вес тринадцать стоунов, густые волосы, холодные серые глаза…
— Вы преувеличили — в смысле веса. Нет, другие не похожи на меня.
— Не столь симпатичны?
— Напротив, гораздо симпатичнее.
— А, все равно, — она зевнула. — Бьюсь об заклад, вы можете быть интересным, если перестанете напускать на себя.
— Вы тоже.
Она отпила несколько глотков.
— В таком случае, чего мы ждем?
Я отвернулся, чтобы наполнить свой бокал.
— Может быть, вашего мужа?
Когда я повернулся, она пристально смотрела на меня; глаза превратились в два маленьких коричневых камешка.
— Мой муж в Шотландии.
— Я бы не стал на это полагаться. Вы же знаете: от этих зануд всего можно ожидать.
С минуту мы оба молчали. На улице монотонно выла собака.
— Да уж, он вышибет из вас дух, если застанет в моей спальне! — мстительно заявила Вера Литчен.
— Я весь дрожу.
Она бережно поставила свой бокал на ночную тумбочку.
— Когда допьете, надеюсь, вы найдете дорогу?
Я не стал огрызаться. И так сказано более чем достаточно.
— Доброй ночи, миссис Литчен.
Она не ответила, и я вышел из квартиры. Пришлось, правда, повозиться, ища защелку на входной двери: она была замаскирована таким образом, чтобы не портить рисунок.
* * *
Прошло добрых десять дней, прежде чем я отважился позвонить в фирму ”Делахей”. Все это время мне и хотелось и кололось: вдруг нарвусь на какое-нибудь оскорбительное замечание? Но… человек не всегда слушается доводов рассудка.
— Вы не могли бы сказать, по каким дням у вас бывает миссис Мортон?
— По вторникам и пятницам, сэр.
— Большое спасибо. С вашего позволения, я позвоню завтра.
Но не позвонил. За время, прошедшее с моего посещения Ловис-Мейнора, я перелопатил такую гору работы (лишь бы отвлечься и не думать), что решил: ничего не случится, если я перенесу парочку деловых встреч на завтра. Так что в три тридцать я уже шагал по направлению к Клэр-стрит. Обойдя здание и убедившись, что нет запасного выхода, я приготовился ждать. Это оказалось не слишком тягостно, потому что как раз напротив расположился магазинчик, где торговали художественными репродукциями, так что я примерно час околачивался там — к плохо скрываемой досаде продавцов.
Без четверти пять показалась Сара и пошла по направлению к Бонд-стрит. Она была в туфлях на низком каблуке и двигалась быстрым шагом, неожиданно размашистой походкой, искусно лавируя между прохожими. Я догнал ее только в конце улицы и с наигранным удивлением воскликнул:
— Так это все-таки вы! Мне показалось, я узнал походку.
На ее губах мелькнула удивленная, немного растерянная улыбка.
— Я только что с работы. Как поживаете, мистер Бранвелл?
— Вот, вышел выпить чашку чаю… где-нибудь поблизости. Не составите компанию?
— Благодарю. Но я хочу успеть на электричку до часа пик.
— Он уже начался. Смотрите, что делается. Какие-нибудь полчаса ничего не изменят.
Она как будто собиралась возразить, но вдруг передумала, и я повел ее через Пиккадилли в маленькое кафе на другой стороне. На ней были красное, цвета бургундского вина пальто с широкими рукавами и маленькая круглая шляпка в тон, со сверкающей черной булавкой. Благодаря этому она казалась старше и загадочнее.
Когда мы уселись за столик, я не удержался:
— По правде говоря, я нарочно поджидал вас перед зданием фирмы.
Сара поставила сумочку, сняла и аккуратно сложила перчатки и принялась просматривать меню.
— Смешно, правда? — не унимался я.
— Почему? — она слегка покраснела, но не подняла головы.
Тут как раз подошла официантка, и я попросил поджаренные ячменные лепешки. Оказалось, их нет, а есть только тосты и бутерброды с маслом. После ухода официантки я извинился:
— Не нужно было сюда приходить. Откровенно говоря, я замышлял поход в ”Беркли”, но увидел вас — и все вылетело из головы.
— Это вы вчера звонили?
— Да.
— Я частенько захожу сюда на ленч. А в ”Беркли”, наверное, уже лет пять не была — никак не меньше.
Теперь, оставшись с ней наедине, я чувствовал себя страшно неуверенно.
— Вы давно работаете на ”Делахей”?
— Полтора года.
— Неплохое хобби.
— Это больше, чем хобби. Нам нужны эти деньги.
— На карманные расходы?
— Силы небесные, конечно же, нет. Вы имеете представление, во что это влетает — жить в Ловис-Мейноре?
— Извините, что лезу не в свое дело.
— Это никакой не секрет. Отец Трейси умер в сороковом году. Все их сбережения съел налог на наследство. Налоги растут как на дрожжах.
— А как же балет? Кажется, вы собирались посвятить себя танцу?
— Война положила этому конец. Впрочем, скорее всего, из этого все равно бы ничего не вышло. Я слишком поздно начала. Папа поощрял меня — по принципу ”чем бы дитя ни тешилось…”.
Официантка принесла чай, со стуком поставила фаянсовые чашки на стол, потом обнаружила, что забыла сахар, и пошла за ним. Я наблюдал, как Сара наливает чай из чайника.
— А ваш отец?
— Он продал наш дом и поселился в Лондоне.
— Возможно, вам следовало бы поступить так же?
— Продать Ловис-Мейнор? Вы бы смогли?
— Возможно… Не знаю. Может быть, и нет…
Мы молча пили чай. Что-то изменилось к лучшему — не знаю, что. Во всяком случае, я уже не обливался потом и перестал чувствовать себя не в своей тарелке.
Внезапно Сара заговорила:
— Скажите… зачем все-таки вы хотели меня видеть?
Между нами снова разверзлась пропасть.
— Не знаю… Просто захотелось. По-вашему, это не уважительная причина?
— Ради этого не стоило ждать на улице.
— Я так не считаю.
Она ничего не сказала, и я продолжил:
— Когда я впервые встретил вас, вы были существом из другого мира. А теперь мы говорим почти на одном и том же языке. Это приятное чувство — после прошлой боли… Вы давно замужем?
— С тысяча девятьсот сорокового. Трейси командовал эскадроном.
— Кажется, он намного старше?
— Да.
— А потом?
Она порылась в сумочке, нашла крохотный платочек и промокнула губы.
— Потом? Да, собственно, нечего рассказывать. А вы?..
— Хотите еще тостов?
— Нет, спасибо.
Я достал сигареты и предложил ей. На мгновение ее лицо приблизилось. Я чиркнул спичкой, и ее глаза показались мне цвета черного янтаря.
— А вы? — повторила она.
— Живу потихоньку… сам по себе.
— Расскажите, как вышло, что вы так переменились?
— По-вашему, я сильно изменился?
— Да… О, да! Во всяком случае, я запомнила вас ершистым, даже ожесточенным… этаким бунтарем… но довольно-таки симпатичным. Правда-правда.
— А сейчас?
Следующая фраза вырвалась у нее непроизвольно — прежде чем она успела ее удержать:
— По-моему, вы лаете страшней, чем кусаете.
Этого я не ожидал.
— Разве я на вас когда-нибудь лаял?
— На меня — нет. Пока…
Я совсем растерялся.
— Просто не знаю, что сказать. Вам известно, как я тогда смотрел на вещи. Это не изменилось. Но произошла цепь случайностей. После нашего отступления от Эль-Алии мне присвоили офицерское звание. Я долго не мог к этому привыкнуть. Как будто изменил себе, чему-то такому, во что верил. Странно, не правда ли? Потом, после окончания войны, Майкл Аберкромби предложил мне эту работу.
— Кто это?
— Майкл — мой босс и мой друг.
— Он хороший человек?
— Да, очень. У него есть все те достоинства, которых не хватает мне самому.
— Например?
Я улыбнулся, встретившись с ней взглядом.
— Культуры. Шарма. Чуткости. Доброты…
— Наверное, трудно работать, не обладая всеми этими качествами?
— Не очень. Я просто добросовестно выполняю свои обязанности.
— Волк в овечьей шкуре?
— Или овца, прикинувшаяся волком? С тех пор, как я согласился на эту работу, я не устаю задавать себе этот вопрос.
Сара посерьезнела.
— Скорее всего, не существует ни овец, ни волков. Просто люди.
Мы немного помолчали.
— Мне пора, Оливер, — это имя нечаянно сорвалось у нее с губ.
У меня потеплело на душе.
— Вас подвезти?
— Нет, спасибо. Трейси будет ждать на станции.
— Как вы думаете… если я приглашу вас пообедать со мной… вас обоих?..
— Спасибо.
— Как поживает Клайв Фишер?
— Хорошо. Мы редко видимся. Это он устроил меня в ”Делахей”.
Я расплатился и подождал, пока она загасит сигарету и наденет тонкие замшевые перчатки. Меня переполняли чувства, каких я не испытывал ни к одной женщине на свете. Догадывается ли она об этом? У женщин особое чутье…
Шансы были ничтожны. Но от меня уже ничего не зависело.
Глава VI
Той зимой и весной я несколько раз виделся с Сарой: иногда в городе, но чаще — в Ловис-Мейноре. Обычно меня приглашал Трейси. Я не мог понять природу его симпатии: мы были слишком разными людьми. Но, сколько бы я ни сопротивлялся этому ощущению, мне льстила его дружба, хотя и было неуютно при мысли, что по отношению к нему я нарушаю десятую заповедь. Впрочем, мои домогательства были надежно закамуфлированы. Я также проникся симпатией к старой миссис Мортон, которая была неизменно добра и приветлива.
В конце весны я стал младшим партнером в фирме ”Аберкромби энд Компани”. Они явно поспешили — Майкл и его отец, — но все мои возражения оказались напрасными. Они ссылались на то, что я и сам знал: дела фирмы шли в гору; зачастую после того, как я проворачивал сделку, меня специально приглашали в следующий раз. Успех, конечно, радовал. Но ведь я всего лишь делал то, за что мне платили деньги. Решающую роль сыграло великодушие отца и сына Аберкромби.
В марте, расследуя заковыристое дело о мошенничестве, я познакомился с адвокатом Генри Дэйном. Он как раз специализировался на подобных случаях и перед войной блестяще разоблачил группу мошенников, долго водивших за нос страховые компании. В результате его авторитет значительно вырос.
Как часто бывает, мы встретились как конкуренты, но вскоре прониклись обоюдным уважением и стали друзьями. Это был незаурядный человек, с характером твердым, как алмаз (это нас сближало), на вид лет сорока пяти (на самом деле ему было на десять лет больше). Он с одинаковым мрачноватым усердием брался за любое дело, будь то очередное расследование или игра в гольф. Я познакомился с его женой Гвинет, привлекательной женщиной намного моложе его и с такой же кипучей энергией.
Через пару недель после того, как я стал совладельцем фирмы, я столкнулся на улице с Роем Маршаллом, ненадолго приехавшим в Англию. Оказалось, вакансия в Новой Зеландии до сих пор свободна. В другое время это заставило бы меня задуматься, но теперь уже было поздно. Я внушал себе, что дело в моем новом статусе — тогда как на самом деле все упиралось в Сару.
Разумеется, у меня не было ни малейших шансов на успех. Это увлечение не сулило мне ничего, кроме напрасных страданий, даже если бы между нами не стоял Трейси.
* * *
В июле я получил приглашение с недельку погостить в Ловис-Мейноре — в первый и единственный раз.
Я приехал в субботу, как раз к обеду, — его подавали в тот день довольно поздно в продолговатой столовой. Зажгли свечи.
Миссис Мортон только что вернулась из ежегодного путешествия: обычно в мае-июне она гостила у своей сестры на острове Уайт. Когда обед уже подходил к концу, она сказала:
— Вам придется меня извинить: я обещала в полдесятого быть у Банкрофтов.
— Что там на этот раз? — поинтересовался Трейси.
— Старой миссис Банкрофт хуже. Сиделка не может остаться на ночь, а мистеру Банкрофту необходимо хоть немного поспать.
— Мама все еще живет в феодальные времена, — пошутил, обращаясь ко мне, Трейси. — По-прежнему воображает себя леди-помещицей, призванной нести ответственность за своих вассалов.
Миссис Мортон залилась краской.
— Да, я чувствую ответственность. Как все Мортоны — из поколения в поколение. Я знаю миссис Банкрофт сорок четыре года. Каждый имеет право заботиться о своих друзьях.
Когда она ушла и мы снова сели, Сара упрекнула мужа:
— Тебе не следовало так говорить.
— Просто у меня не укладывается в голове. Не прошло и суток с момента ее возвращения, а она уже несется сломя голову выполнять общественные обязанности. И так — десять месяцев подряд. Временами я задаюсь вопросом: как только вся округа обходится без нее в мае и июне?
— Плохо — скучает. Людей не так-то просто переделать, правда, Оливер?
— Откуда Оливеру знать, — брюзжал Трейси. — А если он и знает, то держит это при себе, как и все остальное. Раньше я все думал: как выглядит супермен?
— Не городите чепухи, — огрызнулся я.
Сара вынула из вазы сломанную гвоздику и понюхала.
— Помню, как миссис Мортон вела себя, когда нам сообщили, что Трейси пропал без вести. Она созвала всех слуг — их тогда было гораздо больше. Эллиот оказался единственным мужчиной, и она заставила его читать Двадцать третий псалом. Потом сама прочла несколько молитв дрожащим голосом. Как ни крути, а это говорит об изрядном мужестве — и о достоинстве. Если опять вспыхнет бойня, этого никто не сделает. Что-то утрачено…
— Единственное, о чем я думал, находясь в воде, — сказал Трейси, — это: черт побери, если температура воды в Средиземном море действительно такова, будь я проклят, если когда-либо приеду сюда отдыхать. Как деградировали нравы — на протяжении одного поколения!
По-прежнему прикрываясь гвоздикой, Сара выразительно посмотрела на меня. Ее муж перехватил этот взгляд.
— Оливеру хорошо: он из тех, кто идет на смену. А мы — уходящее поколение. Героические жесты — как у мамы, например, — вышли из моды. В то же время мы не научились вести себя, как пролетарии, — он закурил свою противоастматическую сигарету. — Знаю, знаю, что вы обо мне думаете: реакционер! Но вы ошибаетесь: скорей уж мама — реакционерка, а я — передовой член общества, обеими руками за прогресс! Но я против обезлички и застоя. Против куска черствого хлеба и пустой похлебки для каждого — в концентрационном лагере.
До меня дошел острый запах его сигареты. Сара поднялась и подошла к буфету. Следивший за ней из своего угла коккер-спаниель Трикси встрепенулся.
— Оливер, Трейси считает, что вы нуждаетесь в обращении. Вот только не знает, в какую веру.
— Я никого не собираюсь обращать. Просто констатирую то, в чем далеко не всякий отдает себе отчет, хотя интуитивно и угадывает истину. Даже Оливер ни за что не признается.
— Не представляю, в чем я должен признаваться. И вообще — все относительно. Что одному кажется куском черствого хлеба и пустой похлебкой, другому — мед с молоком.
Сара подарила мне улыбку.
— К сожалению, вынуждена вас оставить. Еще одна старомодная обязанность — выводить собаку.
Должно быть, Эллиот уловил оживление в столовой и поспешил сюда. Тем временем Трейси обратился ко мне:
— Помните, в романе Мередита один персонаж заставляет свою дочь выйти замуж за нелюбимого только потому, что не может устоять перед портвейном из подвалов будущего зятя? У нас осталось девять бутылок, и я стараюсь ограничиваться двумя в год. Осторожно, Эллиот, осторожно!
— Да, сэр, — старый слуга искусно, не пролив ни капли, наполнил наши бокалы и удалился, почтительно наклонив голову и скрипя ботинками.
— Если он так хорош, — заметил я, — не стоит тратить его на мою скромную персону.
Трейси Мортон бросил на меня взгляд, исполненный злой иронии.
— Когда таких, как я, повезут на гильотину, замолвите за меня словечко.
— Постараюсь.
За окном защебетал черный дрозд.
— Пейте маленькими глотками. Кстати, я и впрямь считаю методы французской революции предпочтительнее наших. Кто это сказал — какая-то дама — ”Мы не рубим им головы, а лишь урезаем их доходы”? Как вам подобное признание? Вы с ней согласны? Я бы на вашем месте согласился. А все-таки французский способ гораздо логичнее — и в конечном счете даже гуманнее. Все во мне восстает против того, чтобы чувствовать себя живым анахронизмом. Сколько таких в Англии — все еще цепляющихся за жалкие остатки собственности и по-прежнему корчащих из себя Бог знает что? — он сделал нетерпеливый жест рукой.
В моем бокале мерцал на свету портвейн сливового цвета.
— Однако эти анахронизмы…
— Да-да, я знаю. Мы сохраняем внешний лоск. Но так не может продолжаться вечно. Для многих все уже кончилось — например, для стариков, доживающих свой век — без прислуги — в огромных особняках. На их глазах зарастают сады и гниют половицы. А ведь есть еще и другие, которые не могут позволить себе даже этого: они проводят остаток жизни в меблированных комнатах или крошечных коттеджах, которые им каким-то чудом удается уберечь от разрушения. Я не против разумного перераспределения общественного богатства. Но я против бессмысленного разрушения собственности и всего, что ей сопутствует, потому что, как только замок покидают хозяева, замок умирает. Только круглый идиот станет рубить сук, на котором сидит.
Я закурил.
— Раньше я думал, что у меня есть ответ на этот вопрос. А теперь — не знаю. Я по-прежнему считаю, что ваши трудности несравнимы с лишениями большинства людей. Но, возможно, во мне говорят лишь невежество и предрассудки. Я не испытываю злорадства и отнюдь не желаю вам обнищания.
Мне показалось, будто Трейси не слушает. Он устроился поглубже в кресле и сосредоточенно уставился на свой бокал. В нем словно что-то погасло.
— В Викторианскую эпоху, — медленно проговорил он, — были в ходу мелодрамы, где в основу сюжета была положена смерть кормильца, означавшая крах семьи в целом. Нечто подобное происходит и сейчас, только в других социальных слоях. Смерть владельца ведет к гибели дома.
Я не ответил, да он в этом и не нуждался.
— Кто сказал — уж не Бэкон ли — ”Обложенный непомерной данью не может быть достойным гражданином Империи”? Все, что мне дорого — в широком смысле, — рассыпалось в прах. Все идет с молотка: дома, картины, мебель, книги… И хорошо еще, если это уплывает в Америку; есть надежда, что ценности сохранятся; это всего лишь экспорт, приносящий доллары. Страшнее то, что распыляется капитал. Кому будут продавать свои картины завтрашние художники? Для кого станут проектировать архитекторы? Мы — свидетели того же процесса, что имел место в Италии вслед за Ренессансом.
Мы немного помолчали. Трейси налил мне еще портвейна.
— ”Пой, певчий дрозд: весна настала! Пой — скоро лето!”… В этом кресле сиживал мой отец — из-под стола торчала искусственная нога. Он был сущий дьявол, но я любил его. У нас ни в чем не было согласия, а под конец он и вовсе сыграл со мной злую шутку, и тем не менее… Я не сентиментален, но во мне высоко развито чувство рода — гораздо сильнее, чем я позволяю о том догадаться — даже матери, потому что мне претят театральные жесты, которые она связывает с этим понятием. Глупо становиться в очередь за рыбой в рыцарских доспехах.
* * *
Я провел ночь в одной из четырех спален для гостей, чьи двери выходили на нависшую над холлом галерею. Это была большая комната с довольно низким потолком, кроватью на четырех столбиках и двумя решетчатыми окнами, выходящими на лужайку. Когда я проснулся, Эллиот уже подстриг газон. В раму билась пчела; прямо под окном разросся старый ирландский тис, в его кроне весело щебетала парочка скворцов.
Трейси не спустился к завтраку, зато миссис Мортон меня опередила. Она вряд ли легла раньше трех ночи, но была бодра, любезна и, как всегда, полна достоинства. Я невольно подумал: невозможно представить, чтобы моя мать так держалась, — или это нищета разъедает душу? Постоянная борьба за соблюдение элементарных приличий — и поражение за поражением. Тряпка да мешковина вместо ковра; вместо скатерти — клеенка; голые ступеньки… А во дворе — зола да булыжник…
— Сколько человек соберется к обеду? — спросила миссис Мортон.
— Одиннадцать, — ответила Сара. — Виктор, конечно, и Клайв Фишер с приятельницей… Миссис Атрим с сестрой обещали помочь с приготовлениями.
— Вы не знакомы с другим моим сыном, мистер Бранвелл? Конечно, Трейси более башковит, зато Виктор преуспел… это не очень-то справедливо, но ведь так обычно и бывает. Трейси болен. Виктор лучше приспособлен к жизни. Я уверена, вы подружитесь.
Поразительная объективность! Вот чего не хватало моей матери! Жить для нее означало постоянно находиться на виду. Она закрывала глаза на все, что противоречило ее взглядам, но могло бы помочь выкарабкаться. Или я сам необъективен?
— Вы ездите верхом? — спросила Сара.
— Раза два пробовал. А что?
— Я подумала: может, вам было бы интересно осмотреть окрестности?
— С вами и Трейси?
— Или только со мной. Не думаю, что он…. Мы обычно берем лошадей в деревне. Там есть послушные. Бедняги — их всю жизнь только и делают, что стегают.
Я постарался ответить как можно небрежнее:
— С большим удовольствием.
Глава VII
Прошло не менее часа, прежде чем мы смогли пуститься в путь. Я нервничал: боялся, что Трейси в любую минуту может передумать и составить нам компанию.
Эллиот разыскал для меня старые бриджи Виктора. Они неплохо сидели, разве что были свободны в поясе. Я чувствовал себя ряженым, а когда увидел лошадей, каждая показалась мне величиной с колокольню, с ходулями вместо ног. Очевидно, у нас с Сарой разные представления о верховых лошадях.
Конюший придержал для Сары гнедую лошадку, а затем с деревянным лицом подождал, пока я взбирался на свою — серой масти. Вдруг показался Эллиот и отвлек конюшего. Лошадь встрепенулась и чуть не задавила бедного малого, но я вовремя ухватил поводья и, уронив ”Прошу прощения!”, последовал за Сарой к воротам.
Мы свернули налево и медленно двинулись по неширокой тропе вдоль восточной границы усадьбы. Сара вырвалась вперед, но, проехав несколько ярдов, натянула поводья и позволила мне догнать себя. Мы двинулись рядом.
— Вы в порядке? — смеясь, спросила она.
— Чувствую себя, как деревенский увалень в пантомиме.
— Не хватает только злого серого волка.
— Трикси не подойдет? Только не провоцируйте ее: если она залает, мой чертов жеребец может взбеситься.
— Ну что вы, он совсем ручной. Вы слишком натягиваете поводья. Старайтесь крепче сжимать лошадь коленями. Когда подъедем к ферме, я вам покажу — если позволите.
Мы проехали с четверть мили по тропе, а когда усадьба осталась позади, двинулись по пшеничному полю и наконец добрались до фермы, о которой она говорила. Здесь был низенький домик у пруда. Сара поздоровалась с багроволицым детиной лет пятидесяти с гаком — тот нес по двору ведро.
— Это наша семейная ферма, — объяснила она. — Ее вот уже полтора столетия арендуют Спунеры. Всего у нас было восемь ферм и часть деревни. Пришлось почти все продать — еще до того, как недвижимость повысилась в цене.
В отдалении зазвонили церковные колокола. На редкость мирная сцена, подумал я. Однако ближайший час не принес мне покоя.
Казалось, Сара получала удовольствие, давая мне уроки, и не видела в моих неудачах ничего зазорного. Мой жеребец оказался самым коварным дьяволом, какого только можно себе представить. Он был одержим стремлением делать все по-своему — и ни в коем случае не по-моему. Впрочем, это не имело значения. Никогда я не испытывал ничего подобного! Это было удивительное чувство освобождения от всех обид. В такие минуты понимаешь, как покорежена твоя душа; напряжение спадает; ты обретаешь новый опыт, новую раскованность и отдаешь себе отчет в том, что это и есть счастье!
Наконец мы повернули домой. Наши лошади мирно шли бок о бок, и вдруг Сара спросила:
— Ничего, если я пущу Светлячка галопом — хотя бы до того леска? Он это обожает. Я вас там подожду.
Я заверил ее: какие могут быть возражения? — и долго смотрел вслед. Сара скакала на лошади по полям; ветер развевал блузку и волосы, а сзади трусила верная Трикси. Естественно, мой серый тотчас возжаждал последовать их примеру. Какое-то время я сдерживал его, а затем подумал: с какой стати? Вперед!
Мои волосы не настолько длинны, чтобы развеваться на ветру, иначе они, конечно, не преминули бы покрасоваться подобным образом. Свободные бриджи Виктора Мортона вдруг съежились и стали стеснять движения. Я, наверное, раз двадцать на протяжении одной минуты рисковал упасть и разбиться; земля громыхала внизу, словно кто-то выдергивал из-под лошадиных копыт дорожку из жести. Деревья опасно приблизились; на рубашке появились пятна грязи и пены: лошадь была вся в мыле. Я натянул поводья; голова этого дьявола взвилась в небо. Мы описали вокруг Сары полукруг и нырнули в чащу леса.
Потом Сара отыскала меня в зарослях наперстянки. Она, точно молния, соскочила с лошади и нагнулась надо мной.
— Оливер, с вами все в порядке?
Я усердно отдирал от плеча рубашки приставший лишайник.
— Эта лошадь с самого начала замыслила неладное.
Какое-то время мы пристально смотрели друг на друга. Потом я откинулся на спину и захохотал. Сроду мне не было так весело!
— Вы не ушиблись? — Сара тоже захлебывалась смехом.
Я сел и ощупал себя в разных местах.
— Где-то что-то болит. Но серьезных повреждений не обнаружено. Давайте поищем этого бандита.
Мой серый мирно пасся на дальней опушке небольшой рощи. Он бдительно скосил глаза, но Сара все-таки схватила его, а я пока держал под уздцы ее гнедую. Мы стреножили их обоих и расположились на траве — перекурить и отдохнуть. Рядом, положив морду на лапы, устроилась Трикси.
С холма были хорошо видны Ловис-Мейнор и большая часть сада. В полумиле на восток виднелась деревенька с небольшой церковью и собравшимися в кучу домишками, а дальше шла утыканная телеграфными столбами дорога на Тонбридж.
Я осторожно, чтобы не задеть ушибленные места, переменил положение.
— Это ваш лес?
— Да. А пониже — вам не виден ручей, но он там есть, просто зарос кустарником, когда-то стояла мельница. Ее-то и изобразил Бонингтон. Там до сих пор сохранились колесо и каменная кладка. В этом лесу полтора месяца назад было полно колокольчиков. Раньше я каждый год ходила собирать букеты.
— Раньше?
— Да. В этом году стояла ужасная погода. И вообще… привычки появляются и исчезают без всякой видимой причины.
Сара сидела, прислонившись к поваленному дереву: верхняя пуговка шелковой кремовой блузки расстегнута, волосы растрепались, а щеки раскраснелись от быстрой езды. В эти минуты она показалась мне не такой неприступной, как прежде.
Меня как будто что-то толкнуло:
— Сара, вы счастливы?
Она метнула на меня загоревшийся взгляд — и отвела его. Выпрямилась и потерла пальцем сапожок.
— Я бы назвала это слишком крутой переменой темы.
— Радикальной, — подтвердил я.
— Что вы понимаете под счастьем? Постоянное, осознанное ощущение своего благополучия? Кто может этим похвастаться? Иногда я чувствую себя счастливой, иногда — нет. Наверное, у всех так. Во всяком случае, со мной так всю жизнь.
— Людям свойственно время от времени подводить итоги.
Она распрямила нахмуренные брови.
— Смотрите, крестьяне выходят из церкви… Итоги? — Сара затянулась и вдруг выбросила сигарету, словно ей не понравился вкус. — Прямо как проповедь! ”Приготовьтесь предстать перед Верховным Судией!” Ах, как торжественно!
— И вполне соответствует моменту.
— Оливер, мой бухгалтерский отчет имел бы весьма неряшливый вид. Я часто не знаю, что занести в дебет, а что — в кредит. Иной раз занесу, а потом вымарываю. Эта книга сплошь залита пролитым молоком — то бишь чернильными кляксами — и испещрена поправками, причем некоторые сделаны красными чернилами. Кошмар! Такой аккуратист, как вы, пришел бы в ужас.
Я дал своей сигарете погаснуть. Сара усмехнулась.
— Ну как, вы удовлетворены моим ответом?
— Сложный ответ.
— Сложный вопрос… Смотрите, вон парит ястреб. Должно быть, охотится за полевыми мышами.
— Как человек, некогда заподозренный в краже браслета…
Она улыбнулась, но промолчала.
— Во время войны вы были моим ангелом-хранителем. Ваш талисман принес мне удачу, — я замялся, но решил продолжать. — Это дает мне кое-какие права — вы не находите?
— На что?
— На некоторые вольности.
— До сих пор я не замечала ничего подобного. Или они еще впереди?
Я вперил взгляд в ее профиль.
— Ничего себе вопросик! Но иногда приходит в голову…
— Что?
Она сидела с прищуренными глазами: возможно, вглядываясь в уменьшенные расстоянием фигуры людей, выходящих из церкви.
— Некоторые люди живут с разочарованием в душе — как будто какая-то важная часть их существа остается невостребованной. Вот почему я задал тот вопрос.
— Вот как? — пробормотала она.
— Возможно, я ошибаюсь, но… судя по тому, как вы ездите верхом… водите машину… даже по походке…
— И какой можно сделать вывод? — Сара посмотрела на меня в упор. — Всю жизнь мечтала узнать, какая походка у разочарованной женщины.
Путь к отступлению был отрезан. Нужно было либо бросаться в атаку, либо признать свое поражение.
— Разочарованная женщина смешно семенит, ставя пятки вместе. Ее походка агрессивна и нервна — как и все остальное.
— Ах, извините, если я показалась вам нервной и агрессивной!
— А вы, — продолжил я, — делаете большие, энергичные шаги. Глядя на вас, люди думают: эта девушка занимается плаванием… или бегает, или танцует… А понаблюдав, как вы водите машину, искушенный человек решит, что у вас необыкновенные способности к этому делу. То ли она упорно тренируется, подумает он, то ли это врожденный талант — и уж во всяком случае это говорит о ярком и сильном темпераменте. Такая женщина многого добьется!
Сара поднялась на ноги.
— Добьется ли? Или безнадежно испортит себе жизнь, выйдя замуж и оставаясь верной долгу, прозябая с законным мужем в деревенской глуши… так, что ли? Неужели вы всерьез считаете, — она почти гневно смотрела на меня, — что другой путь был бы предпочтительнее? Ну, стала бы танцовщицей и зарабатывала шесть фунтов в неделю, выступая в кордебалете. Это и есть желанное самовыражение, о котором вы печетесь?
Я тоже поднялся.
Все могло сложиться иначе.
— Откуда вы знаете? Вы когда-нибудь были на балетном спектакле?
— Нет, никогда. С удовольствием сходил бы — вместе с вами.
— Легко критиковать, легко давать советы — сиди себе с умным лицом и разглагольствуй о самовыражении и всем таком прочем. Но жизнь складывается не по намеченному плану, и люди не укладываются в отлитые формы. Потери неизбежны. Разве я не права? Стараешься жить, приносить пользу — по мере сил. Попробуйте задать тот же вопрос любой женщине и любому мужчине. Все мы в какой-то мере следуем проторенным путем, иначе вообще не было бы никакой жизни. А если что-то остается неосуществленным, то это имеет значение лишь постольку, поскольку мы склонны об этом задумываться. Выпячивать… — она остановилась, чтобы перевести дух. Я ждал, страстно желая, но не смея дотронуться до нее. — Но какое вам дело? По какому праву вы меня допрашиваете?
— Я не критикую и не даю советов — Боже упаси! Просто спросил, счастливы ли вы.
— Отвечаю: нет. Что дальше?
— Если, по-вашему, я хоть в какой-то мере могу помочь…
Она нагнулась, подняла хлыст и повертела между пальцами. Потом безотчетным движением руки откинула назад непослушную прядку.
— Виктор приехал. Нужно торопиться.
* * *
Очевидно, Виктор Мортон только что переоделся. Он стоял на лестнице, беседуя с Трейси о том, насколько удачно фирма ”Барбер энд Карри” отреставрировала полотно Констебля, а также одобряет ли Клайв Фишер новое место, куда они собираются его повесить. Виктор был крупнее брата и вполне мог сойти за старшего. Вообще, он производил впечатление выдающейся личности. Чисто выбритое лицо, модный покрой твидового костюма, явно предназначенного для поездок за город, мягкий, хорошо поставленный голос, абсолютная непринужденность жестов…
А впрочем, все собравшиеся в тот день к обеду были одного поля ягода, люди одной породы: преуспевающие, уверенные в себе; от них так и веяло физическим и духовным здоровьем. Никому из них сроду не приходилось очутиться в незнакомом городе с десятью пенсами в кармане или заворачивать ботинки в бумагу, чтобы она впитала сырость; они не страдали от анемии, прыщей и ревматизма.
А еще, подумал я, увидев свое отражение на поверхности бокала, они наверняка не позволяют себе есть хлеб человека и пить его вино и в то же время домогаться его жены. Даже у бывшего арестанта есть свои понятия о морали. Впрочем, у меня не было ни одного шанса отнять у Трейси хоть сотую долю привязанности Сары.
Так я стоял и бился над решением неразрешимой задачи, а тем временем в комнату вошла Сара вместе с Клайвом Фишером, Амброзиной и приятельницей Клайва, высокой, статной блондинкой. Раньше я не знал, какого она роста, потому что видел ее один-единственный раз — в постели.
Глава VIII
За обедом она сидела напротив меня. Нас по всей форме представили друг другу; ни один не обмолвился о том, что мы уже встречались.
Глядя на этих двоих, я понял, что Клайв Фишер отнюдь не случайно стал близким другом Веры Литчен, чей муж недавно лишился коллекции столового серебра эпохи короля Георга. Они вращались в одних и тех же кругах, были одинаково артистичны — в пределах моды; скорее безнравственны, чем высокоморальны — прожигатели жизни, любители острых ощущений.
Миссис Мортон села рядом со своим младшим сыном. Она могла объективно рассуждать, но все равно чувствовалось, что она в нем души не чает. Как раз на этой неделе кандидатуру Виктора Мортона выдвинули в парламент от Суссекского округа. Вокруг этого и велась беседа. Но Клайв в обычной напористой манере навязал всем другую тему, через весь стол заговорив с Сарой о балете. У него, мол, есть два билета в Ковент-Гарден, но ему до смерти надоели ”приторные сказки прошлого столетия”. Может, она и Трейси захотят пойти?
Сара оживилась.
— Если у вас еще когда-нибудь окажется лишний билет, отдайте Оливеру. Он утверждает, что ни разу в жизни не смотрел балет. Мы просто обязаны его просветить — хотя бы насильно.
— Ни разу не смотрел балет?!
Все разом смолкли и сделали большие глаза. Нечестный поступок с ее стороны!
Я развел руками.
— Перед вами — редчайший зверь из южноамериканских джунглей. Вырос в непроходимой чаще, на сыром мясе. Руками не трогать!
Вера Литчен зевнула, прикрыв рот холеной рукой с длинными алыми ногтями, однако подхватила шутку:
— В неволе не размножается.
Трейси уточнил:
— Что они дают, Клайв?
— ”Сильфиду”, ”Лебединое озеро”, ”Фасад”. Самые ходовые вещи.
— Сара, а ты возьми с собой Оливера, — предложил Трейси, теребя перстень с печаткой. — Было время, я охотно слушал Шопена, но теперь после него спешу поставить пластинку Баха.
Я вдруг чопорно заявил:
— Благодарю, но на следующей неделе я буду занят. Все равно спасибо.
Клайв вытаращил на меня голубые глаза. Должно быть, я впервые возбудил его интерес.
— Постарайтесь освободиться, старина. Это вам не повредит.
Я начал жалеть, что отказался.
— В следующий раз — непременно. Сара, вы не возражаете?
— Нет, — холодно ответила она.
— Я все равно не смогу, — усталым голосом произнес ее муж. — В среду мне будут делать очередную инъекцию. Это выше моих сил — два дня подряд провести в Лондоне.
— Ну и как, — озабоченно спросил Виктор, — помогает?
— Не помогает, но продляет жизнь.
Все засмеялись. Интересно, подумал я, какую роль сыграло остроумие Трейси в том, что Сара стала его женой? Их отношения оставались для меня тайной за семью печатями. Я знал одно: сегодня утром мы стали с нею ближе, но своей выходкой с балетом я все испортил.
* * *
Тем не менее одну лазейку я себе все-таки оставил и на следующий день отправился в Ковент-Гарден, чтобы по-своему поправить положение. Меня ждал неприятный сюрприз: в субботу должен был закончиться сезон, и все билеты на последние спектакли были проданы. Я бесславно упустил свой шанс.
Оглядываясь на ту осень и последовавшую зиму, я вижу, что жил словно в тумане: недовольный собой и в то же время неспособный что-либо изменить. Трижды или четырежды я видел Сару, но ни разу — наедине. Она умышленно держала меня на расстоянии. Как-то мне довелось обедать в клубе с ее мужем.
Наступила весна. И, когда в апреле я прочитал в афише об открытии сезона — причем программа балетного представления была та же, что и в прошлый раз, — я бросил все и, выстояв час в очереди, добыл билеты. Я сразу позвонил Трейси и сообщил о своем намерении компенсировать прошлогоднюю неудачу. Не позволит ли он Саре поехать со мной и, так сказать, посвятить в таинство? Он счел это забавным и не возражал — нужно только спросить ее саму. Пока он ходил, я оставил на карандаше немало отметин от своих зубов. Наконец он вернулся и сообщил, что у Сары руки в мыле, но она передает, что согласна. Оставалось подождать неделю.
* * *
Тут как раз подвернулся любопытный случай, так что ожидание оказалось не слишком тягостным. Популярный киноактер Чарльз Хайбери в разгар съемок занемог; пришлось приостановить работу над фильмом.
Случилось так, что фирма, занимающаяся страхованием кинобизнеса, с самой войны не поручала нам никаких дел, но до Майкла дошли слухи, что они недовольны нашими конкурентами, несмотря на то, что у тех были более низкие ставки.
Не могу сказать, что это был один из тех случаев, на которых я собаку съел или мы надеялись продемонстрировать свое превосходство. Так или иначе, после разговора с продюсером я отправился прямиком в отель ”Дорчестер”, где остановился любимец публики, и нашел его в обществе студийного врача и еще одного, который называл себя личным врачом мистера Хайбери.
Чарльз Хайбери вскружил головы двум континентам. Красивый, плотно сбитый мужчина под сорок, он, как правило, играл главные роли в приключенческих фильмах. Однако в жизни он выглядел далеко не блестяще. В то утро он не удосужился побриться; под одним глазом чернел огромный синяк. Накануне, вернувшись со студии, Хайбери потерял сознание и упал. Он жаловался на скверное самочувствие и постоянно капризничал, так что я поспешил покинуть его голубую спальню и, устроившись в уголке гостиной, начал делать записи. Личный врач объяснил, что у мистера Хайбери был нервный шок и он нуждается самое меньшее в трехнедельном отдыхе. Врач киностудии возражал: синяк нисколько не вредит его имиджу. Это мнение разделял Виктор Фостер, продюсер, и его было легко понять: расходы и без того на тридцать тысяч фунтов превысили смету, а исполнительница главной женской роли должна была через полтора месяца вернуться в Голливуд.
На другой день я поехал на студию, чтобы попытаться на месте решить, каким образом можно свести убытки к минимуму. Беда в том, что весь сюжет был закручен вокруг Хайбери; не было почти ни одной сцены, где бы не требовалось его присутствие.
На обратном пути я снова заглянул в ”Дорчестер”, но обошелся гостиной. Пока секретарь был занят с Самим, я любовался фотопортретом Дженет Вэл, кинозвезды и жены Чарльза Хайбери. Насколько я понял, в это время она находилась в Эдинбурге на съемках нового фильма. Потом я безо всякой задней мысли перешел к великолепному, стоявшему у окна секретеру эпохи Людовика Какого-то. На нем лежала открытая записная книжка Хайбери. Мне бросилась в глаза одна запись. В тот вечер, когда ему стало плохо, он должен был встретиться с неким мистером У. Кортом, Манкс-Крофт, Северо-западный район, восемь. Против этой записи стояла галочка. Но если встреча состоялась, значит, версия о том, что ему стало плохо сразу после возвращения со студии, не выдерживала критики.
В тот день я должен был встретиться со страховым агентом Чарльзом Робинсоном, симпатичным моложавым человеком с темными глазами. От него я узнал, что к ним тоже обращались в связи с этим случаем, но они отказались, потому что уже имели дело с Чарльзом Хайбери (точно в такой же ситуации), и фирма понесла значительные убытки.
Я отложил это дело на конец недели. Может быть, Хайбери быстро очухается, а если нет, то что мы можем сделать? Как заставить человека выйти на работу, если он болен? Остается надеяться, что он хоть сколько-нибудь дорожит своей репутацией.
* * *
В понедельник я должен был встретиться с Сарой и в душе благодарил эту историю с Хайбери за то, что она дала мне возможность отвлечься. В последний раз мы виделись наедине во время того катания верхом; с тех пор много воды утекло.
Я намного раньше времени явился в Ковент-Гарден и стал внимательно вглядываться в лица, чтобы не пропустить Сару. Какой-то бедолага продавал шнурки для ботинок; я купил пару, хотя и не нуждался в них. День стоял теплый; над городом висели тяжелые облака. На каменные плиты перед зданием Оперы начали падать первые крупные капли.
Я заметил Сару раньше, чем она меня. Она выбралась из такси и посмотрела на часы. Я поспешил навстречу.
— Привет! Как добрались?
— Прекрасно. Я боялась опоздать, — она улыбнулась, больше глазами, чем ртом, и это показалось мне хорошим признаком.
Едва мы успели занять свои места, как оркестранты начали настраивать инструменты. Наши места были сбоку, в нижнем ярусе. На Саре было алое шелковое платье, которого я еще не видел: наглухо застегнутое до самого горла, приталенное, с широкой, как у цыганки, юбкой.
— Кажется, это неплохие места. Вы как-то сказали…
— Вы запомнили?.. Да, я сказала, что, хотя отсюда не видишь сцену во всей глубине, зато, сидя сбоку, чувствуешь себя частью актерского ансамбля.
— Я с самого июля…
Тут я запнулся; Сара вопросительно посмотрела на меня.
— Что?
— Старался устроить этот вечер. Чтобы совпала программа…
— Вы хотите сказать — с того самого вечера, когда мы говорили об этом в Ловис-Мейноре?
— Да. Я тогда отказался… Прогрессирующий маразм…
Она уткнулась в программку…
— Кажется, в ”Фасаде” сменили состав. Нет. Наверное, я неправильно поняла — Трейси что-то говорил утром…
— Как он себя чувствует?
— Довольно-таки сносно. Миссис Мортон в отъезде, и мы устроили небольшой ремонт. В такое время он всегда бывает раздражителен, потому что редко делают так, как ему хочется. Возможно, мы тоже уедем на следующей неделе.
— Правда? Куда же?
— В Скарборо — ненадолго. Там сейчас Виктор. Трейси тоже полезно уехать из деревни в пору цветения. Да и слугам не мешает отдохнуть. Мы закроем дом… Вы куда-нибудь уезжали?
— Нет. Почти все время был в Лондоне. Просто очень много работы. Это вам не верхом кататься.
Сара улыбнулась и оперлась на перила как бы для того, чтобы заглянуть в оркестровую яму. Как раз в это время грянули скрипки — изумительная музыка!
— Наверное, вы в прошлый раз отказались, потому что билеты предложил Клайв Фишер? Я угадала?
— Да.
— Он вам несимпатичен?
— Гм… Не могу сказать, что мне нравится этот человеческий тип.
— Вам не кажется, что вы страдаете нетерпимостью?
— Да, наверное.
В это время показался дирижер и направил свои стопы к пульту.
Глава IX
Разумеется, мои первые впечатления от балета могли быть только хорошими — хотя, если бы меня спросили впоследствии, я вряд ли мог сказать что-либо вразумительное. Это был один из тех случаев, когда человек впитывает информацию подсознательно, помимо своей воли. Танец, музыка, зрительные эффекты не вызвали во мне каких-то новых эмоций, а лишь усилили то, что уже звучало в моей душе.
Пока не опустился занавес, Сара не отрывала глаз от сцены — только пару раз не удержалась от комментариев. Казалось, она унеслась мыслями далеко-далеко, и по окончании спектакля ей стоило немалых усилий вернуться на землю. Она не стала возражать, когда на обратном пути я свернул в переулок и остановил машину перед небольшим ресторанчиком. В небе сверкнула молния.
В ресторане мы говорили о балете и танцовщиках. Если зимой я и чувствовал в ней напряженность, то сейчас ее как рукой сняло. Сара как будто грезила; я тоже. Жаль только, что, скорее всего, наши сны были разными.
Я что-то подвинул ей, и она спросила:
— У вас поранен палец — на войне?
— Нет. В восемнадцатилетнем возрасте я спал и видел — убежать из дому. Поэтому стал кочегаром на корабле и пересек Атлантический океан. На обратном пути сломал палец. Хирурги хотели ампутировать, но кость все-таки срослась.
Сара сказала вполголоса:
— Трейси прав: вы не любите говорить о себе. Даже о военном времени.
— Мы сейчас слишком близки, чтобы вести светские разговоры о прошлом.
— А ваша работа? Чем вы сейчас заняты?
Конечно, я не стал посвящать ее в перипетии дела Хайбери, а вместо этого вспомнил, как на прошлой неделе был предъявлен ложный иск в связи с угоном мотоцикла.
— Вам часто приходится сталкиваться с мошенничеством?
— Довольно редко. Такие случаи чаще всего связаны с пожарами, а не с ограблениями: легче замести следы, — мне показалось, что ей интересно, и я продолжил: — Люди прилагают бешеные усилия, чтобы не оставить улик, но что-то все равно остается. Скажем, при поджоге трудно обойтись без емкостей с горючим, или вороха стружек, или еще чего-нибудь такого. То пол провалится и что-то не сгорит, а попадет в подпол…
Сара подняла свой бокал и посмотрела вино на свет.
— Мораль: начинайте поджог в подполе.
— Или в кухонном подъемнике, или в сарае, где сильные сквозняки. В наше время наловчились устраивать подобные вещи.
— Как это?
— Они уже не полагаются на традиционные способы, а используют что-нибудь новенькое: газ, электричество… Однако самый простой реквизит — и самый надежный — свеча в мусорной корзине… что-нибудь в этом роде.
— Почему свеча в мусорной корзине?
— Ну, скажем, вы пропитываете скипидаром портьеры, мебель, что там еще, а внизу помещаете мусорную корзину и ставите в нее зажженную свечу. Дом запылает, когда вы сами будете мирно спать на расстоянии шестидесяти миль оттуда.
— Гениально. И часто это применяют на практике?
— Трудно сказать.
Снаружи послышались раскаты грома. Сара вздрогнула и взглянула на меня.
— Надеюсь, в ближайшее время грозы не будет? Мне нужно успеть на последнюю электричку.
— Я отвезу вас.
— У вас, кажется, новый автомобиль?
— Новый — для меня.
В ресторане было тепло, и, как ни странно, гул голосов создавал ощущение интимности. Можно было разговаривать так, словно вы здесь одни; лица официантов и посетителей сливались в одно большое, смутное пятно. Гром стих, и когда мы вышли на улицу, то очень удивились: улицы были сплошь залиты водой, словно их поливали из брандспойтов. Дождь уже кончился, мы пошлепали к автомобилю.
— Я еще не опоздала на электричку?
— Нет-нет. Но как же вы в этом тоненьком пальтишке?
Она заверила меня, что все в порядке. Я завел мотор, и тут вдруг произошла глупейшая вещь. Я купил эту машину месяц назад и до сих пор не имел случая заметить, что у нее протекает крыша. Пока мы ужинали, за козырьками от солнца скопилась вода, и едва автомобиль снялся с места, она обрушилась мне на голову, а Саре на колени.
Это была одна из тех случайностей, которые словно нарочно подстраивает какой-то шутник. Я вытащил носовой платок и чистый кусок марли и дал Саре — не переставая извиняться, смеяться и ежиться от воды, которая текла за шиворот. Должно быть, это было то еще зрелище! Я немного отъехал от места парковки; сзади сердито сигналило какое-то такси. К тому времени, как я въехал обратно и убедился, что вся скопившаяся за козырьками вода вылилась, снова пошел дождь.
— Просто чертовщина какая-то, — сказал я Саре. — Давайте поедем ко мне, возьмем коврик и макинтош.
Зашуршало шелковое платье — это Сара подобрала под себя ноги.
— Обо мне не беспокойтесь. Я деревенская жительница и не боюсь дождя.
— Чего нельзя сказать о вашем платье. Это в пяти минутах отсюда.
Я развернул машину и поехал в северном направлении, через Пиккадилли, вверх по Риджент-стрит и дальше по Уигмор-стрит. Подъехав к дому, я не сразу сумел выбраться наружу: такой хлынул ливень. Настоящий водопад низвергался с небес, нещадно колотя в лобовое стекло; уличные фонари отражались в воде, по которой, утопая по днище, плыли автомобили. Я посмотрел на Сару — она плотнее закуталась в пальто. Мне показалось, что она дрожит.
— Вам необходимо согреться. Нам еще целый час ехать, вы замерзнете.
Сара молчала.
Мы подождали три или четыре минуты, пока дождь не стал немного тише. После этого я обежал машину и открыл дверцу с ее стороны. Мы оба метнулись под козырек парадного и наконец очутились в моей квартире.
Я не питал особой гордости за свое жилище, но на этот раз оно показалось мне особенно убогим.
Я зажег газ и подвинул кресло.
— Посидите, пока я принесу коврик. Он у меня в спальне.
Когда я вернулся, Сара стояла, держа юбку веером; с волос стекала вода. Она с любопытством озиралась по сторонам. Мне вспомнилось:
”Она стояла в платье алом, Оно шуршало и пылало, И розы щек ее пылали, И губ смеялись лепестки”.Сара стремительно повернулась ко мне. Я включил настольную лампу, и неяркий свет выхватил из полутьмы ее бледное лицо.
— Что это?
— Так, где-то прочитал вчера.
— Я не знала, что вы увлекаетесь поэзией.
— Самую малость.
— Даже читаете наизусть.
Я достал из шкафа новый прорезиненный плащ — для Сары он был слишком велик.
— Нам пора, — сказала она. — Трейси, наверное, волнуется.
— Позвоните ему.
— Не могу… отсюда.
— Понимаю, — я повесил плащ на спинку стула. — Трейси — великодушный муж, не правда ли?
— В каком смысле?
— Разрешает вам выезжать со мной.
— Он считает… что мне не хватает развлечений.
— Все равно не каждый супруг…
— Да, конечно. Между нами существует полное понимание… и доверие.
Не берусь описать, какой отклик во мне вызвали эти слова.
— Значит, любой волокита…
— За последние пару лет я только трижды выезжала без Трейси.
— Простите. Забудьте о том, что я сказал.
Я дал ей прикурить. В наступившей тишине было слышно злобное шипение газа.
— Я уже высохла. Давайте поедем.
— Сара, вы знаете, что я вас люблю?
Она встала так, что ее лицо оказалось в тени. Сигарета в пальцах не дрогнула.
— Да.
— Давно?
— С тех пор как мы катались верхом.
— А раньше?
— Да. Кажется, знала и раньше.
— Как же насчет Трейси — понимания и доверия?
— Вы правы. Они вряд ли простираются так далеко.
Огонек сигареты осветил ее лицо.
— В таком случае почему вы поехали со мной?
Она метнулась к своему пальто.
— На то были причины. Оливер, дождь уже закончился.
— Возьмите свое пальто в руки, а сами наденьте это, — я протянул ей плащ. — Почему вы поехали со мной, Сара?
— А что, не нужно было? Просто захотелось… Не знаю… Извините, я не могу дать вразумительного ответа. Мне действительно не следовало этого делать, — она невесело усмехнулась. — Это совершенно ясно. Простите.
— Вам не в чем упрекнуть себя. Надеюсь, что это не последняя наша встреча?
— Жалко, что вы раскрыли карты. Пока вещи не названы своими именами, легче обманываться.
Я помог ей надеть плащ. Она утонула в нем и с кривой улыбкой повернулась ко мне — очевидно, чтобы поблагодарить, — но вместо этого у нее вырвалось:
— Оливер, не смотрите так!
Но она и сама не отвела взгляда и не пыталась вырваться. Я наклонился и поцеловал ее — сначала в щеку, а затем в губы. Странное, неизведанное чувство — все равно что кубарем с горы!
Я почувствовал слабое сопротивление и сразу отпустил ее. Убогая комнатенка словно увеличилась в размерах; на потолке плясали тени. Я глубоко вздохнул. Громоздкий макинтош отодвинулся, а вместе с ним Сара.
Я перехватил ее у дверей.
— Сара!
— Не будем больше ничего говорить.
— Сара…
Она обернулась — вроде бы сердито, но в ее глазах я не увидел гнева.
— Молчите, Оливер. Не сейчас. Видите, вы правы: из этого ничего не выйдет. Мне не нужно было приходить.
* * *
Я отвез ее в Ловис. Слава Богу, на дорогах в этот час не было патрулей, следящих за превышением скорости: в том состоянии, в котором я находился, было невыносимо иметь с ними дело. В тот вечер я впервые — если не считать нескольких рукопожатий — до нее дотронулся. Возможно, виной тому была та далекая встреча, но Сара всегда казалась мне недосягаемой. Даже сейчас я не мог понять, продвинулся ли я, и если да, то насколько; не представлял ее чувств и мыслей. Она же упорно отказывалась говорить об этом.
Когда мы приехали, дом был погружен во тьму — за исключением ярко освещенного холла. Я остановился на приличном расстоянии в надежде, что никто не услышит, и распахнул перед Сарой дверцу. В этот момент тявкнула Трикси, и я разглядел на крыльце мелькнувший огонек сигареты. Трейси!
— Сара, это ты? — окликнул он. — Пригласи Оливера зайти что-нибудь выпить. Мне нужно с ним поговорить.
Глава X
К счастью, у нас было достаточно времени, чтобы взять себя в руки: во всяком случае, мне показалось, что Трейси не заметил ничего подозрительного. И все-таки какая это была пытка: стоять и пить в мерцающем свете от камина, чувствуя свой учащенный пульс, представляя себе свое лицо; раскрасневшееся, отрешенное… может быть, даже со следами губной помады…
Кажется, это приглашение было рождено лишь потребностью с кем-нибудь поболтать. Если не считать двоих слуг, Трейси был один в доме. Большая часть мебели была зачехлена; возле лестницы высилась стремянка. В тяжелой дубовой балюстраде вдоль галереи обнаружили древесного червя; трудно сказать, как далеко он успел распространиться. Трейси также вынашивал план прорубить еще пару окон в холле, чтобы улучшить освещение, но не был уверен, что у него хватит средств сделать все так, как хочется.
Сара извинилась и пошла спать, а я оставался до двух, потягивая его бренди и всячески симулируя интерес к его хлопотам. Приподнятое настроение сменялось депрессией и наоборот; я поочередно чувствовал себя то порядочным человеком, то последним негодяем.
* * *
Оглядываясь на эти события три месяца спустя, я понял, что уже тогда должен был обратить внимание на некоторые симптомы, которые должны были открыть мне глаза на то, что происходило вокруг. Но я был совершенно выбит из колеи и ровным счетом ни о чем не догадывался — как говорится, ни сном, ни духом. Потребовался случай с Хайбери, чтобы у меня открылись глаза. Судьба подожгла фитиль, и разгорелось пламя.
Я обсудил дело Хайбери с Майклом и его отцом, а в понедельник мы провели совещание на студии. После того как Чарльз Хайбери и во вторник не вышел на работу, я позвонил Фостеру и предложил устроить что-то вроде консилиума. Было условлено, что утром в среду к мистеру Хайбери заедет сэр Роджер Феттер. В тот же день пополудни я встретился с сэром Роджером. Он не нашел у мистера Хайбери ничего серьезного, если не считать подбитого и быстро заживающего глаза. Вернувшись в контору, я сел и хорошенько все обдумал. Что все-таки произошло в тот вечер и как прошла встреча с мистером Кортом в северо-западной части Лондона — та, что была отмечена галочкой в записной книжке Хайбери? Не в ней ли — ключ к случившемуся?
На моей карте не оказалось Манкс-Крофта, а северо-западная часть Лондона — настоящий лабиринт, в котором, не зная дороги, легко заблудиться. Так что я битый час ломал себе голову, пока не сообразил, что Хайбери перепутал и район называется Манкс-Корт — огромный жилой массив с таким названием значился на карте, а, когда я приехал туда — номер восемь оказался резиденцией американского представительства — привратник подтвердил, что мистер Уильям Крофт проживает на восьмом этаже.
Он сам открыл дверь — приятный молодой человек лет под тридцать, элегантный, с хорошими манерами и тихим, хорошо поставленным голосом. Я встречал таких молодых людей во время войны — они, как правило, оказывались уроженцами Бостона.
Мистер Крофт занимал большую квартиру с белыми стенами, зелеными, цвета резеды, портьерами и множеством встроенных книжных шкафов. Он внимательно изучил мою визитную карточку и спросил:
— Могу я быть вам чем-нибудь полезен?
— Надеюсь, мистер Крофт. Мне бесконечно жаль отнимать у вас время, но я — агент страховой компании и в настоящее время расследую несчастный случай, происшедший в прошлый четверг с всемирно известным киноактером, мистером Чарльзом Хайбери. Кажется, в тот вечер вы ужинали вместе?
— Да, разумеется.
— В ходе встречи имел место некий удар?
— Не о ресторанный столик.
Я засмеялся.
— Нет, конечно. Однако…
В этом месте я сделал паузу, сверля его взглядом и надеясь на лучшее. Сработает мой блеф или я потерплю сокрушительное фиаско?
Крофт выглядел смущенным. Он потеребил галстук и выглянул в окно.
— Пожалуй, нам не помешало бы сделать по глотку. Как насчет ”скотча” с содовой?
Я внутренне ликовал: интуиция меня не подвела! Американец некоторое время возился возле бара и наконец вернулся с двумя бокалами.
— Не приступить ли нам прямо к делу? Чьи, собственно, интересы вы защищаете, мистер Бранвелл, и какие неприятности я могу навлечь на себя и на других, если позволю себе быть откровенным с вами?
— Абсолютно никаких. Я выступаю от имени страховщика, который, вследствие болезни мистера Хайбери, должен выплатить солидную сумму, затребованную его продюсером. В любом случае иск будет принят ко взысканию, но нам хотелось бы точно знать, что все-таки случилось. Мы не собираемся выдвигать против вас или кого-то еще какие бы то ни было обвинения.
— Надеюсь! — весело отозвался он и выпил свое виски. Наши взгляды встретились. Крофт поставил свой бокал на стол. — Вы же не думаете, что это я приложил руку?
Я осторожно ответил:
— Мистер Хайбери весьма смутно помнит, что произошло.
— Вот это странно. По-моему, на этот счет не может быть никаких сомнений.
Я сделал несколько глотков.
— Вы не могли бы подробно описать, как это началось?
Мистер Крофт заколебался.
— Ничего, если я сначала позвоню Хайбери — просто убедиться, что он не возражает?
— Ради Бога.
Он продолжал колебаться.
— Нет… Пожалуй, не стоит. Видимо, вам можно доверять… Нас было четверо: Чарльз с Дженет — вы знаете, это его жена, Дженет Вэл, и мы с Джой — это моя жена. Мы пригласили их в гости. Пили, закусывали, а потом сели играть в карты. Вы знаете канасту?
Я жестом дал понять, что знаю.
— Конечно, мы играли на деньги — чисто символически, — и Чарльз с Дженет проиграли в общей сложности девять фунтов. Во время второй партии они начали наскакивать друг на друга — знаете, как это бывает между супругами? Я еще подмигнул Джой: вот, мол, и кинозвезды — такие же, как все. Мы закончили игру и еще выпили. Они все больше действовали друг другу на нервы. Потом они собрались уходить. Дженет надела пальто. Они стояли в прихожей — довольно тесной, как вы могли убедиться, — и вдруг дело дошло до драки. Там было мало места, чтобы драться по всем правилам, так что он укусил ее за руку и лягнул по лодыжке, а она двинула его в глаз. Помнится, он начал падать, а она взвизгнула: ”Получай, паршивый кенар!” — и была такова. Чарльз оставался у нас до двух часов ночи, а потом мы вызвали для него такси и отправили домой.
Я допил свое виски.
— Большое спасибо, мистер Крофт. Это более или менее подтверждает… Весьма обязан.
— Откровенно говоря, нам с Джой было здорово не по себе. Мы в первый раз пригласили их в гости. После того как Дженет хлопнула дверью, Чарльз поведал нам обо всех своих семейных неприятностях за двенадцать лет. Это оказалась непрерывная цепь скандалов. Все мы ссоримся, но лично я никогда не заходил так далеко. А вы?
— Я тоже.
Он показался мне симпатичным малым. Теперь, когда Рубикон был перейден, он стал словоохотливым. Я посидел еще немного, цедя ”скотч”, время от времени вставляя нейтральные реплики и размышляя о том, что сулит фирме это маленькое открытие. Наконец я поднялся, чтобы уйти, и тогда только обратил внимание на картину.
Она висела в дальнем конце комнаты, и я несколько раз рассеянно скользил по ней взглядом, подспудно угадывая что-то знакомое. И вдруг понял, что это — акварельное изображение Ловис-Мейнора. Не прерывая разговора, я подошел ближе и убедился: это вид на Ловис-Мейнор с того места на холме, где мы с Сарой сделали привал, когда катались верхом; ну, может быть, чуточку ниже. Слева виднелась задняя часть дома, а на переднем плане я увидел мельницу и небольшой лесок. Странно — ведь мельница разрушилась много лет назад.
— Любуетесь моей акварелью? — спросил мистер Крофт, проследив за направлением моего взгляда.
— Да. Мне знакома эта местность.
— Правда? Как интересно. Я горжусь этой картиной, потому что до нее у меня еще не было подлинного Бонингтона.
В моем бокале оставался довольно большой кусочек льда, и теперь мне показалось, будто его сунули мне за шиворот.
— Бонингтона?
— Ну да. Я приобрел ее более полутора лет назад. Она называется ”Роща и мельница” — довольно безликое название. Где, вы сказали, находится эта усадьба?
— Я не уверен… Боюсь ошибиться. Картина подписана художником?
— Да, разумеется. Вот здесь, в уголке.
— Вы приобрели ее через своего постоянного агента?
— Нет… Нет. А что?
— Я знаю… одного человека, изучающего творчество Бонингтона. Может, ему будет интересно…
— Я купил ее у одного дилера в Челси. Он познакомил меня с молодой особой, которая и продавала картину. Я хотел увезти картину домой, в Штаты, но потом обосновался здесь и, естественно, ее оставил.
— Понимаю, — промямлил я.
— Очевидно, дама выступала от имени владельцев — тем не хотелось афишировать факт продажи. Возможно, они разорились — война покалечила многие судьбы… Конечно, я не хотел рисковать суммой в две с половиной тысячи фунтов ради подделки и показал картину экспертам. Откровенно говоря, меня кое-что смущало: например, она почему-то настаивала на оплате наличными, — он метнул в мою сторону проницательный взгляд. — Только не говорите, что картина краденая!
— Нет-нет… Во всяком случае… насколько мне известно… — я проглотил комок. — Как выглядела та женщина?
В это время затрещал телефон. В течение добрых пяти минут, которые тянулись невероятно долго, я изучал картину и прислушивался к репликам мистера Крофта: очевидно, он разговаривал с женой. История с болезнью Чарльза Хайбери немедленно отодвинулась на задний план, как будто ее и не было на свете.
— Надеюсь, вы меня извините? Жена звонила из Эссекса.
— Как выглядела та женщина?
— Какая? Ах да, которая продала мне картину… Она была молода — лет двадцать пять, двадцать шесть. Довольно привлекательна.
— Высокая, стройная, но не худая; смуглая, с вьющимися волосами — черными, с оттенком бронзы; чистое, бледное лицо. Глаза при определенном освещении кажутся черными, а при другом — как у газели?..
— Весьма похоже, — Крофт улыбнулся. — Вы знакомы? Она произвела на меня впечатление настоящей леди. Только не говорите, что она — мошенница.
Я выдавил из себя подобие улыбки.
— Нет-нет. Можете быть абсолютно спокойны.
* * *
Я завел машину в гараж, но, вместо того чтобы пойти домой, прошелся по Гайд-парку и Кенсингтон-Гарденс. В общей сложности я проделал, наверное, миль семь или восемь. Домой я вернулся около одиннадцати. Включил свет и огляделся. Все было таким, как прежде: блеклый зеленый ковер; два обитых зеленым плюшем кресла; газовый камин с отбитым уголком; не особенно аккуратная стопка книг и журналов на полу; полупустая пачка сигарет на сработанном под антиквариат письменном столе — я все собирался заменить его, да так и не собрался. Я бесцельно выдвинул ящик и задвинул обратно. Не только среди предметов мебели попадаются подделки…
Два дня назад здесь была Сара — случайно залетевшая райская птица, рядом с которой все показалось особенно убогим. Всего два дня прошло, а сколько всего случилось!
Я сел на диван-кровать, закурил, вышел на кухню, отыскал бутылку виски. Я редко пью виски: просто мне не нравится вкус, — но сегодня это было именно то, что нужно. Я откупорил бутылку и налил полный стакан. Один неприятный вкус во рту сменился другим.
Не принимай близко к сердцу, твердил я себе. Есть разные степени нечестности. Но разве в этом дело?..
Я сидел без движения до тех пор, пока не услышал, как в соседней квартире пробил по радио Биг-Бен. Тогда я разложил диван-кровать, разделся и лег. Странная вещь — подозрения. Долгое время даже тень догадки не приходит вам в голову, как будто ваш мозг снабжен защитным устройством, но случись в этой броне малюсенький прокол… Проворочавшись до трех, я снова встал, зажег камин и долго курил, сидя перед ним в пижаме. Должно быть, я задремал, потому что, когда открыл глаза, было уже светло; снаружи доносился шум уличного движения.
С самого понедельника стояла ненастная погода, но сегодняшний день обещал быть погожим. Небо окрасилось в бледный желто-розовый цвет; между близко стоящими зданиями гулял ветер. Многих ожидает прекрасный день — только не меня.
* * *
Благодаря давнему случаю с пожаром в Ловис-Мейноре я знал, что Трейси пользовался услугами страховой компании ”Бертон энд Хикс”, где работал Фред Макдональд. Я не видел Фреда с тех пор, как порвал с его дочерью, однако позвонил и, извинившись, попросил о встрече по поводу пожара на Саутгемптонской верфи. Перед уходом я как бы невзначай задал ему вопрос:
— Да, кстати, кажется, вы ведете дела Трейси Мортона? Не знаете, он в последнее время не увеличил сумму страховки?
Макдональд в задумчивости поскреб большим пальцем свой двойной подбородок.
— Мортон? Это не?.. Ах да, вспомнил. Год или два назад у них был какой-то инцидент. Почему вы спросили?
— Так, пустяки. Просто я как-то виделся с ним — несколько месяцев назад — и посоветовал привести сумму страховки в соответствие с нынешними ценами.
Макдональд нажал кнопку звонка.
— Да-да… когда мы в последний раз продлевали страховку? Где-то в районе прошлого октября. Не помню точной цифры, но, если хотите, можно выяснить.
Подняв шум, я уже не мог остановиться и тем самым вызвать его подозрения. Секретарь принес папку, и он с недовольным видом прочитал:
— Сумма страховки за обстановку возросла с тридцати до сорока тысяч фунтов. Я предлагал ему переписать и полис на само здание, но он счел это нецелесообразным.
— На сколько застраховано? — с облегчением спросил я.
— На двадцать пять тысяч. Я там не бывал, но, должно быть, это замечательный старинный особняк.
— Вы правы. Когда я увижу Мортона, посоветую ему перезаключить и этот договор — увеличить сумму страховки хотя бы на пятьдесят процентов.
— Отлично. До свидания, Бранвелл.
Из его конторы я перенесся в свет и тени Грейсчерч-стрит. Мои подозрения почти растаяли. Слава Богу, все не так плохо, как нашептало мне предчувствие.
И все-таки сомнения оставались.
Когда я приехал к Аберкромби, секретарь-машинистка сказала:
— Звонил мистер Лоуренс Гаскелл, хотел получить последнюю информацию по делу Хайбери. Я также положила вам на стол кое-какие бумаги от Беркли Рекитта.
Я просмотрел документы и набрал номер фирмы ”Ллойдс” — справиться, не там ли сейчас Гаскелл. Однако передумал и положил трубку на рычаг прежде, чем мне ответили. Заболевшие кинозвезды немного подождут. Сначала нужно выяснить то, что не давало мне покоя с прошлой ночи.
Я попросил соединить меня с Ловис-Мейнором, Слейден, тридцать пять. В ожидании ответа я нацарапал на листке бумаги несколько цифр и обвел кружочками.
Когда Сара узнала, кто звонит, мне показалось, что ее голос потеплел. Или это только моя фантазия?
— Вот, решил позвонить. Как вы?
— Спасибо, хорошо.
— А Трейси?
— Тоже довольно сносно.
Я тупо глазел на телефонный аппарат.
— Хотелось бы снова увидеться с вами обоими. Нельзя ли мне завтра заскочить?
Она немного помолчала.
— Видите ли… мы как раз уезжаем. Утром в субботу.
— Ах, да. Совсем вылетело из головы. Как насчет завтрашнего вечера?
Послышались приглушенные голоса.
— Оливер, мы уезжаем всего на одну неделю. У вас что-нибудь срочное?
— Нет. Кажется, нет. Вы не могли бы позвонить мне, когда вернетесь?
— Конечно, — осторожно ответила она.
— Я хотел спросить у Трейси… Куда он отдает чистить свои картины, например Констебля и Липпи? Вчера у меня состоялся разговор с одним знакомым, я пообещал ему порекомендовать стоящую фирму.
Я слышал, как она спросила Трейси, а он буркнул: ”Зачем ему это нужно? — Сара объяснила. — ”Барбер энд Карри”. Это на Бонд-стрит, по правой стороне”.
— Точно. Спасибо. Счастливой поездки. До свидания.
— До свидания.
Я посмотрел на телефонную трубку так, словно она причинила мне боль, и медленно опустил на рычаг. Приближалось время обеда, а я с самого утра не сделал ничего путного. Я еще минут десять посидел, подумал, а затем достал фирменный бланк и настрочил следующее послание:
”Агентство ”Григг энд Григг”.
Уважаемые господа! Мы были бы весьма признательны, если бы вы предоставили нам информацию о финансовом положении мистера Трейси Мортона, Ловис-Мейнор, Слейден, графство Кент. Искренне ваш, по поручению ”Аберкромби энд Компани”, Оливер Бранвелл”. Запечатав конверт, я незаметно выскользнул на улицу и доехал двадцать третьим автобусом до Бонд-стрит.
”Барбер энд Кэрри” оказалась одной из тех мастерских средней руки, где в витрине непременно красуется изображение одинокого, поглощенного своей работой Старого Мастера. Управляющий ушел на обед, но его заместитель, человек в белом халате, показался мне сведущим, так что я сказал ему, что хочу отдать на реставрацию картину раннего Бонингтона, но сначала желал бы знать, какую работу они выполнили для мистера Трейси Мортона из Ловис-Мейнора — он расхвалил их до небес — и во что это ему обошлось.
Мастер в белом халате переспросил:
— Как, вы сказали, его зовут? И что это были за картины?
— Трейси Мортон, одна картина Констебля, а другая — Липпи. Не исключено, что и Ватто.
— Что-то не припомню. Но я проверю по регистрационному журналу.
Он вышел, но скоро вернулся и сообщил, что единственным клиентом с похожей фамилией оказалась виконтесса Моркамб. ”В каком году это было?” — уточнил он, и я ответил: в прошлом, — хотя мне уже все было ясно; оставалось подыскать благовидный предлог для ухода.
Через пять минут он снова появился, на этот раз с каменным лицом, словно заподозрил обман, но не мог угадать, в чем он состоит. Они никогда не выполняли никаких работ для мистера Мортона, а также в течение нескольких лет не занимались Липпи. Может быть, мне стоило бы дождаться управляющего? Я поблагодарил и сказал, что сначала переговорю с мистером Мортоном. Еще минута — и я очутился на улице.
Глава XI
Мне было ясно: необходимо как можно скорее сбросить с души дело Хайбери. Я отчетливо представлял свои следующие шаги, но больше не испытывал ни малейшего интереса. Меня тошнило — в буквальном и фигуральном смысле.
Я отправился в ”Дорчестер” и заявил, что хочу видеть мистера Хайбери по срочному делу. К счастью, секретаря не оказалось на месте, а сам Хайбери хотя и встал, но не покидал своей спальни. Он расхаживал по ней в роскошном черном шелковом халате с золотыми отворотами.
Он кисло улыбнулся мне.
— А, джентльмен из страховой компании. Прошу. Боюсь, что в прошлую пятницу я был несколько груб, но у меня были нервы не в порядке. Житья нет от агентов и продюсеров. Сигарету?
— Я рад, что вам лучше, мистер Хайбери, — синяк под глазом почти исчез.
— Не могу сказать, что я уже совсем здоров, но доктор Эймар считает, что через какой-нибудь десяток дней я смогу приступить к работе. Но до чего противно на студии! Грязь, пыль — просто нечем дышать, и никто палец о палец не ударит.
Мы немного поболтали о том, о сем. К нему постепенно возвращался прежний шарм; обаяние струилось из его глаз так же естественно, как теплая вода из крана. Он упивался собственным добродушием.
Но я не мог внимать ему с открытой душой, так как был выбит из колеи.
— До сих пор, мистер Хайбери, — сказал я, — мы просто составляли промежуточные отчеты для страховщика о состоянии дел. Однако теперь настало время представить полный отчет. Вот почему я настоял на встрече. Надеюсь, что смогу назвать им точную дату возобновления съемок.
— Конечно, старина; в следующий понедельник. Эймар обещает, что через неделю я буду как огурчик.
— А что думаете вы сами? Фостеру приходится туго, тем более, что эта Как-Ее должна вот-вот отбыть в Штаты. И потом… я думаю, вы сможете вернуться в строй в этот понедельник.
— Фостер перебьется. У него бывали причины для головной боли и посерьезнее этой. Вы не представляете, какой развалиной я себя чувствую.
— В том-то и дело, что представляю.
Он расправил складочку на халате.
— О чем это вы?
— Так ли необходимо расшифровывать?
— Ради Бога — если вам есть что сказать… — поток его обаяния превратился в тоненькую струйку.
Я вздохнул.
— Когда популярный актер неожиданно получает травму, естественно наводить справки, особенно если его жена слишком задерживается в Эдинбурге.
— Кто дал вам право грубо совать нос в мою личную жизнь?
— Когда случается пожар на товарном складе, — терпеливо объяснил я, — в мои обязанности входит установить причину пожара. Если заболевает человек и его болезнь влетает другому в кругленькую сумму, моей задачей становится установить причину болезни.
Он медленно поднялся на ноги. У него были плечи чемпиона по борьбе и талия профессионального танцовщика.
— Убирайтесь, мистер Ищейка. Мне скучно вас слушать.
Я тоже встал.
— У вас, кажется, репутация настоящего мужчины?
— Ну так что?
— То, что, если в данный момент от меня потребуют дать заключение, мне придется подпортить ваш имидж, сообщив страховщику, что мистер Хайбери страдает от побоев, нанесенных ему женой; что она сбила его с ног и он целую неделю провалялся в постели. Конечно, эти отчеты носят конфиденциальный характер, но они проходят через множество рук; не исключено, что кто-нибудь проболтается и это попадет в прессу.
— Идите к черту!
— Отлично. Я жду до завтра. В случае каких-либо изменений в ваших планах дайте мне знать.
Он долго, упорно жал на кнопку звонка — белый как мел и взбешенный.
— Мисс Грей, проводите джентльмена. И проследите за тем, чтобы ноги его здесь больше не было ни при каких обстоятельствах.
Я вышел на улицу и побрел по Парк-Лейн. Я свою работу выполнил, теперь выбор за ним: капитулировать или счесть мою угрозу блефом. Главное, я мог отвлечься от этой проблемы, забыть о ней и сосредоточиться на единственно важной для меня лично. Она мучила меня, как зубная боль, — каждую минуту, днем и ночью.
* * *
Генри Дэйн встал из-за стола и, подойдя к окну, потер указательным пальцем щетину на подбородке.
— Продолжайте. Я весь внимание.
— У меня нет доказательств, но, мне кажется, мы имеем дело с мошенничеством, хотя до сих пор и весьма скромным. Есть причины, по которым в настоящее время я не могу действовать открыто. Мне нужен совет такого опытного человека, как вы.
— Опустите комплименты.
Я рассказал ему обо всем, что знал и подозревал, — правда, изменив кое-какие подробности и не называя имен. Он сидел на подоконнике, дымя трубкой и стряхивая пепел в старую гильзу.
— Этот человек испытывает материальные затруднения?
— Трудно сказать. В агентстве ”Григг энд Григг” нет соответствующих сведений. Он всегда отличался замкнутостью. Несколько лет назад по его финансам был нанесен серьезный удар налогом на наследство.
— Вы считаете, что жена с ним заодно?
— … Да.
— И мать?
— Вряд ли. Я почти уверен, что нет.
— Вы можете заполучить первую картину?
— Да. Но я навел справки о художнике. Будет непросто доказать, что он не создал авторскую копию. Иногда это делается.
— В таком случае ваши подозрения беспочвенны.
— Есть и еще причины.
— Вы сами оценивали размер ущерба, нанесенного первым пожаром?
— Да.
— И подозреваете, что они замышляют новую попытку?
— Рано или поздно.
— И что они подружились с вами…
— Да. Чтобы на всякий случай заручиться моей поддержкой. Помнится, во время второй или третьей встречи этот человек поинтересовался, от кого зависит выбор посредника. И вообще, мы довольно часто обсуждали вопросы страхования: я не скрывал от него того, что знал. Жена тоже…
— А другие картины?
— Вот что я думаю. На следующей неделе я смогу завладеть ими — без особого труда. Не знаете ли вы способа отличить руку мастера от руки ремесленника? Какие-нибудь общие принципы…
Он выпустил струйку дыма.
— Бывают подделки, которые могут ввести в заблуждение опытных экспертов.
— Не думаю, что в данном случае мы имеем дело с чем-то подобным. Картины висят в холле, довольно высоко…
— И все же вы рассчитываете на время завладеть ими?
— Я имею доступ.
— В таком случае вам нужен Льюисон. У него небольшая мастерская в Вест-энде, недалеко от места, где вы живете. Чего он не знает о подделке картин, того не знает никто. До войны Льюисон отбыл два срока, но это прощено и забыто. Он оказал мне неоценимую помощь в деле Килларни. Советую сослаться на меня, иначе вы из него и слова не вытянете. Ну и, конечно, придется раскошелиться. Он не открывает рта даром.
— Этот человек… может, он разбирает я и в подделках под старинную мебель?
Дэйн саркастически усмехнулся.
— Еще бы! Он собаку съел на их изготовлении.
* * *
Попав в мастерскую мистера Льюисона, вы сразу понимали, что ее владелец — из тех, кто никогда не отказывается от выгодного предложения, будь то ремонт пианолы или изготовление воровской отмычки. Интересно, кто его страхует? Из-за якобинского книжного шкафа выступил рослый, сутулый человек с крупным носом и подозрительно принюхался.
— Мистер Льюисон?
Вместо ответа он принялся искать бифокальные очки, а найдя, уставился на меня сквозь выпавшие половинки.
— Как вы могли прочитать на вывеске, мастерская принадлежит Марте Гудман.
— Вы мистер Льюисон?
— А вам зачем?
— Мне рекомендовал вас адвокат мистер Дэйн. Может быть, вы дадите мне полезный совет. Я страховой инспектор.
Он снова потянул носом и остался не слишком доволен.
— Я не доносчик.
— Я об этом и не прошу. Все, что мне нужно, это консультация — как определить подлинность картины?
Он поиграл с очками.
— Что за картины?
— Два полотна, написанные маслом. Констебль и Липпи.
— Липпи никогда не работал маслом. Где эти картины?
— К сожалению, я не могу их предъявить. Мне нужно знать общие принципы.
— Общие принципы не помогут. Есть только один надежный способ изучить тысячу и одно произведение живописи во всех деталях. И тогда через несколько лет у вас выработается чутье. Иногда помогает метод пальпации — если копия так себе.
— Я готов оплатить ваши услуги.
Он нахмурился и неожиданно исчез за книжным шкафом. Мне показалось, будто хлопнула дверь. Я остался наедине с чучелом хорька, таращившим на меня маленькие, острые глазки.
Я уже начал подумывать, не следует ли каким-нибудь шумом напомнить о себе, но как раз в этот момент старик вернулся в сопровождении женщины, чьи габариты были ровно вдвое меньше него; она торопливо вытирала руки о фартук.
— Это Марта Гудман, — торжественно представил Льюисон. Заметив мое недоумение, он пояснил: — Кто-то же должен присмотреть за мастерской в мое отсутствие. Идемте, побеседуем.
* * *
Я вернулся домой только в седьмом часу. Можно было со спокойной совестью подождать до воскресенья, отдохнуть, сходить в кино. И тогда вся эта история приняла бы другой оборот. Но я понимал, что в моем теперешнем состоянии кино — не лучшее лекарство.
Так что я плотно поужинал и около восьми вышел из дому. Не имело смысла ехать туда до темноты. Скорее всего, Трейси с Сарой отбыли утром, но слуги могли еще добрых несколько часов слоняться по опустевшему дому. Я не знал их порядков: вполне возможно, они оставляют кого-нибудь присматривать за домом. В таком случае моя поездка окажется напрасной.
Дул сильный ветер — даже в Вест-энде. Небо заволокли тяжелые тучи; между ними изредка мелькали пятнышки холодного голубого цвета. Я вывел свой автомобиль из блока на четвертом этаже подземного гаража и покатил по Парк-Лейн и дальше через Гросвенор-плейс до Виктории. Свернул на Виктория-стрит, проехал через Вестминстер-бридж до Сент-Джордж-Роуд, а затем — кружным путем мимо ”Элефанта” и ”Касла”. Мне не было нужды торопиться.
Голова распухла от новых подробностей: трещины, оставляемые временем, холсты, лаки, личное клеймо фабриканта, подрамники — клееные либо сбитые гвоздиками — и какие существуют способы грунтовки. Впрочем, я думал совсем о другом — о Саре. Вспоминал нашу последнюю встречу. ”На то были причины”,— ответила она, когда я спросил, почему она согласилась встретиться…
Мой дальнейший путь пролегал по шоссе до Рочестера; в Дартфорде я круто взял на юг и поехал вдоль берега Дарента; миновал Фарнингем и Севенокс. Этой дорогой я еще не ездил. Сгущались сумерки. Меж облаками появилась луна — в три четверти. Здесь, за городом, ветер бушевал вовсю, грозя обернуться ураганом; он беспощадно разделался с первыми признаками наступающего лета. Я как раз проезжал мимо фруктовых садов; ветер срывал лепестки, и они кружились в вихре быстрого вальса.
В паре миль от Ловиса я решил сделать привал — перекурить и успокоиться. Несмотря на облака, было еще недостаточно темно. Меня беспокоила сторожка. Правда, Сара сказала, что она пуста. Обычно они ее сдавали, но старый жилец недавно умер, а новые еще не въехали. Хотя наш разговор происходил всего несколько дней назад, с тех пор многое могло измениться. У меня не было ни малейшего желания провести ночь в полицейском участке.
Я выбросил окурок, завел мотор и включил фары. Миновав сторожку, проехал ярдов двести и остановился на траве под деревом. Выключил фары и выбрался наружу.
Вместо того, чтобы вернуться и пройти через ворота, я перемахнул через забор и очутился во владениях Трейси.
С тыльной стороны сторожки-флигеля в окнах также не было света, так что я храбро двинулся по дорожке к дому, стараясь, однако, держаться в тени окаймляющих ее зарослей падуба. На западе еще виднелась светлая полоска неба; время от времени меж облаками, точно дуговая лампа, вспыхивала луна, и тогда по земле скользили хищные черные тени. Если запрокинуть голову и смотреть на несущиеся вдаль облака, можно было почувствовать себя в перевернутом мире.
Несмотря на то, что, как я и предполагал, в Ловис-Мейноре было темно, я решил не пренебрегать мерами предосторожности и сначала позвонить у парадной двери. Если в доме находится Эллиот или кто-нибудь еще, мне будет нетрудно сочинить какое-нибудь объяснение.
В полутьме особняк казался еще более приземистым и раздавшимся вширь. У парадной двери сохранился старинный, неэлектрический звонок; можно было представить, как в недрах дома заливается колокольчик — и некому откликнуться на зов.
Я залез на клумбу и попытался заглянуть в окно холла, но внутри было слишком темно. Хорошо бы предосторожности ради обойти весь дом по периметру. Если понадобится, вся ночь в моем распоряжении.
Я двинулся против часовой стрелки, рассчитывая последней проверить конюшню-гараж, однако дошел только до кухни. В северо-восточной части дома, как раз там, где рядом рос гигантский тис, расположились несколько окошек с выступами — там была столовая. В этом месте посыпанная гравием дорожка мало того что подходила к самому дому, но и была примерно на одном уровне с окнами. Сара как-то сказала, что это объясняется многовековыми тектоническими процессами. Только я собрался заглянуть внутрь, как обнаружил, что одно окно закрыто неплотно.
Если что-то и было способно рассмешить меня в такой момент, так именно это. Должно быть, старик Эллиот дал маху. Или сам Трейси оставил окно почти открытым в расчете на настоящее ограбление. Защелка едва держалась. Щель оказалась достаточной, чтобы просунуть нож и отломать ее. После этого я опустил ноги на широкий подоконник, а затем и вовсе спрыгнул в комнату.
На всякий случай я смахнул с подоконника грязь и на несколько секунд включил фонарик. Укрытая от пыли мебель придавала комнате непривычный вид. Прекрасные чиппендельские столы (возможно, подделка) казались громоздкими, неуклюжими глыбами. В углу за ширмой была дверь, ведущая в кухню. Что, если старый Эллиот не уехал, а задремал в каком-нибудь кресле? Впрочем, гораздо правдоподобнее казалось предположение о том, что он упился вдрызг и коротает вечер в своем любимом трактире.
Я вышел в холл.
Здесь, в передней части дома, я избегал без особой нужды включать фонарик, тем более что луна вышла из-за облаков. В холле царил беспорядок. Здесь в последнее время работали декораторы; они оставили посреди холла две стремянки с перекинутой поперек доской. Предметы мебели были сдвинуты и накрыты простынями. Возле одной из стремянок на полу громоздилась куча постельного белья.
Луна снова спряталась за облако, и комната приобрела зловещий вид. Снаружи завывал ветер. Мне вдруг показалось, будто я слышу шаги на лестнице. Я изо всех сил напрягал зрение, но никого не увидел. И все-таки наверху явственно слышалось: топ-топ-топ. Трудно ожидать от простоявшего не один век здания, что оно будет тихо вести себя почти что в бурю.
”Мы с Трейси полностью понимаем и доверяем друг другу”,— сказала она. Не думать, забыть об этом! Прежде всего — картины; за ними-то я и пришел. Улики. Добыть их и тем же путем выбраться наружу! Я всегда отличался умением бесшумно двигаться. Вот и сейчас — только одна рассохшаяся половица скрипнула под ногой. Я поднял глаза — картины исчезли.
Я тупо уставился на пустые белые квадраты на стене, разочарованный и злой, как будто эти чертовы картины нарочно спрятались, чтобы расстроить мои планы. Однако чуть позже я сообразил, что ни один человек в здравом уме не оставит картины на стенах во время ремонта.
Снова спустившись в холл, я как будто разглядел под куском материи возле одной двери подходящие очертания. Подойдя ближе, я убедился, что это те самые полотна.
Мне еще не приходилось видеть их вблизи; они оказались больше и тяжелее, чем я ожидал. Лица волхвов на картине Липпи были нарисованы в натуральную величину; в лучах фонарика, который я старательно заслонял с боков ладонью, чтобы не было видно со стороны, они казались живыми. Вот-вот эти сморщенные черты придут в движение, зашепчут губы… Как это говорил Льюисон? Деревянная доска, пропитанная клеем? Еще какие-то подробности, перепутавшиеся у меня в голове: гипс… яичный желток с водой…
Я перевернул картину и, достав перочинный нож, нанес по тыльной стороне легчайшую царапину. Это не составило труда. Я отложил нож и взял картины, по одной в каждую руку.
Луна по-прежнему была за облаками, но мои глаза привыкли к темноте, и я мог двигаться, почти не задевая предметов. Однако у двери в гостиную я наткнулся на что-то, похожее на толстый кусок резины. Я пнул его ногой, но он не сдвинулся с места.
Я поставил одну из картин и включил фонарик. Оказалось, что я наступил на человеческую руку. От неожиданности я выронил фонарик; он стукнулся об пол и погас.
* * *
Конечно, рука была не сама по себе — ее владелец лежал тут же, в паре футов от меня, выделяясь среди других предметов плотной белой тенью. Я подумал, что нужно бы включить свет, и, прислонив картины к столу, осторожно, на цыпочках приблизился к двери, где был выключатель. Мне уже было не до конспирации.
Однако выключатель не сработал: вероятно, кто-то вырубил сеть на распределительном щитке. Я замер у двери, не зная, что предпринять. То ли скорее уносить ноги — и пусть другие задают вопросы, — то ли остаться и попробовать выяснить, что случилось.
Первый шок миновал. За свою жизнь я повидал немало убитых и раненых. Но здесь был особый случай.
В это время снова выглянула луна и осветила холл. Я явственно увидал белые холмы мебели, стремянки, оба живописных полотна и бесформенный бугор на полу возле двери в гостиную — неподвижный и взывающий. Мне было здорово не по себе, но я поспешил туда.
Он лежал на боку, выбросив одну руку в сторону. Лицо находилось в тени, но я узнал его по одежде. Я поднял фонарик — он вышел из строя. Я перевернул лежащего на полу человека. Да. Это был Трейси Мортон.
Его глаза смотрели куда-то мимо меня, через плечо — смотрели, но не видели. Мне безумно захотелось чего-нибудь выпить. И чтобы хоть одна живая душа оказалась рядом.
Что-то заставило меня взглянуть вверх, на галерею. Часть балюстрады оказалась сломанной — вот откуда деревянные обломки возле трупа. Под ногами хрустели щепки, словно черствое печенье.
На особняк обрушился ураганный порыв ветра, и мне почудились наверху чьи-то шаги: топ-топ-топ. К этому добавился какой-то странный запах. Мой мозг по-прежнему работал беспорядочно, урывками, но в нем, кажется, мелькнула здравая мысль: подняться и осмотреть сломанную балюстраду. Проходя мимо груды постельного белья, я запутался в каких-то веревках и, подняв, обнаружил, что это не простыни и не чехлы, а Добротная шелковая портьера.
Наверху было темно — луна как раз спряталась за тучу. Пролом был прямо напротив спальни Трейси. Дверь оказалась открытой, в глубине комнаты выделялись серые квадраты окон. Я пытался определить, откуда взялся пролом. Сломались не только тонкие перила, но и пара прочных, крученых столбиков. Правда, их успел подпортить древесный червь.
На полу — еще одна сорванная портьера. Трейси мог споткнуться и упасть. Но при чем тут портьеры? Я подозревал, что, озлобившись после всех неудач, он ухватился за возможность, которая представляется не каждый день: мать в отъезде, слуги отпущены, в доме нет никого, кроме них с Сарой… на этот раз ему светит солидная страховая сумма… в то же время он избавится от особняка — этого ненасытного чудовища, в чью утробу уходят все деньги; Трейси обретает свободу и достаточный капитал, чтобы жить в свое удовольствие. Возможно, Сара не участвует в афере и он отослал ее прочь…
По какой-то несчастливой случайности он облокотился на балюстраду, и она не выдержала. В разгар преступных приготовлений дом, который Трейси вознамерился уничтожить, уничтожил его самого.
Я повернулся, чтобы снова спуститься в холл. И тут вдруг случилась невероятная вещь: я услышал рядом с собой хриплое дыхание Трейси.
Глава XII
Блеснула луна и опять скрылась за облаками. В комнате за моей спиной начали бить французские часы. В доме стояла мертвая тишина. Снаружи завывал ветер.
Я боялся пошевелиться. Потом, набравшись храбрости, выглянул через пролом в балюстраде в темноту холла.
— Трейси!
Ответа не последовало. В доме не было никого, кроме меня и мертвеца внизу, в холле.
Я проглотил комок и прошел в спальню. На полу валялись одеяла. Чувствовался острый запах противоастматических сигарет. Возможно, он-то и одурманил меня, рождая слуховые галлюцинации. Я проклял свои нервы и, обнаружив, что до сих пор сжимаю в кулаке деревяшку, обломок балюстрады, хотел, но не отшвырнул ее прочь: каким-то образом она меня успокаивала.
И вдруг я снова услышал — или мне только почудилось, что услышал, — затрудненное дыхание у себя за спиной. Я резко повернулся и выбежал из спальни.
— Трейси!
Небо сплошь заволокли тучи, и я не мог разглядеть, там ли еще покойник. Испугавший меня звук шел откуда-то из угла, за которым начинался коридор, ведущий в глубину дома. Я наткнулся на стул, отшвырнул его ногой и ринулся дальше.
Коридор был узким, но с двумя большими окнами. Я добежал до поворота и дальше — до лестницы. Никого.
Я затаил дыхание и через секунду-другую будто бы услышал наверху скрип половицы.
— Кто там? — крикнул я. — Это вы, Трейси?
Трейси мертв, я своими глазами видел его бездыханное тело. Ну, не безумие ли так кричать? Но это его характерная одышка, я не мог ошибиться! Снова послышались шаги: топ-топ-топ…
Остановиться. Перевести дыхание.
Я очутился на лестничной площадке. Опять этот специфический запах. Сюда выходило пять дверей. Луна к этому времени снова прорвала блокаду облаков и заглянула в дом сквозь веерообразные окошки. В лунных лучах плясали многочисленные пылинки.
Ветер вновь и вновь атаковал старинный особняк; скрипели деревянные стены. Внезапно ветер стих, и я услышал за очередной дверью: тра-та-та! Я бросился туда.
Что-то похожее на чулан. Между мною и окном громоздился всякий хлам, а в центре небольшой комнатки я увидел двоих сидящих мужчин. Я с трудом — ступая на цыпочках, разбрасывая поломанный инвентарь и спотыкаясь о лыжи — добрался до них и ударил того, что сидел ближе. Он упал, как оказалось, со стола — и разбился. То были гипсовые бюсты, сосланные сюда каким-нибудь носителем современного вкуса. Хлопнуло окно, и я устремился туда. Задвижка проржавела. За окном в кронах деревьев бушевал ветер. Лестничная площадка тонула во мраке. Мне ужасно не хотелось возвращаться туда.
Я кое-как выбрался из плена ненужных вещей и дернул следующую дверь. Заперто. Третья дверь вела в спальню для гостей; здесь стоял затхлый запах.
В четвертой комнате я увидел сваленные на кровати чемоданы и сумки. Пятая, ярко освещенная луной, оказалась гостиной, с радиоприемником у двери и электрокамином, по обеим сторонам которого стояли два мягких кресла. Здесь также никого не было, а на столе стояла керосиновая лампа.
Я начал возиться со спичками; они показались мне хрупкими, как соломинки: три штуки кряду сломались у меня в руках, прежде чем мне удалось при помощи четвертой поджечь фитиль. Желтое пламя заставило луну немного поблекнуть.
Хорошо. Теперь у меня есть лампа, и я увижу все, что нужно. Я вышел в коридор и застыл на месте, вглядываясь и вслушиваясь. Но все кануло, словно и не было: затрудненное дыхание астматика, специфический запах сигарет. Даже окно перестало хлопать. И тогда я почувствовал какой-то другой запах, а внимательнее присмотревшись к танцующим в лунном свете пылинкам, понял: густоваты они для пыли.
Это был дым.
* * *
Я сбежал по черной лестнице на первый этаж, пронесся по коридору и очутился в буфетной. Ничего. Назад по коридору. Подергал дверь в конце. Это оказалось чем-то вроде каморки горничной. Дальше — еще одна каморка с уэллским кухонным столом и открытым камином; на подносах — россыпь луковиц. Здесь было больше дыма; я открыл дверь, из-за которой он пробивался, и снова очутился в буфетной.
Я закашлялся и замахал рукой, чтобы дым немного рассеялся. Нет, больше мне нечего делать в этом доме. Я выбежал в коридор, открыл третью дверь. Вешалка для шляп и пальто. Телефон на столике. Лавируя в тесноте, я едва не разбил стекло керосиновой лампы. Вернулся в буфетную. Отсюда два выхода… нет, этот ведет в комнату с луковицами…
Остановиться. Пораскинуть мозгами. Дым стал гуще, я вбежал в соседнее помещение и понял, каким образом заблудился. Здесь была дверь, обитая зеленым сукном. Я рванул ее и очутился в главном помещении кухни.
Клубы дыма. И — в первый раз за все время — жар. На столе — стопка старых тюлевых гардин. Запах керосина. Захлебываясь кашлем, я метнулся в кладовку. Здесь было меньше дыма. Холодильный шкаф. Нет — это еще одна дверь, а за ней — лестница, ведущая в подвал.
Дверь заело, но, когда я открыл ее, на меня дохнуло жаром. Лампа оказалась ненужной. Я одолел три или четыре ступеньки. Да… За последние два года я повидал немало пожаров, но ни разу не присутствовал на начальной стадии.
Подвалов было несколько; этот держался на двух группах деревянных колонн, расположенных недалеко друг от друга и, насколько я мог судить, как раз под центральной лестницей. Очевидно, подожгли сразу в двух местах меж колоннами, но пока загорелось только в одном месте. Глядя на другую, еще не охваченную пламенем, кучу мусора, было нетрудно догадаться о способе, которым воспользовался поджигатель: в центре вороха стружек и нагромождения деревянных ящиков горела свеча, от нее осталось не более дюйма.
Внизу дым был не таким удушающим, зато жара и ослепительный свет сделались нестерпимыми. Я прикрыл глаза носовым платком и, подобравшись ко второму, еще не разгоревшемуся костру, сумел загасить свечу. Толку от этого было немного, потому что сюда в любой момент могло перекинуться пламя от первого костра. Я схватил железный прут, чтобы разгрести эту кучу огнеопасного мусора, но не успел выполнить задуманное: сквозняк взметнул сноп искр от первого костра. Еще немного — и запылает весь подвал. Я понял: одному человеку не под силу справиться с пожаром — если с ним вообще можно справиться.
Я отшвырнул горящее тряпье и отступил обратно, к лестнице. Наверху я вытер слезы и побежал прочь с керосиновой лампой в руках, стараясь не заблудиться. Коридор, кухня, каморка с луковицами, буфетная, гардеробная — на этот раз все правильно. Скорее к телефону! Ожидая ответа (эти секунды показались вечностью), я разглядел среди висевших на вешалках пальто какой-то цилиндр. Огнетушитель!
— Я звоню из Ловис-Мейнора, близ Слейдена. Здесь сильнейший пожар. Через полчаса от дома ничего не останется. Понадобится не одна машина. Пусть пожарные поторопятся.
— Ловис-Мейнор, Слейден, — терпеливо повторили на другом конце провода. — Так. Кто говорит?
— Мистер Трейси Мортон, — ответил я. — Приезжайте скорее!
Я швырнул трубку на рычаг и сорвал со стены огнетушитель довоенного образца, с изрядным слоем ржавчины, но кто знает… В буфетной была раковина; я открыл кран, выдвинул с полдюжины ящиков, нашел полотенце и, намочив, свернул его во что-то среднее между чадрой и тюрбаном. Эта штука плохо держалась, но мне повезло обнаружить в висевшем за дверью фартуке булавку. В другом ящике мне попались рабочие перчатки Эллиота, я тотчас надел их и собрался идти, но тут мое внимание привлек футляр с очками. Я нацепил их; предметы перестали быть четкими, но зато эти стекла защитят мои глаза от дыма.
С огнетушителем под мышкой я бросился обратно в подвал.
Второй костер все еще не разгорелся, а первый пока что не распространился на слишком большую территорию, но, возможно, перспектива была искажена очками. Я подобрался ближе к окну и открыл огнетушитель. Он сработал. Я направил струю в эпицентр пожара. Дерево почернело и обуглилось. Мне удалось сбить огонь с одной из пылающих колонн.
И все-таки мне не удалось помешать пламени добраться до второй кучи легковоспламеняющегося хлама.
Вот когда мне стало ясно: дом уже не спасти. Место для поджога было выбрано идеально: под центральной лестницей. Проникая сквозь щели, ветер раздувал пламя. Всюду дерево. Огнетушитель иссяк; упавшее сверху горящее полено чуть не выбило его у меня из рук. Я бросил его на пол. По рукаву пальто бежали искры. Я отступил к стене и стал яростно тереться о нее, сбивая огонь. Как горько было ощущать свое бессилие! Если я не ошибся в расчетах, пламя уже должно было достигнуть парадной лестницы.
Меня вдруг словно током ударило: несмотря на все мои галлюцинации, Трейси по-прежнему лежит на полу в холле. Неужели он принял сознательное решение погибнуть вместе с домом? Устроил себе грандиозные похороны? Этого ни в коем случае нельзя допустить!
Я чуть ли не ползком вскарабкался по ведущей из подвала лестнице и сел на пол — отдышаться. Стащил с себя полотенце и перчатки. Один рукав пальто сгорел; одна брючина превратилась в лохмотья. Дыма стало меньше — значит, огонь нашел новую лазейку.
Я встал, снова надел маскировку и направился через кухню в холл. Весь дом уже был охвачен пламенем. На кухне раздавался рев — как будто для вящего эффекта включили вентиляцию. Я покинул кухонные помещения и по коридору бросился в холл. Там было настоящее пекло. Я недооценил опасность. Холл и лестница были уже в огне.
Я отступил. Других путей из кухонного крыла в переднюю часть дома не существовало, но, если бы они и были, я все равно их не знал. Все, что мне оставалось, это попробовать выбраться из дома и обойти его снаружи.
В подобных обстоятельствах смешно возиться с защелками, вместо того чтобы просто вышибить окно, но что поделаешь, привычка — вторая натура. Наконец окно открылось, и я спрыгнул в яму под окном. Оттуда вели ступеньки наверх. Выбравшись из ямы, я обошел, ежась от холода, оранжерею, где в тот памятный день нашел Сару, обогнул сарай с садовым инвентарем. Небо было черно, дом — тоже, но в нескольких окнах уже плясали огненные сполохи.
Я задержался у окна столовой. Отсюда мне была не видна передняя часть дома — только примыкающие к ней палисадники и деревья. Они были слабо освещены — и не лунным светом!
Я перенес ногу через нижнюю раму, но вдруг замер и прислушался. Ни с чем нельзя было спутать этот пронзительный гудок — примерно в полумиле отсюда!
Что делать? Дождаться пожарных и городить ложь за ложью? Или открыть им правду? Нельзя было делать ни то, ни другое. Пожарные сами вытащат Трейси из огня. А мне лучше уносить ноги. И пусть потом Сара задает и отвечает на вопросы. Посмотрим, как она себя поведет.
Я вылез обратно и как раз в тот момент, когда пожарная машина резко затормозила возле сторожки (чтобы перебраться через каменную стену или ворота, им нужна была лестница), бесшумно пробрался огородами туда, где оставил в переулке свою машину.
* * *
На этом мои неприятности не закончились. Сирена всполошила всю деревню. Перелезая через невысокий в этом месте забор, я заметил двоих, шедших со стороны Ловисской фермы. Они заглянули в щель и, завидев въезжающую во двор пожарную машину, перемахнули через ограду и побежали к дому. От одного из них меня отделял какой-нибудь ярд; скорее всего, он меня заметил. В такие минуты чувствуешь себя преступником.
Я спрыгнул в грязный переулок и подбежал к автомобилю. Как раз в это мгновение из-за облаков вынырнула луна. К усадьбе спешило еще несколько человек; один, на велосипеде, показался мне местным полицейским. Я старался по возможности держаться в тени, но, садясь в машину, увидел, что ко мне приближается какой-то деревенский житель. Я захлопнул дверцу и включил зажигание. Парень остановился и прокричал через стекло:
— Что-нибудь случилось, мистер?
Это был высоченный краснолицый детина с алым шейным платком и мешком за плечами. Я сделал вид, будто не расслышал, и, буркнув что-то нечленораздельное, завел мотор.
— Что там в Мейноре? — не унимался он.
— Наверное, пожар, — прокричал я в ответ. — Я сам только что подъехал.
Взревел двигатель. Крестьянин отскочил, как будто испугавшись, что я его задавлю.
Я плохо представлял себе, куда ведет дорога в этом направлении, а развернуться и проехать мимо ворот не хватало духу. Чем скорее я отсюда выберусь и приведу себя в порядок, тем лучше.
Преодолев что-то около полумили, я сбавил скорость и оглянулся, но усадьба скрылась за деревьями. Возможно, это всего лишь игра воображения, но кромка облаков показалась мне окрашенной в оранжевый цвет.
Глава XIII
В ту ночь я даже не пытался уснуть, а, вернувшись домой, разделся и залез в ванну, надеясь расслабиться и обрести хотя бы относительный душевный покой. На правом предплечье багровел след от ожога, но и только. А ресницы отрастут.
Я лежал в ванне, пока не остыла вода, а потом вытерся, натянул чистое белье и надел халат. Полуобгоревшую одежду я завернул в бумагу и сунул на шкаф в спальне. Ночной воздух струил прохладу. Я включил камин и сидел до утренней зари, куря сигарету за сигаретой.
Звонок раздался позднее, чем я ожидал. К этому времени я успел приготовить чай и тщетно пытался заставить себя сделать несколько глотков. Выждав с полминуты, я снял трубку.
— Оливер Бранвелл.
— Оливер, это Майкл. Я тебя разбудил?
— Нет, что ты. Что-нибудь случилось?
— Для тебя это будет большим ударом. Беда в Ловис-Мейноре. У Мортонов.
— Что стряслось?
— Дом сгорел почти до основания. Во всяком случае, так утверждают полицейские, а они склонны преувеличивать. И еще…
— Хорошо, что Мортоны уехали, — через силу произнес я. — Слуги не пострадали?
— Так ты знал?.. Мне очень жаль, но… это не совсем так. Слуги-то в порядке — их не было в доме, — а вот Мортон остался. Что-то его задержало. Но он успел позвонить. Пожарные тотчас примчались, но сам Мортон…
— Боже милосердный!
— Да… Они нашли… тело.
— Боже милосердный! — повторил я без малейшего усилия над собой, потому что именно эти два слова всю ночь звучали у меня в мозгу.
— Прими мои соболезнования. Я знаю, они были твоими друзьями. Я решил как можно скорее поставить тебя в известность.
— А миссис Мортон?
— Кажется, она то ли в Йоркшире, то ли где-то еще. Во всяком случае, в доме больше никого не оказалось. Пожалуй, тебе следует прямо сейчас отправиться туда.
— Не могу. Я как раз вчера вечером растянул сухожилие. Всю ночь не спал.
Небольшая пауза.
— Вот черт, не повезло. Придется ехать самому. А я как раз на сегодня договорился насчет партии в гольф два на два. Как туда лучше добраться?
Я объяснил.
— Как ты думаешь, у тебя эта штука надолго?
— Пока неизвестно. Врач говорит, сегодняшнее утро покажет.
— Надеюсь, — проворчал Майкл, — это не помешает тебе поужинать с нами в пятницу?
— Позвони, когда приедешь из Ловис-Мейнора, хорошо? Буду с нетерпением ждать новостей.
— Да, Оливер. Конечно. Пока.
И он повесил трубку.
* * *
В каком-то смысле собственное поведение казалось мне достойным похвалы, а в каком-то — низким. Но что мне оставалось? Я сделал свой выбор — вчера вечером.
Чего я не рассчитал, так это того, что Майкл, по доброте душевной, заедет ко мне на обратном пути из Ловис-Мейнора. Это произошло где-то после часа. Я все еще дымил, когда раздался звонок в дверь. Я спешно поставил табуретку — якобы для больной ноги, сбросил комнатную туфлю и обернул ногу полотенцем.
— Войдите, не заперто!
Вошел Майкл, по обыкновению сутулясь, и неодобрительно посмотрел на меня.
— О, ты на ногах? Как самочувствие?
— Могло быть хуже. Ну, что?
Он стянул автомобильные перчатки.
— Хорошего мало, дружище. Дом превратился в руины. Уцелела лишь древнейшая часть, с каменными стенами. Иначе вообще ничего не осталось бы. Жуткая выдалась ночка!
— А Мортон?
Майкл сел и передернул плечами.
— Очевидно, оступился, пытаясь спастись от огня. Жена вчера утром уехала в Йоркшир, он собирался присоединиться к ней позднее. Полиция с трудом раздобыла ее адрес у кого-то из слуг. Но она сама позвонила в участок: не знают ли они, что с ее мужем?
— Во сколько это было?
— Во сколько? Понятия не имею. Рано утром, по-моему. А что?
— Ты ее видел?
— Да, — он сложил брови буквой ”V”. — Она тотчас приехала вместе с деверем. Мы встретились в Слейденском трактире. Она была ужасно расстроена. Спрашивала о тебе. Ее деверь — Виктор Мортон, королевский адвокат. Я и не знал. Его попросили опознать труп.
— А миссис Мортон? Я имею в виду мать Трейси.
— Когда я уходил, она как раз подъехала в обществе какого-то дылды — вроде бы это друг семьи. Похож на француза. Самодовольный тип.
— Фишер, — я почувствовал укол ревности. Да, ревности — нравилось мне это или нет.
— Причину пожара оказалось невозможно установить, — сказал Майкл, вертя в руках перчатки. — Судя по состоянию центральной части, загорелось в подвале. Я не смог подобраться достаточно близко — там орудовали пожарные, и стена могла вот-вот обрушиться. Но через день-другой что-нибудь прояснится. Первым делом на ум приходит короткое замыкание. Когда кругом дерево… Миссис Мортон сказала, что они как раз начали ремонт. Возможно, в пятницу ремонтники побывали в подвале и какой-нибудь идиот уронил окурок…
— Спасибо, что навестил.
— Это по дороге. Ну, не буду задерживаться, — он встал и оглянулся по сторонам. — Ты как, в порядке? Как насчет еды?
— Спасибо, как-нибудь выкручусь.
— Ты что, и руку повредил?
— Да — когда падал.
— Я бы взял тебя с собой, но ты же знаешь, как Эвелин…
— Ни в коем случае. Завтра позвоню.
— О’кей. И поскорее решай насчет пятницы. Да, хорошая новость. Чарльз Хайбери завтра выходит на работу.
Я постарался изобразить интерес.
— Отлично.
— Если я правильно понял, он собирается подать на тебя жалобу — вроде бы ты что-то не так сказал или сделал.
— Только не сделал.
— Так или иначе, это на нас не отразится. Фостер на седьмом небе. Я часто говорю себе: как удачно, что я перетянул тебя к нам. Соль на рану…
— Не знаешь, Мортон сильно обгорел?
— Что? — Майкл уже успел отвлечься. — По правде говоря, не знаю. Вроде бы он не совсем превратился в головешку. Будь у меня выбор, на его месте я бы предпочел выпрыгнуть из окна.
* * *
Мне снилось, будто я стою перед сломанной балюстрадой, а Трейси тяжело дышит за спиной. Я спрашиваю его: ”Как вышло, что ты поджег дом и не убрался подобру-поздорову? Как тебя угораздило свалиться с собственной галереи?” А он отвечает: ”Я не поджигал. И не сваливался. Это все Сара”. Я посмотрел вниз и увидел ее, скорчившуюся, на полу, лица не видно — только черное пятно волос. Я подбежал к лестнице, но она обрушилась, пожираемая языками пламени. Трейси положил ладонь мне на руку и снова показал туда. Из-за дыма в холле было нечем дышать. Я ничего не мог разглядеть, кроме волхвов на картине да сариной темной головки. Она как будто стала частью картины, идолом без возраста. Мне вдруг обожгло руку там, где я чувствовал прикосновение Трейси, и я увидел, что она охвачена огнем.
Я проснулся весь в поту и почувствовал пульсирующую боль в руке. Включил свет и долго лежал, глядя на обожженное место, пытаясь собраться с мыслями.
Как бы там ни было со страховкой, я обязан заявить в полицию. Теперь ясно: то, что я принял за тяжелое дыхание Трейси, было всего лишь завыванием ветра. Кроме меня, в доме не было ни одной живой души. Но это ни в малейшей степени не избавляет меня от необходимости сообщить, что Трейси погиб задолго до пожара.
Весь понедельник я провел дома. Газеты отвели несчастью в Ловис-Мейноре целые полосы. Кое-где мелькали фотоснимки с изображением усадьбы, а некоторые раздобыли даже фотографии Трейси с Сарой. Судебное дознание было назначено на вторник. Я сказал Майклу по телефону, что нога еще в неважном состоянии. Я ждал телефонного звонка, хоть какой-нибудь весточки от Сары. Но не дождался.
За всю свою жизнь я только раз — когда покончил с собой мой отец — присутствовал на судебном дознании и поклялся себе, что второго не будет. Но по мере приближения времени сей процедуры я все больше нервничал.
За час до отправления Майкла в суд я позвонил ему и сказал:
— Я только что проконсультировался со своим врачом — он считает, что поездка на дознание мне не повредит. Ты не мог бы за мной заехать?
— Отлично. Жди меня без четверти одиннадцать.
Я вышел, чтобы купить себе трость, и ко времени приезда Майкла успел хорошенько забинтовать ногу и закрепить на ней комнатную туфлю.
Дознание должно было проводиться в деревенской школе. Мы приехали за двадцать минут до начала. Майкл высадил меня, а сам уехал. Зрителей было очень мало, и то в основном на задних скамьях. Я втиснулся туда же.
Помещение было слишком невелико и слишком хорошо освещено, чтобы здесь можно было спрятаться, но мне удалось устроиться так, чтобы хотя бы не бросаться в глаза.
Наконец показались несколько чиновников, пара полисменов и Виктор Мортон в черном пиджаке и, как принято в его профессии, полосатых брюках. Он явно чувствовал себя не в своей тарелке. Не знаю, заметил ли он меня, но если даже и заметил, то не показал виду. Через минуту он вышел и затем вернулся вместе с матерью. На миссис Мортон последние события отразились очень сильно: она вдруг постарела лет на десять. Вслед за ними появились Клайв Фишер с сестрой и, наконец, Сара, поддерживаемая каким-то хилым стариком. Она была в сером костюме, черной шляпе и черных же перчатках. Это не ее цвета, но какая разница? Есть своя прелесть в самом нежелании очаровывать… Лишь когда они заняли свои места, я догадался, что старик — ее отец.
Наконец появился коронер, и началось дознание. Присяжных не было — так же, как и тогда, когда умер мой отец.
Теперь я был рад, что пришел, даже несмотря на обступившие меня тяжелые воспоминания. Тогда все было так мерзко, так убого, и сам я — неуклюжий семнадцатилетний подросток: вокруг — гнусные, алчные, инквизиторские физиономии, а снаружи — зловещий гул уличного движения. Я был озлоблен и готов бросить вызов всему человечеству. Коронер, чьи глаза были искажены толстыми линзами очков, задал мне какой-то вопрос, и я окрысился: ”Вам что, даже газа для него жалко? Кажется, он заплатил, сколько нужно!”
На этот раз все было по-другому. И злость была другая. А по существу, же самое. Меня снова предали. Предал второй человек, которого я любил и которому верил.
Виктор Мортон подтвердил идентичность трупа. В отношении к нему сквозило всеобщее уважение. Грузный коронер постоянно откашливался то в один, то в другой кулак, держа их возле самого лица, как для молитвы. Вслед за Виктором офицер пожарников поведал о телефонном звонке и их приезде на место происшествия через двенадцать минут, когда центр дома был уже объят пламенем. Они вломились в окно холла, втащили рукава шлангов и вдруг увидели тело мистера Мортона. Он лежал под галереей и его лизали огненные языки. Все, что они могли, это вытащить его из дома, прежде чем обвалилась крыша.
Следующим на кафедру взошел полицейский офицер и рассказал то же самое, только другими словами. Далее вызвали патологоанатома. По его словам, осмотр покойного был совершен в час ночи с субботы на воскресенье — к тому времени мистер Мортон был уже три или четыре часа как мертв, то есть смерть наступила еще до пожара. Причина смерти — рваная черепная рана глубиной в два или три дюйма. Отчетливо просматриваются звездоподобное расщепление кости и многочисленные сгустки крови среди мозгового вещества. Примерно такая же картина наблюдается с противоположной стороны черепа. Так обычно бывает при падении с высоты головой вниз.
Коронер с минуту сидел, сцепив руки, а затем поинтересовался:
— Сгустки крови и расщепление кости на противоположной стороне черепа… Это вас не удивляет?
— Нет. Типичная картина противоудара.
— Могла ли она возникнуть в каком-нибудь другом случае?
— Трудно быть уверенным на сто процентов. Но у меня лично нет сомнений в том, что это именно удар при падении с высоты, особенно если принять во внимание гематомы на локте и на бедре.
— То есть характер повреждений именно такой, какой мог бы иметь место при падении с высоты в десять футов… скажем, с галереи?
— Правомерное допущение. Конечно, бывает и так, что, спрыгнув с такой же высоты, человек отделывается растяжением связок. А другому достаточно поскользнуться на обледенелом тротуаре, чтобы дело закончилось летальным исходом. Если, как я понимаю, пол был покрыт лаком, а сверху лежал ковер, он мог приземлиться на пятки и ковер выскользнул у него из-под ног…
Коронер обдумал его слова и обратился к залу:
— У кого-нибудь есть вопросы к свидетелю?
Все заерзали. Встал Виктор Мортон.
— Если я правильно понял, доктор, вы считаете, что пожар вспыхнул уже после наступления смерти?
— Совершенно верно. Иначе имели бы место воспалительные процессы.
— А как вы отнесетесь к такому предположению: он не спрыгнул, а упал с галереи, задохнувшись от дыма?
— Отрицательно. Содержание окиси углерода в крови покойного составляет всего один процент. В случае отравления угарным газом оно бывает значительно большим.
— Он не мог потерять сознание от жары? Мой брат находился в центральной части дома. И не отличался крепким здоровьем.
— Да, обморок не исключается.
Место на свидетельской кафедре заняла Сара.
Она стояла очень напряженная, но не сломленная. Коронер обращался с ней очень бережно и сопровождал каждый вопрос оговорками и извинениями. Она отвечала тихим, но внятным голосом.
— Муж страдал астмой — с самой войны. Он не переносил малейшей пыли. Из-за ремонта в доме стало нечем дышать, и мы решили на недельку уехать. А так как двое наших слуг давно не брали выходных, мы их отпустили. Миссис Ханбери из деревни обещала каждый день заходить, пока будут вестись ремонтные работы. В субботу утром я уехала в Йоркшир, а муж сказал, что приедет позднее — на машине. Но не приехал, и я начала беспокоиться. Звонила домой, но никто не ответил. Немного подождав, я обратилась в полицейский участок. Мне сообщили…
— Перед вашим отъездом, в субботу, у мистера Мортона не было приступа астмы?
— Обычно он не доводил до приступов — пользовался определенными средствами для их предотвращения. Но вообще он постоянно задыхался, как это бывает с хрониками. В последние пару дней перед отъездом ему действительно стало немного хуже.
— Почему вы уехали одна?
Сара впервые запнулась.
— Муж решил… Ему регулярно делали уколы в Лондоне, на Харли-стрит. Вот он и подумал, что дополнительный укол поможет ему продержаться ту неделю, что мы будем в отъезде.
— Не могли бы вы указать причину, по которой он все-таки не поехал в Лондон, а остался дома?
— Боюсь, что нет. Разве что ему стало хуже… Мы ждали его к девяти часам в Скарборо.
— Понимаю. Большое спасибо. Думаю, что это все, миссис Мортон.
Когда она повернулась, я понял: она солгала насчет дополнительной инъекции. Понял так же ясно, как если бы она сама мне об этом сказала. Я почти не слушал следующего свидетеля, мастера фирмы по ремонту жилых домов, однако до меня подсознательно дошло, что та самая часть балюстрады была сломана еще в четверг: они собирались заменить ее. Между ним и коронером возник небольшой спор относительно возможности того, что причиной пожара послужила неосторожность кого-то из рабочих. Потом вызвали слугу Эллиота, но он мало что прояснил. Он ушел из дома в половине четвертого, будучи уверенным, что мистер Мортон вскоре уедет. Перед уходом он лично отнес вещи мистера Мортона в машину.
Больше я не стал слушать.
Глава XIV
Когда мы пустились в обратный путь, пошел дождь.
— Ну, и каков же вердикт? — спросил Майкл.
— Обыкновенный, что ты хочешь — смерть от несчастного случая.
— Всплыло что-нибудь особенное?
— Нет. Часть балюстрады на галерее была выломана еще в четверг. Но это не дает ответа на вопрос: упал он или спрыгнул.
— Ты разговаривал с кем-нибудь из Мортонов?
— Нет.
Какое-то время мы ехали молча. Майкл заговорил первым:
— Ущерб оказался меньше, чем я ожидал. Старая часть дома почти не пострадала — там повсюду камень. Конюшня не слишком близко примыкает к дому, а часть кухонных помещений уцелела из-за благоприятного направления ветра. Из всего этого можно соорудить небольшой дом — если подремонтировать.
— А сторожка?
— В полном порядке.
— Она по-прежнему необитаема?
— Да. Там как раз должны были поселиться новые жильцы. Они собирались выехать на прошлой неделе, но молодая миссис Мортон попросила подождать до их возвращения.
Вот как?!
— Что с обстановкой?
— Все ценное сгорело. От мебели остались одни головешки. Укажешь в отчете…
— Слушай, Майкл, я хочу просить тебя, чтобы ты сам составил отчет, он бросил на меня вопросительный взгляд. — Ты ведь уже начал эту работу; будет лучше, если ты ее и закончишь. Я был другом семьи и не хочу, чтобы кто-нибудь заподозрил меня в необъективности.
— Брось. Они же не требуют новый каминный коврик из-за того, что кто-то прожег дырочку окурком. Ущерб налицо. Пусть это будет нашим отчетом — то есть нашей фирмы. Какая разница, кто напишет? Я просто хотел сказать…
Он ударился в какие-то тонкости, но я не вникал. Вот бы сейчас сказать: ”Слушай, Майкл, я симулировал травму, чтобы оттянуть момент решения. Дальше откладывать нельзя…”
Но у Сары все еще есть шанс. Даже несмотря на то, что она лгала на дознании. Лгала мне…
— Да ты не слушаешь?
— Извини.
— Ничего. Неважно.
— Продолжай, пожалуйста.
Но Майкл молчал. Когда мы остановились перед первым светофором, я сам открыл рот:
— Майкл…
— Да?
Но я так и не отважился. Какой смысл? Мне вдруг стало ясно: я уже сделал свой выбор — в ту ночь. Обратной дороги нет.
— Что ты хотел сказать?
— Как ты думаешь, что они теперь будут делать?
— Кто — Мортоны? Снимут за бешеные деньги какую-нибудь виллу. В наши дни мало радости — остаться без крова. Если бы еще сгорел только один дом…
— Теперь все унаследует его жена?
Майкл нахмурился: прямо у нас перед носом вынырнул лихой мотоциклист.
— Нет. В данном случае мы имеем дело с майоратом. В завещании отца Трейси сделана оговорка, что усадьба наследуется без права отчуждения. После смерти нынешнего хозяина она должна отойти к его детям, а раз их нет, к его младшему брату Виктору. Страховой суммой будут распоряжаться попечители; они обязаны положить ее в банк и выплачивать Виктору проценты.
— То есть Трейси не мог бы продать дом, даже если бы захотел?
— Совершенно верно. Что же касается страховки за имущество, то эта сумма будет полностью выплачена его вдове, а это — немалые деньги.
— Да, — тихо подтвердил я. — Это немалые деньги. Кто должен выплатить премию со страховой суммы за дом?
— Тот, кто наследует. Сомнительная привилегия.
Мы еще несколько миль проехали молча. Я думал: это многое объясняет…
— Знаешь, я думаю, что миссис Мортон недолго будет оставаться вдовой.
— Почему?
Его немного удивил мой тон.
— Если, конечно, она сама того пожелает… Не знаю, был ли Мортон богат, но состоятелен — наверняка. С ее красотой да состоянием…
— Наверное, ты прав, — ответил я, поворачивая нож в ране.
* * *
Вечером я написал матери Трейси. По крайней мере, с ней мне не нужно было лукавить: каждое слово шло от души. Через пару дней пришел ответ — письмо, а не открытка, — с изъявлениями признательности. При виде почтового штемпеля я вздрогнул: вдруг это от Сары? Нет…
Званый ужин, на который Майкл так настойчиво меня приглашал, раз в год устраивался для членов Ассоциации. Я впервые присутствовал на этом мероприятии и, конечно, учитывая мое тогдашнее состояние, предпочел бы уклониться. Местом действия был выбран отель на Парк-Лейн. Аберкромби заказали стол на двенадцать человек. В нашу компанию входили двое маклеров и один попечитель с женами, а также генеральный директор страховой компании. Представители разных фирм расположились за отдельными столиками, пригласив своих постоянных и наиболее уважаемых клиентов. На самом видном месте поставили длинный стол, за которым восседали шишки: председатель компании ”Ллойд”, глава Британской страховой ассоциации и шеф Лондонской службы по спасению имущества.
Недалеко от меня за нашим столиком сидел молодой, симпатичный страховой агент Чарльз Робинсон, с которым я консультировался, ведя дело Хайбери, а одним из маклеров был Фред Макдональд. Вот уж без кого я бы точно обошелся!
Президент Ассоциации страховых компаний в своей речи сделал упор на том, что Страхование (с большой буквы) держится на Доверии. Без Доверия вся система рассыпалась бы, словно карточный домик. Наш девиз, — вещал он, — ”Честность и беспристрастность”. Мы — самая молодая и пока что насчитывающая не слишком много членов организация в Объединенном Королевстве, но этот костяк из двухсот человек — цвет профессии, элита, хранящая ее дух и созидающая славное грядущее. Он уверен: каждый из нас свято блюдет честь мундира и хранит верность вышеозначенным принципам.
Во время этой речи я то и дело поглядывал на мистера Аберкромби и всякий раз убеждался в том, что он не просто слушает, но и впитывает каждое слово. Не нужно было обладать богатым воображением, чтобы понять, насколько близко это его касается и как, должно быть, больно ему было в период между войнами видеть, как разные выскочки и проныры делали вид, будто исповедуют те же принципы, а на самом деле лишь компрометировали общее дело. Как он радовался шагам, направленным на возрождение высокого статуса своей профессии, стремлению всевозможными гарантиями оградить ее от скверны, проникающей извне. Увы! Что стало бы с ним, если бы он узнал, что сам пригрел на груди змею и предатель скрывается в лоне его собственной фирмы?
Фред Макдональд сидел на противоположном конце стола, так что мы еле обменялись парой фраз; однако позднее он подошел ко мне с вопросом:
— О чем на этот раз гадаете с зеркалом?
— А что? Ищете козыри в рукаве?
Рядом стоял Чарльз Робинсон, и Макдональд счел целесообразным пояснить:
— Неделю назад этот молодой человек приходит ко мне в офис и интересуется, на какую сумму застрахован Ловис-Мейнор, графство Кент. А через несколько дней там вспыхивает пожар. Неудивительно, что я спрашиваю.
— Это уже не козыри в рукаве, — засмеялся Чарльз. — Больше смахивает на поджог.
— Точно, — подтвердил я. — В этих старых домах только поднеси спичку! Однако, надеюсь, вам не жалко, если бы вы поделились со мной секретом, как это делается.
— Ага! — воскликнул Чарльз и повернулся ко мне. — Значит, он все-таки ищет козыри в рукаве!
Со стороны Чарльза это была всего лишь дружеская шутка, безо всякой задней мысли. А вот Макдональд явно прятал камень за пазухой.
Начали танцевать. Я извинился и, сославшись на больную ногу, отправился домой. А утром увидел на коврике возле двери конверт. Я сразу догадался, от кого это.
”Дорогой Оливер.
Мать Трейси показала мне ваше письмо. Очень любезно с вашей стороны — подумать о ней в это тяжкое время. Я видела вас на дознании и была удивлена, что вы потом не подошли. Виктор оказал нам неоценимую помощь, но и ваши совет или компания, если бы вы выбрали время, были бы приняты с благодарностью.
Надеюсь, ваша нога поправляется?
Сара”.
Какое разочарование!
Это было странное письмо — отнюдь не письмо человека с чистой совестью. Напротив, так могла писать участница преступления, рассчитывая с моей помощью замести следы.
Я не поехал. Даже не ответил на письмо. И не явился на похороны.
Один за другим пролетали дни. Мортоны предъявили два отдельных иска: за дом и все остальное имущество. Виктор Мортон взял это на себя и поручил специальному агенту представлять их интересы. Я попросил Майкла довести это дело до конца, а сам с головой ушел в другую работу. Наконец суммы и содержание исковых заявлений были согласованы. Вплоть до этого момента Сара еще могла отступить. Я до самого конца не терял надежды.
Ближе к осени Майкл начал ворчать:
— Послушай, старина, нас ведь трое. Ничего, что один староват, а второй хочет специализироваться на определенных видах страхования, — тебе вовсе не обязательно взваливать все на себя и работать по двадцать четыре часа в сутки. Знаменитый натиск Бранвелла тоже хорош в меру. Отдохни. Возьми выходной. Ты же хочешь, чтобы тебя хватило еще на какое-то время?
— Я в полном порядке.
— Не думаю. Ты только посмотри на себя в зеркало. У тебя такой вид, словно ты целыми днями работаешь при искусственном освещении и проводишь уик-энды в угольном забое.
— Что, черно за ушами? Вроде бы я старательно скребу себя по понедельникам.
— Позволь сказать тебе следующее. Ты относительный новичок в этом деле. Не позволяй ему тебя угробить. От всех нас работа требует сознательности, но есть же предел! Ты берешься за сделку, которая принесет нам лишних десять гиней, с таким видом, как будто это вопрос жизни и смерти. Научись проводить грань… Правда, почему бы тебе не уйти в отпуск?
— Уйду — в октябре. Или в какое-нибудь другое время. Мне все равно.
— Приезжай к нам на уик-энд. Мы всегда рады тебя видеть.
— Спасибо, но… Хорошо. Если ты уверен, что это не слишком обременит Эвелин…
Майкл устремил на меня задумчивый взгляд.
— Надеюсь, тебя ничего не гложет, кроме работы? Иногда на тебя просто страшно смотреть. Многие спрашивают… Но ты — скрытный, дьявол.
— Я не скрытный. И ничто меня не гложет.
— Ну, ты меня понимаешь. Если я могу чем-нибудь помочь… — Не дождавшись ответа, Майкл добавил: — Тебе бы заняться спортом, игрой в гольф, например, чаще бывать на свежем воздухе…
И я поехал к ним за город. В то время у них не было прислуги, а Эвелин нянчила маленького, так что я острее, чем прежде, чувствовал себя пятым колесом в телеге. Но все-таки остался ночевать. Мы играли в бридж. Четвертым был Джон Грейвз — когда-то он служил с нами в одном батальоне. Мы вспомнили прежние времена. Это вернуло мне чувство общности с другими людьми, и я начал понемногу оттаивать. Как вдруг Джон все испортил:
— Да, кстати, Оливер, ты знаком с Сарой Мортон? На прошлой неделе я встретил ее у друзей, и как-то само собой всплыло твое имя. Очаровательная женщина!
— О, да. Она в полном порядке.
— Оливер славится своей скромностью, — вмешался Майкл. — Мы не видели Мортонов с самого июня. Ты знаешь, что ее муж погиб во время пожара?
— Да, кто-то говорил. Не повезло бедняге. Я слышал, она теперь живет в Лондоне?
— Понятия не имею, — отрезал я.
— С ней был малый по фамилии Фишер — он занимается художественной росписью стен или чем-то в этом роде. Ее муж погиб в июне?
— В мае. А что?
— Поговаривают о ее помолвке с этим Фишером. Не знаю, так ли это. Она спрашивала о тебе.
— Я дружил с Трейси.
— Я так и понял со слов Фишера. О тебе вспомнили по чистой случайности. Я упомянул о Майкле как о своем лучшем друге, а фамилия Аберкромби сделала остальное.
Больше на эту тему не говорили. Но, конечно, слова Грейвза не прошли даром. Можно месяцами залечивать рану — вот она уже затянулась тонкой кожицей, вот как будто совсем зажила, но при первом же прикосновении открывается снова — свежая, саднящая. Чего только не пробовал — ничто не помогало!
Видимо, Майкл почувствовал, что уик-энд не получился, потому что, когда в воскресенье после обеда я засобирался домой, он не стал меня удерживать. Я выехал в три и, хотя и испытывал благодарность к Майклу и его семье, был рад, что меня оставили в покое. Покидая их, я оставлял за спиной нормальную человеческую жизнь. Никогда мне не жить как люди! Не для меня — воскресный обед и послеобеденная трубка, хлопотунья-жена с гугукающим младенцем, сад и гольф, гости на выходные и поездки в отпуск на своем автомобиле.
Никогда еще, даже в прошлом, я не чувствовал себя таким несчастным и одиноким. Новые друзья — это всего лишь добрые знакомые. Они старались сблизиться со мной, но все равно я их чем-то отталкивал. Они были добры постольку, поскольку их доброта была врожденной и для них было естественно проявлять ее. Возможно, они считали это своей обязанностью. Мне не хватало откровенности, способности полностью распахиваться перед людьми, а без этого не бывает настоящей дружбы. Можно назвать это скромностью, замкнутостью — на самом деле это нечто иное, глубинное…
А моя квартира! Я мог бы позволить себе другую, получше, но палец о палец не ударил, чтобы найти ее. Мое жилище так же неприветливо, как и я сам. Две голые, пустые комнаты, в которые я не сумел вдохнуть человеческое тепло. Коробка для сна и приготовления пищи. Может, бросить эту работу и уехать? Если мне не суждено обрасти мхом, буду пользоваться всеми преимуществами перекати-поля. Меня здесь ничто не держит — только деньги, да положение совладельца фирмы, да удовлетворение от работы. Но последнее сошло на нет после того, как я изменил себе ради Мортонов.
Вы исчерпали себя, говорится в каком-то дурацком стихотворении; перестали быть хозяевами своей судьбы; ваша жизнь определена и распределена без вашего участия… Вот и еще один этап моей жизни завершился полным фиаско. Первый этап завершился со смертью отца, второй — с началом войны, третий — с наступлением мира. А вот теперь и четвертый близится к концу…
Когда я возвращался домой, Лондон словно вымер. На Бейкер-стрит еще попадались редкие фигурки возле газетных киосков да за стеклами автобусов, а на Джордж-стрит и вовсе не было ни души. Один-единственный автомобиль торчал слева от входа в дамское ателье, над которым была моя квартира. Мне и в голову не пришло, что это ко мне. Я подъехал поближе и решил, прежде чем отвести машину на стоянку, забежать на минутку домой за сигаретами. Одолев один лестничный пролет, я увидел спускающуюся навстречу женщину. Это была Сара.
Глава XV
— Оливер, я… — начала она и смолкла.
Я поднялся еще на три ступеньки и остановился на ступеньку ниже нее. Она совсем не изменилась. На ней не было шляпы — только летнее цветастое платье, босоножки на низком каблуке и широкий серебряный браслет на запястье.
— Вы ко мне?
— А что, нельзя?
Я прошел мимо, отпер дверь и пропустил ее вперед, при этом нечаянно коснувшись легкого платья и уловив тонкий аромат духов.
В комнате был настоящий бардак — ничего! Пусть смотрит! Она остановилась посередине и ждала, что я заговорю. От нее повеяло враждебностью.
— Может быть, вы присядете? Это, конечно, не Ловис-Мейнор, но со стульев регулярно сметают пыль.
— Благодарю.
Я пошарил в карманах, но в пачке не было сигарет. Может, в бюро что-нибудь осталось?
— Вы теперь живете в Лондоне?
— Да. Вместе с отцом. Кажется, это естественно?
Я задвинул ящик, так и не найдя сигарет. Сара села в одно из мягких кресел; в солнечных лучах ее темные волосы приобрели медный оттенок.
— Вы так и не навестили меня. Ни разу.
— А вы ожидали, что я приеду?
— Я что, ждала слишком многого? — холодно, чуть ли не презрительно вымолвила она.
— Да, вы ждали от меня слишком многого.
— Не понимаю. Я думала… — она замолчала. Мы оба силились взять себя в руки.
— Да, — гневно произнес я. — Расскажите мне, что вы думали. Очень хотелось бы знать.
В глазах Сары промелькнул страх.
— Когда умер Трейси… так ужасно погиб… когда это случилось, все мои друзья окружили меня заботой и пониманием… старались помочь… Кроме одного человека. А я-то думала… ждала… — она остановилась, чтобы перевести дух. — Прошло столько месяцев! Вы даже не написали — ни единой строчки! Я боролась с собой… убеждала себя: может быть, это просто угрызения совести… боязнь показаться лишним…
— Совесть, — перебил я. — Однажды вы сказали, что мы говорим на разных языках, но под этим словом, вероятно, понимаем одно и то же.
— А почему должно быть иначе? Что произошло? Если вы… по какой-то причине…
— Ах, — выдохнул я, — что толку? Этот номер с честными, широко распахнутыми глазами больше не пройдет.
С минуту она изумленно взирала на меня. Потом сказала:
— Продолжайте. Что же вы замолчали?
— Что вы хотите, чтобы я сказал? Что меня тошнит от всего этого — просто выворачивает наизнанку? Как я мог искать встреч с вами или хоть бы написать? Чистая случайность помогла мне узнать правду — за несколько дней до пожара. Так что… Я был в Ловис-Мейноре — в тот самый вечер — и все видел. Не знаю, что нарушило ваши с Трейси общие планы, но это не помешало вам довести дело до конца. Не правда ли? Что ж. Я держал рот на замке. На что еще вы можете рассчитывать?
Она вскочила. Солнце больше не попадало на ее волосы, и они потускнели, так же, как ее лицо. Она снова стала кем-то в серых и черных тонах.
— Оливер, о чем вы говорите?
Меня все несло и несло.
— О той картине Бонингтона, что якобы сгорела в первый раз! Человек, которому вы ее продали, не увез ее, как собирался, за границу. Она до сих пор висит в его квартире на Мейда-Вэйл. Я увидел ее и начал задавать вопросы. Он описал вас и рассказал ту басню, которую вы для него сочинили. Тогда я отправился в Ловис-Мейнор — вечером в субботу, — чтобы убедиться, что прочие картины — такие же подделки. И угодил к началу пожара.
Я остановился, чтобы передохнуть. У нее билась жилка у самого горла. И вдруг она отвернулась — так резко, что юбка взметнулась веером.
Я в несколько прыжков очутился у двери и перехватил ее.
— Нет уж, теперь слушайте!
— Не буду!
— У вас нет выбора! Вначале я надеялся… внушал себе, что вы — невольная соучастница и держите сторону Трейси, потому что являетесь его женой. Но потом… когда вы не произнесли ни слова правды… ничего не сделали… изображали невинную жертву… Все кончено. Вы оба держали меня за идиота. Но как я сам мог так обманываться? Мне нет оправдания!
— Пустите меня!
— Или вы посмеете отрицать, что продали Бонингтона американцу по фамилии Крофт, а затем сделали вид, будто он сгорел во время первого пожара?
— Отрицать? — вскричала она. — Ну конечно, я отрицаю! Сроду не слыхала о человеке по фамилии Крофт! Наш Бонингтон сгорел! Вы во всем видите мошенничество. А эта последняя история — вообще за пределами моего понимания. Если вам кажется, будто из-за меня вы идете на сделку с совестью, умоляю вас больше этого не делать. Обратитесь в полицию. Делайте все, что хотите, чтобы очернить память Трейси, — она устоит перед вашей клеветой!
Она вихрем метнулась мимо меня. Послышался стук каблуков на лестнице. Затем он стих. Хлопнула дверца автомобиля. Взревел мотор. Я ринулся вниз, но, когда очутился на улице, ее машина уже исчезла за поворотом.
* * *
В пять с минутами я подъехал к кварталу Манкс-Корт в северо-западной части Лондона. Дверь открыла молодая женщина небольшого роста, с огромными глазищами. Я спросил, дома ли мистер Крофт. Она дружелюбно улыбнулась.
— Он скоро придет. Могу я вам чем-нибудь помочь?
— Моя фамилия Бранвелл. Весной я встречался с вашим мужем. У меня к нему срочное дело.
— Будьте добры подождать. Он пошел проводить наших друзей.
Я вошел вслед за ней в гостиную. Миссис Крофт извинилась; я сел и принялся читать ”Нью-Йоркер”. Прошло минут пятнадцать; я листал газету, не вникая в содержание. Наконец появился Уильям Крофт.
— Да-да, разумеется, я вас помню. Вы приезжали справиться насчет Чарльза Хайбери. С тех пор я его не видел — однако до развода не дошло. Некоторые браки отличаются особой прочностью. Хотите ”скотч”?
— Спасибо, не сейчас, — мы вышли в другую комнату, и там я сразу увидел Бонингтона. Крофт проследил за моим взглядом.
— Эта картина имеет какое-то значение? В прошлый раз вы почему-то расстроились.
— Дело не в картине, а в человеке, который вам ее продал. Вы сказали, что это была миловидная женщина лет двадцати пяти, выше среднего роста?
— Да, конечно.
— Темные вьющиеся волосы на свету приобретают бронзовый оттенок; у нее очень белая кожа и быстрые движения, вообще, она полна жизни; когда улыбается, в уголках глаз появляются крошечные морщинки; нос прямой; время от времени она закусывает нижнюю губу…
Он внимательно посмотрел на меня.
— Пожалуй. Вы довольно точно ее описали.
— Меня не устраивает ”довольно точно”. Можете дать стопроцентную гарантию, что здесь нет ошибки?
— Ну, я бы не отважился. Я видел эту женщину всего два раза, и то пару лет назад, — Крофт нахмурился и потер большим пальцем подбородок. — Все это верно… кроме одной детали. Та девушка не показалась мне такой уж жизнелюбивой. А может, она просто строила из себя утомленную и пресыщенную. Знаете, некоторые дамы напускают на себя этакую отрешенность — в сущности, просто набивают себе цену. Но, возможно, я и ошибаюсь. ”Мартини”?
— Подождите, — я порылся в кармане и достал вырезку из ”Дейли Миррор”.— Это она?
Крофт поднес фотоснимок поближе к свету.
— Нет. У той девушки более выступающие скулы. Другая форма лица. Но какое-то сходство есть.
* * *
Дома я первым делом схватился за телефонный справочник. Там оказалось два Дж. Дарнли, но ни перед одной из этих фамилий я не обнаружил приставки ”доктор”. Один жил на Лейтонстоун, а другой — на Понтинг-стрит, двадцать один. Начну, пожалуй, с последнего.
Я избрал более короткую дорогу через Гайд-Парк, выехал к Найтсбриджу и свернул на Слоун-стрит. Доехал до станции метро в Южном Кенсингтоне и двинулся дальше по Олд-Бромптон-Роуд. Примерно в миле от нее начиналась Понтинг-стрит.
Мне открыл коротко остриженный лакей. Я спросил, здесь ли проживает доктор Дарнли. Да, здесь. До сих пор все шло прекрасно.
— Будьте добры, миссис Мортон у себя?
— Сейчас узнаю, — и он удалился походкой старого солдата, чтобы через несколько минут возвратиться с известием, что миссис Мортон нет дома.
— Когда она вернется?
— Не знаю, сэр.
— Ну, так узнайте.
— Кажется, она говорила, что вернется очень поздно, сэр. Как обычно.
Я заколебался. Слуга воспользовался этим и захлопнул дверь. С минуту я тупо глазел на нее, а затем подошел к своему автомобилю и, сев за руль, оглянулся на двадцать первый номер. Никаких признаков жизни. Сариного автомобиля тоже не было видно. Я доехал до небольшой лавчонки, где продавались сигареты. В семь я уже снова был на посту перед домом номер двадцать один на Понтинг-стрит.
В половине восьмого вышел слуга-кокни и помахал с крыльца проезжающему такси. Я вышел из своей машины и направился к дому. Через пару минут слуга вывел из дома доктора Дарнли. Тот с трудом забрался в такси. Он тоже сильно изменился с той роковой ночи. Мне показалось, будто в одном окне мелькнула рука, опустившая занавеску.
* * *
Без четверти восемь я снова позвонил у дверей. После третьего звонка вышел все тот же кокни.
— К сожалению, миссис Мортон позвонила и предупредила, что не будет ночевать дома.
— Бросьте, — я быстро вставил ногу в образовавшуюся щель.
— Эй! — возмутился лакей. — Какого дьявола вы себе позволяете…
Я был сильнее — или это чувства придали мне силу? Мне удалось заставить его отступить. Он попятился и упал на тигровую шкуру посреди прихожей. Попытался схватить меня, но я увернулся и, перепрыгивая через несколько ступенек, ринулся вверх по лестнице. Там я прикинул, где может находиться комната, в окне которой я видел ту руку. Справа по коридору было три двери. Я безошибочно выбрал одну. Сара сидела перед зеркалом и расчесывала волосы. При виде меня она уронила щетку для волос и вскочила, запахивая желтый капот. Из своего угла затявкала Трикси.
— Мэтьюз!
Я придержал дверь ногой.
— Если вы имеете в виду того Мэтьюза, который сейчас лежит на полу прихожей, то лучше ему оставаться на месте, пока я не закончу. Сара, мне необходимо поговорить с вами.
Она пришла в ярость.
— Убирайтесь из моей комнаты! Как вы посмели ворваться?..
— Я был у Крофта. Показал ему вашу фотографию в газете. Он не узнал в вас девушку, которая продала ему Бонингтона, хотя, по его словам, между вами есть известное сходство. Оно-то и ввело нас в заблуждение. Произошла ужасная ошибка. Никогда себе не прощу. Вы не можете сказать ничего такого, чего бы я сам себе не говорил. Мне нечего добавить…
Кто-то постучал в дверь и подергал за ручку.
— Мэтьюз, он здесь!
Слуга всей своей тяжестью навалился на дверь. Она скрипнула и приоткрылась сверху, однако снизу ее не пускала моя нога.
— Послушайте, Сара, — вскричал я в отчаянии. — Я все равно намерен говорить с вами — хотя бы для этого пришлось разобрать весь дом по кирпичику. Велите ему оставить нас в покое. Дайте мне возможность объяснить вам… Пожалуйста!
— Вы уже объяснили. С меня довольно. Нам больше не о чем разговаривать.
Я по-прежнему не пускал дверь. Трикси вылезла из своего ящика и дружелюбно обнюхала меня.
— Я допустил чудовищную ошибку, но в этой истории — не одни недоразумения. Афера имела место, тому есть доказательства. У Крофта висит подлинный Бонингтон: он подверг картину двойной экспертизе. Это тот самый пейзаж — ”Роща и мельница”, вид с холма, где мы с вами сидели. Сгорела подделка. То же самое произошло с картиной Липпи. Доска легко поддается лезвию ножа, будь это старая картина, дерево было бы твердым. Думаю, что замене подверглись и Констебль с Ватто, но я не успел это проверить. Не знаю, имел ли место поджог в первом случае, но во втором — точно. Я был там, Сара! За несколько минут до того, как разыгралась трагедия! Все было тщательно спланировано. Керосин, свечи, древесная стружка… Трейси не прыгал с галереи, спасаясь от огня: он умер гораздо раньше. Я нашел его лежащим в холле. Одному Богу известно, что произошло. Я могу лишь предположить, что он все подготовил, но почему-то задержался; видимо, для того, чтобы убедиться: все идет по плану. Возможно, он упал, когда нес стопку постельного белья, чтобы развесить на стремянках. Он не звонил в полицию: это сделал я после безуспешных попыток справиться с огнем. У меня до сих пор след ожога на предплечье. Когда приехали пожарные, я сбежал, потому что думал, что вы с ним заодно. Я был совершенно выбит из колеи и не сделал того, что являлось моей прямой обязанностью. Все говорило против вас. Бонингтон, которого, как я считал, вы продали Крофту; способ поджога в точности соответствовал той схеме, которую я описал вам за неделю до этого события; кое-какие ваши слова и поступки… — я остановился, чтобы перевести дух, при этом нечаянно отпустил дверь, но, по всей вероятности, Мэтьюз оставил попытки вломиться в комнату. Сара наконец-то слушала меня — внимательно, подняв голову.
Я продолжал:
— Я был уверен, что идея принадлежала Трейси. Он лез из кожи вон, чтобы подружиться со мной, потому что рассчитывал на мое содействие в получении крупной страховой суммы. Это с самого начала не давало мне покоя. Я не из тех, чьей дружбы домогаются… Возможно, он понял это и рассчитал, что я буду чувствовать себя польщенным. Так и вышло. Впоследствии я рассуждал так: скорее всего, Сара действовала заодно с ним из чувства лояльности. Однако теперь, после его смерти, она вольна выбрать прямой, честный путь, если захочет. Неважно, как она относится ко мне — ради себя самой она может хотя бы отказаться от страховки за имущество, потому что все ценное было вынесено еще до пожара якобы для того, чтобы отдать в чистку, на реставрацию…
— Подождите, — перебила она. — Минуточку… Подождите…
Я ждал. Сара медленно подошла к трюмо и села. Отбросила рукой упавшую на щеку прядь распущенных волос. Рукав капота скользнул вверх, до локтя. На ней не было чулок — только домашние туфли без задников.
— Простите, — пробормотал я. — Никогда не прощу себе, что подозревал вас.
— Почему вы уверены, что ошиблись?
— Потому что читаю это в ваших глазах. И потом… В общем, я уверен.
— Расскажите еще раз все по порядку.
Я начал свой рассказ, а дойдя до середины, услышал на лестнице топот. Дверь отворилась, и появился Мэтьюз в сопровождении полицейского.
— Вот он!
Я еще не знал точно, на каком я свете и как поступит Сара. Полисмен нерешительно переводил взгляд с нее на меня и обратно. Все оказалось не так, как он представлял.
— Мисс, этот человек вломился к вам?
Сара встала.
— Извините, офицер. Думаю, что я справлюсь без вашей помощи. Простите, Мэтьюз. Вы поступили абсолютно правильно. Просто… произошло недоразумение.
На лице слуги отразилась противоречивая гамма чувств.
— Но, мэм, вы же сами сказали, что…
— Я знаю. Прошу прощения. Через несколько минут мистер Бранвелл покинет этот дом.
— Ну, если так… — полицейский кисло посмотрел на Мэтьюза, — мое присутствие необязательно. Я пошел.
И он удалился, а за ним — обиженный лакей. Я вытащил из кармана оставшуюся после покупки сигарет купюру в десять шиллингов и, догнав полисмена, попытался всучить ему. Он ни за что не хотел брать, однако в конце концов сдался и ушел, как мне показалось, без чувства обиды. Когда за ним закрылась дверь, я дал фунт Мэтьюзу, чтобы немного смягчить его сердце.
* * *
Дверь спальни так и осталась открытой, а Сара стояла перед трюмо со щеткой в руках.
Я попросил:
— Мы не могли бы продолжить в каком-нибудь другом месте?
Она положила щетку и повернулась ко мне.
— Нет… Продолжайте, пожалуйста. Мне нужно все знать… прежде чем принять решение…
Я довел повествование до конца с ощущением, что мне удалось взять первое препятствие: эмоции улеглись и можно было апеллировать к рассудку. Внушить ей, что теперь, когда главная улика оказалась несостоятельной, у меня не осталось подозрений. И, конечно, оправдаться самому.
Когда я закончил, она несколько минут хранила молчание, а затем произнесла:
— Господи, какой ужас! Оливер, мне нужно время, чтобы все обдумать, убедиться в том, что нет каких-то иных объяснений… Я обещала быть к восьми в одном месте. Просто не знаю…
— Отмените встречу. Сходим куда-нибудь поужинать — в тихое, уютное местечко. Обсудим в спокойной обстановке…
Я не собирался оказывать на нее нажим. Но у меня тоже остались вопросы.
В наших отношениях произошла заметная перемена: из них ушла враждебность.
Сара нерешительно посмотрела на меня.
— Дайте мне несколько минут, хорошо? Столько всего произошло!.. Сейчас я переоденусь и сойду вниз.
— Конечно, — чувствуя на себе ее взгляд, я направился к двери.
Глава XVI
— Я знала, конечно, — начала Сара, — насчет некоторых предметов обстановки. Помню, у нас был шератонский письменный стол. И еще обеденный. Это повседневные, родные вещи, привыкаешь к каждой щербинке, к тому, насколько легко выдвигается каждый ящик… Мы никогда об этом не говорили, но… нам вечно не хватало денег, это были наши собственные вещи, мы имели право поступать с ними по своему усмотрению. Если мы и лгали, выдавая подделки за антиквариат, то лишь из гордости. Мне никогда не приходило в голову связать это со страховкой. И потом, кое-что действительно отдавалось на реставрацию. Зная это, я была уверена в подлинности картин. Не допускала, что Трейси способен с ними расстаться. Он никогда особенно не посвящал меня в наши финансовые дела. Я не знала точно, сколько у нас денег. То он говорил, что мы должны следовать режиму жесткой экономии, то вдруг становился великодушным и расточительным.
Мы сидели в одном из маленьких, уютных ресторанчиков, которых так много развелось в Лондоне. Какой-нибудь итальянец или киприот покупает помещение, нанимает персонал и называет заведение ”Гриль Такой-то”.
— Я еще и не видела этих денег. Всем занимается Виктор. Меня немного удивила сумма страховки, но это был приятный сюрприз, не более. Мне и в голову не пришло проверять мебель. Вы бы стали — на моем месте?
— Ешьте свой ужин, — мягко напомнил я.
— Даже сейчас меня мучают сомнения. Возможно, вы привели не все доказательства? В чем еще вы меня обвиняете?
— Забудьте, если можете.
— Нет, мне нужно знать. Значит, все началось с Бонингтона.
— Эта проклятая картина пустила меня по ложному следу. Не знаю, понимаете ли вы… но, однажды допустив…
— Да, я понимаю.
— Мне трудно объяснить. Каждая деталь сама по себе малозначительна, но в совокупности они складывались в определенную картину. Возможно, я был предрасположен к ошибке… подготовлен какими-то моментами в прошлом. Но я искренне симпатизировал Трейси. Меня преследовало ощущение собственного предательства. И потом…
— Говорите, — попросила Сара.
— Способ поджога. Я познакомил вас с ним всего за неделю до этого случая.
— Ах, я еще в прошлом году читала об этом в журнале. И Трейси.
— Почему же вы не остановили меня, когда я начал вас просвещать?
— Мне очень жаль. Но вспомните — я пыталась заставить вас говорит о себе. Это всегда было нелегкой задачей. Вы только-только разговорились — хотя бы о работе. И вдруг я оборвала бы вас репликой: ”Ах да, читала об этом в каком-то журнале”.
Официант принес бефстроганов и устроил при этом целый спектакль, как бы показывая, что ему не зря платят деньги.
Я снова обратился к Саре:
— На дознании вы показали, что в то утро отправились в Йоркшир одна, потому что Трейси нужен был сверхплановый укол. Зная, как обстоят дела, я не поверил…
— Надо же мне было как-то объяснить… А сказать правду… Вообще-то мы редко ссорились. Но в то утро это случилось. Я покинула Ловис, не зная — и не желая знать, — что предпримет Трейси. Села на автобус до Лондона, а дальше — поездом час сорок. Я вся кипела, но, приехав в Йоркшир, успела остыть и решила позвонить ему. Меня мучили угрызения совести. Вам это знакомо. Трейси не ответил, и я подумала, что он уже выехал.
Я кивнул, но ничего не сказал.
— Вы упомянули еще о чем-то, что я сказала или сделала.
— Сторожка. Если бы в ней уже кто-то жил… Вы не пустили новых жильцов — попросили их приехать после вашего возвращения.
— Трейси настоял. Я не понимала, почему… Он пощадил меня: не поделился своими планами.
— Мне следовало догадаться.
Она намазала хлеб маслом.
— А что я сказала?
— Нужно ли все это ворошить?
— Обязательно.
— Я спросил, почему, зная о моих чувствах, вы поехали со мной… И вы ответили: на то были причины.
Она метнула на меня загоревшийся взгляд и тотчас отвела глаза в сторону.
— Причины действительно были. Только не те, о которых вы подумали.
Воцарилось долгое молчание. Наконец я не выдержал.
— Вы часто видитесь с Клайвом Фишером?
— Не очень.
— Я слышал… вы же знаете, как быстро распространяются сплетни…
— Какие же?
— Что вы помолвлены.
Она скривила губы.
— Нет.
— Может быть, в недалеком будущем?..
— Нет.
Не помню, каким было следующее блюдо, помню лишь, что нам потребовалась целая вечность, чтобы с ним расправиться. С тех пор, как я убедился, что Сара не замешана в афере, с моей души свалился тяжелый камень, давивший на меня с самого мая. На смену пришли тревога и чувство вины — я только после новости о Клайве осознал их тяжесть.
На обратном пути она на несколько минут остановилась на набережной и устремила взгляд на темную воду.
— Оливер, эта история ужасна от начала и до конца, но есть вещи, которые особенно тяжело перенести. Мне больно думать о Трейси как о… Наверняка имелись смягчающие обстоятельства, которые, хотя и не снимают с него вины, но… Видите ли, он жил с ощущением, что и он сам, и его отец пострадали, сражаясь за родину, а она в благодарность лишила его средств к существованию. В его поступках мне чудится мотив личной мести. Недавно я радовалась, что он пощадил меня, не посвятив в позорную тайну. Но так ли это? Помните, однажды я сказала вам, что между нами существует полное доверие? Теперь это звучит нелепо, но, если на то пошло, мне было бы легче ощущать себя его сообщницей.
— Этого не могло случиться.
— Конечно, я не стала бы участвовать в заговоре против вас. Но все остальное… Когда любишь, легче помогать обманывать, чем быть обманутой, — она вздрогнула.
— Вам холодно?
— Нет-нет. Просто я подумала… Оливер, ведь у вас нет неоспоримых улик? Вы не можете стопроцентно утверждать, что Трейси совершил поджог?
— Так же, как и то, что он упал с галереи.
— В котором часу вы приехали?
— Около половины десятого.
— А Эллиот ушел в полчетвертого. При нем Трейси не мог начать действовать. В подвале перед тем ничего не было, значит, пришлось солидно потрудиться: перенести туда хлам из конюшни и бывшего холла. А ведь он плохо себя чувствовал. Но… у него в запасе было шесть часов…
— Меньше. Когда я приехал, он был уже часа два как мертв.
Мимо нас по реке шел буксир, таща за собой две груженые баржи. Его огни серебряными змейками скользили по водной поверхности.
Сара спросила:
— Сколько нужно времени, чтобы догорела свеча?
— Часа четыре. Но в тот день был сильный ветер, и в подвале гуляли сквозняки. Одна свеча, насколько я могу судить, сгорела очень быстро, часа за полтора. Вторая была еще цела, но ветер рвал языки пламени и разносил их по подвалу.
Сара ничего не сказала, и я продолжил:
— Я много думал обо всем этом и уверен: существует только одно объяснение. Трейси подготовил все для поджога, запалил фитили и поднялся наверх за каким-то пустяком. А там забыл, что ремонтники снесли часть балюстрады…
Сара зябко повела плечами.
— Я все-таки не вижу в этом смысла…
Мы сели в машину и тронулись с места.
— А откуда слухи о вашей помолвке?
— Клайв сделал мне предложение.
С минуту я переваривал эту новость.
— Когда?
— Месяц назад. С тех пор я его ни разу не видела. Я изо всех сил старалась быть любезной, но, боюсь, он все-таки обиделся.
— И теперь вы не спите ночами.
— Спать-то сплю, но он был старым другом Трейси, да и я знала их с Амброзиной еще до замужества. Не хотелось бы обрывать все связи.
Мы остановились возле ее дома. Над парадным горел фонарь. Сара вдруг спохватилась.
— Что мне делать с этими деньгами? Теперь я к ним не притронусь.
— Вы уже сколько-нибудь потратили?
— Нет. Мы их только что получили. Кроме того, после Трейси осталось в банке четырнадцать тысяч наличными — должно быть, остаток суммы, вырученной от продажи картин. Теперь я начинаю думать, что на них-то мы и жили последние пару лет… Страховку можно вернуть?
— Думаю, мы найдем способ. Дайте подумать. Страховщиком выступила фирма Беркли Рекитта. Точно не знаю, но, если вы не против, я мог бы навести справки, как это делается. Разумеется, при условии минимальной огласки. Незачем без крайней необходимости пятнать имя Трейси.
— Да, Оливер. Он был… И потом — его мать. Она этого не переживет, — Сара сделала небольшую паузу. — А страховка за дом? Это тоже незаконные деньги?
— Вот тут-то как раз комар носу не подточит. По закону вся сумма принадлежит попечителю. Никакая страховая компания не станет этого оспаривать. Попечитель не поджигал…
Сара подергала за ручку. Я вышел, обошел машину и открыл дверцу.
— Зайдете на минуточку?
Я покачал головой.
— Спасибо. Но я с незапамятных времен боюсь вашего отца.
Она улыбнулась.
— Надо ли бояться калеки, скрученного артритом?
— Как вы думаете… вы сможете забыть мои беспочвенные подозрения?
— О да. Беспочвенные? Мне трудно судить. Возможно, на вашем месте…
— Значит, вы согласны встретиться завтра вечером?
Она с минуту постояла на тротуаре, подняв голову к звездам.
— Да, Оливер.
* * *
Утром я позвонил Генри Дэйну и сказал, что хотел бы с ним поговорить. Он ответил, что как раз уезжает из города и вернется не раньше субботы, так что мы договорились на следующий понедельник. Я не видел смысла особенно торопиться. Как опытный юрист, собаку съевший на страховых делах, он наверняка подскажет мне какой-нибудь выход. Я пообедал с Чарльзом Робинсоном и чуть было не открылся ему, но вовремя сообразил, что ему будет нетрудно угадать реальных действующих лиц, а он хотя и мой друг, но по профессии страховщик — кто знает, как он к этому отнесется?
Вечером я заехал за Сарой, и во вторник тоже, а в среду жизнь круто изменилась. Все вокруг засверкало свежими, чистыми красками. Нет смысла описывать чувства: кто их испытал, тот и сам себе представит, а кто не испытал, не поверит.
Мы говорили обо всем подряд — главным образом о пожаре и его последствиях — и постоянно возвращались к гибели Трейси. Сейчас я не могу припомнить ни словечка, потому что все сказанное существовало на периферии моего сознания, а в центре была Сара, одна только Сара, и она знала это, но по-прежнему встречалась со мной. Только ли потому, что ей было приятно мое восхищение? Видит Бог, она получала его огромными дозами. Но мне начало казаться, что дело не только в этом. Хотя, бывает, интуиция обманывает…
В среду мы ужинали в ресторане одного из крупных отелей и немного потанцевали. Сара противилась: боялась, что ее осудят друзья Трейси. Мы долго сидели и разговаривали, но я время от времени повторял свое предложение.
— Странно, — протянула Сара. — Я-то думала, что в вашей молодости не было места для подобных вещей.
— Ну, разве самая малость.
— И в моей — в последние семь лет. А когда-то я любила танцевать. Лучше не искушайте.
— Но мне хочется.
— Я знаю. Однако это опасно.
— Для кого?
— Ситуация может выйти из-под контроля. Вдруг я вспомню былую страсть к балету?
— Ничего. Как-нибудь справимся с этим вместе.
— Вам-то с чем справляться?
— Как знать. Вдруг я вспомню былую страсть к Саре?
Она не ответила, просто стояла рядом — высокая для женщины, в бордовом платье с воротником а ля Медичи, в ушах — жемчужные сережки.
Бывают женщины — таких немного, — которые танцуют так, словно они — сплошная талия и никаких ног; у них есть чувство равновесия и нет веса; танец в их исполнении становится произведением искусства. Такой женщиной была Сара, и я не замедлил поставить ее об этом в известность.
Когда мы вернулись к столику, она спросила:
— Почему вы постоянно говорите о себе как о человеке, который не умеет выражать свои чувства? Это не соответствует истине.
— Не знаю… У меня такое чувство, будто со мной неинтересно.
— Только не мне.
— Правда?
— Ну, конечно же, — она улыбнулась.
— Не могу поверить.
— Вам недостает уверенности в себе. Какая-то часть вашего существа упорно сопротивляется всему хорошему.
Я замер.
— Почему так, Оливер? — продолжала она. — Неужели ни одна ваша мечта не осуществилась?
— У меня и была-то всего одна — с тех пор, как я стал взрослым.
— Какая же?
Я вернул ей улыбку.
— Я думал, это ясно.
После небольшой паузы она сказала:
— Все это очень хорошо, но… Вы с давних пор — мне трудно сказать, с каких именно, — находитесь в плену отживших представлений о себе. Почему, вы думаете, вы добились успеха на войне и после нее? Только благодаря трудолюбию и упорству? Вы так считаете? Так вот — это неправда. Трейси мог искать вашей дружбы из корыстных расчетов, но другие — нет.
— Вы правы. Я боялся, что они тоже, но, слава Богу, ошибся.
— Я не только о себе говорю. Возьмите Майкла Аберкромби или Генри Дэйна, о которых вы мне рассказывали. И в армии… На днях я встретила одного человека, Джона Грейвза… Наверняка он не один такой. Так вот, эти люди высокого мнения о вас вовсе не потому, что им от вас что-то нужно.
— Нет, конечно, Джон…
— Так зачем цепляться за старое? Почему не позволить себе быть самим собой: симпатичным, прямым, честным и добрым человеком? Одно время я считала вас слишком нетерпимым, а теперь вижу: единственный человек, по отношению к которому вы проявляете нетерпимость, — это вы сами.
Мы еще потанцевали.
Снова очутившись за столиком, я возобновил прерванный разговор:
— Все это очень приятно слышать… Я, конечно, благодарен вам…
— Не нужно благодарить. Просто…
— Я не могу не испытывать признательности, независимо от того, правда это или нет. Главное, что вы так думаете, потому что только ваше мнение для меня и важно. Возможно, мне и впрямь что-то мешает, как вы говорите. Я даже могу сказать, что именно. Просто люблю женщину, а она для меня недосягаема.
— Только в этом дело?
— Я убежден, что да.
На ее губах заиграла недоверчивая улыбка. Я поспешил добавить:
— Я не настаиваю, чтобы вы мне верили.
— Плохо дело, — произнесла Сара. — Но было бы еще хуже, если бы и мне недоставало уверенности.
У меня бешено забилось сердце.
— Сара, милая, не знаю, что вы имеете в виду, но ваши слова… могут внушить надежду…
Она чиркнула спичкой и залюбовалась пламенем.
— Неужели?
Спичка погасла. Наши взгляды встретились. И я понял, что она перестала быть недосягаемой.
* * *
Я расплатился, и мы вышли из отеля. Швейцар поймал нам такси. После того как он захлопнул дверцу, я спросил, не дожидаясь, пока такси тронется с места:
— Вы выйдете за меня замуж?
— Да, Оливер.
— Когда?
Она замялась.
— Не знаю.
— Когда?
— Когда хотите.
— Сара, вы это серьезно?
— Да. Если вы не против.
— Завтра? В субботу?
Водитель отодвинул шторку.
— Как вы сказали — номер двадцать один или тридцать один на Понтинг-стрит?
— На ваше усмотрение, — ответил я.
Он что-то буркнул, и такси влилось в поток машин.
Я боялся до нее дотронуться. Голос Сары звучал не очень-то уверенно.
Я переспросил:
— В субботу?
— Как — всего через три дня?
— Наберемся храбрости. Чтобы не осталось времени для нудных советов и благих намерений. Быстренько распишемся в первом попавшемся загсе, а там — Париж, Рим, что хотите. Минимум хлопот. За себя-то я не боюсь, но вот вы… Несколько холодных, пасмурных дней…
— Ничего уже не изменится.
— Я знаю, вам труднее, чем мне. Я одинок, мне не нужно считаться ни с чьими чувствами.
— А мне нужно.
— Вашего отца?
— И миссис Мортон. Она всегда хорошо к вам относилась и не будет возражать — через какое-то время. Но так скоро… Они с Виктором…
— Мне жаль их расстраивать. Но, может быть, они все-таки перебьются? Неужели обязательно ждать год?
— Хотя бы три месяца.
— Мы уже потеряли десять лет.
И тут я почувствовал: что-то сломалось, между нами рухнул какой-то барьер. Сара сжалась в комок на заднем сиденье, я не видел ее лица. Несмотря на все, что произошло за последние несколько часов, она пыталась сохранить душевное равновесие, снова дать рассудку перевес над эмоциями.
Мы не сказали больше ни слова до тех пор, пока водитель, движимый интуицией, не высадил нас возле двадцать первого номера. Я заплатил. Сара молчала. На крыльце, когда она искала ключ, я выпалил:
— Я хочу прямо сейчас сказать вашему отцу.
— Сейчас полвторого. Он уже два часа как спит.
— Господи, я совсем забыл! Вы хотите сделать это сами?
— Приезжайте завтра утром.
Мы вошли внутрь.
— Можно, я прихвачу с собой два билета на самолет — на субботний рейс?
— Оливер, ваши темпы меня пугают.
— Извините.
— Дело не в этом. Просто мы кое в чем похожи, а это чревато опасностью. Я пытаюсь думать за двоих…
Когда я снова предоставил ей возможность открыть рот, она собралась что-то сказать, но я опередил ее:
— Значит, в субботу?
— Как ни странно, мне хочется этого точно так же, как вам… как тебе. Прямо сейчас вырвать у судьбы наше счастье. Но ведь нужно объяснить другим…
— В субботу? — на этот раз я для разнообразия начал покрывать ее лицо мелкими, частыми поцелуями.
— Ох, дорогой, — у нее был такой умирающий голос, что я замер.
Мы стояли обнявшись. Я ждал ее решения.
— Господи, мне еще нужно что-то делать с теми деньгами.
— Ничего не случится, если мы займемся этим через пару недель. Проценты не набегут.
— Память Трейси…
Я ослабил объятие.
— Тут уж я ничего не могу поделать.
После непродолжительного молчания Сара сказала:
— С воскресенья мне столько всего пришлось пересмотреть!.. Обязана ли я ему очень многим или ничем? Не знаю…
Глава XVII
Конечно, торопя события, мы рисковали навлечь на себя неприятности. И, разумеется, они не замедлили явиться. Но если ждешь чего-то десять или одиннадцать лет — сначала подсознательно, а затем — отдавая себе полный отчет, — причем все это время, за исключением последних четырех дней, безо всякой надежды…
Кроме того, расставаясь с Сарой, я моментально начинал терять уверенность. Меня постоянно преследовал страх, что она передумает. Я знал: она дорожит мнением других людей, и хотя убеждал себя, что она не из тех, кого легко сбить с курса, это не очень-то помогало. В себе я не сомневался, а вот в ней…
Я знал: она любила Трейси больше, чем кого бы то ни было, и, понимая, что в ее отношении к нему наступила перемена, боялся, что это только временная реакция, которой я и не преминул воспользоваться. Между ним и мною такая огромная разница — во всем! Быть может, когда пройдет первый порыв…
Поэтому, когда наш самолет покатился по взлетной полосе, а затем тяжело взмыл в воздух, одним из главных чувств, которые испытал, было чувство облегчения. Теперь, что бы ни случилось, дело сделано, обратной дороги нет. Я смотрел вниз: ветер разметал по летному полю какие-то бумажки — как остатки моей одинокой жизни. Оливер Бранвелл — кочегар, бродяга, призывник, потом офицер, страховой эксперт, совладелец фирмы… пусть их уносит ветер!
Я перевел взгляд на небольшую группу провожающих. Майкл вернется в контору. Я вспомнил его изумленное лицо, когда я сообщил ему эту новость. Как смущенно, прячась за полушутку, он ее принял. Вспомнил его высокую, широкоплечую, немного сутулую фигуру рядом со мной в церкви…
Доктор Дарнли, скорее всего, поедет в клуб, где мы вчера обедали с ним вдвоем. В этом огромном особняке, сохранившемся с Викторианской эпохи, мы сидели друг напротив друга за закусками и жареной свининой, и ему ни разу не пришло в голову, что мы уже встречались — много лет назад. Я и сам не узнавал в нем человека, который высокомерно заговорил тогда с бродягой. Возможно, враждебность наполовину исходила от меня самого. Теперь же мы толковали об артрите, популярности кока-колы в Египте, происхождении фирмы ”Ллойд”, повышении цен на газетную бумагу — словом, о чем угодно, только не о Саре. Оказалось, что он как раз заканчивает книгу о южноиндийских диалектах. А я почему-то всю жизнь считал его доктором медицины.
Миссис Мортон и Виктор не приехали. Мать Трейси в это время находилась на острове Уайт, а Виктор должен был вечером в пятницу отбыть в Шотландию. Сара позвонила ему и потом передала мне, что он воспринял новость довольно дружелюбно.
Я повернулся к жене. Она предпочла сесть ближе к проходу, потому что не любила смотреть в иллюминатор. Нам предстояло решить массу практических вопросов, но это можно было отложить на потом. Прошлое было еще слишком близко, слишком памятно, чтобы безболезненно строить планы на будущее. Главное — рука Сары покоилась в моей руке, и она не спешила убирать ее.
* * *
Поздно вечером, когда мы лежали в темноте, прислушиваясь к постепенно затухающему шуму уличного движения на Рю-де-Тиволи, я решился рассказать ей о своем детстве. До сих пор я ни с кем не делился этими воспоминаниями, но ей как будто было интересно.
Мне было всего семь лет, когда из-за ремонтных работ на корабле мой отец потерял работу. Ему так и не удалось подыскать что-нибудь приемлемое, так что из своего дома наша семья перебралась в трехкомнатную, а затем и в двухкомнатную квартиру в многоквартирном доме. С годами отец все больше сдавал и в конце концов стал большим инвалидом, чем его корабль.
Я описал наше убогое существование в ту пору. Мальчишки, предоставленные самим себе; прокуренные трактиры с опущенными красными жалюзи; лавчонки, торгующие рыбой и жареным картофелем, зазывалы и ростовщики, а главное — похожие на арестантов бродяги; заброшенные лачуги; пароходные гудки и грязная пена прибоя. И то, как мать отказывалась признать, что остаться без работы — беда, а не бесчестье, и постоянно колола ему глаза. В этих двух комнатах мы не знали ни минуты покоя; даже я, семилетний мальчик, не мог вздохнуть полной грудью.
— Теперь, много лет спустя, я стыжусь своего тогдашнего отношения к ней. Бывает, строго судишь человека, но, приближаясь к его возрасту, начинаешь понимать, что и сам в его положении вряд ли вел бы себя достойнее. У матери было много хороших качеств: она была рачительной хозяйкой, умела шить и отличалась чистоплотностью. Вроде бы, у нее было все, что могло бы облегчить ситуацию, но этого не случилось. Отец — совсем другое дело: ему были доступны более широкие горизонты… если бы только он имел возможность проявить себя…
— Что с ним случилось?
— Ничего особенного — если не считать финала, так сказать, последней точки над ”i”. Весь последний год он катился по наклонной плоскости. Воспринимал произошедшее так же остро, как и мать, но из гордости не подавал виду.
— Ты на него похож?
Я не ответил, но какой-то лед в душе, пусть не до конца, но растаял.
— Все три последних года компания обещала ему работу. Это удерживало его на плаву. Мать то и дело начинала разговор словами: ”Когда ты снова выйдешь в море…”; ”Когда ваш отец начнет работать…”; ”Когда мой муж вернется на корабль…” В один прекрасный день — мать отлучилась навестить Марион, которая вышла замуж за мелкого служащего, — отцу позвонили и предложили срочно явиться в контору: подвернулась вакансия. Он отправился, полный надежд, а его спросили о возрасте и, узнав, что ему недавно исполнилось пятьдесят, предпочли ему более молодого работника — а ведь он больше десяти лет ждал этой должности. По возвращении отец закрыл двери и окна и включил газ. Я в то время работал в гараже и, придя домой, нашел его на полу — без сознания. Он еще дышал, и я мог его спасти — если бы знал, что нужно делать, или если бы врач явился вовремя. Он скончался у меня на руках, успев произнести одно-единственное слово: ”Дороти”…
На улице стало совсем тихо, Париж погрузился в сон. Сара еле слышно спросила:
— Наверное, он очень любил твою мать?
— О да, я тоже так считаю. Иначе не принимал бы ее ругань так близко к сердцу. Я думал, она отвечает ему взаимностью, просто у нее тяжелый характер… Но однажды, вскоре после его кончины, я случайно подслушал ее разговор с Марион и убедился, что это совсем не так: даже не по тому, что она говорила, а по интонации. Возможно, бедность убила любовь.
На этот раз мы молчали гораздо дольше. Наконец Сара пошевелилась на моем плече.
— Можно выстроить надежнейшую систему защиты, возвести самую высокую и прочную стену, но как защититься от тех, кого любишь? Любовь дает огромные права, но и налагает колоссальную ответственность.
Возможно, она знала это по собственному опыту.
* * *
Судьба подарила нам восемь счастливых дней, а потом…
Я открывал для себя Сару и убеждался, что совсем ее не знал. Любя, я видел две или три краски, а воображал, будто воспринимаю весь спектр. Не догадывался — хотя должен был бы чувствовать, — что подчас она существовала на пределе своих возможностей и, натянутая, как струна, сжигала себя изнутри. Не замечал, как она умеет радоваться жизни — и в то же время подвержена вспышкам гнева; впрочем, она быстро отходила. Не знал, как легко доставить ей радость, как она впечатлительна, добра, необычна, обворожительна…
Мы отказались от большинства традиционных развлечений — хотя, конечно, сходили на балет. Я теперь лучше понимал этот вид искусства — не говоря уже о том, что хотел сделать приятное Саре. Мы посмотрели пару пьес в драматическом театре, но, признаться, мне было трудно следить за развитием сюжета. Посетили несколько ночных клубов. Обедали и ужинали в самых дорогих и самых дешевых ресторанах; делали покупки в предместье Сен-Оноре и на бульваре Клиши. Много ходили пешком: обычно вдоль Сены, на запад до Трокадеро либо на восток — до собора Парижской Богоматери. Иногда мы отправлялись на остров Святого Людовика — любовались рекой и наблюдали за просиживавшими по целым дням рыболовами. Добирались старыми, допотопными автобусами и еще более допотопной подземкой до Сакрекера или Монпарнаса. Не помню, какая была погода, но, по-видимому, чудесная. Однажды возле Ронд-Пойнт нас застиг ливень и пришлось спрятаться в ближайшем кафе.
Мы без конца разговаривали. Я и не думал, что в мире столько вещей, представляющих интерес. Мы беспрерывно обменивались мнениями, спорили, решали мировые проблемы, не забывая о своих собственных; строили планы, а затем заменяли их более удачными. И все чаще Сара смеялась — чего так не хватало всю последнюю неделю в Лондоне. Смехом искрились ее глаза, он прорывался в репликах, и я почувствовал наконец, что, может быть, она и вправду счастлива.
На девятое утро мы, как обычно, поднялись и позавтракали, сидя за столиком у окна. Отель ”Континенталь” выходит окнами на Тюильри, вид отсюда дает почти полное представление о неповторимой красоте Парижа. Справа виднелась Триумфальная арка — сверкающим кончиком меча, в который утреннее солнце и поток машин превратили Елисейские Поля. Дальше на юг высились Эйфелева башня и купол Дома Инвалидов. Если же смотреть прямо, взгляд упирался в здание Правительства и Палату Депутатов. Левее виднелся Лувр — на фоне двух башен-близнецов собора Парижской Богоматери. И вся эта панорама была к нашим услугам.
Когда принесли почту, я не спеша допивал кофе. Сара взяла ее у мальчика-коридорного и отдала мне мою часть: письмо от Майкла и присланный по ошибке счет за покрышки. Сара тоже получила два письма и первым делом взялась за послание своего отца. Она оперлась обнаженными локтями на стол; волосы свободно падали на лицо, и она отбрасывала их назад. Я оторвался от собственной корреспонденции и загляделся на Сару. Почувствовав мой взгляд, она подняла голову и улыбнулась одними глазами. Я подошел к ней.
— Папа задним числом высказывает кое-какие мысли, которые у него не хватило духу сказать нам перед отъездом.
— Как любезно с его стороны — подождать с неприятностями!
— Мы вообще очень милые люди — я говорю о Дарнли. Несмотря на все, что ты о нас думаешь.
— Думал — в какой-то чужой жизни. Теперь я могу упрекнуть его только в том, что он позволил тебе стать женой такой темной личности, как я.
— Кажется, жизнь с таким мужем не обещает быть легкой.
Я достал сигареты и вернулся в свое кресло, а Сара перочинным ножичком вскрыла второе письмо. Она тоже машинально взяла сигарету; я чиркнул зажигалкой и наклонился к ней поближе, но она так и не закурила.
— Там что-то твердое. Как интересно! Наверное, свадебный подарок.
Она развернула клочок оберточной бумаги; оттуда выпало кольцо и покатилось по столу, а докатившись до середины, упало набок.
Я сразу узнал его. Это был перстень с печаткой, принадлежавший Трейси.
Глава XVIII
— Выпей это, Сара, тебе полегчает. Нет, давай-ка залпом, маленькими глотками не поможет.
Она закашлялась.
— Все в порядке, мне уже лучше, — она спустила ноги с кровати и привычным жестом руки поправила упавшую на лоб прядь волос.
— Ну, доберусь я до той свиньи, что сыграла с нами эту мерзкую шутку!
— Но как это могло случиться?
— Забудь об этом. Смотри — солнце встало. Давай проведем день, как нормальные туристы. Изобразим что-нибудь этакое — например, отправимся на машине в Фонтенбло или еще куда-нибудь.
Сара улыбнулась.
— Как скажешь.
Пока она одевалась, я спрятал перстень в карман, и в то утро мы больше о нем не говорили, хотя уже то, как старательно мы избегали касаться этого предмета, лишь подчеркивало его грозное значение. После ленча Сара не выдержала:
— Я все-таки не понимаю, как это могло случиться.
— Какая разница? Если мы позволим этому испортить нам настроение, только сыграем шутнику на руку.
— Да, но… как перстень мог попасть к этому человеку?
— Наверное, Трейси изредка снимал его.
— Насколько мне известно — никогда.
— В таком случае…
— Да. Я тоже об этом подумала.
— Кто его видел после?..
— Только Виктор. Я туда не входила, миссис Мортон тоже.
— Может, ценные вещи перед похоронами принято снимать? Но тогда его отдали бы ближайшему родственнику, то есть тебе. Виктор…
— Он не поступил бы так. Адвокат на вершине своей карьеры. Перспективный молодой политик…
— Миссис Мортон? Но мне трудно представить ее в подобной роли.
— Да, они на это не способны.
— Может, кто-то из тушивших пожар? Нашел на полу… Кто-нибудь имел на тебя зуб?
— Не знаю. Теоретически это возможно. Но я не могу подумать ни на одного из знакомых.
— Это не может быть Клайв Фишер?
— Безусловно, нет.
— В его характере есть определенная мелочность, как у женщины.
Сара слабо улыбнулась в ответ.
— Ты не очень-то высокого мнения о женщинах.
— Видишь ли, мужчина… нормальный мужчина… способен совершить предосудительный поступок в силу каких-то причин. А этот акт исполнен такой бессмысленной злобы и мстительности — ты не находишь? Все, чего добивался этот человек, это отравить нашу радость.
Сара помрачнела.
— Та ссора между мной и Трейси в субботу утром была из-за тебя. Я тебе не говорила?
— Из-за меня? Но почему?
— В понедельник, когда мы так поздно вернулись после балета, Трейси никак не выразил ни обиды, ни малейшего подозрения. У тебя сложилось такое впечатление?
— Да, разумеется.
— Так вот. На самом деле это его задело. Теперь мне абсолютно ясно. Он нарочно затеял ссору, чтобы ускорить мой отъезд… он вообще очень многое делал нарочно, а я и не замечала. Настойчиво уговаривал ехать в Скарборо в пятницу, без него. У нас чуть не дошло до скандала. Утром в субботу он… Я особенно остро это восприняла, так как между тобой и мной ничего не было… кроме того подсознательного порыва… да и потом… Под конец мы наговорили друг другу много гадостей. Трейси сказал, что, когда ты приедешь в следующий раз, он собирается спросить: существует ли особая форма страхования на случай супружеской измены?
— Это почти так же подло, как… — я чуть не сказал: ”как присылка перстня”, но вовремя спохватился.
— Результат оказался именно таким, как он рассчитывал.
Я бросил нежный взгляд на ее тонкий профиль.
— Могу себе представить.
У меня на языке вертелся один вопрос, но я никак не мог придумать, в какую форму его облечь, чтобы он прозвучал как бы между прочим. В конце концов у меня вырвалось само собой:
— Что сказал Виктор — Трейси сильно обгорел?
— Не думаю. Я, во всяком случае, не слышала. А что?
— Так просто.
— Но все-таки — почему это тебя беспокоит?
— Сам не знаю. Это не очень-то приятная мысль. Наверное, кто-нибудь из пожарных…
Кажется, такой ответ удовлетворил Сару, но не меня самого. В свое время я чуть не рассказал ей о хриплом дыхании, которое, как мне показалось, я слышал тогда в Ловис-Мейноре. Бог знает, что она могла подумать.
* * *
Мы поужинали в небольшом кафе на улице Дофина, в квартале художников, на левом берегу. Ужин длился четыре часа: все вокруг громко переговаривались, кричали, флиртовали и цеплялись к официанткам, валяли дурака, декламировали стихи на разных языках — не потому, что были под градусом — среди них я не заметил ни одного по-настоящему пьяного, — а потому, что находились в приподнятом настроении и пришли повеселиться.
Наверное, это даже хорошо, что они мешали нам вести серьезный разговор. Время от времени, желая что-то сказать Саре, мне приходилось приближать губы к самому ее уху.
В самый разгар веселья я прокричал ей:
— Кажется, мы здесь единственные англичане!
Очевидно, эхо этих слов достигло ушей нашего немолодого соседа по столику — он сидел в обществе белокурой француженки, с которой явно только что свел знакомство, и нашептывал ей что-то на ее родном языке, но вдруг перегнулся через весь стол и прокричал по-английски:
— Ошибаетесь, сэр. Разве вы не узнали галстук старой доброй Королевской артиллерии?
Я подскочил на сиденье.
— В самом деле?
— Точно. Я уроженец Хова. Конечно, с тех пор я поездил-таки по свету. А вы из каких краев?
Оба мы чувствовали себя немного глупо; Сара дрожала от еле сдерживаемого смеха. Но тем дело не кончилось: из-за соседнего столика поднялся какой-то человек — типичный ”голубой берет”, солдат-фронтовик Первой Мировой войны — и сделал залихватский жест английского офицера. Он вставил в глаз пятифранковую монету на манер монокля и выдал несколько фраз на безукоризненном английском.
Когда он вернулся за свой столик, англичанин за нашим столом встал и начал рыться у себя в карманах. Все затаили дыхание и страшно развеселились, когда в руках у него появился голубой берет, который он тотчас напялил на голову. Потом он изобразил французского сутенера, который норовит подсунуть клиенту собственную бабушку. Это было удивительное представление! Не нужно было знать французский, чтобы понять, но Сара знала язык, и я заметил, что она покраснела. Все вокруг хватались за животики, а второй англичанин подошел и расцеловал ”артиста” в обе щеки.
Около двенадцати я понял, что с Сары достаточно. Мы с трудом протиснулись к выходу, провожаемые громкими прощальными возгласами. На улице было прохладно; я поймал такси, и мы довольно быстро добрались до дому. В нашей спальне Сара продолжала подшучивать над чудаками из кафе, но в ее смехе появились истерические нотки, и когда она легла, то вся дрожала, как от простуды, — хотя дело было, конечно же, не в этом.
Я крепко обнял жену.
— Успокойся, родная. Ты не рассчитываешь свои силы. Постарайся расслабиться. Лежи спокойно, скоро все пройдет, — я не представлял, что нужно говорить и делать, но, наверное, вел себя правильно, потому что она понемногу согрелась и перестала дрожать.
Свободной рукой я выдернул шнур из розетки, и мы долго лежали в темноте, пока ее дыхание не стало ровным и глубоким. Я не видел ее лица; темные волосы облаком разметались по подушке.
Она вдруг сказала:
— Моральное разложение в войсках.
— Чепуха. Это все утреннее происшествие.
— Да. Когда кто-то усиленно вкладывает тебе в голову черные мысли… — она запнулась.
— Продолжай, — попросил я. — Если от них нельзя отвлечься, можно попробовать освободиться другим способом: начать разговаривать.
— О чем?
— О кольце… о Трейси… его смерти… твоей жизни с ним… и кто мог прислать нам этот перстень… о чем угодно — пока не уснешь.
— Так я никогда не усну.
— Не беда. Я не врач, но считаю, что так будет лучше. Мы весь день прятали голову под крыло. Это большая ошибка. Встретим неприятности лицом к лицу. Для начала попробуй ответить на вопрос, почему это так сильно на тебя подействовало.
— Разве не ясно? Скорее всего, это комплекс вины.
— Комплекс вины?
— Ну, я не знаю, как еще определить, — она немного помолчала. — На прошлой неделе ты сказал, что представляешь собой бесценный материал для психоаналитика. Возможно, я тоже. Помнишь, когда мы катались верхом, ты назвал меня неудачницей?
— Я имел в виду, что ты упускаешь возможность счастья. Излюбленный прием записного соблазнителя. Разве ты не знала?
Она не поддержала шутку.
— Тогда я притворилась, будто не поняла намека. Но ты был абсолютно прав; я — форменная неудачница.
— Чепуха. Просто ты старалась быть верной себе и всему, что тебе дорого.
— Нет, Оливер, не чепуха. И я не была верна себе — иначе у меня не было бы такого чувства… все последние годы… чувства пустоты, прозябания, полного фиаско. Как будто ты кому-то что-то должна — и не можешь заставить себя раскошелиться, — она беспокойно пошевелилась. — Болезнь Трейси усугубила это ощущение. Чувствуешь себя такой беспомощной… хочешь что-то построить, но нет фундамента…
— Мне знакомо это чувство.
— Когда принесли этот перстень, я испытала укол совести. Хотя я и не признавалась себе в этом, но смерть Трейси принесла мне облегчение. Не потому, что его больше нет, а потому, что та жизнь кончилась.
— Не знаю, легче ли тебе самой от того, что ты все это говоришь, но мне определенно легче.
— Понимаешь, Оливер… Сейчас мне кажется, что с тех пор, как я себя помню, мне хотелось чего-то такого, чего я не могла найти. Какой-то смысл в жизни. Иногда мне казалось: вот оно! — но это снова оказывалось ошибкой, суррогатом, попыткой бегства от самой себя, притворством, в конечном счете поражением.
— Ты сильно рисковала, становясь моей женой.
— Почему?
— Ну… — я не знал, как получше выразить свою мысль, а именно: что она связала свою жизнь сначала с жертвой послевоенных лет, а затем — с пострадавшим в довоенные годы. В обоих случаях она просчиталась. — Если ты хочешь, чтобы твоя жизнь имела смысл…
— Не только моя. Я думаю о нашей жизни. Неужели это недостижимо?
— Достижимо. Я лишь хочу надеяться…
— На что?
— Что ты больше не станешь мириться с суррогатами в наших отношениях.
Она сказала:
— Когда сегодня утром я увидела кольцо… Знаешь, в старинных мелодрамах часто встречается ”голос из могилы”. Но с какой стати нам бояться?
— Не надо, моя хорошая. Все это позади — окончательно и бесповоротно. Больше ничего не случится.
— Откуда ты знаешь?
— Но что, что еще может произойти?
Она молчала — и слава Богу. Я сам был в плену у иррационального страха. Чтобы избавиться от него, требовалось четко уяснить его природу, признать его обоснованность. А этого я всеми силами стремился избежать.
* * *
Мы вылетели из Парижа в субботу, чтобы в воскресенье спокойно подыскать себе жилье. Я не питал особых иллюзий: мы могли позволить себе весьма умеренную плату, а таких, как мы, были многие тысячи. Но я не мог допустить, чтобы Сара начала новую жизнь в моей зачуханной квартире. К счастью, у меня остались скопленные за два года наградные — я отложил их просто так, без какой-то определенной цели. Сара настаивала, чтобы я воспользовался частью денег, в законном порядке унаследованных ею после смерти мужа, но этого мне было не переварить.
Я также воспротивился тому, чтобы поселиться вместе с ее отцом. Даже при том, что колесо фортуны завертелось с сумасшедшей скоростью, мне понадобится не один месяц, чтобы привыкнуть к роли зятя доктора Дарнли. Так что мы забрали с Понтинг-стрит Трикси и сняли номер в гостинице с тем, чтобы в воскресенье начать охоту за квартирами. Как я и ожидал, это оказалось непростым делом. Нам подвернулись всего одна-две подходящие квартиры, но мы так ни на чем и не остановились и решили на следующей неделе продолжить поиски.
В понедельник я вышел на работу. Майкл находился в отъезде, но его отец встретил меня весьма приветливо. Я подумал: когда у нас будет свой дом, он первым получит приглашение на новоселье.
Я позвонил Генри Дэйну и извинился за то, что пришлось отложить нашу встречу.
— Надеюсь, проблема решилась сама собой?
— К сожалению, нет. И не решится, если я не предприму соответствующие шаги. У меня стойкое ощущение, что только вы можете дать мне дельный совет. Мы не могли бы встретиться на этой неделе?
— Сегодня я весь день в суде. Как насчет завтра? Пообедаем вместе в ”Красном кабане”?
— Отлично. Спасибо.
В приемной послышался голос Майкла. Я ждал, что он заглянет ко мне, но ему, должно быть, не сообщили о моем приезде. Тогда я сам отправился к нему. Он разговаривал по телефону. Я сел на краешек стола и подождал конца разговора.
— С возвращением, старина! Хорошо отдохнули?
Что-то в его голосе заставило меня насторожиться.
— Случилось что-нибудь?
— Нет. Что могло случиться?
— Вот и я спрашиваю.
Он подошел к камину и больше, чем обычно, ссутулил плечи.
— Просто подвернулась пара трудных случаев. Денег хватило?
— Вполне. Что за случаи?
— Да я с ними уже справился. Ничего особенного. Как поживает Сара?
Моя тревога росла. Майклу было в высшей степени несвойственно ходить вокруг да около, тем более со мной — кто мог лучше меня помочь ему решить профессиональные проблемы? Но я пока оставил свои сомнения при себе.
Поскольку он уже договорился пообедать вместе с одним коллегой, я один отправился в столовую. В дальнем конце зала сидел Чарльз Робинсон. Он дружески махнул рукой, однако не подошел ко мне по пути к выходу.
Весь день я пробыл в конторе, входя в курс текущих дел. Понадобилось сделать несколько звонков; один из тех, кому я звонил, довольно бесцеремонно оборвал меня, сославшись на деловую встречу. Наверное, я слишком много ждал — красную ковровую дорожку для возвратившихся из свадебного путешествия молодоженов.
В тот день я так больше и не увиделся с Майклом: ему пришлось уехать из Лондона. Сам я тоже не стал задерживаться и поспешил домой.
Сара ждала в фойе гостиницы. Стоило мне ее увидеть, как все огорчения этого дня отступили на задний план. Она нашла квартиру, или думала, что нашла; мы немедленно отправились туда и сняли ее на три месяца. Жилье оказалось с мебелью, на Галлам-стрит и стоило довольно дорого, но мы прикинули, что, если Сара будет продолжать работать, как-нибудь потянем.
Потом мы навестили ее отца. Каждая встреча с доктором Дарнли все еще была для меня пыткой. В его присутствии мне начинало казаться, что у меня слишком большие руки, мятый воротничок, а ноги на шарнирах, как у клоуна.
На другое утро нам с Майклом понадобилось съездить к ”Ллойдам”. Раньше, когда я смотрел на все глазами новичка, почти марсианина, здание фирмы казалось мне действующим храмом некоей религиозной секты. Громадный стеклянный купол, разрисованные потолки, склоненные головы, приглушенные голоса; на святом месте служитель культа читает молитвы и заносит на скрижали грехи человеческие. А когда раздавался звонок, можно было представить себе, что святой дух снизошел с небес, вызывая всеобщее возбуждение.
Нам нужно было переговорить с мистером Беркли Рекиттом об отчете, представленном мною его фирме перед отъездом. Майкл придавал этому делу большое значение, иначе, как я понял позднее, ни за что не потащил бы меня с собой.
Рекитт был худощавым субъектом с преждевременной сединой и сухим покашливанием. Не могу сказать, что я питал к нему большую симпатию, но его фирма тесно сотрудничала с нашей.
Время от времени он обращался ко мне, задавал вопросы и выслушивал ответы, но ни разу не поднял глаз выше уровня моего галстука. Когда мы вышли, я спросил Майкла:
— Что, черт возьми, случилось?
— Случилось? Понятия не имею. А что такое?
— Судя по его обращению, можно было подумать, будто я — разложившийся труп, обнаруженный его собакой.
Майкл ускорил шаги.
— Наверное, он просто озабочен. Их здорово подкосил пожар в Сингапуре.
— Все мы чем-нибудь озабочены. Но с какой стати вымещать это на мне? — я остановился. — В чем дело, Майкл? Случилось нечто такое, о чем ты не хочешь мне говорить?
Он нахмурился. Я явственно ощущал, что он колеблется.
— Нет, ничего. Нам пора в контору.
— Я хочу знать, что произошло.
— Тебе померещилось.
— Если я не добьюсь от тебя вразумительного ответа, вернусь и спрошу Рекитта.
— Лучше ты не мог придумать. Не делай из мухи слона.
— Мне виднее.
Он все еще сомневался.
— Ты требуешь, чтобы я передал тебе грязный слушок, которому никто не придает значения?
— Некоторые весьма своеобразно это демонстрируют.
Мы снова двинулись по тротуару.
— Не в том дело. Но ты же знаешь мир страхования — сплетни здесь распространяются быстрее, чем в деревне. Люди могут верить или не верить, но это — как если бы вам сказали, что у такого-то — оспа. При встрече поневоле начинаешь выискивать пятнышки. Проходит неделя, другая, и все забывается.
— Какая же у меня болезнь?
Мы перешли через дорогу и нырнули в автобус. Там Майкл продолжил разговор:
— Это из-за пожара в Ловис-Мейноре. Ходят слухи, будто в ту ночь, перед самым пожаром, твой автомобиль видели поблизости.
Глава XIX
— Что ты ответил? — спросила Сара.
— Изобразил оскорбленную невинность. Что мне оставалось?
— Как ты считаешь — что думает сам Майкл?
— Он смущен и раздосадован. Смущен, потому что приходится ломать голову и принимать решения, а раздосадован, потому что возникла ситуация, при которой каждый может показать пальцем на его фирму.
— По-твоему, он еще не решил, верить тебе или нет?
— Да он верит. Не в его натуре легко поддаваться подозрениям. Но я действительно странно вел себя в истории с исковым заявлением.
— И что теперь будет?
— Ничего особенного.
— Не нужно меня щадить. Скажи все, что думаешь.
— Ну, что может быть?.. Если они поверят в мою вину, она все равно останется недоказанной. Конечно, это бросит тень на репутацию…
— А тот человек, который видел тебя садящимся в машину? Он не мог запомнить номер? Как ты думаешь, он тебя опознает?
— Вероятно. Но если дело в нем, почему полиция до сих пор бездействует?
Сара встала.
— Ах, как жалко…
— Что жалко?
Она в скорбной задумчивости посмотрела на меня.
— Хорошенькая у тебя со мной супружеская жизнь!
— Я сам виноват, что не захотел ждать. Если бы мы вернули деньги, эта история не имела бы скверного запашка.
— Ты опять отложил встречу с Генри Дэйном? Под каким предлогом?
— Сказал, что меня срочно посылают за город. Просто не знаю, как с ним быть. Эти деньги камнем тянут нас ко дну. Может, отдать их какому-нибудь приюту для бездомных собак? Начни мы переговоры с Беркли Рекиттом до появления слухов… Нельзя же теперь пойти и сказать: ”Прошу прощения, мистер Рекитт, мне известно, что вы подозреваете нас в мошенничестве; так позвольте отдать вам эти деньги прежде, чем нас арестуют”.
Сара закурила.
— Не могу взять в толк; откуда вообще пошли эти слухи — пять месяцев спустя?
Я тоже поднялся и, злясь на себя, рассказал ей о стычке с Макдональдом.
— В тот вечер мне показалось, будто он чего-то не договаривает, но был слишком подавлен — подозревал тебя в соучастии, — чтобы придать этому значение.
— Но что могло вызвать у него подозрения? Только то, что ты интересовался суммой страховки?
— Трудно сказать. В свое время я дал ему повод для личной обиды; возможно, это его грызло. И вдруг — моя скоропалительная женитьба…
— Однако…
— Я могу ошибаться, полагая, будто слухи исходят от него. Но от кого же еще? Ведь стоит только возникнуть подозрению… Возможно, он считает, что я не только подпалил ваш дом, но и сделал тебя вдовой.
Сара стояла ко мне спиной, я мог видеть лишь ее руку, державшую сигарету. Она молчала.
— Что меня действительно тревожит, это слух насчет автомобиля — откуда он пошел и каковы доказательства? Пока меня не припрут к стенке, ни за что не стану колоться.
— Не надо, Оливер. Это скверная шутка.
Я обнял жену.
— Прости. Сотрем эту запись.
— Ты ведь шутил?
— Ну, конечно. Даже Макдональд…
Сара посмотрела на меня в упор.
— Но коль скоро подозрение возникло…
— Пока это только слухи. Бог знает, так ли они безобидны, как кажется Майклу. Поверит ли им мир страхования? Это — единственное, что имеет значение.
* * *
Утром я сказал Майклу:
— Я все время ломаю голову над твоими вчерашними словами. Майкл, я должен услышать эту историю из первых уст.
— Ты знаешь мое мнение, — он начал грызть карандаш. — Будь выше этого, продолжай работать как ни в чем не бывало. Я уже жалею, что рассказал тебе. Тысячу и один раз проклинаю вчерашнюю поездку к Рекитту — иначе ты ничего бы не заметил.
— Заметил бы. Я сразу почувствовал перемену в отношении многих людей… даже твоем.
Майкл встревожился.
— Неужели? Но ты, конечно, понимаешь мои чувства. Дело не в том, что я хотя бы на йоту верю в этот вздор, а в том, что он вообще откуда-то взялся. Ты же знаешь нашу работу. За нами не стоит какой-то крупный капитал. Незапятнанная репутация — вот все, на чем мы держимся. Жена Цезаря должна быть вне подозрений, иначе не заметишь, как окажешься за бортом.
— Ты думаешь?..
— Нет. Я не думаю. Я верю, что это само собой сойдет на нет. Единственное, что сейчас от тебя требуется, это не мозолить людям глаза. А если все же кто-то подвернется, вести себя так, словно ничего не случилось. Особенно с Рекиттом, потому что именно его фирма… Подавляющее большинство, если до них что-то и дойдет, скажут: ”Как — Бранвелл? Да это честнейший парень!” Рекитт и сам убедится в твоей порядочности, когда остынет и даст себе труд задуматься.
— Твой отец в курсе?
— Не думаю. Я, во всяком случае, ему не говорил.
— И не нужно. Сколько сможешь, храни это в тайне. Не хотелось бы причинять ему напрасное беспокойство.
— Сделаю все от меня зависящее.
Откровенно говоря, дело было не только в напрасном беспокойстве. Прежде всего, мне хотелось избежать необходимости лгать старику, которого я безмерно уважал. В таких случаях чувствуешь себя мерзавцем.
Мне пришлось выехать в Хаммерсмит по делу об ограблении, и я постарался уйти с головой в работу, чтобы отвлечься от мрачных мыслей. Очень скоро у меня возникло подозрение, что меховщик по фамилии Колланди запросил в качестве компенсации за украденные меха непомерно крупную сумму. Я занимался этим целый день. Мои подозрения усилились, когда он сначала сказал о бухгалтерских книгах, что они тоже пропали, а потом нехотя заявил, что они у бухгалтера.
Вернувшись в свой офис, я набросал предварительный отчет и навел справки о прошлом и репутации Колланди. При этом в голове у меня мелькали нелепые мысли: ”Жулик ловит жулика”…
На следующий день бухгалтерские книги мне так и не представили, а Колланди нанял адвоката по фамилии Абель. Этот последний принадлежал к несимпатичному для меня типу — острый, как иголка, и такой же твердый. Но я уже знал, что репутация его клиента весьма и весьма подмочена, и заявил, что без бухгалтерских книг не могу продолжать работу. Посыпались предупреждения и угрозы, но для меня они были как о стенку горох. Я ушел, не уступив им ни пяди. В данном случае страховщиком выступала фирма Беркли Рекитта. Я не был уверен, сможет ли Рекитт переступить через неприязнь ко мне и признать, что я не собираюсь за здорово живешь отдавать его деньги.
В тот вечер я поздно вернулся в отель. Сара не встретила меня, как обычно, в фойе. Это был ее рабочий день — она по-прежнему работала в фирме ”Делахей”, — и я предположил, что она еще не пришла, однако она оказалась в номере.
Я вошел, и ее лицо осветилось изнутри. Возможно, так она встречала всех симпатичных ей людей, но для меня это были лучшие минуты.
Однако в этот день явно произошло что-то неладное. Я понял это сразу, как только поцеловал ее.
— Ты сегодня поздно, — заметила она. — Есть новости?
— Слава Богу, нет. Почти не видел Майкла, а все остальные вели себя как обычно. Привет, старушка! — я наклонился погладить Трикси. — Ну, как она, привыкает?
— С трудом. Она выросла в деревне, город — не ее стихия. То же самое было на Понтинг-стрит: только и радости, что обежать вокруг дома.
— Скажи… она твоя собака или Трейси?
— Моя. Он подарил мне ее на день рождения. Но вообще-то она всегда отдавала ему предпочтение.
Говоря это, Сара подошла к буфету и достала пару бутылок. Я внимательно наблюдал за ее действиями.
— Кажется, тебя беспокоит не одна Трикси?
Сара обернулась и устремила на меня испытующий взгляд.
— Я такая бездарная актриса?
— Увы.
— От тебя ничего не утаишь, верно?
— Почти что так.
— Почти что так… — она перевела взгляд на бутылки. — Что ты предпочитаешь: джин с вермутом или вермут с джином? Можно изобразить любые пропорции. Тебе не кажется, что нам самое время напиться? Похмелье от вина все же лучше похмелья от неудачного брака. По крайней мере, пьяный ты не будешь жалеть, что не взял в жены какую-нибудь порядочную девушку без темного прошлого.
Я взял у нее бокал.
— Ты знаешь ответы на все эти вопросы — зачем спрашиваешь? Никогда больше не городи подобную чушь.
— Я приехала в пять часов — так удобно жить недалеко от работы! В холле меня дожидался какой-то человек. Он представился поверенным, мистером Джеромом. Сказал, что у него ко мне приватное дело. Я заказала чай, и мы посидели в кафе, в окружении старых дам, мило беседуя на темы шантажа.
Она сорвала с бутылки вермута этикетку и скатала в шарик.
— Мистер Джером уведомил меня, что представляет клиента, чьего имени он не может назвать. Его клиента интересует судьба неких денежных сумм, доставшихся мне в результате пожара, при котором погиб мой несчастный муж. Мистер Джером сказал, что, хотя пожар отнесли на счет несчастного случая, в узком кругу осведомленных лиц эта версия не выдерживает критики. Сорок тысяч фунтов — весьма приличная сумма, и, конечно, его клиент понимает, что я предпочла бы владеть ею единолично, однако это невозможно. Даже двадцать…
— Оставь этот тон, — попросил я. — Он тебе не идет. Скажи просто, чего они хотят и что ты ответила.
— Он хочет за молчание двадцать тысяч, причем произнес это как ни в чем не бывало: поигрывая очками и помешивая чай. Все равно что посоветовал вкладывать капитал в производство шерсти. А неподалеку какая-то старушка жаловалась, что ей подали подгорелый тост. Он отказался что-либо съесть, так как страдает диабетом. Сказал, что располагает доказательствами моей нечестности и что, если их передать полиции, мне грозит тюремное заключение. Что Трейси в течение трех лет подготавливал поджог и его клиент может это доказать так же, как и мое соучастие. Он также высказал предположение, что этот отель — фешенебельный и весьма дорогой. Его клиент не хочет вести со мной слишком жесткую игру и, если мы поделим деньги поровну, мне обеспечен душевный покой. Мистер Джером говорил полчаса подряд, а в конце поблагодарил меня за чай…
— Что ты ответила?
— Что не имею понятия, о чем он говорит. Не верю ни одному его слову. В любом случае мне нужно подумать.
— Умница. А он?
— Я предложила ему прийти в следующее воскресенье к нам на квартиру, но он не захотел. Сказал, что готов встретиться здесь же, в отеле, сегодня вечером.
Я пил и раздумывал над ее словами.
— Обо мне он не упоминал?
— Нет.
— Требовал, чтобы мы заплатили или ты?
— Скорее, я.
— И ты чувствуешь себя преступницей?
— Да.
— Это естественно. Стоит определенному числу людей высказать предположение, и ты начинаешь чувствовать себя так, словно у тебя рыльце в пушку. Если бы не я, ты бы немедленно послала коридорного за полисменом.
— Я чуть так и не поступила. Но из-за того слуха, о котором ты узнал во вторник, подумала, что не должна ничего предпринимать, пока не посоветуюсь с тобой.
— Когда он собирался прийти во второй раз?
— Около девяти.
— Ты можешь что-нибудь съесть?
— Не думаю.
— Все-таки попытайся. Может, все не так уж и страшно. По крайней мере, с этим можно попробовать сразиться. Возможно, скоро у нас будет ответ на многие вопросы.
Мы поковыряли мясо в кафе и в половине девятого вернулись к себе в номер. Сара сказала, что мистер Джером изъявил вполне определенное желание встретиться в холле. Поэтому я отпустил ее вниз, а через несколько минут и сам последовал за ней. Устроился в противоположном углу и сделал вид, будто читаю ”Кантри Лайф”. Только бы не спугнуть шантажиста!
Сначала холл был пуст, но к девяти часам заполнился людьми, так что мне приходилось изрядно вертеть головой, высматривая аккуратную сарину головку с темными вьющимися волосами среди множества других, похожих на брюссельскую капусту. Наверное, англичане не уродливее и не эксцентричнее других, но в холле общественного здания думаешь иначе.
Было уже четверть десятого. Всякий раз, как начинала вращаться входная дверь, я говорил себе: это он! Вопреки описанию Сары, я представлял его по-своему: обходительный, близорукий брюнет с брюшком. В половине десятого Сара подошла ко мне — измученная и белее мела.
— Ему что-то помешало. А может, заметил тебя и заподозрил ловушку.
— Возможно, он просто не отличается пунктуальностью. Дай ему еще пятнадцать минут.
— Оставайся здесь, Оливер, а я справлюсь у портье и обойду отель.
Я согласился. ”Кантри Лайф” пестрела объявлениями о продаже крупных усадеб, таких как Ловис-Мейнор. Я отложил газету и достал из кармана перстень Трейси, который постоянно носил с собой и не показывал Саре. Интересно, велик ли штраф, если я спущу мистера Джерома с лестницы? И что я стану делать, лишившись своей должности страхового эксперта? Если эта история отразится на Майкле и его отце, я, как порядочный человек, буду обязан подать в отставку. Теперь, когда Сара стала моей женой, перспектива начать новую жизнь, например, в Новой Зеландии показалась весьма заманчивой. Правда, я еще не знал, как к этому отнесется Сара.
Навстречу мне через холл шел мальчик-коридорный в сопровождении человека в забрызганном грязью макинтоше.
— Мистер Бранвелл? Джентльмен хочет с вами поговорить.
Это был рослый мужчина с худым некрасивым лицом и выступающими зубами. После ухода мальчика он осклабился.
— Мистер Оливер Бранвелл?
— Да, — я поднялся на ноги. — А вы — мистер Джером?
Он озадаченно сдвинул брови.
— Нет, сэр. Боюсь, что нет. Моя фамилия Барнс. Детектив Барнс. Мы можем где-нибудь поговорить спокойно?
Глава XX
Встретившись с Сарой на лестнице и представляя ей Барнса, я опасался, что она чем-нибудь выдаст себя. Но и находясь под сильным напряжением, она сумела сохранить внешнее спокойствие.
— Это связано с твоей работой?
— Да. Мы пойдем потолкуем — минут десять. Ты останешься здесь, в холле?
— Да. Я тебе не нужна?
Я бросил вопросительный взгляд на Барнса. Он покачал головой.
— Нет, дорогая. Я не задержусь.
Я ввел гостя в номер и подвинул стул.
— Снимайте плащ, если жарко. Что будете пить?
— Благодарю, но я при исполнении, — он повесил макинтош на спинку стула.
Я протянул ему портсигар.
— Ах вот как? Ну, и что же я натворил? Ездил с заляпанными грязью номерами?
— Спасибо… Нет-нет, ничего подобного. Мы вас ни в чем не обвиняем. Чистая формальность. Простая проверка. Старый, запущенный случай. Открылись новые обстоятельства, вот я и хожу, задаю людям вопросы, — он достал зажигалку и дал мне прикурить. — Возможно, вы сумеете нам помочь.
— Все, что в моих силах.
Барнс тоже закурил и огляделся в поисках пепельницы.
— Речь идет о пожаре в Ловис-Мейноре, когда погиб мистер Мортон. Кое-какие подробности давно вызывали у нас сомнения, вот мы и подумали… Кажется, вы были другом семьи Мортонов, бывали у них в гостях и все такое прочее… хорошо их знали… если судить по тому обстоятельству…
— Что я женился на его вдове.
Он обнажил большие, желтые зубы в улыбке.
— Я не собирался этого говорить, но… Благодарю вас, — он стряхнул с сигареты пепел. — Когда вы познакомились с мистером Мортоном?
— Около двух лет назад. Как раз в этом месяце исполняется два года. У них случился пожар — в его кабинете в Ловис-Мейноре, — но огонь успели погасить прежде, чем он причинил серьезный ущерб. Мне поручили определить размер этого ущерба.
— Понимаю. И тогда же вы познакомились с миссис Мортон?
Я заколебался, и это не ускользнуло от его внимания.
— Нет. Мы встречались еще до войны — всего на несколько минут. Мы забыли и думать друг о друге.
— Это было у кого-нибудь из знакомых — я имею в виду ту, первую встречу?
— Нет, на шоссе. У нее спустило колесо, и я помог заменить его.
Детектив вытащил записную книжку.
— А потом — вы потеряли друг друга из виду, или переписывались, или?..
— Потеряли друг друга из виду. Я забыл о ее существовании, и она — о моем. Она даже не знала моего имени. Но вы, кажется, интересовались пожаром?
Он виновато улыбнулся.
— Прошу простить. Во мне заговорила старая ищейка. Но, возможно, это объясняет тот факт, что вы стали другом мистера Мортона, вместо того чтобы просто приезжать по делу?
— Здесь сыграло роль совсем другое обстоятельство. Выяснилось, что Мортон, как и я, принимал участие в ”Войне в пустыне”. Слово за слово, и он пригласил меня к обеду.
Детектив Барнс сделал пометку.
— Нынешние авторучки ни к черту не годятся. Невозможно найти что-нибудь путное. А к шариковым я никак не могу привыкнуть… После того как вы подружились, он когда-либо обсуждал с вами вопросы страхования дома, мистер Бранвелл?
— Никогда, — тут я вспомнил, что воспользовался этим предлогом в разговоре с Макдональдом. — Нет, кажется, был один случай. Я предложил ему привести страховую сумму в соответствие с нынешними ценами.
— Вы знали, что дом застрахован?
— Конечно. Эти сведения значились в справке, составленной в связи с первым пожаром.
— Понятно. Когда вы в последний раз видели мистера Мортона живым?
— За неделю до его гибели.
— У него дома?
— Да.
— Он вас пригласил?
Я почувствовал страшную усталость.
— Существовала давняя договоренность вместе сходить на балет. Случилось так, что он не смог и поехала только его жена. Потом я отвез ее домой, и он предложил мне зайти и немного выпить.
— Мистер Мортон выглядел счастливым?
— Я бы не стал употреблять это слово. Он всегда чувствовал недомогание — из-за астмы. Это действовало ему на нервы. Если на то пошло, в тот вечер он был более оживленным, чем обычно.
— О чем шел разговор?
— Главным образом о предстоящем ремонте. Это имеет значение?
— Иногда какая-нибудь мелочь… сущий пустяк… Скажите, мистер Бранвелл, мистер Мортон когда-либо при вас падал в обморок?
— Нет, ни разу.
— Или был близок к этому?
— Никогда. Лучше спросите об этом его врача.
Барнс положил ручку и закурил. Он отнюдь не выглядел обескураженным.
— Вы, конечно, помните ночь пожара? Шестого мая. Не могли бы вы сообщить, что делали в тот вечер? Находились в Лондоне или?..
— Я прекрасно помню, что залез на стул в собственной квартире, поскользнулся и растянул сухожилие. Потом мне пришлось два дня проваляться в постели.
— В котором часу это случилось?
— Около семи.
— Обращались за медицинской помощью?
”Осторожно — опасность!”
— Нет, решил, что не стоит. К среде все уже прошло.
— Тогда-то вы впервые и услышали о пожаре?
— Мой партнер, мистер Аберкромби, позвонил мне утром в воскресенье, попросил туда съездить. Я объяснил, что не могу, и ему пришлось ехать самому.
— Вы позвонили миссис Мортон или как-то иначе связались с ней?
— Нет.
Он молчал, но во взгляде угадывался вопрос.
— От меня тогда было мало проку. Мистер Аберкромби мог оказать всю необходимую помощь.
— Когда вы в следующий раз — впервые после этого прискорбного события — увиделись с миссис Мортон?
— Я присутствовал на дознании. Послушайте, неужели это вам что-нибудь дает? Мне нелегко об этом говорить. Нельзя ли поскорее перейти к делу?
Он в последний раз виновато улыбнулся и стряхнул пепел с сигареты.
— Не всегда бывает просто определить, что относится к делу, а что нет. Приходится по крупицам собирать факты, а затем скрупулезно исследовать у себя в кабинете. Вы же сами в каком-то смысле детектив от страхования, — он осклабился, обнажив зубы. Я не улыбнулся в ответ. — Но если это вам поможет, скажу, что кое-какие подробности гибели мистера Мортона вызывают у нас недоумение. Вы хорошо помните медицинское заключение?
— Весьма смутно.
— Патологоанатом утверждает, что в крови мистера Мортона оказалось всего около одного процента окиси углерода. Помните? Это примерно соответствует концентрации, которая обычно имеет место у любого курильщика — табака или лечебных трав. Далее. Предполагается, что Мортон успел позвонить в пожарную часть. Офицер-пожарный заявил, что они прибыли на место происшествия максимум через двенадцать минут. Можете припомнить, где у Мортонов стоял телефон?
— Кажется, да.
— В маленькой гардеробной между кухонным блоком и кладовкой с дверью, обитой зеленым сукном. Один-единственный аппарат, без отводной трубки. Мы все тщательно проверили. Допустим, мистер Мортон находился в одной из спален, быстро вышел оттуда, понял, что в доме пожар, и, спрыгнув с галереи, нашел свою смерть. Но как он мог сначала позвонить из задымленной комнаты, потом взбежать на галерею и так далее… а содержимое угарного газа в крови составило всего один процент?
Мы немного помолчали. Затем я поинтересовался:
— Что же из этого следует?
— Очевидно, в доме был кто-то еще. Он-то и вызвал пожарных — возможно, затем, чтобы запутать следствие и представить дело так, будто Мортон был еще жив.
Я встал и подошел к окну.
— Можно предполагать все что угодно. Огонь — вещь капризная и непредсказуемая. Я бы поостерегся делать поспешные выводы.
— Да, конечно. И все-таки это дает пищу для размышлений. Это — и еще некоторые обстоятельства, — он тоже встал. — Ну что ж, мистер Бранвелл, спасибо за помощь. Пожалуй, пойду. Вы никуда не собираетесь уезжать?
— В субботу мы с женой переезжаем в только что снятую квартиру. Сообщить вам адрес?
— Полагаю, в отеле его будут знать, не правда ли? Да, кстати. Какая у вас марка автомобиля?
— Серый ”уолсли”.
— Новая модель?
— Ну что вы. Ему уже три года.
— И хорошо работает?
— Превосходно.
Барнс кивнул и удалился. Я проводил его взглядом, а потом пошел к Саре.
Мистер Джером так и не появился.
* * *
Любить Сару было все равно что в изумлении стоять перед ларцом с драгоценностями и постоянно ожидать, что чья-то злая рука вот-вот захлопнет крышку.
Положим, я не убивал Трейси, она знает это и целиком на моей стороне; положим, я не поджигал особняк, чтобы уничтожить следы преступления, но, нравится мне это или нет, когда имеешь дело с законом, важнее не то, что произошло на самом деле, а то, что думает достаточно большое число людей.
В самые трудные минуты мы оба апеллировали к рассудку. Но доводы рассудка — еще не все. Если вы постоянно ощущаете, что за вами следят, подозревают вас в чудовищном преступлении и даже располагают неопровержимыми уликами, а вы сами не владеете информацией в полном объеме и потому не можете предугадать их следующие шаги, — это ощущение забирается вам под кожу, отравляет любую радость и превращает вас в психа.
При всем том в моем браке, существовавшем как бы отдельно от всех этих событий, я мог усмотреть всего один изъян, а именно, что, несмотря на всю любовь и преданность Сары, мне никак не удавалось избавиться от чувства неуверенности — словно она вот-вот оставит меня одного.
Хуже всего было то, что мне начало казаться: я и впрямь мог бы убить Трейси, если бы это помогло очарованию длиться вечно.
* * *
В пятницу я схлестнулся с Макдональдом.
Хаммерсмитское дело о мехах так и не продвинулось. Абель, представлявший интересы Колланди, неожиданно решил повлиять на ход событий, подав маклеру жалобу: мол, я создаю на пути искового заявления неоправданные помехи. Маклером оказался не кто иной, как Макдональд, а он передал жалобу Беркли Рекитту. Пока я ездил по другому делу, Рекитт позвонил Майклу, хотя прекрасно знал, что не он, а я занимаюсь этим случаем. Узнав об этом, я пришел в бешенство, но подумал, что имело бы смысл после обеда встретиться с Макдональдом. Естественно, маклер должен блюсти интересы клиента, а моя прямая обязанность — объяснить ему свои действия. Конечно, предстоящая встреча с Макдональдом не могла не рождать в моей душе самые скверные предчувствия.
В ресторане я снова встретился с Чарльзом Робинсоном. Мы предусмотрительно избегали касаться каких-либо служебных тем, ограничиваясь в разговоре автомобильными и мотоциклетными гонками. После обеда я зашел в мужской туалет и увидел Макдональда, старательно вытирающего руки о полотенце. Он был в одной рубашке, а пиджак повесил на крючок.
При виде меня его дряблое, морщинистое лицо приняло упрямое выражение, он сухо ответил на мой поклон и продолжал возиться с полотенцем. Мы были втроем: он, я и только что вошедший Чарльз Робинсон. Я решил, раз уж представилась такая возможность, договориться о встрече лично, а не по телефону.
Возможно, мой голос звучал не столь дружелюбно, как хотелось бы. Макдональд продолжал педантично вытирать у себя между пальцами.
— Это еще зачем? — уронил он.
Не успел я ответить, как он отвернулся к умывальнику и, вынув расческу, начал причесываться.
— По поводу Колланди. Я еще не готов дать окончательное заключение, но у меня сложилось впечатление, что его претензии безосновательны.
— Насколько мне известно, вы изложили свое мнение в докладной записке. Не вижу смысла в дополнительном обсуждении.
— Я подумал, что смогу более полно объяснить…
Он вгляделся в свое отражение в зеркале.
— Что тут еще объяснять? Факт ограбления не вызывает сомнений?
Его тон действовал мне на нервы.
— Не вызывает. Чего нельзя сказать об объеме похищенного. Я не верю, будто у него вообще когда-либо были колонки соболя.
— Вы считаете Колланди мошенником?
— Да.
— Это всего лишь ваше мнение, не так ли?
— Я изменю его, как только мне покажут счета-фактуры.
— Скорее всего, это не понадобится.
Намек был весьма прозрачен. Макдональд добивался, чтобы Рекитт отстранил меня от ведения дела. Наша встреча с самого начала приняла малоприятный оборот, и с тех пор мы как будто, набирая скорость, катились с обрыва. Чарльз подошел ближе.
— Что это с вами обоими?
Макдональд спрятал расческу.
— Бранвелл страдает от избытка служебного рвения. Успех ударил ему в голову.
— О каком успехе вы говорите?
В туалет вошли еще двое мужчин. Чарльз предостерегающе положил мне руку на плечо.
— Легче, парни, легче.
— Ответ, по-моему, очевиден, — гнул свое Макдональд.
— Хотелось бы услышать.
— Ну… Я имею в виду, что вам посчастливилось жениться на деньгах.
Я ударил его. Совсем потерял контроль над собой и обрушился на него с большей силой, чем следовало бы. Он врезался в одного из вошедших, сделал еще несколько шагов и рухнул на пол, держась рукой за челюсть.
— Чертов идиот! — прошипел Чарльз, хватая меня за руку.
Я немного знал вошедших — Маршалла и Эйнсли. Первый помог Макдональду сесть. Второй, у которого чуть не слетели очки, что-то недовольно пробубнил.
Я стряхнул руку Чарльза и кинулся к Макдональду. Тот беспокойно выпрямился и приготовился защищаться, хотя я всего лишь хотел помочь ему встать. Он не принял от меня помощи и все прикладывал ладонь ко рту: из губы сочилась кровь.
Наконец он произнес:
— Это прекрасно вписывается в общую картину. Можно было ожидать…
— Вы сами напросились. Но я все равно прошу прощения: вы старший по возрасту…
Макдональд встал на колени, а затем поднялся на ноги. Губа распухла, но и только. Он повернулся ко мне спиной, достал платок, а затем начал надевать пиджак. Маршалл бросился на помощь.
Я повернулся и вышел; Чарльз Робинсон — за мной. Наверное, у меня был странный вид, потому что все оглядывались. Я вышел из ресторана и попытался вспомнить, чем собирался заняться после обеда.
— На вашем месте я бы принес письменные извинения, — посоветовал Чарльз. — Понимаю, это обидно для самолюбия, но…
— К чертям извинения. Я уже извинился.
— Зачем вам лишние неприятности — особенно сейчас?
Я посмотрел на Чарльза в упор.
— Вы верите в то, что обо мне говорят?
Он покраснел.
— Если бы верил, меня бы здесь не было.
— Это пошло от Макдональда, верно? Жаль, что он не сломал себе шею.
— Если скандал выйдет наружу, он может причинить вам дополнительный вред. Людям безразлично, кто первым начал. Оба вы — горячие головы. Пойду, посмотрю, что с ним, — пока он не успел наделать глупостей. Постараюсь предотвратить огласку.
Я вспомнил наконец, что собирался сделать, и как раз успел вскочить в автобус до Хаммерсмита.
Глава XXI
На остановке возле Министерства юстиции в автобус вошел Виктор Мортон. В тот день на меня как-то навалилось все сразу, поэтому вначале я только и заметил, что кто-то сел напротив и начал стряхивать влагу с зонтика. И вдруг густой голос произнес:
— Добрый день, Бранвелл.
Я не видел Виктора с самого дознания. В автобусе он казался настоящим великаном, а тусклое освещение придавало его лицу нездоровый оттенок. Я выдавил из себя несколько слов приветствия.
— Кошмарная погода, — пожаловался он. — Я частенько задаюсь вопросом: почему это при первом намеке на дождь такси словно сметает с улиц?
Я пощупал свои волосы — они были мокрыми.
— В самом деле.
— Извините, что не писал, когда вы были в Париже. Ни минуты свободного времени. Мама, кажется, писала?
— Да. Не беспокойтесь. Как она?
Виктор помрачнел.
— Хорошего мало. Такой удар!.. Свадебный подарок за мной — как только выберусь в магазин, — он продолжал вертеть в руках зонтик. — В этом месяце творится что-то ужасное. Конечно, в Королевском комитете работаешь не за так, но если бы я раньше представлял объем работы… Вы нашли квартиру?
Я ответил, преисполненный благодарности за одно то, что он говорил об этом так, словно наш брак был самым нормальным явлением, а не попыткой обобрать покойника или стянуть бриллианты из короны.
После Ватерлоо-Плейс я пересел на его сиденье. Мы продолжили разговор. Я извинился за то, что не присутствовал на похоронах его брата. Казалось, он не придал этому особого значения. Мне очень хотелось поделиться с ним, выложить все как на духу.
— Мне выходить на углу Гайд-Парка, — сказал Виктор. — Сара знает, где я живу. Надеюсь, вы как-нибудь заедете.
— Большое спасибо. С удовольствием.
Он записал наш адрес. Я потер разбитые костяшки пальцев.
— Хочу спросить у вас одну вещь. Вы видели Трейси — он сильно обгорел?
Виктор Мортон пристально посмотрел на меня. Я явственно ощущал, как шевелится его острый, упорядоченный мозг юриста.
— Сильно. А что?
— Как же вы его опознали? Наверное, это представляло определенные трудности?
— Нет, ничего такого. Как опознал? По одежде, обуви, по фигуре… Это не мог быть никто другой. А у вас что, возникли сомнения?
— Вы не заметили — у него на пальце был перстень с печаткой?
Виктор задумался.
— Не знаю. Не уверен. Могу я спросить, зачем вам это понадобилось?
— Вы бы узнали этот перстень?
— Конечно.
— Это он?
Виктор повертел перстень в руках, заглянул внутрь.
— Да. Наверное, он остался у Сары? — он вернул мне перстень с таким видом, будто спешил от него отделаться.
— Ваша остановка. Вы не обидитесь, если я пока оставлю ваш вопрос без ответа?
Наши взгляды встретились.
— Если захотите зайти ко мне на работу, предварительно позвоните секретарю. Или домой после семи.
— Спасибо.
Глядя, как он, слегка косолапя, уходит по тротуару прочь, я вдруг отдал себе отчет в том, что это уже третий человек, которому я задал этот вопрос. И наконец-то получил ответ.
* * *
Мне ничего не оставалось, как только думать о текущих делах. Однако, приехав в Хаммерсмит, я узнал, что события приняли новый оборот. Поступило известие о поимке воров с поличным. Абель торжествовал. Мы вместе поехали на его машине в полицейский участок. Там его ждал неприятный сюрприз: среди украденных вещей оказалось всего несколько дешевых шкурок, компенсация за которые как раз примерно равнялась сумме, на которой я настаивал. Когда я обратил на это его внимание, Абель возмутился и устроил целый спектакль. Мы так и не смогли договориться.
Около пяти я вернулся в отель. Было еще рано, но я решил, что с меня достаточно. После всех передряг сегодняшнего дня я просто не мог заставить себя заехать в офис. До них наверняка уже дошли слухи о моей потасовке с Макдональдом. Подобная информация распространяется со скоростью света.
Я не рассчитывал застать Сару в отеле: она собиралась перевезти кое-какие вещи от отца в нашу новую квартиру. Так и случилось: ключ от номера висел на своем обычном месте. Вопреки всякой логике, я все-таки расстроился: именно сегодня мне, как никогда, не хватало ее присутствия.
Вместе со мной в автоматический лифт вошел какой-то человек. Не успел я нажать кнопку, как он спросил:
— Мистер Бранвелл?
Худощавый, седой, в очках без оправы, он смахивал на отставного кассира.
— Да. Что вам угодно?
— Перекинуться словцом-другим. Не знаю, упоминала ли обо мне ваша жена… Моя фамилия Джером.
Глава XXII
— Вы, кажется, предпочитаете чай без сахара? Жена говорила.
Он показал в улыбке золотой зуб, а рядом — прореху.
— Очень любезно с вашей стороны. Я ношу с собой сахарин, спасибо.
Я помешал свой чай. Сначала Макдональд. Теперь этот. Во мне поднималась волчья злость.
— Вы адвокат, мистер Джером?
— Совершенно верно, — он пошуровал в кармане жилета и вытащил маленькую круглую таблетку.
— Еще служите? Или в отставке?
Таблетка моментально растворилась в чае, осталось только два-три пузырька на поверхности.
— В отставке. Был уволен в марте тридцать седьмого вследствие грубой судебной ошибки.
— Вы хорошо помните даты, но не время деловых встреч.
Он снова осклабился.
— Я никогда не являюсь на них вовремя, мистер Бранвелл, а навещаю моих клиентов, когда мне подсказывает интуиция.
— Вернее, ваших жертв?
— Ну… Разница не так уж и велика. Нет-нет, я не стану ничего есть, благодарю вас. Диабет, знаете ли…
— И что же, вы каждое утро делаете себе укол?
— Да. На мне живого места не осталось, — он застегнул пальто. — Я заметил, что некоторые петли обтрепались. — Ну, а теперь, когда я ответил на все ваши вопросы…
— Не на все. От чьего имени вы выступаете?
В кафетерий заглянул мальчик-коридорный.
— Вызывают мистера Инглторпа. Вызывают мистера Инглторпа.
Толстяк в клетчатом костюме вскочил, точно ужаленный, и бросился вслед за мальчиком.
— Если я скажу вам, кого именно я представляю, — заметил мистер Джером, — моя миссия утратит смысл, так как отпадет необходимость в посредничестве. Но вы можете мне поверить: я располагаю всеми необходимыми полномочиями.
— На шантаж?
Он залпом допил чай и поставил чашку на стол.
— Я давно свыкся с темными сторонами человеческой натуры, мистер Бранвелл. Шантаж, поджог, подлог, убийство… Как к этому ни относись, все это имеет место в жизни и неотвратимо влечет за собой последствия. Что толку осуждать?
— Конечно. Человек просто зарабатывает себе на жизнь.
— Вот именно.
Он подметил, что мой взгляд заметался по сторонам, и настороженно огляделся. Но я всего лишь высматривал Сару. Мой собеседник с неожиданным воодушевлением заявил:
— Я рад, что жена ввела вас в курс дела. Мы прежде всего ставили перед собой задачу помочь ей избегнуть неприятностей — в случае, если бы она предпочла взять вину на себя. Но, разумеется…
— Почему вы решили, что виновная сторона — она, а не я?
— Я получил соответствующие инструкции.
— И откуда вообще взялась уверенность в том, что один из нас совершил нечто предосудительное?
— Глубокоуважаемый сэр…
В кафетерий вошли четыре дамы — весело щебеча о только что виденном фильме, снимая на ходу перчатки, складывая на свободный стул меха и сумки.
— И что же, — перебил я его, — поскольку она со мной поделилась, вы чувствуете себя в полной безопасности и в кругу добрых друзей?
Он неодобрительно поджал губы.
— Мои чувства роли не играют.
— Что же играет роль?
Я также допил свой чай.
— Не знаю, за кого вы нас принимаете, мистер Джером. Вы являетесь сюда с какой-то высосанной из пальца историей, без каких бы то ни было доказательств, что, во-первых, мошенничество имело место, а во-вторых, что мы имеем к нему отношение. И вы хотите, чтобы моя жена выложила вам такую сумму — все равно что пожертвовала гинею на церковные нужды? У вас что, бывали случаи, когда такое сходило вам с рук?
Он снял очки, осталась розовая вмятинка на переносице. И тут же снова надел. Я не спускал с него глаз.
— Мой клиент располагает всеми необходимыми доказательствами. Он в точности знает судьбу каждой из картин и через чьи руки они прошли. Знает, каким образом подготовлялся поджог. Трейси Мортон был обыкновенным аферистом, так же, как и его жена. Сами же вы — в лучшем случае невольный соучастник.
— Пусть ваш клиент сам ко мне обратится. Чаю хватит на всех.
Мистер Джером встал. Он сильно вспотел.
— Во вторник дадите частное объявление в ”Дейли Телеграф”. Всего два слова: ”Согласен. О. Б.”. Деньги нам нужны наличными, но об этом после.
— А если я не заплачу?
— Возникнет крайне щекотливая ситуация. Вы можете позволить себе иметь дело с полицией?
— Почему бы и нет?
— Не стоит меня недооценивать, мистер Бранвелл. Я пожилой человек, но вполне могу постоять за свои интересы.
— А если мы заплатим — как скоро ждать повторного визита?
— Мы люди не жадные. В любом случае, не вам ставить условия. Но, разумеется, я бы счел дело законченным.
— Неужели?
— Уверяю вас.
И он удалился, ступая чуть ли не на цыпочках, словно от этого зависела его жизнь. Брюки с обтрепавшимися отворотами были ему длинноваты. Подождав, когда за ним закроется дверь, я встал и последовал за ним.
Смеркалось, но на улицах было полно народу. Шантажист быстрым шагом шел по Дэвис-стрит по направлению к Пиккадилли, а там свернул к Пассажу. В конце концов он достиг Трафальгарской площади.
Мне еще в жизни не приходилось никого выслеживать. Не знаю, когда именно он обнаружил ”хвост”, да это и неважно. У меня создалось впечатление, что мистер Джером держит курс на станцию Чаринг-Кросс, однако он передумал и направился к Уайтхоллу. Хорошо, хоть не взял такси.
Возле Уайтхолла он купил вечернюю газету и пошел по Вестминстерскому мосту. Снова начал накрапывать дождь; он остановился и раскрыл зонтик. Я замедлил шаги, но не рискнул остановиться, потому что боялся в темноте потерять его.
Сойдя с моста, он свернул направо. Он шел довольно быстро для своего возраста. Уж не знаю, действительно ли он куда-нибудь направлялся или пытался стряхнуть меня с ”хвоста”.
Улицы здесь были победнее. Дождь усилился; у меня намокли волосы. Мистер Джером снова остановился, пропуская поезд; расстояние между нами сократилось.
Мы вышли на пустырь, где не было ничего, кроме булыжника, сорной травы да временных заборов, за которыми фабричным способом возводились блочные дома. Я догнал его и схватил за руку.
— Не очень-то подходящее для вас место, а, мистер Джером?
Он попытался вырваться.
— Какого черта вы меня преследуете?
Его лицо побагровело, очки угрожали вот-вот свалиться.
— На кого вы работаете?
К счастью, шел дождь, и я услышал у себя за спиной шарканье галош. Реакция не подвела: я повернулся как раз вовремя, чтобы предотвратить удар дубинкой по голове. Я резко выбросил кулак и заехал этому человеку в лицо. Сроду не наносил никому удар такой мощи. Мой неизвестный противник мигом испарился. Я повернулся и бросился догонять Джерома.
Я настиг его под фонарем. Теперь мне уже было все равно, есть ли поблизости его сообщники. Один удар — и он рухнул на колени. Я сграбастал его за шиворот и поволок подальше от фонаря, к какой-то стене.
— Говори — кто тебя послал?
— Ради Бога, — пролепетал он. — Мое сердце… диабет…
— Выкладывай!
— Я задыхаюсь!
— Имя!
Он вдруг обмяк; лицо посерело и стало одного цвета со стеной. Не слишком ли далеко я зашел? Если он мертв, мне ничего не остается, как уносить ноги.
Невдалеке послышался полицейский свисток. В тот же миг Джером пошевелился. Я снова схватил его — на этот раз за горло. У него начали закатываться глаза.
— Имя!
Под дальним фонарем собралось несколько человек вокруг полицейского. Мистер Джером пробормотал, как в бреду:
— Нет, милорд. Никаких улик. Если мы отложим заседание на неопределенный срок…
Потом его взгляд снова стал осмысленным.
— Богом клянусь, — прошипел я, — если ты не назовешь мне его имя, я убью тебя раньше, чем ты успеешь позвать на помощь, — я крепче сдавил ему горло. Он прохрипел что-то похожее на ”Тише”.
— Что?
— Фиш…
— Имя!
— Я же и говорю… Фиш… Фишер…
— Клайв Фишер?
Он кивнул. Я сразу же отпустил его. В это самое мгновение меня заметил полисмен, и я бросился бежать, лавируя между кучами мусора и грудами камней, перепрыгивая через них, мчась вдоль забора. За мной неслись полицейские свистки. Из какого-то дома вышел мужчина в одной сорочке. Не успел он вынуть изо рта трубку, как я проскочил мимо.
Был момент, когда я налетел на бельевую веревку, и она меня чуть не задушила. Я петлял огородами, рискуя угодить в капкан, крался вдоль сараев. Передо мной вдруг выросла девятифутовая стена — часть полуразрушенного строения. Я попытался вскарабкаться на нее, но безрезультатно. Тогда я решил обежать ее кругом, подобно крысе, ищущей лазейку. Голоса и топот приближались. Открылась чья-то дверь, и оттуда в глаза ударил сноп света.
Из открытого окна ракетой вылетел терьер и с лаем бросился ко мне, как будто я нанес ему личное оскорбление. Я не стал церемониться; бедному псу пришлось ретироваться, подвывая от боли и обиды. Наконец я нашел место, где стена была не так высока, и, перемахнув через нее, покатился вниз по насыпи. К счастью, перед самыми рельсами мне удалось остановиться.
Когда товарняк прогромыхал мимо, я в мгновение ока пересек рельсы и побежал вдоль набережной.
Мои преследователи потеряли меня из виду. Примерно через пять минут я позволил себе остановиться и перевести дух. Крики слышались теперь довольно далеко. Я одолел проволочную ограду и уже спокойным шагом двинулся вдоль по улице. Еще через несколько минут такси мчало меня по направлению к отелю.
Глава XXIII
Я так долго вел упорядоченный образ жизни, что сегодняшний день стал серьезнейшим испытанием. Вернувшись в отель, я с облегчением увидел на стоянке наш автомобиль. Я спросил, где Сара. Мне ответили: ужинает в ресторане отеля. Я немного привел себя в божеский вид, пригладил волосы и отправился туда.
По-видимому, несмотря на все старания, у меня был тот еще вид, потому что метрдотель удивленно вскинул брови, а двое-трое посетителей забыли о хороших манерах. Сара приподнялась на сиденье.
— Оливер, что случилось?
— Ничего, — я с размаху опустился на стул.
— Ты ужасно выглядишь. В чем дело?
Я заказал суп.
— Где живет Клайв Фишер?
— В Кенте, в пяти милях от Ловиса. А что?
— Придется его навестить.
Я ел суп и рассказывал. Единственное, о чем мне не захотелось говорить, это о том, какие вопросы я задал Виктору Мортону. Сара слушала, напрочь забыв о еде.
— Выходит, ты был прав.
— Да. Я всегда подозревал Клайва — ведь он сам художник и был в приятельских отношениях с Трейси. Но ты сбила меня с толку.
— Не потому, что не разделяла твоего мнения.
Я недоуменно воззрился на нее. Сара была страшно расстроена.
— Как бы ты описал Амброзину Фишер?
— Боже! Мне и в голову не пришло!.. Но почему, когда я был близок к разгадке, ты направила меня по ложному следу?
Сара смотрела в сторону.
— В то время нам ничего не угрожало. Мы поженились — только это и было важно. Да, афера имела место, но это было уже позади. На ней никто не нажился, кроме меня, а я собиралась вернуть деньги. Какой смысл, думала я, натравливать вас друг на друга?
— Ты хорошо позаботилась о его душевном покое.
— В первую очередь думая о твоем. Неужели ты этого не понимаешь?
— Вплоть до того, что предоставила мне разбираться с мистером Джеромом по худшему варианту?
— Ты правда так считаешь?
С минуту я молчал.
— Нет. Конечно же, нет.
— Силы небесные, могла ли я предположить, что Клайв стакнулся с шантажистом? Я всегда считала его беспринципным, способным на то, чтобы нечестным путем урвать несколько фунтов, но это… это совсем другое. Не в его характере. Или я не знала его характера.
— А Амброзина?
— Она много лет была влюблена в Трейси. Продажа картин как бы приближала ее к нему, а меня отодвигала в сторону, — Сара повела плечами. — Во всяком случае, я так думала. Теперь уже и не знаю, что думать.
— Сегодня узнаем.
— Что ты хочешь сделать?
— Нанести ему визит.
— И что ты скажешь?
— Нечто, противоречащее правилам хорошего тона. Я еще не научился глазом не моргнув встречаться с подлостью.
— Прошу тебя, родной!..
В это время подошел официант, и мы кое-как закончили ужин.
— Получается, я не только навлекла на тебя неприятности… всю эту грязь… но и подвела… может быть, даже предала тебя?..
— Я не это имел в виду. Просто я дошел до ручки. А сегодняшний день перешел все границы.
— Клянусь, я ни на секунду не связывала Клайва с мистером Джеромом! Даже сейчас у меня не укладывается в голове. Хочется думать, что за ним стоит кто-то другой. Ты мне веришь, правда?
Наши взгляды встретились. Я ответил:
— Да.
— Понимаешь, — Сара осторожно подбирала слова, — у меня такое чувство, что, если бы я предала тебя, ты бы не особенно удивился. Во всяком случае, та твоя часть, о которой мы недавно говорили, не удивилась бы. Вот что для меня самое страшное.
* * *
Сара хорошо знала дорогу и поэтому правила машиной. Я вспомнил тот давний случай, когда я вот так же сидел рядом с ней на пассажирском сиденье. Это воспоминание меня немного успокоило — потому что теперь, среди путаницы и мрака, она все-таки со мной. Мы вместе проделали часть пути. Сбылось то, что я считал совершенно несбыточным. И я злился на себя за то, что в какой-то момент допустил, чтобы тень прошлого нависла над нами в виде неясного подозрения. Это было непростительно.
Мы почти не разговаривали. О чем было говорить до интервью с Клайвом? В половине десятого мы были на месте.
— Жди меня здесь. Я сам с ним потолкую.
— Ох, нет, Оливер. Я с тобой.
Я понял ее чувства и не стал настаивать. Под моросящим дождем мы поднялись на крыльцо. Я стукнул несколько раз дверным молотком.
Сара возилась с перчатками. Где-то в доме хлопнула дверь. Послышались шаги. Наконец дверь открылась и показалась женщина с неприбранными седыми волосами.
— Добрый вечер, миссис Пейн, — поздоровалась Сара. — Мистер Фишер дома?
— Ах, это молодая миссис Мортон! Добрый вечер, мадам. К сожалению, мистер Фишер уехал за границу.
— Когда?
— С неделю назад. Кажется, на Мадейру, но я не уверена. Он не оставил адреса.
Сара вопросительно посмотрела на меня и снова обратилась к женщине.
— А мисс Фишер?
— В Шотландии, мэм, вместе с Макдональдами. С самого августа.
Из дома вышла черная кошка и потерлась о сарины ноги.
— Не может быть, — вмешался я, — чтобы, уезжая, мистер Фишер не сообщил, где его искать.
Миссис Пейн неодобрительно поглядела на меня.
— Мистер Фишер поступает так, как считает нужным. Я всего лишь экономка и не могу ему указывать.
— Куда вы пересылаете его почту?
— Она скапливается здесь. К сожалению, ничем не могу вам помочь.
Она собиралась уйти, но я выпалил:
— Мне известно, что он в Англии.
— Мало ли что вам известно или не известно. Меня это не касается. Я только передаю то, что сказано мне самой.
— Позвольте нам войти.
— Ну, знаете… Вот еще! Миссис Мортон, я ни за что не ожидала…
Но мы уже ворвались в дом.
— Его студия в дальней комнате вверх по лестнице.
Сзади шипела миссис Пейн:
— Сроду меня так не оскорбляли. Если вы немедленно не покинете этот дом, я позвоню в полицию.
На латунном подносе лежала стопочка писем — в основном счетов. Судя по датам на штемпеле, они поступили в последние десять дней.
Экономка подскочила ко мне.
— Сейчас же убирайтесь отсюда! Слышите? Убирайтесь!
Я посмотрел поверх ее головы на Сару.
— Мы не могли бы ее куда-нибудь запереть?
— В кладовку. Там нет наружных окон.
— Только попробуйте дотронуться до меня хотя бы пальцем, и я закричу!
— Открывай, — сказал я Саре.
Едва я коснулся руки женщины, она с размаху ударила меня по щеке и издала самый пронзительный крик, какой я когда-либо слышал. В этом вопле не было ничего человеческого. Тем не менее мне все же удалось затолкать ее в кладовку. Сара заперла дверь снаружи.
— Молодец, — похвалил я.
— Больше я не подведу тебя, Оливер.
— Запомни: ты никогда меня не подводила. Ни разу.
Я поцеловал Сару; она не улыбнулась.
Студия оказалась просторной пристройкой со стеклянной крышей и двумя египетскими фресками на стенах. У человечков были локти, острые, как пирамиды. На подрамнике ждала мастера недавно начатая картина: на ней еще ничего нельзя было разобрать. Несколько полотен сгрудились в углу. Еще здесь было несколько металлических стульев, круглый стол и бронзовая скульптура. Я провел пальцем по столу — на пальце осталась пыль.
Я спросил Сару:
— Ее кто-нибудь услышит? Можно подумать, что здесь режут поросенка.
— Неподалеку есть еще один коттедж. Нам лучше не задерживаться.
Я искал — и не находил ничего такого, что могло бы нам помочь. Конечно, трудно было рассчитывать на какую-нибудь прямую улику. Я стал перебирать стоявшие в углу картины. Потом наткнулся на стопку фотографий — на одной из них была снята небольшая картина Ватто, ранее висевшая в гостиной Ловис-Мейнора. Я на всякий случай сунул ее в карман.
— Смотри, — позвала Сара.
Среди сваленных на стуле книг она обнаружила ”Живопись кубистов”, автор Валентин Роже. Я не понял, при чем тут это, но на титульном листе стояло — ”Вера Литчен”.
Наша пленница временно затихла.
— Где его спальня? — спросил я.
— В конце коридора. Сейчас покажу. Боюсь, что это будет пустой номер.
Я двинулся за Сарой и вдруг увидел нечто в пепельнице на столе. Я метнул взгляд на Сару, но она уже скрылась. Тогда я спрятал это в карман и последовал за ней.
Комната была оклеена желтыми полосатыми обоями; на окнах темно-бордовые шторы. Похоже, что спальней по меньшей мере неделю не пользовались. Этот нежилой вид трудно подделать. На столе лежала чековая книжка; я вяло перелистал корешки. Недавняя находка лишила для меня дальнейшие поиски всякого интереса.
— Он не говорил тебе, что собирается за границу?
— Нет. Но так уже бывало; когда у него кончались деньги, он бросал дом и уезжал подальше от кредиторов.
Экономка принялась за старое.
— Поедем домой, — предложил я Саре. — Не хочу новых столкновений с полицией.
— Ты же не оставишь ее взаперти?
— Нет, конечно. Иди, заводи мотор. Как только он заведется, я отопру кладовку и присоединюсь к тебе.
— Хорошо.
Миссис Пейн смолкла так же внезапно, как начала кричать. Я стоял в холле; кругом царила мертвая тишина. У меня мелькнула мысль: может, спросить ее о находке? Но вряд ли я добился бы толку. Эта женщина способна только кричать на меня, и ничего больше. Слава Богу, с улицы донесся рокот двигателя, и я мог покинуть этот дом.
Меня мутило; нечаянная находка не давала расслабиться. То был окурок противоастматической сигареты.
Глава XXIV
Выходные прошли, как в тумане. Я чувствовал себя так, словно был неизлечимо болен. Сара прилагала усилия, чтобы вывести меня из этого состояния, но ведь она приписывала его только стычке с Макдональдом, визиту детектива Барнса да тому обстоятельству, что мы так и не нашли Клайва. Все это сыграло свою роль, но главной причиной моих терзаний было совсем другое.
Утром в субботу я не поехал в офис, а помог Саре перевезти вещи из отеля и заехал за своими пожитками на Джордж-стрит. В другое время переезд в нашу собственную квартиру стал бы волнующим событием. Теперь же все делалось кое-как, словно не происходило ничего особенного. Я действовал автоматически, как в дурном сне.
Все, что до сих пор обрушилось на наши с Сарой головы после возвращения из Парижа, проистекало извне, если не считать нескольких минут в пятницу. Над нами нависла угроза, но мы справились с ней, и это нас еще больше сблизило. Однако теперь мы стояли перед лицом опасности иного рода.
Воскресенье ушло на визиты к знакомым Сары, которые могли подсказать, где находится Клайв; однако ничто не указывало на то, что он не уехал на Мадейру. Кто-то заверил нас, что он действительно в последний вторник октября покинул пределы Англии. Разумеется, в первую очередь мы собрались навестить Веру Литчен, однако дом был на замке и окна занавешены. Уж не взял ли он ее с собой? Сара пообещала не сдаваться и продолжать поиски в будни.
В понедельник у Аберкромби царила гнетущая атмосфера, а после обеда Старик вызвал меня к себе.
Он сердечно поздоровался, и для начала мы обсудили дело Колланди. Потом он тщательно откашлялся и сказал:
— Я слышал, будто между вами и Фредом Макдональдом произошло какое-то недоразумение?
— Да. Мы подрались.
— Это весьма прискорбно. Макдональд — один из моих старейших деловых партнеров.
— Мне очень жаль. Он позволил себе оскорбительную реплику в мой адрес, и я потерял контроль над собой.
Старик поднялся и, отойдя к окну, начал протирать очки. Очевидно, не знал, что сказать. Я решил ему помочь:
— Вы слышали, что обо мне говорят?
— Да, кое-что. Естественно, это не может не огорчать… если только за этим не стоит что-то конкретное…
— Я считаю Макдональда ответственным за порочащие меня слухи. Вот почему я вышел из себя.
— У вас есть основания подозревать его?
— Не то чтобы я располагал неопровержимыми доказательствами. Но я вполне уверен.
Зазвонил телефон, и мистеру Аберкромби пришлось на несколько секунд отвлечься от нашего разговора. Положив трубку, он взял со стола карандаш и начал вертеть между пальцами. Я первым нарушил молчание:
— Все выходные я задавал себе вопрос; услышу ли от вас в понедельник предложение уйти в отставку?
Он по-прежнему избегал смотреть в мою сторону.
— Не глупите, Оливер. Нужно видеть вещи такими, как они есть, соблюдая перспективу. Злонамеренные слухи и необдуманная стычка еще не повод для того, чтобы испортить человеку жизнь.
Он произнес это едва ли не скороговоркой, так, словно заранее заготовил контрдоводы — больше для себя, чем для меня.
— Если узнают, что один из совладельцев фирмы подозревается в мошенничестве, — сказал я, — и при этом не находит иных аргументов, кроме рукоприкладства, это отпугнет клиентов.
— Эта история скоро забудется, сама собой сойдет на нет. Завтра я намерен повидаться с Макдональдом, потолковать по-приятельски. Главное — чтобы он отозвал свое обвинение.
— Он выдвинул обвинение?
— Да. Вы еще не виделись с Майклом? Ах, черт, мы говорили о разных вещах. Макдональд подал на вас жалобу в Совет Ассоциации.
В кабинете рядом стучала пишущая машинка.
— На что он жалуется?
— Что вы оскорбили его действием. Как вам, должно быть, известно, существует специальный подкомитет для разбора разного рода нарушений, допущенных членами Ассоциации. Здесь, конечно, особый случай, и Макдональд не мог этого не знать.
— Знать-то он знал, но, раз дело дошло до драки, рассудил, что нужно идти до конца — все грязное белье вытащить на всеобщее обозрение.
— Надеюсь, там нечего вытаскивать, — сухо возразил мистер Аберкромби. — Так или иначе, пока ситуация не вышла из-под контроля, необходимо положить этому конец. Если потребуется, я поговорю с начальником Макдональда.
Я подошел к двери и обернулся.
— Хочу, чтоб вы знали. Я не допущу, чтобы из-за меня пострадала репутация фирмы Аберкромби. Я и только я несу ответственность за все происшедшее.
Старик нахмурился.
— Ладно, Оливер, мне понятны ваши чувства. Но я убежден: вы не сделали ничего такого, что могло бы подорвать престиж нашей профессии. Так что мы еще постоим за вас, хотите вы этого или нет.
— Спасибо, — пробормотал я. Сроду мне не было так стыдно.
* * *
После обеда я так и не смог нормально продолжать работу, а сидел за своим столом и вычерчивал на промокашке квадратики с кубиками. Сломался грифель — я заново отточил карандаш, но он снова сломался, и я отправил его в мусорную корзину. Около пяти я отправился домой и застал там Сару, чрезвычайно встревоженную.
— Что-нибудь узнала?
— Нет. Я ездила в его банк, но они не смогли мне ничего сообщить. Тогда я отправилась в художественный магазин на Грэфтон-стрит, где он время от времени выставляет картины. Там его уже два месяца не видели. Потом я обратилась в лондонское отделение агентства ”Венера” — они организуют экскурсии на пароходе до Мадейры. Его фамилия не значится в списках пассажиров — они проверили все последние рейсы. Завтра попытаю счастья в аэропорту. На обратном пути я опять завернула к Вере Литчен, но ее дом словно вымер, и никто не знает, где она может быть. А теперь еще Трикси как сквозь землю провалилась.
— Трикси? Разве ты не брала ее с собой?
— Нет. Мне хотелось как можно быстрее обернуться.
— Где ты ее оставила?
— Как обычно, дома.
— И заперла дверь на ключ?
— Я была уверена, что да, но по возвращении обнаружила, что дверь не на запоре.
Она смотрела мне прямо в глаза. Я изо всех сил старался не показать свою тревогу.
— Наверное, ты в спешке не заперла дверь и она открылась на сквозняке. Вот Трикси и убежала. Ты спрашивала привратника?
— Да, но он отлучался. Не понимаю, как Трикси могла решиться. Она испытывает ужас перед уличным движением.
— Он не заметил, чтобы сюда кто-то входил?
— Нет.
— Должно быть, она по ошибке забежала в одну из соседних квартир. Или какая-нибудь старушка взяла ее с собой угостить косточкой.
— Привратник обошел весь дом.
Я вдруг почувствовал, что с меня довольно.
— Послушай, Сара, не готовь сегодня ужин на мою долю. Я уезжаю и могу вернуться поздно. Хочу поговорить с Генри Дэйном.
— И все ему рассказать?
— Да. Я больше не в силах бороться в одиночку.
— Ты прав, Оливер.
— Конечно, это рискованно. Если Дэйн нам не поверит, он должен будет обнародовать эту историю. Но она так или иначе выплывет наружу, — я рассказал ей о Макдональде.
— Ах, Оливер… Неужели это никогда не кончится?
— Кончится — так или иначе.
— Может, мне поехать с тобой?
— Я тоже этого хочу — ты не представляешь, до какой степени. Но будет лучше, если я отправлюсь к нему один.
* * *
Мне повезло: Дэйн оказался дома. Он сам открыл дверь и сухо приветствовал меня:
— Здравствуйте, Оливер. Как вы узнали, что я вернулся? Заходите.
— Интуиция. По правде говоря, я и не знал, что вы уезжали.
— Были дела в Шотландии, пришлось на недельку отлучиться. Гвинет и сейчас еще там.
— Вы собирались выйти поужинать?
— Нет. Предпочитаю сварить яйцо и скоротать вечер за книгой. Что будете пить?
Я взглянул на часы.
— Можете уделить мне полчаса?
— Конечно. Целый вечер, если потребуется.
Мы сели.
— Я дважды договаривался с вами о встрече и дважды отменял ее. И вот результат.
— Первая отмена произошла по причине вашей свадьбы. Считаю эту причину уважительной. Ваше здоровье!
Мы оба выпили.
— Проблема как раз и связана с моей женитьбой. Генри, я попал в беду.
Он вгляделся в мое лицо и перестал улыбаться. Видно, события последних дней наложили зловещий отпечаток.
— Велика ли беда?
— Очень. Хоть стреляйся.
— Говорите.
Я все ему рассказал.
На лице Генри Дэйна было невозможно что-либо прочесть. Он слушал, не перебивая, и почти все время стоял — сначала набивал трубку, а затем, облокотившись на камин, попыхивал ею и глядел в пространство. Один раз мне показалось, будто его лицо приняло жесткое выражение, но это, скорее всего, было обусловлено тем, как он сжал в челюстях трубку. Он и курил так же, как делал все остальное: решительно и энергично, так что подчас его лица не было видно за клубами сизого дыма.
Не думаю, что мне удалось наилучшим образом изложить свою историю. Как раз в тех случаях, когда слишком многое поставлено на карту, нужные слова и не идут на ум. Да и как я мог передать другому мужчине свои чувства к Саре — а ведь они-то и лежали в основе всех моих ошибок.
Когда я закончил свой длинный, путаный рассказ, Генри наклонился над пепельницей, выбил трубку и стал заново набивать ее табаком.
— Для начала скажу вам, Оливер: говоря, что ваше положение — хоть стреляйся, вы нисколько не преувеличили.
Я молчал: этот рассказ истощил мои силы.
Генри снова закурил. Наблюдая за игравшими у него на лице отсветами пламени, я вдруг понял, что, в сущности, плохо знал его. Можно было ожидать любой реакции.
— Итак, — сказал он, — у вас всего две возможности. Думаю, вы и сами достаточно поломали над ними голову. Вы, конечно, отдаете себе отчет в том, что, если это выйдет наружу, можете смело переключаться на выращивание овощей на продажу. В мире страхования для вас больше не будет места.
— Я знаю.
— Всем нам свойственно ошибаться. Господи, я и сам допустил немало прискорбных просчетов. Но такое!.. Сначала вы совершаете кражу. Потом умалчиваете о гибели человека и поджоге. За солидный куш покрываете виновных в уголовном преступлении. Далее следует мордобой, то есть наказуемый в судебном порядке проступок. Это было бы смешно, если бы не было так грустно. Во что, вы думаете, превратилась бы наша профессия, если бы все стали поступать, как вы?
— Я ничего не думаю. Просто я неудачник — по всем статьям.
Он неодобрительно взглянул на меня сквозь клубы дыма.
— Мне нужно поговорить с вашей женой — услышать ее версию.
— Что вы мне посоветуете?
— Пойти в полицию и честно все рассказать.
— Я так и боялся, что вы скажете именно это.
— Сейчас не тот случай, чтобы крутить носом: это больше подобает мне, чем вам. Если, занявшись огородничеством, вы обнаружите, что луковицы плохо влияют на вашу половую жизнь, надеюсь, вы своевременно проконсультируетесь и примете совет опытного овощевода.
— Простите, Генри. Мне, право, очень жаль. Но полиция… Возможно, это рудимент моей несчастливой юности, но я даже представить себе не могу, как бы это я вдруг стал откровенничать с полицейскими.
Он начал мерить шагами комнату.
— Понимаете, старина, вот вы поделились со мной своими проблемами, но на данной стадии я уже не в силах вам помочь. Перед вами только два пути, и каждый ведет в полицию. Потеряете ли вы должность страхового эксперта или нет — это не идет ни в какое сравнение со всем остальным. Если Трейси Мортон все-таки жив…
— О, Господи!
— Но ведь вам и самому эта мысль не дает покоя.
— Да… Сам не знаю… Наверное, так оно и есть.
— Если он жив, без полиции не обойтись. А если мертв — и подавно, потому что вас в чем-то подозревают — хотя, по правде говоря, мне трудно понять, как они могли всерьез предположить такую чушь.
— Не знаю, чем располагает полиция.
— По всей вероятности, у них нет убедительных доказательств вашей вины, иначе они действовали бы энергичнее.
— И вы предлагаете мне снабдить их доказательствами?
— Правда никогда не повредит.
— Познакомьте меня с симпатичным, сентиментальным полицейским офицером.
— Я понимаю, это неприятно. Но вы поделились со мной своими трудностями, и, хотя вы мне друг, я не собираюсь убаюкивать вас иллюзиями.
Для разнообразия я тоже походил по комнате. Генри наполнил свой бокал.
— Нет, — сказал я. — Мне самому еще слишком многое неясно. Понимаете, я ведь рискую не только своей шкурой — приходится помнить о Саре. Возможно, ее обвинят в пособничестве или укрывательстве — Бог знает, в чем еще. Вот от чего у меня волосы становятся дыбом.
— И вы полагаете, что поможете ей, пряча голову под крыло?
— Нет. Поэтому и пришел к вам.
— За советом. Но мои советы вам не нравятся.
— Они могут не нравиться, но, возможно, я им последую.
— Выпейте еще на дорожку.
— Нет, спасибо.
— Аберкромби знают?
— Ничего, кроме слухов.
— Которые в радиусе полумили от Лиденхолл-стрит известны всем и каждому.
— Видимо, да.
— Вы им кое-чем обязаны.
— Мне ли этого не знать!
Мы потолковали еще немного. Я по-прежнему не представлял себе его истинных чувств, однако явственно ощущал, как его острый ум напряженно бьется над загадкой.
На прощание Дэйн спросил:
— Когда я смогу поговорить с вашей женой?
— Когда угодно, назовите время, и я это устрою.
— Лучше дайте мне ваш телефон. Я пока не знаю, как у меня сложатся дела. Гвинет обещала вернуться в четверг, но, когда начинаются соревнования по гольфу, на нее нельзя положиться.
Он долго стоял на крыльце, наблюдая, как я сажусь в машину и завожу двигатель. И только после того, как я отъехал, он повернулся и исчез за дверью.
Я был разочарован — сам не знаю, почему. Возможно, потому, что он не предложил свою помощь и не попытался утешить. В полицию я мог отправиться и без его совета.
Пожалуй, мне следовало бы испытывать облегчение хотя бы от того, что он меня выслушал и не цеплялся к мелочам. Однако, кормя льва, рассчитываешь на львиный рык…
Глава XXV
Трикси так и не нашлась. Я видел, это беспокоит Сару гораздо больше, чем она старается показать, и, конечно, дело было не только в том, что потерялась собака. Сара заявила в полицию — тем пока и пришлось удовольствоваться.
Во вторник я не видел мистера Аберкромби. С Майклом мы пару раз сталкивались, но он ничего не сказал. В отличие от своего отца, Майкл держался несколько отчужденно, избегая встречаться со мной взглядом. Он больше обычного сутулился, а его брови не меняли озабоченного V-образного положения.
В среду я получил краткую справку о состоянии финансов Фишера, но она не содержала ничего такого, о чем бы я не догадывался сам, и не давала ни единой зацепки относительно его теперешнего местопребывания.
Перед обедом ко мне заглянул Старик.
— Оливер… Нет-нет, сидите, я на минутку, — он тоже сел и, закинув ногу на ногу, уставился поверх моей головы на висящую на стене карту.
— Сигарету? — предложил я. — Кажется, мы предпочитаем одну и ту же марку.
Он с улыбкой взял сигарету, но вообще-то выглядел усталым и постаревшим.
— У меня для вас новость. Вчера я встречался с Макдональдом. И сегодня утром тоже. Он согласен отозвать свою жалобу.
— Правда? Я очень рад. Должно быть, вы имеете на него большое влияние.
— Нет. Просто я убедил его в том, что здесь нет состава преступления и лучше всего — уладить дело в неофициальном порядке.
— Каким образом?
— Он согласен встретиться с вами — так скоро, как мы сумеем это организовать, — и мирно обсудить имеющиеся разногласия.
Я потер подбородок.
— Не сочтите меня неблагодарным, но главное разногласие — то, что он считает меня проходимцем и подлецом, а я, естественно, возражаю. Как это может быть улажено?
— В любом случае необходимо встретиться — и лучше не наедине. Возможно, мое присутствие, так же, как и присутствие босса Макдональда, внесет свою лепту в дело вашего примирения.
— У меня нет возражений. Когда и где?
— Сначала я думал — за трапезой, но после разговора с Макдональдом понял, что это не соответствует серьезности вашей размолвки. Лучше, чтобы ничто не отвлекало. — Старик выпрямил ноги и немного замялся. — Мы предварительно условились на утро субботы. Если, конечно, вас это устраивает. Мистер Рекитт предлагает собраться в его офисе — на нейтральной почве.
Мне начало казаться, что и впрямь существуют пути к согласию.
— Значит, Рекитт в курсе?
— Да. Пришлось посвятить его в эту историю.
— Он также примет участие в переговорах?
— Возможно, если сочтет это дело достаточно важным, чтобы пожертвовать уик-эндом в деревне. И вот что. Перед лицом того факта, что Макдональд все-таки уже подал жалобу в Совет Ассоциации, я счел своим долгом пригласить одного из членов Совета. Разумеется, все будет неофициально, но присутствие абсолютно незаинтересованного лица, лично не знакомого ни с одним из вас, не помешает.
— Они согласились?
— Да. На этой неделе в городе будет некий мистер Спенсер из Бирмингема. Он — бывший президент Ассоциации и весьма здравомыслящий человек. Думаю, он вам понравится и все будет хорошо. Все мы заинтересованы в том, чтобы замять это дело — и одновременно показать, что нам нечего скрывать.
Примерно через час позвонил Генри Дэйн и безо всякой подготовки выпалил:
— Я видел вашу жену.
— О? Когда?
— У меня выдались свободные полчаса, поэтому я позвонил ей и пригласил к себе в контору. Мы довольно долго беседовали. Она только что ушла.
— Вы удовлетворены?
— Вполне.
— Значит, ваша цель была — увидеться с ней наедине?
— Естественно. А теперь я хотел бы встретиться с вами. Как насчет того, чтобы завтра пообедать вместе?
— Хорошо. Но… я не последовал вашему совету.
— Она мне сказала. Мы об этом еще поговорим. Значит, в час в ”Красном кабане”?
— Спасибо.
Вечером я довольно поздно приехал домой. Сара приготовила ужин. Прошло совсем немного времени, а квартира уже приобрела отпечаток ее личности. И дело было не в длинных черных перчатках на книжкой полке и не в одинокой гвоздике, уцелевшей от букета, который я преподнес ей в день возвращения в Англию, — ее обрезали и обрезали до тех пор, пока не осталась торчать из бокала на столе одна головка. Нет, это было нечто неуловимое, разлитое в воздухе и обусловленное одним лишь присутствием красивой, изящной женщины.
Конечно, меня можно было упрекнуть в сентиментальности, сказать, что это банально и вполне в порядке вещей, но со мной это происходило впервые. Меня никогда никто не ждал — какая уж тут банальность?
Сара взяла мое лицо в ладони и отодвинула от себя, чтобы получше рассмотреть.
— В чем дело, Оливер? Еще что-то случилось?
Я улыбнулся.
— Нет, все то же самое. Давай ужинать.
О Трикси до сих пор не было ни слуху, ни духу, и, хотя Сара потратила целый день на поиски, ей так и не удалось напасть на след Клайва.
После ужина она попробовала говорить о чем-то постороннем, приятном, не имеющем отношения к этой истории. Конечно, из этого ничего не вышло.
Я спросил:
— Значит, ты ездила к Генри Дэйну?
Она сидела на скамеечке у камина, а услышав мой вопрос, подалась вперед и подбросила в топку угля.
— Откуда ты знаешь?
— От него самого. Он позвонил, как только ты ушла.
— И что сказал?
— Ничего особенного. Предложил обсудить это завтра за обедом.
— А…
Я подождал немного.
— Как он тебе понравился?
Сара выпрямилась и сжала ладонями края скамейки.
— По-моему, он порядочный человек.
— Он спрашивал о твоей роли в этой истории?
— О, да.
— Тебя что-нибудь покоробило?
Сара подняла на меня глаза, и ее лицо осветилось грустной улыбкой.
— Да нет, он был очень мил. Но мы чуть не поцапались.
— Как?!
— Знаешь, дорогой, если меня когда-нибудь будут судить за убийство, то мне вряд ли предстоит более суровый перекрестный допрос, чем тот, который я выдержала сегодня.
— Но что он сказал? О чем спрашивал?
— Нет, ты не думай, он был весьма любезен. Потом мне было даже смешно вспоминать все эти: ”Где вы были в ночь на четырнадцатое?” Сроду не воспринимала подобные вещи всерьез.
Разъяренный, я вскочил с места.
— Что он тебе сказал?
— Стоит ли пересказывать? Это же очевидно. Когда я впервые с тобой познакомилась? Каковы были в то время мои отношения с Трейси? Почему первый поджог не увенчался успехом и когда Трейси посвятил меня в свои намерения — спалить Ловис-Мейнор? Когда я рассказала об этом тебе? Как нам впервые пришла в голову мысль околпачить Трейси? А также…
— Боже милосердный! — вырвалось у меня.
— Как часто мы встречались в Лондоне без его ведома? На какую сумму Трейси застраховал свою жизнь? Зачем мне понадобилось создавать себе железное алиби в Йоркшире, если я не знала о планах Трейси и твоих? Неужели я всерьез рассчитываю на то, что кто-нибудь поверит, будто все четыре месяца после пожара мы с тобой не состояли в переписке? Что это нам вдруг взбрело в голову пожениться? Или нас вынудили обстоятельства? Сколько раз я чинила препятствия твоей встрече с ним? И так далее, и тому подобное — до тех пор, пока я окончательно не утратила способность здраво рассуждать.
Первое время я не находил слов. Потом сделал движение к Саре, но она встала и отвернулась.
— Я пришла домой выжатая, как лимон. Но потом, по зрелом размышлении, даже порадовалась, что все так вышло.
— Чему тут радоваться?
— Видишь ли… — она как-то загадочно посмотрела на меня. — Я поняла: в каком-то смысле перекрестный допрос — полезная штука. Он помогает очистить ум от всего мертвого, наносного. Начинаешь видеть вещи в истинном свете, как бы они ни были тяжелы и неприятны.
— Например?
Она не ответила.
— Сара, мне бесконечно жаль. Ни за что не думал, что он способен на такую жестокость.
— Я знаю. Неважно. Может быть, это даже к лучшему. Мы слишком долго закрывали глаза на истинное положение вещей.
* * *
Утром в четверг я был занят: слушалось дело Колланди, так что я выбрался из конторы около часу. В час двадцать я вошел в ”Красный кабан” и увидел Генри Дэйна за его обычным столиком в углу.
Перед уходом из дому Сара взяла с меня слово держаться цивилизованных рамок поведения, да и мои собственные интересы требовали этого. Весь вечер она была задумчива и рассеянна и плохо спала ночью.
— Извините, что опоздал, — я подсел к Генри. В каком-то отношении Дэйн — чудовище!
Он отложил номер ”Таймс”.
— Цены на медь снова пошли вверх. А мы все накапливаем, накапливаем запасы… Что будете пить?
Наверное, я что-то заказал, потому что вскоре официантка вернулась с бокалом. В зале был спертый воздух, поэтому я не решился курить.
Генри бросил на меня проницательный взгляд.
— Я слышал, утром в субботу вы встречаетесь с Макдональдом и остальными, и пригласил вас, чтобы по возможности выяснить, какой линии поведения вы намерены придерживаться.
— Еще не решил.
— Вы, конечно, понимаете, что все выйдет наружу?
— Пожалуй.
— У вас не должно оставаться никаких сомнений на этот счет.
— Вы им расскажете?
С минуту Генри бесстрастно смотрел на меня.
— В этих кругах не любят ничего делать в официальном порядке. Так сказать, выносить сор из избы. Черная овца бросает тень на все стадо, поэтому в случае чего ее быстро и безболезненно изгоняют.
— Это и есть цель субботней встречи?
— Не обязательно. Главная задача — достичь примирения и докопаться до правды. А у нее скверный запашок.
Официантка подошла, чтобы принять заказ.
— Вы, конечно, знаете, — продолжал Дэйн, — что на собрании, по настоянию мистера Аберкромби, будет присутствовать член Совета из Бирмингема? Утром я говорил с ним по телефону.
— По настоянию Аберкромби?
— Да. Он весьма печется о чести мундира и, несмотря на искреннюю симпатию к вам лично, остро чувствует свою ответственность как одного из руководителей Совета.
— Что ж, коли так, мне остается только смириться.
Хотя в любой момент могли принести еду, Дэйн начал набивать трубку.
— Жена передала вам содержание нашей беседы?
— Да.
— Вам повезло, что вы на ней женились.
— Что, черт возьми, вы имеете в виду?
Генри опешил.
— Ну и обидчивы же вы! Неудивительно, что Макдональд вцепился вам в волосы.
— Просто я имею глупость не приходить в восторг, когда с моей женой обращаются, как с матерой рецидивисткой.
Дэйн продолжал возиться с табаком.
— Дорогой друг, кто же судит о женщине со слов влюбленного в нее мужчины? Я знавал достойнейших джентльменов, имевших дело с отъявленными стервами и шлюхами, а послушать этих мужчин, так их возлюбленные — сама чистота и невинность!
— И что же вы разнюхали о Саре?
— Она порядочная женщина.
— Спасибо.
— В каком-то смысле мне доставило удовольствие мучить ее. Пока она не вышла из себя из-за какой-то пустячной реплики в ваш адрес, она была холодна, как лед, и непробиваема. И даже после этого ее ответы были кратки и точны, как щелчки хлыста. Ни малейшего колебания. Это признак породы.
Не успел он достать спички, как появилась официантка. Генри с явным сожалением отложил трубку и взялся за обед.
— У вас странная манера делать комплименты, — упрекнул я, однако на душе потеплело.
Он в мгновение ока уплел свой суп.
— Видите ли, вы сами во всем виноваты. Ваша жена пыталась переложить часть вины на себя, но из этого ничего не вышло. Вы слишком торопитесь, Оливер. Во всем. Иногда это бывает оправданно, но далеко не всегда. Сначала вы поспешно приходите к заключению, что такая женщина, как ваша жена, способна принять участие в поджоге и подлоге. Затем, убедившись, что это не так, включаете на полную мощность свое чертово обаяние и, не дав ей опомниться, тащите к алтарю. Сбиваете с ног маклера и едва не приканчиваете шантажиста. И к чему это вас привело? Еще немного — и вы набросились бы на меня.
— Вряд ли. Ваши комплименты меня обезоружили.
Он глянул в сторону своей трубки, но утерпел и чуть заметно улыбнулся, не разжимая губ.
— И тем не менее я хочу помочь вам обоим, потому что мне невыносимо наблюдать, как такой абсолютно честный человек, как вы, с поразительным упорством ведет свой корабль прямо на скалы, в то время как пройдохи и контрабандисты всех мастей благополучно их обходят. Вот почему я спрашиваю вас: какую линию поведения вы намерены избрать и что вы скажете этим людям в субботу?
— Откровенно говоря, это уже неважно.
— Вам так кажется, потому что вы выбиты из седла.
— Я не знаю, что в загашнике у Макдональда.
— Зато я знаю — частично.
— Вы с ним виделись?
— Нет, но мне передали. Главную роль сыграли ваши расспросы насчет суммы страхования Ловис-Мейнора — перед самым пожаром.
— Так я и думал.
— Потом, как я понял, через день-другой после пожара вы встретились у одних знакомых, и Макдональд обратил внимание, что вы прихрамываете и у вас слегка обгорели брови и ресницы. Он упомянул об этом — в качестве шутки — в разговоре с приятелем и более или менее забыл, однако ваша скоропалительная женитьба на миссис Саре Мортон освежила его память. Он поделился сомнениями с Рекиттом, и они наняли частного детектива. Тот разыскал парня, который видел вас в сером ”уолсли”. Парень оказался браконьером и посему не решился обратиться в полицию, однако не возражал против того, чтобы за фунт-другой шепнуть несколько слов на ушко частному лицу. Он не обратил внимания на номер машины, но запомнил буквы, а когда сыщик предъявил ему фотографии шести мужчин, безошибочно выбрал вашу. Вслед за тем детектив обратился к миссис Смит — или Смайт, — чья квартира расположена над вашей, и она подтвердила, что на другой день после пожара бинтовала вам предплечье. Очевидно, этого показалось достаточно, чтобы отпустить сыщика и передать собранную информацию в полицию.
— Весьма похвальный гражданский поступок!
— Думаю, это и обусловило приход Барнса. В высшей степени вероятно, что за субботней встречей последует еще один визит. Я нисколько не удивлюсь, если ему станет известно все, что произойдет в субботу. Так что, если вы еще не решили, как вести себя на собрании, самое время это сделать.
Глава XXVI
Пятница началась без происшествий, и я уже думал, что этот день станет затишьем перед бурей — но не самой бурей. Хотя кое-что в поведении Сары должно было бы меня насторожить.
Я ушел в девять тридцать и к десяти добрался до конторы. За обедом я встретил в ресторане Чарльза Робинсона. Он спросил:
— Вы не будете возражать, если я тоже приду на собрание?
— Вам этого хочется?
Он деланно улыбнулся.
— Свидетель обвинения… Нет, серьезно, я бы непрочь, если позволите. Ради моральной поддержки.
— Конечно, что за вопрос. Спасибо.
К вечеру дел поубавилось, и у меня появился предлог пораньше уйти с работы. Я заглянул к Старику и подтвердил прежнюю договоренность: встретиться завтра в одиннадцать в офисе Рекитта. В пять я уже отпирал дверь своей квартиры. Сары не было. Я направился в спальню — там она обычно оставляла записки, когда собирается вернуться. Записка оказалась на месте.
”Милый Оливер. До меня слишком поздно дошло, что на самом деле случилось. Теперь я должна сама попытаться все исправить: ради нас обоих и всех остальных. Не волнуйся, если меня пару суток не будет. Умоляю тебя, родной-, не пытайся меня искать. Я должна справиться с этим в одиночку.
Твоя Сара”.
Я перечел записку, заглянул на обратную сторону листа и снова перечел. Огляделся — никого. Она ушла.
На подносе все было готово для чаепития, но мне было совсем не до этого. Я налил себе виски и снова принялся изучать записку. Пару суток. И не пытайся меня искать… Я достал из ящика комода неначатую пачку сигарет, но так и не закурил. Просто стоял безо всякой цели посреди комнаты. Потом умыл холодной водой лицо и смочил затылок. С полотенцем в руках направился к телефону.
Доктор Дарнли оказался дома. Я спросил:
— Сэр, вы не видели сегодня Сару?
— Нет. Откуда вы говорите?
— Из дому. Не беспокойтесь. Просто она обещала вернуться пораньше. Вы не знаете, она взяла свою машину?
— Позвоните в гараж.
— Спасибо, обязательно.
Гараж не ответил. Тогда я набрал домашний номер Виктора Мортона. Слуга ответил, что он только что вышел. Он собирается провести уик-энд в деревне, но минут через двадцать я еще смогу застать его дома.
Следующий мой звонок был Генри Дэйну.
— Что вы позавчера сказали Саре? Выложили мои сомнения насчет гибели Трейси?
— Нет, конечно. А в чем дело?
— Но какие-нибудь косвенные вопросы могли вызвать такую мысль?
После небольшой паузы:
— Пожалуй, да.
— Так я и думал. С тех пор вы ее не видели?
— Нет. Что все-таки произошло?
— Ничего, — я швырнул трубку на рычаг.
Виктора снова не оказалось дома; я сел в машину и рванул на Белгрейв-Плейс. Слава Богу, я догнал его на лестнице. Мы поднялись вместе. У него был немного странный вид — как будто он приготовился защищаться.
— Вы сегодня видели Сару?
— Нет.
— И она не звонила?
— Нет, Оливер.
Он единственный не спросил, в чем дело.
— Видели вы ее вообще на этой неделе?
Он отпер дверь и вошел. Я последовал за ним.
— Да, она вчера заезжала.
— Зачем?
— Хотела поговорить… об одном деле. Я все-таки ее деверь и доверенное лицо.
— Она не поделилась с вами планами на сегодня?
Виктор проследовал к стеклянному бару. Мы находились в просторной, роскошной гостиной, которая не очень-то вязалась с его обликом.
— Налить вам выпить?
— Спасибо, не нужно.
Он плеснул себе виски и разбавил водой.
— Она заезжала кое-что обсудить. Проверить одну свою гипотезу, которая мне лично показалась чудовищной и совершенно невероятной. Сара выложила мне свои доводы в пользу этой гипотезы — должен признаться, они произвели на меня впечатление. Мы еще немного поговорили, и она поехала домой.
— И не сказала, что собирается предпринять сегодня?
Виктор насупился.
— Пожалуй… в виде намека. Но она просила вам не говорить.
— Виктор, мне не до шуток.
— Мне тоже. Прошу прощения.
У него был утомленный, нездоровый вид.
— Виктор, Сара — моя жена. Она ушла, оставив записку. Я теряюсь в догадках. А вы все знаете и не хотите мне сказать.
Он поставил бокал и посмотрел мне в глаза. В это мгновение Виктор Мортон показался мне настоящим монстром: толстый, с бычьей шеей.
— Ничего не могу поделать. Мне очень жаль, Оливер, но я дал слово. И, даже если бы не дал, не сказал бы вам.
— Но почему?
— Потому что… пока она не даст о себе знать… и, даже если бы все подтвердилось, я не счел бы возможным говорить об этом.
* * *
Конечно, я ушел не сразу, а еще долго уговаривал его, но он так и не сдался. Не такой он человек, чтобы его можно было заставить действовать неприемлемым для него образом. Единственное, что мне удалось выяснить, это что он передумал уезжать на уик-энд в деревню и позвонит, если узнает что-нибудь о Саре.
На обратном пути я сделал небольшой крюк, чтобы на всякий случай проверить Прентисс-стрит — не объявилась ли Вера Литчен. Откровенно говоря, я ничего хорошего не ожидал — после стольких неудач — и не сразу поверил своим глазам, когда увидел в доме свет. Я резко затормозил: водитель обогнавшего меня такси прокричал какое-то ругательство.
На стук никто не вышел. Кто же находится в доме — Долорес? Или воры? Я забарабанил громче — еще и еще раз. Наконец, когда я уже начал терять надежду, дверь приоткрылась и выглянул белобрысый, багроволицый коротышка. Мы уставились друг на друга. Я спросил:
— Вы мистер Литчен?
Он испустил вздох облегчения.
— Нет. Я думал, это вы… Что вам нужно?
— Поговорить с миссис Литчен.
— Но…
— Это очень срочно.
— Как вас зовут?
Я назвал себя, и он нерешительно пошел докладывать, оставив дверь приоткрытой. Я ринулся внутрь, в отделанную дубом и хромом прихожую. При этом у меня мелькнула мысль: вечно-то мне приходится врываться в чужие дома, это уже почти вошло в привычку. И к чему это привело? — спросил бы Генри…
Из гостиной доносились звуки музыки. Я услышал голос хозяйки.
Опять появился тот мужчина. При виде меня его лицо скривилось.
— К сожалению, миссис Литчен не принимает.
— Очень жаль, — и я прошмыгнул мимо него в гостиную.
Вера Литчен была в чем-то зеленом — длинном, тонком, ниспадающем волнами, похожем на капот. Она стояла ко мне спиной, меняя пластинку.
— Ну что, он убрался?
— Нет, — ответил я.
— Послушайте, — нервно проговорил коротышка, — в чем все-таки дело? Я же сказал, что она не принимает.
Миссис Литчен обернулась. Ее маленькое, сильно накрашенное лицо окаменело.
— Этот человек — из страховой компании. К сожалению, в данный момент нас не интересуют проблемы страхования.
— Меня тоже. Хочу попросить вас об одолжении.
Она снова повернулась к радиоле. Через пару минут полилась тихая, томная музыка.
— Я сказал, она никого не желает видеть! — мужчина беспокойно теребил воротничок.
Я подошел к ней ближе.
— Это исключительно важно. Нельзя ли вам отбросить старые обиды?
— Что вам нужно?
— Разыскать Клайва Фишера.
Она беззвучно свистнула.
— Откуда мне знать, где он? Я ему не сторож.
— Вы его друг. Мне необходимо с ним поговорить.
— Вы ворвались в мирный дом. Роджер, проводите… джентльмена.
Коротышка дотронулся до моей руки.
— Идемте, приятель. Сказано — она не знает.
Я свирепо взглянул на него.
— А ну отойдите!
Он подчинился.
— Где я могу найти Клайва Фишера?
— Обратитесь в бюро находок.
— Когда вы его видели в последний раз?
Она зевнула.
— Месяц назад, раз уж вам так хочется знать. У одних знакомых. Роджер тоже там был. Правда, Роджер?
— Само собой.
— Вы встречались и после этого.
— С чего вы взяли?
— В прошлую пятницу я видел в его коттедже подаренную вами книгу. Она только две недели как вышла из типографии.
— Это не поможет вам найти его!
Во мне шевельнулось что-то темное и зловещее.
— У меня есть одно преимущество, а именно — дурное воспитание.
На щеках у Веры Литчен выступили багровые пятна.
— Роджер, мышонок, неужели у тебя кишка тонка выгнать этого типа?
Пластинка кончилась; щелкнуло реле.
— Ты сказала, что порвала с ним! — неожиданно окрысился Роджер. — Я не профессиональный борец.
— Только попробуй ко мне прикоснуться! — взвизгнула она. — Я тебе расцарапаю физиономию!
— Если понадобится, — предупредил я, — я выбью из вас, где он находится. Не вынуждайте меня прибегать к крайностям!
— Да он каждый вечер торчит в ”Конце света”! — выпалил Роджер.
— Идиот!
— Какого черта? Я не собираюсь страдать из-за твоего драгоценного Клайва. Ты говорила, будто порвала с ним, а сама…
— Дурак — и ты ему веришь?!
— Что за ”Конец света”? — спросил я.
— Клуб, где собираются художники, в Челси.
Вера Литчен еще что-то шипела, но я не слушал, а направился к телефонному аппарату. Взял с полочки справочник. Нашел номер клуба ”Конец света” и покрутил диск. Роджер ревниво и нерешительно пялился на Веру. Та достала из жадеитового[5] портсигара сигарету и закурила. Я ждал ответа и зорко следил за ними.
— ”Конец света”,— раздался мужской голос в трубке.
— Будьте добры, мистер Клайв Фишер в клубе?
— Не знаю, сэр. Сейчас посмотрю, — Вера тем временем поставила новую пластинку и включила радиолу на полную мощность. Стены комнаты дрожали от неимоверно громких завываний саксофона. — Нет, сэр, он еще не приехал.
— Но вы его ждете?
— Он проводит здесь почти каждый вечер.
— Спасибо, — я положил трубку и посмотрел на Веру. Потом вырвал провода и направился к ней. Она попятилась и схватила бронзовую статуэтку. Но я всего-навсего поставил аппарат на радиолу.
Очутившись на улице, я заметил, что весь вспотел. Видно, все-таки я не создан для подобных сцен — несмотря ни на что.
Глава XXVII
Клуб ”Конец света” находился недалеко от Пимлико-Роуд — старое здание Викторианской эпохи. Одна лишь монограмма ”К/С” отличала его от других таких же. В вестибюле двое служителей в униформе проворно принимали у посетителей верхнюю одежду, а на втором этаже расположился ресторан на два зала, разделенных коридором; к каждому примыкало по бару.
Чтобы попасть в клуб, нужно было состоять его членом. Но я спросил Клайва Фишера, а узнав, что его нет, объяснил, что мы договорились здесь встретиться. Я назвался мистером Мортоном. Меня проводили наверх, я сел и стал дожидаться Клайва.
На стенах не было ни одного квадратного дюйма, свободного от этюдов, пастелей или портретов. Уж не таким ли образом некоторые завсегдатаи расплачивались за ужин, подумал я. Кругом хватало плисовых штанов и пиджаков, обсыпанных перхотью. Однако у большинства явно водились деньжата, очевидно, заработанные тяжким плебейским трудом. Зато здесь они могли вспомнить свои артистические замашки.
В восемь в соседний зал прошел молодой человек декадентского вида; он уселся за рояль и начал наигрывать мелодию за мелодией. Динамики разносили музыку по всему клубу.
В пять минут девятого в зал вошел Клайв Фишер.
Его сразу препроводили в мой угол. Половина присутствующих была с ним знакома; он то и дело останавливался — пошутить или обменяться дружеским приветствием. Меня он заметил, только когда вплотную приблизился к столику. Я встал, чтобы поздороваться. Клайв едва не подпрыгнул от удивления; какую-то долю секунды мне казалось, что он вот-вот распорядится вышвырнуть меня вон. Но он запутался в большом числе сомнительных сделок и вряд ли мог позволить себе публичный скандал. А когда он пришел в себя, метрдотель уже удалился.
— Я не знал точно, в какое время вас можно застать, — объяснил я.
Он огляделся — очевидно, затем, чтобы убедиться: Виктора в зале нет, — и произнес своим высоким, гнусавым тенором:
— Надо же, какое совпадение! Я как раз на днях вспоминал вас.
Он был все тот же — цветущий, розовощекий, женственный и самоуверенный.
— Я тоже много думал о вас. Присаживайтесь.
Он поколебался и сел.
— Как поживает Сара? Осваиваетесь потихоньку?
— Вот именно — потихоньку. Хотелось бы побыстрее. Вы давно не были у себя в Кенте?
— Давно. А что?
— Мы заезжали туда в пятницу.
— Вот как? — он мрачно посмотрел на меня. Тут как раз подошел официант.
— Заказывайте, — предложил я. — За мой счет. — Официант отошел. — Мы отправились туда сразу после визита мистера Джерома.
— Не представляю, о чем вы говорите.
— Вам бы следовало знать. Он сказал, что это вы его наняли.
Он понял: маски сброшены, шпаги наголо. Выражение его лица изменилось.
— Что толкнуло вас на такой поступок? По-моему, это была грубейшая ошибка.
Клайв намазал булочку маслом и жадно, так как успел проголодаться, начал есть. Немного утолив голод, он мстительно сообщил:
— Джером до сих пор в больнице. Вам повезло, что вас не поймали.
— Вам тоже.
Он буравил меня взглядом.
— Если вы надеетесь отмочить такой же номер с распусканием рук, вы очень ошибаетесь, Бранвелл. Неподходящее место выбрали.
— Могу подождать снаружи.
— Я выйду с друзьями.
За соседним столиком двое спорили о Сальвадоре Дали.
— Должно быть, вы здорово на мели, если отважились на такое, — предположил я.
— И что вы собираетесь делать?
— Это зависит от вас. Вы, должно быть, уже смекнули, что мне все известно?
Клайв заколебался; взял еще одну булочку, оглянулся на соседей. Я подметил, что он в нерешительности.
— А с какой стати я должен отказываться от своей доли? — вдруг выпалил он. — Я работал.
— Вы оценили свою работу в двадцать тысяч фунтов?
— Почему бы и нет?
— Вы только жалкий пособник — такой же, как и Амброзина. Вам заплатили за труды.
— Какой, к черту, пособник? Да я… А, ладно…
— Возможно, вы сами и предложили аферу. Это больше в вашем духе, чем в его.
Клайв промолчал.
— Могу представить себе, — продолжал я, — как однажды у Трейси вырвалось: ”Я скорее спалю этот чертов дом, чем продам картины!” А вы: ”Почему бы не сделать и то, и другое?”
Он пожал плечами.
— Я не стыжусь ни одного своего поступка. Каждый живет, как может. Прежде, чем бросить камень, подумайте о себе и о Саре. Каждому ясно…
— Что?
— Я был настолько глуп, что верил в ее непричастность и в то, что Трейси, как утверждал, держал ее в неведении. Но когда она стала вашей женой — согласитесь, это уже совсем другой коленкор. Я нарочно подослал Джерома, чтобы проверить ее реакцию, а также просветить относительно грозящих вам обоим бесчестья и утраты всей суммы. Как выяснилось, ее не нужно было просвещать.
Официантка принесла заказанные блюда, но ни один из нас к ним не притронулся.
— Почему вы не скрылись с места преступления, — спросил я, — сразу после того, как подожгли дом?
Он коротко хохотнул.
— Э, нет, этих собак вы на меня не навесите. Я был в Лондоне.
— У вас есть алиби?
— Еще бы!
— Что же все-таки сорвалось?
— Это вы — страховая ищейка. Вы мне и объясните.
— Полагаю, вы в курсе, что я был там в ту ночь?
Он в искреннем изумлении поднял голову.
— Что вы мне хотите всучить — какую такую липу?
— Билет до Мадейры — если до того вас не сцапает полиция.
Клайв повертел в руках нож. У него были длинные пальцы с коротко остриженными ногтями.
— Не вам говорить о полиции. Бранвелл, я в любой момент могу обратить вас в бегство. Вы оба увязли по уши. Почему бы не поделиться? Неужели лучше — потерять все и иметь дело с полицией?
— Хватит рассказывать сказки, — заявил я. — Полиции все известно. Я побывал там еще до появления Джерома.
* * *
Я задал ему вопрос:
— Что сталось с оригиналами картин, с которых вы делали копии для Трейси?
Клайв давился обедом.
— Они далеко — у вас руки коротки дотянуться.
— Кроме одной.
— Бонингтон?
— Вы допустили ошибку, продав его здесь, в Англии.
— Похоже, вы все знаете, — удивленно воскликнул он.
— Существует такая вещь, как таможенная декларация, если владелец вещи хочет вернуться с ней обратно. Тот первый поджог был генеральной репетицией или у вас сорвалось?
— А вы как думаете?
— Думаю, и то, и другое. Вы хотели проверить на практике, так ли это легко и просто. Но что могло заставить вас, художника, пойти на преступления?
Зал быстро пустел. Пианист в соседнем зале медленно, заторможенно касался клавиш.
— Вы никогда не пробовали прожить на заработки художника? Сорок лет прозябать в нищете, на помойке — зато после смерти кто-нибудь делает ”открытие” и гнусные деляги наживают на вашем имени целое состояние.
— У вас наверняка были и другие возможности.
Он вдруг сменил тему.
— Я не верю, что вы были там в ту ночь. Разве что…
— Я там был. Вам не кажется, что пора объяснить остальное?
С минуту он молча помешивал кофе.
— Не понимаю.
— Вы сами додумались до гнусного рэкета или кто-нибудь подсказал?
— Зачем еще кто-то… Да и какая разница?
— Большая.
Я не слышал, как к нам кто-то подошел.
— Прошу прощения, мистер Фишер, вас к телефону.
Это был один из служителей — настоящий великан, очевидно, вышибала.
Я поднял голову и увидел еще одного у двери.
— Кто на проводе? — у Клайва блеснули глаза.
— Миссис Литчен. Она спрашивает…
Клайв приподнялся. Я осадил его:
— Вера Литчен нам не поможет. Попросите передать ей, что вы перезвоните позже.
Он снова опустился на сиденье, но украдкой бросил взгляд на дверь. Просто удивительно, как моментально изменилась атмосфера зала. Теперь, кроме нас, здесь было шестеро посетителей: двое в углу и четверо у стойки бара.
Очевидно, второй вышибала уловил некий сигнал, потому что подошел и тоже встал рядом. Первый произнес:
— Миссис Литчен утверждает, будто ваш… гость… явился без приглашения.
— Так и есть, — раздраженно буркнул Клайв. — Он просто-напросто вломился.
— Она говорит, чтобы мы доложили управляющему, но мистера Браунинга нет, — первый великан повернулся ко мне. — Это частный клуб, знаете ли. Вы не имеете права сюда входить — только по приглашению члена клуба. Таковы правила.
— Мы с мистером Фишером приятно поужинали вместе. Поздненько он начал выставлять претензии.
— Да, у меня есть претензии, — быстро ввернул Клайв. — Этот человек явился сюда под чужим именем и принудил меня… Думает, ему что угодно сойдет с рук.
— Вот и миссис Литчен говорит…
— Что вы намерены делать? — поинтересовался я.
За стеной смолк рояль. Пианист зашел в наш зал и спросил выпить. Пока бармен смешивал напиток, он сидел и приглаживал рукой русые волосы.
Вышибала гнул свое:
— Боюсь, что нам придется попросить вас выйти.
— А если я не подчинюсь?
— Тогда мы примем меры.
Зал покинули еще двое гостей. Молодой пианист с нескрываемым любопытством следил за нами. Я тянул время и обдумывал ситуацию. Скандал в общественном месте Клайву невыгоден. Я многое узнал. Но осталось еще кое-что — самое важное.
Я сказал вышибале:
— Может быть, мы договоримся?
— Это зависит от вас, сэр.
Я повернулся к Фишеру.
— Хочу задать вам один вопрос. Если вы на него ответите, будем считать, что мы квиты — до поры до времени.
Он явно нервничал. Вера Литчен дала ему шанс, но он боялся, что я скажу при служителях что-нибудь не то. И наконец решил рискнуть.
— Попробуйте задать свой вопрос. Это не повредит.
— Кто бывает в вашем коттедже и курит противоастматические сигареты?
Клайв задумчиво повертел в руках кофейную чашку. На его лице появилась загадочная улыбка.
— Трейси — бывал, конечно…
— Он что — время от времени встает из могилы, чтобы покурить в вашем обществе?
Фишер безрадостно усмехнулся.
— Зачем вам это знать?
— Затем, что тогда я оставлю вас в покое.
Он обвел зал глазами. Возле бара шептались, глядя в нашу сторону.
— Почему бы вам самому не поехать и посмотреть?
— Куда? Опять к вам домой?
— Нет. В Ловис-Мейнор.
— Вы, кажется, забыли — он сгорел дотла.
— Не так уж и дотла, — сказал Фишер.
Глава XXVIII
Когда я вышел из клуба, часы как раз пробили девять. У меня не было ни малейших сомнений относительно того, что делать дальше.
Пока я сидел в клубе, на город опустился туман, зато в Кенте его почти не было — лишь мокрое шоссе и легкая морось. Сквозь тонкую пелену облаков пробивался свет луны. Уличное движение стихло, светофоры были на моей стороне; я выжимал предельную скорость, но все равно мне показалось, будто я затратил на эту поездку никак не меньше недели. Все происходящее казалось дурным сном, когда открываешь дверь и не знаешь, какая опасность за ней скрывается.
Мне было холодно и одиноко. Если бы Сара сидела рядом — но она ушла. У меня было такое чувство, будто она попала в беду и со времени исчезновения прошло не двенадцать часов, а много-много дней. Более того, внутренний голос твердил, что теперь я не скоро ее увижу. Наш брак, наша совместная жизнь были чем-то вроде иллюзии, имеющей весьма непрочную связь с действительностью — ни корней, ни твердой почвы под ногами. Часть вины коренилась во мне самом, но решающую роль сыграли обстоятельства, перед которыми я, как всегда, оказался бессилен. Причем самое страшное было еще впереди.
Я оставил позади Слейден и свернул к Ловису. Сердце барабаном бухало в груди. С самого пожара я там ни разу не был. ”Уцелела древнейшая часть дома, — сказал Майкл. — Бывший холл с каменными стенами, конюшня и часть кухонных помещений…”
Я забыл о сторожке и при виде нее испытал шок, но храбро проехал мимо освещенных окон и остановился в том же самом месте, где и тогда, в мае. Выходя из машины, я чуть не выронил ключи: так дрожали руки. С деревьев капала вода. Я перелез через ограду и, спотыкаясь, побежал к дорожке. Здесь ничего не изменилось: та же живая изгородь из кустов падуба, тот же сад… Дорожка сделала последний поворот к дому, и я увидел свет в окне.
На секунду мне показалось, будто пожар и все, что за ним последовало, были всего лишь галлюцинацией и сейчас я увижу прежние очертания особняка: высокие трубы, деревянные стены, раскидистый тис и окошки неправильной формы с освинцованными рамами. А за дверью меня ждут Трикси и ее хозяин. Потом видение исчезло; я поморгал глазами и убедился, что на месте дома — пепелище. Словно из местного пейзажа выдернули зуб, и это наложило на него зловещий отпечаток. Кое-где, словно скалы, торчали остроконечные обломки стен, создавая неприятное ощущение дисгармонии. В конюшне и старом холле света не было: светилось лишь окно в задней части дома.
Я медленно, через силу побрел туда, где прежде была парадная дверь. Здесь ощущение крутого обрыва с остроконечными утесами усилилось; насквозь продувало там, где, казалось, не должно было быть никакого ветра. Я пробрался в бывший холл. Всюду валялись щепки и зияли зловещие пробоины. Вон там лежало мертвое тело… а там была лестница… дверь кухни… Свет шел со второго этажа.
Я начал ощупью двигаться вдоль неожиданно прочной стены — кажется, прежде ее не было, ее возвели совсем недавно. Теперь светившееся окно располагалось прямо над моей головой. Ладони стали потными и липкими.
Недалеко от того места, где я стоял, высился обугленный деревянный кол — точно штык винтовки. Я искал и не мог найти дверь. Эта часть дома казалась необитаемым островом, некогда покинутым людьми, чтобы он самостоятельно залечивал раны — травой и сорными побегами.
Я попробовал открыть окно. Оно легко поддалось. Не успел я перемахнуть через нижнюю раму, как услышал собачий лай. Трикси!
Я подождал немного, давая ей успокоиться, но она не переставала тявкать. В комнате явственно пахло противоастматическими сигаретами. Я спрыгнул на пол и выпрямился. Это оказался коридор, а не комната. В конце виднелись ступени, ведущие вверх, к двери, из-под которой выбивалась тонкая полоска света. Я сам начал задыхаться.
Но Трикси была где-то здесь, внизу. Ее заперли в одной из комнат. Я определил это по характеру тявканья. Она вдруг затихла, и дом погрузился в тишину. Ступая тяжело, словно к каждой ноге было привязано по свинцовому ядру, я поднялся наверх. Никогда еще мне не было так страшно.
Я повернул ручку и вошел внутрь.
Судя по балкам и форме окон, это была древнейшая часть дома. Теперь ею пользовались как гостиной. В камине горел огонь. Я увидел радиоприемник и разбросанные по полу газеты и диванные подушки. В комнате никого не было, но из нее вела дверь в другую, слабо освещенную комнату. Дверь оказалась приоткрытой. Можно было различить стул, угол кровати…
Сначала я принял это за потрескиванье поленьев в очаге, но потом понял: это не так. Я снова слышал его прерывистое дыхание!
В углу за дверью стояла увесистая палка. Я схватил ее потной рукой и ринулся в ту, другую, комнату. Не думаю, что я собирался нападать, — скорее, обороняться от неведомого.
— Кто там? — спросила Сара.
Итак, она вернулась к нему — может быть, даже с радостью. Новая любовь отброшена и забыта. Я так и знал. Все это время в недрах моего существа гнездились сомнения.
Я сделал несколько шагов вперед и увидел Сару стоящей подле кровати. Рядом в кресле сидела пожилая женщина. Свет шел от лампочки под абажуром; предметы мебели отбрасывали длинные тени. Охваченный ужасом, я резко обернулся. Никого.
* * *
— Оливер! — воскликнула Сара. — Откуда ты… Мы не знали…
— Вы как раз вовремя, — произнесла старуха, сидевшая в кресле. Это была миссис Мортон.
— А где же… — начал я и запнулся, увидев, что Сара предостерегающе подняла руку.
— Ваша жена, — сказала миссис Мортон, — вот уже два часа подряд меня терроризирует… уговаривает… диктует условия…
— Ах нет, дорогая, — мягко возразила Сара. — Не нужно так. Уговариваю — да. Я уверена: в конце концов вы и сами посмотрите на вещи моими глазами. Мы обе знаем, что такое верность.
Задыхался не кто иной, как миссис Мортон. Я долго не мог оторвать от нее взгляд, но в конце концов перевел его на Сару. Никогда я не видел ее такой измученной. Волосы слиплись. На лбу — испарина…
— Верность, — начала миссис Мортон и зашлась в кашле. Ей потребовалась добрая минута, чтобы справиться с приступом. — Верность проявляется не только в поступках, но и в помыслах. С тех пор, как этот человек появился в нашем доме, ты начала делить себя. Не поддержала Трейси, когда он особенно в этом нуждался. Я знаю: измены не было. Но ты лишила его своей нежности и доверия. Если бы не это, катастрофы могло не быть.
— Доверие, — с горечью произнесла Сара. — Где было его доверие еще до появления Оливера? Вы проснулись и первой почуяли дым, подняли тревогу, что-то заподозрили, разругались с Трейси, а для меня выдвинули какое-то фальшивое объяснение. Где было его доверие ко мне, когда он готовился к поджогу, а меня выставлял дурочкой, — или ваше, когда вы обо всем догадались, но скрыли от меня истину? Все это произошло еще до того, как Оливер переступил порог этого дома! И…
— Хватит, Сара, остановимся здесь. Он все-таки был моим сыном. Я не могла открыть тебе правду… и не могла давить на него, чтобы он сделал это. У меня теплилась надежда… — миссис Мортон глубоко вздохнула и поднялась на ноги. — Ну, ладно. Не стоит повторяться. Я ухожу.
Только тогда я заметил, что она превратилась в настоящую развалину. Волосы поседели и потускнели, как у глубокой старухи. От нее остались только кожа да кости. Каждый вдох и выдох давался ей с огромным трудом.
— Миссис Мортон…
Сара сделала мне знак, чтобы я молчал, но старая дама обернулась.
— Вы явились к концу сражения, мистер Бранвелл. Сара отчаянно сражалась за вас — и только за вас. Больше она ни о ком не думала. Я же устала от борьбы… и проиграла.
Вот когда я испытал невероятное облегчение — словно жизнь вернулась ко мне. Жизнь и надежда. Я все еще боялся верить и, глядя на Сару, пытался угадать, что же происходило здесь в эти два часа. Ноги сделались ватными.
— Я пыталась объяснить миссис Мортон, — сказала Сара, — что мы пережили с тех пор, как она прислала перстень Трейси; как одни неприятности наслаивались на другие — в результате твоя карьера висит на волоске и тебя вот-вот арестуют. Пыталась доказать, что я была честна перед Трейси и мы приложим все усилия, чтобы по возможности защитить его доброе имя. Что и пыталась сделать сама — с самого начала.
— Вы были в доме перед пожаром?!
Миссис Мортон выдержала мой взгляд.
— Я и только я виновата во всем.
— Нет-нет, — вмешалась Сара. — Это неправда, и вы это знаете. Произошел несчастный случай. Чистое невезение.
— Но что случилось? — спросил я. — Как вы здесь очутились? Не могу поверить…
Очевидно, ее тронуло мое искреннее огорчение. Выражение ее лица немного смягчилось.
— Когда все будет кончено, Сара, можешь ему рассказать.
— Нет! Вы сделаете это сами — прямо сейчас.
Миссис Мортон оперлась на кровать.
— Ты уже добилась всего, чего хотела. Что тебе еще нужно?
— Прошу вас! — воскликнула Сара. — Раз уж Оливер здесь… Он всегда вам нравился. Расскажите ему!
— Он и так знает все, что нужно. Будьте добры, мистер Бранвелл, передайте мне мою палку.
Я выполнил ее просьбу, но не перестал тупо смотреть на нее.
— Куда же вы?
— В Лондон. Сара хочет, чтобы я явилась с повинной.
Старуха вышла. Сара хотела подойти ко мне, но вдруг споткнулась. Я поймал ее за руку.
— Сара, любимая!
Она покачала головой.
— Не сейчас. Я в полном порядке.
Миссис Мортон ждала нас у второй двери.
— Что еще ты хочешь, чтобы я ему открыла?
— Как мое письмо погнало вас сюда перед пожаром. Да, Оливер, в четверг я написала ей, что мы уезжаем. Я не имела ни о чем ни малейшего понятия. Не знала, что Трейси скрыл от нее наш отъезд. И у нее зародились подозрения. Впервые она почуяла неладное после первого пожара и с тех пор с тревогой ждала, что Трейси повторит свою попытку. Поэтому в субботу она приехала сюда около семи. Трейси как раз собирался уезжать.
Сара неожиданно смолкла. Миссис Мортон была так худа, так выпирали кости у нее на лице, что в нем не осталось ничего женского. Впрочем, она сохранила свой аристократизм, чувство собственного достоинства и жесткий, отстраненный взгляд — точно маска смерти.
Она сама перехватила нить разговора.
— Когда я приехала, Трейси надевал пальто, собираясь идти в бывшую конюшню за машиной. Я сразу угадала правду по выражению его лица и сказала, что хочу пожить здесь пару дней. Он начал уверять меня, что это невозможно: в доме нет слуг, нет еды… Я возразила, что вызову Эллиота, — он живет в четырех милях отсюда. Скрывая нетерпение, Трейси пытался переубедить меня, даже сделал вид, что пошел звонить Эллиоту, а когда вернулся, сказал, будто тот отказался прийти. Это была ложь: Эллиот никогда ни в чем мне не отказывал. Мы проспорили больше часа. Я поднялась в свою спальню, Трейси — за мной. Он настаивал, чтобы я ехала вместе с ним в Йоркшир. Говорил, что я выжила из ума, если готова рисковать здоровьем из-за глупой прихоти. Я возразила: моя прихоть состоит в том, что я подозреваю его в преступном намерении поджечь дом. Тогда он потерял контроль над собой, выкрикнул… дикие, непростительные вещи… уверял, что дело уже сделано, фитили подожжены и очень скоро… Наверное, он думал, что это на меня подействует, но я не поверила, решила, что он просто пугает. Разъяренный, он бросился в свою спальню, начал срывать занавески, вытаскивать из ящиков постельное белье… Я пришла в неменьшую ярость и стала хватать его за руки… Я довольно сильна… была сильна… и у меня стальная воля. Завязалась борьба. Мы оба упали: Трейси внизу, а я наверху… — миссис Мортон остановилась, чтобы перевести дух. Она рассказывала так, словно это больше не имело к ней отношения. — Я потеряла сознание, а когда очнулась, уже стемнело. Электричество было отключено. Я повредила руку; с трудом поплелась в кухню устранить неисправность на распределительном щитке. В этот момент вы позвонили у двери… Единственное, о чем я жалею, это что не осталась и не сгорела в огне.
Я прокашлялся.
— А потом?
— Разве это имеет значение?
— Вы повредили руку…
— Я пошла к Эллиоту, он ее забинтовал. Там я провела ночь.
— Что вы ему сказали?
— Правду.
С минуту мы все трое молчали. Я посмотрел на Сару. В этот вечер она была воплощением мужества.
Я обратился к миссис Мортон:
— Как бы я хотел, чтобы на вашем месте был кто-нибудь другой! Все равно, кто.
Она повернулась и начала медленно спускаться по лестнице.
Глава XXIX
Я машинально забрался в свой автомобиль, развернулся и подъехал к тому месту, где раньше было парадное.
Сейчас, задним числом, я понимаю, что мне следовало быть умнее и предвидеть, что все не может быть так просто; следовало взять на себя ответственность. Возможно, тогда мы избежали бы катастрофы. Но у меня не было времени подвергать текст пьесы сомнению: когда я приехал, спектакль уже шел полным ходом. Мною владело одно-единственное чувство облегчения от того, что самое страшное, чего я так боялся, не случилось. Как будто побывал на приеме у врача с Харли-стрит и возвращаюсь с подаренной жизнью в кармане.
Они ждали меня под моросящим дождем. Трикси радостно повизгивала и виляла хвостиком. В сумерках лицо миссис Мортон выглядело совершенно изможденным, словно рок отметил его своей печатью. Я открыл перед ней дверцу; с минуту она колебалась — стояла, тяжело опершись на палку, и сверлила меня взглядом.
— Мы — древний род, мистер Бранвелл, — неожиданно выговорила она. — Все шесть веков мы не отличались ничем, кроме определенных норм поведения, которые бережно культивировались и передавались из поколения в поколение. Мы с поразительным упорством хранили верность этим высоким принципам. Такой род — все равно что столетний дуб, имеющий ценность сам по себе; она неотъемлема от него и не сводится к сумме ценностей отдельных его частей. Даже сейчас честь и достоинство кое-что да значат; их-то я и пыталась спасти. Прежде чем меня осудить, вспомните об этом.
Она забралась на заднее сиденье. Сара хотела сесть там же, но миссис Мортон замахала рукой, и Сара подчинилась — села рядом со мной.
Трикси свернулась калачиком возле старой хозяйки.
Я не сразу завел мотор. Помолчав немного, спросил Сару:
— Как ты обо всем догадалась?
— Генри Дэйн упомянул о затрудненном дыхании. Жаль, что ты мне раньше не сказал… А теперь поедем.
Мы отъехали от сторожки. Сара вдруг закрыла лицо руками.
— Что с тобой?
— Ничего. Просто переволновалась.
— Остановить машину?
— Нет.
— Может, поедем в Тонбридж или Слейден?
— Нет. Миссис Мортон поставила одно-единственное условие: если ей суждено явиться в полицейский участок, то не в этих местах.
Мы проехали Слейден. Сквозь расчищаемые дворниками стекла дома в свете фар казались расплывчатыми, нереальными — частью лунного пейзажа. Я скосил глаза на сжавшуюся в комок на заднем сиденье старческую фигурку. Слышала ли она наш разговор? И, главное, что она чувствует?
— Эта астма… Раньше она не болела…
— Болела, если в пору цветения — в мае, июне — оставалась в Кенте. И только. Но с тех пор постоянно мучается: должно быть, болезнь обострилась на нервной почве. Ее отец всю жизнь страдал астмой.
На ровном шоссе я прибавил скорость. Наверное, мне передалась страсть жены к быстрой езде. Сара обернулась к свекрови.
— Вам лучше?
— Скоро все пройдет.
В это мгновение я должен был бы насторожиться. Догадаться. Предотвратить…
Сара продолжила вполголоса:
— Я обратилась к Виктору. Он сказал, что в понедельник она уехала — очевидно, по дороге наведавшись к нам и взяв Трикси. Виктор предположил, что она отправилась на остров Уайт. И тут вдруг у меня мелькнула безумная догадка. Наитие. Я добралась до Ловис-Мейнора около семи. Главным было застать ее одну.
— Как же ты…
— Сначала она все отрицала. Но я хорошо ее знала. Если бы только она поняла, что мы с тобой пережили и перечувствовали… и что все висит на волоске… Оливер, мы с ней были очень привязаны друг к другу. После нашей с тобой свадьбы мы ни разу не виделись, и у меня не было возможности объяснить… До нее все доходило в искаженном виде. Понимаешь, ей чуждо зло. Да, она послала перстень — единственный поступок, продиктованный горечью и обидой, — но в этом больше всех виноват Клайв. После смерти Трейси она иногда навещала его, а он после нашей свадьбы каких только гнусных мыслей не вкладывал ей в голову! Она не подозревала о его роли в афере, а он — о том, что она посетила Ловис-Мейнор перед пожаром. Однако он почувствовал: здесь что-то нечисто — и искусно играл на этом. Она пережила трагедию. Единственный, кого я не приняла в расчет, это Виктор.
— При чем тут Виктор?
— Он всегда был ее любимцем. Она боялась, что, если правда выйдет наружу, это повредит его парламентской карьере или сведет на нет его усилия стать судьей. Она только и думала, как уберечь, защитить его. И поэтому я уже решила, что проиграла, не смогла тронуть ее сердца…
— Как же тебе удалось переломить ситуацию?
— Я слишком много знала. Все сошлось. Я пригрозила, что, если она не признается, я сама заявлю в полицию — или опубликую в газетах. Сказала, что если твоя жизнь будет покалечена, то и она тоже пострадает, и память о Трейси, и доброе имя Виктора. Не могу сказать, что я горжусь своим поведением.
Я накрыл ее руку своей ладонью.
— Я заставила ее понять, что, наоборот, чистосердечное признание в наименьшей степени сопряжено с оглаской. Пообещала, что мы сделаем все от нас зависящее. Оливер, нельзя ли не предавать эту историю огласке?
— Многое зависит от полиции. Но зачем им это нужно? Ее вряд ли привлекут к уголовной ответственности. Я тоже сделаю заявление. Не знаю, что еще можно предпринять.
Мы свернули на лондонское шоссе. Какое-то время не было слышно ничего, кроме гудения двигателя да шуршания шин. Странная поездка. Самая странная в моей жизни. Мне было тяжело, стыдно. Даже мелькнуло сомнение: да правда ли, что это — лучший выход? Но Сара знает, что делает. Она лучше меня знает миссис Мортон — возможно, боится, что та передумает… Сзади заскулила Трикси. Я бросил взгляд в зеркало заднего обзора и увидел, что миссис Мортон перебралась в другой угол.
— Сара… Твоя записка…
— Ох, прости. Наверное, я напустила туману. Но ведь у меня ни в чем не было уверенности — одни догадки. Я должна была справиться с этим в одиночку.
— А я подумал…
— Что я тебя бросила?
— Нет…
— Неужели ты никогда не перестанешь сомневаться? Разве я хоть раз дала повод?..
— Нет. Господи, нет. Я боялся… что Трейси жив.
— Ах, Оливер!
— Вот что не давало мне ни минуты покоя. Настоящий кошмар. По сравнению с этим ничто не имеет значения. Лишь бы не потерять тебя…
— Оливер, у тебя нет ни малейшего шанса меня потерять. Нет и не было, так и знай!
— Кажется, я начинаю в это верить. В первый раз за все время. Иногда бывает труднее всего поверить именно в то, что для человека важнее всего. Сара, я больше никогда не буду сомневаться в тебе. Обещаю.
Это случилось сразу после Фарнингема. Дождь перестал, дорога лежала перед нами — ровная и широкая. Мы ехали со скоростью примерно пятьдесят миль в час. Встречные машины попадались редко. Свет в окошке какого-то коттеджа заставил меня взглянуть в зеркало заднего обзора: не обгоняет ли нас какая-нибудь машина? Я не увидел миссис Мортон и повернул голову в другую сторону. И вдруг — яростный порыв ветра, испуганный визг Трикси… потом Сары… автомобиль круто занесло… открытая дверца метнулась парусом… скрежет тормозов… скрип шин об асфальт… нас бросило на кусты и какое-то дерево… мимо летели поля… наконец — страшный грохот… и тишина…
* * *
Я кое-как выбрался наружу и услышал собачий вой. Машина лежала на боку. Трава намокла. У меня мелькнуло желание лежать и не двигаться, и уж, во всяком случае, ни о чем не думать. На четвереньках я подполз к автомобилю. Внутри было темно… заливалась Трикси.
— Сара! — позвал я.
Крыло было сорвано; переднее колесо гордо взметнулось вверх. Я уцепился за него, чтобы подняться на ноги, — оно крутнулось у меня в руках. Я так же, ползком, обогнул автомобиль и, заглянув в заляпанное грязью ветровое стекло, увидел Сару. Меня чуть не вырвало.
Ее дверца оказалась внизу, поэтому я не смог до нее добраться. Сзади продолжала скулить Трикси; потом она принялась лизать лицо Сары, люк на крыше автомобиля!
Я пошарил кругом и, найдя увесистый булыжник, начал колотить им по крыше. Через несколько минут образовалась вмятина — но и только. Я совсем лишился сил, причем слабость была обусловлена не только физическим состоянием. Судьба описала круг, и я потерял Сару там же, где нашел, — в автомобиле. Мрак, боль и тщетность усилий. Вот чему — а не Трейси — было суждено разлучить нас! Слепой случай, пустота и отчание. Мое лицо было мокрым — не знаю, от слез или от пота.
Я взял другой, более острый камень и предпринял новую попытку. На этот раз мне удалось пробить металл. Я сунул в щель руку, но не смог дотянуться до защелки. Пришлось проделать в крышке люка еще одну пробоину.
Задача продолжала оставаться сложной. Защелку заело; мокрые пальцы с нее соскальзывали. Все же мне удалось ее повернуть. Крышка люка сдвинулась, и я услышал чье-то тяжелое дыхание. Я сильнее рванул крышку люка, чтобы полностью открыть его и в следующее мгновение коснулся ее волос, затем лица. Она пошевелилась. Живая!
Это вывело меня из оцепенения: мне снова было что терять! Я начал бессвязно разговаривать с ней, гладил ее лицо, старался привести ее в чувство, сердито кричал на мешавшую Трикси. Наконец я ухватил Сару под мышки. Однако мне не удалось ее вытащить. Она застонала…
Я понял: ей придавило ногу. Неподалеку послышались голоса. Я стал отчаянно звать на помощь.
Показался один из местных жителей: молодой очкарик. Он метнулся в проделанный моей машиной пролом в изгороди, подбежал и уставился на меня.
— Ну и ну! Вы в порядке?
— Моя жена… она ранена, я не могу ее вытащить. Не могли бы вы сбегать за доктором… и вызвать ”скорую помощь”? Скорее!
Сара вдруг открыла глаза.
— Привет…
— Сара, ты…
— Я в порядке, Оливер.
— У тебя что-нибудь болит?
— Нога… с ней что-то непонятное.
— Господи, милая, это я во всем виноват. Я не успел сообразить, что она задумала. Выскочила из машины, и нас занесло…
— Я знаю. Что с ней?
Я думал, молодой человек ушел, но он обошел автомобиль и посветил внутрь фонариком.
— Это приборная доска. Ее сорвало вниз. Но я думаю, мы справимся. Сейчас сбегаю за ломиком.
— Приведите врача. У вас есть телефон?
— Нет. Зато он есть у соседа. Не беспокойтесь. Я уже попросил брата этим заняться.
Глава XXX
Я опоздал на собрание на двадцать минут. Все уже ждали; мое опоздание их разозлило. Здесь были Рекитт, начальник Макдональда Роусон, оба Аберкромби, Чарльз Робинсон и член Совета из Бирмингема по фамилии Спенсер — багроволицый субъект лет шестидесяти со странной привычкой неожиданно закрывать глаза в середине предложения. Рекитт попросил принести кофе. Все сидели за столом, пили и обменивались мнениями. Майкл подошел ко мне и спросил, все ли в порядке. Я ответил: да, разумеется.
Не помню, как все началось, потому что думал о другом и вообще пребывал в тумане. Кажется, я занял место напротив Макдональда. Спенсер проворчал, что семейные обстоятельства — не оправдание для того, чтобы опаздывать на столь важное мероприятие. Но, кажется, до него дошло, что случилось нечто посерьезнее потасовки в мужском туалете. Вдруг послышался шум, и появился Генри Дэйн. Его не ждали, и в комнате не нашлось стула, но он замахал руками, чтобы не беспокоились, и, прислонившись к камину, принялся набивать трубку.
Начался разбор моей ссоры с Макдональдом. Чарльз Робинсон что-то сказал; я не расслышал, потому что перед моими глазами стояли картины недавнего прошлого: как я ухватил Сару под мышки и не смог вытащить; как пришел человек с ломиком, но я не позволил пустить его в ход, боясь еще больше повредить ее ноге. Сама же Сара то и дело спрашивала о миссис Мортон. Наконец кто-то принес известие о том, что в полумиле отсюда на шоссе нашли мертвую женщину.
До меня донеслись слова Макдональда:
— Если Бранвелл думает, что я затаил против него обиду, он очень ошибается. Возможно, не дело маклера — расследовать предполагаемую аферу, но в сложившихся обстоятельствах я счел это своим долгом, потому что я единственный столкнулся с рядом подозрительных фактов. Передо мной стоял выбор: либо докопаться до правды, либо закрыть глаза и таким образом изменить высоким принципам нашей профессии, которые все мы исповедуем, к какому бы подразделению ни принадлежал каждый из нас. Что касается слухов, то я не занимался специально их распространением. Бранвелл сам во всем виноват.
Он еще долго разглагольствовал о своих чувствах и побуждениях.
… Санитары, прибывшие на ”скорой помощи”, решили, что лучший способ вытащить Сару — поставить автомобиль на четыре колеса. Они постарались сделать это как можно осторожнее — все шесть человек. У меня же сердце ушло — нет, не в пятки, а как будто в желудок… Под конец все же не удалось избежать небольшой тряски, а анестезирующий укол, похоже, не успел подействовать. Наконец они открыли дверцу и извлекли злополучную приборную доску. Сара пробормотала: ”Дорогой, теперь у нас снова нет доказательств… Они нам так нужны!..”
Спенсер задал мне какой-то вопрос.
— Прошу прощения.
— Как я уже сказал, мистер Бранвелл, единственная цель сего собрания — прояснить некоторые сомнительные моменты. Не могли бы вы оказать нам честь, изложив свою точку зрения?
Все ждали моего ответа. В пищеводе у меня застрял остывший кофе; я испытывал тошноту и головокружение и всячески избегал смотреть в сторону Генри Дэйна. (Я ответил Саре: ”О чем ты, любимая? Какая, к черту, разница!”)
— Мою точку зрения?.. Макдональд правильно изложил факты, но я не согласен с его интерпретацией.
Спенсер прикрыл глаза.
— То есть, вы не отрицаете факт вашего присутствия на месте происшествия в тот самый вечер?
— Нет, не отрицаю, — я сделал над собой усилие, чтобы сосредоточиться, отвлечься от событий вчерашнего вечера и подумать о дне сегодняшнем, проникнуться важностью момента и просчитать ходы.
И вдруг, неожиданно для самого себя, я начал рассказывать обо всем, что тогда произошло: бессвязно, сбивчиво, в той последовательности, как это приходило в голову.
Странное ощущение! Собственные мотивы теперь казались мне неубедительными — а ведь в то время одно логично вытекало из другого. Я впервые на собственной шкуре убедился в том, какой страшной западней могут обернуться жесткие рамки закона. Возможно, право и закон вообще несостоятельны, поскольку в их основе лежит представление о человеке как о разумном существе? Разум — всего лишь тонюсенькая ниточка в ткани человеческих судеб…
По крайней мере я больше не испытывал соблазна оправдать себя. Я сам запутал свою жизнь, увязнув по уши в дерьме, — но это уже не имело значения.
Я продолжал свое повествование, но, дойдя до событий вчерашнего вечера, резко остановился, не желая впутывать миссис Мортон. Они собрались, чтобы обсудить не ее, а мои поступки. Кроме того, мне не хотелось упоминать об аварии и таким образом взывать к их сочувствию. Поэтому я заранее уговорил Майкла ничего не говорить остальным.
Закончив, я закурил, убрал зажигалку и уставился на горящий кончик сигареты. Все молчали. Я думал: нам еще предстоит пережить полицейское расследование. Самоубийство как результат временного умопомрачения — самая удобная формула. Все довольны. Тогда как на самом деле она действовала в полном рассудке. Даже подумала о том, чтобы привязать к сиденью Трикси перед тем, как открыть дверцу. Это был полностью осознанный выбор. ”Честь и достоинство до сих пор кое-что да значат. Я пыталась их спасти”…
— Да, мистер Бранвелл, — произнес Спенсер. — Вы дали нам обильную пищу для размышлений. Признаюсь, я нахожу некоторые аспекты вашей истории крайне обескураживающими.
Рекитт издал сухое покашливание и заложил палец за воротник.
— Обескураживающие — не то слово! По вашему собственному признанию, мистер Бранвелл, — если принять ваш рассказ на веру, — вы заподозрили мошенничество, находились на месте преступления — и на протяжении нескольких месяцев так ничего и не предприняли! Ваша собственная фирма подтвердила правомерность иска — и вы палец о палец не ударили, чтобы предотвратить выплату весьма крупной суммы. Странный поступок, мистер Бранвелл!
… К тому времени, как мы добрались до больницы, у меня все перепуталось в голове. Я ощущал странную связь происшедшего с судьбой моего отца. Он вернулся домой, закрыл дверь и пустил газ… Я нашел его лежащим на полу… при смерти…
— Да, конечно.
— И теперь, спустя четыре месяца, будучи женатым на вдове того самого Трейси Мортона и обманом присвоив сорок тысяч фунтов, вы хотите, чтобы мы поверили, будто вы собирались вернуть эти деньги, — в то время как с вашей стороны не было предпринято ни единой попытки такого рода?
— Я не прошу мне верить. Просто это правда.
— Ну, знаете… — Рекитт перевел взгляд на отца и сына Аберкромби. — Раньше я сомневался в целесообразности этого совещания, но теперь…
Мистер Аберкромби был очень бледен.
— Скажите, Бранвелл… эти картины… вы пытались проследить путь оригиналов? Заявили в полицию или таможенную службу?
— Нет. Думаю, они вывезены из страны.
— Вы думаете! — возмутился Рекитт.
Шеф Макдональда, Роусон, повертел в руках свои очки.
— Мне все же непонятно… Мистер Бранвелл признает, что не выполнил свой долг по отношению к системе страхования. Но есть более широкие обязанности человека и гражданина — прежде всего обязанность свидетельствовать перед лицом закона, сообщать в полицию об известных нарушениях… об обнаружении трупа… Как Бранвелл все это объясняет?
Я погасил окурок сигареты. У меня дрожали руки.
— Может показаться, будто здесь две стороны, хотя на самом деле существует только одна. Я подозревал в соучастии жену Мортона и не был готов разоблачить ее. Вот и все. Но я пришел сюда не затем, чтобы оправдываться, а чтобы попробовать все объяснить. За свои прегрешения перед законом я уже понес ответственность в другом месте. Сейчас речь идет о моей вине как страхового агента, и здесь не может быть двух мнений, — я поднял глаза на Макдональда — он смотрел в сторону. — Я много думал обо всем этом и нашел один-единственный выход. Поэтому два часа назад позвонил Майклу Аберкромби и попросил принять мою отставку.
Снаружи башенные часы пробили полдень. Они напомнили мне о других, больничных часах, которые всю ночь исправно били по моим нервам. Не знаю, смогу ли я когда-нибудь снова сесть за руль. Можно прожить много лет и так и не узнать, что такое скорость: это постигаешь лишь в момент аварии. Если в будущем мне суждены ночные кошмары, то, скорее всего, мне будет сниться мокрая трава, лай Трикси и осознание того, что Сара — там, в перевернутом автомобиле…
До меня доносился гул голосов; Майкл что-то объяснял; Рекитт согласно кивал головой; решение представлялось всем единственно возможным.
— Минуточку, — раздался от камина голос Генри Дэйна. Я подумал, что это вырвалось у него случайно, однако на присутствующих этот возглас произвел впечатление судейского молотка, призывающего к порядку. — Не слишком ли мы спешим? И не слишком ли однобоко смотрим на происшедшее? Здесь есть вина самого Бранвелла, который весьма неуклюже объяснил свое поведение. Но даже в уголовном суде делается скидка на волнение свидетеля.
— В уголовном суде, — заметил Рекитт, — не принято игнорировать факты.
— Разумеется. Но прежде, чем вынести приговор, необходимо собрать их как можно больше, если не все. Что вы там промямлили несколько минут назад, Оливер? Что-то насчет того, что вы будто бы принесли извинения в другом месте?
— Не извинения. Я дал показания в полиции.
— Когда?
— Два часа назад. Поэтому и задержался.
— Но почему именно сегодня, в девять часов утра? Или события получили дальнейшее развитие?
Я был зол на него за это давление. А впрочем, какая разница? Все равно они узнают. Эти достойные мужи уже успели принять решение, и меня не упрекнут в том, что я пытался их разжалобить.
И я поведал им о поездке Сары в Ловис-Мейнор вчера вечером, о признании миссис Мортон и о том, как все встало на свои места. Рассказал о ее прыжке из стремительно мчавшейся по мокрому шоссе машины — прыжке, приведшем к катастрофе. Объяснил, что провел ночь в больнице и прямо оттуда приехал на собрание.
Последовала неловкая пауза. Никто не находил, что сказать. Я знал, что так будет, — поэтому и не хотел говорить об этом.
Первым нарушил молчание мистер Аберкромби.
— Но почему вы сразу не сказали? Как чувствует себя ваша жена?
— У нее перелом ноги и сотрясение мозга. Врач утверждает, что она поправится. Через пару дней можно будет сказать с большей уверенностью.
— Миссис Мортон разбилась? — спросил Дэйн.
— Да.
— Она представила доказательства?
— Слуга Эллиот может подтвердить ее рассказ, если сочтет нужным. Она провела в его доме ночь после пожара.
— Есть свидетели аварии?
— Какой-то велосипедист видел, как женщина выпрыгнула из машины.
— Слава Богу!
— Вы ничего не упускаете.
— Что ж, — возразил Генри Дэйн. — Должен же кто-то позаботиться о человеке, у которого напрочь отсутствует инстинкт самосохранения. Что сказали в полиции? Вы виделись с инспектором Барнсом?
— Да. Я отдал ему заявление. Он был немногословен, но, кажется, у него не осталось вопросов.
— Вот видите, оказывается, это не так уж и страшно.
— Да — после того, как вас вынудят обстоятельства.
Спенсер откашлялся.
— Мистер Дэйн, до сегодняшнего дня вы имели какое-либо касательство к этому делу?
— Да, конечно. Поэтому и рекомендую вам не спешить с выводами. Бранвелл вел себя, как настоящий осел, но ни в коем случае не как преступник.
— Вы хотите сказать, что он обращался к вам за советом? — поспешность, с которой мистер Аберкромби задал этот вопрос, наполнила мое сердце признательностью.
— Я был в курсе практически с самого начала.
— И что же, он последовал вашему совету?
— Нет, конечно. Иначе не попал бы в такую переделку.
Все ждали, пока он снова зажжет трубку. Он не торопился.
— В первый раз Бранвелл пришел ко мне за несколько дней до пожара — примерно тогда же, когда и к вам, Макдональд, — и поделился своими подозрениями. Я дал ему адрес человека, который разбирается в подделках. Конечно, Бранвелл представил этот случай как гипотетический, но мы обсудили его достаточно полно. У меня не было оснований связать этот случай с Ловис-Мейнором — ни до, ни после пожара — и уж, конечно, я никак не мог предположить, что он будет настолько глуп, чтобы ворваться в частное жилище, — Дэйн выпустил струйку дыма и несколько секунд наблюдал за тем, как она, растворяясь в воздухе, уплывает к потолку. — После пожара… после пожара он не рассказал мне всего, что следовало, но вообще за эти несколько месяцев мы имели несколько бесед. Вы ставите ему в вину, что он не явился в полицию и не заявил о том, что обнаружил в доме труп, а также об умышленном поджоге. Я тоже — но все не так просто. При первых признаках начинающегося пожара — если вы не сомневаетесь в правдивости его показаний на этот счет — Бранвелл сделал все от него зависящее, чтобы потушить огонь, и вызвал пожарную команду. Услышав звук сирены, он был поставлен перед необходимостью в считанные доли секунды принять решение: остаться или скрыться с места происшествия. Он пустился бежать — а потом было слишком поздно.
— Поздно для чего? — осведомился Макдональд.
— Для любого естественного в такой ситуации поступка. Потому что, покинув место происшествия, он лишился каких бы то ни было доказательств того, что он действительно был там. Чем он мог подтвердить тот факт, что поджог подготавливался заранее? Все, что ему было гарантировано, это огромные неприятности и бесславный конец карьеры — при том, что, вздумай страховая компания оспорить иск, она все равно проиграла бы дело.
У Спенсера еще оставались сомнения.
— Но все-таки…
— Погодите. По прошествии нескольких месяцев Бранвелл нечаянно узнает, что миссис Трейси Мортон не имела к этому никакого отношения. Они встретились; он открыл ей все, и она без колебаний решила вернуть деньги. Тогда он сразу же явился ко мне.
— До свадьбы? — уточнил мистер Аберкромби.
— Ну, конечно.
Меня так и подмывало уличить его во лжи, но это было бы несправедливо — и потом, ведь он не так уж и лгал. В эти минуты Генри был похож на человека, который, перепрыгивая с кочки на кочку, пробирается через болото, постоянно рискуя оступиться и захлебнуться зловонной жижей; однако он даже ног не замочил. Он рассказал, как я просил о встрече, но срочные дела погнали его в Ливерпуль, и он только после нашего возвращения из свадебного путешествия смог уделить мне внимание, однако к этому времени уже распространились слухи о моей нечестности и ситуация вышла из-под контроля. С его слов выходило, будто ответственность за то, что мистер Рекитт до сих пор не получил обратно свои сорок тысяч фунтов, лежит на сплетниках. Он поведал о том, что советовал мне обратиться в полицию, но я предпочел провести самостоятельное расследование, и кончил утверждением, что мы с женой наконец-то распутали клубок, к полному удовлетворению блюстителей порядка. То, что один из нас в результате очутился в больнице, а другой без работы, представляется ему сомнительной наградой.
Когда Генри закончил, у него как раз догорела трубка, и он начал очищать ее от нагара. Спенсер держал в руках догоревшую сигарету, которую так и не взял в рот.
Первым опомнился Рекитт.
— Что ж, Дэйн, вы позволили нам взглянуть на ситуацию с другой стороны, и мы выражаем вам свою признательность. Это несколько меняет дело. Тем не менее меня удивляет, что человек с вашим опытом лезет из кожи вон, чтобы оправдать серьезнейшие — несмотря ни на что — нарушения. Мы можем признать человека невиновным в совершении уголовного преступления, однако остается обвинение в халатности и непонимании им своих обязанностей.
— Все это так, я совершенно с вами согласен. Бранвелл вел себя как последний идиот — но и только. Но вы не учитываете, что ведь он — новичок в нашей профессии. Я сам — юрист и тридцать лет занимаюсь вопросами страхования. Некоторые из вас — более сорока. А Бранвелл приступил к работе пять лет назад — безо всякой подготовки. Если бы я сам оказался в подобной чрезвычайной ситуации — не приведи Господи! — мне не пришлось бы ломать голову: инстинкт моментально подсказал бы мне правильное решение. Он же не обладал соответствующей интуицией. Вот и вся разница. Какую репутацию он успел заслужить за эти несколько лет? Спросите Аберкромби. Спросите самих себя и других страховщиков, — Дэйн умолк и издал пренеприятнейший звук, продувая трубку. — Благодаря своему уму, мужеству и непреклонности он снискал всеобщее уважение — иначе я не был бы здесь и не выступал в его защиту. Мир страхования нуждается в подобных людях. Глупо изгонять такого человека пинком под зад за один-единственный проступок. Скажу вам больше: если сегодня мы укажем ему на дверь, он завтра же пополнит своей особой ряды поверенных и, нимало не потеряв в заработке, выступит на стороне наших деловых оппонентов. Отрезвляющая мысль — и, несомненно, заслуживающая внимания.
— Позвольте, — обиженно вставил Рекитт. — Насколько мне известно, никто не говорит об изгнании пинком под зад, как вы изволили выразиться. Это неофициальное собрание неправомочно принимать решения. Мы собрались с одной-единственной целью…
— Знаю, знаю. Однако настоящее собрание достаточно авторитетно, и итоги его работы непременно станут достоянием гласности. Если мы здесь и сейчас придем к выводу, что Бранвелл действовал недостойным образом, у него не будет другого выхода, как немедленно подать в отставку, а Аберкромби ничего не останется, как только принять ее.
В каком-то смысле я предпочел бы обойтись без его заступничества. Этой ночью у меня было достаточно времени, чтобы все обдумать, так что я пришел на эту встречу с твердым решением, но Генри говорил так убедительно, что даже меня заставил посмотреть на вещи с другой точки зрения. Несмотря на первоначальные сомнения, работа с отцом и сыном Аберкромби меня полностью устраивала — вплоть до пожара в Ловис-Мейноре…
Погрузившись в раздумья, я снова упустил нить разговора, а когда очнулся, речь держал Макдональд.
— …с тех пор, как я заинтересовался этим делом. Сказанное Генри Дэйном — и Бранвеллом — полностью сняло противоречия и развеяло мое недоумение. У меня нет ни малейшего желания взывать к мести. Здесь сидят люди постарше меня, но, если мое мнение что-то значит, хочу сказать, что я полностью удовлетворен услышанным и предлагаю забыть это дело, словно его и не было.
Я был тронут его благородством, другие — тоже. На несколько минут в кабинете воцарилась тишина. Я заметил, что Спенсер готовится что-то сказать, и понял, что должен опередить его.
— Я глубоко признателен Макдональду, но так не годится. Все это время, с самого мая, я ломал себе голову… Эту ночь я провел без сна и наконец увидел вещи в истинном свете. Не знаю, согласятся остальные с Макдональдом или нет — возможно, я предпочел бы так и не узнать этого, — но, если даже вы готовы меня простить, мне хочется самому решить свою судьбу. Это не эгоизм и не гордыня; если бы я поверил, что смогу выйти из испытания с честью… Что бы ни говорил Генри Дэйн, это не так — во всяком случае, таково мое мнение, а в конечном счете оно-то и играет решающую роль. Поэтому, чтобы быть чистым перед своей совестью, я подаю прошение об отставке.
Снаружи доносился шум уличного движения. Несмотря на субботу, рабочий люд жил в обычном трудовом ритме.
— Уволившись из армии, — продолжал я, — я получил предложение поработать в Новой Зеландии. Оно все еще остается в силе, и мы с женой решили принять его. Возможно, там нас ждут свои трудности, но мы полны желания начать с чистого листа. Конечно, если бы не эта история, я и не подумал бы круто менять свою жизнь. Но, возможно, в конечном итоге оно и к лучшему, — я запнулся, подбирая нужные слова. Спенсер вертел в ладонях карандаш. Никто не смотрел на меня, кроме Чарльза Робинсона.
— Видите ли, Оливер, — начал мистер Аберкромби, но я перебил его.
— Не знаю, что сейчас думают мои партнеры, но мне будет бесконечно жаль с ними расстаться; ведь они учили и поддерживали меня, приняли в свою фирму и в свою жизнь, и я вечно буду благодарен им за дружбу и доверие. У меня нет такого чувства, будто эти пять лет прошли даром. Возможно, что-то из того, чему я научился, работая в системе страхования, больше не понадобится, но громадная часть этого опыта сослужит мне добрую службу, чем бы я ни занимался. Некоторые учатся быстро и безболезненно. Моя же учеба затянулась до сих пор. История с Ловис-Мейнором показала, что, как ни жаль, мне не удалось пройти свой путь, ни разу не оступившись; но это не так трагично, как если бы я не знал, куда идти.
Спенсер бросил взгляд на Рекитта, но тот смотрел в окно. Спенсер произнес:
— Каковы бы ни были наши чувства, не думаю, что имеет смысл продолжать это неофициальное совещание. Решение Бранвелла касается только его самого и Аберкромби. Если он тверд в своем намерении, а я думаю, что это так, это более не наша забота. Но даже в этом случае считаю себя обязанным высказаться относительно великодушного предложения Макдональда. Мне представляется, что цель нашего собрания полностью достигнута: не в том смысле, что мы вынудили Бранвелла подать в отставку, а в том, что нам удалось примирить стороны и доискаться правды. Я лично, выступая здесь в роли стороннего наблюдателя, хочу заявить, что сегодняшнее поведение мистера Бранвелла произвело на меня самое благоприятное впечатление. Это цельная натура, и, мне кажется, здесь нет ни одного человека, который не пожелал бы ему успеха во всех дальнейших начинаниях.
* * *
Вот и все. Я стоял на перекрестке Лайм-стрит и Леденхолл-стрит, пережидая поток машин. Через какой-нибудь час жизнь Сити замрет. И во мне умрут надежды и тревоги, связанные с Сити.
Легко было рассуждать о начале новой жизни, но, по правде говоря, в душе я был далеко не так уверен в правильности своего решения. Вопреки собственному утверждению, я еще толком не обсудил свои планы с Сарой, даже не выяснил, все ли еще вакантна должность, предложенная мне Роем Маршаллом. Не то чтобы я сомневался в чувствах Сары — с этим навсегда покончено, — но огромный расход нервной энергии за последние сутки произвел во мне страшное опустошение. Я чувствовал себя выжатым, как лимон, и совершенно подавленным. Я ни в чем не раскаивался, но вдруг четко осознал, что новая жизнь чревата новыми трудностями, испытаниями и ошибками.
И еще. Несмотря на все теплые взгляды и пожимание рук, которыми закончилась эта деловая встреча, первоначальное ощущение, что я будто бы покидаю мир страхования с чистой совестью, сменилось опасением, что мне никогда не смыть с себя позорного клейма и я навсегда останусь под подозрением. А с этим трудно жить дальше.
В конце недели в Сити наступает напряженная тишина, больше похожая на затишье перед бурей. В эти минуты я, как никогда, почувствовал себя на чужой, незнакомой территории.
Я не сказал всего, что хотел, людям, выступившим на моей стороне. Правда, в конце я подошел к Майклу и его отцу и начал что-то говорить, но, как обычно, не нашел нужных слов.
Свернув к банку, где легче поймать такси, я вдруг почувствовал, что кто-то дотронулся до моей руки. Это был Генри Дэйн.
— Ну, друг мой, вы довольны сегодняшним днем?
— А вы?
— Я — нет. Если бы я знал, что вы планируете харакири, не стал бы жертвовать утренней партией в гольф.
— Это была одна из ваших лучших адвокатских речей. Простите.
— Вас подвезти?
— Нет, спасибо.
Мы прошли вместе несколько шагов, и я вдруг остановился.
— Послушайте, Дэйн, мне хочется вас поблагодарить. Не знаю, какого дьявола вы предприняли все эти хлопоты… решились плыть против ветра…
— Дорогой друг…
— Нет, — я не дал ему закончить фразу. — Вам не увильнуть. Я никогда не забуду все, что вы для меня сделали. Не подумайте, что ваши труды напрасны. Благодаря вам я сошел с корабля, оставив его в приличном состоянии, — вместо того чтобы он затонул, торпедированный со всех сторон.
— Зачем вообще было сходить с корабля?
— Потому что я так чувствую. Или чувствовал. В данный момент я уже ни в чем не уверен.
— Если вы уедете сейчас, когда слухи еще не утихли…
— Я еще не уезжаю. Пообещал Аберкромби оставаться на своем посту, пока все не утрясется. Мне наплевать на слухи, но далеко не безразличны оба Аберкромби.
— Я очень рад.
Мы в молчании дошли до поворота на Грейсчерч-стрит. Я спросил:
— По-вашему, я совершу ошибку, если уеду в Новую Зеландию?
— Вы совершите ошибку, если не попытаетесь уладить дело здесь. Ситуация очень сложна, но не настолько, чтобы вы не смогли взять ее в свои руки. Бегство от проблемы — не есть ее решение, особенно если многие из препятствий коренятся в вашей собственной натуре. Оливер, вас создала Англия, пусть она и расхлебывает последствия. На этой почве все началось, здесь и должно закончиться. Уезжайте — но не раньше, чем все придет в норму. У вас есть мужество, цельность характера и жена — ваша ровня во всем. С ее помощью вы сдвинете горы — но при условии, что сейчас не струсите.
Я в упор посмотрел на его живое, морщинистое лицо.
— ”Трусость” не относится к моим любимым понятиям.
— Я так и думал. Потому-то и позволил себе прибегнуть к этому слову. Меня ждет автомобиль. Так что я с вами прощаюсь.
Я пожал ему руку.
— В любом случае — огромное спасибо. Есть вещи, о которых вы еще не знаете. Как-нибудь навещу вас и все расскажу.
Он улыбнулся.
— Конечно. А насчет будущего… посоветуйтесь с Сарой и сделайте так, как она скажет.
— Так я и поступлю.
Мы перешли через дорогу. На прощанье он произнес:
— Надеюсь, что ей уже лучше. Ведь только ее благополучие и имеет для вас значение, не правда ли?
Генри уехал, а я прошел еще немного по направлению к банку, думая про себя: так оно и есть.
БАРЬЕРЫ
Глава I
Когда мой брат покончил жизнь самоубийством, я находился в Калифорнии и поэтому не мог ни присутствовать во время расследования, ни принять участие в похоронах. Мне удалось выбраться только через две недели. Я прилетел в Англию самолетом, а из аэропорта отправился прямиком туда, где жил — близ Доркинга — и откуда пришла телеграмма. Однако дом оказался на замке, а соседка сказала, что Грейс остановилась у моего старшего брата Арнольда в Уолверхэмптоне. Я переночевал в Лондоне и на следующий день машиной отправился туда.
Можно было представить себе, каким ударом его смерть явилась для Грейс, поэтому я решил сначала увидеться с Арнольдом. Его единственное письмо — путаное и бессвязное — свидетельствовало о том, что он совершенно сбит с толку, и мало что добавило к тому, что говорилось в телеграмме. Немного удалось почерпнуть и из американских газет: чтобы не опережать следствие, они избегали определенно высказываться о причинах гибели брата. Все, что можно было понять, это что на обратном пути с Дальнего Востока домой, в Англию, Гревил на несколько дней остановился в Голландии и вдруг бросился в воды канала на окраине Амстердама. Для меня в этом было столько же смысла, как если бы мне сказали, что он повесился на шнурке от ботинка у себя на кухне.
Я подъехал к административному зданию и, обогнув его, подкатил к служебному входу, отметив при этом новый корпус на Грин-стрит, все с той же вывеской: ”Механический завод. Хамфри Тернер и сыновья”. Меня кольнуло острое сожаление, что я таки не узнал как следует Хамфри Тернера, моего отца.
В головной конторе сидели две или три девушки; ни одна не печатала на машинке, поэтому мне был слышен басовитый голос Арнольда, доносившийся из-за двери с матовыми стеклами. Секретарша доложила о моем приезде, и меньше чем через минуту меня пригласили в кабинет.
Арнольд всегда отличался склонностью к полноте, однако до сих пор смотрелся крепышом. Теперь же он казался обрюзгшим. Сам я тяжело перенес известие о смерти Гревила, но не имел ни малейшего понятия о чувствах Арнольда. Возможно, он и сам о них не подозревал. А может быть, подумал я, когда он начал свой рассказ, его в первую очередь угнетает ощущение позора, который эта смерть навлекла на всю семью.
— Это ужасно, — хриплым голосом произнес Арнольд. — Молодой, перспективный ученый, у которого впереди была длинная череда новых открытий. Несмотря на метания, его послужной список… Невозможно себе представить, какие мысли и чувства могли толкнуть его на роковой шаг.
— Я знаю только то, что сообщала американская пресса.
— Здесь, в Англии, никто не сомневается в том, что это — самоубийство. Принимая во внимание информацию, полученную от голландской полиции…
— Ты летал в Голландию?
— Да — вместе с Грейс. — Мы… доставили его домой. Девятого состоялись похороны.
— Как она?
— Сейчас уже лучше.
— А Пегги?
— Посещает школу. Это было ужасное время для всех нас, — он с досадой покосился на меня. Я был младшим из братьев, и во всех тяжелых ситуациях основное бремя несли другие члены семьи. — Твоя помощь пришлась бы кстати. Хотя, разумеется, и сейчас еще хватает забот.
— Вопросов тоже, — я поднялся с кресла. Невозможно было спокойно сидеть и нейтральным тоном разглагольствовать о случившемся.
— Скорее всего, на большинство из них мы никогда не получим ответа.
— Он не был болен?
— Незадолго до отъезда с Явы его потрепала малярия, но в легкой форме. Он садился в самолет здоровым человеком.
Я словно размышлял вслух:
— Но это же совершенно лишено смысла. Кто угодно, только не Гревил. Я получил последнее письмо от него два месяца назад, в нем не было ровным счетом ничего особенного.
— ”Кто угодно, только не Гревил”,— повторил Арнольд, вставая и затем садясь на краешек стола. — Когда я впервые услышал эту новость, то подумал то же самое — и точно такими же словами. ”Кто угодно, только не Гревил”. Странно, да?
— Тем, кто его знал, ничего другого и не могло прийти в голову.
После непродолжительной паузы Арнольд сказал, тщательно подбирая слова:
— Конечно, нельзя не учитывать тот факт, что такие блестящие, талантливые молодые люди, как Гревил, как правило, испытывают на себе гораздо большие нагрузки, чем мы, простые смертные. Так было с отцом…
Не очень-то утешительное объяснение. Я сразу же отбросил его. Необходимо, подумал я, чтобы все мы его отбросили.
— Гревил был уравновешенным человеком. Самым здравомыслящим из нас троих.
Арнольд высморкался, поднял голову и взглянул на меня поверх платка. Знакомый, немигающий взгляд.
— К сожалению, Филип, факты входят в противоречие с этой теорией. По-видимому, его состояние было не столь благополучным, как мы думали. Долгое время болел его ассистент. Ты же знаешь, Гревил и так не щадил себя на работе. Должно быть, сказалось переутомление…
Я недоверчиво воззрился на него.
— Почему вы исключаете несчастный случай? Он мог поскользнуться в темноте…
— Понимаешь… имеются свидетели. Одна женщина видела, как он бросился с парапета. В ходе следствия она немного изменила свои первоначальные показания: мол, возможно, он и вправду оступился… но и слепой заметил бы, что она сама этому не верит. И потом, то злосчастное письмо, которое нашли у него в кармане пиджака. Оно-то и дало возможность поставить точку над ”i”.
— Его предсмертное письмо?
— Нет. Записка от женщины, в которой она ставила его в известность, что между ними все кончено.
Арнольд спрятал платок обратно в карман. Не знаю, что отразилось в эту минуту у меня на лице, но я не поверил.
— Грейс знает?
— Пришлось сказать. Это не попало в газеты. Голландские власти были исключительно корректны. Предоставили в наше распоряжение всю имеющуюся у них информацию. Гревил пользовался их особым расположением: не только за вклад в археологическую науку, но и в знак признательности за услуги, оказанные им во время войны членам королевской семьи. Как раз в тот вечер он должен был ужинать с графом Луи Иоахимом.
— Этого я тем более не могу переварить.
— Филип, нам все-таки не уйти от фактов.
— Но он, несомненно, был счастлив в браке с Грейс. Кто эта женщина? Она дала показания?
— Ее не удалось разыскать. В конце письма стояло одно лишь имя. Она писала на фирменной бумаге отеля, где остановился Гревил.
Я обдумал услышанное. Обычно люди отличаются большей терпимостью по отношению к собственным прегрешениям, нежели к чужим. Но дело было не в терпимости, а в том, что это не укладывалось в голове. Арнольд вздохнул.
— Раз уж ты здесь, едем ко мне обедать. Ты, конечно, знаешь, Грейс сейчас живет с нами. Можно отправиться на твоей машине — так будет быстрее. Все равно я сейчас уже не смогу работать.
Мы вышли на улицу и сели в мой автомобиль.
— Как твои дела? — поинтересовался Арнольд.
— Нормально.
— Работа по-прежнему устраивает?
— Вполне.
— Ты большей частью живешь в Калифорнии?
— В последний год — да. Я бы приехал сразу, как получил телеграмму, но в делах как раз возникли затруднения, и я не мог их бросить.
— Ты надолго в Англию?
— Примерно на неделю. Кажется, дела на заводе идут неплохо?
— Более или менее. Главные проблемы — с сырьем и доставкой. Правда, сейчас контрактов стало меньше. Что и говорить, скоропостижная смерть одного из членов семьи… заставляет задуматься о судьбе семейного бизнеса.
— Ты еще молод и энергичен.
— Да, но… Хотя Гревил и не принимал активного участия в делах фирмы… эта смерть не может не отразиться на ходе дел. Хорошо бы люди умели просчитывать на несколько ходов вперед.
Обед прошел в тягостной атмосфере. Грейс, как обычно, была мне рада, но нетрудно было заметить, что мой приезд воскресил тяжелые воспоминания в их первозданной остроте. Мы старались не касаться этой темы. Потом Арнольд вернулся на завод, а Мери под каким-то предлогом оставила нас с Грейс одних. Мы немного потолковали о Калифорнии; затем я не выдержал и, оборвав начатую было фразу, сказал:
— Грейс, мне бесконечно жаль, что меня не было рядом с вами, когда это случилось. Ты знаешь, как я любил Гревила. Просто невозможно представить…
На ее лице застыло то бесстрастное выражение, какое бывает у людей, когда то, что составляло смысл их жизни, внезапно является в новом, неприглядном свете.
— Филип, мне понятны твои чувства. Арнольд хотел тебя как-то подготовить, но я решила, что ты сам предпочел бы…
У нас развязались языки. Ей постепенно становилось легче. Она слишком долго таила все в себе.
Насколько мне было известно, Гревил покинул Англию шестого ноября и все это время пробыл на Яве. По договоренности с голландским и индонезийским правительствами он должен был заниматься раскопками в Сангиране, где когда-то начатые работы были остановлены во время войны, и в Триниле, где были обнаружены останки первобытного человека. В конце прошлого месяца он прилетел в Голландию — значительная часть найденных им экспонатов предназначалась для Рийкс-музея. Он пробыл в Амстердаме два дня и погиб. Незадолго до этого Грейс получила от него телеграмму из Джакарты, так что он мог в любую минуту появиться дома. И вдруг Арнольду позвонили из британской полиции и уведомили о несчастном случае.
По окончании ее рассказа я воздержался от комментариев, только взял со стола фотографию Гревила в серебряной рамке и долго смотрел на нее. На фотографии был изображен высокий аскет. Главные черты, которые я знал и ценил в нем, ускользнули от фотографа.
— Арнольд сказал тебе о письме? — спросила Грейс.
— Каком письме?
— От женщины.
— Да, что-то говорил… Я не очень-то воспринял.
— Правда?
— Видишь ли… Это не укладывается у меня в голове. Мне трудно объяснить, но какие-то вещи вяжутся с тем или иным человеком, а какие-то — нет. Так вот, эта история совершенно не вяжется с Гревилом, каким я его знаю.
— Пожалуй.
— Так что, если он и покончил с собой, то не из-за женщины.
— Что значит ”если он покончил с собой”?
— Ты в этом уверена?
Грейс встала и взяла у меня из рук фотографию.
— Что еще можно предположить?
— Тебя заставляет склоняться к этой версии случившееся двадцать три года назад?
Она залилась краской.
— Нет. С какой стати?
— Ну, наследственная мания. Так же, как наследственные способности…
— Не обязательно.
— Не обязательно. Мне тоже хочется в это верить.
— Ты и должен верить. То же самое я сказала Арнольду.
— Скажи, ты когда-либо думала о Гревиле как о человеке, способном добровольно лишить себя жизни?
— Нет.
— Эта женщина — ты что-нибудь о ней знаешь?
— Нет. В отеле не заметили, чтобы он с кем-то встречался. У полиции не было никаких зацепок. Она остановилась в другом отеле.
— Каким именем она подписалась?
— Леони. Л-Е-О-Н-И. Я даже не знаю, голландское ли оно.
— Арнольд дал понять, будто Грезил на Яве не очень-то хорошо себя чувствовал.
— То была легкая форма малярии. Ему всего-навсего пришлось пару дней проваляться в палатке. Нет, Филип, здоровье его не беспокоило.
— Ты не заметила в последних письмах признаков депрессии?
— Нет. Можешь прочесть их, если хочешь.
Я размышлял вслух.
— Но если он провел в Амстердаме всего два дня, когда он успел завязать более или менее серьезные отношения с какой-то женщиной?
— Судя по письму, они и раньше знали друг друга. Он пару раз уже бывал в Амстердаме — готовился к путешествию, встречался с друзьями. Не знаю, как давно они познакомились.
— Летели в одном самолете?
— Нет. Список пассажиров тщательно проверили. Особенно женщин. Он летел вместе с приятелем, неким Бекингемом, с которым познакомился в Индонезии. Никаких женщин.
— А что говорит Бекингем?
— Его не нашли. Он выехал из Голландии еще до начала расследования.
Я подошел к окну и выглянул в сад. Одно-два дерева уже начали зеленеть; недавний ливень посеребрил ранние тюльпаны.
— Мне кажется, — нарушила молчание Грейс, — ты считаешь, что я проявляю нелояльность по отношению к Гревилу тем, что верю в существование другой женщины.
— Нет. Возможно, у тебя есть основания верить этому — кроме известных мне.
Грейс смутилась.
— Мне не следовало этого говорить. Видишь ли, у меня нет таких оснований — на этот раз. Ничего, кроме этого непостижимого письма.
Прошло несколько секунд, прежде чем яд подействовал.
— Ты хочешь сказать, что уже бывали случаи?..
— Один случай.
— Извини.
— Это было много лет назад, и я ни с кем не поделилась. Меньше всего мне хочется, чтобы ты изменил свое мнение о Гревиле.
— Разве все случившееся не заставляет нас изменить наше представление о нем — не обязательно в худшую сторону? Если любишь человека, трудно судить его. Во всяком случае, я не собираюсь. Но скажи — это было серьезно?
— Для меня? В то время — да.
— А для Гревила?
— Какое-то время… Думаю, это длилось очень недолго. Потом между нами все восстановилось. Мы были счастливы, как прежде.
— Понятно.
— Надеюсь, что это так. Но, понимаешь, Филип, после того, как однажды это уже случилось — пусть даже восемь лет назад, — легче поверить в существование новой связи. У меня не было ни тени подозрения. И уж, во всяком случае, это не облегчает мне восприятия версии самоубийства. Да пусть бы у него было полдюжины женщин!.. Но ведь это случилось, не правда ли? Голый факт. Сколько бы мы ни отказывались верить, это ничего не меняет. Ровным счетом ничего. Как ни крути, ничего другого нам не остается.
Ночью я долго сидел в своей комнате и курил сигарету за сигаретой, вновь и вновь обдумывая происшедшее. Всю дорогу из Калифорнии я тешил себя иллюзией, что стоит мне прибыть сюда, познакомиться с фактами и поговорить с Арнольдом и Грейс, как боль и напряжение, связанные со смертью брата, а также с характером этой смерти, незамедлительно отступят. Ничего подобного.
Может, это еще произойдет — просто сейчас слишком рано? В эту ночь я чувствовал только злость и растерянность — и не только из-за самих фактов, но и от того, как они были преподнесены.
Чувствительнейшая часть моего ”я” говорила, что ни Арнольд, ни Грейс не виноваты в том, что приняли происшедшее как должное — в то время как сам я никак не мог с этим смириться. Мне не пришлось опознавать труп. Я не присутствовал там лично и не слышал собственными ушами рассказ свидетельницы о том, как Гревил прыгнул в воду. Я не читал письмо той, другой женщины. Две недели поисков и неприглядных подробностей привели к тому, что они усвоили этот, раздражающий меня, взгляд на вещи. Скорее всего, на их месте я думал бы то же самое.
Но сейчас я не мог последовать их примеру. Между Гревилом и мной всегда существовала особая связь. Будучи на десять лет старше, он сделал для меня больше, чем какой-нибудь отец для своего сына, — в дружеской, ненавязчивой манере.
Арнольд был еще на четыре года старше; с ним у меня всегда было мало общего. Он рано окунулся в семейный бизнес, как бы приняв эстафету от отца, когда его не стало.
И потом, Гревил был по-настоящему талантлив. По силе и остроте ума он стоял на голову выше как медленно соображающего, зато более усидчивого и более настырного старшего брата, так и импульсивного, не слишком надежного — младшего. Выдающийся ум ученого, девять лет назад нашедший применение в археологических изысканиях, сочетался у Гревила с редким умением верно определить перспективу, выявить настоящие, а не мнимые ценности. Редкое качество у молодого человека в середине двадцатого века! Скажем, религия вышла из моды, но Гревил не боялся прослыть несовременным. Он жил собственной жизнью, верил в то, во что верил сам, без малейших поползновений навязать свои взгляды другим; даже злейший враг не мог бы упрекнуть его в ханжестве.
И вот он погиб — вскоре после того, как отметил свое сорокалетие. Глупейшим образом утонул в грязном канале; и его продолговатая голова на слегка покатых плечах, и лицо с немного впалыми щеками, живыми, умными глазами и резко очерченными, часто складывающимися в ироническую усмешку губами, — все это уже начало распадаться на биологические составляющие, которые могут представлять интерес для химика, но вряд ли устроят людей, знавших покойного.
”Я не могу смириться с тем, что любящие сердца зарывают в землю”, — сказал американский поэт. Тем не менее всем нам придется через это пройти. Но вот с чем я никак не мог смириться, это с бессмысленной гибелью прекрасной жизни, прожитой до половины.
Что можно было предпринять? Превратить жизнь в сплошную вендетту, вечное расследование? Не давать покоя полиции? Но разве от этого что-нибудь изменится? Все, на что я мог надеяться, это посмертно защитить честь брата и вернуть себе хотя бы малую долю душевного покоя.
Я перечитал газеты, час назад переданные мне Арнольдом. От них оказалось мало проку. ”Британский археолог утонул в Голландии”; ”Свидетельница утверждает: британский ученый покончил с собой”. А один иллюстрированный еженедельник вспомнил раннюю карьеру брата: ”Загадочная смерть британского ученого-атомщика в Амстердаме”. Наиболее подробный отчет поместила ”Гардиан”: ”Видный британский ученый Гревил Тернер утонул в Амстердаме… Ведется следствие… По свидетельству медиков, труп пробыл в воде три часа… никаких признаков насильственной смерти… Незадолго до полуночи женщина из дома окнами на канал видела, как какой-то человек спрыгнул с парапета. Утверждают, будто доктор Тернер вез с собой интересные находки, ныне изучаемые в Рийкс-музее… Получил образование в Винчестере и Нью-колледже… Выдающийся физик уже в двадцать с лишним лет… позднее занялся археологией и этнологией… Вышедшая в прошлом году монография о долихоцефальном черепе…”
Я отложил кипу газет и перешел к письмам, которые Грейс предоставила в мое распоряжение. Это были самые обычные письма: о погоде, условиях жизни в чужой стране, ходе работ; они изобиловали обычными в переписке мужа и жены бытовыми подробностями. Ничего, что предвещало бы грядущую катастрофу. Одно только бросалось в глаза: некто Бекингем — кем бы он ни был — в последние два месяца занимал в жизни Гревила большое место.
Это имя постоянно мелькало на страницах. Гревил отзывался о Бекингеме как о ”незаурядной личности, одиноком белом человеке, на встречу с которым никак нельзя было рассчитывать в Сурабае. Еще не знаю, что он здесь делает; похоже, в последние годы удача не на его стороне, но какой это интересный собеседник! Хорошо бы встречаться с ним почаще!”
Судя по следующему письму, события получили быстрое развитие. Заболел индонезиец Пангкал, ассистент Гревила, и Бекингем занял его место. ”Бекингем — способный археолог-любитель, который побывал на местах важнейших раскопок в Европе”. Более того, по предложению Бекингема они вознамерились перенести лагерь миль на тридцать в сторону, ближе к месту, называемому Уртини, где намечались раскопки речного русла. Все позднейшие письма имели обратный адрес Уртини, за исключением последнего, в котором Гревил писал: ”Не знаю, что бы я делал во время продолжительной болезни Пангкала без Бекингема. Кажется, я уже писал, что это на редкость башковитый субъект. Возможно, его нельзя отнести к так называемым положительным людям: он отрицает многое из того, что мне дорого. И все-таки я готов с кем угодно держать пари — цитируя Хопкинса, — что у него доброе сердце. Так или иначе, что бы вы ни думали о его человеческой сути (даже если отвлечься от случая в Джандови), его помощь и общество поистине бесценны”.
Я порылся в более ранних письмах в поисках упоминаний о Джандови, но так ничего и не обнаружил.
В самом последнем письме говорилось: ”Какое облегчение — на день-другой очутиться высоко в горах — после этого знойного гадюшника. Дж. Б. тоже со мной. Чем дальше, тем больше он мне нравится. Я не устаю поражаться чувству духовного родства — после столь непродолжительного знакомства. У нас так много общего! Я уговорил его поехать со мной в Англию, чтобы он несколько недель погостил у нас, пока не встанет на ноги и хорошенько поосмотрится, найдет занятие по душе. Надеюсь, ты не будешь против? Он не причинит лишних хлопот. Уверен — ты привяжешься к нему так же быстро, как все, кто его знает”.
Наконец я оставил это занятие, лег и задумался. Сможет ли Бекингем, когда его найдут, пролить свет на причину трагедии? Странно, что он не только не навестил Грейс, но даже не сделал попытки написать. Все ли сделано, чтобы найти его, или полиция обеих стран уже положила дело доктора Гревила Тернера, ФРС[6], которого временное помрачение рассудка привело к столь бесславному концу, на полку? Это предстояло выяснить.
Позднее, когда мне удалось-таки уснуть, я видел сон, будто стою под древом жизни, которое цветет и зеленеет, но, присмотревшись повнимательнее, замечаешь, что оно прогнило насквозь. А за ним катятся воды канала; к шлюзу прибило труп мужчины. Сначала я принял его за моего брата; потом мне показалось, будто это отец. А иногда мне чудилось, что это ни тот и ни другой — или и тот, и другой вместе. А вода, омывающая труп, была грязно-желтого цвета — цвета гнили и разложения.
Глава II
Мои личные отношения с официальными властями не давали повода для радушного приема. Зато имя Гревила Тернера по-прежнему кое-что да значило, поэтому после двух бесплодных попыток что-либо узнать у сотрудников полиции я очутился в кабинете полковника Пауэлла в наименее известной широкой публике части Уайтхолла. Полковник оказался рослым человеком за шестьдесят, с лицом пепельно-серого оттенка, из чего можно было сделать вывод, что единство Империи стоило ему немалых крови и пота.
У него была манера отрывисто говорить и жесткое выражение лица, что нередко свидетельствует о застенчивости.
— Нет, мистер Тернер, — сказал он, — дело вашего брата ни в коем случае не положено на полку. Мы считаем, что голландская полиция весьма успешно ведет его, и поддерживаем с ней тесные контакты. Могу вас заверить: ни мы, ни наши голландские коллеги не сочтем дело законченным, пока, по крайней мере, не выйдем на след двух человек. Другое дело — что это нам даст, но в настоящее время ведутся интенсивные поиски.
— Есть какие-нибудь ниточки, ведущие к этим двоим?
— Нет. Установлено, что некий мистер Джек Бекингем действительно прибыл вместе с доктором Тернером самолетом в Амстердам: его фамилия числится в регистрационном журнале отеля. Он пробыл двое суток и съехал. С тех пор ни один человек с такой фамилией не пересекал голландскую границу. Возможно, он тихо, без отметки в полиции, живет у каких-нибудь друзей или знакомых в Голландии. Но, во всяком случае, он не числится среди убывших за границу. О даме известно и того меньше. Только имя — кстати, довольно редкое. Вот и все.
— У вас есть копия письма?
— Мы располагаем самим письмом — если вам будет угодно взглянуть.
Меньше чем через минуту я со странным чувством — как будто роюсь в чужом грязном белье — читал письмо, найденное в кармане пиджака Гревила. Простой, ненадорванный конверт. Фирменная бумага отеля ”Гротиус”. И то, и другое смято и поблекло, но чернила — впрочем, мне показалось, что писали шариковой ручкой, — оказались на удивление стойкими. Почерк явно женский: четкий, разборчивый, с закругленными буквами. Тем не менее у меня создалось впечатление, будто писали в спешке — во всяком случае, заключительные фразы.
”Дорогой.
Я пишу главным образом для того, чтобы проститься с тобой. На этот раз между нами все должно быть кончено. Поверь, это действительно конец — мое решение твердо и бесповоротно. Я приехала лично сообщить тебе об этом, но в последний момент передумала. Что еще мы можем сказать друг другу? Все давно уже сказано, остается вымолвить последнее ”прощай”.
Наши отношения с самого начала были обречены на неудачу — моей вины здесь ровно столько же, сколько твоей. Я виню себя в том, что это вообще началось. Да, знаю: были моменты… не отрицаю… но они не могут компенсировать всего остального — во всяком случае, для меня. Все случившееся за два последних дня подтверждает это.
Если в твоем сердце сохранилась хоть искра дружбы, умоляю: не следуй за мной и не пиши мне.
Прости.
Леони”.
Я вернул письмо полковнику.
— Она хорошо владеет английским.
— Как многие голландцы. Но, возможно, она вовсе и не голландка.
— У вас есть основания сомневаться?
— Мы получили грубое описание женщины, которая посетила вашего брата незадолго до его гибели. Э… вот: ”Начала говорить по-французски, но затем перешла на английский. Ей примерно двадцать четыре — двадцать пять лет. Волосы светлые. Короткая стрижка. Серо-зеленые глаза с оттенком коричневого. Сумочка через плечо. Пальто английского или американского покроя. Хрупкое телосложение, рост приблизительно пять футов шесть или семь дюймов. Доктор Тернер был занят, и она выразила желание подождать. Я так и не знаю, увиделись ли они: меня отвлекли вновь прибывшие”. Вот и все. Это дает нам кое-что, но и не так уж много. Мы даже не знаем, та ли это женщина.
— А как насчет той, другой, которая видела, как он бросился в канал?
Полковник Пауэлл провел пальцем по жесткой щеке.
— Гермина Маас? Женщина легкого поведения. Но, как представляется, нет оснований сомневаться в правдивости ее слов.
— Если только ей было нечего скрывать.
— Например?
Я отошел к окну и выглянул наружу. Отсюда было прекрасно видно всех, кто входил и выходил из здания Лондонского Совета графства.
Пауэлл произнес:
— Ваш брат не подвергся ограблению. На теле не оказалось следов насилия, если не считать царапины на руке и синяка на лбу, которые, скорее всего, явились следствием падения. Голландский врач утверждает, что удар был слишком слаб, чтобы вызвать потерю сознания.
— Как могло случиться, что тело три часа находилось в воде, если эта женщина видела, как он прыгнул в воду?
— Скорее всего, она наблюдала за этим из окна, а когда выбежала на улицу, он уже исчез под водой. Как только она сообщила в полицию, начались поиски.
— А человек, с которым Гревил познакомился на Яве и который вместе с ним прилетел в Голландию, — кто-нибудь из членов экипажа не мог бы его описать?
— Одна стюардесса сообщила нам кое-какие приметы, от которых можно было бы оттолкнуться, но они страдают не слишком высокой точностью.
— Очевидно, есть и другие источники?
— Вовсе не очевидно. Между нами — мы и сами заинтересованы в том, чтобы разыскать Бекингема. Если, конечно, это тот самый человек. После войны некто Бекингем два или три раза оказывался замешанным в махинациях на Ближнем и Дальнем Востоке. Впервые он попал в поле нашего зрения, когда занимался переправкой иммигрантов-евреев в Палестину. Он приковал наше внимание потому, что скрылся с деньгами иммигрантов. Потом он погрел руки на заварушке в Каире и, наконец, сведения о нем поступили из Бангкока. Скорее всего, он отдает себе отчет в том, что, если он объявится, слишком многие пожелают побеседовать с ним — и не только о гибели доктора Тернера. Вот почему он избегает наших сетей.
— Он англичанин?
— Неизвестно. Путешествует с английским паспортом. Беда в том, что все его махинации имели место не на нашей территории. Мы располагаем одним достоверным описанием, но от него не очень-то много проку — если учесть, что он затерялся в Европе, как иголка в стоге сена.
Напротив, в больнице Святого Томаса, затопили печи.
— В воскресенье, — сказал я, — еду в Голландию. Вы не могли бы подсказать, к кому мне там обратиться?
Спиной я чувствовал на себе изучающий взгляд полковника Пауэлла.
— У вас есть какие-нибудь особые причины ехать именно сейчас, мистер Тернер?
Я повернулся к нему.
— Думаю, да.
Полковник встал и повертел между пальцами карандаш.
— Следствие в Голландии еще не закончено. Ваши голландские друзья делают все возможное, и мы оказываем им всестороннюю помощь. Если позволите дать вам совет — или хотя бы высказать мнение, — мне кажется, на данном этапе ваше вмешательство было бы преждевременным. Возможно, позднее вам и имело бы смысл отправиться туда и переговорить с Толеном…
— ”Позднее” может быть поздно. Мое пребывание в Европе ограничено во времени. В любом случае мне необходимо знать, что конкретно делается.
Полковник слегка нахмурился.
— Их выводы на данный момент ничем не отличаются от наших. Все говорит за то, что ваш брат покончил с собой из-за несчастной любви.
Я вернулся за стол.
— Все — кроме характера самого Гревила. Полагаю, я хорошо его знал. Может быть, даже лучше, чем кто бы то ни было. Я должен убедиться.
— Конечно, я никогда не встречался с доктором Тернером лично, но, судя по тому, что мне говорили, он был импульсивным человеком, не правда ли? Человеком, у которого душевный подъем мог смениться депрессией. Склонным принимать скоропалительные, весьма неожиданные решения.
У меня пересохло в горле.
— Например?
— Ну, например, если молодой перспективный физик, находящийся в первых рядах отечественной науки, вдруг бросает свою работу и вступает в действующую армию…
— Возможно, он догадался, к чему ведут его исследования — к созданию атомной бомбы, — и не захотел принимать в этом участия.
— Жест красивый, но бесполезный. Отказаться от карьеры…
— Это как раз и характеризует его как здравомыслящего человека.
Пауэлл понял мое раздражение.
— Разумеется, это вопрос мировоззрения. И тем не менее факт самопожертвования в духе Дон Кихота остается. Нельзя исключить, что человек, из принципа пожертвовавший карьерой, мог по другому случаю пожертвовать и самой жизнью.
В это время вошел секретарь с бумагами — маленький, толстенький человечек, у которого прямо на лице было написано: случись с ним что-нибудь — человечество ровным счетом ничего не потеряет. После его ухода мы некоторое время молчали, так как чувствовали, что оказались в тупике. Наконец я примирительным тоном произнес:
— Ваше последнее сообщение только укрепило мою решимость увидеть все собственными глазами.
— Вы имеете в виду то, что я рассказал о Бекингеме?
— Да.
Пауэлл перелистал бумаги.
— Хорошо. Сэр Дерек просил оказать вам всевозможное содействие. Итак, вы хотите ехать в Голландию?
— Да. Если вы не против, я просил бы рекомендательное письмо к должностным лицам, которые занимаются этим делом.
— К инспектору Толену. Хорошо, — он выхватил из ящика письменного стола чистый лист бумаги и начал что-то строчить. Но вдруг замер и уставился на кончик ручки. Что еще случилось?
— Возможно, — сказал полковник Пауэлл, — вам стоило бы поговорить с Мартином Коксоном.
— Кто это?
— Единственный человек из всех, кого мы знаем, кто встречался с Бекингемом. Правда, давно.
— Я согласен.
— Он живет в Рае. Конечно, если он сейчас дома. Попробуем это выяснить, — он нажал на кнопку переговорного устройства и отдал распоряжение.
Снова воцарилось молчание. Пауэлл закончил письмо, промокнул его, положил в конверт и отдал мне. Щелкнуло переговорное устройство, и чей-то голос сообщил, что им не удалось установить, дома ли капитан третьего ранга Коксон. На звонок никто не ответил. Может, послать телеграмму с уведомлением?
Увидев, как я мотнул головой, Пауэлл сказал:
— Спасибо, не нужно, — он выключил аппарат и устремил на меня задумчивый взгляд. — Коксон — один из тех людей, которые так и не смогли приспособиться к жизни на гражданке. Перебивается случайными заработками. Мы пару раз пытались привлечь его к нашей работе, но у него к ней не лежит душа. В последнее время он выпал из нашего поля зрения. Кажется, он познакомился с Бекингемом весной сорок восьмого года. Мы особенно не доискивались, чем сам Коксон занимался близ берегов Палестины, но подозреваю, что он тоже погрел руки на противозаконных сделках.
Раздражение улеглось, и полковник явно старался загладить дурное впечатление. Я отдавал себе отчет в том, что, как сказал бы игрок в гольф, применил прессинг, и злился на себя за это. Уж если даже Арнольд с Грейс смирились с выводами коронера, чего можно ждать от постороннего человека, такого, как Пауэлл? Его версия кажется вполне правдоподобной. Теперь только я понял, как легко строить предположения на основании одних лишь поверхностных фактов, без глубинного проникновения в суть вещей.
Тем не менее я должен был попытаться взглянуть на проблему непредвзято, не связывая ее ни с какими прошлыми конфликтами и пристрастиями.
* * *
Возможно, я и уклонился бы от встречи с Мартином Коксоном, но у меня как раз выдался свободный вечер, и я отправился к нему.
Он жил примерно в миле от Рая, на берегу моря, в просторном современном бунгало, какие возводились в тридцатые годы без участия архитектора.
Нужно было пройти по дорожке из бетонных плит, с бордюром из белых камешков, и подняться на пять ступенек вверх. Очутившись на крыльце, я позвонил.
Открыла высокая смуглая женщина лет шестидесяти. У меня почему-то создалось впечатление, будто она увидела меня раньше, чем я позвонил, — должно быть, из окна. Я спросил, дома ли капитан Коксон. Она сказала — нет, но с минуты на минуту должен появиться. После того, как я упомянул о полковнике Пауэлле, она пригласила меня в гостиную с современной мебелью и множеством книг.
— Думаю, сын не задержится, — жеманно проворковала мать Коксона. — Он пошел в Рай за продуктами.
Я поблагодарил ее, но она продолжала переминаться с ноги на ногу, стоя в дверях — ни туда, ни сюда. Это была еще довольно красивая женщина, но уж больно худая и угловатая. Я сказал, что не хотел бы мешать ей — может быть, она занята? Мать Коксона кашлянула в кулак.
— Прошу прощения, мистер… э… Тернер. Надеюсь, вы не станете снова предлагать Мартину работу? Он не особенно хорошо себя чувствует. Сроду не умел отдыхать. Он уморит себя работой.
— Нет-нет, — поспешил заверить я. — Мне нужно задать ему несколько вопросов.
Ее красивые темные глаза продолжали изучать меня с головы до ног. Она все не могла успокоиться.
— Извините. Мне не следовало так говорить. Но полковник Пауэлл давно оставил Мартина в покое…
— Я не из ведомства полковника.
Наконец она ушла. Но не успел я подойти к окну, как к бунгало подъехал маленький автомобиль. Слегка зашуршали шины, когда он обогнул домик и исчез в гараже. Хлопнула дверца; вслед за ней — дверь коттеджа. Послышались голоса.
На столе возле окна я увидел письмо, адресованное капитану третьего ранга Мартину Коксону, бакалавру естественных и магистру гуманитарных наук. Рядом лежал удачно выполненный эскиз гоночной яхты с указанием размеров, а еще — коробка сигар ”Эль Торо” и томик ”Опасные связи” Шодерло де Лакло.
Открылась дверь, и вошел хозяин коттеджа.
— Мистер Тернер? Моя фамилия Коксон. Вы хотели меня видеть?
— Мне посоветовал к вам обратиться полковник Пауэлл. Он выразил надежду, что вы сможете мне помочь.
— Пауэлл? Давненько мы не видались. Что ему нужно?
Я объяснил.
Мартин Коксон был красивым моложавым мужчиной с мускулистым телом и неожиданно тонким, одухотворенным лицом. Это впечатление усиливала его бледность, резко контрастировавшая с темными волосами. Его лицо оказалось очень подвижным и живо реагировало на любое впечатление, что свидетельствовало о богатом внутреннем мире. Сам не знаю, чего я ожидал, но только не этой моложавости; возможно, я думал найти в нем бывалого морского волка. На первый взгляд ничто не выдавало в нем моряка — несмотря на одежду, немного переделанный морской бушлат, к которому очень шел красивый кожаный ремень с широкой серебряной пряжкой. Излагая суть дела, я взял предложенную им сигарету. Он отодвинул несколько книг и, усевшись на широкий подоконник, резко постучал сигаретой о портсигар, но так и не закурил. За все время моего рассказа он лишь однажды поднял голову и посмотрел на меня в упор. Когда я кончил, он сказал:
— Да, помнится, я читал о вашем брате в газетах. Но я не видел Бекингема с сорок восьмого года. Каким образом, по мнению Пауэлла, я могу быть вам полезен?
В отличие от матери он говорил четким, хорошо поставленным голосом.
— Разумеется, я готов сообщить вам все, что мне известно о Бекингеме, но, уверяю вас, это такая малость! А почему упор делается именно на него? Я бы скорее подумал насчет той девушки, чье письмо нашли у вашего брата.
— К сожалению, ее не удалось разыскать. Мы даже не знаем ее фамилии. Интуиция подсказывает мне, что, если мы найдем Бекингема, найдем и ее.
Коксон поместил в рот незажженную сигарету. Под глазами у него были темные круги, а рот время от времени кривила горькая усмешка, как будто этому человеку довелось испить полную чашу разочарований, причем вы тотчас проникались жгучим любопытством — каких именно? Мне было нетрудно понять беспокойство матери за его здоровье; но в нем было слишком много жизненной энергии, чтобы предположить существование сколько-нибудь серьезного заболевания.
— Вы служили во флоте? — спросил он.
— Да. Откуда вы знаете?
— Трудно сказать. Что-то в выправке… Обычно я сразу угадываю такие вещи. На каком корабле?
— На эскадренном миноносце. Два года.
— А я был в Военно-морском резерве. Вышел в отставку без права на звание, но оно так и приклеилось ко мне. В начале войны я ходил на минном тральщике, но эта чертова калоша быстро пошла ко дну. Потом я плавал на корвете. Вы кем были — лейтенантом?
— Да — дослужился в конце концов.
Он зажег сигарету.
Когда Мартин Коксон говорил, вы начинали ощущать исходящую от него властность — так бывает, если человек привык командовать на море.
— Должно быть, к концу войны вы только-только начали оперяться, — предположил он. — Просто не верится, что прошло столько времени.
Можно было подумать, что он вспоминает об ушедшей любви — и горькой и счастливой.
— А вы, — ответил я, — должно быть, успели опериться еще до ее начала?
— Конечно. Мне тридцать девять, хотя на первый взгляд не скажешь. Так что вы хотели знать о Бекингеме?
— Все, что вы можете сообщить. Например, описать внешность.
— В нем примерно пять футов восемь или девять дюймов росту. Бородка клинышком. Узкие карие глаза. Орлиный нос. Темные волосы, с проседью за ушами. Если вы из тех, кто верит в добро и зло, возможно, вы назовете его плохим человеком, потому что он меньше всего руководствуется нормами общепринятой морали. Но он исключительно умен, эрудирован и хитер — поэтому никто так и не разобрался в нем до конца. Он живет по своим собственным правилам, а если и преступает закон, то делает это очень ловко и успевает скрыться, прежде чем его изобличат.
— Он вам нравился?
— Нравился? Я бы не сказал.
— Почему?
Мартин Коксон двумя раздвинутыми наподобие буквы ”V” пальцами отбросил прядь волос со лба.
— Почему мы чувствуем к людям симпатию или антипатию? Объясняется ли это действием желез внутренней секреции? Расположением планет?.. Могу сказать лишь, что я предпочитаю вести более честную игру.
— Вы не могли бы рассказать, как вы с ним познакомились?
— Могу, конечно. Он переправлял евреев в Палестину и однажды зафрахтовал для этой цели мой корабль.
— С ним были женщины?
— Если говорить о его женщинах — нет. Правда, однажды вечером он пригласил к себе в каюту маленькую румынскую евреечку лет девятнадцати. Пытался взять ее на абордаж, но она дала отпор. Ее семья подняла жуткий шум. Это было шесть лет назад. Хотите виски?
— Благодарю.
Он встал, подошел к буфету и вернулся с бутылкой и двумя бокалами.
— Расскажите подробнее о вашем брате. Чем он занимался на Яве? И как познакомился с Бекингемом?
Я рассказал. Он выслушал весьма внимательно. Один раз даже улыбнулся, и его лицо вдруг стало добрым и очень привлекательным. Рассказывая, я в то же время изучал своего собеседника, пытаясь решить, не следует ли поддаться импульсу. Он расспросил меня обо всех деталях гибели Гревила. Я признался, что собираюсь в Амстердам, чтобы попытаться найти недостающие ответы. Его отношение к этому делу разительно отличалось от отношения Пауэлла. Он явно заинтересовался; очевидно, его острый ум созрел для новых впечатлений. На меня это оказало стимулирующее действие. По крайней мере здесь я не натолкнулся на закрытую дверь.
Я решил рискнуть.
— Вы сказали, что недолюбливали Бекингема?
— Да. Он несколько раз обвел меня вокруг пальца.
— Значит, вы не возражали бы помочь мне его разыскать?
Он медленно разлил по бокалам виски, а закончив, немного подержал свой бокал на свету.
— Прямо скажем, нынешние напитки уже не те, что мы пили перед войной в Шотландии. Чем конкретно я могу быть вам полезен?
— Вы хотя бы знаете Бекингема в лицо.
— Он наверняка уже в сотнях миль отсюда.
— Возможно, с вами я буду чувствовать себя чуточку увереннее. Фактически и Пауэлл на это намекнул, но я понял так, что он хочет прикрепить ко мне своего человека, чтобы я не попал впросак. В любом случае, поначалу у меня не было такого намерения. Просто мне понравился… ваш подход.
— Спасибо. — Мартин явно колебался. Потом вдруг нервно тряхнул головой. — Прошу прощения, но я не вижу в этом смысла.
— Понимаю — и тем не менее повторяю свое предложение. Естественно, все расходы — за мой счет.
В это мгновение дверь отворилась, и на пороге возникла мать Коксона. Она начала что-то говорить, но вдруг смешалась и покраснела.
— Я хотела спросить, не хочет ли мистер Тернер выпить чашечку чаю. Но, кажется, опоздала.
— Видите, Тернер, от чего я вас избавил. Или, может быть, вы предпочли бы чай?
Миссис Коксон отважилась на замечание:
— Мне кажется, Мартин, сейчас рановато для выпивки. Мистер Тернер может подумать…
— Я знал человека, который добавлял виски в воду для бритья: мол, это делает лезвие острее, — Коксон сыпанул в мой бокал щепотку соды. — Выпей с нами, дорогая. Это успокаивает нервы.
— Нет уж, спасибо, — с отвращением произнесла она. — Ты знаешь, как я к этому отношусь.
После ее ухода Коксон наморщил лоб и бросил на меня извиняющийся взгляд.
— Мама так и не стала взрослой. Сорок лет назад эта курица нечаянно села на утиное яйцо и до сих пор трепещет, как бы я не утонул. У психологов есть подходящий термин. Лень искать.
Я гнул свою линию:
— Мне ни разу не приходилось бывать в Амстердаме. А вы знаете этот город?
— Пожалуй. Симпатичный городишко. Вопреки распространенному заблуждению, эти флегматики умеют веселиться. На стене за вашей спиной висит фотоизображение ”Зимнего домика”. Я впервые посетил Амстердам в девятнадцатилетнем возрасте. Сошел на берег с парусника после стодвадцатидневного плавания из Мельбурна. Шестнадцать недель целибата — и один грандиозный загул! Сейчас я бы не выдержал. Имею в виду не загул, а воздержание.
— Я вылетаю завтра после обеда — на случай, если вы передумаете.
Коксон встал и вновь задумчиво наполнил свой бокал янтарной жидкостью. Возможно, он даже не расслышал моих слов. Я полюбовался его тонким профилем. Небольшие впадины на висках придавали ему выражение почти болезненной чувствительности.
— В последний раз я там был сразу после войны — прибыл с какой-то шпионской миссией по заданию Военно-морской разведывательной службы. Тогда я пробыл в Голландии три недели — в основном в Амстердаме и Роттердаме.
— Значит, вы тем более можете мне помочь. Это огромное преимущество — иметь своим спутником человека, знающего все ходы и выходы. Но, конечно, я понимаю ваши чувства. Даже если бы вы и располагали свободным временем — с какой стати тратить его на совсем незнакомого человека?
Он постарался развеять мою досаду:
— Дело не в том, что я будто бы не хочу помочь незнакомому человеку. Просто я только что вернулся из Ирландии, и у меня тут поднакопились дела. Нужно закончить серию статей для ”Яхтсмена”. Если я поеду с вами — пусть даже на одну неделю, — это чревато потерей двадцати гиней.
— Естественно, я компенсирую вам эту утрату.
— Вы так легко разделываетесь с разными проблемами, — он снова резким движением двух растопыренных пальцев отбросил прядь волос со лба.
— Я вас не понимаю. Ну, предположим, вы разыщете Бекингема и ту девушку. Что это даст?
Я взглянул на него в упор.
— Я хорошо знал Гревила и не верю в его самоубийство.
После продолжительной паузы он сказал:
— Да… Наверное, в этом есть смысл. Но в таком случае… существуют лишь две альтернативы, не правда ли?
— Что он бросился в воду… или…
— Он хорошо плавал?
— Превосходно.
— Итак, — уточнил Коксон, — вы подозреваете, что его убили?
И я ответил:
— Это-то и предстоит выяснить.
Глава III
Мне было ясно: в нем проснулся неподдельный интерес, но как далеко он может зайти? Передо мной был человек, явно предпочитающий все из ряда вон выходящее; судя по выражению его лица, мое предложение таило в себе соблазн. В то же время я догадывался, что мой собеседник из тех, кто всецело отдается чему-то одному, будь то поиски неотмеченного на карте пролива, шахматная задача или женщина… Все зависело от того, достаточно ли сложна проблема, способна ли перевесить все остальные.
Поэтому, когда на следующее утро он позвонил и сказал, что согласен меня сопровождать, я почувствовал, что одержал важную победу. Сама эта поездка была блужданием в густых потемках; единственное, что можно было утверждать наверняка, это что в компании Коксона потемки станут чуточку менее густыми.
В три часа мы вылетели из Лондонского аэропорта и приземлились в Шипхоле в двадцать минут пятого. Я рассчитывал пробыть в Амстердаме три дня. Мягко говоря, моя фирма была не в восторге от этой затеи. Бросить крупную сделку и сломя голову мчаться за семь тысяч миль из-за гибели брата — само по себе достаточно эксцентрично. По их мнению, пары писем с выражением соболезнования было бы достаточно. Просить же дополнительный отпуск ради сомнительной и мне самому не вполне ясной миссии в Амстердаме значило и подавно испытывать терпение Гамильтона в Сан-Франциско и Уиткомба в Лондоне.
Мы как раз пролетали над Северным морем, когда Мартин Коксон пожелал рассказать мне еще кое-что о Бекингеме. Это не имело отношения к моей проблеме, зато у меня в голове начал складываться образ этого человека — активного носителя зла, беспощадного и всегда готового идти на риск ради удовлетворения сиюминутной прихоти. У меня также сложилось впечатление, что, возможно, у самого Коксона с этим человеком старые счеты, о которых он предпочитает не распространяться. Во всяком случае, сегодня он говорил о Бекингеме с меньшей беспристрастностью. Возможно, вчера он ограничивался воспоминаниями, а сегодня настроился действовать. Не это ли лежало в основе его решения?
Он расспросил меня о моей семье и обо мне самом. Я рассказал ему и о своей работе в Британской компании турбореактивных двигателей, и о том, как когда-то в детстве тешил себя мечтой стать художником, и о неудачной попытке снискать ученую степень, и…
— Вы женаты? — вдруг спросил он.
— Нет.
— И не собираетесь?
— Нет. Пару лет назад я был помолвлен, но из этого ничего не вышло, — мне было нелегко объяснить случай с Памелой и как все пошло прахом. Что толку в этом копаться? Обычно несчастная любовь заставляет человека сходить с рельсов; на меня же, наоборот, дохнул холодный ветер здравого смысла, унося с собой долго лелеемые иллюзии.
— А вы? — поинтересовался я.
— Я? — Коксон покачал головой. — Брак по-немецки — ”Ehe”. Два гласных звука, объединенные смертной скукой. Что же касается остального, то до войны у меня было немало насыщенных лет — в отличие от вас, — и я взял от жизни все, что можно. ”Кто не любит вино, женщин и песни”… В этот момент стюардесса принесла заказанные им сигареты и он благодарно улыбнулся. Она просияла. — Теперь поздно оглядываться на прошлое, да и не так уж оно важно. Главное — что нас ждет впереди, — он предложил мне сигарету.
Мы некоторое время молча курили. Коксон читал прихваченную с собой книгу. Мой взгляд упал на нее — предисловие Гусмана к первой книге ”Манилиуса”. В ярком свете дня я впервые заметил морщинки у него на лице — такие бывают только у тех, кто участвовал в боевых действиях. Я припомнил свой первый полет шестнадцать лет назад — это тоже было связано с Гревилом. Немногие юноши в возрасте двадцати четырех лет, которым предстоит лететь в Париж на научную конференцию, станут лезть из кожи вон, чтобы выторговать разрешение взять с собой четырнадцатилетнего мальчишку. Он даже добился того, чтобы перед самым полетом мне позволили осмотреть кабину пилота — неслыханная честь! А потом ухитрился выкроить время сводить меня в квартал художников, в дом, где скончался Оскар Уайльд, памятные места, связанные с кровавой Французской революцией, Монмартр и Сите…
— Объясните еще раз, — попросил Коксон, откладывая книгу в сторону, — почему вы так уверены, что ваш брат не покончил с собой?
— Просто я очень хорошо его знал. Он был человеком выдающихся умственных способностей и одновременно — вполне от мира сего, во всех отношениях. Жизнелюбивым. Великодушным. Конечно, он был не без греха и уж ни в коем случае не ханжа, но у него были убеждения. И если он во что-то верил, так это в ценность человеческой жизни, в том числе жизни самого простого обывателя, а это — в высшей степени христианский взгляд на вещи. Он признавал высшую ценность личности, души — или как это теперь называется? С таким мировоззрением не лишают себя жизни. Разве что некое из ряда вон выходящее событие пробило брешь в его глубинной вере.
Внизу — мы летели на высоте девять тысяч футов — сквозь неплотный слой легких барашковых облаков показался берег Голландии.
— Есть еще одна причина, — добавил я, — связанная с нашим отцом. В семье старались не говорить об этом. Папа умер, когда мне было семь лет. Умер — так это преподнесли. И, в общем, это было правдой, но все дело — в характере смерти, о котором умалчивали. Однако, живя в семье, трудно ни о чем не догадываться. Причем всякий раз, когда Гревил упоминал об отце, я чувствовал, что он разделяет мое неприятие подобного выхода. Имея перед собой такой пример, мог ли он сделать то же самое?
Мартин кивнул.
— Знаете, что в конце концов заставило меня лететь с вами? У меня появилось такое чувство, что, если человек так сильно во что-то верит, это может оказаться правдой.
— Очень рад.
Мы немного помолчали. Коксон заговорил первым:
— Но я все еще плыву без лоции. Что вы думаете предпринять?
— Прежде всего повидаюсь с Толеном.
— Инспектором, который ведет это дело? Он знает о вашем приезде?
— Нет еще. У меня рекомендательное письмо.
— Можете предъявить его чайкам — с гораздо большим успехом. Если вы надеетесь на помощь полиции, лучше бы вам не пускаться в путь. Продолжали бы торговать турбореактивными двигателями.
— Не понимаю.
— Но ведь это очевидно. Полиция предоставит в ваше распоряжение тщательно отфильтрованные факты — и в их же интерпретации. Следователь — или как он у них называется — уже имеет свою версию, и, если вы попытаетесь действовать с ней вразрез, вы будете постоянно натыкаться на незримые препятствия. Мне уже доводилось один или два раза сотрудничать с этими людьми, и я знаю, как устроены их мозги.
Я вспомнил о попытках Пауэлла отговорить меня.
— Я готов выслушать ваши предложения.
Он отбросил прядь со лба — знакомым жестом двух пальцев, сложившихся в знак победы.
— Трудно что-либо посоветовать. Но у меня со времен последнего пребывания в Голландии остались кое-какие связи. Вы уже забронировали номер в гостинице?
— Нет.
— В таком случае предлагаю остановиться у Бетса — если он еще там. У него небольшая гостиница недалеко от Геренграхта. Без особой роскоши, зато довольно чисто. Они вообще аккуратный народ. Во время войны Бетс принимал участие в Сопротивлении, поэтому знает всех и вся. Думаю, он сможет помочь.
— Я хотел начать поиски с Гермины Маас. Пусть подробно расскажет, что именно она видела.
— Бетс это устроит.
— Пусть устраивает, — согласился я, — все, что только сможет.
* * *
Кристиан Бетс загородил лицо карточкой меню и вполголоса произнес:
— С этим проблем не будет. В газетах двухнедельной давности содержатся отчеты о происшествии. Я знаю, у кого можно достать полный комплект старых газет. Пошлю своего сына. Что же касается остального… если полиции не удалось… Я давно удалился от дел. У нас в Голландии, как только война окончена, о ней моментально забывают. Нам есть чем заняться. Я уже много лет содержу отель — вот и все.
Мартин Коксон забарабанил пальцами по столу.
— Вот, я записал имена. Джек Бекингем и Леони. Просто Леони. Понимаю, это нелегко, но ваш труд будет оплачен.
— Некоторые вещи невозможно купить, потому что их нет на рынке, — Бетс навалился огромным пузом на край стола. Стол затрещал. — Сделаю все, что смогу, но мои возможности ограничены. Вам есть еще к кому обратиться?
— Нет, — признался я. — Кроме полиции.
Хозяин отеля вздрогнул. Мартин резко сказал:
— Есть, конечно, и другие, но я главным образом полагаюсь на вас.
Когда Бетс поковылял прочь, Мартин меня успокоил:
— Он всегда так — набивает себе цену. Не обращайте внимания.
Через несколько минут, когда мы сидели на террасе, попивая кофе, вошел Бетс с мятыми номерами ”Хандельсблад” и перевел нам один репортаж. Его гортанный ”английский” язык кто угодно на расстоянии нескольких ярдов принял бы за голландский. Мы узнали, что некая Гермина Маас с Золенстраат, 12 сообщила в полицию, что вечером такого-то числа…
— Золенстраат, — повторил я. — Где это?
Бетс недовольно запыхтел и прикрыл глаза — будто жир давил на веки.
— Около Уде Керк, недалеко от доков. В каком-нибудь километре отсюда. Этот район пользуется плохой репутацией. Местные жители называют его De Walletjes. Нужно пройти по мосту…
— De Walletjes? — повторил Мартин. — Кажется, это квартал красных фонарей? Ну, конечно! Выходит, та девушка…
Я тщетно пытался прочитать надпись под фотографией Гревила.
— Это место далеко от отеля ”Гротиус”, где останавливался мой брат?
— Отсюда оно еще ближе. Смотрите, — Бетс взял три кофейные ложечки. В его пухлых пальцах они показались спичками. — Вот наш отель. Вот отель ”Гротиус”. А это — Золенстраат. До нее то ли семьсот, то ли восемьсот метров. Или около этого. Но не всякий, даже если он является постояльцем гостиницы, доберется туда — разве что будет специально разыскивать. Вы меня понимаете?
Мартин устремил на меня пристальный взгляд.
— Это специфический район, Филип. Я однажды там был. Неужели ваш брат был способен по доброй воле отправиться в эту клоаку?
Я перевел взгляд на фотографию. Пошел бы туда Гревил по доброй воле?
— Вы найдете дорогу?
— Прошло много лет… Впрочем, Бетс освежит мою память.
— Конечно, я все подробно объясню, — пообещал тот. — Но сам я туда ни ногой.
— Давайте сегодня вечером, — предложил я. — Когда стемнеет.
* * *
Мартин Коксон обрезал сигару и бросил кончик в воду канала. Пламя его зажигалки выхватило из темноты длинный ствол сигары и его бледное, разочарованное лицо. Через секунду оно утонуло в клубах сизого дыма, но их быстро развеял бриз. Мы оставили позади торговые ряды и теперь шли вдоль канала, обсаженного каштановыми деревьями. Было тихо; за крышами, башенками, коньками виднелась кромка вечернего неба. Мартин сказал:
— Я бывал здесь во время своего первого приезда в город, но мало что помню — ну, разве что Зее-Дюк и кабаре ”Уде Зийде”. В восемнадцать лет аппетит сильнее брезгливости.
Вдоль берега двигалась баржа. Я посмотрел вниз и убедился, что боковые стенки канала отвесны и выложены кирпичом.
— Упав в воду, оттуда не так-то легко выбраться. Даже перил нет.
Мартин спросил:
— Он любил выпить?
— Нет.
Мы завернули за угол. В лицо тотчас хлынули потоки света от второразрядного кафе с полосатым навесом; они освещали булыжную мостовую и темный причал. Мартин остановился спросить дорогу. Прохожий, респектабельный бюргер, объяснил и, немного смущенный, заторопился прочь.
— Если бы он шел с женой, — сказал Мартин, — скорее всего, ответил бы, что не имеет понятия.
— De Walletjes… Как это переводится?
— Что-то вроде ”Стен”, или ”Барьеров”. Это не официальное название — им пользуются местные жители. Не знаю, с чем это связано… если вообще имеет смысл.
— Вы чем-то расстроены?
— Нет, — он с минуту помолчал. — Просто… Для меня прийти сюда — все равно что вернуться в давно прошедшую молодость. Мог ли я представить в девятнадцать лет, что спустя двадцать один год снова окажусь здесь — после всех утрат и разочарований? Возможно, корни зрелости таятся в юном возрасте и каждый смолоду носит в себе зародыш старости — как письмо в не распечатанном до поры конверте.
Мы очутились в старейшей части города, изобиловавшей узкими каналами и причалами, где высились подъемные краны; от каналов разбегались кривые аллеи, по бокам которых ютились неказистые домики с остроконечными крышами, какие были типичны для Лондона перед Великим Пожаром. На углу собралась небольшая компания — парни держали клетки с голубями и о чем-то оживленно спорили.
— Мы почти пришли, — возвестил Мартин.
Через пару минут мы свернули к более широкому каналу с причалами по обеим сторонам. Вдоль канала шли ряды высоких старинных домов, также с остроконечными крышами. Многие окна были освещены; некоторые оставались незанавешенными, на других были задернуты истрепавшиеся красные шторы. Откуда-то доносились звуки мандолины.
— Ну вот, — тихо сказал Мартин. — Но мы немного рано. Видно, здешний бизнес переживает не лучшие времена.
С улицы можно было видеть, что творится в комнатах первого этажа. Это были большей частью комбинированные спальни-гостиные с лампой под абажуром, дешевыми зеркалами и кушетками. Возле каждого окна сидела женщина. Здесь были женщины всех возрастов и по-разному одетые — в зависимости от представления о том, что любят мужчины. Некоторые расчесывали волосы, делая вид, будто не замечают вас; другие демонстративно поправляли подвязки или делали зазывные жесты. Одна или две кричали вслед — попеременно на голландском, английском и немецком языках.
В темной воде канала отражались огни. На первом этаже одного дома играла мандолина. Я сделал шаг назад и задрал голову, чтобы посмотреть, что творится выше, но кто-то прошмыгнул прямо у меня перед носом и исчез за дверью. Мандолина смолкла. Задернули штору.
— Возможно, имелись в виду нравственные барьеры? — предположил Мартин. — Среднему голландскому бюргеру приходится преодолевать их множество, чтобы решиться покинуть свой чистенький дом и впервые наведаться сюда.
— Не думаю, — ответил я, — что средний голландский бюргер посещает злачные места чаще, чем средний женатый мужчина из района Хайгейт — заведения на Фрит-стрит.
— Может быть, вы и правы. Вот эта девушка недурна — для тех, кто еще не пресытился. Или вон та толстушка: пусти ее в море, первая же волна опрокинет ее на корму.
— Золенстраат, 12,— вспомнил я. — Куда, Бетс говорил, нужно идти?
— Кажется, это дальше. Смотрите, вот это место, похоже на Харли-стрит.
На мосту я спросил дорогу у молодого человека в морском бушлате. К этому времени я уже привык к тому, что здесь сносно говорят по-английски. Однако этот оказался исключением. Ему потребовалась целая минута, если не больше, чтобы понять, что нам нужно. Он показал пальцем и вразвалку пошагал дальше.
Мы перешли на другую сторону канала. На стене углового дома с ярко освещенными окнами я прочитал выполненную черной краской по кирпичу надпись: ”Золенстраат”.
Гермина Маас где-то совсем рядом. Если это тот самый угол, с которого она видела Гревила — если она и впрямь его видела, — значит, мы находимся на том месте, где он нашел свою смерть. В отблесках света из окон домов по обе стороны канала серебрилась вода. Подобные районы можно встретить к востоку от Суэца. Возможно, этот квартал обязан своим происхождением давним торговым связям Голландии с восточными странами. Но Гревил — как он-то мог оказаться здесь?
Я услышал за спиной голоса: это Мартин расспрашивал какую-то женщину. Потом он подошел ко мне.
— Кажется, это вон та смуглянка на втором этаже.
Волнение помешало мне говорить. Мартин прислонился к парапету и терпеливо ждал.
Наконец я вновь обрел дар речи.
— Теперь, когда я имею представление о месте происшествия, эта история кажется мне еще более лишенной смысла.
Коксон повернулся ко мне.
— Как бы хорошо вы ни знали человека, иногда бывает нелегко понять его мотивы. Если ваш брат явился сюда не с очевидной целью, значит, в его душе рухнули какие-то нравственные барьеры. Так часто бывает.
— Для меня это слишком сложная метафора. Так или иначе, если принять за аксиому, что брат пришел сюда не с ”очевидной” целью, каковы могли быть иные причины?
— Понятия не имею. Я просто размышляю. Строю предположения. Вы говорите, он был цельной натурой? Мог пойти на риск, если того требовали ситуация либо интересы дела? Помните у Горация: ”Hic murus aheneus esto; nil conscire sibi, nulla pallescere culpa”[7]? Кто знает, что может случиться с человеком в таком месте, под покровом ночи?
Я бросил быстрый взгляд на его затененное лицо и подумал: уж не приписывает ли он Гревилу собственные слабости?
Он продолжал:
— Мы можем сколько угодно теоретизировать, строя замки на песке. Возможно, вашего брата привело сюда элементарное любопытство и он просто поскользнулся и упал — безо всяких задних мыслей? — Мартин выбросил сигару; она зашипела, соприкоснувшись с поверхностью воды. — Значит, на втором этаже. Идемте.
— Я предпочел бы отправиться один.
— Не советую. Вдвоем безопаснее.
— Я все же попытаюсь. Иногда бывает удобнее одному.
— Она может неверно истолковать цель вашего прихода.
— По-моему, это, скорее, преимущество. Вы не обидитесь, если я вас ненадолго оставлю?
— Господи, конечно же, нет. Я просто хотел помочь. Но, если вам кажется — так удобнее, я подожду на мосту. Как говорится, постою на карауле.
— Вот-вот, — согласился я. — Постойте на карауле.
Глава IV
Это оказалась темноволосая девушка с прядями крашеных белых волос (знак принадлежности к определенной профессии) и большими сережками в виде обручей, позвякивавших при ходьбе. Для своего рода занятий она была довольно недурна и уж во всяком случае, не так бесцеремонна, как ее товарки. На ней были потрепанное, пурпурного цвета кимоно, чулки не в тон и комнатные туфли с потускневшими блестками.
Завидев меня, она встала, потянулась, так что невозможно было не обратить внимания на ее высокий рост, сказала что-то по-голландски и собралась было опустить жалюзи.
Я спросил:
— Вы говорите по-английски?
— О’кей. Конечно. Я хорошо говорю по-английски. Входи, малыш. Рада с тобой познакомиться, — она приветствовала меня немного утомленно, как хозяйка бала припозднившихся гостей.
— Вы — Гермина Маас?
— Естественно, — она вдруг встрепенулась и вгляделась повнимательнее. — Меня кто-то рекомендовал?
— Нет.
Девушка опустила и защелкнула жалюзи и вновь повернулась ко мне.
— Повесь пальто. Крючок за дверью. Угостишь сигаретой?
Комната показалась мне слегка приукрашенной тюремной камерой — с коричневыми цветочками на обоях, розовой драпировкой из искусственного шелка вокруг кровати и подвешенным зеркалом с отбитым уголком, в котором отражались пружины, торчащие из недр обитой красным плюшем кушетки. На ночной тумбочке красовались дешевые безделушки — словно трофеи воображаемой охоты. На блюдечке — около дюжины окурков со следами губной помады; рядом три пустые бутылки из-под пльзенского пива. Перед зеркалом скалил огненную пасть электрокамин, а на стене висел календарь с картинкой: девочка катается на коньках — и надписью: ”Счастливого Рождества!” Кто-то пририсовал девочке усы.
Я дал ей прикурить. Огонь от зажигалки еще больше подчеркнул густо насурьмленные брови и ресницы. Я представился:
— Меня зовут Филип Тернер.
— О’кей. Очень красивое имя. А теперь… — она осеклась и подняла голову. — Тернер.
— Да. Это мой брат утонул в вашем канале.
С нее мигом слетела напускная беспечность — так же молниеносно, как погасла зажигалка.
— С этим покончено. Все. Идите в полицию. Может быть, там вам что-нибудь скажут. А я ни при чем.
— Я и не собирался задавать вопросы. Просто хотел поблагодарить.
— О чем вы говорите?
Я сел на кушетку в том месте, где она казалась устойчивее.
— Вы сделали все, чтобы его спасти, не правда ли? Не всякий поступил бы так — особенно с вашей профессией. Вы же понимаете, что значит иметь дело с полицией.
— Ха! Вот именно, что не понимала! В противном случае…
— Уверен — вы поступили бы точно так же.
Она прищурилась и сквозь клубы дыма настороженно наблюдала за мной.
— Главное, все это уже позади. Его все равно не удалось спасти.
— В то время я был в Америке и не мог присутствовать на дознании. Только на прошлой неделе прилетел в Лондон. Вот почему я с опозданием выражаю вам свою признательность.
Она немного поерзала, жадно затянулась и ничего не сказала.
Я вынул из бумажника банкноту в сто гульденов.
— Соблаговолите принять этот знак благодарности.
Я положил деньги на стол. Девушка не отрывала от них глаз, словно боялась, что сотенная вот-вот испарится. Наконец она подняла на меня глаза и спросила:
— Что еще вы хотите услышать?
— Ничего.
— Тогда почему вы даете мне деньги?
— Я уже сказал.
— Но за что? Или вы хотите меня на всю ночь?
— Я зашел только повидаться с вами. Возможно, при других обстоятельствах… вы понимаете…
— Ах, так, — она с безразличным видом пожала плечами. — Мы здесь редко видим красивых молодых людей.
— Мой брат был довольно красив. Как по-вашему?
— Я не видела его вблизи. Он стоял вон там, на мосту. Кажется, он был постарше вас, да? Более худощавый. Не такой крепыш.
— Он сюда не заходил?
— Нет.
— Нам не удалось выйти на его спутников.
Девушка сбросила пепел с сигареты на пол и затоптала комнатной туфлей.
— Каких спутников?
— Мужчину и женщину.
— Я не видела никакой женщины.
— Может, она не пошла с ними до конца. Но мужчина — точно.
Она вся напряглась.
— Слушайте, мистер, я рассказала полиции все, что знала. Ясно? Они девять часов мучили меня вопросами: и так, и этак — и все потому, что я пыталась спасти человеку жизнь. Вы не знаете здешних полицейских. Во время войны они многое переняли от немцев. Я уже жалею, что стала свидетельницей этого происшествия. И что не держала рот на замке. Я вам сочувствую, но помочь не могу.
— Я не собираюсь обращаться в полицию, — заверил я. — А если и обращусь, то лишь в крайнем случае. Мне хочется самому разобраться — своими методами.
— Вот как?
— Ну, а теперь, после того, как я побеседовал с вами, мне бы хотелось потолковать с человеком, который в ту ночь был вместе с моим братом. Тем самым — с бородкой клинышком.
Девушка очень расстроилась.
— Я думала, вы зашли просто так. Дали ни за что сотню гульденов.
— Так оно и есть. Не говорите ничего такого, чего не хочется.
С минуту она молча курила. Потом откинула рукав кимоно и почесала локоть.
— Если вы думаете, что я боюсь только полиции, вы очень ошибаетесь.
Кругом было тихо. Весь дом как будто вымер. Девушка продолжала:
— Я не из стареньких… то есть, я здесь недавно. Каких-нибудь два-три месяца. Позднее, когда это будет безопасно, вернусь обратно в Утрехт. Но пока приходится оставаться здесь. И чем надежнее я буду держать язык за зубами, тем больше шансов, что я благополучно вернусь обратно.
— Хорошо, — сказал я. — Оставим это. Извините.
— Это был ад — для меня. Еле удалось отвертеться. Мне пригрозили обжечь лицо кислотой. Они так и сделают. Я слышала, одна девушка… Откуда мне было знать, что это плохой дом? Он показался мне таким же, как все остальные. Я считала так до смерти вашего брата. А когда я начала суетиться и вызвала полицию, сказали, что изуродуют.
— Кто — они?
Где-то поблизости хлопнула дверь и послышался звук опускаемых жалюзи. У Гермины Маас дернулся нерв на щеке.
— В тот вечер я сперва увидела вашего брата стоящим на мосту. Было около двенадцати. Ярко светила луна, и предметы отбрасывали тени. Мне показалось, что он только что пришел, потому что дважды чиркнул спичкой, прежде чем зажглась сигарета. Я решила, что это клиент, но он продолжал стоять, не обращая на нас внимания. Просто курил сигарету за сигаретой и ходил взад-вперед по мосту.
— Опишите его внешность.
— Вашего брата? Высокий, худой, широкоплечий и немного сутулый.
Она слегка сгорбилась и так удачно изобразила фигуру Гревила, что я больше не сомневался.
— Да… Продолжайте, пожалуйста.
Она несколько секунд молча любовалась банкнотой, затем сложила ее и в мгновение ока засунула под подвязку.
— Вам опасно здесь находиться. Если они узнают… Мне тоже не сдобровать.
— Этих денег должно хватить на дорогу до Утрехта. Завтра же и поезжайте. Когда вы покинете этот район, вам никто ничего не сделает.
— Да? Знаете ли, я в этом не уверена. Тридцать километров — не такое уж большое расстояние.
— Вы сказали, мой брат…
Девушка передернула плечами.
— Через какое-то время от нас вышел человек. Ваш брат его окликнул.
— Как он выглядел?
— Откуда мне знать? Он был не со мной. Ну… ростом пониже вашего брата, с бородкой клинышком, как вы говорили. Я не видела, как он входил сюда, но за день до того случая он тоже приходил. Они заговорили между собой. Потом начали ссориться.
С того места, где я сидел, было видно отражение двери в зеркальном стекле. Я вдруг заметил, что дверь начала отходить — так медленно, что сначала я счел это обманом зрения. Однако, мельком взглянув на девушку, я по выражению ее лица понял, что так оно и есть. За дверью кто-то был.
— Еще сигарету? — предложил я.
— О’кей. Спасибо.
Она сама достала из пачки сигарету, и я обратил внимание, что ее руки с облупившимся лаком на ногтях дрожат.
Я как ни в чем не бывало заявил:
— Мне посоветовал один приятель. Мол, нигде так не повеселишься, как в ”Барьерах”. Одно время он часто сюда наведывался.
Наши взгляды встретились.
— Вот как?
— Да. Раньше он регулярно бывал в Амстердаме. Примерно раз в три месяца: сюда заходило его торговое судно. Может, я тоже еще вернусь. Если вы не против.
— Конечно, — сказала она. — Конечно. В любое время.
Дверь резко распахнулась, и вошел тот, кто нас подслушивал.
Я поднялся ему навстречу. Это оказался верзила средних лет, с огромным пузом. В тусклых темно-русых волосах не было седины. Он носил восьмигранные очки без оправы. Если бы не одежда и жесткий взгляд, его можно было бы принять за учителя или респектабельного клерка.
Он закрыл за собой дверь и спросил на неплохом английском:
— Что вы здесь делаете?
— Это вас не касается.
— А вот и касается. Это одна из моих девушек. Я желаю знать, по какому праву вы у нее что-то выведываете?
Я окинул взглядом цепочку для часов с подвешенными к ней амулетами, зеленую шелковую рубашку, галстук в красную крапинку… Сколько денег выброшено на эту безвкусицу!
Он не отставал:
— Как вас зовут?
— Тернер.
— А меня — мистер Джоденбри. Я здесь живу.
Я начал терять терпение.
— Если хотите что-то сказать, говорите и убирайтесь.
Он уставился на меня в упор. Из-за расширившихся зрачков почти не было видно радужной оболочки. Где я раньше видел такие глаза?
— Что я хочу сказать? А то, что нечего вам тут шляться и вынюхивать. Мы любим, чтобы было тихо. Мина хорошая девушка — когда держит язык за зубами. К сожалению, она не всегда так поступает.
— Джо, я ему ничего не сказала. Совсем ничего.
— Конечно — потому что и нечего было говорить. Однако нам действует на нервы, когда тут шныряют всякие и суют нос не в свое дело. Лучше бы вам уйти, мистер Тернер.
— Уйду, когда придет время. А вы пока подождите снаружи.
Он понизил голос.
— Вы, должно быть, думаете, что я блефую? Я — мистер Джоденбри. Если это имя вам ничего не говорит, значит, вы — блаженный дурачок и таким и останетесь, если быстренько умотаете отсюда.
Я все еще не терял надежды.
— Мне не хотелось бы снова впутывать полицию. Может быть, нам имеет смысл договориться?
Он сунул пухлую, всю в веснушках, руку в карман габардинового пиджака и извлек серебряный свисток.
— В свое время я был дрессировщиком собак. Мне удалось научить одного пса включать свет, когда он входил в комнату, и выключать, когда выходил из нее. А другого пса я научил танцевать. Это говорит о том, что я — человек терпеливый, особенно с дураками. Если собака слишком долго не желает умнеть, я даю ей хорошую трепку. Сейчас именно такой случай, но мне не хочется самому марать руки.
Весь его вид и интонация показывали, что он знает толк в таких делах и в совершенстве владеет техникой террора. Потом, уже задним числом, я спрашивал себя: было ли мне страшно? Бывает, страх маскируется под гнев, так что не всегда можно сказать с полной уверенностью.
Я резко выбросил руку в сторону окна и поднял жалюзи; девушка дернулась, как подстреленная.
Мистер Джоденбри ухмыльнулся.
— Думаете, это вам поможет? Ни в коем случае. Оставь, Мина. Это пустяки.
— Послушайте, — сказал я, — вам не кажется, что мы уже не в том возрасте, когда дерутся, как мальчишки? Это не сулит нам обоим ничего хорошего. Предлагаю сделку.
— Сделку? Какую сделку?
Мне показалось, что это слово затронуло какие-то глубинные струны: возможно, прежде чем стать гангстером, он был уличным торговцем.
— Мне нужно кое-что выяснить. А потом я сразу уйду и никогда больше вас не потревожу. Меня интересует главным образом Бекингем.
Он вдруг расхохотался — беззвучно, одним ртом. Чувствовалось, что ему действительно смешно. Правда, он так и не убрал свисток.
— Бекингем? В первый раз слышу. Кто это?
— Человек, который был у вас в тот вечер, когда убили моего брата.
Теперь я вспомнил, где мог видеть такие глаза. Во время войны в госпитале в Гибралтаре лежал на излечении наркоман.
— Вижу, — прорычал Джоденбри, — с тобой по-хорошему не получается. Через пару минут…
Вдруг открылась дверь, и в комнату скользнул Мартин Коксон.
Джоденбри оглянулся и замер в нерешительности. Облизнул губы. У Мартина был весьма грозный вид. Он не произнес ни слова.
— Ах, вот что, — сказал Джоденбри и моргнул. — Вот, значит, как обстоят дела, — появление нового участника выбило его из седла.
— Да, вот так, — подтвердил Мартин.
— Я надеялся на вашу помощь, — сказал я ему.
— Мне показалось, что вы слишком долго не возвращаетесь.
Джоденбри пробормотал:
— Вы, значит, с другом? Очень интересно. У меня тоже есть друзья. Ничего удивительного, — он сделал движение рукой.
— Только попробуй пустить в ход свисток, — пригрозил Мартин, — я тебя мигом успокою.
Девушка вся дрожала, даже не могла попасть окурком в пепельницу. Атмосфера в комнате сгустилась до предела. Я ощутил — впервые в жизни — присутствие зла, самого настоящего. Это трудно объяснить, но зло было здесь, рядом, и я не знал, что делать.
Я обратился к Джоденбри:
— Послушайте. Я предложил вам сделку — она остается в силе. Скажите, где Бекингем, и я оставлю вас в покое. Он еще в Голландии?
Девушка в отчаянии схватила меня за руку.
— Убирайтесь отсюда — немедленно! Уезжайте к себе домой! Вам нельзя оставаться в Голландии!
Я воззрился на нее.
— Моего брата убили? Вы это видели?
— Нет, нет, нет! — горячо запротестовала она. — Я ничего не видела! Пожалуйста, уходите!
Лицо Джоденбри исказила злоба.
— Слышишь, что она говорит? Хочешь вернуться в Англию — самое время это сделать!
В этот момент Мартин его ударил. Уж не знаю, сколько в этом было справедливости, но он вложил в этот поступок всю свою злобу, это точно. Джоденбри рухнул на пол. Сложился, как зонтик. Падая, он смахнул все с тумбочки. Девушка вскрикнула:
— Идиот! Чертов идиот! Он с тобой разделается! И со мной! Он…
Коксон оттолкнул ее.
— Заткнись, или тоже получишь. Сиди и помалкивай! — Он обернулся ко мне. — А теперь можете задавать вопросы.
Я оттащил Джоденбри подальше от камина. Он все еще был без сознания; Мартин разбил ему челюсть, и изо рта сочилась кровь. В комнате снова стало тихо, как в усыпальнице. Слышно было только тяжелое дыхание Гермины Маас, которая дрожащими пальцами, царапая пачку, пыталась вытащить сигарету.
Мартин ладонью вытер пот с лица.
— Чертовы торгаши — копошатся тут в собственном дерьме. Я бы с удовольствием сбросил его в канал. Самое подходящее место.
Девушка захлебывалась дымом и в ужасе переводила взгляд с меня на Мартина и обратно. Даже под толстым слоем грима можно было увидеть, как позеленело ее лицо.
Мартин повернулся к ней.
— Ну, так что ты видела в тот вечер, когда убили доктора Тернера?
Она забилась в истерике.
— Что вам нужно? Зачем вы пришли? Теперь подумают, что все из-за меня!
— Нам нужна правда о смерти Тернера. Мы не из полиции, и нас не проведешь. Его убили, да? Как?
— Говорю вам, я ничего не видела! Ничего!
— Его столкнули в воду? Кто? Этот мерзавец или один из его сообщников?
— Дайте выпить, — простонала она. — Мне плохо.
Мартин потер разбитые костяшки пальцев и сердито оглянулся.
— Филип, вон там, в углу, джин.
Я наполнил стакан и дал девушке. После того, как Мартин задал пару вопросов и она не ответила, я сам обратился к Гермине Маас:
— Должно быть, вы переволновались. Нельзя ли нам завтра встретиться в каком-нибудь другом месте, подальше отсюда? Где было бы не так опасно разговаривать.
— Мне везде опасно распускать язык! И вам тоже! Уезжайте домой, идиот вы этакий!
Мартин угрюмо наблюдал за тем, как она пьет. Потом перевел взгляд на Джоденбри и вполголоса произнес:
— Пожалуй, вы правы: сегодня из нее уже ничего не вытянешь.
Девушка допила свой джин. Я еще раз спросил:
— Вы можете нам помочь? Вы поможете?
Казалось, она прислушивается к каким-то звукам извне и не слышит меня. Наконец она взяла себя в руки.
— Забирайте свои деньги и уходите, пока вас самого не сбросили в канал!
Мартин приоткрыл дверь — на дюйм, не более. Мы переглянулись, словно взвешивая шансы.
— Ладно, — решил я. — Нет смысла оставаться.
Он шире открыл дверь. Костяшки его пальцев были в крови.
Я вдруг забеспокоился.
— Нельзя оставлять здесь этого человека.
— Почему?
— Он отыграется на девушке.
— Он так или иначе на ней отыграется.
— Может, вынесем его на улицу? Возьмем за руки и за ноги…
— Мне противно к нему прикасаться.
Но мы все же вынесли Джоденбри. Девушка сразу же захлопнула за нами дверь. Пришлось в темноте, ощупью, спускаться по лестнице. Джоденбри начал приходить в себя. Внизу Коксон сказал:
— Достаточно, — и дал Джоденбри свалиться на пол.
Мы вышли на улицу. Вновь бренчала мандолина; в холодном воздухе музыка звучала особенно звонко. Отраженные в воде канала огни казались дрожащими от холода лицами утопленников. На причале не было ни души. Мартин поправил кожаный ремень.
— Спасибо, что пришли на помощь, — сказал я ему.
— Правда, не очень-то тактично. Но с такими типами… самый эффективный способ.
— Один из способов.
Мартин нахмурился, пососал костяшки пальцев и сплюнул. На верхней губе осталась кровь.
— Не рассчитывайте, что я стану миндальничать. Я поступаю так, как считаю нужным. Как чувствую. Он ни за что не отпустил бы нас по-доброму. Свистнул бы своих головорезов. Не люблю, знаете ли, когда бьют. А вы?
* * *
Утром меня разбудил телефонный звонок. Было уже довольно поздно. Вчера вечером мы не сразу вернулись в отель. Мартин как будто задался целью воскресить воспоминания далекой юности, упрямо отказываясь идти домой и слоняясь от одного места к другому, отыскивая следы былых гулянок.
В одном погребке, с вполне современной росписью на стенах, которая даже Фрейду не оставила бы простора для интерпретации, Мартин позаимствовал аккордеон и исполнил с полдюжины песен — причем не обыкновенных матросских, а две песни Шумана — ”Ты как цветок” и ”Идальго” — и несколько — Форе. Когда Мартин пел, эффект был точно такой же, как когда он улыбался: его лицо светлело и с него исчезало выражение горечи и разочарования; в такие минуты ему можно было дать лет двадцать пять, не больше. Я подумал, что это типично английский тип человека, который ведет современную партизанскую борьбу методами Ганнибала или является на низкопробную пирушку с томиком Ливия в кармане. Он казался мне классическим человеком действия, не признающим дисциплины.
Эти более поздние и более приятные впечатления несколько сгладили для меня напряжение и остроту нашего первого приключения; его масштаб в моем восприятии уменьшился, и когда я добрался наконец до постели, то моментально уснул и проспал несколько часов. Меня разбудил телефонный звонок.
Я снял трубку.
— Мистер Тернер?
— Да?
— Это инспектор Толен. Доброе утро. Я не знал, что вы уже в Голландии. Когда вы приехали?
— Только вчера. Могу я как-нибудь навестить вас?
— Да, разумеется. Я как раз это и собирался предложить. Полковник Пауэлл предупредил меня о вашем приезде.
— Неужели?..
Голос в трубке продолжал:
— Может быть, сегодня? Дайте подумать… Вечером я буду занят. Вас устроит обеденное время?
— Да, благодарю вас.
— В час в Американском отеле?.. Отлично. Вы придете один?
Я замешкался.
— Нет. Со мной капитан третьего ранга Коксон. Вы знакомы?
— Нет. Но вы можете смело приводить его с собой. Разумеется, если вам этого хочется.
Через десять минут появился Мартин и присел ко мне на кровать.
— Вы еще не завтракали?
— Нет.
— Уже почти половина десятого. Я с шести на ногах.
— Что, была необходимость?
— Всего-навсего привычка. Я всегда мало сплю.
— Вы вчера нарочно меня спаивали?
Он улыбнулся. Затем знакомым жестом растопырил два пальца буквой ”V” и откинул назад прядь волос со лба.
— Нет. Но после похода в ”Барьеры” вы были так взвинчены, что я подумал: неплохо бы снять напряжение. Вот и прибегнул к единственно доступному способу.
— Спасибо. Он подействовал:
Я рассказал о звонке Толена. Мартин нахмурился.
— Черт бы его побрал. Я как раз напал на след человека, который мог бы нам помочь. Но если он узнает, что мы связались с полицией… Вы приняли приглашение за нас обоих?
— Думаю, Толен и так знал, что со мной друг, — или вот-вот узнал бы.
— Да я пойду, пойду. Мне самому интересно, что он скажет.
Глава V
Инспектор Толен стряхнул пепел с сигары, и вокруг стола поплыл сизый дымок.
— Жалко, что вы не обратились ко мне сразу же по приезде, мистер Тернер. Ваша вчерашняя вылазка была не очень-то мудрым шагом. Хорошо, что все благополучно кончилось.
— Если вы считаете, что вчера мы подвергали себя опасности, — сказал я Толену, — почему вы уверены, что в случае с братом не было чьего-то злого умысла?
— Злой умысел оставляет следы. Я покажу вам медицинское свидетельство.
— Не было ли других свидетелей, кроме Гермины Маас? В подобных местах…
— Как раз в подобных местах обычно и не бывает свидетелей. Все дружно уверяют, что у них были спущены жалюзи. Но мы продолжаем поиски.
В разговор вмешался Вам Ренкум:
— Мистер Тернер, ваш брат не был подвержен депрессии, приступам нервного истощения? Не принимал ли какие-нибудь стимулирующие средства или, наоборот, транквилизаторы? Например, в наши дни фенобарбитон считается панацеей от всех болезней. Его прописывают всем подряд: Тому, Дику, Гарри… и его легко достать.
— Брат не был ни алкоголиком, ни наркоманом, если вы это имеете в виду.
— Нет, я имею в виду совсем другое. Дело в том, что как раз самые блестящие люди уязвимее других. В случае с барбитуратами опасность заключается в том, что они приводят к потере памяти, а это в свою очередь чревато приемом чрезмерных доз.
Я все еще не мог привыкнуть к мысли, что приглашен на обед в один из лучших амстердамских отелей — и не кем-нибудь, а инспектором полиции.
В Англии такие вещи немыслимы. Может быть, здесь тоже — просто сыграли роль чрезвычайные обстоятельства, а именно непостижимая смерть Гревила Тернера, который пользовался в этой стране величайшим авторитетом. Возможно, это же лежало в основе поведения Ван Ренкума, высокопоставленного чиновника, даже чище меня говорившего по-английски и, кажется, присутствовавшего на обеде не в своем официальном качестве.
Мартин молча выпил четвертый бокал. Его красивое бледное лицо было непроницаемо; он замкнулся в себе.
Мы уже разделались с таким количеством еды, которого хватило бы на восьмерых. Заливное из цыпленка с трюфелями и стручками красного перца; бифштексы и гусиная печенка… Толен с невероятной скоростью поглощал блюдо за блюдом, затягиваясь перед каждой отправляемой в рот порцией, так что под конец у него отовсюду шел дым: из ноздрей, рта, ушей и даже, представьте себе, из карманов.
Я возобновил прерванный разговор:
— О Бекингеме ничего не слышно?
— Мы связались с Джакартой, но полноценное сотрудничество с тамошними коллегами сильно затруднено, — Толен замялся и бросил нерешительный взгляд на своего спутника.
Ван Ренкум нахмурился и опустил глаза, как бы затем, чтобы проверить запонку.
— Инспектор Толен имеет в виду, что отношения между нашими странами оставляют желать лучшего, — пояснил он. — Наши восточные колонии вырвали свою независимость в тот момент, когда мы после войны находились в состоянии разрухи. Поспешное признание их суверенитета со стороны Объединенных Наций явилось большой ошибкой, так как они не были к нему готовы. Пустите ребенка, не умеющего ходить, на пол и уберите помочи — он тотчас упадет. Вот и они упали — прямо в объятия коммунистов. Индонезийцы сознают, что мы предоставили им свободу не по доброй воле, а под давлением обстоятельств. Поэтому, когда мы обращаемся к ним за содействием в международных делах, они не всегда его оказывают.
Толен энергично кивнул.
— Но я послал туда одного из моих людей, чтобы он лично разобрался на месте. Завтра мы ждем его обратно.
Мартин в первый раз за все время открыл рот.
— Мы и так многое знаем о пребывании Бекингема на Яве. Нас должно интересовать, где он находится в настоящее время.
— Конечно, но в работе следователя исключительно важно представлять, что происходило ранее: прошлое помогает понять настоящее и предугадать дальнейшие шаги преступника… или подозреваемого. Мы рассчитываем на подробное — в дополнение к вашему, мистер Коксон, — описание внешности Бекингема; возможно, какие-либо особые приметы. Или вдруг удастся раздобыть фотографию. Наш человек уже сообщил кое-какие сведения по телеграфу. Например, мы знаем обстоятельства знакомства Бекингема с доктором Тернером. В последние три-четыре месяца прошлого года некое судно, а именно ”Пекин”, занималось доставкой оружия с Филиппин. На Яве есть порт, находившийся в руках организации ”Дар-уль-Ислам”. Это мусульмане, восставшие против центрального правительства. Судно принадлежало Бекингему. В феврале правительственный истребитель пробил в нем брешь, и оно было вынуждено встать на прикол. Бекингем потерял на этом все, — Толен повернул ко мне бородатое лицо. — Ваш брат был добрейшим человеком, всегда готовым прийти на помощь падшему. Он дарит Бекингему свою дружбу. У него заболевает помощник. Бекингему удается стать полезным. У него нет денег, и доктор Тернер оплачивает ему проезд на родину. Будучи проездом в Амстердаме, доктор Тернер погибает, а Бекингем улетучивается. Ни слуху, ни духу. Но, возможно, нам все же удастся разыскать его.
— А та девушка, Леони? — спросил я.
— Никакая иностранная подданная с таким именем с тех пор не пересекала границу Голландии — ни в ту, ни в другую сторону. Возможно, это уменьшительное имя. Конечно, если она голландка, это меняет дело. Мы навели справки среди друзей и знакомых доктора Тернера, но пока эти расспросы не дали результатов.
Принесли сыр. Я надкусил и сдался; остальная троица держалась до победного.
— И вот что, мистер Тернер, — обратился ко мне Ван Ренкум. — Скажите, как далеко ваш брат продвинулся в своих ядерных исследованиях? Я не могу утверждать наверняка, но в наше время чего только не случается. То дипломат исчезнет, то лучший друг перебежит к русским…
— Он бросил их двенадцать лет назад. Все его познания в этой области относятся к доисторическому периоду. Но, конечно, его блестящий мозг мог представлять ценность для любого государства, на которое он изъявил бы желание работать.
— Вот я и думаю, — сказал Ван Ренкум, — может, на него было оказано давление с целью заставить совершить действия, несовместимые с его принципами?
Мартин взял предложенную ему Ван Ренкумом сигару.
— Вам известен субъект по имени Джоденбри?
Оба голландца переглянулись.
— Тот, что обитает на Удекерксплейн? Вчера вечером вы его видели?
— Да.
— Скверный тип. Терроризирует весь район. Не связывайтесь и не принимайте от него помощи.
— Я бы не сказал, что он был склонен оказать нам помощь.
— Завтра, — сказал Толен, — вы сможете встретиться с моим сотрудником из Джакарты. Я также предоставлю в ваше распоряжение все имеющиеся у нас материалы. И позабочусь о переводчике.
Мартин продолжал упорствовать:
— Как все-таки насчет Джоденбри? Вы его допросили?
— Да. Но он, конечно, заручился свидетелями, которые подтвердили его алиби в тот вечер.
— Разумеется, ложное.
— Не обязательно. Но в любом случае это трудно опровергнуть.
— На какие средства он живет? Собирает дань с девушек?
— Он владеет недвижимостью.
Мартин закурил сигару, нетерпеливо чиркнув спичкой.
— Я, как вы знаете, всего лишь сторонний наблюдатель, пытающийся оказать посильную помощь мистеру Тернеру. У меня нет личной заинтересованности в этом деле. Но чем дальше мы углубляемся в дебри, тем больше я недоумеваю. Если бы Гревил Тернер застрелился в своем номере в отеле… тогда можно было бы говорить о самоубийстве. Но место и способ были выбраны по меньшей мере странно. Наложить на себя руки — в таком районе? Среди таких типов, как Джоденбри? Полагаю, гибель Тернера была лишь обставлена как самоубийство. На самом деле он был убит — по неизвестной пока причине. Если бы та женщина случайно не увидела и не вызвала полицию, он так и канул бы без следа. А через несколько недель был бы найден труп и его объявили бы погибшим в результате несчастного случая.
— Но согласно утверждениям Гермины Маас….
— У нее хватило глупости болтать, когда все прочие держали язык за зубами. Но потом она спохватилась и состряпала версию о самоубийстве. Даже теперь она дрожит за свою жизнь.
— А найденное при нем письмо?
— Оно может не иметь отношения к делу.
— А отсутствие следов насилия? — холодно осведомился Ван Ренкум.
— Бог знает… Бог знает… Может, его долго держали под водой. Мало ли способов убить человека так, чтобы ввести в заблуждение патологоанатома?
За окном солнечные лучи отражались в воде канала.
Толен сказал:
— Нельзя исключить и такую версию. Я лично не разделяю вашего мнения, но — возможно. А пока должен предупредить: если и дальше вы будете действовать на свой страх и риск, это чревато осложнениями, а возможно, даже опасностью для жизни. Вы меня понимаете?
— О да.
— Я был бы вам чрезвычайно признателен, если бы вы пообещали ничего не предпринимать.
Я взглянул на него в упор.
— Не могу дать такое обещание.
Толен так же пристально смотрел на меня, словно что-то взвешивая в уме.
— Очень жаль, мистер Тернер.
— Я не хочу нарываться на неприятности. Но… мое время ограничено. Я должен использовать его с максимальным эффектом.
Уже на улице Ван Ренкум отозвал меня в сторонку.
— Граф Луи Иоахим приглашает вас поужинать с ним перед отъездом из Голландии. Завтрашний вечер подойдет?
— Да, благодарю вас. Буду с нетерпением ждать встречи.
Мы с Мартином двинулись обратно. Он снова сделался несловоохотливым, а я после столь обильной трапезы тоже не испытывал желания заводить разговор.
Подходя к отелю, Коксон сказал:
— У нас не так много пространства для маневра, как во-вашему?
— Вы имеете в виду просьбу Толена?
— Да. ”Ведите себя как следует, или я приму меры”.
— Какие?
— Ну, например, он может установить за нами слежку. Так обычно поступает Пауэлл. Какой был смысл приезжать, если мы лишь марионетки в чьих-то руках?
— Мне очень жаль, что вы так настроены, — огорчился я.
— А вы — нет?
— Я хочу сказать: мне будет жаль, если вы потеряете интерес к этому делу только потому, что мы оказались под колпаком у полиции.
— Дело не в утрате интереса. Как раз наоборот. Просто мне не верится, что таким образом мы чего-либо достигнем.
— Каков же выход?
— Понятия не имею.
— Бетс пока ничего не выяснил?
— Нет. Но на него — главная надежда.
— Осталось всего два дня, — с грустью констатировал я.
— Потом вы уедете в Америку?
— Наверное.
— По крайней мере, вам не придется упрекать себя в том, что вы не предприняли возможных шагов.
— Но я и не могу поздравить себя с мало-мальски приемлемыми результатами.
— У вас нет ощущения, будто Толен и Ван Ренкум чего-то не договаривают?
— Есть. Мне показалось, они всячески увиливали от ответа на ваши вопросы относительно Джоденбри. Как вы думаете, у него не может быть руки в полиции? Как в Голландии насчет коррупции? — Точно не знаю, но, по-моему, такие вещи случаются где угодно.
Мы некоторое время шли молча. Затем Мартин спросил:
— Если вы уедете в Америку, так и не решив эту загадку, это будет для вас большим ударом?
Я пожал плечами.
— У меня все равно нет выбора.
Он утвердительно наклонил голову.
— Да. В том-то и дело, что иногда у человека не бывает выбора.
* * *
Вечером Мартин получил телеграмму от матери. Их бунгало подверглось нападению грабителей. Телеграмма была очень длинной, и, читая ее, Мартин кисло улыбался.
— Мама все еще кажется себе беззащитной юной новобрачной, нуждающейся в опеке; за неимением супруга роль защитника предназначается мне. Но ей придется обойтись без меня.
За ужином он рассказал мне больше о себе. Его отец был младшим сыном шотландского пэра и актрисы Лотти Бернстайн и сам стал продюсером.
— Он неплохо зарабатывал и пользовался большим успехом у дам. Даже слишком большим, потому что в тридцать пять лет умер от перенапряжения. Я его плохо помню. Зато я часто навещал своего деда, лорда Калларда из Файфа. Это был настоящий старый дьявол, но голубая кровь, аристократ до мозга костей. Когда его сын женился на моей матери, она работала воспитательницей в детском саду.
В конце ужина Мартин вспомнил о телеграмме матери и пошел давать ответную телеграмму с просьбой позвонить ему утром от соседей.
В его отсутствие я прогулялся к отелю ”Гротиус” и побеседовал с дежурной, которая разговаривала с женщиной, приходившей к Гревилу. На сей раз мне удалось застать ее. Она сказала, что приятельница Гревила назвала свое имя, но дежурная его не запомнила. Даже не могла вспомнить, была ли дама замужней. Фамилия короткая и вроде бы иностранная — возможно, английская. Дама была хороша собой и говорила по-английски, но подчас как бы затруднялась.
— То есть, можно сказать, что это не ее родной язык?
— Понимаете… иногда она запиналась в начале слова.
Другая дежурная припомнила, как накануне того дня к Гревилу приходили белокурая дама и джентльмен. Они втроем отправились в бар. Бармен их не запомнил.
Я вернулся домой с ощущением, что до сих пор нам так и не удалось добыть сколько-нибудь значительной информации. Пытаться восстановить события трехнедельной давности — все равно что хвататься за проколотый воздушный шар: он так и ускользает из рук. Даже на полицию нельзя положиться. А времени — в обрез.
На следующее утро во время завтрака позвонила миссис Коксон. После разговора с ней Мартин сообщил, что все же придется ехать. Мать — пожилая женщина, а после ограбления возникли проблемы со страховкой. Я возразил: мол, пара дней ничего не решает; он поколебался, однако тревога за мать пересилила.
Грешен — у меня мелькнуло подозрение, что он воспользовался телеграммой как предлогом отказаться от этой безнадежной затеи. Коксон показался мне импульсивным человеком; по всей видимости, он поддался моим уговорам и поехал в Голландию в надежде принести пользу. Но его контакты девятилетней давности с Бекингемом не помогли пролить свет на происшедшее, и его энтузиазм мало-помалу иссяк. А когда в дело вмешался Толен, он и подавно счел свои ресурсы исчерпанными.
Не так уж редко приходится встречать людей, которые обещают — вполне искренно — больше, чем могут исполнить. Я не винил Мартина: ведь это я уговорил его ехать.
Он заказал билет на рейс 12.30, и я проводил его до аэропорта. На прощанье он сказал, как будто прочитав мои мысли:
— Мне бесконечно жаль, что от меня оказалось так мало проку. Поверьте, это не из-за недостатка рвения. Возможно, действуя в одиночку, вы добьетесь большего.
— Не очень-то я на это надеюсь.
— Мало ли как могут развиваться события. Если все же что-то подвернется и я вам понадоблюсь, дайте телеграмму, я тотчас приеду.
— Спасибо.
Он несколько секунд пристально смотрел на меня.
— Как бы то ни было, я считаю, что мы должны поддерживать связь. Что вы на это скажете?
— Согласен.
— Дайте мне знать перед отлетом в Штаты. А если вам придется улететь, но вы сочтете, что остались кое-какие зацепки, напишите, и я завершу начатое вами. Я не верю в самоубийство вашего брата и буду рад помочь вам доказать это.
— Спасибо, — повторил я. — Буду иметь в виду.
Возвращаясь в город, я чувствовал себя одиноким и растерянным. Мне не хватало общества Коксона. Я знал его всего несколько дней, но с самого начала общение с ним было интересным и небесполезным. Возможно, думал я, и мне следовало бы угомониться и вернуться домой? Может, я и впрямь помешался на этом деле? Оно по-прежнему значило для меня непомерно много, но сказанное Мартину было абсолютной правдой: у меня не было выбора. Мое поведение было обусловлено всем прошлым — начиная с семилетнего возраста.
Я позвонил Толену. Новое разочарование. Человек, который должен был вернуться из Джакарты, телеграфировал, что ему нужно еще несколько дней. Он обещал вернуться на следующей неделе. Если к тому времени я уеду, Толен обещал прислать мне письменный отчет.
Я потратил большую часть дня на знакомство с материалами дела, имевшимися в распоряжении полиции. Учтивый молодой полицейский с голубыми глазами и по-детски розовым лицом прочитал мне вслух рапорт о медицинском освидетельствовании. Рано вернувшись в отель, я написал доктору Пангкалу — его адрес мне дал Толен. Обычно ассистенты Гревила становились его друзьями, вот я и подумал: может, с братом покойного он будет откровеннее, чем с полицейскими? Покончив с письмом, я начал переодеваться к ужину с графом Луи Иоахимом.
За этим занятием меня и застала жена Бетса. Она сообщила — насколько я мог понять, — что какой-то человек хочет видеть капитана Коксона. Она знала по-английски всего с полдюжины слов, а Бетс куда-то ушел, но я знаками попросил ее впустить посетителя.
Не успел я надеть пиджак, как вошел молодой человек — бледный, тощий, в очках без оправы и с таким унылым лицом, словно сроду не радовался жизни. Он был чисто одет и смахивал на младшего клерка.
— Капитан Коксон?
Я заколебался.
— Вы капитан Коксон?
Я кивнул.
Молодой человек пугливо оглянулся, словно ожидая удара кинжалом в спину.
— Сэр, некий мистер Ловенталь сообщил мне информацию, которую вы как будто хотели купить. Вы его знаете?
Я опять кивнул.
— Вас интересует некая дама, покинувшая страну тридцатого марта?
Чтобы скрыть волнение, я нагнулся за сигаретами.
— Да.
— У меня есть такая информация. Мне обещали двести гульденов.
Я не пожалел бы и тысячи!
— Да, конечно — если информация точна.
— Могу я сначала получить деньги?
— Только после того, как сообщите то, что имеете сообщить.
Наши взгляды встретились. У меня оказалось больше выдержки. Он с минуту шарил в карманах и наконец выудил клочок бумаги.
— Она вылетела из Голландии в Рим тридцатого марта, в 21.15, рейс № 341. Адрес в Риме — отель ”Агостини”, ул. Квириналь, 21.
Я предложил ему сигарету, но он покачал головой.
— Спасибо, я не курю.
— Дама все еще в Риме?
— Это мне неизвестно.
Я закурил.
— Ее имя?
Он воззрился на меня сквозь толстые линзы очков.
— Вы спросили — ее имя?
— Да, разумеется.
Я уж было подумал, что он потребует еще денег, но вместо этого он заглянул в бумажку.
— Хелен Джойс Винтер.
— Миссис или мисс?
— Миссис.
— Она англичанка?
— Да, сэр.
— А мужчина?
Он заморгал.
— Мужчина, сэр?
— Разве с ней не было мужчины?
— Не знаю, сэр. Насколько мне известно, дама путешествовала одна.
Я прикинул в уме: Хелен, Елена, Леонора, Леони…
— У вас есть еще какая-нибудь информация?
— Нет, сэр.
Я протянул ему две банкноты по сто гульденов. Он внимательно осмотрел их и сложил быстрыми движениями тонких, нервных пальцев. Банкноты при этом захрустели.
— Хотите выпить?
— Спасибо, сэр, я не пью.
Мне не хотелось его отпускать, но, задав еще несколько вопросов, я убедился, что, скорее всего, ему больше ничего не известно. Он пришел продать определенную информацию и если бы знал что-нибудь еще, конечно, выложил бы и это — за определенную мзду. Было очевидно: его интересуют только деньги.
Когда мы спускались по лестнице, навстречу попался Бетс — его грузная фигура чуть ли не загородила проход. Мне показалось, что он хочет что-то сказать — может быть, высказать протест, — но я сделал ему знак молчать и проводил осведомителя до самого выхода из отеля.
Кажется, усилия Мартина Коксона начали приносить плоды.
Глава VI
Граф Луи Иоахим жил весьма просто и держался с братом своего старого друга радушно и доброжелательно. В комнате, где мы должны были ужинать, я увидел множество предметов, связанных с их общим увлечением: хеттская глиняная табличка, папирус в рамке из гробницы Везерхета, золотая маска времен Двенадцатой династии, расписная глиняная утварь из древних захоронений.
Он поведал мне о длившейся двадцать лет дружбе с моим братом и об их последней встрече перед отъездом Гревила на Яву. Они тогда весь вечер проговорили о цели раскопок. Гревил сказал, что, кажется, нашел свой ответ на вопрос о происхождении человека. Если находки ближайших двух-трех лет подтвердят его нынешние предположения, он надеялся разработать новую классификацию антропологических типов.
— Многообещающих молодых людей — пруд пруди, — заметил Луи Иоахим. — А ваш брат являл собой иной, более ценный человеческий тип: зрелого человека с замечательной перспективой. Он не коснел, как многие; вместе со зрелостью шло, так сказать, постоянное обновление его умственного багажа. Он не утратил ни одного из достоинств юности — и созрел для крупных свершений. Вот почему это так трагично.
— И необъяснимо.
— И необъяснимо.
— Но вы все же пытаетесь, — спросил я, — объяснить это хотя бы себе самому?
— Все, что я могу, это напоминать себе, что Гревил Тернер был прекрасным человеком с недюжинными способностями.
— Что из этого следует?
— Ничего. Просто, мне кажется, нужно пытаться проникнуть за мрачную вуаль смерти, — Луи Иоахим задумчиво, даже хмуро посмотрел на меня. — Ваш брат был одним из тех людей, которые ставят перед собой труднейшие, а то и невыполнимые задачи. Мне не раз приходило в голову: как такой человек перенесет поражение — в какой угодно области?
— А как все переносят?
— Согласен. Но обыватель идет на меньший риск, начиная дело, и не столь эмоционально реагирует на победу. У него более гибкая психика, он легче приспосабливается к веяниям времени. Тогда как человек высоких идеалов, способный сдвинуть горы на благо человечества, подчас не может найти в себе силы для компромисса. Не может или не хочет. Победа или смерть — ему ненавистна сама мысль об отступлении.
Меня снова поразило то, как, пытаясь решить загадку смерти Гревила, каждый — будь то Арнольд, полковник Пауэлл, Мартин Коксон или вот теперь граф Луи Иоахим — пытался представить, что бы он сам сделал на его месте. Таким образом, вместо проникновения в суть явления мы имели дело с его отражением. Каждый решал задачу в соответствии со своим темпераментом. Никто по-настоящему не знал и не понимал самого Гревила. Возможно, на это и нельзя было рассчитывать. Возможно, мне следовало биться над проблемой в одиночку, полагаясь не на акробатику ума, а на любовь и способность к пониманию. Если только в подобной ситуации вообще можно было на что-либо полагаться.
Я обратил внимание на то, что Луи Иоахим несколько раз настойчиво подчеркнул: его страна в долгу перед Гревилом за доброту и поддержку, оказанную им королевской семье в период между тысяча девятьсот сороковым и сорок вторым годами. Он говорил очень искренно, но со значением, так что я не мог не задуматься: уж не пользуется ли он большим, чем я, доверием полиции?
Я покинул его резиденцию около десяти часов и в половине одиннадцатого вернулся в город. Весь день меня мучило, все усиливаясь, смутное ощущение недосказанности. И я решил перед отъездом из Амстердама сделать одну вещь: еще раз увидеться с Герминой Маас.
Даже во второй раз найти дорогу в ”Барьеры” оказалось нелегким делом. Я дважды повернул не туда и наконец очутился на месте, но почему-то вышел с другой стороны. Это было даже хорошо: мне хотя бы не пришлось вновь проходить мимо освещенных окон.
Моросил дождь; на мосту блестело булыжное покрытие. Невдалеке пьяный распевал шуточную песенку — в этом месте и в такую погоду она звучала не очень-то весело. Маленькие освещенные комнаты казались мне саркофагами, в которых заживо разлагалась человеческая плоть. Как ни украшай порок, в его основе все равно лежит что-то жалкое, гнетущее. Половой акт может быть прекрасен и опоэтизирован, а может сводиться к надписям на стенах общественных уборных.
Пройдя мост до конца, я услышал за собой шаги и резко обернулся — все было тихо. Из дома напротив вышел человек и двинулся мне навстречу. Это оказался крупный, щеголевато одетый негр, какие встречаются в международных портах: рослый, с лицом как из слоновой кости, в сером пальто с коротковатыми рукавами и серой фетровой шляпе с заломленными спереди полями. Посадка головы и то, как он шел вразвалку, говорили о многом. Я остановился и подождал, пока он не поравняется со мной. Он сверкнул белками глаз, открыл рот, как бы намереваясь что-то сказать, но вдруг передумал и быстро двинулся дальше.
Окна второго этажа в доме номер двенадцать по Золенстраат были погружены во тьму, а жалюзи на первом опущены. Там ли мистер Джоденбри? Я храбро вошел в дом и поднялся по лестнице.
Свет не горел, и мне пришлось искать дверь в комнату Гермины Маас на ощупь. Наконец моя рука наткнулась на дверную ручку. Я постучал. Никто не ответил. Под ногой скрипнула половица, и я на мгновение замер. На улице лаяла собака. Я нажал на ручку. Дверь поддалась.
Я не сразу вошел в комнату, а сначала пошарил по стене в поисках выключателя. Наконец я нащупал его, но он не работал, сколько бы я ни нажимал на кнопку. Я попытался представить себе комнату, какой увидел ее вчера. Точно! Горела лишь настольная лампа. Очевидно, где-то есть другой выключатель. Когда глаза немного привыкли к темноте, я различил зеркало с отбитым уголком и круглые очертания абажура.
Я не из слабонервных, но мне стоило немалых усилий войти в эту комнату. Внутренний голос убеждал меня не делать этого. Ведь у меня уже есть адрес девушки — неужели этого недостаточно? Что мне здесь нужно?
Только одно, но очень важное.
Я ухитрился, ничего не опрокинув, добраться до лампы и, энергично зашарив по ножке и основанию, нащупал кнопку. Вспыхнул свет, после долгого пребывания в темноте показавшийся слишком ярким. Я ринулся к окну и опустил жалюзи.
После этого я быстро обежал комнату взглядом. Все как вчера: ветхая кушетка, несвежая розовая драпировка вокруг кровати, коричневые цветочки на обоях, календарь… Пара чулок со спущенными петлями. Платье в зеленую крапинку и с пятном от губной помады. Шпильки. Окурки сигарет.
Девушка исчезла.
Не в силах остановиться, я выдвинул пару ящиков комода, пошарил под покрывалом, подобрал смятый конверт — но не смог прочитать адрес. Все это время дверь оставалась открытой. Я понял, что пора уходить, выключил настольную лампу и ощупью двинулся к двери.
Уже на лестничной площадке я вспомнил, что забыл поднять жалюзи, но возвращаться не хотелось. Закрыв за собой дверь, я стал осторожно спускаться по лестнице. Может, постучать в дверь нижней комнаты?..
Внизу, у основания лестницы, меня поджидали двое мужчин.
Бежать было некуда. Они наверняка слышали мои шаги на лестнице. Я пожалел, что со мною нет Мартина Коксона. Увы, в этот вечер никто не ждал меня на мосту.
Среди этих двоих не оказалось Джоденбри. Должно быть, он послал вместо себя профессиональных убийц, а щеголеватый негр предупредил их о моем приходе. Я представил себе их кастеты и бритвы и порадовался — если в этой ситуации можно было чему-либо радоваться, — что, по крайней мере, на моем выловленном из канала трупе останутся следы насилия.
— Мистер Тернер, — вымолвил один из них.
— Что?
— Пройдите с нами.
Должно быть, эти действуют тоньше? И, может быть, мне суждено на собственном опыте познакомиться с методом, примененным к Гревилу?
Я сделал шаг вперед. Попробовать прорваться? Но вряд ли можно рассчитывать на помощь снаружи.
Снизу донеслось:
— Инспектор Толен просил вас покинуть вместе с нами этот район и вернуться в отель.
От напряжения у меня заныли костяшки пальцев. Я с трудом разжал кулаки и попытался успокоиться.
— Вас прислал инспектор Толен?
— Да, конечно.
— Давно вы за мной следите?
— Со вчерашнего дня.
Я почувствовал слабость в коленях.
— Мне хотелось побеседовать с Герминой Маас.
— Она в надежном месте. Идемте.
Я покорно пошел с ними.
— Но почему вы взяли ее под защиту?
— Разве вам не показалось, что после вашего с другом визита ее жизнь подвергается опасности?
— А мистер Джоденбри?
Ответа не последовало. На мосту стояли и переговаривались трое. Дождь усилился, но они не обращали на него внимания. Проходя мимо, я заметил среди них верзилу-негра. Кроме него, там был еще один негр и белый — в матросском бушлате. При нашем приближении они замолчали и уставились на нас.
Один из моих спутников произнес:
— Хорошо, что мы следили за вами, мистер Тернер.
* * *
— Чего ты ждешь от этой поездки в Рим? — твердил Арнольд. — Я не понимаю.
— Сам не знаю.
— Ты не хочешь рассказать мне о том, что тебе удалось выяснить?
— На данный момент — практически ничего.
— Твоей фирме это не понравится. Ты так не считаешь?
— Конечно. Просто пока они еще не знают.
Я почти физически ощущал, как ворочается не очень-то подвижный мозг моего старшего брата. То, что я приехал в Мидленд ради столь скудного рассказа, не укладывалось у него в голове.
— Они могут принять крутые меры.
— На их месте я бы так и поступил. Дела в Калифорнии в критическом состоянии. В интересах дела они должны со мной расстаться.
— И что же ты?
— Попрошу их послать в Калифорнию другого представителя фирмы. Не представляю, как они к этому отнесутся. Возможно, попытаются понять, а может быть, сочтут доказательством фамильной душевной болезни.
Арнольд высморкался и заговорил, тщательно подбирая слова:
— Я знаю, Филип, ты не из тех, кто рассчитывает на чужую поддержку: ты доказал это, отказываясь от пособия во все те годы, когда занимался живописью. Но я хочу, чтобы ты знал: если ”Британские Турбореактивные Двигатели” откажутся от твоих услуг, здесь для тебя всегда найдется место — как временное, так и постоянное.
— Мне бы следовало догадаться об этом. Но не думай, что я склонен принять как должное.
Арнольд встал и расправил загнувшийся уголок страницы телефонной книги.
— Я много думал об этом, Филип. Особенно после смерти Гревила. В такие моменты начинаешь понимать… Мне бы очень хотелось привязать тебя к семейному бизнесу. Возможно, до сих пор я не слишком старался в этом направлении. Но я уверен: если хорошенько подумать, можно подобрать тебе дело по душе — не обязательно просиживать за письменным столом. Мало ли что — проявлять инициативу, ездить…
— Да, наверное.
— Мне бы хотелось, чтобы этим занимался член семьи. Наша фамилия на данный момент оскудела. У меня нет своих детей, Гревил оставил только дочь, ты, после разрыва с Памелой, не стремишься остепениться. Я не вижу продолжателей дела. Конечно, вы с Гревилом… — он запнулся и спустя несколько секунд продолжил: — вы с Гревилом всегда считали, что я придаю фирме слишком большое значение.
Я возразил:
— Однако именно она поддерживала нас материально: Гревила — когда он оставил физику, а меня — в период метаний после войны. Было бы верхом неблагодарности презирать то, что давало нам ощущение прочного тыла, либо смотреть свысока на человека, единственного из нас, кто продолжал упорно трудиться. О Гревиле особый разговор: он был человеком выдающихся способностей. Что до меня, то я подчас бываю склонен взбрыкивать, но, возможно, со временем от меня будет больше толку.
Арнольд подошел к письменному столу. Он не привык открыто выражать свои чувства, но, кажется, в эти минуты не жалел о том, что дал себе волю. Мне же, всю жизнь бунтовавшему против слишком прочных семейных уз и покровительства, сейчас это покровительство представлялось желанным. Имея прочный тыл, мне будет легче осуществить задуманное. Возможно, смерть Гревила — вернее, брешь, которую она образовала в наших сердцах и судьбах, — странным образом сплотила нас с Арнольдом. Но это все-таки относилось к необозримому будущему, пока лишь неясно проглядывавшему сквозь туман. Пока смерть Гревила не перестанет быть для меня загадкой, вряд ли можно говорить о будущем.
— Кстати, Филип, хочу сказать тебе одну вещь. Возможно, ты не в курсе: находки Гревила — во всяком случае, те из них, которые подлежат транспортировке, — главным образом предназначались для Рийкс-музея в Амстердаме. Но кое-какие экспонаты — по своему выбору — он собирался взять с собой в Англию. Его багаж состоял из четырех ящиков для музея и одного, который он намеревался привезти в Лондон. Ну вот. После его гибели голландская полиция — временно, в интересах следствия, конфисковала все его имущество. Теперь они сняли запрет. Нам переслали предметы повседневного обихода — к счастью, я успел спрятать их прежде, чем увидела Грейс, — а пятый ящик отправили в Британский музей, профессору Литлу. Сегодня я получил от него письмо. Он пишет, что ящик оказался на две трети пустым.
— То есть, голландцы изъяли часть экспонатов?
— Очевидно. Не знаю, по какой причине. Возможно, их археологи решили, что смерть Гревила кладет конец договоренности, и сочли себя вправе присвоить все, представляющее интерес. Странно, что они столько времени держали его личные вещи.
— А что Литл думает о присланных экспонатах?
— Из того ящика? Они не представляют большой ценности. Зато он вернул мне дневник Гревила — со стенографической записью по нашему методу. Мне-то расшифровка дается с трудом, ведь я не занимался этим много лет, но, может быть, ты…
— Разумеется! — воскликнул я. — Где этот дневник?
Наш отец, будучи исключительно разносторонним человеком, придумал собственную систему стенографии, которую ему не удалось внедрить в широкую практику, но которая перешла к нам, его детям. Гревил часто прибегал к этой системе в своих письмах ко мне и таким же способом вел деловые записи. Он любил повторять, что никогда не мешает владеть каким-нибудь языком, не понятным для окружающих.
Арнольд выудил из ящика письменного стола пару блокнотов с отрывными листами.
— Если тебе удастся их расшифровать, Литл просит переслать ему текст. Возможно, эти записи прольют свет на обстоятельства, предшествовавшие гибели Гревила. Или помогут догадаться о том, о чем умалчивают голландские власти.
— Да, — сказал я. — Возьму их с собой в Рим.
* * *
Перед отъездом я не увиделся с Мартином Коксоном. Наверное, мне следовало бы это сделать, потому что только благодаря его расторопности я напал на след Леони Винтер. Но я горел желанием сделать следующий шаг в одиночку.
Уиткомб был очень недоволен моей просьбой о дополнительном отпуске, и мне трудно его винить, но все, что он сделал, это посетовал, что им будет нелегко срочно подыскать человека, который сможет вылететь вместо меня в Калифорнию. В общем, меня не уволили, и я был очень рад, потому что на данном этапе не был готов уйти в отставку. Тем не менее я уезжал, отдавая себе отчет в том, что не улучшил свои позиции в фирме. Жаль — потому что я любил свою работу. На душе у меня было тяжело. В одном, по крайней мере, Уиткомб помог: пообещал перевести в Италию мою зарплату за последний месяц в долларах.
Кто знает, думал я, сколько времени придется пробыть за границей и сколько понадобится денег.
Я летел ночным рейсом и немного поспал в самолете. Завтракал я уже в сутолоке и под жарким солнцем ”Пьяцца Колонна”, а в одиннадцать часов поднимался по ступеням отеля ”Агостини”. Сам не знаю, почему, но я верил, что мои поиски там и закончатся. Однако вышло иначе. Миссис Винтер пробыла в отеле двое суток и выехала в Неаполь. Мои хлопоты только-только начинались. Я отправился на вокзал. Поезд как раз отходил, и я без билета вскочил в вагон. В два с небольшим передо мной уже сверкали голубизной воды Неаполитанского залива.
Неаполь — огромный город, в котором легко затеряться. Передо мной стоял выбор: потратить не меньше недели, обходя отель за отелем, либо обратиться за помощью в полицию. Я предпочел второе.
Я сказал, что миссис Хелен Винтер — моя добрая приятельница, о которой я случайно узнал, что она в городе, но неизвестно, в каком отеле. Мне по сугубо личным мотивам необходимо разыскать ее. Офицер, к которому я обратился, сочувственно выслушал и согласился помочь. Естественно, информация о прибывающих в город иностранцах предназначена лишь для служебного пользования, но он посмотрит, что можно сделать, принимая во внимание чрезвычайные обстоятельства. Я поймал его взгляд и улыбнулся словно извиняясь и давая понять, что это почти семейное дело, или, во всяком случае, я хотел бы, чтобы оно стало таковым. Он понимающе улыбнулся в ответ и сказал, что на это не уйдет много времени. Мне нужно оставить название своего отеля, и со мной свяжутся.
На другое утро я не выдержал и снова отправился в полицейский участок, но моего приятеля на месте не оказалось. Вместо него со мной поздоровался другой офицер, более сурового вида, и попросил подождать. Я ждал около часа. Наконец вошел мой вчерашний знакомый с листочком бумаги.
— Вот, синьор, информация для вас. Миссис Хелен Винтер провела ночь на четвертое апреля в отеле ”Везувий”.
— Только одну ночь?
— Да. На следующее утро она выехала на Капри и зарегистрировалась там в отеле ”Веккио”.
Миссис Винтер оказалась неутомимой путешественницей!
— А дальше?
— Этого мы не знаем, синьор. Но, может быть, поступят дополнительные сведения.
Я должным образом поблагодарил его, и он проводил меня до выхода. На улице я поймал такси и немедленно отправился в док. В два тридцать отходил пароход на Капри.
Глава VII
Я как раз пересекал главную площадь Капри, когда часы на городской башне пробили двенадцать. Однажды мне уже доводилось бывать на острове: в сорок шестом году, когда там царил послевоенный хаос. Стоял месяц август; повсюду толклись толпы народу. Теперь же на площади было довольно малолюдно, а кое-где убрали внутрь цветные зонтики бистро — от сильного ветра. К отелю ”Веккио” нужно было подниматься вверх по склону горы по одной из тесных — на ширину распахнутых рук — улочек, с частыми арками на уровне третьего этажа. Она была запружена людьми, занятыми своими повседневными делами: местными жителями с вязанками дров, иностранными туристами в панамах и голубых джинсах, стариками, ведущими за собой осликов, и молодыми парочками. Я дошел до конца этой, мощенной булыжником, улочки и, вскарабкавшись на склон, вышел к отелю.
Из разговора с полицейским офицером в Неаполе я почему-то сделал вывод, что здесь меня ждет конец пути, но когда я справился о миссис Винтер, портье покачал головой. Миссис Винтер останавливалась в отеле на одну ночь, и он не знает о ее дальнейших передвижениях. Она не оставила адреса. Меня охватило отчаяние. Похоже, я так и вернусь домой не солоно хлебавши. На всякий случай я поинтересовался, нельзя ли видеть управляющего. Он был в отлучке. А его помощник? Вышла смуглая молодая женщина, на ходу пристегивая к блузке камею. Я сказал, что мне нужна комната, и это было правдой, потому что сегодня вечером было нечем уехать с острова. Она проводила меня в номер, и тут я атаковал ее вопросами о миссис Винтер. Мол, я располагаю информацией, что она еще на острове, и убедительно прошу помочь мне с ней встретиться. Женщина посопротивлялась и вдруг, к моему величайшему облегчению, уступила. Она подтвердила: миссис Винтер на Капри, у своих друзей, и настоятельно просила не давать ее адреса иностранцам. Похоже, миссис Винтер всеми силами избегала встреч с репортерами и случайными людьми. Я поклялся, что не имею отношения к прессе и не злоупотреблю ее доверием. Я все еще не верил в удачу. Смуглая помощница управляющего отворила ставни в номере, и меня ослепило море цвета кобальта в этот час перед закатом. Напоследок женщина бросила на меня быстрый взгляд проницательных глаз и сообщила: миссис Вебер, вилла ”Атрани”.
Бывает, вы так долго идете по следу, что поиск становится самоцелью: ваш ум не способен двигаться дальше. Так случилось и со мной. Погоня за Леони Винтер потребовала столько усилий, что теперь, почти у цели, я вдруг растерялся. Ну что ж. Первым делом — убедиться, что это не ошибка, а уж потом… За ужином я неотвязно думал обо всем этом, а сразу после ужина отправился на прогулку.
* * *
Прогулка по Капри в сумерках чревата неожиданностями: конечно, если вы уклоняетесь от немногочисленных ”главных” улиц и площадей. Остров так плохо освещен, что поневоле приходят на память английские фильмы, снятые на заре кинематографа, а улочки и переулки вьются на манер серпантина — вверх, вниз и из стороны в сторону — между высокими домами и заборами, так что вскоре вы теряете из виду как начальный, так и конечный пункты вашего путешествия. При встрече с каприотом не рассчитывайте на содействие: скорее всего, он бросит на вас беглый взгляд исподлобья и прошмыгнет мимо — ну, разве что буркнет нечленораздельное приветствие. Или вы наткнетесь на освещенную одним из редко встречающихся фонарей группку молодых мамаш, занятых сплетнями, пока неподалеку резвятся детишки; они разом смолкнут и бесцеремонно уставятся на вас, всем своим видом давая понять, что не особенно уважают легкомысленных туристов.
Я долго шел в указанном направлении и после того, как дважды потерял и снова нашел дорогу, очутился перед парой каменных столбов и небольшими железными воротами с прибитым посредине гербовым щитом. На одном столбе было выбито ”Вилла”, а на другом — ”Атрани”. Самой виллы я не видел — возможно, из-за темноты; можно было разглядеть лишь два гигантских древовидных папоротника, несколько юкк да извилистую дорожку, ведущую в глубь сада.
Узенький переулок, приведший меня к вилле, через несколько шагов растворился во тьме. На то место, где я стоял, падал бледный отсвет из окна старого дома, расположенного уровнем ниже. В саду виллы ”Атрани” было совсем темно. Я осторожно отворил ворота, но они все равно издали звук, напоминающий сопрано из миланского ”Ла Скала”. Я скользнул внутрь. Скоро показались огни дома — громадного, но приземистого здания с плоской крышей и галереей по периметру на низких коринфских колоннах. В обоих крыльях горел свет. Когда я подошел поближе, под ногами захрустел гравий, и я отступил на газон.
Жалюзи в гостиной не были опущены, и, заглянув в окно, я увидел дородную даму — она, опираясь на трость, ходила по комнате, а однажды приблизилась к окну, чтобы сорвать с букета в вазе засохший лепесток. Там был смуглый, довольно симпатичный мужчина в парусиновой куртке и вязаном свитере, а рядом с ним сидела высокая, сухопарая женщина с сигаретой в неимоверно длинном мундштуке, зажатом в зубах. Все они смотрели на нечто такое, чего мне с моего места не было видно. Первая женщина наклонилась. Тявкнула собака.
Я вдруг услышал у себя за спиной скрип ворот и внятные звуки шагов. По тропе к дому приближались еще трое.
Было уже поздно прятаться в кустарнике, так как при малейшем моем движении зашуршала бы листва. Я прижался к стволу пальмы и затаил дыхание.
Они прошли совсем близко: стройная белокурая девушка в алой кофточке и темных брюках, очень смуглый молодой человек с крючковатым носом — он слегка прихрамывал — и полная молодая женщина в белом свитере и джинсах. Они оживленно переговаривались. Молодой человек сказал по-английски:
— Это чрезвычайно заманчиво. Вы поступаете опрометчиво, искушая меня. Вы обе.
Белокурая девушка ответила:
— Не думаю, чтобы у вас раньше появлялись такие мысли. Как по-твоему, Джейн?
— Во всяком случае, не в моем присутствии.
Поднимаясь на крыльцо, молодой человек сказал блондинке еще несколько слов, которых мне не удалось разобрать и которые ее рассмешили. Открылась дверь, и все трое исчезли внутри дома.
Наверное, мне следовало усмотреть в этом маленьком инциденте недоброе предзнаменование, но я не усмотрел. У меня было одно на уме: как бы подобраться вплотную к окну и рассмотреть все, что делается в комнате.
Прямо перед моим носом мелькнул мотылек; я отмахнулся и сделал еще несколько шагов к вилле, как вдруг распахнулась парадная дверь. Я метнулся в кусты. В тусклом свете фонаря обозначился силуэт дородной дамы, виденной мною в гостиной. Она вышла, по-прежнему опираясь на трость, а через секунду-другую из-за ее спины выскочили два огромных пса. Один издал громкий, гортанный лай и бросился по тропе. Это был мастиф.
— Мейси! — крикнула женщина. — Не смей убегать из сада!
Собака ринулась прямиком ко мне. Я отшатнулся, но что толку? Пес остановился в ярде от меня. Потом он раскрыл пасть и изобразил что-то среднее между лаем и кашлем.
Я шепнул:
— Хорошая собачка. Хорошая!
Мастиф не двигался, а стоял и пялился на меня, словно ждал, что я брошусь наутек. Тут-то и началось самое интересное. Послышался шорох травы — это кружным путем приближался второй пес.
Я осторожно протянул руку.
Другой мастиф подобрался ближе и, увидев меня, тоже замер на месте и зарычал, однако не особенно громко. По обеим сторонам его пасти капала слюна.
— Мейси! Джимбел! — позвала хозяйка. — Не смейте выбегать на улицу! — она начала спускаться с крыльца.
Первый пес ткнулся мордой мне в руку. Вроде бы мой запах ему не понравился, но он хотя бы не спешил с выводами. Я по-прежнему стоял, не шевелясь. Его товарищ снова зарычал.
— Джимбел, — заискивающе прошептал я.
— Кто там? — крикнула женщина. — Там есть кто-нибудь?
Мне показалось, что прошло очень много времени, прежде чем Мейси отвернулся и начал обнюхивать какие-то листья. Я не уверен, но мне почудилось, будто он завилял хвостом. Ко мне приблизился его собрат и обнюхал брюки. К сожалению, его хвост оставался в неподвижном состоянии.
Женщина спустилась с крыльца, но не отважилась идти дальше, а закурила сигарету. Я целиком доверил свою жизнь рукам и погладил Мейси по голове. Он мотнул ею; зазвенел крошечный колокольчик. Джимбел шумно задышал, как будто мой запах вызвал у него приступ астмы. Мейси встал на задние лапы; его морда оказалась на уровне верхней пуговицы моего жилета.
Женщина снова позвала собак. Мейси медленно, с явной неохотой ковылял по тропе. Джимбел не спешил последовать его примеру.
В дверном проеме показалась белокурая девушка.
— Мадам Вебер, с вами все в порядке?
— Да, дорогая Леони. Джимбел с Мейси совсем отбились от рук. Знают ведь, что им положено держаться рядом со мной, а не бегать по траве. Мало ли что может случиться. Змея, например.
Ответа я не расслышал, потому что в это самое мгновение Мейси приковылял к хозяйке, и она тотчас засуетилась, призывая на его голову кару Господню, однако таким нежным тоном, что он принял проклятия за комплименты.
В Джимбеле взыграла ревность: он оставил меня в покое и побежал к хозяйке. Вскоре обе женщины и собаки исчезли за дверью. Я вытер банановыми листьями обслюнявленные руки и собирался двинуться к воротам, но тут как раз загорелся свет в одной из спален верхнего этажа, и я увидел, как Леони Винтер закрывает ставни.
Вернувшись в отель, я немного поболтал с помощницей управляющего. Теперь, когда ее первоначальное сопротивление было сломлено, она была непрочь посудачить. Как выяснилось, мадам Вебер — популярная на острове личность, меценатка, оказывающая поддержку местным художникам. Потом я битый час трудился над расшифровкой первых страниц делового дневника Гревила. На пятой странице мне впервые попалось упоминание о Бекингеме.
”В этой местности власти почти не существует. Плантаторы не живут постоянно в своих поместьях, а лишь раз в неделю, в сопровождении охраны, наезжают посмотреть, как идут дела. Ночью даже индонезийцы не осмеливаются выходить из дома из страха перед бандитами. Тысячи каучуковых деревьев спилены на дрова. Ничего удивительного, что мы подверглись нападению. Бекингем прогнал их, дав волю агрессивности, которую считает естественной. По его словам, цивилизация, какой мы ее знаем, есть замороженное состояние общества, способствующее сохранению всего устаревшего, отжившего и препятствующее подлинному прогрессу, который существует лишь в форме постоянного движения и перетекания одного в другое. У нас вошло в привычку с наступлением темноты вести долгие, мирные споры. Мы решили проверить его выводы насчет останков древних ископаемых в русле реки близ Уртини, так что завтра выезжаем из Джандови. Он весьма подкован в археологии и проявляет немалый интерес — готов слушать меня ночами, — но я не уверен в нем как в практике. Ну, да в четверг увидим”.
Следующей записи был предпослан заголовок: ”Уртини”. ”Эта местность не слишком отличается от древних террас Соло, ниже первичных раскопок близ Тринила. Это сходство обнадеживает, несмотря на то, что все найденное до сих пор несомненно относится к Плейстоценской эпохе и, возможно, Шелльской культуре. Вчерашние два зуба сохранились недостаточно хорошо, чтобы можно было с уверенностью судить об их природе. Увеличение полости пульпы налицо, но важно знать поперечный диаметр. Не думаю, что Пангкал прав, заявляя об их принадлежности орангутангу.
Возможно, мы задержимся здесь еще на несколько недель. Бекингем оказался исключительно ценным помощником. Это разносторонний человек со множеством талантов. Его жизненная философия эксцентрична и деструктивна. И то, и другое есть несомненные признаки нашей эпохи, но у него они гипертрофированы, находятся за пределами допустимого — во всяком случае, с моей точки зрения. Досадно обнаружить эти качества в столь одаренном человеке — и у своего порога”.
Я быстро пробежал глазами следующие несколько страниц, ища знакомую фамилию, но она не попадалась. Тогда я вернулся к тому месту, где остановился ранее, и продолжил расшифровку.
Следующий день был одним из тех ослепительно ясных дней, когда Италия является во всем блеске, словно заново родившись на свет. Все вокруг дышит покоем и невинностью, особенно утром. Позднее легкий ветерок или облачко разрушат это впечатление, но поутру об этом как-то не думаешь.
У меня не было ни малейшего представления об образе жизни обитателей виллы ”Атрани”, но я примерно догадывался, что люди обычно делают в такие дни, как этот. Поэтому после завтрака отправился на оживленную площадь, купил купальные трусы и веревочные сандалии и сел в автобус, едущий к морю.
Там я первым делом искупался в прохладной, бодрящей воде, а затем взял напрокат каноэ и поплыл вдоль берега, сплошь утыканного маленькими пляжами. Естественно, я старался держаться ближе к берегу. На самом западном и самом чистом пляже мое внимание привлекли четверо, лежащие на песке и как будто похожие на обитателей виллы. Я долго дрейфовал меж двумя скалами, пока не заметил, что люди на пляже зашевелились, и не узнал смуглого с крючковатым носом и миссис Винтер.
Я развернул каноэ и поплыл прочь. В это время в залив вошла роскошная моторная яхта. Когда она приблизилась к берегу, Леони Винтер помахала рукой. У штурвала стоял вчерашний человек в парусиновой куртке. Сойдя на берег, я занял позицию между купальщиками и шоссе. Чем бы они ни добирались, им не миновать этого места.
Наступил полдень. Я курил и загорал у воды. На берегу было не особенно много народу, и, конечно, во мне можно было безошибочно распознать новичка.
Без двадцати час обе девушки прошли мимо меня, а мужчины остались на пляже. Люди спешили к автобусу, который должен был прибыть через пять минут. Девушки встали в очередь; я, естественно, тоже. Вот когда я смог хорошенько рассмотреть Леони Винтер! На ней были голубая полотняная блузка, такие же шорты с белыми лампасами и красные босоножки.
В Италии не признают очередей. Принятая во всем мире аксиома: кто первым пришел, того и обслужат первым, — не вяжется с кипучим темпераментом местных жителей. Поэтому, когда подошел автобус, началась давка, а так как я сосредоточил все усилия на том, чтобы не упустить девушек, то мне и не досталось места. Зато я смог встать рядом и даже навис над ними, после того как какая-то высокая итальянка мало того что навалилась на меня, так еще и саданула локтем под ребро.
Спутница миссис Винтер с американским акцентом повествовала с том, как подвигается ее роман с каким-то Николо. Леони Винтер рассеянно кивала белокурой головой. Ее короткие волосы были растрепаны, но стрижку явно делал первоклассный мастер. Ее ноги позолотило солнце; крохотные, заметные лишь в ярких солнечных лучах волоски образовали вокруг этих, по правде сказать, очень красивых ног золотистый ореол.
После того как в автобус с грехом пополам втиснулись последние пассажиры и захлопнулась дверь, машина ожила. Водитель нажал на газ. На первом же крутом повороте автобус резко накренился. В руке у меня были пляжные сандалии, и, перехватывая руку, чтобы удержаться, я нечаянно капнул Леони Винтер на ногу.
Я услышал, что недавно Николо с Джейн покупали мороженое и Николо сказал: не дай Бог капнуть шоколадным мороженым на белое платье… а Джейн ответила… Леони Винтер молча отодвинулась от меня подальше. Я шевельнулся, и еще несколько капель морской воды упали ей на ногу.
— Так вот, я говорю Николо: ”Дорогой, ты просто не представляешь…”
Новый крутой поворот. Кто-то дотронулся до моей руки. Я опустил глаза и встретил дружелюбный взгляд полной девушки.
— Прошу прощения, но с ваших сандалий капает вода на ноги моей подруги.
Я посмотрел на Леони Винтер. Она старалась отодвинуться еще дальше, но у нее не получалось. На меня она даже не взглянула, и вообще ни на кого не смотрела.
— Извините, — я взял сандалии в другую руку. — Мне очень жаль.
Американка одарила меня приятной улыбкой; Леони не шевельнулась. Я вынул из кармана чистый носовой платок.
— Простите мою небрежность, — и, нагнувшись, начал вытирать им ноги Леони. Она отстранилась, но так и не подняла глаз. Я убрал платок и улыбнулся толстушке.
— Эти автобусы просто ужасны, — сказала она. — Никогда не знаешь, чего от них ждать.
— Или от пассажиров.
Девушка засмеялась.
— Что поделаешь. Приходится с этим мириться.
— Хорошо тем, у кого покладистый характер.
— Все мы со временем становимся покладистыми, — заметила американка.
— Вы давно на острове? — полюбопытствовал я.
В это время автобус резко затормозил. За поворотом образовалась пробка: двое крестьян с ослами затеяли прямо на дороге дискуссию о муниципальных выборах.
— Божья матерь! — воскликнула высокая итальянка. — Прошу прощения, синьор, это был ваш палец?
Автобус каким-то чудом прошмыгнул между двумя ослами. Нас мотало из стороны в сторону. Наконец мы остановились — в сотне ярдов от стоянки. Я увидел виллу ”Атрани”. Девушки начали пробираться к выходу.
И тут Леони Винтер в первый раз посмотрела на меня. Посмотрела — и вышла из автобуса. Зато Джейн улыбнулась и почти по-приятельски кивнула.
* * *
Во второй половине дня мне поистине улыбнулась удача. Я проходил по площади мимо банка, только что открывшегося после перерыва на обед. Возле двери, привязанные к каменному столбу, повизгивали два коричневых щенка — словно два маленьких львенка.
В банке было полно народу. Я подошел, нагнулся и, рискуя остаться без двух пальцев или без ступни, погладил одного щенка. Они казались такими милыми, эти два маленьких разбойника, и моментально со мной подружились. Скоро они уже карабкались на мои туфли и усиленно виляли хвостиками. И вдруг…
Еще не видя женщину и прежде, чем она обратилась ко мне, я уже понял, что это ее ноги и трость, и выпрямился.
— Прошу прощения. Мне показалось, что им скучно.
На вид даме было пятьдесят с небольшим; ее нельзя было назвать толстой — скорее, широкой в кости. Особенно крупными казались ее руки и ноги. Желтая даже под слоем пудры кожа свидетельствовала о неважном здоровье.
Она улыбнулась.
— Вы англичанин? Мне бы следовало догадаться по затылку. Да. Напрасно я взяла их с собой. В банке вечно проторчишь Бог знает сколько времени. Это было очень любезно со стороны джентльмена, что он поиграл с вами, мои крошки.
— Это они приняли меня в игру.
— Не люблю дрессированных собак. Всякие там прыжки через обруч или ходьба по канату. Я считаю это неприличным, — дама оглядела меня с головы до пят. — Просто терпеть не могу цирк. Вам нравятся мастифы? — Она произнесла ”местифы”.
— Одно время у меня жил мастиф.
— К сожалению, они вышли из моды. Должно быть, потому, что их трудно прокормить и они занимают много места. У вас кто был — кобель или сучка?
— Кобель.
— У меня на вилле еще два — уже взрослых. Их совершенно негде выгуливать. Остров буквально кишит приезжими. — Мы поболтали еще несколько минут; она тяжело опиралась на палку. Тем временем из банка выходили и входили люди; щенки, сцепившись в клубок, катались по земле. Наконец дама отвязала их и собралась уходить. — Мы еще увидимся, мистер… э…?
— Филип Нортон. Очень на это надеюсь.
— Рано или поздно на острове все знакомятся между собой. Это как беспроигрышная лотерея — даже не нужно жульничать. Вы надолго приехали?
— Нет, всего на недельку. Мне хочется сделать несколько этюдов.
— О! — в красных от лопнувших сосудиков глазах женщины вспыхнули искры. — Вы художник?
— В настоящее время только любитель.
— Люди приезжают и уезжают. Это очень грустно. Остров притягивает, как магнит. Вы знакомы с Лэнгдоном Уильямсом?
— Весьма поверхностно.
— Мы ждем его в конце месяца. Пейзажи. Сезанн пополам с водой. Но он ухитрился прославиться. — Она сделала шаг и остановилась. — Что вы делаете сегодня вечером? У меня на вилле соберется небольшая компания. Наверное, будет скучно — я даже забыла, кто приглашен. Но мне хочется показать вам моих местифов.
Я заверил ее, что буду счастлив познакомиться с ”местифами”.
— Осторожно, Бергдорф, ты слишком больно кусаешься. Проказничать тоже нужно в меру. Так я жду вас от шести до половины седьмого, мистер Нортон.
— К сожалению, я не знаю ни вашего имени, ни адреса.
— Мадам Вебер, вилла ”Атрани”. Это на самой окраине. Кого угодно спросите. Гарантирую настоящий английский джин.
Глава VIII
В шесть двадцать пять я вторично появился на вилле ”Атрани”. При дневном освещении стало видно, что большая часть сада заросла, но вилла в отличном состоянии. По-видимому, перед самой войной ее модернизировали и заново обставили в современном итальянском стиле, причем занимавшиеся этим люди — мебельщики и декораторы — знали, куда приложить руки. В просторной белой гостиной собралось человек двенадцать, но я сразу выделил смуглого в парусиной куртке — он, как с хорошей знакомой, беседовал с Леони Винтер.
Но, конечно, прежде всего — знакомство с собаками!
То, как ко мне отнеслись Мейси с Джимбелом, произвело на мадам Вебер сильное впечатление.
— Обычно проходит много времени, прежде чем они признают человека. Поразительно! Вермут или розовое вино? Я каждый год бросаю пить джин, как другие перестают употреблять углеводы. Местифы — надежнейшие сторожевые собаки! Вы не находите? Пусть только кто-нибудь чужой попробует залезть в дом или сад — Мейси с Джимбелом разорвут его на куски.
Я погладил Мейси по морде.
— Но они разбираются, кто свой, а кто чужой.
— О! Леони, милочка, позволь представить тебе Филипа Нортона. Это миссис Винтер. Цветет и благоухает, несмотря на свою фамилию[8]. Мистер Нортон — выдающийся художник. Он приехал на несколько дней. И тоже обожает собак. Приручил Мейси буквально с первого взгляда. А это капитан Сандберг, наш старинный и добрый друг.
Я сказал Сандбергу:
— Сегодня утром я видел вас на роскошной моторной яхте — возле причала Пиккола Марина.
Сандберг оказался выше, чем я представлял вначале, широкоплечим и узкобедрым, как юноша. У него было красивое лицо любимца дам и умные, живые глаза за густыми ресницами, сильно искривленный рот. Улыбаясь, Сандберг напоминал Пана.
— Видите, Шарлотта, — обратился он к хозяйке виллы, — мы с ”Сапфо” становимся популярными.
— Эта яхта — новая любовь Чарльза, — пояснила мадам Вебер. — Я бы сказала, даже страсть. Две недели назад мне пришлось участвовать в обряде крещения. Но я не думаю, что ей подходит это имя: она неплохо относится к мужчинам.
— Да уж. Она дожидалась меня с января.
— Надеюсь, вы позволите мне познакомиться с ней поближе?
Он внимательно посмотрел на меня — без любопытства, но как подлинный знаток человеческих душ. Я не заметил в этом взгляде особого дружелюбия.
— Да, разумеется.
— Чарльз берет нас завтра на морскую прогулку, — сообщила мадам Вебер. — Хотите перенести морскую болезнь в нашем обществе?
— С удовольствием — если капитан Сандберг…
— Да, разумеется, — повторил он.
Все это время Леони Винтер хранила молчание. Я как бы между прочим обратился к Сандбергу:
— Вы так долго отсутствовали?
— То есть?
— Ну, вы упомянули, что яхта ждала вас с января?
— Ах, да. Я заказал ее в прошлом году и был вынужден на время уехать.
Я собирался и дальше развивать эту тему, но мадам Вебер положила конец нашей беседе, вцепившись мне в руку и потащив знакомиться с пожилым, плешивым шотландцем.
— Вы знакомы с мистером Нортоном? А это мастер Кайл. Что-то вы невеселы, мастер Кайл, — в такой чудесный вечер! Хотите ”скотч”? Сейчас попрошу Берто принести бутылочку.
У шотландца и впрямь был кислый, не слишком общительный вид. Я напрасно потратил добрую минуту, пытаясь разговорить его; к счастью, вскоре мадам Вебер увела меня знакомиться еще с тремя гостями — я видел их утром на пляже. Молодая американка Джейн Порринджер, хромой да Косса — вблизи он показался мне старше — и американский юрист Гамильтон Уайт, долговязый человек лет пятидесяти, с белой, слегка порозовевшей от загара кожей. Да Косса не внушил мне симпатии, а его изуродованная нога показалась признаком некоего внутреннего изъяна.
На протяжении всего вечера я не разговаривал с Леони Винтер. Один раз я поймал ее взгляд во флорентийском зеркале, а много позднее наблюдал за ее отражением в застекленной картине, в то время как она живо беседовала с капитаном Сандбергом. Я перевел взгляд на него и попытался вспомнить данное Коксоном описание. ”Темные волосы с проседью за ушами (можно закрасить), бородка клинышком (можно сбрить), узкие карие глаза, орлиный нос…”
— Любуетесь картиной? — сзади подошла мадам Вебер. — Это работа Николо. По-моему, очень технично. Похоже на фейерверк. Мой первый муж страсть как любил фейерверки. Я имею в виду настоящие. Субсидировал фиесты. Николо очень талантлив, не правда ли? Вы тоже предпочитаете пастель, мистер Нортон?
Наконец-то я разглядел за стеклом картину. Немного кричаще, но выразительно.
— Нет, обычно я пишу маслом.
— Пейзажи?
— Все, что угодно. В том числе портреты.
— Филип, вы обязаны написать Леони! Совершенная красота бывает пресной. Но здесь — лед и пламень!
— Я заметил только лед.
— Вы только посмотрите, какой цвет кожи! А ресницы! Николо собирается дерзнуть.
Я допил четвертый бокал.
— Если бы я и решил запечатлеть кого-либо из присутствующих, так это вас.
Шарлотта Вебер бросила на меня загадочный, не лишенный кокетства взгляд. Молодой взгляд старухи.
— Мальчик мой, это, конечно, очень лестно. Но я больна — вот уже много лет. Представьте себе — перед войной врачи утверждали, что мне осталось жить всего несколько месяцев. Настоящая мелодрама. Я приехала сюда умирать — и до сих пор живу. Вам нет никакого смысла писать портрет женщины, которая вот уже шестнадцать лет одной ногой стоит в могиле.
— Откуда вы знаете, что для меня имеет смысл?
Она вздохнула и достала сигарету. Я дал ей прикурить.
— Вермеер, Ван Гог и им подобные тратили на один женский портрет по семь месяцев. Должно быть, викторианцы находили это бестактным. Мой отец называл это парадом мощей. Неужели художников привлекают женщины в том возрасте, когда им не помогают даже искусственные ухищрения?
— Многие ценят качества, которые невозможно подделать: чувство собственного достоинства, знание жизни и умение жить, — я подвинул ей пепельницу.
— Это очень мило с вашей стороны, но Леони тоже много пережила. Как-нибудь расскажу. Николо, мы любуемся вашей работой.
— Вы слишком добры. — У Николо были большие, угрюмые глаза — точно пара фиников. Казалось, в детстве его крепко обидели, и он до сих пор не может оправиться. Однако тупой нос и мелкие острые зубы наталкивали на мысль, что пострадал не он один. — Это скалы Фаральони, вид из окрестностей монастыря в Чертозе. Меня вдохновили пурпурные сполохи утренней зари. Вы, безусловно, согласитесь: вдохновение играет исключительную роль.
Я обратил внимание на то, что во все время нашего разговора Чарльз Сандберг не сводил с меня глаз. Сказала ли ему что-нибудь Леони Винтер? Вряд ли у них могли возникнуть подозрения на мой счет. И тем не менее в глазах Сандберга, обращенных на меня, сквозили подозрительность и враждебность.
По дороге в отель я думал: приведет ли шутливое соглашение между Шарлоттой Вебер и мной к чему-либо путному?
Вот уже три года я не брал в руки кисти. В последний раз я рисовал Памелу и потерпел сокрушительное фиаско. Возможно, это повлияло на наши отношения: именно тогда в них появилась первая трещина. Но это имело и более далеко идущие последствия. Во мне как будто что-то сломалось; вдохновение, о котором так красочно распинался да Косса, и которое, в сущности, на сто процентов состоит из крови и пота, как в воду кануло. Одна мысль о том, что нужно покупать бумагу, брать в руки карандаш — хотя бы для блезиру, — вселяла в меня ужас. Все равно что выкапывать из могилы собственный труп.
Вернувшись домой, я вновь обратился к записям Гревила, но, хотя мне и попалась пара упоминаний о Бекингеме, я не нашел в них ничего существенного и, пропахав страничек пять, бросил это занятие, зажег сигарету и долго сидел, наблюдая за клубами дыма.
Разбирая стенографические закорючки Гревила, я вспомнил письма, которые получал от него в детстве, — зашифрованные тем же способом. Легкость интонации в них сочеталась с блестками здравого смысла, которыми эти письма были нашпигованы, как сладкий пирог — ягодами смородины. Именно ему я обязан столь важным для художника умением видеть необычное в обычном. Это его заслуга, что я своевременно познакомился с такими выдающимися авторами, как Блейк, Уитмен и Рильке. Он не выносил дилетантизма и малейшей расхлябанности. Люди без своего мнения для него не существовали. Однажды он сказал мне, цитируя Бена Джонсона: ”Я никогда не стану иждивенцем — эпохи, страны или чьей-то философии”. Вся его жизнь стала подтверждением этого правила.
Сразу после своего двадцатипятилетия он письменно известил меня о том, что намеревается на следующей неделе вступить в брак и хочет, чтобы я (пятнадцатилетний мальчишка!) первым из родных узнал об этом.
Я был безмерно горд, но также удивлен, потому что за неделю до этого ездил домой и он ни словом не заикнулся о своей великой новости; и никто еще ничего не знал, даже не был знаком с девушкой.
Ни на минуту не изменив своей обычной доброжелательности, он, тем не менее, категорически воспротивился попыткам остальных членов семьи — в первую очередь Арнольда — помешать мне учиться живописи. Это чуть не привело к семейным баталиям, но Гитлер, развязав более крупную войну, избавил нас от этой — местного значения. К тому времени, как мне исполнилось семнадцать лет, он занял Париж и отбил у многих молодых англичан охоту ехать туда изучать живопись.
Одно дело — поощрять ребенка, брать его с собой и радоваться его радости и совсем другое — поддерживать этот интерес в человеке между двадцатью и тридцатью годами, чьи жизненные интересы пришли в противоречие с творческими устремлениями. Будучи чрезвычайно занятым своими проблемами, Гревил ни секунды не колебался. Наша единственная стычка произошла, когда я объявил о своем решении бросить живопись и заняться более земным и более верным делом. Сначала он не признавал ни одной из выдвинутых мною уважительных причин, предпочитая объяснять мои колебания разрывом с Памелой и утверждая, что не пройдет и полугода, как я передумаю. Когда же и это не подействовало, Гревил сказал: ”Я бы еще понял, если бы ты умирал с голоду”. На что я ответил: ”В том-то и дело. Небольшой доход от семейного бизнеса даже не позволяет мне впасть в нищету. Но пойми, Гревил: я хочу сам зарабатывать на жизнь. Это — моя самая настоятельная потребность, сильнее любой другой, даже потребности в творчестве. В конце концов, это вопрос самоуважения”.
После этого он более или менее смирился — скрепя сердце.
Я ни разу не пожалел о своем решении.
Глава IX
В каком бы настроении вы ни приехали на Капри, через день-другой на вас подспудно начинает действовать общая атмосфера острова. Смерть Гревила по-прежнему значила для меня бесконечно много, но между местом происшествия и мной пролегли девять сотен миль. Какая жалость, что мое восприятие неповторимой красоты Амстердама оказалось омраченным страшным событием и подозрением в гнусном террористическом акте!
Когда на следующее утро я добрался до небольшой бухточки, где бросила якорь ”Сапфо”, в оливково-зеленой воде колыхалось удлиненное чуть ли не вдвое отражение двух высоченных мачт. Бриз то и дело образовывал рябь на воде, искажая их очертания. Спущенная за мной шлюпка окончательно разбила картинку.
К своему большому удивлению, я оказался первым из гостей и сразу почувствовал некоторую напряженность. Выражение лица Сандберга не изменилось со вчерашнего дня, разве что стало еще угрюмее. Если я подозревал его, то и он относился ко мне с подозрением — не знаю, по какой причине.
Показав мне все, что только можно — а это была изумительно красивая яхта, со всеми современными удобствами, — Сандберг предложил спуститься в кубрик, чего-нибудь выпить. Мы вели светскую беседу; я посмотрел его библиотеку. Здесь были книги на английском, итальянском и французском языках, причем ни одному не было оказано предпочтение. Не часто приходится видеть на одной полке Карла Маркса, Фому Аквинского и Макиавелли.
Когда Сандберг передавал мне бокал, я обратил внимание на его ухоженные руки со свежим маникюром.
— Вы, должно быть, итальянец? — поинтересовался я.
— Почему вы спрашиваете?
— Из праздного любопытства.
— Вы полагаете, любопытство может быть праздным? Я всегда позволял себе сомневаться в этом.
— Вы говорите по-английски без акцента.
Он бросил на меня быстрый взгляд проницательных глаз.
— Пожалуй, по большому счету я не принадлежу ни одному государству. Я сам себе страна: сам издаю законы и устанавливаю правила. Размеры моего королевства — сорок футов палубы, а поручни — горизонты.
Я пригубил напиток.
— И сами выдаете паспорта?
В глубине его глаз что-то шевельнулось.
— Вы не признаете метафор, мистер Нортон?
— О нет, мне понравился ваш образ, просто я подумал о досадном препятствии.
— Препятствия затем и существуют, чтобы их преодолевать. Купите яхту — и увидите.
— Дайте мне денег — и я куплю яхту.
— Ага, деньги. Еще одно препятствие. Однако, если желание достаточно сильно…
— Где цель, там и средства?
— Обычно так и бывает. Человеческая изобретательность не знает границ. Всегда найдутся способы — хотя, быть может, не всегда приемлемые.
— В каком смысле?
Он поиграл соломинкой для коктейля, то утапливая лимонные корочки в бокале, то давая им всплыть.
— Видите ли, мистер Нортон, для меня лично, как для всякого культурного человека, любая работа неприемлема. Если, конечно, ее не превратить в игру.
— Большинство культурных людей согласятся с вами. Но они не знают, как это сделать.
— Да и не нужно. Иначе они лишились бы возможности сравнивать, и это сделало бы их несчастными. Главное — мера и пропорция.
Я никак не мог решить: то ли он тонко иронизирует, то ли просто обожает читать нотации. На фоне иллюминатора его профиль казался более грозным.
— Как насчет вас? — неожиданно спросил он.
— Что вы имеете в виду?
— Вы находите живопись не только приятным, но и прибыльным делом? Ни за что бы не подумал.
— Вы правы.
— Хотя я могу себе представить, что в качестве хобби это занятие может быть весьма полезным.
Он разгадал мою хитрость прежде, чем я успел применить ее на практике!
— Все может быть полезным — в подходящее время и в подходящем месте.
— Какое же место вы считаете для себя подходящим, мистер Нортон? Неужели Капри?
— Только на то время, что я здесь.
— А потом?
— Это зависит от того, что случится за это время.
Сандберг допил свой бокал и пошел налить еще.
— Могу я позволить себе дать вам совет?
— Я не могу этому помешать.
Он вернулся ко мне.
— Не задерживайтесь на острове. Здешний климат расслабляет. Для добросовестного художника недели вполне достаточно.
— Сами вы, кажется, задержались здесь гораздо дольше?
— Я не художник, мистер Нортон, и уж, во всяком случае, не добросовестный.
— Охотно верю.
— Надеюсь, за эту неделю вам придется убедиться во многих вещах. И среди прочего…
— Да?
— Что мадам Вебер подчас неразборчива в знакомствах.
— В этом меня не нужно убеждать.
— Можете это знать, но не пытайтесь злоупотребить этим.
С минуту мы смотрели друг на друга в упор, и я едва удержался, чтобы не раскрыть карты. Однако в этот момент на палубе послышались шаги, и я понял, что опоздал. У Сандберга дрогнули и опустились веки.
— Прибыли остальные. Поднимемся на палубу?
* * *
Леони Винтер безуспешно чиркала зажигалкой. Пламя возгоралось, но не успевала она поднести зажигалку к сигарете, как ветер с моря гасил его. И так несколько раз подряд. Это был неплохой шанс, и я в мгновение ока очутился рядом с ней.
— Попробуйте мою.
Я выбил пламя, но ветер моментально задул его. Я чиркнул еще раз — зажигалка вообще не сработала. Я предпринял еще пару попыток, но мне удалось извлечь лишь маленькую искорку.
— Ничего страшного, — сказала Леони.
— Прошу прощения. Дайте-ка мне вашу. Попробую заслонить ее от ветра.
Я распахнул пальто и, поместив зажигалку в импровизированное укрытие, снова высек огонь. Леони наклонила светлую голову и закурила.
— Спасибо.
Когда первый дым развеялся, она взглянула на меня — во второй раз за все время. Я где-то слышал о песочно-зеленых глазах, но не представлял, что это такое до тех пор, пока не увидел Леони Винтер. Они, как и говорила Шарлотта Вебер, были обрамлены густыми темными ресницами. Такой оттенок иногда принимает море, но не здесь, в Италии, где слишком много скал, а песок довольно бледного цвета.
— Сегодня слишком ветрено для курения, — прокомментировал я.
— Похоже на то.
Я выбросил за борт свою сигарету, но, движимый потребностью чем-то занять себя, не нашел ничего лучшего, как закурить следующую. На этот раз по закону подлости моя зажигалка действовала безотказно.
Леони Винтер отвернулась и стала смотреть на море. Позади нас в переливчато-синей дымке смутно вырисовывался Неаполитанский залив, а если смотреть в сторону порта, перед глазами высились неправдоподобно прекрасные скалы Соррентийского полуострова — словно расписанный Вероккио задник.
— Куда мы направляемся? — полюбопытствовал я.
— Думаю, что в Амальфи. Мадам Вебер владеет там недвижимостью.
— Я не бывал в Салернском заливе с сорок третьего года.
— Тысяча девятьсот сорок третьего? Вы были здесь во время войны?
— Я служил на эскадренном миноносце — из тех, что защищали берег.
— Понимаю.
— Конечно, у меня не было возможности как следует полюбоваться местностью, потому что я проводил почти все время в машинном отделении.
У Леони была чудесная кожа, но в уголках губ прятались крохотные морщинки — словно следы улыбки. Весело ли ей было после смерти Гревила?..
В эту минуту я впервые усомнился в том, в чем до сих пор был абсолютно уверен. А именно — что Гревил ни в коем случае не наложил бы на себя руки из-за несчастной любви.
— Интересно, — сказал я, — каково это — быть красивой женщиной?
Она подняла на меня удивленные глаза, в которых вспыхивали искры.
— Что вы имеете в виду?
— Ну… может быть, вы сочтете это невежливым, но… вы мне кажетесь неприступной. Это ваше естественное состояние или вы напускаете на себя строгий вид ради самозащиты?
Она посмотрела на свою сигарету.
— Может быть, вы п-подскажете, как в таких случаях отвечают другие женщины?
— Я не спрашивал.
— Так спросите.
— Нет, серьезно? Мне очень интересно. Вы, должно быть, знаете себе цену. Во всяком случае, у меня создалось такое впечатление.
— Когда?
— В автобусе.
— Ах, вот что… Ну, это не считается.
— Почему?
— Так.
— Я дал вам повод для недовольства?
— Это как посмотреть.
— Вы правы, — согласился я.
Совсем близко от нас пролетела чайка — вернее, она парила в воздухе, шевеля крыльями, — и вдруг изменила направление и исчезла в подветренной стороне, словно унесенная ветром.
— Вот что мне хотелось бы понять, — продолжал я. — Осознают ли люди, щедро одаренные природой, свои преимущества? В любой момент своей жизни начиная движение, они изначально оказываются на шаг впереди других людей. Им нет нужды лезть из кожи вон, налаживать отношения, стараться произвести впечатление — они всегда приходят на готовое. Красота — их право по рождению. Даже увядая, она оставляет неизгладимый след. В сущности, это — одна из немногих оставшихся привилегий.
Она вновь посмотрела на меня. Ветер взъерошил ее мягкие на вид волосы, образовав на лбу подобие челки; Леони отбросила непослушную прядку назад.
— Любопытная точка зрения.
— Я имел в виду нечто большее.
— Вы коммунист?
— Нет. — Я не понял, говорит ли она серьезно или издевается. — Почему вдруг такой вопрос?
— Ну, вы не признаете привилегий.
— Нет. Я только против злоупотреблений.
— И вам кажется, — холодно уточнила она, — что я злоупотребляю?
— Не совсем. Просто я задаюсь вопросом: насколько вы осознаете свою красоту и каково это — обладать ею?
— Вы не слишком много на себя берете?
— Пожалуй, — согласился я и отвернулся в сторону.
В это время новый порыв ветра бросил мне в глаза сигаретный пепел; одна соринка угодила в глаз. Я выхватил платок и начал тереть этот глаз, пытаясь залезть под веко. Леони несколько секунд наблюдала за моими потугами, а затем предложила:
— Давайте, помогу.
Я отдал ей платок, и она осторожно приблизила к моему лицу тонкие пальцы. Стоя совсем близко от меня, она казалась хрупкой, но довольно высокой для женщины.
— Ну как — лучше?
— Большое спасибо. Кажется, все прошло.
— Вы имеете в виду соринку или предубеждение?
— Я бы не сказал, будто и того, и другого было в избытке.
Стоя у штурвала у нас за спиной, похожий на смуглого викинга Сандберг беседовал с мадам Вебер, взошедшей на борт в брюках-клеш цвета морской волны и широкополой синей шляпе, способной выдержать лишь тишайший ветерок. Она взяла с собой обоих щенков — Бергдорфа и Тиффани; одного уже стошнило. Другой, явно наслаждаясь морской прогулкой, приковылял к нам и, устроившись у ног девушки, потерся носом о ее щиколотку; она взяла его на колени.
Постепенно наша беседа приняла более непринужденный, хотя и беспорядочный характер. Напряжение спало, а яхта тем временем подошла к высоченным скалам в окрестностях Позитано и Амальфи. Как раз в ту минуту, когда мы вошли в Амальфийскую бухту, зазвонили колокола: вначале сонно, а затем громко, требовательно — этот звон больше походил на пожарную тревогу, чем на обращение к верующим. Солнце перевалило через зенит и начало медленно клониться к горизонту за гаванью; белые пятнышки — клочки маленького городка на склоне горы — окунулись в тень.
На берегу Сандберга и мадам Вебер ждал старенький автомобиль, который вскоре скрылся за поворотом прибрежного шоссе. Я не знал, должны ли мы следовать за ними. После того разговора в кубрике Сандберг старательно избегал моего общества, но я постоянно чувствовал на себе его напряженный взгляд.
Николо да Косса прихватил с собой подрамник, и, как только мы сошли на берег, установил его прямо на причале и принялся заканчивать вид города, не обращая внимания на возбуждаемый им интерес местных жителей. Рядом опустилась на табуретку Джейн Порринджер и приготовилась наблюдать за его работой. Остались только мы с Леони да Гамильтон Уайт.
До сих пор я не сказал с американским юристом и двух слов, но он неотвязно, как тень, следовал за нами. К счастью, вскоре мы наткнулись на резчика по дереву, чье искусство — особенно маски, явно обязанные своим происхождением острову Пасхи, — привлекло его внимание. Мы же с Леони Винтер продолжили наш путь.
Главная улица Амальфи берет начало на площади перед собором, а далее, суживаясь, карабкается вверх по склону. Относительно крупные магазины сменяются небольшими домиками в одно окно, почти лачугами; хозяева сидят на крыльце и, подставив обветренные лица солнцу, обмениваются местными сплетнями. Всего несколько ярдов — и вам бросается в глаза извечный контраст, вековая проблема Италии. После роскоши частной яхты или прогулочного лайнера вас встречают нищета и убожество здешнего существования. Пыль, зной, запущенность и одиночество.
Покупать было нечего, но, опередившая меня на несколько шагов, Леони неожиданно нырнула в какую-то лавчонку. Я немного подождал снаружи, а затем не выдержал и вошел внутрь. Толстая пожилая женщина с черноглазым младенцем на руках помогала ей выбрать косынку. Возле них вертелись еще трое малышей: от семи лет и младше. В ходе завязавшегося разговора, который женщины вели на смеси английского и итальянского языков, выяснилось, что их мать умерла родами и теперь бабушка вынуждена сама управляться и с лавкой, и с детишками. Конечно, с точки зрения итальянца это еще не нищета, коль скоро они владеют лавкой, но их преследуют неудачи, которые они привыкли переносить с достоинством. Вскоре они уже с серьезными лицами рассматривали какие-то снимки, которые Леони достала из сумки. Дети с удовольствием, но без подобострастия взяли у нее угощение — кажется, фрукты. Ее светлая головка выделялась среди нескольких темноволосых. Сам я не присоединился к разговору, но с интересом наблюдал за ними. Сначала владелица лавки недоумевала по поводу моего присутствия, но Леони объяснила, что я — ее спутник.
Через несколько минут мы вновь очутились на улице. Леони спрятала фотографии в сумку, на ее губах блуждала улыбка.
Было еще светло, но солнце пряталось за скалами, и городок Амальфи частично утратил свой живой, беспечный колорит. Яхта по-прежнему сверкала белизной, однако казалась ярким мотыльком на унылой серой стене.
Я спросил Леони:
— У вас есть дети?
— Нет.
— А на тех снимках?..
— Мои младшие сестры. Сводные.
— Можно взглянуть?
— Как-нибудь в другой раз.
Мы прошли еще несколько ярдов; местные жители со своих крылечек провожали нас взглядами. На площади Леони направилась к каменным ступеням, ведущим к собору и колокольне. Естественно, я последовал за ней и возобновил расспросы.
— А где сейчас ваш муж?
— Который?
Я растерялся.
— Нынешний.
Она нахмурилась.
— Сейчас у меня нет мужа. Прошу прощения, если разочаровала.
Мы одолели последнюю ступеньку. Оба тяжело дышали, однако не только из-за подъема. Фасад собора был ярко освещен.
Я сказал:
— Вы правильно расценили мое поведение в автобусе.
Леони вздрогнула, и на мгновение ее обращенные на меня глаза затуманились.
— Н-не знаю.
Я притворился, будто ничего не заметил, и предложил:
— У нас есть время заглянуть в собор?
Она толкнула одну из дверей, и мы окунулись в прохладный полумрак зала, тускло освещенного проникающими сквозь окна солнечными лучами. От мраморной колонны отделилась тень и, приблизившись, предложила нам услуги гида, но я махнул рукой, и маленький, бедно одетый человечек отошел. Возле центрального нефа Леони остановилась и подняла на меня блестевшие отраженным светом глаза.
— Боюсь, мистер Нортон, что, несмотря на все старания, мне не удается уследить за ходом вашей мысли. Не будете ли вы так добры объяснить, что вам, собственно, нужно?
— Просто я хочу узнать вас поближе. Что в этом особенного?
— В самом желании — ничего. Но ваши методы…
— Что в них такого?
Немного помолчав, Леони спросила:
— Что бы вам хотелось узнать?
В этот момент рядом послышался голос коротышки-гида:
— … мощи Святого Андрея, апостола рыбаков… А эти мраморные колонны доставлены сюда из самого Пестума.
— Это гораздо интереснее того, что я могу рассказать, — заметила Леони. — Посмотрите на эти мозаики. Вы видели мозаики в Равенне? Я побывала там три года назад. Скучный, пыльный городишко, совсем не похожий на Флоренцию. Флоренция — самый веселый город в Италии. Мне бы хотелось в нем жить. А вам?
— Можно, я буду называть вас просто Леони?
— Я думала, это подразумевается само собой. Меня все так зовут.
— Вы считаете меня агрессивным?
— А это не так?
— Так, — признал я.
— Но, может быть, это ваша обычная манера и вы просто не замечаете? Как называются эти два возвышения? Амвоны?
— Амвоны, — тотчас поддакнул не отстававший от нас коротышка. — Они очень древние и располагаются по обеим сторонам алтаря. С тех пор, как этот собор был возведен в 1203 году…
— Возможно, это вас удивит, — сказал я Леони, — но я еще никогда так не вел себя ни с одной женщиной.
Она помолчала.
— Пожалуй, нам пора. Чарльз сказал, что они не собираются задерживаться.
По другую сторону холма снова надрывно зазвонил церковный колокол; к нему присоединился другой, третий…
— В свое время, — продолжал маленький человечек, — Амальфи был настоящей морской республикой — как Генуя. В девятом, десятом веках здесь было успешно отражено нападение сарацинов. Потом, в 1073 году, наводнение смыло большую часть города с лица земли. Позднее здесь произошло еще несколько наводнений. Поэтому собор…
Я по-прежнему обращался к Леони:
— Счастливый человек Сандберг — владеет такой роскошной яхтой.
— Да, конечно.
— Вы с ним старые друзья?
— Нет.
Я не спускал глаз с ее лица.
— Вы собираетесь долго пробыть в Италии?
— Еще не решила. А вы?
— Это будет зависеть от того, как пойдут дела.
— На острове?
— Не совсем.
Леони замешкалась и спросила:
— Портрет Шарлотты Вебер — одно из таких дел?
— Это еще не решено.
— Мне сказали, что вы обожаете писать портреты женщин со следами жизненного опыта на лице — не то что пресные, ничего не выражающие лица вроде моего.
Мы дошли до выхода из собора.
— Обратите внимание на монастырь! — в отчаянии выкрикнул наш добровольный гид. — Готические арки тринадцатого столетия. За мизерную плату…
Я дал ему двести лир и сказал Леони:
— У вашего приятеля да Косса все задатки суфлера, если не сплетника. И что только Джейн Порринджер в нем нашла?
Мы снова были на улице. После перерыва на обед городок ожил. Леони обвела его взглядом больших зеленоватых глаз.
— Что мы находим в тех, кого любим? Это невозможно объяснить.
— Вы абсолютно правы.
— Все это такие банальности… Вы женаты?
— Нет.
— И никогда не были?
— Никогда. — Что-то побудило меня добавить. — Один раз я был помолвлен, но из этого ничего не вышло. Так что мой послужной список короче вашего.
Она заморгала, словно стряхивая с себя далекие и не слишком приятные воспоминания.
— Да… мой послужной список… Досье… Как, по-вашему, это более подходящее слово? — она вновь пристально посмотрела на меня. — Что же у вас случилось?
Я пожал плечами.
— Не знаю. Такое случается сплошь и рядом. Единственное отличие — что это случилось не с кем-нибудь, а с тобой.
— Да. Это единственное отличие…
Мы подошли к лестнице. Навстречу поднимались двое молодых итальянцев — они так и уставились на Леони. Высоко над нашими головами щебетали птицы. Колокольный звон прекратился.
— Нас, наверное, заждались, — и Леони так быстро побежала вниз, что мне было трудно за ней угнаться. Сколько я ни старался, она опередила меня на несколько ступенек. Внизу она остановилась и лукаво посмотрела на меня. Это была ее первая обращенная ко мне улыбка. Но все равно в глубине ее глаз затаилась глубокая печаль, и я понял, что она несчастлива.
* * *
Мы вернулись на остров до наступления сумерек и причалили в бухте Марина Гранде. Я был совершенно сбит с толку. Ведь я поставил перед собой задачу как можно лучше узнать Леони Винтер и как будто продвинулся. Но правильно ли я взялся за дело?
Потому что, сколь ни были сильны во мне предубеждения против этой женщины, сегодняшний разговор не оставил от многих из них ни следа.
И вообще я был недоволен собой. Я думал: неужели Гревил испытал такую сильную, такую всепоглощающую страсть, что… До сих пор сгубившая его женщина была для меня абстракцией, тенью. Теперь она стала чем угодно, только не абстракцией.
После ужина я написал Коксону:
”Дорогой Мартин.
Спасибо за кое-какие предпринятые вами действия, благодаря которым я обнаружил местопребывание Леони из найденного у Гревила письма — и, кажется, Бекингема. Но прежде, чем решиться на следующие шаги, мне необходимо ваше подтверждение, что это действительно он. Не могли бы вы вылететь или выехать сюда поездом на этой неделе? Я был бы весьма признателен. Прилагаю чек на дорожные расходы. Этой суммы должно хватить и на обмен денег.
С уважением, Филип”.
Глава X
На обратном пути Шарлотта Вебер как бы между прочим упомянула об обещанных мною эскизах к ее портрету, так что мне ничего не оставалось, как испросить разрешения зайти к ней завтра утром. Разговор велся в присутствии Сандберга. Да Косса тоже крутился рядом, и, хотя я не вполне представлял себе его роль во всей этой истории, мне было ясно, что, скорее всего, он будет мешать мне исполнять мою собственную роль. Сандберг казался мне львом, а да Косса — шакалом, а они, как известно, гораздо злее и коварнее.
Я уповал на то, что еще не совсем разучился рисовать, и был полон решимости либо создать что-то путное, либо умереть. Это просто поразительно — сколько побочных чувств, мыслей и поступков вызвало к жизни мое первоначальное стремление добиться истины в случае гибели брата; какое влияние это расследование оказало на мою личную жизнь, даже интимную жизнь моего сердца.
После завтрака я вновь занялся расшифровкой записей Гревила. Стенографические значки были подчас неразборчивы, кроме того, в тексте стали появляться собственные сокращения Гревила, так что эта работа заняла довольно много времени. Но в конце концов мне попалось интересное место.
”Говорят, Пангкалу никак не становится лучше. Мне очень не хватает его трудолюбия, добросовестного отношения к работе, всех лучших качеств прилежного азиата. Бекингем ни в коей мере не способен его заменить, хотя его помощь при землеройных работах довольно ценна. А эти работы в значительной мере осложнены тем, что слой древних захоронений здесь расположен ниже уровня моря и подвержен затоплениям.
Я еще не встречал таких людей, как Бекингем, — он то же самое говорит обо мне. Я привык считать, что он только напускает на себя так называемую новую мораль, но теперь мне начинает казаться, что он наполовину искренен. Он утверждает: то, что мы называем преступлением, носит такой же естественный характер, как рождение, размножение и смерть. И что в ближайшем просвещенном будущем оно перестанет подвергаться запрету, а, наоборот, будет признано неотъемлемой частью человеческого поведения. Честность, вещает он, будет рассматриваться как нечто, не существующее в действительности, а лишь изобретенное с целью затормозить активную человеческую деятельность и стремление к прогрессу. Искренность будет признана уместной лишь в случае полной невозможности скрыть факты, а порядочность станет синонимом глупости.
Я пытаюсь убедить его в том, что он блуждает в нравственных джунглях: подобные аргументы так же современны, как Ур и Ниневия. Любой диктатор, от Синахериба до Гитлера, брал их на вооружение, так что он не только не идет впереди своего времени, а, наоборот, безнадежно отстал от него.
В сущности, это очень одаренный человек, и безмерно жаль, что мне не удается найти достаточно убедительные — в его глазах — доводы. Жизненно необходимо развенчать его взгляды, потому что они несут угрозу человечеству, порождая ренегатов и тиранов. Подобные убеждения, хотя и в замедленной форме, но с такой же неизбежностью влекут за собой распад человеческой личности, как взрыв ядерной бомбы — гибель нашей физической оболочки.
В то же время у Бекингема масса достоинств. Мы постоянно ведем плодотворнейшие дискуссии. Ни с кем я так долго и подробно не обсуждал, к примеру, новую, отвергаемую мной теорию, относящую происхождение человека к первому межледниковому периоду.
Острый ум Джека — превосходно наточенная рапира. Он не археолог в строгом смысле слова, зато берется за все с поразительным энтузиазмом и ясностью ума, способными в течение короткого промежутка времени творить чудеса. ”Короткий промежуток времени” здесь, к моему большому сожалению, ключевое понятие. С его способностями он мог бы достичь многого, а не достиг, в сущности, ничего. Такой мозг заслуживает более бережного обращения. На каком-то жизненном повороте он сошел с рельсов, и если бы отыскать тот поворот… Увы — чтобы поправить дело, необходимо сначала доказать ему, что он неправ…”
* * *
— Вам бы сейчас поплавать, понырять, — мягко упрекала меня мадам Вебер, играя концами обвившегося вокруг шеи шарфа. — Разве можно убивать время на старуху? Куй железо, пока горячо, и все такое прочее. В прошлом апреле здесь была гроза — трое суток подряд. Все это время я читала ”Войну и мир”. Я как будто присутствовала на грандиозной феерии, музыку к которой сочинил лично Господь Бог.
— Я только недавно из Калифорнии, так что уж потерплю как-нибудь один-два дня без солнца.
— Калифорния? Обожаю тамошние пляжи! Правда, сама я там не была, но у меня там есть один знакомый, он регулярно присылает открытки. Что вы там делали?
Я рассказывал и одновременно старательно наносил на бумагу первые штрихи. Дело было не столько в вызове, даже неприязни со стороны некоторых ее друзей, сколько в личности самой Шарлотты Вебер, скрытой за большими красноватыми глазами, одутловатым, густо напудренным лицом и большим бесформенным ртом. Я сам только диву давался — как важна вдруг стала для меня работа над ее портретом.
Я обратился к ней с просьбой:
— Вы обещали рассказать мне о Леони Винтер. Вы давно ее знаете?
— Ах, душка Леони! Да. Мы познакомились сразу после войны, в Канне. Жизнь только-только начинала входить в нормальное русло. Помню, тогда шла кампания по выявлению коллаборационистов. Все жутко перемешалось — как белье в прачечной. И все же это было лучше, чем год назад, когда вы заезжали навестить вашего старого друга Рауля и находили его повесившимся на люстре. Это ужасно. Для меня всегда было невыносимо видеть моих друзей в беде — даже если они слишком много о себе воображали.
— Итак, вы познакомились с Леони…
— Она выступала за Великобританию на каких-то соревнованиях по плаванию. Кажется, ей тогда было семнадцать или восемнадцать лет. Этакий прекрасный блондинистый местиф женского пола, только что вышедший из щенячьего возраста. Я жду не дождусь, когда Тиффани и Бергдорф станут взрослыми… Вы когда-нибудь слышали о Леони Хардвик? Я видела ее один или два раза и пригласила — даже настаивала на том, чтобы она погостила у меня, но она то ли была слишком занята, то ли не захотела. В молодости жизнь так сложна!
Я внимательно изучал линию ее носа. Только бы не переусердствовать.
— Может, у нее были проблемы с многочисленными мужьями?
— Мужьями? — мадам Вебер повернула голову и смазала линию носа. — Нет, дорогой мой, это у меня была уйма мужей. Я бы сказала, сверх всякой меры. Нужно предостерегать девушек, пока они молоды: это может войти в привычку. Но у Леони пока что был только один муж.
— А мне она сказала, что несколько.
— Должно быть, вы ее чем-то спровоцировали. В таких случаях она не лезет за словом в карман. Полезный недостаток. Надеюсь, вы ей не поверили?
— И что же случилось с этим одним?
— Он умер. Такой славный мальчик — и из состоятельной семьи. Вы читали у Теннисона? Моя мать читала его, когда была enceinte[9]. Что-то в таком роде: не выходи замуж за богатство, но выходи замуж за богатого.
— Леони так и поступила?
— Нет, они были по-настоящему влюблены друг в друга. В то лето в Англии была эпидемия полиомиелита. Они заболели всей семьей. Леони выкарабкалась — осталось только легкое заикание. А Том Винтер и их ребенок умерли. Я страшно злилась, когда узнала.
— Злились?
— Ну, конечно. В мире полно мерзавцев, им и море по колено! Это весьма прискорбно. Провидению следовало бы лучше знать свое дело.
Я взглянул на рисунок, бросил его в корзину и начал новый.
— Вы не будете возражать, если я попрошу вас немного поднять голову? Спасибо. Самую чуточку. Вот-вот!..
— Выйдя замуж, она бросила спорт. И правильно сделала. Дух соревнования хорош для подростков, а в семье его приходится обуздывать. Я потеряла эту милую девчушку из виду, и вдруг она присылает телеграмму о своем приезде. И почему нас так радует внимание молодых?
— А капитан Сандберг?
— Можно пошевелить плечом? Оно затекло.
— Разумеется. Если хотите, сделаем небольшой перерыв. Встаньте и подвигайтесь.
— Нет-нет, мне вполне удобно. Это старинное венецианское кресло — должно быть, в нем восседал какой-нибудь дож или даже сам Тициан. Не понимаю, почему все так восхищаются его женщинами. Так что вы сказали о Чарльзе Сандберге?
— Просто спросил, давно ли вы его знаете.
— О Господи, конечно же, да, — она вздохнула. — Милый Чарльз! Такой добрый, так меня поддерживает! Удивительный человек! Из тех, кто забывает, что им перевалило за пятьдесят.
Некоторое время я молча рисовал. Затем продолжил разговор:
— Он постоянно живет на острове?
— Кто? Чарльз? Я бы не сказала. Всю зиму его здесь не было… Вы когда-либо пробовали написать автопортрет? Это должно быть интересно.
Я понял, что она не расположена обсуждать Сандберга.
— Не думаю.
— Почему? С вашей внешностью! Искренность, чуткость, целеустремленность — все это просто написано у вас на лице. Полные тревоги, но о-очень проницательные глаза! Я бы сказала, что вы изведали горечь, однако не ожесточились. Любопытный контраст. Вполне стоит нескольких тюбиков краски.
Я улыбнулся и спросил:
— Вы ведь не американка?
— А что, по мне видно? Почему вы так решили?
— Судя по некоторым речевым оборотам…
— Во мне сколько-то итальянской и сколько-то датской крови. И Бог знает, что там еще намешано — за много веков! Одна моя бабушка была из Шотландии, другая — из Сербии. С точки зрения Общества собаководов у меня ни малейших перспектив. Вы не обращали внимания — на континенте европеец только после тридцати пяти лет начинает говорить на настоящем английском; до этого возраста он говорит на американском диалекте, — мадам Вебер плотнее укутала плечи шарфом. — Мой последний супруг был американцем. Милый Сэм. Он писал свою фамилию с двумя ”б”, но после его смерти я отбросила одно ”б”, и теперь ее произносят на европейский лад. Надеюсь, он не против.
— Я бы не возражал на его месте.
— Очень странно, знаете ли, что он умер раньше меня. Я была совершенно сбита с толку.
Мы немного помолчали. Я заговорил первым:
— Скажите… когда вы узнали, что вам осталось недолго жить, вам не приходило в голову наложить на себя руки?
— Нет. Точно, нет. У меня не было времени. Сами подумайте: столько хлопот… уборка… изменения в завещании… И потом, если вас объегорили на двадцать лет, с какой стати лишать себя и последних двадцати месяцев?
— Да — если вы в состоянии ими наслаждаться.
— Конечно. Но, как правило, так оно и бывает. Я лично насладилась своими сполна. Зачем унывать раньше времени?
Я проработал еще с час и сделал недурной набросок. Во всяком случае, мне он показался удовлетворительным. Наверное, так чувствует себя человек, который много лет не играл в теннис и, выйдя на корт, приятно удивлен уже тем, что вообще способен играть.
Солнце медленно клонилось на запад и как раз заглянуло к нам на галерею. Открылась дверь, и вбежали все четыре мастифа — виляя хвостами и обнюхивая все подряд. Мадам Вебер предложила мне остаться к обеду, но я отказался, боясь показаться уж слишком назойливым.
Засим она откланялась, так как собиралась перед обедом навестить Луизу Анрио (француженку с длинным мундштуком), а заодно выгулять собак. Она ушла, опираясь на трость, тяжело ступая по кафельному полу; следом бежали собаки. На прощанье она предложила мне налить себе еще шерри.
Я стоял, облокотившись на балюстраду. Сейчас, во второй половине дня, ветер усилился; шелестели листья пальм и кустов — словно старик читает газету. Высоко над моей головой висело одинокое облако и расходился след самолета. Вдали затихли шаги Шарлотты Вебер. Дом погрузился в безмолвие.
Я знал, что у нее двое слуг: пожилая женщина со следами былой красоты (о ней говорили, что она бывшая танцовщица) и стройный, веселый уроженец Рима по имени Берто — он обычно прислуживал за столом. Где-то они сейчас?.. Я снова взял в руки свой набросок, заложил его между двумя чистыми листами и, свернув в трубку, сунул в карман.
Чтобы покинуть виллу, можно было спуститься с галереи в сад либо пройти через весь дом и парадное, а дальше по дорожке дойти до ворот. Я выбрал последнее.
В холле мне бросилась в глаза узенькая лестница с каменной балюстрадой, которая вела на второй этаж. Я остановился у стола и, взяв ”Нью-Йорк Таймс”, пробежался взглядом по заголовкам. Из кухни еле слышно доносились голоса. Стало быть, слуги находились там, а все четыре собаки увязались за своей хозяйкой.
И я поднялся наверх.
Комната Леони, как я вычислил по расположению окна, была в дальнем конце коридора, как раз над гостиной. Я шел по коридору с белеными стенами; на дверях поблескивали латунные ручки; все говорило о недавнем ремонте. Дверь в спальню Леони оказалась незапертой, и я вошел внутрь.
Предпринять обыск в незнакомом доме, средь бела дня, возможно, и не самый разумный шаг, но во мне с самого утра зрела решимость ускорить события. Да, я был в спальне Леони. Я узнал запах ее духов, босоножки, шарф, а на нижней створке ставней сушился зеленый купальник без бретелек. На складной подставке из дерева и брезента покоился чемодан с ярлыками авиапортов. Я подошел ближе и разобрал название рейса: Амстердам — Рим. С таким ощущением, будто я совершаю низость, я расстегнул замки и открыл крышку чемодана.
Он был полон на четверть: нижнее белье, нейлоновые чулки, берет, пояс; во внутреннем кармане какие-то бумаги. Я быстро проверил: карта Рима, несколько гостиничных счетов, в том числе за четырехсуточное пребывание в отеле ”Долен” в Амстердаме; паспорт, выданный четыре года назад в Лондоне. Хелен Джойс Винтер, урожденная Хардвик, домохозяйка, родилась в Кембридже первого марта тысяча девятьсот двадцать девятого года, проживает в доме номер девять, Гранвилл Гарденс, Мейденхед. Рост пять футов семь дюймов, глаза светло-карие, волосы русые, особые приметы — никаких.
По сравнению с фотографией она сильно похудела и вообще изменилась. На карточке у нее было круглое, девичье лицо — жизнь еще не оставила на нем свой отпечаток, оно дышало свежестью и невинностью. Я просмотрел отметки о пребывании за границей. Леони дважды была во Франции, один раз (не считая этого) — в Италии и только однажды — в Голландии. Больше мне ничего не удалось выжать из ее паспорта.
Уже собираясь закрыть чемодан, я вдруг увидел на дне три или четыре нестиранных носовых платка; один казался больше остальных. Я взял его в руки и в углу обнаружил монограмму: ”ГТ”.
Я бросил взгляд на часы. Двенадцать двадцать. Проверим ночную тумбочку.
На ней были обыкновенные предметы дамского обихода: лак для ногтей, сигареты, ножницы, расческа, немного рассыпанной пудры, иголка, моток шелковых ниток. В ящиках — золотой браслет, гранатовое колье, тонкая ночная сорочка и бювар с незаконченным письмом.
”Дорогая мамочка.
Я была счастлива получить твое письмо и сама собиралась со дня на день написать. Я живу здесь уже две недели и чувствую себя значительно лучше, отдохнула душой. Боль наконец-то отпустила, я вновь начинаю видеть вещи такими, как они есть. Слава Богу, Голландия развязала все узлы. Хотя в то время я так не думала, но, может быть, оно и к лучшему. Все кончено — на этот раз бесповоротно. Возможно, теперь я снова смогу смотреть в будущее.
Спасибо, что не дала мой адрес. Пожалуй, я побуду здесь до тех пор, пока не надоем мадам Вебер. За эти две недели я много плавала — больше, чем за все время с тех пор, как вышла замуж за Тома. Погода стоит прекрасная. Прошлой ночью я спала семь часов подряд. Здесь ведут праздную, абсолютно бессмысленную жизнь — едят, пьют, курят, сплетничают, — но сейчас это меня устраивает. Есть время все обдумать — а впрочем, и не очень хочется. Так что не волнуйся. Я в полном порядке.
Склоны гор здесь желты от ракитника. На всем пути фуникулера цветет герань. Туристов пока очень мало. Если в начале следующего месяца начнется наплыв…”
На этом письмо оборвалось. ”Слава Богу, Голландия развязала все узлы”… ”Может быть, это и к лучшему”… Что — это? Распухшее тело Гревила в грязной воде канала? Осиротевшие жена и дочь? Незавершенное дело его жизни?
От двери послышался шорох. Я резко обернулся и увидел Николо да Коссу, внимательно следившего за моими действиями.
Глава XI
— Боюсь, что у Леони вас ждал не очень-то богатый улов драгоценностей, — съехидничал он. — Проводить вас в спальню мадам Вебер?
— А что, она побогаче? — огрызнулся я. — Не сомневаюсь, уж вам-то это известно!
За первым шоком пришло оцепенение. У меня занемели руки.
Он злорадно расхохотался.
— Известно-то известно, да я не вор. И не злоупотребляю гостеприимством моих друзей.
Я оглянулся по сторонам.
— Ладно. Давайте спустимся вниз, выпьем по бокалу шерри и все обсудим.
— Нечего обсуждать, signore[10]. Разве что, как бы вам убраться подобру-поздорову.
Я задвинул обратно ящик ночной тумбочки.
— Сами-то вы что здесь делаете?
— Думали, я вместе со всеми на пляже? Нет. У меня бывают приступы мигрени. Идите вперед, я за вами.
Я вышел из комнаты и спустился по лестнице. Да Косса следовал за мной по пятам. В гостиной я взял свой бокал.
— Вам тоже шерри?
— Благодарю вас. — О, как он наслаждался ситуацией! — Разумеется, я обо всем поставлю в известность мадам Вебер. Пусть сама решает, говорить ли Леони.
— Вы не собираетесь звонить в полицию?
Он, хромая, приблизился ко мне и взял второй бокал.
— Я не мстителен.
— Особенно когда у вас нет доказательств.
— Да, это так.
— В сущности, все, что мы имеем, это ваше слово против моего.
— Мы с мадам Вебер — старые друзья. И потом, что я выигрываю?
— Возможно, кое-что и выигрываете.
Он вытаращил большие, угрюмые глаза.
— Например?
— Вас не устраивает моя дружба с мадам Вебер.
— Этой старухой? Вы, должно быть, спятили?
— Очень богатой женщиной, которая покровительствует вам как художнику.
Он осклабился.
— Вы льстите себе, синьор, если считаете, что я могу видеть в вас соперника. Я не имел счастья познакомиться с вашими работами, но ведь вы сами признали, что являетесь всего лишь любителем. У Шарлотты достаточно здравого смысла, чтобы отличить халтуру от подлинного искусства.
По-прежнему держа в руке бокал с шерри, я подошел и посмотрел вблизи на его выполненный пастелью пейзаж — скалы Фаральони.
— Зато я бы сказал, что ее нетрудно обвести вокруг пальца.
Снаружи до нас донесся скрип тормозов: это подошел автобус. Через несколько минут появятся Джейн, Леони и Гамильтон Уайт. Возможно, они уже на крыльце.
Да Косса приблизился ко мне.
— Я попросил бы объяснить, к чему вы клоните.
Происходи это несколько лет назад, он всадил бы в меня кинжал.
— Да к тому, что не вы — автор картины.
— Взгляните — вот подпись художника. Чего вам еще не хватает?
— Посмотреть, как вы ее писали.
— Прошу прощения, ничем не могу помочь.
— При всем желании не могли бы. С моей точки зрения, картина излишне цветиста, но ее создал настоящий мастер, знакомый со всеми тайнами ремесла. Это подлинное искусство.
— Что и требовалось доказать.
— Я наблюдал за вами на берегу. Вы не владеете элементарной техникой. Могу поклясться…
— Просто я попробовал работать маслом, в несвойственной для себя манере. Вот и…
— Манера тут ни при чем, так же, как и краски. Будьте же благоразумны — мы взрослые люди.
Да Косса стоял так близко, что я чувствовал запах бриолина и видел сквозь расстегнутый ворот тенниски его волосатую грудь.
— Вообще-то мне нет никакого дела. Я понимаю: вам хотелось произвести впечатление на мадам Вебер, вот вы и купили картину у обнищавшего художника. Так же, как и другие… если существуют другие.
В саду затявкали собаки. Да Косса быстро спросил:
— У вас есть доказательства?
— Ваше слово против моего. По крайней мере я посею сомнения.
— Что вы делали в спальне Леони Винтер?
— Только не занимался грабежом.
Он снова гнусно осклабился.
— Фетишизм? Знал я одного такого… Что до меня, то дамское белье интересует меня постольку, поскольку прикрывает собой нечто более существенное.
— Я счастлив, что у вас естественные наклонности.
— Да уж, не то что у вас, signore.
Мы смотрели друг на друга, как два кобеля перед схваткой. Каждый ждал, чтобы другой укусил первым.
За дверью гостиной послышался стук трости мадам Вебер.
— Как хорошо, что вы остались, Филип, — сказала она, входя. — Нам как раз не хватает одного кавалера. Сегодня на обед маленький осьминожек. Это моя слабость. Вы, два художника, без сомнения, делитесь производственными секретами? Николо, как ваша головная боль? Прошла?
Через минуту комната заполнилась людьми и собаками. Со стороны галереи появилась мадемуазель Анрио, а из прихожей — Леони и Джейн. Леони удивилась моему присутствию и как будто смутилась, но лишь на миг. Я ее не понимал — совершенно. ”Слава Богу, Голландия развязала все узлы”… ”Это к лучшему”… Случайная комбинация кожи, скелета и плоти — красота, которой ее щедро наградила природа, — ничем не заслуженная власть. Нет, тут что-то не так. За этим что-то кроется.
Что толку ругать себя за необъективность? Да, я был пристрастен к ним обоим. С Гревилом меня связывала естественная привязанность. С ней — естественная неприязнь.
Вплоть до самого обеда она меня избегала, но в данной обстановке нам было некуда деться друг от друга. Наконец я подошел к ней и сказал:
— Наверное, вчера я встал не с той ноги. Нельзя ли стереть эту запись и начать сначала?
— А позавчера? — любезно осведомилась она.
— И позавчера.
— … Хорошо. Если вам так хочется.
— Вы не пошли бы прогуляться со мной нынче вечером?
Я наблюдал за тем, как ее тонкие пальцы ломают хлеб. Она долго не смотрела на меня и наконец переспросила:
— Прогуляться?
— Да. Сегодня хорошая, безветренная погода. Давайте отправимся — и посмотрим, куда это нас приведет.
— Я вам скажу: прямо в море. Длина острова четыре мили. Здесь мало ровных мест.
— Значит, полезем в гору.
Она устремила на меня холодный взгляд песочно-зеленых глаз, опушенных густыми ресницами.
— Стоит ли?
— Понятия не имею.
— Вы как будто сомневаетесь во мне — с самого начала. Прогулка тут не поможет.
— Может быть, разговор?..
— У меня тоже есть свои сомнения.
— Попробуем помочь друг другу.
Молодой слуга подошел, чтобы наполнить ее бокал. Леони жестом отослала его прочь.
— Ну что же, идем? — спросил я.
* * *
Мы взобрались на Анакапри и пошли по тропе в Ла Мильяри. Леони была в будничном платье, зеленых замшевых босоножках и широкополой пляжной шляпе наподобие той, что вчера была на мадам Вебер. Только на Леони она сидела по-другому. По сравнению с фотографией четырехгодичной давности ее лицо казалось осунувшимся, истонченным, и меня уже не удивляла фраза из ее письма о том, что ей удалось поспать семь часов подряд. Пожалуй, это и в самом деле было достижением. Но почему?
По ходу разговора Леони упомянула о муже, и я не преминул этим воспользоваться.
— А чем занимался ваш второй муж?
Леони промолчала, и я позволил себе продолжить:
— Скажите, вы и в самом деле показывали в той лавчонке фотографии сводных сестер?
Она остановилась, чтобы сорвать ветку ракитника.
— Спросите мадам Вебер!
— Она сама мне сказала, без наводящих вопросов. Но если у вас были муж и ребенок и вы пережили столь трагическую утрату, зачем было разыгрывать передо мной спектакль?
Она понюхала ветку.
— Это не был спектакль. Просто я не думала, что вам действительно интересно.
— Вы правы. Простите.
Леони бросила на меня быстрый взгляд.
— Спасибо, Филип, за первую искреннюю фразу.
— Я что, никудышный актер?
— Мне трудно судить — не зная пьесы.
Поднявшись на значительную высоту, мы теперь шли по открытому пространству. Если закрыть глаза, можно было подумать, что вы в Дартмуре.
— Это не пьеса, — возразил я, — небольшой экспромт, подсказанный жизнью.
— О, пожалуйста, пожалуйста. Каждый волен произносить свои реплики и производить движения. Какая разница, если они подчас сумбурны и лишены смысла?
— Иногда есть разница.
— В каких случаях?
— Если при этом гибнет некто, достаточно одаренный природой, чтобы быть в состоянии сложить разрозненные явления в картину, не лишенную смысла.
— Вы имеете в виду какой-нибудь конкретный случай?
Я не ответил, и мы пошли дальше — пока не уткнулись в заграждение. Конец тропы — и, показалось мне, конец земли. Мы подошли к самому краю утеса. Далеко внизу — примерно в тысяче футов — плескалось море.
Нас встретил неожиданный порыв ветра, и Леони придержала рукой шляпу.
— Вот и конец пути.
Отсюда мир казался пустынным, это рождало щемящее чувство одиночества, не нарушаемого криками морских чаек. На море была изумительно красивая легкая рябь, похожая на отпечаток человеческого пальца под увеличительным стеклом. Мы увидели лодку с двумя рыбаками; один обвязал голову красным платком.
Леони уронила ветку ракитника, и та сперва упала в траву, затерявшись среди других дикорастущих цветов, а затем, подхваченная ветром, начала спиралеобразное падение в бездну, становясь все меньше и меньше. Леони отвернулась.
— Фу! У меня закружилась голова.
Мы немного — примерно на один ярд — отошли от края обрыва и опустились на мягкий, пружинистый дерн. Я вспомнил ее письмо матери и носовой платок с монограммой ”ГТ” на дне чемодана.
Сняв шляпу, Леони положила ее на траву и встряхнула кудрями. На лоб, словно дразня, упала светлая челка.
— Вы давно занимаетесь живописью?
— О… довольно давно.
— Всю жизнь?
— За исключением двух последних лет.
— Что же случилось?
— Ничего. Просто я перестал рисовать.
— Вы зарабатывали этим на жизнь?
— Нет. В том-то и дело.
— То есть?
Минуту-другую я колебался: стоит ли пускаться в подробности? И решил: не стоит. Однако… Откровенность за откровенность?
— Представьте себе: вы чем-то занимаетесь на протяжении многих лет и даже считаете, что у вас неплохо получается. Но в одно прекрасное утро просыпаетесь с мыслью, что вы уже взрослый человек, а ваши занятия так и не вылились во что-то существенное.
Леони быстрым, скользящим движением подобрала под себя ноги и подоткнула юбку, при этом обозначилась четкая линия бедра.
— То есть не приносит доход?
— Не только. Главное — в глубине души вы отдаете себе отчет в том, что никогда не создадите что-то значительное — даже в ваших глазах.
Она покачала головой.
— Этого я не понимаю.
— Чего?
— Мне кажется: плохо ли, хорошо ли созданное вами, оно не может быть пустой тратой времени. Как бы на это ни смотрели другие.
— Это справедливо лишь для неспособных критически отнестись к собственной работе.
— Нет. Я не согласна.
— Возможно, я ставил перед собой слишком высокие цели.
— Вот это я могу понять, — сказала она.
— Нельзя судить о чем-то с позиций вчерашнего дня.
Леони улыбнулась.
— Кстати, о вчерашнем дне. Ответьте мне на один вопрос.
— Если это в моих силах.
— Чем объясняется ваша грубость — слишком высоким мнением о себе или слишком низким — обо мне?
— Ни тем, ни другим.
Она ждала. Я ушел от ответа и сам спросил ее:
— Где вы живете в Англии?
— Большей часть в Лондоне.
— С родителями?
— Нет. Папу убили на войне. Мама снова вышла замуж, и у меня действительно есть две сводные сестры — вопреки вашему недоверчивому складу ума. Я живу отдельно.
— И занимаетесь плаванием.
— Страшно представить, сколько вы будете знать обо мне ко времени окончания портрета.
— По вашим плечам и рукам не скажешь, что вы пловчиха.
Она положила одну руку на предплечье другой.
— У вас устаревшие представления… о некоторых вещах. Хотелось бы вам нырнуть с обрыва?
— Не особенно.
— Раньше я обожала нырять. Поразительное чувство! Кажешься себе стрелой, пущенной из лука.
Я сказал:
— Может быть, стоит попробовать — когда совсем устанешь от жизни. Это гораздо романтичнее, чем умереть в своей постели… или утонуть в грязном канале.
Наступило мертвое молчание. Откровенно говоря, я не собирался это выкладывать. Леони опустила руки.
— Теперь понятно.
— Что именно?
— Вы все-таки его родственник?
Это просто поразительно, как какая-нибудь дюжина слов производит полный переворот в разговоре и человеческих отношениях.
— Брат. Вы догадывались?
— Вначале. Вы очень похожи на него — хотя и младше, более крепкого сложения. Но общий рисунок… фигура, глаза, голос… Потом я отнесла это на счет игры воображения, — Леони встала. — Спрашивайте, что вы хотите знать, и пойдем обратно.
— Как он умер?
— Об этом мне ничего неизвестно.
— Вы хотите сказать, что не знаете, как это случилось?
— Повторяю: я абсолютно ничего не знаю о его смерти.
Ветер приподнял было отворот ее платья, на мгновение закрыв шею, и снова опустил.
— Сядьте, — попросил я. — Поговорим спокойно.
— Нет, спасибо.
— Вам не кажется, что я имею право спрашивать?
— Мне не кажется, что вы имели право делать это так, как сделали. Если вы хотели что-то узнать о Гревиле, вам не было необходимости… — она перевела гневный взгляд на море.
— Откуда я знал, что вы из себя представляете? Брат никогда не упоминал о вас.
— Естественно.
— Когда вы познакомились?
Она покачала головой и не проронила ни слова.
— Леони, вы должны ответить на этот вопрос. Когда вы с Гревилом встретились в первый раз?
— В Голландии. Месяц назад.
Я тоже вскочил на ноги.
— Вы хотите сказать, что впервые увидели Гревила за несколько дней до его смерти?
— Ну, конечно. А что вы думали?
— Но это невозможно.
— Можете думать все, что вам угодно.
— Погодите, — я схватил ее за руку. — Судите сами — как я могу этому верить? А письмо?
— Какое письмо?
— Найденное у него в кармане. Вы писали, что между вами все кончено.
Леони резко высвободилась и уставилась на меня.
— Я не знала, что у него нашли письмо. Вы хотите сказать… — выражение ее глаз странным образом изменилось, — то, которое я написала?
— Разве вы не писали ему перед своим отъездом?
Она побелела как смерть.
— Нет… Да… Подождите… Это письмо и помогло вам меня найти?
— Отчасти.
— И вы решили…
— Что, по-вашему, я мог решить?
Леони перевела дух.
— Но это же невероятно… — она замолчала, словно не в состоянии продолжать.
— Мне это тоже показалось невероятным, — признался я. — Но вы-то, кажется, должны понимать…
— И как же… Полиция знает о письме?
— Разумеется.
— Они тоже считают, что я имею отношение к смерти Гревила?
— Что бы вы сами подумали на их месте?
Глава XII
Леони выронила шляпу, подняла ее и стала очищать от приставших травинок. Я внимательно наблюдал за выражением ее лица. Наконец я открыл рот, чтобы что-то сказать, но она меня опередила.
— Погодите минуточку. Мне нужно собраться с мыслями.
Я молча стоял и ждал. К западу от нас, на окончании мыса, светился маяк; между ним и тем местом, где мы стояли, громоздились утесы.
Наконец Леони заговорила:
— Расскажите, что именно думает полиция.
— Что Гревил покончил с собой из-за несчастной любви к женщине по имени Леони, жестоко оборвавшей их связь.
— И вы поверили?
— Я — нет. Зная Гревила, я не допускал такой возможности… до встречи с вами.
— Что вы имеете в виду?
— Мне вдруг пришло в голову, что из-за такой женщины, как вы, это вполне могло случиться.
Она задумчиво посмотрела на меня. Я поспешил уточнить:
— Вы не отрицаете факт написания письма?
— Нет, разумеется.
— Что заставило вас написать его?
— Если я скажу, вы мне не поверите.
— А если попытаться? — Она сделала нетерпеливый жест рукой. — Вы должны сказать мне. Это жизненно необходимо.
— Я знала Гревила всего два дня. Не думаю, чтобы перед смертью он читал это письмо.
— Но вы допускаете возможность самоубийства?
— Разве это не дело полиции — установить истину?
— Да — насколько это в их силах. Многое зависит от показаний людей, которые в то время были рядом с Гревилом.
— Меня там не было. В противном случае…
— Почему вы сразу, как только узнали о его гибели, не пошли в полицию и не сделали заявление — если вам было нечего скрывать?
— Я узнала об этом несчастье только в Неаполе. И я не говорила, что мне нечего скрывать.
Я растерялся.
— Послушайте, дорогая, мы должны откровенно обо всем поговорить. Если вы не откроетесь мне, вам придется отвечать на вопросы полицейских.
— Они знают, где я?
— Нет еще.
— Но вы им скажете?
— Это зависит от обстоятельств.
— Филип, мне нечем помочь следствию.
— Это мы решим после того, как вы расскажете все, что знаете.
— Я… не имею права. Это касается еще одного человека, и я… — она смолкла.
— Еще одного человека?
— Да. Я… — она оглянулась, словно ища лазейку, чтобы убежать. — Филип, сейчас я не могу вам ничего сообщить. Мне нужно несколько часов, чтобы во всем разобраться. Я и понятия не имела… ну, совершенно не представляла себе, что мое письмо попало в руки полиции. Ну хорошо, скажете вы, но оно все-таки попало и теперь Леони Винтер не остается ничего иного, как выложить все, что ей известно. Вы абсолютно правы, и будь на вашем месте следователь, я бы так и поступила. Но вы — не следователь, и я прошу вас подождать… хотя бы до завтра. Если вы сообщите в полицию, они все равно раньше сюда не доберутся, так что по срокам выходит то же самое…
Она повернулась ко мне, и мы впервые за все время посмотрели друг другу в глаза. Я понимал, что, если уступлю, вполне возможно, мне придется пожалеть об этом. И все-таки…
— Хорошо.
Она улыбнулась — неуверенно и совсем не так, как вчера. Я хотел еще что-то сказать, но услышал собачий лай.
По тропе к нам быстро шагал какой-то человек. По бокам от него трусили два огромных пса — виляя хвостами и вовсю наслаждаясь свободой.
Это был Сандберг.
Интересно, Леони заметила его раньше меня? Скорее всего, так оно и было.
* * *
Разумеется, я свалял дурака, выложив ей все, а затем дав время опомниться. В ожидании Сандберга Леони достала компактную пудру и привела в порядок лицо, но по его выражению Сандберг наверняка догадался, что мы вряд ли обсуждали красоты местного пейзажа.
Мы втроем двинулись обратно; каждый чувствовал себя не в своей тарелке. Наша с Сандбергом взаимная антипатия достигла апогея. Леони завела разговор о Голубом гроте — очевидно, сочтя эту тему наиболее безопасной. На ее вопрос я ответил, что никогда его не видел и вообще избегаю всего, что относят к признанным чудесам света.
— Вы правы, — заметила она, — там всегда полно туристов, но сам грот производит неизгладимое впечатление. Чарльз утверждает — не правда ли? — что самое лучшее время — рано утром, на восходе солнца.
— Я бы сказал, — поддержал ее Сандберг, — что художнику, озабоченному проблемами колорита, необходимо посетить это место. Обязательно побывайте там перед тем, как уедете. Другой такой возможности может не представиться.
— Возможно, я так и сделаю — перед отъездом.
— Стало быть, очень скоро.
— Не имею понятия.
— Давайте как-нибудь отправимся туда, — предложила Леони.
— С удовольствием.
Сандберг подобрал камешек и швырнул подальше, играя с Джимбелом, однако не рассчитал, и бедный пес угодил в чей-то виноградник.
— Как подвигается портрет мадам Вебер? — осведомился Сандберг. — Мы так до сих пор ничего и не увидели.
— А вы рассчитывали увидеть?
— Я? По правде говоря, не особенно.
— Филип и работал-то всего пару часов, — вступилась за меня Леони.
— Мне потребуется по меньшей мере еще одно утро, чтобы по-настоящему приступить к работе.
— Мадам Вебер — очень занятая женщина, — процедил Сандберг сквозь зубы.
— Я терпелив.
Сандберг проверил свою правую руку с идеальным маникюром — не запачкалась ли? — и сунул в карман парусиновой куртки.
— Я бы сказал, что оценка этого качества зависит от того, на что оно направлено. Если на что-то действительно стоящее, такое, что и впрямь даст высокую отдачу, тогда все в порядке. Но употреблять терпение на бессмыслицу, показуху, даже мошенничество — этого я не понимаю.
— Вы в самом деле так считаете или вам выгодно так считать? — осведомился я.
Он медленно повернулся ко мне.
— Мы как-нибудь продолжим этот разговор, мистер Нортон.
Последовало напряженное молчание, нарушаемое лишь возней Мейси у меня под ногами.
Мы начали спускаться.
* * *
В отеле меня ожидала телеграмма: ”Буду Неаполе завтра тринадцать часов тчк Noli irritare leones[11], Мартин”.
Как это походило на Мартина! Каламбурить даже в телеграмме!
На следующее утро я сел на катер и поехал в аэропорт Каподицино. Я видел, как Мартин проходил таможенный досмотр. Затем он направился ко мне, все такой же красивый и будто снедаемый тайной печалью. Я впервые видел его в цивильной одежде и подумал: прихватил ли он с собой неотразимый морской бушлат? После обмена рукопожатиями он сказал:
— Интересно, куда деваются состарившиеся стюардессы?
Я ответил в тон:
— Они никогда не старятся, а выходят замуж и растят новых стюардесс: в данном случае требуется специфическое воспитание. Что слышно об ограблении?
— Три четверти украденного нашли на следующий день — грабители просто бросили все это на дороге. То ли их кто-то спугнул, то ли они сообразили, что так называемое серебро — продукт гальванизации. К сожалению, они не вернули мои любимые сигары ”Эль Торо”.
Я взял его чемодан и книгу, которую он читал в самолете: ”Назидательные новеллы” Сервантеса.
— Итак, — Мартин понизил голос, — вы разыскали и девушку, и Бекингема?
— Да. Я должен извиниться перед вами, что действовал в одиночку, в то время как только благодаря вашим связям получил зацепку. Но тогда я был склонен полагать, что и эта ниточка оборвется. Просто меня накололи на двести гульденов.
— А теперь вы уверены, что это не так?
— Да — что касается девушки. И в какой-то мере — Бекингема. Но мне нужно, чтобы вы подтвердили его идентичность.
Я рассказал Мартину обо всем, что произошло на вилле ”Атрани”, и как далеко мне пришлось зайти. Он слушал с углубленным вниманием. Он вообще был прекрасным слушателем — не из тех, чьи глаза так и бегают, пока вы рассказываете. Закончил я так:
— Я надеялся до вашего приезда завершить дело, но не вышло.
— Она дала объяснение письму?
— Нет еще.
— Не слишком ли вы рискуете? Она может предупредить Бекингема.
— Это не имеет принципиального значения. Только вы можете его опознать, а о вашем приезде никому не известно.
— Она действительно очень красива?
— Да, но не настолько, чтобы я полностью утратил способность объективно смотреть на вещи.
Хотел бы я сам быть в этом уверенным!..
Лицо Мартина утратило угрюмое выражение и осветилось неожиданно мягкой улыбкой.
— Я просто так спросил. Подождите минуточку, я дам телеграмму матери, что благополучно долетел.
Вернувшись от окошка телеграфа, Мартин задумчиво произнес:
— Хотел бы я знать, как им удалось напасть на ее след в Голландии, в то время как все усилия полиции оказались безрезультатными? Ловенталь — тот еще проходимец. Мне лишь однажды довелось иметь с ним дело по какому-то ничтожному поводу.
— Вы говорите о клерке, что ко мне приходил?
— Нет-нет. Ловенталь — здоровенный тип, — Мартин потер подбородок. — Эти ранние рейсы… Надо будет еще раз побриться. К сожалению, в этой местности у меня нет никого знакомых. У вас уже есть план действий?
— Хочу подвести ваше суденышко прямо под нос его корабля и посмотреть, что получится, — сказал я, пользуясь его излюбленной морской терминологией.
— А если это не Бекингем?
— Я буду чертовски разочарован.
Мы сели в автобус. Мартин двумя пальцами отбросил волосы, упавшие на лоб.
— Расскажите еще раз обо всем, что случилось в Голландии.
Я поведал ему о своем втором визите к Толену, ужине с графом Луи Иоахимом, неудачной попытке встретиться с их сотрудником, который должен был вернуться с Явы, и закончил обещанием Толена написать, если он сообщит что-либо ценное.
— Хотел бы я посмотреть на полицейского, который пишет письма, — Мартин мрачно уставился на здание аэропорта. — Интуиция подсказывает мне, что вам еще предстоит вернуться в Голландию.
— Вы полагаете, решение загадки — там?
— Да. — Я молчал, и Мартин добавил: — Мне трудно объяснить. Просто предчувствие.
— Значит, по-вашему, дело не в Леони и Бекингеме?
Он немного подумал и передернул плечами.
— Все это кажется мне абсурдом. Не могу взять в толк… Ну, да ладно. Как вы представляете себе мою встречу с Сандбергом-Бекингемом?
— Сегодня вечером у мадам Вебер соберутся гости — она каждые два-три дня устраивает коктейли. Сандберг наверняка придет. Я получил разрешение привести приятеля.
* * *
Я ждал этого вечера с нетерпением — гораздо большим, чем мог себе в том признаться. Если быть последовательным, мне бы следовало разжиться в Неаполе огнестрельным оружием, а не холстом, подрамником, кистями и красками.
Конечно, из всего этого мог получиться пшик. Это был чистейший блеф с моей стороны. Если очная ставка не даст результатов, мы окажемся там же, откуда начали. Но я не допускал подобного развития событий.
Я забронировал для Мартина номер в отеле ”Веккио” и был поражен, с какой легкостью он завоевал расположение молодой помощницы управляющего. Скоро весь персонал жаждал ему угодить. При этом он не прилагал никаких усилий и оставался все таким же подавленным. И все равно сделался всеобщим любимцем.
Было уже довольно темно, когда мы отправились на виллу ”Атрани”. Мартин шагал рядом со мной, явно нерасположенный разговаривать. Не знаю, ощущал ли он ту же гнетущую напряженность, что и я. Во всяком случае, главным теперь было поджечь фитиль и отбежать подальше.
У ворот я задал ему вопрос:
— Как вы думаете, Бекингем вас узнает?
— Думаю, что да.
Я покосился на его смутно белевшее в сумерках лицо.
— Мартин, я никогда не спрашивал, но… у вас есть личный счет к этому человеку?
Он замялся.
— Почему вы спросили?
— Ну… может быть… вы слишком терпеливы для стороннего наблюдателя.
Он улыбнулся, но это не помогло мышцам его лица расслабиться.
— Вначале я сам не отдавал себе отчета в том, насколько сложно мое отношение к нему. Когда-нибудь я расскажу вам об этом. Возможно, когда вы найдете ответ на свой вопрос, для меня тоже наступит момент истины.
Мы пошли по тропе.
От парадного к нам навстречу метнулись оба пса — они ласкались ко мне и, вставая на задние лапы, приветствовали Мартина. На крыльце стояла Шарлотта Вебер — в нелепом мешкообразном платье и с густо накрашенными глазами. Она махнула тростью, чтобы мы следовали за ней в дом.
Там сегодня был полный сбор; мои глаза выхватывали из толпы знакомые лица: Николо да Коссы, Джейн, Гамильтона Уайта, мадемуазель Анрио, синьора Кастальони — грузного итальянского судовладельца, с которым я вчера познакомился за обедом.
В гостиной не стихал гул голосов. Кого-то кому-то представляли и тотчас забывали об этом. Звучали ничего не значащие реплики.
— Он здесь? — тихо спросил Мартин.
— Нет, — ответил я. — Я не вижу ни Сандберга, ни Леони Винтер.
Прибыло еще человек шесть, потом еще. Скоро здесь будет яблоку негде упасть. Грандиозный прием — не то, что в прошлый раз. Казалось, мадам Вебер собрала у себя половину всех модников острова. Здесь был какой-то субъект в шортах, с огненно-рыжей бородой; дама в шляпе с орнаментом из соломы, к которой были прикреплены сделанные из тонкой жести изображения животных. Мое внимание привлекла также тучная пожилая дама в донельзя узких оранжевых брюках.
Неожиданно рядом раздался голос хозяйки виллы:
— Дорогой Филип, мастер Кайл не желает пить ничего, кроме ”скотча”, это его любимый напиток. Будьте ангелом… — она перевела одобрительный взгляд сияющих глаз на моего товарища. — Как мило, что вы пришли, капитан Боксер. Мы немного выбиты из колеи: у меня сроду не собиралось столько гостей. Я, конечно, польщена, но боюсь, что моих запасов джина может оказаться недостаточно.
— Вы не знаете, где Леони? — поинтересовался я.
— Наверху. Она неважно себя чувствует и прилегла. Но обещала скоро быть. Дорогой мистер Уикли, как это любезно с вашей стороны! Хотите ”манхэттен”? — и мадам Вебер как волной смыло. Я остался стоять с лишним бокалом в руке.
— Кайл? — удивился Мартин. — Она сказала ”мастер Кайл”?
— Да. Вон тот лысый старик у окна.
— Господи! Да, это он. Когда-то я хорошо его знал. Думал, его уже давно сожгли в крематории.
— Идемте, удостоверимся. Полагаю, нам лучше держаться вместе.
Поминутно извиняясь и пару раз не избежав столкновения, мы пробрались к окну. Старик энергично чесал лысину, горячо что-то доказывая мадемуазель Анрио. Я отдал ему бокал ”скотча”. Он перевел на меня все еще сердитый взгляд — словно ожидая розыгрыша. Я представил Мартина Коксона.
— Коксон? — Кайл впился в моего спутника взглядом. — Какой Мартин Коксон? Внук лорда Калларда? Что же вы сразу не сказали? Пятнадцать лет!..
— Больше, — поправил Мартин. — Я и не предполагал, что вы еще живы.
Кайл насупился.
— Значит, вы просчитались. Я был на десять лет моложе Калларда, а ему сейчас было бы никак не больше восьмидесяти. Чем вы занимаетесь? Должно быть, после войны угомонились, осели на одном месте? Кажется, в свое время вас выдвигали на Почетный диплом?
— Учителя этого не допустили. Кажется, полвека прошло с тех пор, как я забирался к вам на крышу и подвешивал к трубе кухаркины панталоны.
— Да. Столько воды утекло! Вы были настоящим дикарем и не очень-то почтительным внуком. Помнится, Каллард неоднократно жаловался на ваше непослушание.
Я увидел поверх голов, как в гостиную вошла Леони. Косметика не могла скрыть ее мертвенной бледности. Она окинула комнату взглядом. Искала Сандберга? Заметив мадам Вебер, она подошла и о чем-то спросила. Та не успела ответить, как Леони увидела меня. Мадам Вебер взяла ее за руку и что-то сказала. Леони принужденно улыбнулась, высвободила руку и начала протискиваться к нам.
— …И более того, — продолжал Кайл. Кажется, он сменил тему. — Хотя ни сам остров, ни его фауна не доставляют мне особого удовольствия и я тоскую по суровой красоте родной Шотландии, мягкий здешний климат больше подходит человеку моего возраста.
Подошла Леони и обдала меня таким холодом, что я вздрогнул. Какой контраст с ее вчерашним обращением!
— Мне очень жаль, что вы плохо себя чувствуете, — пробормотал я.
— Пустяки. Я просто перегрелась на солнце. И не нуждаюсь в ваших соболезнованиях. — Она перевела взгляд на Мартина.
Я поторопился представить их друг другу.
— Это мой друг, капитан Коксон. Миссис Винтер.
Мартин устремил на Леони взгляд темных глаз.
— Филип много говорил о вас, миссис Винтер, — он сделал продолжительную паузу и добавил: — Я восхищен вашим дивным островом. Он превосходит все ожидания.
— Это не мой остров, капитан Коксон. Мы владеем им сообща. А вообще-то юридическое право владения до сих пор принадлежит императору Августу.
— Не знаю, как он собирался распорядиться этим правом. Он, несомненно, был одним из величайших деятелей мира — вопреки мнению Вольтера. Какая жалость, что Гай рано умер, не успев стать продолжателем его дела.
К тому времени, как Мартин окончил свою речь, Леони явно подпала под его еле заметное, но тем не менее весьма ощутимое влияние. На ее лицо вернулись прежние краски. Он вновь вышел победителем, и я почувствовал острую боль и раздражение. Как же легко ему дается победа!
Через несколько минут Леони обратилась с каким-то вопросом к Кайлу, и тот начал что-то говорить, но его слова утонули во взрыве хохота неподалеку от нас. Я не отводил глаз от Леони, и она это заметила.
— Филип, вы не могли бы принести мне чего-нибудь выпить? Я умираю от жажды.
— Конечно.
Когда я вернулся с бокалом, Мартин и Кайл предавались воспоминаниям об охотничьих угодьях Шотландии, а Леони, прислонившись к стене, рассеянно обводила взглядом гостиную; в ее глазах застыла боль.
Я спросил:
— Как вы думаете, где сейчас Сандберг?
— Поехал на своей яхте рыбачить.
— Я надеялся его увидеть.
— С какой стати? Он терпеть не может светские коктейли, — она жадно, едва не пролив, схватила бокал.
— Они, без сомнения, неотъемлемая часть общественной жизни, — возразил я. — По мере убывания джина прибавляется откровенности. Голоса звучат громче; рушатся преграды между людьми. Как вы находите моего друга?
— Он… весьма занимателен. Вы позвали его на помощь — чтобы вместе обыскивать спальни?
— По-вашему, мне не следовало этого делать?
— Конечно. Вы и сами превосходно справляетесь.
— Я был вынужден. Простите.
Она по-прежнему держала в руке полный бокал вина; по его внешней стенке покатилась капля и, упав ей на руку, застыла, точно кровь.
— Кто мог вас вынудить? Почему вы явились сюда под чужим именем? Какой во всем этом смысл?
— Никакого — если вы и дальше будете так кричать.
— Вы, по-видимому, считаете себя знаменитым частным сыщиком из тех, что ставят на карту свои жизнь и честь ради десятка долларов в день плюс покрытие издержек? Что вы ожидали найти у меня в спальне? Труп женщины в черной нейлоновой пижаме?
Я махнул рукой.
— Что ж, издевайтесь!
Больше Леони не проронила ни слова. Просто стояла, прислонясь к стене, напряженная, как тетива лука.
Я не выдержал.
— Вы упускаете из виду, что среди декораций данного спектакля действительно был обнаружен труп — только не в черной нейлоновой пижаме. Согласитесь, это несколько меняет дело. И если вы думаете, что ваше презрение помешает мне довести дело до конца…
Тут как раз подошел слуга-итальянец и вновь наполнил наши бокалы. Я заглянул Леони в глаза и увидел все ту же боль — отнюдь не физического происхождения. Она заморгала и отвела их.
К нам присоединился Мартин и попытался ее растормошить. Тотчас явилась побледневшая, но неутомимая Шарлотта Вебер. Она показалась мне птицей с перебитым крылом, полной решимости щебетать до конца. Кончилось тем, что она увела с собой Леони, а меня как-то оттеснили от Мартина. Гости продолжали прибывать. Я бы с удовольствием ушел, но меня удерживала непогасшая надежда на появление Сандберга.
Я не стал больше пить, зато жадно поглощал всю пищу, что подворачивалась под руку. Чьи-то острые локти тыкались в спину; ко мне прижимались чьи-то бедра. Пахло духами и потом. Смуглая женщина в шляпе с фигурками животных со значением посмотрела в мою сторону, но, видимо, поняла, что овчинка не стоит выделки, и уплыла в другой конец гостиной. Рядом остановился высокий лысый господин с заострившимся носом и затеял разговор о литературной ситуации в Италии. Мне потребовалось добрых пять минут, чтобы убедить его в своем полном невежестве в данном вопросе.
Наконец мне удалось ретироваться на галерею. Здесь тоже было несколько человек. Воздух был напоен ароматами цветов и довольно прохладен. С балюстрады свисали цветы и плоды лимонного дерева. Я коснулся одного плода и с наслаждением поднес палец к ноздрям. Вдали мерцали огни Неаполитанского залива. Я протер глаза, уставшие от сигаретного дыма. Кто-то вышел из комнаты и, увидев меня, подошел ближе. Это оказался Гамильтон Уайт.
— А я думал, вы уже ушли, мистер Нортон. Поедете завтра с нами на морскую прогулку?
— Какую прогулку?
— К Голубому гроту. Я там ни разу не был и у себя в Штатах даже не узнал бы о его существовании, если бы не провел пару недель на этом благословенном острове, где он считается достопримечательностью номер один.
— Вот как? Но я ничего не знаю. А кто едет?
Он как-то странно посмотрел на меня.
— Леони, Джейн и Николо. Сандберг предоставил в наше распоряжение шлюпку. Отбываем на рассвете. Я слышал, вас тоже собирались пригласить.
В это время дверь скрипнула, и на галерею скользнула Леони. Она нас не видела, а, скорее всего, направлялась в сад. Уайт окликнул ее. Она подошла к нам, и я поразился, как расширились и потемнели ее глаза; зато лицо оставалось мертвенно бледным.
— Я пригласил Филипа на завтрашнюю прогулку, — сообщил Гамильтон Уайт. — Он еще не дал ответа.
— Я только что об этом узнал.
— Не думаю, — сказала Леони, — что Филипу интересно. Ему доставит гораздо больше удовольствия остаться на вилле и допрашивать прислугу.
— Как это? — Уайт переводил изумленный взгляд с меня на Леони и обратно. — Допрашивать? Я не улавливаю…
— Это у нас с Леони такая шутка, — пояснил я.
— В таком случае, если решите ехать…
— Я уже решил. Присоединяюсь к вам.
— Вот и чудесно. Мы условились встретиться на причале Пиккола Марина ровно в пять тридцать. Да, кстати… кажется, с вами друг? Не знаю, хватит ли в шлюпке места…
— Не хватит, — отрезала Леони. — Чарльз просит, чтобы было не более пяти человек.
— Мартин Коксон не обидится, — пообещал я.
Глава XIII
На обратном пути я поделился с Мартином разочарованием, которое мне принес этот вечер. Он некоторое время молчал, а когда заговорил, то словно обращаясь к самому себе:
— Это просто поразительно. Я думал, у меня давно выработался иммунитет на некоторые вещи… — он спохватился и посмотрел на меня. — Отсутствие Бекингема подпортило этот вечер, однако у нас еще есть время. Кстати, Леони — высокооктановая штучка!
— Она сегодня сама не своя.
— Красивым девушкам свойственно капризничать.
— Не в этом дело. Да Косса проболтался.
Я поведал Мартину о намеченной на завтра морской прогулке. Он не без раздражения произнес:
— А известно ли вам, что мадам Вебер пригласила нас обоих на завтрашний ужин? Интересно, что заставляет ее ублажать всю эту публику? Откровенно говоря, я не любитель дам старше пятидесяти. Они как обломки кораблекрушения — плавают, полузатопленные, на поверхности, угрожая в любой момент пропороть вам днище.
— По-моему, ей ничего не известно. Я склонен полагать, что Сандберг просто пользуется ее виллой.
Мартин остановился у какой-то стены и сорвал дикорастущий цветок.
— Вот настоящая аристократия этого острова. Возможно, они цвели здесь еще до нашествия финикян. Я часто задаюсь вопросом: что является подлинным венцом природы — мы или они? — Он положил цветок в записную книжку и спросил с сосредоточенным выражением лица: — Чем вы собираетесь заняться после прогулки? Кажется, она обещала рассказать все, что касается письма?
— Да. Честно говоря, сегодня у нее не было такой возможности. Меня беспокоит вот что: вдруг Сандберг почуял опасность и сбежал?
— Покинул остров? С какой стати? Ведь никто не знал о моем приезде. И никому не известно, что я знаком с Бекингемом.
Прежде чем лечь спать, я расшифровал значительный кусок дневника Гревила, но он большей частью свелся к описанию раскопок. Я чуть не бросил это занятие — и вдруг наткнулся на запись, сделанную за десять дней до отъезда с Явы.
”Наконец-то я снова на ногах, хотя чувствую себя все еще неважно. Отметил начало выздоровления первой стычкой с Бекингемом. Черная неблагодарность с моей стороны: ведь он так заботился обо мне все время болезни. Трудно было бы желать лучшего ухода. Четыре дня подряд мне было совсем худо; должно быть, я преувеличивал свою физическую крепость. Накатило ни с того, ни с сего: час терпимо, час лихорадка треплет так, что хоть волком вой. Температура сто четыре и три десятых. Принимал хинин. Почти всю первую ночь Джек был на ногах, беспрестанно менял мне грелки. Поутру в голове немного прояснилось и перестала мучить жажда, но после обеда опять стало хуже. Дальше плохо помню: жар во всем теле, а ноги окоченели; пытался встать, но меня удержали силой. Джек заставлял меня принимать лекарство и много пить, поддерживал огонь в очаге. В бреду мне постоянно слышался его голос; он будто бы утверждал, что мне удалось решить основные проблемы филогенеза. Жаль, что я не помню, как именно. Подозреваю, что в последующие ночи он также не ложился спать. И при этом еще ухитрился занести в каталог и упаковать почти все наши находки, не говоря уже о руководстве ходом работ. Цены ему нет!
Наша ссора началась с разногласий относительно рабского труда, концлагерей и всевозможных унижений человеческого духа. Он утверждает, будто никакая человеческая воля не устоит перед техническими средствами, применяемыми в подобных местах. Человек какой угодно силы духа способен превратиться в животное, барахтающееся в первородной грязи. Такие эксперименты проводятся и еще шире будут проводиться по мере развития научно-технического прогресса, поддержанные на первоначальной стадии средствами массовой пропаганды, а на заключительной — насилием. Личность не имеет ни малейшего шанса на то, чтобы выжить.
У меня подобные теории вызывают абсолютное неприятие. Если бы это действительно было так, человек оказался бы во власти той полнейшей безысходности, о которой пишет Уильям Джеймс; вселенная сомкнулась бы вокруг него, превращая его в сгусток страха, — без мыслей, без чувств, без малейшей надежды впереди.
Я процитировал это Бекингему, но добавил от себя, что считаю такой поворот событий совершенно невозможным, а подобное мировоззрение — непростительным для человека, его достоинства и образования. Если рухнут основные принципы нашей цивилизации, все на свете утратит цену.
В ответ Бекингем сослался на христианство, но я возразил, что христианство — всего лишь часть цивилизации. На Западе многие отрицают религию и ее догмы. Философия гуманизма значительно шире, она черпает отовсюду: из христианства, иудаизма, чего угодно; вбирает в себя все выработанные человечеством ценности, независимо от расовых, религиозных и классовых различий. Отрицать эту философию — значит предать жизнь вообще.
Бесспорно, я не стал бы так горячиться, если бы человеконенавистническая теория исходила из уст примитивного человека, чье мнение для меня ничего не значит. Над дураком можно только смеяться, но уважаемый вами друг, высказывая подобные взгляды, может вызвать приступ гнева.
Позднее он вышел вслед за мной из палатки и принес свои извинения.
Я также извинился, и между нами воцарилась даже большая гармония, чем прежде. Последовала гладкая дискуссия об организмах, обитающих на дне озера. Должен признаться, наши споры и беседы приобрели для меня даже большую ценность, нежели раскопки”.
* * *
В ту ночь я плохо спал — отчасти из-за прочитанного. Осталось всего несколько страниц, и пару раз меня подмывало встать и завершить эту работу. Без четверти пять я поднялся, побрился и, надев синий трикотажный свитер и серые хлопчатобумажные брюки, вышел на улицу.
Было еще темно. Миновав неширокую аллею и свернув на шоссе, я поднял голову и не увидел звезд. Небо над островом было обложено тучами. Чтобы зря не беспокоить обитателей виллы ”Атрани”, мы договорились встретиться на причале Пиккола Марина. Я начал спуск с холма с невеселой мыслью о том, что, возможно, договоренность о прогулке — всего лишь хмельная шутка, о которой сегодня даже не вспомнят.
Предрассветная тьма абсолютно не похожа на мрак ночи. Остров дышал покоем. Добравшись наконец до последнего крутого поворота, я различил три человеческие фигуры, суетившиеся на маленькой пристани; то и дело мигал электрический фонарик. К этому времени вдали показалась небольшая полоска света.
Я побежал к ним по галечному пляжу.
— Ага, вот и он! Доброе утро, Филип! — воскликнула Джейн. — К сожалению, у нас наметились разногласия. Вы умеете предсказывать погоду?
— Навряд ли, — признался я и поискал глазами Леони. Она стояла, прислонившись спиной к скале. Также не поздоровавшийся со мной да Косса хмуро смотрел в морскую даль. — А где Уайт?
— Нам не удалось его поднять. Он буркнул, что плохо себя чувствует, но я подозреваю, кто он просто не пришел в себя после вчерашнего. Гости засиделись далеко за полночь. Теперь вот и Николо не хочет ехать.
Да Косса повернулся к нам.
— Третий раз говорю: надвигается шторм. Я хорошо знаю приметы.
— Какой шторм? — я не спускал глаз с Леони. — Если обыкновенная гроза, то она не причинит нам вреда.
— Если не считать того, что вымочит до нитки. Однако это еще не все. Поднимается ветер. Вы думаете, если сейчас море спокойно, оно таким и останется? Печальное заблуждение!
Джейн передернула плечами.
— Вы, должно быть, правы. Но мне очень не хочется сдаваться — после того, как мы совершили подвиг, поднявшись в такую рань. Я просто сойду с ума от злости, если мы останемся на берегу, а ничего не случится. Николо, вы берете на себя большую ответственность.
— Ничего, я выдержу.
— А что думает Леони? — спросил я, намеренно втягивая ее в разговор.
Она не повернула головы. За нее ответила Джейн:
— Леони считает, что нужно ехать.
— Я того же мнения.
— Трое против одного, — засмеялась Джейн и погладила да Коссу по руке.
— Нортон пусть сам отвечает за себя. Он взрослый человек и может делать все, что ему заблагорассудится. Но я не меняю своего решения. Я всю жизнь прожил на этом острове; нырял и плавал здесь, еще когда Джейн не было на свете. Нет, я не еду сегодня в Голубой грот и прошу вас последовать моему примеру.
Светлая полоса на горизонте лишь подчеркивала угрожающий вид огромной, висящей над морем тучи.
— Ну что ж, — вздохнула Джейн, — давайте отложим.
— Лодка прочная, не так ли? — спросил я.
— Конечно.
— Да Косса может остаться.
— Джейн тоже не поедет, — настаивал он. — Это опасно.
— А ты как думаешь? — спросила Джейн подругу.
Наконец-то Леони заговорила:
— Мне все равно. Отложим, если хотите.
— Зачем же откладывать? — воскликнул я. — Да Косса предельно ясно сформулировал вопрос. Мы можем отправиться в путь на свою ответственность.
— Джейн не поедет, — твердил Николо.
— Ей самой решать. В крайнем случае мы поедем с Леони.
И тогда она впервые пристально посмотрела на меня.
— Вы считаете это удачной мыслью?
— Вполне.
Невзирая на напряженность, я почувствовал, что в наших отношениях что-то сдвинулось: прежняя враждебность перешла в какое-то другое чувство.
— Хорошо, — решила Леони. — Я еду с Филипом.
* * *
Когда мы пустились в плавание, было прохладно. Наружный двигатель запросто мог заглохнуть, так что я занял место рядом с ним на корме, а Леони села на весла, как можно дальше от меня. Но все равно получилось не слишком далеко.
Из-за ее неразговорчивости на причале я ждал, что она поведет атаку с той точки, на которой мы остановились вчера вечером. Но теперь я понял: это не так. Кровь бешено пульсировала у меня в жилах. Даже то, что в течение первых десяти минут мы не проронили ни слова, казалось, ничего не значило.
От Пиккола Марина до грота путь немногим длиннее, чем от Марина Гранде. Из нашей маленькой лодки прибрежные скалы имели довольно-таки грозный вид, и я старался держаться подальше от берега. По мере наступления рассвета опасность врезаться уменьшилась; я направил шлюпку ближе к береговой линии и обогнул тысячефутовый утес, на котором мы стояли пару дней назад. Глубина моря здесь составляла шестьдесят или семьдесят саженей. Вдали прогромыхали раскаты грома.
— Далеко еще? — спросил я.
— Нет, не очень. Правда, я была там только один раз.
Вспышка зигзагообразной молнии позолотила утесы и край тучи. Мы ждали грома: он немедленно последовал. Однако море оставалось спокойным. Вода казалось густой, вязкой и как будто затягивала лодку. Я правил, стараясь избежать столкновения с полузатопленной скалой, нацелившей на нас хищную морду. Наконец мы достигли следующего мыса.
— Леони…
— Да?
— Почему вы согласились поехать со мной?
— А что, не следовало?
— Я думал, вы постараетесь избежать встречи наедине.
— Я была очень груба вчера вечером?
— Я дал вам повод.
— Надеюсь, когда-нибудь я смогу объяснить свое поведение.
— Значит, причина не та, что лежит на поверхности?
— Что вы имеете в виду?
— Вторжение в вашу комнату.
— Нет.
Бриз растрепал ее волосы, и она пригладила их руками.
— Я рад, что сегодня вам лучше.
— Разве? Нет, к сожалению, все не так просто.
Я не сводил с нее глаз.
— У вас вид кариатиды, поддерживающей мироздание.
— Всего лишь маленькую и довольно жалкую его часть.
— Может быть, мне будет легче судить об этом, если вы все расскажете?
— К сожалению…
— Что?
— Филип, вы по-прежнему с-ставите меня в тупик. Может, сначала вы расскажете мне больше о себе?
Она опустила руки, но ветер не унимался и в мгновение ока нарушил наведенный ею порядок: волосы взметнулись, образовав вокруг ее лица светящееся облако.
— Объясните мне по крайней мере одно, — попросила Леони.
— Что?
— Почему вы так остро восприняли смерть брата?
— Разве это не естественно?
— Да, конечно… Но в таких случаях людям свойственно испытывать горе, а в вашем отношении присутствует что-то еще… разве не так?
— Вы очень догадливы.
— Не знаю… Сейчас будет вход в пещеру — вон за той скалой.
Я заглянул в узкую щель между скалами, к которой мы приближались. Леони сказала:
— Обычно здесь дежурит лодка — собирают плату за въезд. Но мы их опередили.
Мне на голову упало несколько капель. Сверкнула молния, и сразу же послышался гром — оглушительнее, чем прежде.
— Если уровень воды поднимется, в пещере может быть опасно, — предупредил я.
Ее ответ меня поразил.
— Подумаешь, опасно. Кому до этого дело?
Я заглушил мотор, убрал весла внутрь лодки и подгреб ближе к узкому просвету между скалами.
— Пригнитесь, сейчас мы проскочим внутрь.
Вход был таким маленьким, что пришлось скрючиться в лодке и подтягиваться, держась за свисающую сверху цепь. Наконец лодка плавно скользнула внутрь пещеры.
Не знаю, насколько был прав Сандберг, утверждая, что раннее утро — наиболее подходящий момент для посещения грота, но в чем он не ошибся, так это в том, что без экскурсоводов эффект гораздо сильнее. Несколько минут мы тихо качались на легких волнах, относящих нас к дальнему концу пещеры. Вода становилась все голубее и голубее.
Я опустил весла, и мне почудилось, будто лопасти вспыхнули голубым неоновым светом. Я пошевелил веслом в воде — словно разрезал кусок переливчатого синего шелка.
Прошло немало времени, прежде чем я обрел дар речи.
— Я не ошибаюсь — в этой пещере скрывался Тиберий?
— Да, это так. Отсюда был ход в его резиденцию. Он нырял с уступа. Лаз так и не нашли — за восемнадцать столетий!
— Где этот уступ?
— Здесь, немного правее. Сохранилось несколько ступенек.
Я сказал — неожиданно для себя самого:
— Мой отец застрелился, когда мне было семь лет. Он думал, что один в доме, но я находился в саду и, услышав выстрел, прибежал и увидел его. Гревилу тогда было семнадцать, а Арнольду — двадцать один. Через четыре года умерла мама. С тех пор Гревил заменил мне отца и мать, стал моим идеалом; я во всем подражал ему, хотя, к несчастью, не обладал его талантами. Все говорили, будто я на него похож — не только внешне, но и какими-то импульсами, реакциями. А еще говорили, будто я похож на отца. И вот они умерли… практически одинаково…
Я снова опустил весла и рассеянно следил за голубым сиянием. Леони не шевелилась. Я еще раньше заметил за ней это качество — подолгу смотреть или слушать в абсолютном молчании.
Наконец она нарушила тишину:
— Почему ваш отец…
— Врач сказал, что у него опухоль, — возможно, злокачественная. Нужна была срочная операция.
— Да, это уважительная причина.
— Однако образование оказалось доброкачественным — это подтвердило вскрытие.
После непродолжительной паузы Леони произнесла:
— Все равно это можно понять и простить.
— Разумеется.
Нас медленно несло обратно, к выходу из пещеры.
— Я ни минуты не верил, что Гревил убил себя. Но, если он все-таки это сделал, причина должна была быть исключительно веской. И если то, что вы до сих пор сказали, правда, тогда ни одно из доступных нам объяснений не выдерживает критики.
— Ни одно из доступных вам объяснений…
— В общем, теперь вам известна моя история.
Леони задумчиво посмотрела на меня.
— Боюсь, я не смогу отплатить вам такой же откровенностью.
— Это зависит от вашего желания.
Она покачала головой.
— Вы верны памяти погибшего брата. Возможно, я тоже храню верность…
Я подождал, но она так и не закончила фразу. Снаружи раздался какой-то странный звук, и я подгреб ближе к выходу.
Нам в глаза ударил дневной свет. Потом мне показалось, будто море ожило и кишит тысячами маленьких рыбок. Еще через несколько секунд стало ясно, что это дождевые пузыри — сверху низвергались водные потоки. Снова сверкнула молния и громыхнул гром. Я развернул шлюпку и отплыл подальше вглубь грота. Дождь, словно густая мокрая завеса, отгородил нас от внешнего мира.
— Придется переждать здесь, — сказал я Леони.
— Да. Хотите искупаться?
— Я ничего с собой не взял: как-то не подумал. А вы?
— Я — да. Но…
— В таком случае купайтесь. Я не тороплюсь.
— Если я расскажу вам все, что смогу, вы обещаете… в качестве одолжения… закончить расследование и уехать с Капри? Жить своей жизнью…
— Станет ли то, что вы расскажете, ответом на все вопросы?
— Нет… не знаю.
— В таком случае вы можете угадать мой ответ.
— Вы не уедете?
— Нет, Леони, вы только напрасно сотрясаете воздух.
— Кажется, вы правы.
— Я не уверен, что захотел бы уехать — в настоящий момент, — даже если бы ваш рассказ расставил все точки над ”i” в деле Гревила.
— Почему?
Я наблюдал за тем, как она водила пальцами по воде.
— Идите, поплавайте. Простите, что не могу составить вам компанию.
— Это лишь отдалит неприятный разговор.
— На каких-то десять минут. На этот раз вы никуда не денетесь.
Она помедлила — одну или две секунды.
— Может быть, это освежит мою голову. — Она вытащила из сумки белую купальную шапочку и, надев на голову, затолкала под нее выбивающиеся кудряшки. Под кофточкой и брюками на ней оказался купальник.
— Я отведу лодку в сторону.
Шлюпка качнулась: это Леони встала и прыгнула за борт. На протяжении нескольких секунд я ее не видел. Потом брызги улеглись, вода успокоилась, и я замер от восхищения.
Мог ли я ожидать что-либо подобное? Все тело Леони источало бледно-голубое свечение. Это было чудо, в котором равным образом участвовали огонь и вода. Леони плыла не торопясь, чувствуя себя совершенно в своей стихии. Каждое движение ее красиво округленных рук и ног, каждый изгиб прекрасного тела были подчеркнуты этим свечением. В то же время это зрелище носило в высшей степени одухотворенный характер, в нем не было ничего сексуального. Словно передо мной была не женщина, а творение Праксителя.
Наконец она всплыла на поверхность и двинулась дальше. Переливчато-синяя рябь разошлась волнами до стен пещеры. Кажется, Леони нащупала что-то, за что можно было уцепиться.
— А вот и уступ. Здесь должны быть ступени.
Она высунулась из воды; покрывшие ее тело алмазы мигом исчезли, и я потерял ее из виду. Я подгреб ближе.
— Вы их видите?
— Здесь есть какое-то углубление, но я не могу разобрать, лаз ли это.
Я подождал, но она не произнесла больше ни слова, полностью растворившись в полумраке пещеры. Немного погодя я разглядел на каменной стене железный крюк и набросил на него веревочную петлю. Затем вскарабкался вслед за девушкой на уступ. Здесь было еще темнее. Я наклонился, сделал шаг вперед и едва не столкнулся с Леони.
— О, Господи! Я не слышала, как вы подошли. Чуть не приняла вас за Тиберия.
— Ну что вы, он постарше и посолиднее.
Леони вернулась к краю уступа и посмотрела вниз. Я стоял рядом. Тяжело дыша, она подняла на меня глаза.
— В эти минуты, — прошептал я, — все, что я могу вам сказать, покажется выспренним, неуклюжим, лживым. А другое мне не приходит в голову.
Ее губ коснулась легкая улыбка.
— Не лживым, нет. Неуклюжим — может быть. В любом случае, я не хочу, чтобы это прозвучало.
Она сделала еще один шаг вперед, подняла руки и почти без брызг вошла в воду — чтобы в то же мгновение снова стать волшебным существом, недавно поразившим мой взор.
Она несколько минут резвилась в воде; кувыркалась, всячески изгибалась, меняя стили. Я прыгнул в лодку и поплыл вдоль стен пещеры. Снаружи плескались волны.
Леони вынырнула и начала подниматься в лодку. Я нагнулся и протянул ей руку; лодка накренилась. Наконец Леони очутилась в шлюпке. В ней вновь произошла перемена, но совсем иная. Мы сели рядышком на корме; я не отрывал от нее восхищенного взгляда. Она сняла купальную шапочку и тряхнула волосами. В полумраке ее тело кремово блестело.
Через минуту Леони неуверенно произнесла:
— Надо ехать, Филип. Подумаешь — дождь.
— Подумаешь — дождь, — согласился я.
Она также не отрывала от меня глаз.
— Может быть, нам… Термос в сумке.
Я обнял ее за плечи. Она казалась большой теплой рыбиной. На ее коже стыли капельки воды. Я наклонился и поцеловал ее. Она не отстранилась, но и не ответила на поцелуй. Мои руки скользнули ей под мышки, и я начал целовать ее лицо и шею. Она хотела что-то сказать, но передумала и вдруг сама поцеловала меня — и тотчас высвободилась, все той же рыбиной выскользнула у меня из рук.
— Не нужно, Филип.
Мое лицо было близко-близко от ее лица; я видел мельчайшие детали ее бровей, щек и губ.
— Чтобы у вас не оставалось сомнений — это вторая причина, по которой я не собираюсь уезжать.
— Если бы это было правдой…
— Это правда.
Леони замерла и вдруг снова начала вырываться; ее глаза наполнились слезами.
— Господи! — простонал я. — Если Гревил и не покончил с собой из-за вас, кажется, я сам это сделаю. В чем дело, Леони? Почему вы такая? Я не в силах угнаться за вашими мыслями или понять, что все это значит. Вы ничего не говорите, ничего не отдаете и ничего не берете. Если бы я мог хоть на мгновение заглянуть вам в душу! Дайте мне хоть какой-то ключ к тайне! Почему ваше поведение столь алогично?
Она выпрямилась и закрыла глаза рукой.
— П-простите… Ч-черт!..
— Вы тоже меня простите, — я пересел ближе к веслам.
— Бросьте мне мои вещи, пожалуйста.
Я передал ей одежду, и она начала сражаться со свитером.
— Вам нельзя оставаться в мокром купальнике. Неизвестно, сколько мы еще здесь проторчим.
— Ничего страшного.
— Не глупите, Леони. Я отвернусь.
— О!.. Хорошо.
Через несколько минут с той стороны послышалось:
— Я уже готова.
Я молча направил лодку к выходу. Там все еще бушевала водная стихия.
— Хотите кофе?
— Да, благодарю вас.
Я налил ей из термоса и выпил сам. Видит Бог, я в этом нуждался!
— Простите, — произнесла она, — что от меня так мало толку.
— Это как посмотреть.
— Вы поняли, что я имею в виду.
— Ну… Мне не хотелось бы быть несправедливым. К примеру, вы удовлетворяете мое эстетическое чувство.
— Большое спасибо.
Долгое молчание. И вдруг:
— Мои поступки — и раньше, и теперь — могут казаться вам лишенными всякого смысла. Я смотрю на них иначе. Возможно, если я объясню… то немногое, что я в силах и вправе объяснить… они покажутся вам не столь абсурдными. Но для этого придется вернуться к моменту смерти Тома и Ричарда… вернее, тому, что за этим последовало. Вам будет неинтересно, но корни всего происходящего — в прошлом.
— Мне будет интересно.
— Их смерть на какое-то время совершенно выбила меня из седла. Я не видела для себя никаких перспектив и попросту плыла по течению. В это время и в этом состоянии я встретила одного человека. В Сен-Жан-де-Люзе, он приехал туда на несколько дней. Он был старше меня, приятен в обращении, интеллигентен, внимателен — словом, обладал всеми мыслимыми и особенно необходимыми мне в тот момент достоинствами. — Леони запнулась и поморщилась. — Наверное, он с самого начала отвечал чему-то отчаянному, безрассудному во мне самой — во всяком случае тогда. Он не придерживался общих правил. Вы могли долгое время находиться рядом с ним, даже неплохо знать его — и все-таки многие стороны его натуры оставались для вас непостижимыми. Он не распространялся о своем прошлом: где был, что делал… В каждую минуту в нем присутствовало что-то новое, неразгаданное — а вам, чтобы разгадать, было не на что опереться. Еще я думаю, что он обладал даром проникать в ваши мозг и душу, угадывать мысли и чувства другого человека. Это облегчает жизнь, но таит в себе немалую опасность. Так или иначе, в моем тогдашнем существовании не было смысла — он придал ему смысл. — Она помолчала, словно взвешивая свои слова. — Мы сошлись…
— Понимаю.
— Сначала я не придавала значения, но потом довольно сильно увлеклась. Чувства не поддаются управлению. Нельзя перевернуть страницу и сказать себе: так, мол, и так, я хочу того-то, сделаю то-то…
Кофе приятно согревал внутренности. Я развернул сэндвичи и надкусил один.
— Спустя некоторое время, примерно через три месяца, я отдала себе отчет в том, что какие-то концы не сходятся. Начались денежные затруднения; мы прожили почти все мои свободные средства. Его поведение в этом смысле было странным — не то чтобы бесчестным, но… иногда он ведет себя так, словно стоит выше общепринятых моральных норм. Мы пытались залатать прорехи. Потом он уехал на Дальний Восток, и за целый год я получила всего два письма. Наконец от него пришла телеграмма из Джакарты — раньше это называлось Батавией…
— Да, я знаю.
— Он просил меня встретить его в Амстердаме. Я почувствовала, что должна ехать. Когда вы с кем-то связаны, вы забываете о каких-то недостатках, а если и помните, то надеетесь на их исправление. Но меня постигло горькое разочарование: он не изменился.
— Гревил приехал с ним?
— Да. И он путешествовал под другим именем.
— Бекингем?
Леони взглянула на меня.
— Да. Они казались близкими друзьями — этот человек и ваш брат. Я поняла — несмотря на то, что только что познакомилась с Гревилом, — что он искренен и с его стороны это сильная, исполненная доброты, чистосердечная привязанность. Что же касается Бекингема — начать с фальшивого имени, — то, зная его, я догадалась: он затевает что-то бесчестное. Конечно, я не знала, что именно, но, судя по некоторым признакам… Я не хотела в этом участвовать. Если такова была цена воссоединения с ним — мое содействие в каких-то темных махинациях, которые он даже не пытался объяснить, — я сочла ее слишком высокой, — Леони запнулась и поводила пальцем по борту лодки. — О дальнейшем вы можете догадаться.
— Вы хотите сказать, что письмо было адресовано Бекингему? Но каким образом оно очутилось в кармане у Гревила?
— Я сама попросила вашего брата передать его Бекингему. Не хотела с ним встречаться. На таких, как он, слова не действуют. Возможно, если бы он был мне совсем безразличен… но, когда вас раздирают противоречия, очутиться лицом к лицу с человеком, которому присущ страшный дар манипулировать людьми… Он всегда добивался своего.
— Он просил вас вернуться?
— Да. Дал понять, что теперь у него есть деньги — или вот-вот будут. Хотел, чтобы я поселилась вместе с ним на континенте — где-нибудь поближе к Средиземному морю… Но я не знала, можно ли принимать это всерьез. Всякий раз, когда у него появлялись деньги, он начинал вести себя так, словно имеет неограниченный кредит… Простите, я не слишком внятно выражаю свои мысли.
— Я все же не понимаю, что побудило вас отдать письмо Гревилу.
Леони надела босоножки и с трудом — из-за не до конца обсохших ног — застегнула их.
— Вы не доели свой сэндвич.
Она выпрямилась и поднесла бутерброд ко рту. Концы ее влажных волос подсохли и начали виться.
— Приехав в Голландию, я остановилась в отеле на Доленстраат. Они прибыли на следующий день. Доктор Тернер поселился в отеле ”Гротиус” — для него там заранее забронировали номер. Бекингем хотел остановиться в моем отеле, но там не оказалось свободных номеров. В первый день мы много времени провели вместе, а назавтра договорились встретиться в ”Гротиусе”: было условлено, что доктор Тернер сводит нас — или меня одну — в Индийский музей. Но у меня пропало желание.
Она немного помолчала и продолжила:
— Конечно, можно было взять и уехать — безо всяких объяснений. Но мне не хотелось впоследствии упрекать себя в трусости. И я решила поговорить с… Бекингемом. Однако его не было в отеле, и я отправилась в ”Гротиус”. Его и там не оказалось. Что касается Гревила, то администратор сказала, что он занят, и попросила меня подождать. И тут я написала записку — с расчетом отнести ее в отель, где жил Бекингем. Но как раз в это время сверху спустился Гревил в сопровождении двух мужчин. Пока он провожал их до двери, я быстро дописала несколько фраз, сунула письмо в конверт и, когда Гревил подошел, попросила передать письмо Бекингему. Он обещал, и больше я его не видела.
Я предложил Леони еще один сэндвич, но она покачала головой. Я завинтил крышку термоса, завернул оставшиеся сэндвичи и убрал в сумку.
— Вы запечатали конверт?
— Да.
— Он не был надорван. Видимо, клей растворился в воде. Вы его не надписали?
— Нет. В этом не было необходимости, и я очень спешила.
— Как выглядели двое, приходившие к Гревилу?
— Я их плохо помню. Похожи на голландцев, среднего возраста, в серых плащах.
— Гревил был чем-то расстроен?
Леони подвернула опустившийся рукав кофточки.
— Да… Да.
— Он не сказал вам ничего необычного?
— Нет. Только, что ждет Бекингема.
— А дальше?
— Филип, это все, что я могу рассказать.
Мы оба помолчали. Я заговорил первым:
— Кажется, дождь кончился.
— Да… Вы мне верите?
— Конечно. До сих пор я верю всему, что вы сказали.
— Какое может быть ”конечно”?
— Для меня это так.
В ее глазах мелькнула тревога.
— Вы все еще намерены остаться — и все усложнить?
— Да. Я уже говорил вам: для этого есть две причины.
— Их не должно быть.
— И тем не менее они существуют.
Я повел лодку к выходу. Рискованный маневр, требующий точного выбора времени.
— Больше вы ничего не скажете?
— Я и так сказала слишком много.
— Вы поставили Бекингема в известность, что собираетесь сообщить мне кое-какие сведения?
Леони вскинула голову.
— Филип, нам пора возвращаться!
Снаружи лился ослепительно яркий свет. Я еще с минуту всматривался в лицо Леони, но потом сдался.
— Вы готовы?
— Да.
Я втащил в лодку весла и ухватился за цепь. Мы сжались на дне шлюпки, и лодку вынесло туда, где уже царило теплое, яркое утро. Туча уже не могла полностью заслонить солнце, и оно обрушило свои потоки на бурное серо-коричневое море, которое в это время совсем не походило на Неаполитанский залив, каким мы привыкли его видеть.
Сначала меня ослепило, а потом я был слишком занят — нужно было как можно скорее отойти от скал. И вдруг я увидел лодку — ту самую, что каждое утро поджидала желающих проникнуть в грот. Двое сидевших в ней итальянцев были безмерно удивлены нашим появлением. Но они мигом смекнули, что к чему. Я завел мотор и приблизился к ним.
— Сколько?
— Двести лир, синьор.
Я отдал им деньги и сказал:
— Сегодня вода в гроте изумительного цвета.
Один из них посмотрел на Леони и сочувственно улыбнулся.
— Ни слова, синьор. Я вас прекрасно понимаю.
Глава XIV
— Пожалуй, нам лучше держать курс на причал Марина Гранде, — предложил я. — В той стороне не такой сильный ветер.
— Хорошо.
Туча сдвинулась; небо на горизонте меняло цвет.
— Леони, — сказал я, — почему вы изменили свое решение?
— То есть?
— Там, в Голландии, вы порвали с Бекингемом. А теперь пытаетесь защитить его от меня.
— Это не совсем так.
— Он здесь, на острове?
Она наклонилась, чтобы поднять купальник. Я любовался ее фигурой, светящимися растрепанными волосами, тем, как кофточка обрисовывает линии тела.
— Если бы то немногое, что я могу добавить, помогло бы вернуть вашего брата к жизни… Но его не вернуть. Вы должны жить своей жизнью.
— Это я уже слышал.
— Но это правда.
— Если сейчас все останется так, как есть, вряд ли собственное общество доставит мне большое удовольствие.
— Как знать. Но…
— Вы мне верите, что Бекингем — опасный человек?
— В какой-то мере — да. Очень.
— Судя по тому, что вы рассказали, вы не могли бы предать его, даже если бы захотели. Все, что в ваших силах, это опознать его. Разве не так?
— Так. Но это повлекло бы за собой многочисленные последствия.
— Может быть, мне известно о нем больше вашего. Фамилия Бекингема уже и раньше всплывала в полицейских сводках. Он был замешан в грязных махинациях. Теперь ваша очередь верить мне, Леони! Я не обманываю.
— Да, Филип, я думаю, так оно и есть.
— Но вы об этом не знали?
— Конкретно — нет. Однако я допускала, что его прошлое не без темных пятен.
— Возможно, он даже убийца. Неужели вы не понимаете?
Она разложила на скамье и свернула купальник.
— Неужели вы станете его покрывать?
— Если вам угодно назвать это так…
— А как вы сами это называете?
Она умоляюще взглянула на меня.
— Молчите, Филип. Молчите. Я сказала все, что могла. Хотите вызвать полицию — вызывайте. От меня они больше ничего не узнают. Я просто не могу сказать! Не имею права!
У меня задрожали губы.
— Хорошо. Оставим это. Я хочу спросить у вас только одно… последнее… можете не отвечать, если вам тяжело. Он вам все еще небезразличен?
После такой долгой паузы, что я уже подумал: она готова уступить, — Леони с трудом разлепила губы.
— Да. Он мне небезразличен.
* * *
По возвращении в отель меня ждало переправленное сюда письмо с Явы. Я догадывался, что оно от Пангкала, но сунул нераспечатанным в карман и заглянул к Мартину. Он как раз кончал завтракать и, набивая рот, одновременно бегло набрасывал какие-то мысли на форзаце томика Сервантеса.
На душе у меня было скверно.
Выслушав мой рассказ, он захлопнул книгу и отложил карандаш. Резко, так что ножки стула со скрипом проехались по полу, встал и, подойдя к окну, мрачно заметил:
— Боюсь, что, торча здесь, мы только напрасно теряем время. Как вы рассчитываете заставить этих людей давать показания, если они не расположены это делать?
— Там посмотрим.
— Вызвать полицию — тоже вряд ли будет толк. Они не расколются. Интуиция по-прежнему говорит мне, что, если и существует ключ к разгадке, он — в Голландии. Гревил нашел свою смерть на пороге заведения Джоденбри, я в этом уверен.
— Это от нас не уйдет. Но сначала нужно закончить здесь. Прояснить все до конца.
После шторма стояло чудесное утро. Ранний подъем как нельзя более кстати удлинил мой день. Я отпустил Мартина на пляж, а сам отправился за своими долларами в банк. И еще успел попасть на берег к половине двенадцатого.
На нашем обычном месте нежились на солнышке да Косса и Джейн. Я остановился в отдалении, но Джейн расслышала хруст гальки, подняла голову и окликнула меня. Я помахал ей рукой в знак того, что присоединюсь к ним чуточку позже, хотя на самом деле не собирался этого делать. Да Косса вскинул голову, но не удостоил меня приветственного кивка.
И вдруг я увидел по другую сторону небольшой бухточки Мартина и Леони, сидящих на валуне. Они явно только что вышли из воды, потому что их мокрые тела сверкали на солнце. Я разделся до плавок, но не спешил составить им компанию. Может быть, Мартин окольным путем выведает больше, чем я.
Я лег, подставляя тело проникающим солнечным лучам. На душе было муторно. Я пытался убедить себя, что причина кроется в неуспехе моего предприятия. Даже не просто неуспеха. Кажется, я сам безнадежно закрыл все входы и выходы.
Возможно, я взвалил на себя непосильное бремя. Если в мире существует добро, никто не поручал мне священную миссию спасать его; если существует зло, не мне выкорчевывать его с корнем. Жизнь будет продолжать идти своим извилистым путем, не помышляя о морали и справедливости. Лучше и не пытаться найти во всем этом смысл. Наверное, я всю жизнь слишком многого требовал и слишком мало давал. Буду и впредь продавать турбореактивные двигатели либо помогать Арнольду — это поможет мне как-то скоротать жизнь подобно миллионам других, идущих проторенным путем и не пытающихся создать свой собственный мир — это под силу только гению.
Леони дважды подчеркнула, что я должен жить своей собственной жизнью. Но что это такое — моя жизнь? В чем моя задача? Сан-Франциско и Мидленд ушли далеко в прошлое, стали мелкими и незначительными. Все заслонили тайна Гревила да Бекингем, и вот теперь Леони… вот теперь Леони… Все прочее отступило в тень.
Ласковые солнечные лучи принесли относительное успокоение; меня разморило, и я погрузился в приятную дремоту. Тревоги и разочарования стали казаться не столь фатальными. Я грезил, будто нахожусь в Англии, на берегу озера. И вдруг его таинственная глубь взглянула на меня глазами Леони, и ее голос произнес: ”Если бы я могла вернуть к жизни вашего брата — но я не могу. Никак не могу! Он по-прежнему покоится в амстердамском канале”. Глаза исчезли, и я увидел тело Гревила на дне озера. Я вздрогнул и отвернулся, но по песчаному пляжу мне навстречу шел Гревил; вместо хруста гальки слышался явственный хруст костей. Я проснулся и резко сел; мимо шла высокая итальянка, от ее туфель отскакивали мелкие камешки.
Антураж остался прежним. Джейн с Николо все так же, не меняя поз, жарились на солнце; Леони с Мартином обсыхали, сидя на валуне. Я вспомнил о письме с Явы и выудил его из кармана. Да, это был ответ Пангкала на мой запрос, сделанный из Голландии. В голове у меня немного гудело, но я начал читать письмо.
”Дорогой сэр.
Спасибо за ваше только что мною полученное письмо. Смерть вашего уважаемого брата повергла всех знавших его в безутешное горе. Я говорю, конечно, и о себе и шлю вам и вашей семье свои искренние соболезнования. Ваш брат был достойным человеком, и его дело будет продолжено — в его честь.
Вы спрашиваете меня о мистере Джеке Бекингеме, который помогал ему во время моей злосчастной болезни. Прилагаю подробный отчет. Должен признаться, мне уже приходилось отвечать на вопросы официального чиновника из Амстердама, но этим переговорам не хватало доброй воли — с обеих сторон.
Мистер Бекингем присоединился к нам за четыре дня до начала моей болезни, и позже этого срока я его не видел. Ваш уважаемый брат познакомился с ним в гостях у одного фермера из Голландии, ныне живущего в Сурабае, а затем привез его в наш лагерь. Мистер Бекингем рассказал, что его судно потерпело крушение во время тропического шторма; он был единственным, кто уцелел, но остался без средств к существованию. Весь его облик и манеры производили хорошее впечатление; он с энтузиазмом говорил на археологические темы. Конечно, он был всего лишь любителем и не обладал в полном объеме подготовкой доктора Тернера, но его познания охватывали широчайший спектр — от тольтеков до этрусков и от Индонезии до острова Пасхи.
В тот первый вечер они до глубокой ночи — мне было слышно с того места, где я спал, — беседовали об останках древних ископаемых, которые Бекингем будто бы обнаружил в русле Уртини, в тридцати милях от тринильских раскопок. Откровенно говоря, мне это показалось маловероятным, зато доктор Тернер пожелал убедиться лично, тем более что наши находки последнего времени носили малозначительный характер. Поэтому было решено перенести лагерь туда. Перед самым отъездом на нас напали разбойники — к моему глубокому прискорбию, мои соплеменники. Они позарились на провизию и на оба наших джипа. Вмешательство доктора Тернера только осложнило дело; я уже начал бояться, что его возьмут в плен ради выкупа. Зато мистер Бекингем проявил поразительную находчивость и беспощадность к преступникам. Он тотчас уложил обоих вожаков на месте, а остальные члены шайки бросились врассыпную.
На следующий день мы перебрались туда. Слова мистера Бекингема подтвердились. Правда, я до сих пор придерживаюсь того мнения, что найденное там относится к более позднему периоду, но доктор Тернер думал иначе. И тут я заболеваю. Меня в бессознательном состоянии доставляют в больницу.
Так вот — что я могу сообщить о Бекингеме? Судя по чистейшему выговору, он англичанин, хотя должен заметить, что он в совершенстве владеет еще несколькими языками. В разговоре с доктором Тернером он часто приводил неизвестные мне имена и географические названия. Видите ли, мне двадцать восемь лет; с пятнадцати до девятнадцати я принимал участие в партизанской борьбе против японцев, а в двадцать два — против голландского гнета. Отсюда — пробелы в моем образовании.
Я не могу говорить о тех неделях, когда ваш уважаемый брат и этот человек работали вместе в мое отсутствие, однако постараюсь со всем возможным тщанием описать его внешность.
Мне всегда бывает трудно определить возраст европейца, особенно в тех случаях, когда человек носит бороду. Однако, полагаю, ему в районе сорока или немного меньше. Он довольно высок — приблизительно метр семьдесят пять; сухощав — килограммов семьдесят — восемьдесят; у него темные, почти черные прямые волосы; резко очерченное продолговатое лицо; глубоко посаженные глаза при ярком освещении кажутся карими, а в тени — черными, словно маслины. Он красив, но очень редко улыбается. Носит небольшую бородку клинышком. Руки довольно волосаты; на левой руке две родинки: примерно в девяти и одиннадцати сантиметрах от запястья. Зубы — свои, немного пожелтели от никотина; на обоих глазных зубах коронки, а один зуб — перед левым глазным — отсутствует. Из-за недостаточно гладкой кожи и особенностей строения лица, когда на него падает свет сбоку, возникают причудливые тени. Когда Бекингем улыбается, его лицо утрачивает свою обычную угрюмость и как бы освещается изнутри, на нем появляется теплая, дружелюбная улыбка. Он как будто втирается в доверие, и доктор Тернер не избежал общей участи — не без ущерба для себя самого. Я поневоле задаюсь вопросом: неужели наводимые вами и голландской полицией справки свидетельствуют о причастности этого человека к несчастью с вашим братом? У Бекингема мелодичный голос: помнится, он исполнял незнакомые для меня песни. Доктор Тернер назвал их немецкими балладами. Когда Бекингем поет — и не только, — волосы падают ему на лицо, и он поправляет их двумя растопыренными пальцами правой руки.
К сожалению, это все, что я могу сообщить. Надеюсь, вы меня извините, так как я еще не совсем здоров; болезнь могла отразиться на моей памяти.
Позвольте еще раз засвидетельствовать вам мое глубочайшее почтение и выразить соболезнования по поводу безвременной кончины вашего брата.
Искренне ваш, Гани Пангкал.
P.S. У меня нет абсолютной уверенности, отсутствует ли у Бекингема правый или левый из малых коренных зубов”.
Я сложил письмо и положил обратно в доставленный авиапочтой конверт. Убрал в задний карман брюк и застегнул кнопку, а брюки, аккуратно сложив, поместил перед собой, вместе с рубашкой. Джейн решила, что ее спина уже достаточно поджарилась, и повернулась лицом к солнцу. Да Косса бросал в море камешки. Хлоп, хлоп, хлоп…
У самого берега показалась чья-то голова. Это Леони, пока я читал письмо, переплыла на нашу сторону бухточки, намного опередив Мартина. Она подошла ко мне и встряхнула волосами.
— Я не видела, как вы пришли. Давно?
— Минут десять назад, — ответил я.
— Что-то случилось?
— Случилось? Ничего.
— Вы побледнели.
— Просто задремал и увидел плохой сон. Вот и все.
Она улыбнулась и села чуть поодаль, в тени скалы. Я заметил у нее на запястье золотой браслет, который она не снимала.
— Какой же сон?
— Мне снилось, будто добро — это зло, а зло — добро, и никто не в состоянии отличить одно от другого.
— Не верю.
— И правильно делаете. В снах не бывает таких тяжелых противоречий. Это удел реальной жизни.
Леони посмотрела в ту сторону, откуда из-за бугра показалась черноволосая голова. Потом нагнулась и застегнула ремешки на туфельках. На щиколотке виднелось пятнышко то ли смолы, то ли дегтя.
Я сказал:
— Кажется, мы сегодня приглашены к ужину?
— Разве? — она снова взглянула на подходившего Мартина. — Да, кажется…
Когда он приблизился, она, как бы защищаясь, встала и прислонилась к скале.
Мартин в плавках сильно отличался от Мартина в одежде. Продолговатое, с тонкими чертами, лицо, глубоко посаженные глаза и нездоровый цвет кожи создавали обманчивое впечатление хрупкости. Теперь от него не осталось и следа. У него оказалось сильное, мускулистое тело — такое же хрупкое, как оснащенный всем необходимым броненосный крейсер. В его облике присутствовало что-то напряженное, нервное, но это нисколько не меняло общей картины.
— При таком сильном течении нужно очень энергично барахтаться, чтобы не пойти ко дну, — сказал Мартин. — В воде вы дадите мне сто очков вперед, миссис Винтер, — он сел на валун; с него стекали крупные капли. С минуту он настороженно разглядывал нас обоих. — Странно, что я никогда не чувствовал себя в воде в своей стихии. В случае крайней нужды я, пожалуй, мог бы проплыть полмили, но это уже предел. А вы, Филип, не хотите искупаться?
— Сейчас. Леони, со шлюпкой ничего не случится? Я чувствую себя ответственным.
— Не беспокойтесь. Чарльз уже вернулся и послал туда слугу. Я пойду переоденусь.
И она направилась туда, где лежали Джейн и да Косса. Мартин следил за ней.
— Итак, Чарльз вернулся. Это Сандберг?
— Точно, — подтвердил я, глядя, как он привычным движением двух пальцев убирает прядь со лба. Да. Все, что благодаря ревнивому чувству запечатлела память Пангкала, было на месте, вплоть до родинок на руке. Первоначальная догадка, полуосознанная тень подозрения, от которой я дважды отмахнулся, в конечном счете оказалась правильной.
Глава XV
Когда существуешь бок о бок со смертью, как мадам Вебер в последние пятнадцать лет, испытываешь естественную потребность в обществе других людей. Вот почему она наводняла свои владения гостями — сколько могла вместить вилла. В этот вечер собралось двенадцать человек, в том числе Чарльз Сандберг. Я познакомил с ним Мартина и незаметно наблюдал за обоими — правда, еще вчера я смотрел бы на них совсем другими глазами.
Ко мне подошел Сандберг.
— Надеюсь, вам понравился Голубой грот, мистер Нортон?
Я поднял на него глаза, ожидая встретить сарказм и недружелюбие. Ничего подобного.
— Спасибо. Он произвел на меня огромное впечатление. И надежно укрывает от дождя. С вашей шлюпкой все в порядке?
— Да. Не стесняйтесь, пожалуйста, если она вам еще понадобится.
Я поблагодарил, гадая, чему обязан столь неожиданной метаморфозой. Что — случайное совпадение или ирония судьбы — заставило Сандберга именно сейчас переменить свое отношение?
— Вам бы следовало взглянуть на яхту Сандберга, — обратился я к Мартину. — Должно быть, море — любимая женщина для вас обоих.
Сандберг снисходительно улыбнулся, по привычке кривя рот.
— К счастью, наша возлюбленная обитает не за семью замками, так что ревность исключается.
— Не совсем, — заметил Мартин. — Я завидую всякому, у кого хватает денег и свободного времени, чтобы в полной мере насладиться ее благосклонностью. Море — как проститутка, предпочитающая толстосумов.
Перед тем как идти ужинать, я поймал взгляд Мартина — он опустил большой палец. Это был условленный знак. Я все гадал: что-то он скажет?
Весь день после прочтения того письма я ощущал странный привкус во рту — то ли меди, то ли крови. Меня захлестывали волны ярости, темнело в глазах. После обеда я получил еще одно письмо — от инспектора Толена, — но до сих пор не нашел в себе сил прочитать его и решить, что делать. Все, что я сейчас мог, это наблюдать и ждать.
Мы отдали дань обильной еде и возлияниям. Под конец разговор перекинулся на мелкое воровство, которое, по словам мадам Вебер, было совершенно не свойственно местным жителям.
— Как все естественные пороки, — с пошловатой улыбкой добавила она. — В свое время Тиберий оставил нам в наследство склонность к извращениям; этот дух и поныне не выветрился окончательно.
— Не понимаю, — подхватил да Косса, — как можно в наши дни говорить об извращениях? Разве психиатрия не доказала, что наше поведение обусловлено одними и теми же подавленными инстинктами?
Неплохая затравка для застольной беседы, но, как я и предполагал, никто в этой компании не спешил за нее ухватиться. Сандбергу, а затем Уайту удалось выдавить из себя несколько слов. Впрочем, постепенно Уайт разошелся. До тех пор он вел себя тише воды, ниже травы: очевидно, давало себя знать вчерашнее похмелье.
— Как вам известно, я противник этой теории. Я зарабатываю на жизнь в суде, а там довольно часто приходится слышать, как психоаналитики на все лады толкуют поведение преступника. Это исключительно вредно.
— Почему?
— Потому что присутствующий тут же подсудимый — ах он, бедняжка! — слышит, что злодейство произошло не по его вине — эта вина возлагается на мать или отца, которые сделали то-то и не сделали того-то, когда он был в трехлетием возрасте. Судьи редко клюют на такие вещи, но все равно это вредно со всех точек зрения, ибо вместо того, чтобы поставить его на место, преступника возносят на некую высоту. Он остается при убеждении, что он не злодей, а жертва, не понятая обществом.
Мартин подал негромкий голос:
— Я всегда верил, что на сто процентов являюсь объектом психоанализа.
Сандберг не поддержал его шутливый тон, а с горечью произнес:
— Снятие комплекса вины и есть основная цель психоанализа, а также причина его бешеной популярности. Кто-то сказал, что, если бы Бога не было, его следовало бы выдумать. Двадцатый век вместо Бога подставил Фрейда.
— Но, дорогой Чарльз, — вмешалась мадам Вебер, — что же в этом плохого? Главное, от чего страдали наши предки, и есть комплекс вины. Он постоянно портил им кровь. Укорачивал жизни. Во всяком случае, с моей матерью было именно так: над ней всю жизнь довлело понятие греха. Я буду до последних минут жизни возносить хвалу Зигмунду за то, что он содрал с нас власяницу — за весьма умеренную плату.
Уайт покосился на Сандберга.
— Я и не знал, Чарльз, что ты тоже противник Фрейда. В Штатах я часто кажусь себе вопиющим в пустыне.
— Это относится и ко многим другим странам. Очень удобная философия — даже удобнее религии.
— Я лично, — возразила Джейн Порринджер, — никогда не считала ее удобной.
— Ну что вы, дорогая. Ведь нам вдалбливают в голову, что все наши поступки определены подсознанием, а за него никто не отвечает. Нам говорят: стоит постичь скрытые пружины конфликта — и дело в шляпе. Больше ничего не требуется, никаких усилий. Сегодня это магистральная линия. Совсем никаких хлопот, — Сандберг обежал глазами собравшихся за столом; при этом мне показалось, будто в его обращенном на меня взоре зажглись лукавые огоньки. — Ну, конечно! Они утверждают, что мы не должны бороться с тем, что заложено в подкорке, потому что это насилие над личностью. Нам предписывается сидеть сложа руки, пока психоаналитик обнаруживает вышеупомянутые пружины. Давая выход естественным импульсам — любого свойства, — мы, оказывается, предотвращаем эскалацию конфликта. Позволяя нашим детям возиться в грязи, устраивать бедлам в доме и вступать в половые отношения в раннем возрасте, закладываем фундамент для их ответственного поведения в будущем.
— Безответственного поведения, — возразил мастер Кайл. — У нас уже было таких два или три поколения.
— Не понимаю, — сказал Мартин, опустив глаза и очищая персик, — что вы имеете против безответственности? Неважно, диктует ли это Фрейд или здравый смысл, это — возврат к естественному существованию.
— Скорее, возврат к анархии, — возразил Сандберг.
— Можете назвать это так. Почему бы и нет?
— Я мог бы объяснить вам, почему нет. Но главное — вы правы, нас ждет именно это. Потому что как только мы перестанем испытывать ответственность за свои поступки и даже за пагубные желания, их порождающие, это будет означать конец нашему пониманию проблемы добра и зла, конец нравственному закону как главной движущей силы общества.
— Может, нам следовало бы создать новую мифологию, — предположила мадам Вебер. — Ева съела яблоко в Эдеме, и люди познали Добро и Зло. А теперь кто-то съест грейпфрут в саду Фрейда — и это вернет нас в прежнее состояние неведения. Всего-навсего обратная процедура.
— Мадам Вебер, — обратился к ней Мартин, — вы одна из самых просвещенных женщин, каких мне доводилось встречать.
— Это не просвещенность — буркнул Сандберг, — а обыкновенное дурачество.
— Но, Чарльз…
Мартин положил нож на стол.
— Нет, серьезно, не пора ли смотреть на вещи открытыми глазами? Хватит копошиться среди обломков старой цивилизации. Пора понять, что мы присутствуем при рождении новой. Толкуют о втором Ренессансе. Что ж, пусть. Можно подобрать любое благозвучное название. Важно только отдавать себе отчет в том, что рождается не новый жанр искусства, а новая мораль — нравится нам это или нет. Устаревшие табу больше не имеют значения. Ровным счетом никакого.
Я не сводил с него глаз.
— Устаревшие табу?
— Да, Филип. Человек, который придерживается тех или иных нравственных догм только потому, что в них верили его деды и прадеды, похож на безумца, пытающегося заклинаниями остановить разлив Миссисипи. Если люди во что-то верят, это еще не наделяет ту или иную философию чудодейственной силой. Мы сильны только независимостью суждений. За последние двадцать лет перед учеными рухнули все барьеры физического мира. Пришла пора покончить с нравственными барьерами, а также всевозможными преградами на пути человеческой мысли. Пусть они рушатся! Начнем сначала, будем мыслить свежо и непредвзято — если не хотим захлебнуться в болоте подобно мегатериям и динозаврам.
В голосе Мартина звучали особые нотки, признаки прорывающейся страсти, как бывает, когда человек садится на любимого конька. А может быть, и не только…
Мастер Кайл встрепенулся, как старый пес, у которого норовят отобрать кость.
— Мартин, дело не в том, во что верили наши отцы и деды, а в соглашении, заключенном между людьми тридцать веков назад. Существуют абсолютные — или близкие к абсолютным — ценности. Не понимающий этого — болван, а понимающий, но делающий вид, будто отвергает, — мошенник. Здесь не может быть двух мнений.
Мартин выдвинул возражение.
— Люди веками считали, что Солнце вращается вокруг Земли вплоть до того, как Коперник растолковал им, что это не так. Если мы…
Тут я перебил его:
— Весьма подходящая тема для воскресной дискуссии. Но все это как-то обще и туманно. Предлагаю для разнообразия рассмотреть какой-нибудь конкретный случай, — я улыбнулся мадам Вебер. — К примеру, Мартин Коксон ратует за возврат к анархии и все такое прочее, но делает это лишь из чувства противоречия. Не правда ли, Мартин?
На какие-то несколько секунд мы скрестили взгляды. Затем Мартин вернул свое внимание персику.
— Так как же, Мартин?
Он вновь поднял голову.
— Нет. Я действительно считаю это течение правомерным и неизбежным.
— И всеобъемлющим?
— Ну… да, конечно, всеобъемлющим. Всемирным.
— Пока еще не всемирным. Есть немало таких, кого воротит от такой философии. Но я могу согласиться с вами: такая опасность существует. И что же нам, противникам подобных убеждений, делать? Мы бессильны противостоять теории, однако иногда оказываемся в состоянии влиять на практику. В отдельных случаях.
— Что вы имеете в виду? — быстро произнесла Леони.
Мартин взглянул в ее сторону, и его лицо осветилось изнутри, точь-в-точь как описывал Пангкал. Я смотрел на него и словно видел в первый раз. Небольшие шишечки меж бровями. Раздвоенная нижняя губа…
— Существует меньшинство, — ответил я, — действительно не признающее общепринятых норм поведения. Зачастую у них нет в прошлом искалеченного детства или чего-то другого, что могло бы отчасти оправдать их человеконенавистнические взгляды. Внешне они ничем не отличаются от окружающих. И все-таки встают на путь преступлений — по своему собственному выбору. Как должно поступать с такими людьми?
После минутного молчания слово взял Гамильтон Уайт:
— Я все же хотел бы, чтобы вы выразились конкретнее.
Я собрался отвечать, но вдруг сообразил, как далеко это может завести, а ведь я еще не был готов к лобовой схватке. Если мне суждено посчитаться с Мартином, пусть это произойдет в более подходящей обстановке. Сейчас было бы безумием выступать с открытым забралом. Поэтому я начал запутывать следы:
— Ну, например, что вы скажете об убийце, человеке, который ни с того, ни с сего, после многих лет внешне нормального существования холодно и расчетливо лишает жизни другого человека — при отсутствии видимого мотива? Как он вписывается в общую картину?
Позорное, беззубое окончание, но, похоже, этого никто не заметил, — видимо, потому, что трибуну захватила Шарлотта Вебер.
— Мальчик мой, да ведь такими-то людьми и занимаются психиатры. Способные на убийства — это, как правило, ущербные индивидуумы, не сумевшие приспособиться к жизни. Еще в детстве они испытывали затруднения в общении с другими детьми, и чувство собственной неполноценности побудило их замкнуться в себе. Это теория то ли Адлера, то ли еще кого-то, у меня уж не та память, что прежде. Но, как правило, в основе всех неприятностей лежит раздвоение личности.
Сандберг поморщился.
— Ну вот! Человек, получается, не убивает, а просто выражает протест! Он ни в чем не виноват — виноваты родители. А если обратиться к лидеру политического движения, он заявит: что вы, что вы, мама с папой ни при чем, а все дело в общественном устройстве. Потом биолог объяснит: ничего подобного, просто человек унаследовал не те гены. Все, что угодно, — лишь бы снять вину с самого преступника.
— Биолог ближе всех к истине, — парировал Гамильтон Уайт. — По теории вероятности, если много раз подряд сдавать карты, то рано или поздно у кого-то окажутся все карты одной масти. Это — единственное объяснение того, что случаются бессмысленные убийства, о которых говорит Филип.
Мартин надкусил персик.
— Вы считаете убийство бессмысленным, потому что оно не имеет смысла для вас лично, и причисляете его к разряду аномальных явлений. Но для некоторых оно совершенно в порядке вещей; для них оно — средство самоутверждения. Самоубийство — тоже, хотя в этом случае человек уподобляется пчеле, которая, как известно, жалит только один раз. Вы же не вникаете в причины того, почему ребенок рождается с призванием к музыке, и не клеймите его позором за попытку осуществить это призвание. Точно так же вы считаете естественным стремление самовыразиться через профессию медика или даже патологоанатома, хотя это вынуждает человека иметь дело с трупами. Или он становится мясником и убивает животных. Или летчиком, которому в один прекрасный день может быть отдан приказ разбомбить город. Нет, вы считаете все эти занятия нормальными, потому что они вписываются в картину мира, как она сложилась в незапамятные времена. Но стоит только чуточку выйти за ее рамки — не обязательно для того, чтобы убить, а просто жить по-своему, — и вы начинаете звать на помощь если не полицию, то бездарного психиатра или псевдореформатора, который занят поисками козла отпущения. На самом деле это их следует упрятать в психушку, и я верю: так оно и будет, когда цивилизация достигнет зрелости.
Да Косса улыбнулся.
— Весьма любопытное предположение. Но, так или иначе, все опять-таки сводится к тому, что наше поведение предопределено обстоятельствами и не зависящими от нашей воли причинами. Умственная и моральная неполноценность должна вызывать сочувствие так же, как физическая. Вы же не станете укорять меня и тем более не посадите за решетку за покалеченную ногу!
Сандберг возразил:
— Смотря какое применение вы найдете своей больной ноге. Главное — как человек распорядится своей неполноценностью.
Однако да Косса не унимался.
— Не хотел бы я иметь вас своим судьей.
Сандберг смерил его тяжелым взглядом.
— Я и сам не стремлюсь быть судьей для кого бы то ни было. Я прожил жизнь и отнюдь не являюсь ангелом. Но я верю в грех, который есть зло, причиненное личности, и в преступление, которое есть зло, причиненное обществу в целом. Называйте как хотите, но я убежден: человек должен нести ответственность за свои поступки.
* * *
Она была с Мартином в саду. А когда они расстались, у нее пылали щеки и заикание стало особенно заметным.
Через некоторое время она вышла из своей комнаты и начала спускаться по лестнице. Я уже ждал в холле. Кроме нас, там никого не было.
Она остановилась за три ступеньки до меня, стоявшего у основания лестницы.
— Я хочу извиниться, — начал я, — за то, что вечно путаюсь у вас под ногами.
Она улыбнулась и бросила быстрый взгляд мимо меня, на входную дверь.
— Я думала, мы покончили с этим сегодня утром.
— Это постскриптум.
— Значит ли это, что вы решили… п-прекратить п-поиски… — она не закончила фразу.
— Да.
Леони посмотрела мне прямо в лицо.
— Это правда, Филип? Если бы вы…
Меня глубоко задело выражение облегчения у нее на лице.
— Во всяком случае, пока. Я на пару дней еду в Голландию. Получил письмо от инспектора, ведущего это дело. Можете прочесть, если хотите.
Я отдал ей письмо от Толена, переправленное мне Арнольдом, и следил за выражением ее глаз, пока она читала.
”Дорогой мистер Тернер.
Мы располагаем свежей информацией по делу вашего брата. Я не могу доверить ее почте, так как она носит конфиденциальный характер. Если вы найдете возможность в ближайшее время приехать сюда, я лично сообщу вам все, что поможет окончательно развеять ваши сомнения. Если же это неудобно, дайте мне знать, и я письменно сообщу все, что смогу.
Искренне ваш,
Дж. Дж. Толен”.
Она вернула мне письмо.
— Что бы это значило?
— Вот это-то я и собираюсь выяснить.
— Да, да, конечно. Надеюсь… — она опять не закончила фразу.
— Что это ничего не значит?
— Нет. Я надеюсь, что все будет хорошо.
— Спасибо. А на время своего отсутствия я оставляю вас на попечении Мартина Коксона.
Она опустила глаза.
— Он интересный собеседник.
— Да, он очень интересный собеседник.
— Вы расскажете обо мне инспектору?
— Еще не решил. Не думаю.
— Наверное, это нужно сделать.
— Смотря что он мне сообщит.
— Филип, я не могу взять в толк, почему вы мне все это рассказываете. Неужели я еще не убедила вас, что нахожусь во вражеском стане?
— Нет.
Она провела пальцами по перилам.
— Я хочу, чтобы вы пообещали мне одну вещь, — сказал я. — Только одну — пока меня здесь не будет.
— Что именно?
— Это может показаться дешевым приемом, но… приходится рискнуть. Я не был знаком с вашим мужем, но, по рассказам, он был хорошим парнем.
Она молчала.
— Мне кажется, вы питали к нему такие чувства, как ни к кому другому.
— И что же?
— Может быть… будет неплохо, если вы попробуете думать о нем?
Она спустилась на две ступеньки, так что наши головы оказались на одном уровне. Ее рука лежала на перилах, но я не дотронулся до нее.
— Странно, что вы это говорите.
— Почему?
— Как раз сегодня я много думала о Томе, — она замялась.
— Продолжайте, пожалуйста.
— Это трудно объяснить.
— Леони, мне необходимо знать.
— Нам пора идти.
— Нет, — на этот раз я накрыл ее руку своей ладонью. Это оказалось все равно что погладить молодую, необъезженную кобылку. Я ждал, что она отдернет руку, и, видимо, она собиралась это сделать, но вдруг передумала.
— Филип, в двух словах этого не объяснить. Понимаете, когда он умер… когда Том с Ричардом умерли, я сама была в больнице. Меня доставили в тяжелом, но не безнадежном состоянии. Том с Ричардом остались дома — здоровые. Это я была больна! И вдруг через три недели мне сообщили… Я отказывалась верить. Вернувшись домой, ждала, что они вот-вот появятся. Я не видела Тома больным. Они все равно что растворились в воздухе, — у нее трепетали ноздри. — Конечно, дом со всей утварью пришлось продать: я не могла в нем оставаться. Через некоторое время я поверила в смерть Ричарда. Ему было всего четыре месяца, это еще не совсем личность… Но смерть Тома никак не укладывалась в голове. Умом я знала, что произошло, и продолжала заниматься повседневными делами, но в глубине души…
— У вас оставалось чувство, что он жив.
— Да. Именно так.
После минутной паузы я сказал:
— Когда я упомянул о вашем муже… возможно, вы догадались, почему я это сделал?
— Возможно.
— Забудьте об этом. Предпочитаю сражаться, не открывая всех карт.
Она положила мне на руку свою и, немного помедлив, прошла мимо.
— Леони, — позвал я. — Мне безумно жаль, что я не могу вам помочь.
— Возможно, вы уже помогли.
— Видимо, это уже потолок.
— Простите…
— Не отрекайтесь от этого.
— Я и не собираюсь.
Она продолжала свой путь к выходу. Я последовал за ней. Она вдруг остановилась и произнесла:
— Вот что я хотела еще сказать и пока не сказала вам. Сегодня я в первый раз с беспощадной ясностью осознала, что Тома нет. Это все равно, что… — она смотрела на меня большими, лучистыми глазами. — Все равно, что понять нечто жизненно важное, — одновременно и лучше, и хуже, чем вы думали.
* * *
Мы с Мартином возвращались домой. В море отражалась половинка луны. Мне стоило огромных усилий притворяться, но я понимал, что это жизненно необходимо. Я сказал Мартину, что страшно огорчен неудачей с Сандбергом, и вообще у меня такое чувство, будто я гоняюсь за болотным огнем. Единственным лучом света оказалось письмо Толена, которое я и показал ему. Он остановился под фонарем.
Кончив читать, Мартин резюмировал:
— Я же все время вам твердил. Ключ к этой головоломке по-прежнему находится в Амстердаме.
Я обратил внимание, что он говорил быстрее обычного: видимо, ему не терпелось избавиться от меня, направив по ложному следу.
— Вы, конечно, поедете?
— Еще не знаю, — мне хотелось посмотреть на его реакцию.
— Это будет величайшей глупостью, если не поедете. Раз уж вам не хочется или не удается надавить на девушку, дальнейшее пребывание здесь не имеет смысла.
— Не думаю, что ей еще что-нибудь известно — ну, разве что настоящее имя Бекингема — или то, что она считает его настоящим именем. Вполне возможно, что это не так.
— Но вы вернетесь?
— Да.
Мы свернули на дорожку, откуда был хорошо виден Неаполитанский залив; в нем отражались, сверкая, луна и звезды. Лицо Мартина оставалось в тени.
— Филип, вы предпочли бы, чтобы я остался?
— Я же скоро приеду. Красота, не правда ли?
— Да… ”Боги, ликуя, разбросали по небу таинственные письмена, чтобы мы попытались прочесть их”… Каким образом?
— Боюсь, что тут не поможет даже химический анализ, не говоря о психоанализе.
— Что за чушь мы несем! Это все пресловутое раздвоение личности… Кажется, утром пришло письмо с Явы? Я видел конверт в ящике вашего письменного стола. Есть что-нибудь интересное?
Я следил за мотыльком.
— Это от Пангкала — того самого ассистента Гревила, который тяжело заболел, и Бекингем занял его место. Можете прочесть.
Я пошарил в кармане и вытащил одно из двух писем.
— Кажется, я оставил его в номере. Впрочем, там нет ничего особенного. У меня создалось впечатление, будто Пангкал недолюбливал Бекингема.
Мы двинулись дальше.
— Зато Гревил, — продолжил я, — питал к нему большую симпатию. Хотел бы я знать, почему.
— Бекингем очень умен. Так что нет ничего странного в том, что они сошлись. Он обладает обширными познаниями.
— Какими же? Выучил несколько дешевых трюков, позволяющих добывать на пропитание…
Мартин остановился, чтобы зажечь сигарету. Его бледное, резко очерченное лицо казалось высеченным из мрамора и погруженным во мрак собственных мыслей.
— Знаете, Филип, вы совершите большую ошибку, если станете недооценивать Бекингема. Если о вашем брате можно сказать, что он был исключительным человеком, то о Бекингеме тоже. В нем нет ничего пошлого, второсортного.
— А по-моему, он страдает тем самым раздвоением личности, то есть попросту шизофреник.
Он энергично мотнул головой.
— Неправда. Такие, как он, словно сделаны из цельного куска. Не то что простой обыватель, у которого, нажимая на кнопку, можно вызвать любые, прямо противоположные реакции. Он всю жизнь ходит по струнке, огороженный со всех сторон и таким образом надежно защищенный от естественных проявлений своей индивидуальности. Тогда как человек типа Бекингема всегда поступает в соответствии со своими желаниями.
— Временами мне кажется, что вы им восхищаетесь.
Мартин молча курил. Тогда я продолжил:
— Нет, серьезно. Он представляется мне всего-навсего охотником за трофеями, мелким рэкетиром. Обладай он и вправду какими-нибудь достоинствами, к сорока годам он чего-нибудь добился бы, а не болтался, дойдя до ручки, по Яве.
— Готовность идти на риск — одно из проявлений его личности.
— Сомневаюсь. Такие петухи — любители рыться в навозных кучах — мигом удирают со всех ног при малейших признаках опасности.
Он сделал резкий жест рукой, державшей сигарету.
— К черту, оставим это. Вы его не знаете — и, скорее всего, никогда не узнаете. А я знаю — хотя и немного. Мне кажется, я понимаю его мотивы. Это не значит, что я думаю о нем лучше или хуже, чем он есть. Многое зависит от точки зрения. Помните, у Ювенала: ”Foedius hoc aliquid quandoque audebis”[12]?
Дальше мы шли молча. Я радовался, что мне удалось-таки задеть его за живое. Мне вдруг пришло в голову, что ненависть к Мартину Коксону зародилась во мне не сегодня, когда я узнал, кто он такой. Корни этой ненависти были глубоки и таились в прошлом — может быть, даже относились к нашей первой или второй встрече. В миг прозрения ненависть эта стала тем глубже и сильнее, что проросла на почве дружбы и доверия. Должно быть, так было и с Гревилом — только он слишком поздно узнал истинное лицо этого человека.
Хотелось надеяться, что эти мысли не были написаны у меня на лице. В противном случае я сильно рисковал. Мартин Коксон убил Гревила — или присутствовал при убийстве; причину этого мне еще предстояло выяснить. Догадайся он о моем знании, и я сам оказался бы в положении Гревила.
Поэтому необходимо было соблюдать осторожность. Иначе мадам Вебер станет не единственной, кто живет бок о бок со смертью.
Глава XVI
Ночью я вдруг проснулся и понял, что он здесь. Я чутко сплю — должно быть, он издал чуть слышный шорох и затаился.
Секунду-другую я продолжал тихо, мерно дышать. Он успокоился и двинулся дальше.
Я никогда особенно не дрался, ну, разве что немного занимался боксом, когда служил на флоте. С опытным противником такая подготовка — все равно что зонтик против тайфуна.
Сквозь неплотно прикрытые веки я видел, как он приблизился к гардеробу и начал обыскивать карманы. Мне стало ясно, что он ищет.
Я ждал. Он обшарил — почти бесшумно — оба ящика ночной тумбочки, склонился над креслом, куда я, по своей неряшливой привычке, побросал разные мелочи.
Должно быть, я не уследил за своим дыханием: он вдруг замер и прислушался. Как трудно в такой напряженной атмосфере притворяться спящим! Он приблизился к кровати.
Я знал форму его рук и примерно представлял, какова может быть хватка. Плохо то, что нельзя было открыть глаза.
Я не был уверен, но мне почудилось, что он вдруг выпрямился и отошел. Когда я позволил себе открыть глаза, он перелезал через подоконник открытого окна.
Как раз перед сном я еще раз перечитал письмо Пангкала и сунул его под подушку. Вот почему Мартин его не нашел. А дневник Гревила, который мог по меньшей мере утвердить его в догадке, что я знаю больше, чем рассказываю, был надежно спрятан под матрацем.
Когда он вылезал из окна, снаружи на его лицо упал шедший откуда-то свет, и оно показалось мне более чем когда-либо осунувшимся и напряженным.
* * *
— Мне очень жаль мешать вашему завтраку, — сказал я, — но я вынужден извиниться насчет портрета. Дела призывают меня в Голландию. Надеюсь приступить к нему сразу по возвращении.
— Не горит, мой мальчик, — Шарлотта Вебер поправила рукав японского кимоно. — Вряд ли я уж так сильно изменюсь до конца этого месяца: мой парикмахер в отпуске. Вы уверены, что хотите продолжать эту работу?
— Абсолютно уверен. Я вернусь завтра вечером или в пятницу утром.
Она подобрала с пола не в меру расходившегося Бергдорфа, пока он не оторвал клок от розового шелкового покрывала, и внимательно посмотрела на его ухо.
— У одного из моих местифов однажды были язвочки… Как это грустно. Скажите, Филип… вы и Леони… Можно ли надеяться?..
— Нет… Боюсь, что нет.
— Успокойся, Бергдорф, я не сделаю тебе больно. Нужно доверять мамочке. Как жаль. Во всяком случае, мне — очень жаль. Ей бы следовало снова выйти замуж. Давно пора. Ох уж эти преувеличенные понятия о верности!
— Боюсь, что здесь верность иного рода.
— Бергдорф, место! Придержи свои когти при себе! Ей было бы легче, будь она немного легкомысленнее. Я ей так и сказала. Женщина нуждается в мужчине. Это улучшает обмен веществ. Филип, мне кажется, вы ей подходите.
— Скажите ей как-нибудь об этом. Хорошо?
— Вы — художник, человек с тонкими чувствами. И не без чувства юмора, которое, однако, не переходит границ. Женщина, отказывающаяся вступить в повторный брак, — трудный случай. Особенно если она красотка. Глупо обладать таким оружием — и не пускать его в ход.
— Она как раз пускает.
— Помнится, когда я впервые встретила ее после смерти Тома Винтера, я начала выражать соболезнования, а она ответила: ”Ничего, мадам Вебер. В молодости люди толстокожи”. — Шарлотта Вебер бережно опустила извивающегося щенка на пол. — Вообще-то она права. Но если говорить о ней самой, то нет ничего неправильнее. ”Неправильнее” — существует такое слово?.. Толстокожесть Леони не обманет и младенца. Более того — она совсем растерялась и плывет по течению. Мне кажется, она не всегда сама себя понимает. Постоянно думает о таких вещах, от которых никакого толку… наоборот, один вред.
— Даже очень большой вред.
— Совершенно верно, мой мальчик. Бывают мысли, с которыми можно жить, а бывают и такие, которые невозможно перенести. В таком случае есть только один выход — отбросить, забыть о них. Только так можно выжить.
Когда я встал, чтобы идти, она с симпатией и терпимостью улыбнулась мне.
— И не беспокойтесь о портрете. Я продержусь до вашего возвращения. Я уже столько продержалась!
* * *
Я знал, что мне не составит труда убедить Мартина остаться на острове до моего возвращения. Конечно, предлагая это, я рисковал, но наконец-то в моих руках была реальная ниточка, и я не мог не воспользоваться ею. Махая ему, стоявшему на причале и наблюдавшему за отходом судна, я пытался представить себе, какие темные мысли его обуревают и какую эволюцию они претерпели за все время этого гнусного фарса. Когда пароход вышел из гавани, он повернулся, достал из кармана книгу и медленно пошел по направлению к фуникулеру. До свидания, Мартин, подумал я. Что-то я привезу тебе завтра?
Только через полчаса я разглядел среди пассажиров мастера Кайла. Когда я приблизился, он не без досады посмотрел на меня из-под козырька своего кепи, словно ожидая какой-нибудь неприятности. Не дождавшись, он пустился в объяснения; мол, его финансами ведает ”Банк Италии”, не имеющий филиалов на Капри. Я в свою очередь сказал, что должен лететь по делу в Амстердам.
— Мартин не с вами? — спросил он ворчливо.
— Нет. Я ненадолго. Как раз вчера вечером, сэр, мы говорили о вас. Кажется, вы были другом его дедушки?
— И очень близким, — Кайл прислонил трость к скамье и решительно надвинул кепи на монументальный лоб. — Мы с Каллардом двадцать пять лет были соседями и друзьями. Сомневаюсь, что вам довелось выслушать из уст Мартина длинную историю о замечательных временах его юности, проведенной в Гейтвиде. Я не встречал его с тех самых пор, как Калларда настигла смерть. Нынешний граф не желает иметь с ним дела.
— Почему?
Кайл помешкал, что-то жуя.
— Ну, просто таково его отношение, и, разумеется, он имеет на это право.
Из гавани в Сорренто отчалила яхта, паруса сверкали белизной в ярких солнечных лучах. Я спросил:
— Мартин — сын младшего сына?
— Почти. Его отец был побочным сыном. У Калларда была связь с какой-то актрисой, в результате на свет появился Фред Коксон. Он умер молодым, но Каллард привязался к Мартину и очень его баловал — сверх всякой меры.
Я счел необходимым пояснить:
— Мы лишь недавно познакомились.
Кайл явно не спешил клевать на наживку. Он казался не в духе; то, что он жевал, тоже вряд ли доставляло ему большое удовольствие. Пароход плыл дальше.
Я предпринял еще одну попытку:
— С ним довольно интересно.
— С кем?
— Мартином.
— О, да, уверяю вас!
— То, что бармены называют — первосортный букет!
— Не сомневаюсь в этом, — Кайл перестал жевать. — Только иногда людям, употребляющим сей коктейль, приходится за это расплачиваться, причем тогда, когда они этого меньше всего ожидают.
— Мне трудно судить — я недостаточно хорошо его знаю.
— И тем не менее он ваш друг, мистер Нортон.
Кайл оказался крепким орешком. Я три или четыре минуты колебался, а затем сказал:
— Он предан своей матери.
— Вы меня удивляете. Я никогда ее не видел.
— Мартина воспитывал лорд Каллард?
— Он платил за образование. Мартин часто приезжал на каникулы, и они вдвоем охотились и лазали по горам. Мартин был горд, как молодой орел, и так же красив. Не очень-то ладил с остальными членами семьи. Они недолюбливали его как фаворита. Он и был фаворитом. Да, — Кайл поднял воротник куртки и повернулся спиной к ветру. — Держался так, словно он — главный наследник Калларда. Тот часто жаловался мне на его своеволие, а я отвечал: ты сам его балуешь, так чего можно ожидать?
Я ждал продолжения, но Кайл возобновил жевание. Я не выдержал:
— Со смертью Калларда все переменилось?
— Абсолютно все.
— Мартин не предъявлял претензий к другим членам семьи?
— Какие у него могли быть претензии?
Подошел разносчик сигарет и сладостей, но старик нетерпеливым взмахом отослал его прочь. С минуту он что-то бормотал про себя. Постепенно его речь сделалась разборчивее.
— … удар. Только что Каллард был бодрым, крепким стариком шестидесяти с лишком лет — и вдруг стал беспомощен, как поваленное дерево, живой труп, — он раздраженно, словно в поисках виновного, посмотрел на маячившей вдали Везувий. — Это явилось шоком для Мартина Коксона. Он был уверен, что его будущее обеспечено, но последнее завещание Калларда оказалось пятнадцатилетней давности. Мартину только и досталось, что пара тысяч фунтов. И все — ступай своим путем. У него всегда было чисто аристократическое отношение к деньгам, у Мартина, — по его понятиям, они существовали лишь для того, чтобы удовлетворять его нужды, и их должно было хватать, чтобы он мог иметь все самое лучшее. А тут вдруг пришлось затянуть ремешок потуже.
— До сих пор все рассказанное вами скорее вызывает сочувствие, — осторожно заметил я. — Мне по-прежнему не ясно, за что вы его не любите.
— Я не говорил, что не люблю его, — огрызнулся Кайл. — Вы вкладываете мне в рот свои слова.
— Может быть — но не свои мысли в вашу голову.
Кайл с подозрением уставился на меня.
— Сдается мне, друг мой, что вы сами его не шибко жалуете.
— Допустим, так оно и есть.
— Ага! По какой же причине?
— Это пока на уровне интуиции. Ваше отношение наверняка носит более определенный и обоснованный характер.
— Как знать. Но я действительно не люблю Мартина Коксона — за бесовской шарм, вот за что. Сам-то я никогда не подпадал под его влияние, зато видел, как это делали другие. Таяли, словно сосульки под солнечными лучами. Возьмите его деда — битый-перебитый старый вояка, но этот сопляк вертел им, как хотел. Потом его кузина, Мери Фальконер, и ее тетушка, леди Мод Фальконер, и еще по меньшей мере две девушки… И не только они.
— Мартин был женат?
— Да, в тридцатые годы. Но она с ним развелась. Забыл ее имя: оно упоминалось в газетах. Я думаю, ему было плевать на всех, кто его любил. Он просто пользовался их расположением и принимал приносимые ими жертвы. Можете передать ему, если вы любитель сплетен, — старик Кайл хлопнул меня по руке. — Да, несомненно, он не лишен обаяния, но дерево судят по плодам, а он приносил горькие плоды. Просто брал от людей все, что они могли дать — всю жизнь, всю любовь, молодой человек! — и можно сосчитать по пальцам, кому от этого стало лучше, — если такие вообще были! Большинству встреча с ним приносила одни неприятности — и немалые! В его душе всегда существовали темные закоулки, некий цинизм — даже в юности. Да вы и сами слышали его речи. Он привык разрушать, осквернять все, что в жизни есть прекрасного.
Я кивнул, но не нашелся, что сказать. Кайл сердито засопел. Я не стал вызывать его на дальнейшую откровенность. Старик в нескольких словах обрисовал начало жизни Мартина; возможно, мне суждено дописать окончание.
Я дал Толену телеграмму, так что в Шипхоле меня ждал автомобиль. Наша встреча состоялась в восемь часов вечера. К моему удивлению, он опять привел с собой Ван Ренкума.
— Хорошо, что вы приехали, — сказал Толен. — Мне не хотелось оставлять что-либо недосказанным. По всей видимости, в данный момент мы можем развеять все ваши сомнения. Мистер Ван Ренкум от имени министерства иностранных дел даст вам все необходимые объяснения. Он прекрасно говорит по-английски, к тому же эта история — по части его ведомства. Поэтому мы решили, что так будет лучше.
— Вам с водой, мистер Тернер? — осведомился Ван Ренкум, предлагая нам напитки. — Многие англичане предпочитают разбавленное виски, но я не запомнил…
— Благодарю вас, мне все равно.
— Прежде всего мы хотели бы извиниться за наше поведение во время прошлой встречи. Тогда мы не имели права… Как получше выразиться? — Еще не вся рыба попалась в сеть, так что вытягивать ее было преждевременно, кое-кто мог уйти. Теперь все изменилось. Нам достался хороший улов.
— Рад это слышать. Благодарю вас.
Он передал второй бокал Толену.
— Пожалуй, начну. Боюсь, мистер Тернер, что мне придется сообщить вам самое худшее — с вашей точки зрения. У нас есть доказательства того, что Гермина Маас говорила правду.
— Вы имеете в виду?
— Да.
Я перевел взгляд на Толена. Он отставил свой бокал и откусил кончик сигары.
— Значит, мой брат все-таки… сам прыгнул в воду?
— Да, мистер Тернер. Я знаю, вы с самого начала сопротивлялись этой версии, но, к сожалению, это правда.
— Какие же доказательства?
В разговор вновь вступил Ван Ренкум.
— Мы все время надеялись, что Гермина Маас не была единственным очевидцем того, что произошло в тот вечер на мосту. Помните, мы говорили вам, что ищем? Это оказалось нелегким делом. Люди, которые наведываются в ”Барьеры”, предпочитают это не афишировать. Мы пообещали вознаграждение. В конце концов откликнулся один человек, проводивший время в доме напротив, — Ван Ренкум взял с письменного стола Толена лист бумаги с машинописным текстом. — Вот его показания, можете прочесть. На обороте — английский перевод. Кстати, этот человек немного говорит по-английски, так что, если пожелаете, можно будет завтра устроить вам встречу. Мы очень хотим, чтобы у вас не осталось и тени сомнения.
Я взял листок и взглянул на голландский вариант. Внизу стояла корявая подпись очевидца. Черные буквы по краям отливали красным: видимо, лента была небрежно заправлена в машинку. Ван Ренкум сказал:
— Вкратце его показания сводятся к следующему: он видел, как ваш брат беседовал с кем-то на мосту. Потом они расстались. Ваш брат минуту-другую стоял, провожая своего недавнего собеседника взглядом, а затем вдруг вспрыгнул на парапет и бросился вниз. Свидетель абсолютно уверен, что в то время на мосту больше никого не было.
Не зная языка, я все же разобрал отдельные места: ”Вечером тринадцатого марта…; подняв жалюзи…; не звал на помощь…”
Ван Ренкум повторил:
— Перевод на обороте, мистер Тернер.
Я отдал ему листок, встал и вытащил сигарету. Один из них дал мне прикурить.
— Вы сказали — была обещана награда?
Толен проводил ладонью в воздухе, разгоняя дым.
— Вам нужно обязательно повидаться со свидетелем, его фамилия Ааренс, чтобы самому во всем убедиться. Он пользуется репутацией честного человека и, давая показания, поставил под удар свою семейную жизнь. Вряд ли он соблазнился бы несколькими гульденами.
— Нам предстоит еще многое объяснить вам, мистер Тернер, — сказал Ван Ренкум. — Присядьте, пожалуйста.
— Выходит, Гревил…
Снаружи доносились настойчивые велосипедные звонки. Должно быть, на улице образовалась пробка.
— Мы больше не считаем, — произнес Ван Ренкум, — что он покончил с собой из-за несчастной любви. В сущности, это объяснение всегда представлялось более чем сомнительным.
— Тогда почему он это сделал? Почему?
— Имейте терпение. Сядьте, выпейте, и мы вам все расскажем.
Я сел.
Меня мутило.
— Я готов.
— До войны, — начал Ван Ренкум, — импорт опиума в наши восточные колонии был монополией правительства. Естественно, во время войны поставки из Персии прекратились, зато японцы ввозили неограниченные количества, сделав это частью своей политики. Вряд ли вам нужно объяснять, что населением, употребляющим наркотики, значительно легче управлять. Поэтому сразу после войны в распоряжении нового правительства Индонезии оказалось примерно двадцать пять тонн опиума. Его продажа была ограничена и взята под контроль. Однако во время конфликта с нашим правительством индонезийцы испытывали недостаток средств для закупок оружия и решили продать на международном рынке часть запасов опиума. Вы, должно быть, помните разгоревшийся в связи с этим скандал?
— Нет.
— Неважно. Итак, в хаосе того времени кучка второразрядных чиновников похитила некоторое количество опиума, и его судьба до недавнего времени осталась неизвестной. В марте этого года наши агенты на Яве доложили, что готовится акция по переправке солидной партии этого товара в Голландию. Мы приняли все меры для перехвата. Из дальнейших донесений стало известно, что наркотик будет доставлен в Амстердам специальным рейсом компании КЛМ, так что едва самолет совершил посадку в Шипхоле, как он весь, включая багаж пассажиров, подвергся тщательному досмотру — за исключением нескольких ящиков с археологическими экспонатами, принадлежащих доктору Тернеру, чья репутация была выше всяких подозрений.
— И совершенно справедливо, — ввернул Толен.
— Так или иначе, четыре ящика из пяти были доставлены прямиком в Рийкс-музей, где их содержимое подверглось проверке. С пятым, оставшимся в распоряжении доктора Тернера, возникло затруднение, — Ван Ренкум хмуро опустил глаза на одну из своих манжет и стал поправлять запонку. — Прежде чем предпринять следующий шаг, мы связались с Батавией и получили подтверждение, что, согласно имеющейся у них информации, вышеуказанная партия наркотика покинула пределы страны. Поэтому инспектор Толен, вместе с еще одним офицером в штатском, едет в отель, где остановился доктор Тернер и, объяснив ситуацию, просит его разрешения на осмотр пятого ящика. Доктор Тернер отказывает в таком разрешении.
— Отказывает?!
— Да. Он возмущен подобным подозрением. Считает наши действия оскорбительными. Его заверяют, что против него не выдвигается никаких обвинений, нам просто необходимо убедиться и тем самым очистить совесть и выполнить профессиональный долг.
— Я пытаюсь довести до его сознания, — подхватил Толен, — что это наша обязанность — положить конец преступной контрабанде наркотиков. Но он не желает мириться с подобными методами. Я продолжаю настаивать: закон Нидерландов дает мне право на проведение обыска. Он скрепя сердце подчиняется, мы открываем ящик и обнаруживаем несколько килограммов опиума.
Я судорожно поднес к губам бокал с неразбавленным виски. Какая уж там вода!
Толен продолжал:
— Работа в полиции чрезвычайно сложна, мистер Тернер. В число обязательных качеств наших сотрудников входит умение мгновенно сориентироваться в обстановке и принять верное решение. Я видел доктора Тернера впервые в жизни, весь его облик соответствовал репутации. Кто бы мог подумать? Но в нашей работе этот вопрос — ”Кто бы мог подумать?” — звучит, к сожалению, очень часто. Приходится полагаться на факты и улики, а они налицо. Мы находим опиум. Доктор Тернер становится чернее тучи и утверждает, что понятия не имеет, как наркотик оказался среди его багажа. Произошла ошибка, которую он не в силах объяснить. Я прошу его написать официальное заявление. Он заявляет, что сделает это только после того, как свяжется с послом Великобритании. Я соглашаюсь и звоню Ван Ренкуму, а также нашим сотрудникам, чтобы изъяли опиум. После чего я совершаю прискорбную ошибку — оставляю доктора Тернера одного.
Ван Ренкум оставил в покое свои запонки.
— Если бы мы обращались с доктором Тернером как с обычным преступником, он сейчас был бы жив. Но мы растерялись. С его послужным списком и связями… Пожалуй, лучше дать ему время на размышление. Может быть, он сознается и даст поистине бесценную информацию. Или предпримет шаги, которые выведут на сообщников. Поэтому мы оставили в отеле своего наблюдателя и отправили двоих офицеров снять показания с помощника доктора Тернера, вместе с ним прилетевшего с Явы. К сожалению, его не оказалось на месте. Он так и не вернулся в отель и не сделал попытки вернуть свой багаж. По какой-то роковой случайности доктору Тернеру удалось проскользнуть незамеченным мимо детектива, оставленного следить за ним, а на следующее утро было уже поздно.
— Другими словами, — сказал я, — он попытался искупить вину, совершив самоубийство?
Лицо Ван Ренкума сморщилось от внутренней боли.
— Если бы мы придерживались такого мнения, то не стали бы скрывать факты ни от его жены, ни от вас. Но мы предпочли воздержаться от скороспелых выводов.
Я почувствовал возбуждение: алкоголь начал действовать.
— Нам не сделало бы чести, если бы мы скоропалительно обвинили выдающегося ученого в грязном уголовном деянии, не располагая неопровержимыми доказательствами. Информация, полученная от эмиссара, посланного нами на Яву, и дальнейший ход событий направили наши мысли по другому руслу.
— Бекингем?
— Да. Мы раскрыли на Яве источник опиума и проследили всю преступную цепочку. На прошлой неделе мы наконец-то вытащили сеть и взяли их всех, включая местного вожака, которого давно и особенно упорно искали. Да вы, кажется, встречали этого человека — его фамилия Джоденбри.
— Джоденбри, — повторил я. — Значит, он арестован?
— Да. В следующем месяце он предстанет перед судом, и у нас нет сомнений относительно того, каким будет приговор. Возможно, доктор Тернер знал о преступной акции и оказывал пособничество — об этом как будто говорят его сопротивление обыску и тот факт, что он отправился в ”Барьеры”, где, как вы знаете, окопался Джоденбри. Но мы больше склоняемся к той версии, что его просто использовали — без его ведома.
Я погасил сигарету. С конца сигары Толена свисал длинный хвост пепла.
Я задал вопрос:
— В таком случае, что заставляет вас думать, будто он покончил с собой?
— На это его могла толкнуть не вина, но уверенность в том, что ему не удастся доказать свою непричастность. Очутившись в невероятной, совершенно немыслимой ситуации, перед лицом грозящей ему огласки, задержания, бесчестья, он сделал то, что показалось единственным выходом из положения.
Долгое молчание. Я отодвинул свой стул, но не нашел в себе сил подняться. На улице прогромыхал трамвай.
— Но ведь добровольным уходом из жизни, — сказал я, — Гревил лишь подтвердил — в глазах закона — свою виновность. И, несмотря на это, вы продолжаете испытывать сомнения… даже допускаете, что он тут ни при чем?
— Да — потому что теперь нам известны все обстоятельства.
— Как же ему самому не пришло в голову?
Ван Ренкум тихо ответил:
— Легко быть провидцем задним числом. Легко рассуждать: я бы поступил по-другому. Но когда на тебя в одночасье сваливаются подобные вещи… Откуда ему было знать, что мы до всего докопаемся? И потом, думая о предстоящем суде, он не мог не отдавать себе отчета, что в лучшем случае его оправдают не за невиновностью, а за недостаточностью улик. А такая формулировка навсегда бросает тень на репутацию.
Толен с большим опозданием поднес сигару к пепельнице: пепел успел обрушиться на ковер. Он смотрел на меня, словно врач на беспокойного пациента.
— Понимаю, каково вам приходится. Но я считал своим долгом сказать вам правду.
— Гревил звонил в Британское посольство?
— Нет.
— А Бекингем? Он попался в сеть?
— Нет, — ответил Ван Ренкум. — Он единственный ускользнул. Мы передали Британским властям всю необходимую информацию — возможно, им удастся напасть на его след.
— А вы, мистер Тернер? — вступил в разговор Толен. — В чем-нибудь преуспели?
Я ответил вопросом на вопрос:
— Сможете ли вы — на основании имеющихся у вас фактов — добиться ордера на арест, если он отыщется в другой стране?
— Да — если не останется сомнений в его тождестве. Это-то и представляет наибольшие трудности.
Глава XVII
На следующий день не было ни одного рейса в Неаполь. Пришлось взять билет на самолет, отбывающий в Рим в 3.15 дня. Это дало мне возможность увидеться с Ааренсом. Откровенно говоря, я уже не так стремился скорее вернуться в Италию.
В тот вечер в Амстердаме я допоздна пил кофе в небольшом кафе. Город отмечал какую-то годовщину: улицы были в праздничном убранстве, и на них толклось больше, чем обычно, народу. Глядя на добропорядочные, респектабельные лица горожан, я только диву давался, как в этом деловом, красивом, с легким налетом провинциальности городе может существовать такая клоака, как ”Барьеры”. Сейчас в это было трудно поверить.
Не могу сказать, что уже окончательно переварил все факты и выводы. Мне как будто впрыснули смертельный яд одновременно с анестезирующим веществом — в таких случаях мозг не в состоянии локализовать боль и быстро принять меры.
Я несколько раз подступался к проблеме, но только убеждался в своей неспособности объективно мыслить. После закрытия кафе в полночь я долго — часа два — бродил по городу, а затем вернулся в отель с ломотой в костях и сухостью в горле от бесчисленных сигарет. У себя в номере я бросился на кровать и стал дожидаться рассвета.
Около шести я встал и отправился на поиски умывальной комнаты. Их явная недостаточность в здешних гостиницах никак не вяжется с замечательной царящей в городе чистотой. После того, как мне удалось наконец умыться и побриться, я включил настольную лампу и взялся за расшифровку последних страничек дневника Гревила. Как и следовало ожидать, они были в основном посвящены Бекингему.
”Вернулся после двухдневной охоты в горах. Бекингем убедил меня, что там изумительно чистый воздух. На ночь мы разбили бивуак на опушке леса. Закатную тишь не нарушает даже хор насекомых. Я бы назвал это благоговейной тишиной. На обратном пути нам попались несколько экземпляров местного шелкопряда. Джек Бекингем по-прежнему поражает меня обширностью познаний — хотя и разрозненных — и склонностью к каламбурам. Уговаривал потратить несколько дней на экспедицию в Боробудур. Я бы с удовольствием, но мы и так слишком задержались. Если приеду сюда в будущем году, предложу Джеку составить мне компанию.
Он тоже возвращается в Англию. Я обещал замолвить словечко, чтобы осенью его включили в состав экспедиции в район Евфрата. С его талантами это лучше, чем если бы он снова окунулся в свои прежние занятия. Мне будет не хватать его. Он постоянно держит ваш ум в напряжении, бросает вызов, побуждает к действию. В подобных экспедициях Бекингем просто незаменим. Он привносит азарт и дух одержимости”.
Вот и все. Однако сам факт, что в своих сугубо деловых записях Гревил уделил Мартину Коксону столько места, весьма знаменателен. Особенно если знать Гревила, чьи целеустремленность и преданность своему делу давно стали притчей во языцех.
В одиннадцать я уже был у Ааренса. Он не поведал ничего нового, но, если у меня и оставались сомнения, этот визит развеял их окончательно. На обратном пути я купил несколько журналов в дорогу, но только зря потратил деньги, потому что и в небе продолжалось то же самое, что на земле. Я постоянно вдалбливал себе: Мартин Коксон не убивал Гревила, никто не убивал, он сам лишил себя жизни. Сам! Постепенно мне удалось в это поверить. Все остальное неважно.
Полет над Альпами всякий раз приводит на память операцию ”Луна”. Я жадно вглядывался в Монблан, чей гордый пик возвышался над вершинами пониже рангом; покрытые снегом, они казались жемчужным ожерельем на шее Италии… или веревкой палача. Потом блеснула опалово-голубая гладь Средиземного моря; мелькнула Эльба, а за ней — суровые, утыканные деревьями и также в снежных шапках горы Корсики.
Записи Гревила, относящиеся к Бекингему, я держал отдельно и теперь решил перечитать их: может быть, в свете свежих фактов они откроют мне нечто новое. Однако единственным местом, которое приобрело иное, более углубленное и более зловещее звучание, явилось следующее:
”Если бы это действительно было так, человек оказался бы во власти той полнейшей безысходности, о которой пишет Уильям Джеймс; вселенная сомкнулась бы вокруг него, превращая его в сгусток страха — без мыслей, без чувств, без малейшей надежды впереди”.
Гревил написал эти строки вскоре после своей болезни. Кто сейчас может с уверенностью сказать, сколь серьезны были осложнения после малярии и каково было их разрушительное действие на его физическое и психическое состояние?
Никто, кроме Мартина Коксона.
И все-таки многое в этой истории было скрыто во мраке. Возможно, нам так и не суждено узнать все до конца. Факт оставался фактом: Гревил добровольно расстался с жизнью.
В Риме мне лучше спалось: наверное, потому, что я совсем выдохся. У меня было такое чувство, как будто в мире не осталось ничего, достойного мыслительных усилий. Ничего такого, что бы не было поругано, бесполезно и не прогнило бы насквозь. Все, решительно все вызывало во мне лишь бессильную злобу.
На другой день я сел в поезд до Неаполя, а затем успел на послеобеденный катер до Капри. К счастью, на этот раз вокруг не оказалось никого из знакомых: было бы невыносимо с кем-то разговаривать. Завидев приближающийся берег острова, я почувствовал, что мне не хочется возвращаться. Возможно, это станет возвращением к чему-то такому во мне самом, о чем я и не подозревал. Встретиться с Мартином в таком состоянии было чрезвычайно опасным делом.
* * *
В отеле его не оказалось. Мне сказали, капитан Коксон ушел рано утром и до сих пор не возвращался. Я сидел на балконе, пил вино и пытался читать привезенные с собой журналы. На лужайке перед отелем какая-то толстая тетка в безвкусном цветастом платье пыталась взгромоздиться на осла. Погонщик с загорелым лицом и шапкой рыжих кудрей, еле сдерживая смех, пытался ей помочь. Она проявляла упорство; и так же серьезен был маленький человечек в кепочке и очках, который держал морду бедного животного. У женщины были полные, в складках, руки; кожа на лице и на шее покраснела и шелушилась. Отвратное зрелище! Интересно, откуда приехали эти люди? Из Англии? Или из Америки? И где сейчас Мартин? Что мне сказать ему?
Мне было непонятно, почему он позволил связать себя с Бекингемом. Впрочем, возможно, у него не было выбора. Полиции удалось установить факт его участия в незаконных операциях на побережье Палестины в то самое время, когда там орудовал Бекингем. Вот он и придумал эту легенду, чтобы дистанцироваться от него и направить полицейских по ложному следу.
Женщина взобралась наконец на осла, и тот, пошатываясь, побрел по лужайке. Я слышал, как она кричала по-немецки:
— Карл, смотри! Я держусь! Как весело кататься!
Я решил отправиться на виллу ”Атрани”.
К тому времени, как я добрался до виллы, солнце село и на небе показались первые звезды — далекие и чужие.
Я застал только Шарлотту Вебер и Чарльза Сандберга. Кажется, я прервал интимный разговор, однако мадам Вебер радостно воскликнула:
— Мой дорогой мальчик, вы сдержали слово! Люди вечно говорят: ”Дорогая, я скоро вернусь” — а потом вы встречаете их только в следующем десятилетии. Как там в Англии?
— В Амстердаме. Все хорошо. Вы не видели Мартина Коксона?
— Только рано утром, — ответил Сандберг. Мадам Вебер вставила в длинный мундштук новую сигарету и помахала рукой в воздухе. Зажженная спичка посопротивлялась и погасла. Тогда она сказала:
— Леони уехала.
— Уехала? Куда?
— В Рим. Туда нагрянули ее друзья, и ей приспичило повидаться с ними. Это случилось вчера вечером. Я ее отговаривала. Памятник Виктору Эммануэлю в такой зной не представляет из себя ничего хорошего. Этакая зловещая громадина. Джимбел, перестань чавкать. Чарльз, успокойте его.
Сандберг дотронулся до собаки ногой.
— Ваш приятель Коксон приходил сюда вчера вечером. Мы вдвоем поужинали на моей яхте. Любопытный субъект, этот Мартин Коксон.
— Неужели?
— Если не ошибаюсь, он отправился на рыбалку. Утром я видел, как он брал напрокат лодку. Прошу прощения, мне нужно позвонить, — Сандберг встал и вышел из комнаты. Меня вновь поразили его дружелюбные интонации. В другое время я бы охотно поломал над этим голову.
— Подвигайтесь поближе, — предложила мадам Вебер, — и давайте поболтаем. Конечно, я неравноценная замена, но Леони вернется.
— Почему вы так думаете?
— Интуиция. Знание женской психологии. Филип, откройте мне вашу тайну. Я заинтригована!
— Она обещала вернуться?
— Наподдайте-ка Джимбелу от моего имени. Совсем отбился от рук. Да, она просила передать вам, что ей пришлось уехать и что вы поймете. И почему только я пускаю его в гостиную?
— Значит, она сказала, что я пойму?
— А разве нет? Это осложняет дело. Есть вещи, которые невозможно уладить на расстоянии. Мне безумно жаль.
— Вы тут ни при чем.
— Как знать. На этих днях я читала Пруста, а он требует огромной сосредоточенности. Его ни на минуту нельзя оставить одного — словно застенчивого холостяка. Филип, мне, право, очень жаль, что я не могу вам помочь.
— Я знаю. Спасибо.
— Расскажите мне, что творится в мире. Хотя, как правило, новости заставляют содрогаться. Мартин Коксон — блестящий молодой человек, не правда ли? Эти трагические черные глаза — в них растворяешься без остатка.
— Она не оставила свой адрес в Риме?
— Настоящий покоритель женских сердец. Мы, знаете ли, обожаем этакий налет таинственности. Нет, Филип, но она обещала написать. Кажется, возвращаются Джейн с Николо?
Это оказались не они, а мадемуазель Анрио. Я отклонил приглашение на ужин и ушел, чтобы в спокойной обстановке осмыслить этот новый поворот событий. Отъезд Леони — не было ли это бегством? Ко всем тяжким переживаниям последнего времени прибавилась неуверенность первой настоящей любви. Это не разрушило в моей душе ни одной из давних, глубоких привязанностей, но они как бы отступили в тень. Я был уже не так, как прежде, уверен в себе — и это сейчас, когда мне, как никогда, требовались ясность ума и твердость рук!
В холле Сандберг беседовал с кем-то по телефону, однако, завидев меня, повесил трубку и сказал:
— Вы что-то рано уходите. Хотите выпить?
— Нет, спасибо. Наверное, Коксон уже вернулся и ждет меня.
Он окинул меня понимающим взглядом.
— Жалко, что Леони уехала.
— Да, — меньше всего мне хотелось обсуждать с ним эту тему.
— Она не намекнула вам перед отъездом о своих намерениях?
Я задержался у двери.
— Боюсь, Сандберг, я вас не совсем понимаю. Три или четыре дня назад вы всячески подчеркивали, что предпочли бы никогда больше меня не видеть. Я не внял пожеланию и остался. Мне не хотелось бы вас обижать, но, думается, я проживу и без вашего одобрения. Теперь же… кампания ненависти как будто сошла на нет? Я не могу уследить за переменами в вашем настроении.
Он закрыл небольшую нишу, где находился телефон, и, подойдя к открытой двери, выглянул наружу.
— Хорошо, что вы об этом заговорили, я и сам хотел. Во вторник Леони слегка ввела меня в курс дела. Я все еще плохо представляю себе общую картину, но сказанного ею достаточно, чтобы я отказался от своего предубеждения.
— Основанного на?..
Сандберг скривил губы и снова стал похож на Пана.
— Я старинный друг Шарлотты Вебер. Двадцать лет назад, когда она была даже красивее, чем сейчас, наша дружба носила несколько иной характер. Она не раз помогала мне; иногда мне удавалось отплатить ей тем же, — он пожал плечами. — Но Шарлотта слишком доверчива, неудивительно, что она столько раз выходила замуж. Она легко поддается чужому влиянию, особенно если подворачивается какой-нибудь эстетствующий альфонс. У нее, несомненно, большое сердце, которого хватает на всех, но не в этом дело. Видеть, как ее обводит вокруг пальца первый попавшийся смазливый аферист… Мало ли их съезжается на Капри — а она богата и любвеобильна. Вот и сейчас один такой толчется в доме — к моему стыду, тоже итальянец.
— Да Косса?
Сандберг кивнул.
— Он уже год кормится за ее счет. Во всех остальных случаях Шарлотта прислушивается к моему мнению, но, когда речь заходит о ее друзьях, она заявляет, что я ревную, и мы неминуемо ссоримся.
— Вы приняли меня за одного из них?
— А почему это вас удивляет? Судите сами: явно подстроенное знакомство, объявление себя человеком, умеющим рисовать, грубая лесть… Потом я навел справки и узнал, что в отеле вы зарегистрировались под другой фамилией. Я уже было решил, что вами должна заняться полиция.
— Я действительно рисую.
— Да-да, теперь я знаю…
Мы вышли на крыльцо и немного постояли там, вслушиваясь в вечерние шорохи.
— А я считал, что вы с да Коссой — большие друзья.
— И поэтому прониклись ко мне антипатией?
— Нет. Простите, сейчас я не могу с такой же откровенностью объяснить вам причину моего предубеждения.
— Уверен, что вашу ошибку можно простить, — так же, как мою.
В Неаполитанский залив входил морской лайнер, словно Млечный путь, сверкая огнями.
Я сказал:
— Попросите да Коссу написать для вас картину — что-нибудь вроде ”Фаральонских скал”.
— Зачем?
— Затем, что он ее не писал. Он лжет даже в этом.
Сандберг стоял на ступеньку ниже меня. При этих словах он резко повернулся и взглянул на меня в упор.
— Почему вы так уверены?
— Я видел его за работой. Вам ведь не составит труда определить, умеет ли человек управлять яхтой?
Он в задумчивости пошел рядом со мной к воротам.
— Скажите… Вас интересует Леони?
Теперь я ничего не имел против прямого вопроса.
— Да.
Сандберг открыл ворота.
— Она не в Риме.
— А где?
— В местечке, которое называется Полтано. Это горная деревня немного выше Амальфи.
— Почему она уехала?
— Я думал, вы знаете.
— Она вам ничего не сказала?
— Нет. Вчера после обеда села на катер. Потом капитан случайно обмолвился, что она сошла на берег в Сорренто. Если вам нужно в Рим, вы не станете высаживаться в Сорренто. Дальше было проще. Видите ли, я здесь всех знаю.
Мне подумалось: Сандберг мог быть опасным врагом, но и весьма полезным другом.
— Мадам Вебер знает?
— Конечно. Леони остановилась на одной из ее вилл.
— На одной из ее вилл?
— Мадам Вебер владеет недвижимостью в разных местах. Помните, как вы впервые ездили с нами в Амальфи? Это была деловая поездка. У нее несколько домов и квартир в том районе.
Я не находил слов. Сандберг немного подождал и добавил:
— Не нужно думать, будто мадам Вебер что-то имеет против вас. По-видимому, Леони понадобилось на несколько дней покинуть остров и она попросила Шарлотту помочь ей. При этом она могла связать мадам Вебер клятвой — раз она даже мне не сказала.
— Вы знаете точный адрес? Как мне найти ее?
Я почувствовал, что он улыбается в темноте.
— Пьяцца Сан-Стефано, 15. В Полтано только и есть, что площадь да церковь. Так что, если уж вы доберетесь до деревни, долго искать не придется.
* * *
Коксон все еще не появлялся, поэтому я поужинал и сел ждать его. Все, что свалилось на меня в эти несколько дней, перепуталось и как бы отдалилось. Сейчас меня главным образом заботило, почему уехала Леони. Я находил только одно — и весьма неприятное — объяснение. Что делать?
Вконец измучившись, я разделся и, лежа в постели, продолжал курить, пить и прислушиваться к звукам в соседней комнате.
Я пытался ”для разнообразия” думать о Гревиле, но по какой-то непонятной причине его образ ускользал от меня. Мне не удавалось даже отчетливо вспомнить его лицо, и я пожалел, что не прихватил с собой фотографию. Однако через некоторое время в памяти всплыл сорок второй год и наша встреча перед моим отбытием на флот. Тогда Гревил только что оставил научные исследования и просил, чтобы его зачислили в диверсионно-десантные войска (правда, из этого ничего не вышло). Помнится, он испытывал воодушевление, словно сбросил тяжкий груз с души, и одновременно досаду оттого, что некоторые друзья, из тех, кто не знали о направлении его научного поиска, смотрели на решение Гревила принять участие в боевых действиях как на сугубо патриотический акт. Ему было всего двадцать восемь лет, и они считали, что в нем заговорило благородство: мол, он не может отсиживаться в лаборатории. Гревил сказал мне: ”Конечно, я патриот и верен королю, отечеству и все такое прочее. Да и невозможно не быть патриотом перед лицом столь наглой агрессии. Но, если говорить честно, мой поступок продиктован в первую очередь верностью самому себе, всему, что мне дорого. Видит Бог, это не красивый жест, и уж во всяком случае здесь неуместно говорить об отваге и самопожертвовании. Любая попытка наклеить ярлык была бы проявлением идиотизма. Это решение не делает меня ни лучше, ни хуже, чем я был прежде. Просто у меня есть совесть и убеждения”.
Был ли Гревил так же тверд душой в последние минуты своего пребывания в Амстердаме?
Что-то важное сказал граф Луи Иоахим, но что именно? Внезапно я вспомнил: ”Ваш брат был одним из тех людей, которые ставят перед собой труднейшие, а то и невыполнимые задачи. Мне не раз приходило в голову: как такой человек перенесет поражение — в какой угодно области! Обыватель идет на гораздо меньший риск, начиная дело, и не столь эмоционально реагирует на победу… Тогда как человек высоких идеалов подчас не может найти в себе силы для компромисса. Не может или не хочет. Победа или смерть — ему ненавистна сама мысль об отступлении!”
Неужели Луи Иоахим понял Гревила лучше, чем любой из нас?
Ход моих мыслей был нарушен шагами человека, который — пусть даже я не знал всего — имел непосредственное отношение к тому, что случилось с Гревилом. В соседнюю комнату вошел Мартин Коксон.
* * *
Глядя на него, возникшего — немного погодя — в дверях моей спальни, можно было забыть о том, что в душе он вовсе не был моряком. Синий бушлат, устойчивость позы, властный вид человека, привыкшего отдавать команды… Однако это ощущение пропадало, когда вы замечали мертвенную бледность кожи, словно никогда не знавшей солнца, аристократические скулы, овал лица, достойный отпрыска Двенадцатой Египетской династии, красивые задумчивые глаза, в которых клокотала страсть… Он выпил — это было ясно.
— Ну и как оно? — спросил он от двери.
— Вы что-то загуляли, — заметил я. — Хорошо провели время?
— Божественно. Я не ждал вас раньше завтрашнего утра. Какие новости — хорошие или плохие?
Я впился в него глазами. Он хорошо держался, и только нарочитая безучастность выдавала повышенный интерес.
— Это зависит от точки зрения.
Возможно, я чем-то выдал себя. Мартин достал сигару.
— Они разыскали еще одного свидетеля, который видел, как Гревил спрыгнул в канал. Здесь нет подвоха: я встречался с этим человеком. Это — главная новость. Потом, всплыла какая-то история с наркотиками, — я пустился в подробности. Мне казалось, чем дольше я буду говорить — и, в общем, правду, — тем дольше и эффективнее смогу притворяться.
По окончании моего рассказа Мартин сказал:
— Значит, он все-таки…
— Да. Мое… наше подозрение не подтвердилось.
Мартин выбросил спичку и, засунув руки в карманы, несколько минут стоял, заслоняя собой проход. Я ждал.
— Что вы теперь чувствуете?
— Слепую злобу.
— На кого?
— Главным образом на себя. Я, словно фанатик, зациклился на том, что казалось неоспоримым, но в конце концов развеялось, как дым. Ну что ж, раз Гревил не был убит, нет смысла продолжать расследование.
— Что же вы собираетесь делать дальше?
— Перестану валять дурака. Все кончено, Мартин. Похоронено и забыто.
— Некоторые чувства, если предаваться им слишком долго, способны ожесточить человека, отравить кровь.
— Помогите мне разделаться с этой бутылкой.
Он покачал головой.
— Итак, вы прекращаете поиски Бекингема?
— Какие у меня шансы? Ни единого.
— Вы уже побывали на вилле ”Атрани”?
— Да. Леони уехала в Рим.
— Вчера после обеда. Я сам только вечером узнал. В противном случае, возможно, мне удалось бы если не отговорить, то хотя бы проследить за ней, — он с горечью посмотрел на кончик сигары. — Вряд ли мы увидим ее еще раз.
— Вы полагаете, она вернулась к Бекингему?
— … Да.
Я отпил немного вина. Мартин нерешительно стоял в центре комнаты.
— Мне жаль, что так случилось с Гревилом, — вдруг сказал он. — Чертовски жаль. Я понимаю, что это для вас значило.
Он явно переигрывал — потому что был пьян. Эти лицемерные соболезнования для меня были солью на раны. Но я сохранял самообладание.
— Чем вы сегодня занимались? Поймали что-нибудь стоящее?
— Я отдал почти весь улов хозяину лодки. Да несколько рыбешек — здешнему повару. Завтра попробуем.
— Вы рыбачили весь день?
— С одиннадцати часов. Все равно нечего делать — только транжирить время и ваши деньги. Гревил…
— Я сам хочу завтра покататься на лодке. Где вы обедали?
Мартин слегка замялся.
— Пристал к берегу в Амальфи. Поел и немного прогулялся. Там очень красиво. Вы бывали?
— Да.
Я весь похолодел. По выражению его лица я понял: он провел день с Леони. Я знал это так же точно, как если бы он сам мне об этом сказал. Леони вернулась к нему!
* * *
После его ухода я долго сидел на кровати. В пепельнице образовалась целая пирамида сизого пепла, комната пропиталась дымом. Я вышел на балкон и опорожнил пепельницу. Потом вернулся к себе и снова закурил. У меня дрожали руки. Что делать?
Наконец я спустился в вестибюль и прошел в телефонную кабину. К счастью, Сандберг еще не ушел с виллы.
— Простите, что беспокою в столь поздний час, но вы, помнится, обещали мне, когда понадобится, шлюпку?
— Какой разговор? Когда она вам нужна?
— Скорее всего, завтра… завтра утром. Хочу порыбачить. Конечно, если у вас у самого нет такого намерения.
— Моя шлюпка всегда к услугам моих друзей. Я оставил на яхте Эрнесто. Если утром вы увидите его раньше меня, передайте, что я разрешил вам взять лодку.
— Большое спасибо. Надеюсь поймать… хотя бы одну рыбку.
— Вы не слишком тщеславны.
— Пожалуй.
После небольшой паузы:
— В конце концов, это ваше дело.
— Спасибо за отсутствие любопытства.
— Я просто осторожен. Кстати, я сказал да Коссе насчет картины.
— И что же он?
— Кажется, будет потеха! Он у меня попрыгает!
— Желаю удачи, — сказал я.
— Я вам тоже желаю удачи.
* * *
Вернувшись к себе, я натянул свитер, хлопчатобумажные брюки и старые теннисные туфли. Дождался, чтобы у Мартина погас свет, а после этого дал ему еще полчаса. Мне было не обязательно спускаться по лестнице. В то утро, когда мы собирались ехать к Голубому гроту, я просто перемахнул через перила балкона и прошел садом. И сейчас сделал то же самое.
Около двух часов я был на причале Пиккола Марина. Луна зашла, но все равно хватало света, чтобы разглядеть стоявшую на якоре яхту. Я приготовился добираться вплавь, но оказалось, что в этом нет необходимости: шлюпка уже была спущена на воду и покачивалась возле пирса. Кто угодно мог украсть ее. Но, очевидно, мадам Вебер была права, утверждая, что здесь, на Капри, мелкое воровство не в почете.
На яхте было темно. Мне понадобилось всего десять минут, чтобы осмотреть лодку и сделать кое-какие приготовления.
После этого я вернулся в отель и лег спать. Не могу сказать, что я спал, как дитя, но все же мне удалось немного расслабиться, и меня не преследовали кошмары. Должно быть, берегли силы для завтрашнего дня.
Глава XVIII
Мы вместе позавтракали у меня на балконе. Настроение Мартина показалось мне странным: он был и напряжен, и непривычно тих. Вокруг глаз залегли тени.
Я сказал:
— Сандберг одолжил мне свою моторную лодку. Хочу обогнуть Фаральонскую гряду.
— Зачем? Скалы как скалы.
— Легенда утверждает, будто там водятся голубые ящерицы.
— Добрая порция ”скотча” доставит вам куда большее удовольствие.
Я упрямо гнул свою линию.
— Все равно нам больше нечего делать. Домой я поеду только после того, как повидаюсь с Леони. Ну так как, едем?
С минуту он молча пережевывал пищу, устремив невидящий взгляд в море.
Стоял великолепный, теплый день; горизонт таял в дымке тумана.
— Нет, Филип. Не думаю, что я составлю вам компанию.
— Что-нибудь случилось?
— Случилось? Нет. Ничего.
— Вы как будто притихли.
— Я в полном порядке.
— Жалеете о потраченном даром времени?
— Нет, с какой стати.
— Мне самому здорово не по себе, — признался я.
— Да, Филип. Я понимаю ваши чувства.
”Неужели?” — подумал я.
В конце концов мне удалось его уговорить; мы запаслись сэндвичами и в одиннадцать были уже на берегу. Сандберга не было, но оказалось, что он уже побывал там и отдал распоряжение насчет лодки. Я запустил мотор, и мы, не особенно торопясь, двинулись в открытое море. Загоравшая Джейн весело помахала нам рукой. Стояла не характерная для этого времени года жара; над морем висело огромное туманное облако — точно пар из чайника. Оно долгое время оставалось неподвижным, и вдруг от него отделился клочок и двинулся к другому берегу. Помню глиссер, оставлявший за собой белые свежевспаханные борозды; человек у руля получал видимое удовольствие, врезаясь в самую гущу тумана, вспарывая ее и выныривая с другой стороны. Я бы не позавидовал тем, кто в это утро случайно оказался бы у него на пути. Вдали виднелось несколько рыбачьих лодок, а за ними — пара катеров, отчаливающих от берега.
Мартин сидел на веслах — в голубой тенниске и полотняных брюках. Он предлагал заняться мотором, но я взял это на себя. Он не стал возражать, а подобрал со дна лодки моток лески и начал разматывать ее, щурясь, когда в глаза попадал дым от его собственной сигареты.
Вскоре он поднял голову и спросил:
— Далеко собираетесь плыть?
— Мы еще не прибыли на место. Не беспокойтесь. Весь день в нашем распоряжении.
— Как хотите, — ответил он. — Вы — шкипер.
Начал захлебываться мотор, и я занялся им. Не хватало еще, чтобы что-нибудь случилось раньше времени.
— Странно, что Леони так неожиданно уехала, — сказал я.
— Вы так думаете? Но этого следовало ожидать.
— Вы как будто высказали предположение, что она вернулась к Бекингему?
— По-моему, это вполне вероятно.
— Но ведь она спешно покинула Голландию, чтобы избавиться от него.
— Это она вам сказала?
— Это вытекает из письма.
Мартин потянул за одно весло, описывая круг.
— Видимо, женщинам не так-то легко навсегда вычеркнуть таких, как Бекингем, из своей жизни.
— Я часто задаю себе вопрос…
— Какой?
— Почему многие женщины сходят с ума по подлецам и авантюристам?
— Потому что то, что вы называете злом, выглядит привлекательнее.
Мы отъехали довольно далеко от берега. Я не оборачивался, но боковым зрением видел маячившие на берегу скалы. Пора решать, что делать.
— Я вот думаю о Гревиле…
— Господи! — воскликнул Мартин. — Я уж думал, что мы с этим покончили. Что тут можно добавить?
— Я долго не мог понять: почему, если он не чувствовал за собой вины, Гревил сопротивлялся обыску? Казалось бы, его неосведомленность не вызывает сомнений. Но сейчас я склоняюсь к другой точке зрения. Возможно, ко времени прихода полицейских многочисленные разрозненные подробности, касавшиеся поведения Бекингема, кое-какие слухи, достигавшие его ушей на Яве, или обрывки разговора между таможенниками в аэропорту, — возможно, все это сложилось наконец в стройную картину и Гревил догадался, что находится в ящике, среди экспонатов для Британского музея. И в нем сработал импульс: защитить Бекингема! Не оправдать его поступок, но помочь ему избежать ареста — ради дружбы забывая о себе.
— У вас богатое воображение.
— Тут не одно воображение. Вы знали, что Гревил вел дневник?
Мартин почесал руку, поглядел на покрасневший участок кожи и вообще всячески тянул с ответом.
— Это был не дневник в полном смысле слова, — продолжил я. — Так, деловые записи, но в последнее время Бекингем стал занимать в его мыслях большое место. Я убежден: Гревил считал Бекингема выдающейся личностью, которая по несчастливой случайности сбилась с пути. Догадавшись о низком обмане, он прежде всего думал не о себе, а о том, как спасти этого мерзавца.
— Много же вам известно!
— К сожалению, еще не все. Например, я не знаю, что произошло после ухода полицейских. Думаю, Бекингем как-то пронюхал об их визите, — возможно, наблюдал за отелем, а потом позвонил по телефону-автомату, чтобы узнать, что случилось. Должно быть, Гревил пришел в ярость, и Бекингем предложил встретиться на мосту в ”Барьерах”. Разговор состоялся. Осознав всю глубину морального падения Бекингема, втянувшего его в гнусную авантюру, и то, какого он свалял дурака, позволив обвести себя вокруг пальца точно младенца, Гревил оказался не в состоянии это перенести и покончил жизнь самоубийством.
Мартин бросил леску обратно на дно лодки.
— Но почему? — прорычал он.
— Что — почему?
— Из всего сказанного вовсе не вытекает необходимость сигать в канал. Вы не привели ни одного убедительного довода! Ни одной уважительной причины!
Он достал вторую сигарету и прикурил ее от первой.
— Причина была, — возразил я. — Кто высоко летает, низко падает. Самоубийство есть акт безумия.
Он выбросил в море недокуренную сигарету и проследил за ее траекторией.
— Вот именно. Ваш брат был фанатиком без малейшего чувства юмора или хотя бы чувства меры. Святая Тереза в шортах цвета хаки и солнечных очках! Иоанн Креститель, которого ровным счетом никто не преследует, разве что собственная глупость. Жалко, что мы давным-давно этого не поняли — это избавило бы нас от многих неприятностей.
— Вам-то с какой стати жаловаться? Его прыжок избавил вас от всех неприятностей на свете!
Мартин медленно сгибал сигарету, пока она не переломилась пополам. Когда он выбрасывал то, что от нее осталось, за борт, мышцы его рук напряглись до предела, однако выражение лица осталось прежним. Ну, разве что скулы показались мне более резко очерченными, а височные впадины — более углубленными.
— Давно вы знаете?
— С тех пор, как получил письмо от Пангкала.
— А до этого?
— Так, смутные подозрения.
— Давно?
— С самого начала. Коробка сигар у вас на столе — ”Эль Торо”.
— А что такое?
— Их производит фирма ”Клаасен оф Хаперт”. Гревил любил эту марку и доставал, где только мог. Это его подарок?
— Да.
— В Англии их не встретишь на каждом углу.
Он посмотрел на берег, на меня и пустынное, залитое солнцем море, словно что-то прикидывая в уме.
— Значит, вас удивило мое согласие сопровождать вас в Голландию?
— Я подумал: если вы каким-то образом замешаны в эту историю, возможно, для вас имело смысл проследить, как бы я до чего-нибудь не докопался. Впрочем, теперь я понимаю: вам ничего не грозило.
Он мрачно сверлил меня взглядом.
— Абсолютно ничего не грозило.
— Тогда зачем вы поехали?
— Какая теперь разница?
— Надеялись напасть на след Леони?
Мартин пожал плечами.
— Она исчезла без единого слова — во всяком случае, так это выглядело. Я терялся в догадках, а вернувшись в Англию, отправился к ее матери, но она не дала мне ее адреса.
— Вы уж больно спешили покинуть Амстердам. Это было неосторожно с вашей стороны.
— Когда я услышал, что с Явы возвращается их сотрудник, я понял: надо рвать когти. И потом… после стычки с Джоденбри… он мог меня выдать.
Какое-то время мы оба молчали. Солнце жарило вовсю. Глиссеру надоело играть с туманом, и он умчался в сторону Неаполя. Мы с плохо скрываемой ненавистью уставились друг на друга.
— Тот фарс в ”Барьерах” сбил меня с панталыку, — признался я. — Мне показалось, что мои подозрения беспочвенны.
— Какой еще фарс?
— Я имею в виду то, что вы назвали ”стычкой с Джоденбри”.
— Спросите его самого — посчитал ли он это фарсом!
— Тогда почему вы с ним сцепились?
— Вам не понять, даже если бы я попробовал объяснить.
— Попытайтесь.
— Как-нибудь в другой раз.
— Другого раза не будет.
Я изменил курс, так что мы описали дугу и вновь шли к берегу. Наш путь лежал прямо через толщу тумана. Мартин, сидевший спиной к берегу, оглянулся и вдруг сказал:
— Филип, если вы что-то задумали, советую бросить.
Я проигнорировал это предупреждение и продолжал допытываться:
— Когда вы откликнулись на мое приглашение на Капри, это также ввело меня в заблуждение. Я подумал: будь вы Бекингем, вы побоялись бы неожиданно предстать перед Леони: застигнутая врасплох, она могла вас выдать. Однако вас это не смутило. Почему?
— Я заранее дал ей телеграмму — в аэропорту Неаполя, как только узнал от вас адрес.
Я первым нарушил наступившее молчание:
— Теперь, когда мы одни в открытом море и дальнейшее притворство не имеет смысла, расскажите, что произошло во время вашей последней встречи с Гревилом.
Мартин заколебался и окинул меня оценивающим взглядом. Я уже думал, что он откажется отвечать, но, по-видимому, он решил, что если достаточно долго заговаривать мне зубы…
— Мы договорились встретиться на мосту. Он обвинил меня в том, что я втянул его в грязные махинации, и потребовал вытащить его из грязи. Я спросил: каким образом? Я надеялся, что смогу благополучно провернуть эту жуткую авантюру с опиумом и он так ничего и не узнает. Но мне не повезло. Он ни разу не дал мне возможности остаться одному в его комнате. Иначе я бы изъял товар и успел передать Джоденбри. В тот самый день, когда нагрянула полиция, я уже было почти уговорил Леони как-нибудь выманить Гревила из номера. Но все пошло вкривь и вкось. Да. Все пошло наперекосяк. Так я и сказал Гревилу. А еще я сказал: нечего ему разыгрывать удивление, что я злоупотребил его дружбой. Я никогда не скрывал от него свою жизненную философию и не пытался казаться лучше, чем я есть. Если ему было угодно подыскивать мне оправдания и строить замки на песке, сам виноват, что сия постройка рухнула при первом же соприкосновении с грубой действительностью. Он сам себя надул и сам несет ответственность!
Мы приближались к средоточию тумана.
— Что он ответил?
— Нетрудно догадаться. Что-то вроде того, что я должен сделать выбор и достойно встретить последствия. Я заявил: и не подумаю! И ушел.
— Не оставив ему ни тени надежды.
— На что?
— Что вы передумаете и явитесь с повинной.
— О, да. В этом он мог быть абсолютно уверен. Это он, а не я, пекся о моральной стороне дела. Я сказал: пусть делает, что хочет. Хочет — пускай идет в полицию, если это может доставить ему удовольствие. А если это ему не подходит… Он вечно разглагольствовал о добродетели и самопожертвовании — вот пусть бы и продемонстрировал на деле. Не только передо мной — перед ним тоже стоял выбор. Если проповеди типа: ”Возлюби ближнего больше себя самого” — не пустой звук, ему представился великолепный шанс воплотить слова в поступки.
Я не спускал с Мартина глаз.
— Если Гревил получил по заслугам, полагаю, вы не станете жаловаться, если с вами произойдет то же самое?
Мартин мгновенно почуял опасность. Он побывал слишком во многих передрягах и теперь, когда мы очутились в плотных тисках тумана, понял, что близится миг расплаты.
— Не беспокойтесь, — заверил я, почти физически ощущая на себе его тяжелый взгляд, — у меня нет ни ножа, ни пистолета. Вас невозможно повесить за смерть Гревила. В конце концов, вы тут ни при чем. Ну, так и я ни при чем.
Он продолжал тревожно следить за мной; его и без того тонкое чутье перед лицом нависшей угрозы предельно обострилось.
Я продолжил:
— Крысы умеют плавать. И ты, сволочь, плаваешь наверняка получше Гревила.
С этими словами я вытащил из днища затычку и выбросил за борт. Мартин кинулся на меня, но я успел отскочить и, лягнув его ногой, прыгнул в воду.
* * *
Когда я вынырнул, кругом был густой, липкий туман. Шлюпка медленно, неотвратимо погружалась в морскую пучину. Мартин по-прежнему находился в ней и предпринимал отчаянные усилия, чтобы снять мотор и таким образом уменьшить ее вес. Напрасные старания. Вчера вечером я обо всем позаботился. Я ухватился за весло и навалился корпусом на борт. Лодка сильно накренилась. Мартин обернулся и хотел мне помешать, но опоздал: шлюпка быстро уходила под воду. Я успел нырнуть и отплыть от нее на безопасное расстояние. Мартин потерял равновесие и выпал из шлюпки. Когда я поднялся на поверхность, он тоже барахтался в воде. Туман постепенно стал менее густым, можно было разглядеть край острова. Лодка почти полностью затонула. Еще бы: ведь я набросал под сиденья тяжелых камней. Нас ожидал долгий заплыв — если мы хотели добраться до берега.
Я подплыл к Мартину, нырнул, открыл глаза и, увидев его прямо над собой, схватил за ногу и потянул вниз. Другая его нога отчаянно брыкалась. Я держал его до тех пор, пока хватало дыхания, а затем вынырнул и судорожно втянул в легкие воздух. Через несколько секунд он тоже появился на поверхности, но не напал на меня, а направился к берегу. Я — за ним.
К тому времени, как я его догнал, мы были уже за пределами туманного облака. Я снова поднырнул под Мартина, но на этот раз он оказал серьезное сопротивление. Увернувшись, он в свою очередь совершил ряд удачных маневров и едва не вцепился мне в горло. Однако и мне удалось ускользнуть. Теперь уже я оказался над ним и нанес ему сильный удар ногой по голове.
На этот раз он дольше задержался под водой и наконец всплыл, откашливаясь и отплевываясь. Наши взгляды встретились. Он ничего не сказал, а отвернулся и поплыл к берегу. Какое-то время я держал дистанцию. Мартин раз-другой оглянулся, чтобы удостовериться, что я плыву следом. До берега все еще было далеко.
Я нырнул и захватил руками обе его икры. Он стал отбрыкиваться, но я мертво держал его. Мы оба пошли ко дну. Он изловчился, скрючился и, дотянувшись рукой до моего подбородка, начал заводить мне голову назад. Так, наверное, погиб Гревил. Вода во рту, в легких, в мозгу… Здесь, конечно, она чистая, не то что в вонючем канале, но точно так же несущая смерть. Мартин Коксон погибнет вместе со мной. Мы утонем вместе. Это не совсем то, чего я добивался. Жизнь за жизнь, гласит Ветхий завет. Две жизни за одну — это уж слишком.
Я невольно ослабил хватку, и Мартин тотчас вцепился мне в горло. На мгновение наши лица оказались очень близко друг от друга. Не беда. Скоро его бездыханный труп будет качаться на волнах.
Я пробкой выскочил на поверхность. В легкие попала вода, и теперь уже мне пришлось откашливаться и отплевываться. Главное — продержаться еще немного. Я боялся потерять сознание. Ярко светило солнце; шум воды казался оглушительным; туман почти рассеялся.
Мартин цепко держал меня. Я было подумал, что его силы на исходе, но он пустил в ход последние резервы. Я попытался вырваться, однако он был сильнее. И вдруг он заговорил, сразу несколькими голосами. Что-то подцепило меня за подмышки и вытащило из воды. Из-за паруса сверкнуло солнце.
Рыбацкая шхуна… Отчаянно глотая воздух, я пойманной рыбой распростерся на палубе. Какой-то человек, склонившись над мной, заговорил по-итальянски. Однако в центре внимания был не я, а что-то за бортом. Двое других рыбаков суетились на корме, выстреливая пулеметные очереди слов. Третий бросил меня и побежал туда же. Я лежал, прислушивался к их возгласам и с горечью убеждался в том, что сейчас они спасают Мартина Коксона.
Его тень нависла над палубой. Еще мгновение — и он, без сознания, свалился рядом со мной. Товарищ по несчастью. Славные итальянские рыбаки совершили богоугодное дело. Видя, что я пошевелился, они обрушили на меня шквал вопросов. В конце концов я понял: их интересует, не было ли в затонувшей лодке еще кого-нибудь. Я помотал головой. Они успокоились и, оставив меня самостоятельно приходить в себя, занялись Мартином.
Он совершенно выбился из сил и начал синеть. Какую-то долю секунды мне казалось, что дело сделано и постороннее вмешательство уже ничего не изменит. Однако один рыбак владел техникой искусственного дыхания, так что через пять минут Мартин начал приходить в чувство. Другой рыбак юркнул в маленький кубрик и вернулся с двумя стаканами и фляжкой ”Кьянти”. Мартин еще не мог сделать ни глотка, я же одолел свой стакан и почувствовал себя лучше — в физическом смысле.
Маленький толстенький итальянец — кажется, он был здесь главным — присел рядом с нами на корточки и задал вопрос на родном языке. Я беспомощно покачал головой. Тогда он немного подумал, а затем показал пальцем на себя и на шхуну и произнес:
— Салерно.
Я кивком дал знать, что понял. Он ткнул пальцем в мою сторону.
— Капри?
Я заколебался. Мартину постепенно становилось лучше. Нам рано возвращаться на остров. Дело должно быть доведено до конца. Коротышка сделал еще одну попытку:
— Сорренто?
Меня вдруг осенило.
— Амальфи.
Он расплылся в широкой улыбке, демонстрируя золотые коронки и, как ребенок, радуясь тому, что, во-первых, мы поняли друг друга, а во-вторых, нам оказалось по пути. Он окликнул рулевого, и они пустились в жизнерадостную дискуссию — насколько я понял, пытались определить, чья шлюпка стала жертвой нашей нерасторопности.
Ко мне быстро возвращались силы, и так же быстро под палящими лучами сохли рубашка и брюки. Под Коксоном растеклась темная, похожая на кровь, лужа; от его сандалет шел пар. Он полулежал неподалеку от меня, но я не видел его лица. А неплохо бы взглянуть. И вдруг я услышал его голос — он немного владел итальянским.
Странное чувство. Вы провели с человеком достаточно времени, чтобы почти подружиться, и вдруг пытаетесь убить его. Вас постигает неудача, и вот вы снова должны посмотреть друг другу в глаза. В моей жизни не было прецедента, от которого можно было бы оттолкнуться, а время эвфемизмов ушло без возврата. Шпаги наголо. Вас окружает атмосфера ненависти. Вражда никуда не делась: слишком глубоки ее корни. Даже если бы я был готов простить его прошлую вину, будущее властно напоминало о себе. И, если бы между нами не стоял Гревил, ничего не изменилось бы, потому что оставалась Леони. Он, несомненно, чувствовал то же самое.
Я был уверен: он чувствует то же самое. Но вот он повернулся ко мне лицом, и моя уверенность испарилась.
Глава XIX
— Я хочу… — с трудом вымолвил Мартин, — поговорить с вами.
Я придвинулся поближе, чтобы лучше его видеть. У него были губы цвета оконной замазки.
— Собираясь кого-то убить… — продолжал он, — не делайте ошибки… не деритесь по всем правилам.
— Не беспокойтесь, у меня еще все впереди.
Он вытер рот тыльной стороной ладони. Рядом сидели на корточках двое итальянских рыбаков, но они явно не кумекали по-английски.
— Впереди, — повторил Мартин. — Может быть… но сейчас… прежде чем вы предпримете новую попытку… расскажу вам кое-что… если уж у вас такая мания — знать…
— Я и так знаю достаточно.
— Но еще не все, — он проглотил комок и с минуту лежал молча. Потом поерзал, пытаясь приподняться. Один из итальянцев пришел на помощь. Мартин кивнул ему и двумя растопыренными пальцами отбросил прядь со лба. — Я как раз намеревался объяснить вам перед тем, как вы затопили лодку. Хотел выбить у вас из головы кое-какие неверные представления… о нас с Гревилом. Вы считаете, что я его использовал? Да. Думаете, я его предал? Так оно и было. Но, если вы пришли к выводу, что он для меня ничего не значил, вы очень ошибаетесь. Я любил его, идиот вы этакий, больше, чем кого-либо другого за всю свою жизнь, — разумеется, если говорить о мужчинах. Надеюсь, вы не заподозрите меня в гомосексуализме?
Мартин закрыл глаза. Маленький шкипер с лучезарной улыбкой проследовал мимо нас. Он так гордился, словно вытащил рекордный улов.
— К чему вы клоните? — резко спросил я.
— А вот к чему. Мы сошлись, Гревил и я, и в течение двух месяцев парились вместе в той душегубке. Единственные белые люди на всю округу. Сначала меня вынудили обстоятельства: это был единственный шанс вывезти опиум. Но потом я оценил его общество. Мы проводили дни в трудах, а вечера и ночи — в дискуссиях. Начав с ”питекантропус эректус”, мы дошли до принципов бытия и внутренних движущих сил — не только в духе Аристотеля. Понимаете, что я хочу сказать?
— Возможно, я бы понял, если бы мог хоть чуточку верить вам.
Он какое-то время молчал — может быть, даже не расслышал мою реплику.
— Он был самой яркой личностью из всех, кого я знал. Не таким, как все. И мозг у него был устроен иначе, нежели у других людей. Адски умен. Мы вели беседы — вечер за вечером, ночь за ночью — обо всем сущем. Оттачивали умы. Поднимали планку на такую высоту, о существовании которой я даже не подозревал. Может быть, и он тоже. Вам наверняка знакомо чувство наслаждения, получаемое от высшей математики, когда покоряешь одну вершину за другой. Вам известен азарт, когда гоняешься за чем-то неохватным…
Над нашими головами захлопали паруса; заскрипели доски. Мы приближались к материку.
— С тех пор мне постоянно этого не хватает. Конечно, между нами случались и размолвки. Мы слишком по-разному смотрели на вещи. Но противника можно уважать. Борьба тоже сплачивает. Чем сильнее нанесенный вам удар, тем больше ценишь силу и ловкость соперника. В бою рождается почти интимное чувство. Даже не соглашаясь с его взглядами, нельзя было не восхищаться им самим, его убежденностью. Он был абсолютно лишен своекорыстия. Абсолютно неподкупен.
— Вы так высоко его ценили, что предали, заманили в ловушку и предоставили самому выбираться из клоаки. Не так ли?
Мартин пошарил в кармане, достал насквозь промокшую пачку сигарет и, резко сощурив глаза, уставился на нее.
— Я не претендую ни на какие добродетели, но мне нельзя отказать в последовательности. Не правда ли, это не вяжется с вашей идеей Джекила и Хайда? Да, я последователен — и поэтому предал его. Ну так что? Я уже говорил вам, что никогда не скрывал от него своих взглядов. Тот опиум тянул на целое состояние. Я просадил все до последнего пенни, мне чудом не перерезали горло. Что вы предлагаете — чтобы я утопил его в первой попавшейся речонке?
— Да.
— А вместе с ним — все, чем дорожил в жизни? По-вашему, мне следовало прийти к вашему брату и сказать: ”Дорогой Гревил, я возродился душой!”?
Он говорил очень тихо, однако неожиданно мощным движением, словно в исступлении, швырнул пачку сигарет на борт. К нему постепенно возвращались силы. Вот только пальцы дрожали.
— И теперь вы мне все это говорите, чтобы одержать над ним теоретическую победу?
— К черту теории! Если мои убеждения отличаются от ваших, почему нужно отказывать мне в искренности?
— Да потому, что ради вашего стремления оставаться самим собой вы погубили человека, которого, по вашему признанию, ставили выше всех в мире — я правильно понял? Вы подставили его, вынудили таскать для вас каштаны из огня, втянули в свое мерзкое преступление — и не оставили ему никакого другого выхода, как погибнуть в грязном канале на задворках Амстердама!
— Да, я оставил его на задворках. И это все! Как я уже говорил, мы договорились о встрече. Я был вне себя от злости: мой план полетел ко всем чертям. Ему стоило сделать одну-единственную вещь, и все было бы нормально. И что же? Оказалось, что он ждет от меня жертвы, к которой я был совершенно не готов! Чего ради? Так что я плюнул и слинял в Англию — первым попавшимся катером. И только по прошествии двух дней узнал о случившемся. Я так же, как и вы, ни на йоту не допускал мысли о самоубийстве и решил, что это дело рук Джоденбри либо кого-нибудь из его шайки. Чтобы такой умница свалял такого дурака!..
Итальянцы, все это время крутившиеся возле нас, отошли на другой конец шхуны. Должно быть, они решили, что мы повздорили из-за затопленной лодки. Один стоял, вперив взгляд в приближающийся берег. Мартин перевел дух и повторил:
— Сроду не поверил бы, что такой умный человек мог свалять такого дурака! Вплоть до вчерашнего дня…
— То есть, вам нужно было свалить на кого-нибудь вину.
— То есть, мне было нужно найти во всем этом хоть какой-то смысл. Разве вам кажется, что в этом есть смысл? Кажется даже сейчас? Почему, по-вашему, я пошел на риск и отправился с вами в Амстердам? Почему, рискуя быть разоблаченным, явился сюда? Ради Леони? Это было не главным. Со временем я так или иначе нашел бы ее. Почему поощрял ваши поиски — даже когда казалось, что вы вот-вот отступитесь? Потому что нам обоим было важно доказать одну и ту же вещь. Разве не так? — Он сел, прислонившись к борту, и прошептал: — Его самоубийство ничего никому не доказало и явилось слепым актом разрушения. Человек взял и выбросил в канал свою жизнь — ради красивого жеста! Вот что меня убивает! Взял и выбросил жизнь — к чертям собачьим!
Он разглагольствовал так горячо, что на какую-то минуту я поверил. Будь ему все равно, он не говорил бы так. Антагонизм между нами на какую-то минуту исчез. У нас была общая цель — и общее поражение!
После продолжительной паузы я сказал:
— И все-таки я могу это понять.
— Ради Бога, не говорите мне, что вы одобряете его поступок!
— Нет. Но я пытаюсь поставить себя на его место. Возможно, ему показалось, что в ваших словах есть доля истины и он частично виноват. Не это ли вы постарались внушить ему?
— Черт побери! Ну ясно, я был зол, мы поцапались, люди не всегда взвешивают свои слова…
— Так или иначе, вы их произнесли, и он оказался во власти страшных мыслей: опиум найден у меня, этот человек — мой друг, что же мне делать? Мы столько дискутировали как раз о таких вещах. Что делать?
— Он что, решил, будто спасает меня этим безумным актом? Какого черта…
— Раньше у меня тоже не укладывалось в голове… зная убеждения Гревила… что он способен лишить себя жизни. А теперь я вижу: именно эти убеждения — и вы — подтолкнули его к краю бездны. Для христианина добровольная смерть — символ самого тяжкого поражения, не правда ли? Но где кончается самоубийство и начинается самопожертвование? Как, например, расценить поступок Оутса, покинувшего палатку во время последней экспедиции Скотта?
Мы долго молчали. Мартин заговорил первым:
— Да, время от времени вы очень походите на него. Эта привычка пристегивать ко всему моральные принципы. Но попробуйте приложить их к той ситуации. Если, по-вашему, он жертвовал собой, то каким образом он рассчитывал меня спасти — и от чего? От ареста и тюремного заключения? Да я бы справился и без его помощи! Подумаешь — полиция объявила розыск! Меня и так уже несколько лет ищут как Бекингема. Нет, он лишь взвалил на меня тяжкое бремя. Это ужасно. Почему я должен до конца нести этот крест?
— Можете не нести. Вам будет нетрудно от него освободиться — коль скоро вы считаете себя правым.
Мы как-то незаметно приблизились к берегу. Я узнал высоченные, словно башни, скалы в окрестностях Амальфи. Подошел шкипер и что-то сказал Мартину. Тот резко повернулся ко мне.
— Какого черта вы сказали, будто нам нужно в Амальфи?
— Потому что я считаю преждевременным возвращаться на остров.
— Почему?
— Мы еще не закончили наш маленький спор. Как ни жаль вас разочаровывать.
Мартин воззрился на меня. Ему помогли подняться; я встал без посторонней помощи. Наступило время сиесты, и на причале не было никого, кроме двоих, задремавших в тени. Тарахтел готовый отойти от пристани автобус.
Я пожал руку шкиперу и поблагодарил за спасение. Он понял, просиял и похлопал меня по плечу. Коксон не проронил ни слова.
Уже собираясь сойти на сушу, он спросил:
— Эти люди из Салерно. Почему вы предпочли Амальфи?
— А разве не здесь, — ответил я вопросом на вопрос, — прячется Леони?
Глава XX
Обессиленные, мы стояли на причале — ни дать, ни взять товарищи по несчастью — и наблюдали за тем, как рыбацкая шхуна исчезает вдали. Я так и не узнал фамилии шкипера, а если и прочел ее на борту, то не запомнил. Мы стояли рядом, Мартин и я, и от нашей все еще влажной одежды валил пар.
— Это слишком далеко зашло, — сказал Мартин.
— Да — и поэтому так просто не кончится.
— Что вы предлагаете — сразиться врукопашную, прямо здесь, на причале?
— Нет. Я должен увидеться с Леони.
— Послушайте, — выдавил из себя Мартин. — Оставьте ее в покое. Леони совершенно ни при чем. Она не имеет к Гревилу ни малейшего отношения.
— Зато имеет отношение ко мне.
— Вам померещилось. Это ничего не значит. Она вернулась ко мне. Предупреждаю — держитесь от нее подальше!
Я пригладил рукой волосы и, вынув из кармана носовой платок, хотел отжать, но оказалось, что он уже высох. Мартин спросил:
— Вы куда?
— Я уже сказал.
— Ну, и что толку, если даже вы с ней встретитесь?
— Слушайте, Мартин. Если хотите, можете догонять автобус, я не могу вам помешать. Вы вольны идти на все четыре стороны. Но, конечно, вам выгоднее всего следовать за мной. Потому что, пока я жив, ваша жизнь под угрозой.
Я прошел по пристани, мимо не успевшего отойти автобуса, и свернул в центр маленького городка. Миновав собор, я поднялся вверх по узкой улочке, где Леони в прошлый раз купила шарф. Мне с трудом удавалось держаться на ногах. Я не проверял, идет ли за мной Мартин.
Лавка, где она купила шарф, оказалась на замке, так же, как и остальные, но на крыльце забавлялись с котенком двое старших ребятишек. Они меня узнали. Я произнес: ”Полтано”, и на меня обрушился водопад незнакомых слов. Я замахал руками: ”Lento, lento!”[13]
К счастью, один из них немного говорил по-английски, и в конце концов нам удалось понять друг друга. Как выяснилось, удобнее всего идти по шоссе, но для этого нужно вернуться к морю и сделать крюк до следующей деревушки; если же меня не пугает крутой подъем, можно карабкаться дальше по этой улочке, а потом по высохшему руслу небольшой речки, до второй разрушенной мельницы. Оттуда будет видно шоссе, но добираться до него придется сквозь кустарник, по бездорожью, хотя и всего несколько десятков метров.
Я поблагодарил мальчишек и, повернувшись, увидел на углу Мартина — он следил за мной.
Улочка круто забирала вверх и вскоре потерялась среди апельсиновых и виноградных зарослей, утонула в высокой сорной траве. Я миновал несколько полуразвалившихся лачуг; меж камней бродили куры. Наконец показалось высохшее русло с проглядывающей сквозь траву галькой. Извиваясь, оно повело меня дальше, в лощину.
Один раз я остановился, но не увидел Мартина. Солнце пекло, как в июле, с меня ручьями струился пот. Я очутился в пустынной, заброшенной местности и, даже дойдя до первой разрушенной мельницы, не заметил никаких признаков жилья. Лощина становилась все уже, постепенно переходя в ущелье. Я ни о чем не думал, а полностью сосредоточился на ходьбе. Дойдя наконец до второй мельницы, я ощутил смертельную усталость и, обернувшись, стал напряженно вглядываться в пейзаж, ища Коксона, но он так и не появился. Я продолжил свой путь.
Миновав вторую мельницу, я снова решил оглядеться. Было очень тихо — ни одна птаха не щебетала в кустах. Там-сям, развесив уши, точно диковинные зверьки, росли кактусы. Наконец на расстоянии в две-три сотни футов от меня в просветах между кустами мелькнуло шоссе. К нему нужно было карабкаться по крутому склону, заросшему колючим кустарником. Очевидно, для мальчишек это не составляло труда, а тем более для маленьких итальянцев, о которых известно, что они лазают, точно обезьянки. Мне же придется нелегко.
Проделав половину пути, я остановился передохнуть. Мартина по-прежнему не было видно. Похоже, он отступился. Глупо было предполагать, будто он за мной последует. И все же…
Я взглянул наверх — он стоял там и ждал меня.
Сначала я решил, что он нашел более короткий путь, но потом сообразил, что он сел в автобус из Салерно. Итак, он опередил меня. Хочет первым явиться к Леони!
Однако на уме у него было не только это. Рядом с ним на парапете лежало несколько увесистых булыжников, каждый не менее двадцати фунтов весом.
— Эй! — крикнул Мартин. — Ты меня слышишь?
Я не удостоил его ответом, а продолжал карабкаться вверх.
— Возвращайся назад, Филип! Я тебя предупредил! Тебе здесь нечего делать!
Мне было бы в десять раз легче, если бы я мог не испытывать никаких чувств. Оставаться холодным и отчужденным. Но я не мог. Старая, укоренившаяся дружба делает вражду более горькой и более яростной. Будь я спокойнее, когда схватился с ним в море, он бы сгинул до появления рыбацкой шхуны. Будь я спокойней сейчас, у меня бы не дрожали руки, и я не спотыкался о каждый торчащий из земли корень.
Подобравшись ближе, я заметил, что его лицо блестит от пота.
— Все, Филип, — крикнул он. — Ни шагу дальше!
Мы пожирали друг друга глазами. От парапета меня отделяли добрых двадцать футов. Я сделал шаг вперед, и он пустил с горы первый булыжник. К счастью, я успел прижаться к земле: камень прогрохотал у меня над головой и покатился дальше.
Я посмотрел по сторонам. Можно было ползти параллельно дороге, но рано или поздно все равно придется выпрямиться. Я попробовал двинуться вверх — мимо прогрохотал второй камень.
— Следующий тебя прикончит, — пообещал Мартин.
Я был того же мнения, поэтому несколько секунд лежал не шевелясь. В моем укрытии было относительно безопасно, хотя при некотором везении он мог попасть мне в ногу. Тоже мало хорошего.
Я немного изменил курс, но еще не покинул спасительных зарослей. Сделав по диагонали несколько ярдов вверх, я приподнял голову, ожидая немедленной реакции, но ее не последовало.
Я пополз дальше, всякую минуту ожидая камня, и наконец достиг совсем незащищенного, открытого пространства. Мартин опять исчез. Оставшиеся валуны — тоже. Я немного подождал. Оставалось ползти вверх футов десять, не больше. Возможно, Мартин затаился наверху, но мне ничего не оставалось, как рискнуть.
Я собрал все свое мужество и вскочил на ноги. Ничего. Я добежал до парапета и, приготовившись к худшему, перемахнул через него.
Путь был свободен. Сверху над шоссе нависала громадная скала, а немного поодаль я увидел крутой поворот. Странно, что Мартин покинул такое удобное место. Тем не менее он это сделал. Единственное, что он себе позволил, это небольшой выигрыш во времени. Если где-то меня и ждала ловушка, я ее не видел.
Дорога постоянно извивалась; один крутой поворот следовал за другим. Наконец, на солидном расстоянии от себя, я увидел Мартина. Я попытался броситься бегом, но через пару минут пришлось оставить эту затею.
Мы вышли из ущелья. Дорога поднялась на семь или восемь футов над уровнем моря. Вдали в туманной дымке блестело море, а вокруг высились горы — группами, точно люди. Придорожная листва покрылась пылью. Кое-где попадались покосившиеся изгороди и брошенные домики. Почему их покинули хозяева? Позвала в дорогу промышленность? Или какой-то мор напал на них еще в прошлом веке?
Во второй раз я увидел Мартина далеко впереди — должно быть, он бежал. Неплохо — после того как он чуть не утонул. Я тоже прибавил шагу, пытаясь думать о Гревиле. Это не вызвало во мне ожидаемой злости, но прибавило решимости.
Завернув за угол, я увидел еще один необитаемый домик, потом еще — и неожиданно для себя очутился в Полтано.
Далеко внизу — в тысяче футов отсюда — виднелся городок Амальфи, на него легла вечерняя тень. А на площади Сан-Стефано вовсю палило солнце. Здесь царили тишь и запустение. Среди камней суетились голуби. В центре площади росло с полдюжины раскидистых платанов; ни один листочек не шевелился. По двум сторонам площади расположились маленькие коттеджи, с третьей я увидел непременное кафе и несколько лавчонок, а четвертую занимала собой причудливой формы церковь с плоским фасадом из черного и белого мрамора и отдельно стоящей колокольней; по бокам росли оливы. Перед церковью ждали автомобиль и несколько велосипедов — должно быть, здесь, в отличие от мельниц и оставленных мною позади лачуг, еще не умерла жизнь.
Я взглянул на часы — время сиесты как будто уже кончилось. Но кругом не было ни души, только ласточки бесцеремонно нарушали тишину, кружа и пикируя над куполом колокольни, дерзко пролетая под носом друг у друга, беспрестанно щебеча и выписывая в небе немыслимые фигуры. Мартина Коксона нигде не было видно. Значит, он опередил меня на несколько минут и, разумеется, даром их не терял. Сандберг сказал, Пьяцца Сан-Стефано, 15. Я обнаружил номер десять — значит, нужно смотреть с другой стороны. Это оказалась не отдельная вилла, как я ожидал, а угловой дом в ряду других домов, узкое двухэтажное строение с балконом, на котором в горшках росли гибискусы. Я громко постучал в дверь.
Никого. Только палящее солнце, да пыль, да безмолвие. Я еще раз постучал и подергал дверь — она открылась. Несколько ступенек вверх. Внезапно распахнулась еще одна дверь и оттуда выглянула старуха с сердитым лицом.
— Синьора Винтер, — с вопросительной интонацией произнес я.
Старуха залопотала по-итальянски, но я разобрал только слово ”церковь”, сопровождаемое выразительным движением руки.
— Мужчина, — прибавил я. — Синьор Коксон. Где он?
— Si, si, si, — закивала старуха и сделала нетерпеливый жест.
Если Коксон побывал здесь, значит, я уже второй непрошенный посетитель. Женщина явно ждала, чтобы я поскорее ушел.
Я вышел на площадь и направился в церковь. Щебетание ласточек по-прежнему подчеркивало царившую здесь тишь. Я спугнул пару голубей и, толкнув дверь церкви, вошел внутрь.
Глава XXI
Мне никогда не забыть, как, шагнув с пыльной, пустынной, прокаленной солнцем площади, я очутился среди яркого света и гомона голосов. Несколько человек повернули головы и тотчас вновь повернулись к алтарю. Шло отпевание покойника.
Нельзя сказать, будто церковь была полна, но на первый взгляд здесь было человек пятьдесят или шестьдесят; еще минуту назад я ни за что бы не подумал, что на пять миль вокруг найдется столько народу. Гроб покоился на пышном катафалке; свечей было больше, чем людей; желтый свет лился на алмазный крест, лики мадонн и святых. Траур, в который облачились близкие покойного, подчеркивал контраст между землей и небесами.
Через какую-то минуту я увидел Леони. Ее белокурая головка выделялась среди множества черных. Она стояла довольно далеко от меня, возле колонны в стиле рококо. Рядом стоял Мартин. Они оба повернулись в мою сторону и заметили меня.
Я начал пробираться к ним. Это оказалось непростым делом, потому что как раз в это время священник в пышном белом одеянии принялся махать кадилом и присутствующие стали преклонять колена и креститься.
Когда они увидели, что я уже близко, Леони сказала Мартину что-то резкое, и он стал неохотно пробираться в противоположном направлении. Перед этим он крепко пожал ей руку. Выбравшись из толпы, он зашагал по боковому проходу к одной из молелен.
Хотя итальянская церковь терпимо относится к хождениям во время службы, время от времени я ловил на себе неодобрительные взгляды прихожан. Леони двинулась мне навстречу. Возможно, у нее была и еще одна цель — отрезать меня от Мартина, если бы я решился его преследовать. Несмотря на то, что мы были окружены людьми, я сказал, когда она приблизилась:
— Прошу прощения. Я ждал других похорон. Не таких пышных.
Она взглянула мне в глаза.
— Слава Богу, что этого не случилось.
— Вот как?
— Только так, Филип, только так. ”Око за око” Ветхого завета лишь умножает зло. Послушайтесь меня, пожалуйста.
— И пусть ему сойдет с рук?
— Этот путь ведет в тупик. Но даже если бы…
Хотя мы говорили шепотом, люди начали оборачиваться и хмуриться.
— Прошу вас, Филип, — настаивала она. — Послушайтесь меня. Оставьте Мартина в покое. Месть ни к чему не приведет. Никто никогда не узнает всей правды о смерти Гревила. Мартин не хотел ее. Я знаю, он совершил самый низкий поступок, какой можно себе представить, но… эти двое существовали в разных мирах, на разных нравственных уровнях. То, как ваш брат это воспринял, его самоубийство заставили взглянуть на проступок Мартина сквозь увеличительное стекло, возвели заурядную контрабанду в ранг преступления века…
Она смолкла, заметив, что мы привлекаем всеобщее внимание. Я ждал, что на меня набросятся, но оказалось, что служба уже закончилась и гроб начали выносить из церкви. Мы подождали, пока он не исчез за розовым занавесом. Прихожане зашаркали, торопясь к выходу. На какой-то миг нас оттеснили друг от друга.
Моя любовь к Леони, за последние несколько часов прошедшая через страшные испытания, при встрече вспыхнула с новой силой. Но она пыталась обелить Мартина, ее симпатии были на его стороне — против меня, и это отравляло мне душу, воскрешало в ней все тот же смертоубийственный порыв.
Толпа текла, словно песок в песочных часах: вот осталось пятьдесят песчинок… двадцать… и вот уже ни одной. Церковь опустела, если не считать гасившего свечи священника, меня да Леони — ее лицо белело в полумраке церкви. Да еще где-то неподалеку прятался Мартин.
Я двинулся по боковому проходу. Леони метнулась преградить мне путь.
— Уйдите, Леони.
— Прекратите сейчас же, Филип. Вы… Вы сошли с ума.
— Да, — горько ответил я. — Это фамильная болезнь. У меня крайняя форма.
Она вцепилась мне в руку.
— Дурень вы этакий! Да на свете нет другого такого нормального человека, как вы… никого более гармоничного… Не позволяйте этому доводить вас до крайности. Оно того не стоит. Ничто того не стоит!
Священник задул последнюю свечу. Очевидно, наши крики не вызвали в его душе ни тревоги, ни особого интереса, потому что он выключил свет над алтарем и, даже не взглянув на нас, вышел.
Церковь перестала быть священным местом, превратившись в обыкновенное темное помещение. Я машинально отметил, что здесь покатый пол — он поднимался к востоку. У дверей возвышалась необычного вида кафедра, со львами, поддерживающими колонны, и каменной платформой в виде колесницы. По духу это было ближе к ассирийской, нежели христианской культуре. Может быть, и мои чувства имели достаточно древнее происхождение.
Я услышал шаги Мартина по каменным ступеням, со стороны алтаря, и вырвал у Леони руку. Возможно, взгляни я на нее в тот момент, все было бы по-другому. Но я двинулся к центральному нефу.
Должно быть, здесь почти всегда было полутемно из-за немногочисленных высоко расположенных окошек. К тому же сейчас именно этот склон горы оказался в тени. Я закричал, не сдерживаясь:
— Мартин!
Он не откликнулся. Перед алтарем я замедлил шаги, чуя опасность, но не зная, откуда она придет. Насколько мне было известно, у него не было оружия. Но здесь, в церкви, было полно подручных средств. Цокот каблучков сказал мне, что Леони следует за мной.
Обойдя алтарь, я увидел его на верхней ступеньке невысокой лестницы, скорее всего, ведущей в подземную часовню. С другой стороны была еще одна такая же лестница. В полумраке я плохо видел его лицо — различал лишь темные провалы глаз. В руках у Мартина ничего не было.
— Ну, Филип…
— Ну, Мартин…
— Леони думала, что сможет удержать тебя. Она переоценила свое влияние.
— Выйдем на улицу или покончим прямо здесь?
— Я не расположен драться.
— Ничего не поделаешь, придется.
— Я же объяснил тебе…
— Поздно объяснять.
Я вдруг понял: нельзя позволять им тянуть время. Иначе они перехитрят меня — двое против одного. Я медленно двинулся к Коксону.
Когда я подошел, он сделал вид, будто отступает, и вдруг набросился на меня с кулаками. Я ожидал нападения и успел прикрыть голову. Он ударил ниже, и я сложился пополам. Очевидно, он старался как можно скорее вырубить меня, так как и сам еще не полностью восстановил силы. Выпрямившись, я прислонился к изображению Святого Петра; послышался скрип отлетевшего стула. Я собрал всю свою волю и ответил таким же ударом. Мы походили на двух старых драчунов, которые до того выдохлись, что уже было не до церемоний.
Я заставил Мартина отступить; он наткнулся на какой-то стол; на пол посыпались свечи. Мартин потерял равновесие и покатился по ступеням; я ринулся за ним. Леони что-то кричала сзади.
Это оказалась не часовня, а подземелье, хранилище священных реликвий, связанных с их верховным святым. Над саркофагом голубела лампадка. Прежде чем я настиг Мартина, он очутился возле усыпальницы, на которой стояло несколько зажженных свечей и лежали огромные, устрашающего вида щипцы. Мартин схватил их и обернулся. Я замер. Мы молча взирали друг на друга.
Лицо Мартина было в крови. Алые брызги на мертвенно-белой коже. Он был похож на воскового святого, подвергшегося чудесному воскрешению.
Я шагнул навстречу. Он замахнулся щипцами для свечей. Я помедлил и сделал следующий шаг. Он неожиданно, презрительным жестом отбросил стальные щипцы прочь — те лязгнули о каменный пол. Мартин развернулся и побрел ко второй лестнице, ведущей из подземелья.
Я догнал его; мы сцепились и оба рухнули на пол. Резкий удар его колена дал мне понять, что он способен пустить в ход запрещенные приемы. Но было уже поздно. Я вцепился ему в горло, а его пальцы слишком ослабели, чтобы разжать мертвую хватку моих рук. Он чуть заметно усмехнулся и прекратил сопротивление.
Я все еще сжимал его горло, но вдруг почувствовал, что мои силы на исходе. Чтобы придать пальцам дополнительную силу, требовалось указание мозга, а он отказывался давать его. Меня парализовал не отказ Мартина от борьбы, а что-то во мне самом.
И я отпустил его, стыдясь своих рук, едва не совершивших преступление, и с барабанным боем сердца в ушах.
— Нет, — сказал я, с трудом разлепляя губы. — Ты должен жить.
Меня начало трясти. Я прислонился к стене, силясь унять дрожь и полностью овладеть собой. Мартин остался лежать на ступеньках.
Все плыло у меня перед глазами. Я чуть ли не на четвереньках выбрался из подземелья — все равно что из преисподней. Наверху кто-то обратился ко мне с вопросом.
— Не беспокойтесь, — стуча зубами, произнес я. — Я не убил его.
Она схоронила лицо в ладонях.
— Ох, слава Богу!
— Да. Все кончено.
— Вы ранены, Филип? Позвольте мне…
— Я в полном порядке. — Мне и в самом деле полегчало. Вот только церковь почему-то качалась из стороны в сторону.
Я посмотрел на Леони и вдруг понял: сражаясь с тем, что вызывало во мне ненависть, я убивал и то, что любил.
— Филип, дорогой, я хотела…
— Идите к нему, — сказал я. — Кажется, он нуждается в посторонней помощи. А вы… как раз тот человек, который сможет его утешить. Не так ли?
Она медленно подняла на меня глаза.
— Да, Филип. Я тот самый человек. Видите ли… он мой муж.
Глава XXII
Не помню, как я спустился к морю, — за исключением одного эпизода. Кажется, я тотчас расстался с Леони и вышел из церкви. Она что-то кричала вслед, но я не слушал.
Помню свой шок от встречи с солнцем. Жара спала, но яркий свет сам по себе показался мне в эту минуту кощунством. И ласточки все так же беспечно планировали над куполом, кружа и щебеча, вычерчивая в небе замысловатые письмена, которых никому не прочесть. Что-то текло у меня по лицу — наверное, пот. Я пересек вновь опустевшую площадь и покинул деревню. Тогда что-то капнуло мне на руку, и это оказалось кровью.
Я зажал рану, нанесенную костяшками его пальцев, носовым платком. Должно быть, местные жители все еще находились на кладбище, потому что я никого не встретил. Я шел не останавливаясь и, кажется, впервые в жизни понял, что такое ”дойти до ручки”. Это было похоже на состояние крайнего опьянения: каждая минута грозила мне падением, но я каким-то чудом держался на ногах; они сами влекли меня вперед.
Эпизод, который я хорошо запомнил, свелся к следующему. Преодолев немалое расстояние, я очутился на крутом повороте, где утес резко обрывался в пропасть, примерно сто футов глубиной. Там, внизу, белело множество крупных камней, показавшихся мне отшлифованными морем и высушенными солнцем черепами. Я сделал первую остановку и, облокотившись на парапет, глубоко задумался.
Ну вот, сказал я себе. Хуже этого момента у тебя еще не было. Ты потерял решительно все — Гревила, Леони, все, чем дорожил в жизни. Потерпел сокрушительное поражение на всех флангах. Даже утратил человеческий облик. Вот она, бездна, замечательная возможность расстаться с опостылевшей жизнью. Вот он, выход.
Я все стоял, и смотрел, и думал. Искушение взять и в одно мгновение разрубить все узлы было очень велико. Но для этого было мало одного решения, требовался неосознанный порыв, импульс — а его-то и недоставало. Можно было хоть целые сутки стоять над пропастью — безо всякого толку. Вот так. Я оказался не способен даже увенчать свой жизненный путь достойным финалом.
Так я стоял с кислой миной и продолжал беседовать с собой. Возможно, в тебе больше, чем ты предполагал, от Арнольда, а не от Гревила. Может быть, поэтому ты и не состоялся как художник. Должно быть, желание жить — удел тех, кто не хватает с неба звезд, а пошл, зауряден и стоит обеими ногами на земле.
Я продолжил свой путь.
Очевидно, на то, чтобы добраться до шоссе, у меня ушел добрый час. В конце концов мне повезло: мимо как раз шел автобус до Сорренто; я проголосовал, и явно ошарашенный моим видом водитель притормозил. Кондуктор помог мне забраться в салон; кто-то уступил место. На все расспросы я качал головой и только пару раз произнес: ”Accidente, accidente”[14]. Кто-то предложил купить мне билет, но я нашел в кармане смятую купюру в тысячу лир и оплатил проезд до Сорренто. А там можно будет взять напрокат лодку.
Не знаю, сколько миль до Сорренто, но это явно один из самых фантастических маршрутов в Европе. Здесь в сублимированной форме проявился гений итальянских дорожных строителей. На всем протяжении шоссе оно ни разу не удалилось от края пропасти в тысячу футов глубиной больше чем на шесть футов, а большинство поворотов так круты, что автобусу приходилось снижать скорость чуть ли не до нуля, чтобы не сорваться. Время от времени дорога ныряла вниз — к какой-нибудь рыбачьей деревеньке, а затем снова взмывала вверх.
Почти сразу меня начало мутить; этому способствовали сильная качка и скачущая за окном панорама воды и неба. Очевидно, сказалось и то, что за весь день я почти ничего не ел, кроме булочки и чашки кофе на завтрак. Меня несколько раз подмывало остановить автобус, но я удержался. Не прошло и десяти минут, как кондуктор принес из кабины водителя аптечку и настоял на том, чтобы прижечь рану и залепить пластырем.
Что и говорить, второе покушение на жизнь Мартина было верхом идиотизма. Достаточно было морального наказания. Внезапный порыв довести дело до конца был рожден потребностью раз и навсегда покончить кое с какими вещами, которые он олицетворял; однако порыв этот был с самого начала обречен на неудачу.
Я старался не думать о Леони и ее роковом замужестве, но тщетно. Ее история теперь представлялась мне совершенно в ином свете. Их поведение оказалось более оправданным, мое же — лишенным всякого смысла. Не то чтобы я считал брак святыней, но мне стало очевидно: несмотря ни на что, она все-таки любила его.
Не помню, в котором часу мы приехали в Сорренто. Солнце еще не село, и скалы желтели, как сливочное масло. Автобус остановился почти у самого причала. Я неверной походкой прошел по каменному пирсу, ощущая слабость и головокружение. К счастью, тошнота была не настолько сильной, чтобы вызвать рвоту.
Возле берега болталось несколько лодок; их владельцы мирно переговаривались между собой. Однако мое внимание привлекла стоявшая на приколе яхта; на ней суетились трое мужчин в плавках, еще двое натягивали паруса. По-моему, я уже видел эту яхту во время нашей с Мартином морской прогулки, поэтому я подошел и окликнул ее пассажиров.
Они оказались молодыми американскими парнями. Когда я сослался на несчастный случай, они охотно согласились взять меня с собой. Как раз через десяток минут яхта должна была отплыть на Капри.
* * *
Я сочинил для них удобоваримую версию. Один американец дал мне пару плиток шоколада. Мы как-то преодолели водное пространство, и с наступлением сумерек я уже сидел в гондоле фуникулера, соединявшего порт с городом Капри.
Я безучастно смотрел вниз, на мерцавшую огнями гавань — Неаполь в миниатюре. Вот-вот должен был открыться курортный сезон, и в каждой приморской таверне на полную мощность включили магнитофон. Рядом со мной о чем-то болтали две пожилые женщины с многочисленными пакетами. В соседней гондоле яростно спорили из-за пойманной рыбы двое французских туристов.
Мне вспомнились слова Леони о Мартине и Гревиле, сказанные ею в церкви. Тогда я не обратил на них внимания, но теперь они вспыхнули в мозгу как продолжение спора. Она сказала, что Мартин с Гревилом существовали в разных мирах, на разных нравственных уровнях — кажется, так. И еще: только бурная реакция Гревила заставила взглянуть на бесчестный поступок Мартина сквозь увеличительное стекло, лишила вещи меры и пропорции, представила Мартина более значительным, чем он был на самом деле. Правильно ли я понял? Вульгарное уголовное деяние возвысилось чуть ли не до преступления века. Нарвись Мартин на заурядного обывателя, обман доверия (впрочем, в этом случае он вряд ли мог состояться) имел бы ничтожные последствия. По-видимому, трагедия была обусловлена столкновением двух жизненных позиций. С тех самых пор, как Мартин счастливо избежал разоблачения и ареста, он оказался вынужденным барахтаться в слишком глубоких для себя водах.
Не стань они друзьями, ничего бы не случилось. Значит, нельзя сбрасывать со счетов ни одного из них. Гревил был выдающейся личностью, но и Мартин тоже. Такова горькая истина.
За сегодняшний день я узнал о Мартине больше, чем мог предположить. Теперь он казался мне зверем, который стряхнул с себя смерть Гревила, как колючку, но яд успел проникнуть в кровь и начал подтачивать его уверенность в себе. Это объясняло некоторые из его сегодняшних поступков. Камни, которые метили, да так и не попали в меня. Стальные щипцы для свечей, презрительно брошенные на пол. И ведь дрался честно, вот что странно. Да, он сражался по правилам.
На центральной площади было полно народу. До меня доносился гомон голосов. Катера выплескивали на берег все новые группы туристов. Столпотворение людей соответствовало столпотворению моих мыслей. Перед отелем трое носильщиков терпеливо ждали, пока толпа немного схлынет. Кто-то изумленно уставился на мое лицо. Наконец нам удалось протиснуться в ведущий в отель крытый переход на уровне третьего этажа.
Когда я попросил свой ключ, на меня обрушился шквал сочувственных возгласов и вопросов. Мне предлагали помощь, но я самостоятельно поднялся к себе в номер и поспешил к зеркалу. Да уж!
По моей просьбе мальчик-коридорный принес чай с пирожными и не преминул поинтересоваться, вернется ли к ужину капитан Коксон. Интересно, подумал я, сколько раз он вот так же бросал свои пожитки в отелях? А впрочем, какая разница! Слава Богу, я, кажется, избавился от разъедающей душу ненависти!
Я полежал с полчаса в теплой ванне, надеясь, что в ней растворится хотя бы часть моей горечи. И действительно, напряжение, не отпускавшее меня с тех самых пор, когда я получил в Сан-Франциско телеграмму о смерти Гревила, начало понемногу проходить.
Зазвонил телефон.
Я подождал, рассчитывая, что он потрещит и успокоится, однако звонивший оказался упорным типом. Пришлось выскакивать из ванны и, обернувшись полотенцем, бежать в спальню.
— Алло?
— Алло? — я немного подождал. Голос был мужской, но линия вдруг словно вымерла. Наверное, телефонистка перепутала клеммы. Но через несколько секунд раздался тот же голос:
— Филип Тернер?
— Да.
— Филип, это Чарльз Сандберг. Рад вашему возвращению.
— Э… Спасибо, но…
— Вы не забыли, что Шарлотта пригласила нас к ужину?
— Разве? Нет, что-то не припомню.
— Ну, не беда. До восьми тридцати еще много времени. Вы, конечно, придете?
К этому времени я успел сочинить более или менее правдоподобную историю, но теперь, когда дошло до дела, она показалась мне дурацкой.
— К сожалению, не могу. Но мне нужно кое-что вам сказать, Чарльз. Насчет вашей шлюпки.
— Вот и хорошо. Значит, через полчаса мы вас ждем.
— Я лишь хотел сказать, что ваша шлюпка затонула. Я постараюсь возместить вам ее стоимость в долларах, хотя, конечно, это не избавит вас от лишних хлопот. Мне, право, очень жаль.
Пауза.
— Мне тоже жаль. Но, я думаю, мы договоримся.
Что-то в его голосе…
— Вы уже знали?
— Не будем сейчас это обсуждать.
— Я загляну завтра рано утром.
— Завтра вы меня не застанете.
Я уставился в пол, чувствуя: что-то изменилось к лучшему. То ли чай, то ли тепло тому причиной, но я начал вновь обретать почву под ногами. Усталость по-прежнему давала себя знать, но, может быть, и впрямь будет лучше сегодня закончить все дела и успеть завтра на утренний катер?
— Я заскочу немного позже.
— Шарлотта особенно настаивала, чтобы вы пришли к ужину. Будет Лэнгдон Уильямс, так что сами понимаете — особый случай.
Уильямс был тем самым художником, о котором Шарлотта упомянула при нашем знакомстве. Меньше всего мне сейчас хотелось вести светские разговоры, хотя бы и о живописи.
— Я настоящее страшилище. Поранил лицо.
— Сочувствую. И все-таки приходите. Нам не хватает одного кавалера.
— Ну, хорошо. Большое спасибо.
Положив трубку, я снова подошел к зеркалу, проклиная свою слабохарактерность. Последний вечер! Но что я мог поделать? Ведь я должник Сандберга.
Лейкопластырь отстал довольно легко; кровотечение прекратилось. Хорошо, что, прижигая рану, кондуктор не воспользовался йодом. Впрочем, у меня и так тот еще вид!
Я начал одеваться.
И лишь теперь в полной мере осознал, что навсегда потерял Леони. Возможно, все дело было в телефонном звонке. Он пробудил во мне надежду, и теперь она умерла. Впрочем, она с самого начала была обречена.
Доставая свежую сорочку, я наткнулся на дневник Гревила и повертел его в руках. Картон потрескался от жары и кое-где начал распадаться на кусочки. У меня было такое чувство, будто я вновь прощаюсь с Гревилом — на этот раз без возврата.
Я завязал галстук, причесался, надел пиджак и подумал, выходя из отеля: мне нужно было сказать ей… не то, что я сказал. Я потерял рассудок. Если бы я объяснился… Мне не следовало оставлять ее здесь, отправляясь в Амстердам в погоню за призраком. Однако странно, что она оставила свою фамилию. Возможно, она и не собиралась… и вдруг — эта телеграмма. И зачем только я вызвал его сюда? Какая разница — Бекингем он или Коксон? Да, на меня определенно нашло затмение. Но теперь уже ничего не поправишь. Она так или иначе принадлежит ему. Это она, Леони, оказалась призраком. Нужно выбросить из головы… Но если бы я сказал ей… в тот вечер, перед отъездом в Голландию… Нет. Я сказал именно то, что нужно. И поездка действительно была необходима. Как я мог надеяться? Ведь она ни словом не обмолвилась… Однако…
Обратная дорога из Полтано по сравнению с этой, на виллу ”Атрани”, показалась мне усыпанной цветами.
К тому времени, как послышался радостный лай Мейси и Джимбела, я совсем выбился из сил и, должно быть, был страшен, как смертный грех. У мадам Вебер собралось обычное общество: крупный неаполитанский судовладелец синьор Кастильони, мадемуазель Анрио и та ужасная дама, что явилась на прошлую вечеринку в украшенной фигурками животных шляпе. Я запомнил Лэнгдона Уильямса не особенно общительным человеком; похоже, что и сейчас он чувствовал себя не в своей тарелке.
Мы пили коктейли и вели светскую беседу. Сандберг еще не появился. Шарлотта выразила мне свое сочувствие, но, как ни странно, обошлась без вопросов: должно быть, Сандберг ее предупредил. Дама в шляпе (несмотря на то, что на этот раз она была без шляпы) заскучала и завела разговор о недавнем докладе Кинси о сексуальном поведении женщин. В прошлый раз мне показалось, будто она положила на меня глаз; теперь же она явно принимала меня за врача, психиатра или представителя противоположного пола, готового вывернуться наизнанку, чтобы только опровергнуть теорию Кинси. Знала бы она, с какой темной личностью имеет дело, какие слепые, звериные страсти клокочут у меня в груди!.. Меня так и подмывало сказать ей об этом.
Чарльза Сандберга все еще не было. Мы сели ужинать.
Бывают состояния — как раз в таком я находился, — когда вы голодны, однако пища не лезет в горло; падаете от усталости, но не можете забыться сном. Наверное, в такое время человеку безразлично, один он или в компании. Вы жалеете, что пришли, и не в силах уйти. Несколько раз я ловил на себе взгляд Шарлотты Вебер. Моей соседкой оказалась Джейн Порринджер. Бедняжка Джейн, она вряд ли получала от этого удовольствие.
Когда мы почти расправились с первым блюдом, мадам Вебер посмотрела на дверь и воскликнула:
— Наконец-то, Чарльз! Мы не могли больше ждать — все умирали от голода, — и она повернулась ко мне с таким видом, словно хотела сказать: теперь вы видите, что приходить стоило?
Мужчины поднялись, так как Сандберг привел с собой даму. После недолгих колебаний она заняла свободное место рядом с да Коссой и прямо напротив меня. Это была Леони.
Глава XXIII
Она явно не ожидала меня встретить — об этом говорило ее замешательство. У нее был измученный вид; она еле удержалась, чтобы не убежать. Не знаю, можно ли, дойдя до ручки, что-то ощущать. Если нет, значит, я еще не совсем оказался в нокауте, потому что ощутил этот новый удар в полном объеме.
Помню, и через несколько минут после того, как она обменялась парой слов с Шарлоттой и приступила к еде, я тупо соображал, что этого не может быть: ее присутствие могло означать только то, что все события этого дня были обманом зрения и прочих чувств — галлюцинацией вследствие солнечного удара.
Должно быть, я слишком пристально уставился на нее, потому что, когда Берто подошел, чтобы взять у меня использованную тарелку, я его не заметил. Мадам Вебер сообщила, что Леони приехала только на этот вечер. Да Косса мигом прицепился к ней с расспросами: как там, в Риме? Она уклонялась, как могла, пока Шарлотта — я впервые видел ее в гневе — не заставила его заткнуться.
Я взглянул на Чарльза Сандберга — как всегда элегантного и невозмутимого. По его лицу нельзя было определить, явился ли он после мессы или с места преступления, где было совершено убийство.
Я перевел взгляд на Леони. Избавившись от назойливого внимания да Коссы, она сидела тише воды, ниже травы, в бирюзовом платье со стоячим воротничком, и даже не притворялась, будто ест. Она показалась мне похожей на ангела Эль-Греко: одухотворенная и измученная.
Кто-то дотронулся до моей руки. Джейн.
— Что, простите?
— Гамильтон спросил, долго ли вы еще пробудете на острове.
— Завтра я уезжаю.
Да Косса не скрыл удовлетворения:
— А как же… э… портрет? Ничего не вышло?
Я не удостоил его ответом.
— Я уже сказала, мальчик мой, — вмешалась мадам Вебер, — пусть это вас не волнует. Сама природа против. Слишком жарко. Тянет купаться, загорать… Не то что в прошлом году, когда у нас была одна светлая мысль — забраться в хижину эскимоса.
— Филип еще вернется, — ввернул Сандберг.
— Я рад, Тернер, что вы не окончательно забросили живопись, — сказал Лэнгдон Уильямс.
— О, да, — согласилась мадам Вебер. — Но я лично всегда говорила, что ему следовало бы написать портрет Леони.
Воцарилось неловкое молчание, прерываемое лишь звоном бутылки, которую поставил на стол слуга-итальянец. Дама в шляпе продолжила свой разговор с синьором Кастильони:
— Говорят, каждые двенадцать с половиной женщин из ста не получают от замужества никакого удовольствия. Хотела бы я знать, как это статистики оперируют половинками.
Я спросил Леони:
— А где Мартин?
Она впервые за все время подняла на меня глаза.
Я не отставал:
— Разве он не приехал с вами?
— А вы хотели бы, чтобы он приехал?
Обычный разговор, но почему-то все замолчали, словно на них направили дула пистолетов.
— Леони позвонила мне, — умиротворяющим тоном произнес Чарльз. — Я позаимствовал у синьора Кастильони глиссер и привез ее.
— Привезли… из Полтано?
— Да. Ей нужно забрать кое-какие вещи.
— О!
После небольшой паузы все опять стали есть и разговаривать.
— Что ж вы не прихватили Мартина? — пристал я к Сандбергу.
— У него сломано ребро. Придется полежать несколько дней.
Джейн была заинтригована.
— Вы говорите о приятеле Филипа, Мартине Коксоне? С ним произошел несчастный случай? А я и не знала.
— Ничего страшного, — заверил Сандберг.
— Конечно, у меня нет специального образования, — продолжала дама в шляпе, по-прежнему адресуясь к синьору Кастильони, — но когда делаешь поперечный срез общества, охотнее всего на вопросы анкеты отвечают экстраверты, а вы же понимаете, дорогой мой, что они из себя представляют.
Передо мной поставили следующее блюдо. Леони взглянула на меня и не отвела взгляд, когда он встретился с моим. В моих жилах бешено пульсировала кровь.
— Жалко, что вы мне сразу не сказали.
— О чем?
— Что он ваш…
— Что бы это изменило?
— Я бы не стал надеяться.
Она вспыхнула.
— Если бы вы знали, — продолжал я, — как я раскаиваюсь, что позволил ему снова войти в вашу жизнь.
— Все к лучшему.
— Да, наверное, это было неизбежно… раз вы питаете к нему такие чувства. Сегодня вечером вы вернетесь к нему?
— Да.
— Понимаю…
Джейн снова тронула меня за рукав.
— Мистер Уильямс спросил вас о Штатах.
— Извините, я не расслышал.
Он с улыбкой повторил вопрос.
— Нет, — ответил я, — там я не занимался живописью.
Послышался голос синьора Кастильони:
— Но, мадам, это вторжение в интимную жизнь женщины… американки, говорите вы? И многие признаются, что они фригидны? Значит, они сильно отличаются от итальянок, — он ухмыльнулся. — Итальянская женщина… как это звучит на английском жаргоне? — sauce piquante.
— Горчица, — подсказал Сандберг.
— Да, Чарльз, спасибо. Горчица.
Я вновь обратился к Леони:
— Что вы собираетесь делать дальше?
— Это зависит от вас.
— От меня?
— Разве вы не сказали, что пока вы живы…
— О, Господи! Да пусть делает, что хочет, меня уже тошнит от мести.
— Я… рада это слышать.
— Сегодня я зашел слишком далеко и перестал воспринимать доводы рассудка. Вы совершенно правильно пытались остановить меня, но я не слушал. Словно на меня нашло затмение. Но теперь… это больше не повторится.
Она каким-то странным тоном произнесла:
— Ах, Филип, если бы вы знали! — и замолчала.
— Продолжайте!
— Нет.
— Дорогие мои, — вмешалась Шарлотта Вебер, — вам не кажется, что разговор принимает несколько личный характер? Не то чтобы мы возражали, но… Дорогой мистер Уильямс, расскажите мне о вашей выставке в Париже. Я читала одну рецензию…
Слуга склонился над Леони, чтобы сменить тарелку. Он что-то спросил, и она обратила на него глаза, в которых сверкали искры. Когда он отошел, она отбросила со лба непослушную челку. Это напомнило мне Мартина, хотя оба эти жеста были совсем не схожи.
До сих пор я считал себя единственным за этим столом, кто был не способен поддерживать общую беседу, но оказалось, что Леони испытывает те же трудности. Она как будто хотела что-то сказать и боялась сказать слишком много. Это было написано у нее на лице.
— Продолжайте, — настаивал я.
— Не могу.
— Неправда, можете. Говорите, Леони!
— Не сердитесь на меня за мою… лояльность…
— Нет, нет, не то!
— Когда он только что приехал сюда, то рассказал мне обо всем, что случилось в Голландии. Не думайте, что я была в восторге. Нет! Но меня поразило то, что он был искренен, а не притворялся. Я решила расстаться с ним навсегда — как раз из-за вечной лжи… но он изменился. Я еще не видела его таким. Покончив с собой, Гревил не только совершил акт саморазрушения… А вступая с человеком в брак, вступаешь в брак не только с его добродетелями, но и пороками тоже. Принимаешь его целиком.
Слуга протягивал мне тарелку с каким-то блюдом. Я покачал головой.
Она продолжала:
— Я его не защищаю. Обычно ему нет дела до других людей, но, мне кажется, он дорожил вашим обществом — ради сходства с Гревилом. Он искал в вас черты утраченного друга.
— Милочка, — оживилась Джейн, — ты, кажется, сказала что-то о браке? Ты снова вышла замуж? Или наоборот?
Леони перевела дух и беспомощно взглянула на Шарлотту.
— Простите, пожалуйста. Кажется, я…
Она вскочила и выбежала из столовой.
Снова наступила тишина. Женщина в шляпе первой не выдержала:
— Обожаю ссоры в чужих домах. Можно наслаждаться мизансценой и не дрожать за свой фарфор.
— Филип, не нужно, — начала Шарлотта, видя, что я встал.
— Извините, — и я ринулся к двери, чуть не сбив с ног Берто.
Но в холле уже никого не было. Наверное, она успела скрыться в своей спальне. В этот момент мне послышался какой-то шум в гостиной. Я побежал туда — пусто. Выходя, я едва не налетел на Сандберга.
— Осторожно, — сказал он. — Давайте не будем пороть горячку. Если мерить в часах, жизнь не такая уж и короткая.
Я неохотно позволил ввести себя обратно в гостиную. Он включил свет и предложил мне сигарету. У меня дрожали руки.
— Не портите себе ужин, Чарльз. Я виноват, но… мне было необходимо выйти.
Он улыбнулся.
— Почему бы вам не вернуться в столовую? А я пока уговорю ее сделать то же самое.
Я замотал головой.
— Спасибо, но… с меня достаточно.
— Более чем, — согласился он и зажег свою сигарету, красиво держа ее холеными пальцами. — У меня для вас послание — от вашего друга Коксона.
— Послание? Для меня? Вы его видели?
— Конечно. Мы долго беседовали. Он просил передать это вам.
Я уставился на мятый клочок бумаги, на котором было нацарапано карандашом: ”Quare vitia sua nemo confitetur? Quiar etiam nunc in illis est. Maxima est enim factae injuriae poena, fecisse”.
— Я не силен в латыни.
Сандберг взял листок.
— Здесь написано приблизительно следующее: ”Почему люди не признаются в своих грехах? Потому что грех все еще живет в них. Самым большим наказанием за совершенный поступок является сам факт свершения этого поступка”.
Он вернул мне записку. Я сложил ее пополам и горько улыбнулся.
— Величайшая глупость — недооценивать противника.
— Вы забыли зажечь сигарету.
Я подошел к камину и облокотился на него.
— Опять я не понимаю вас, Чарльз. Не представляю, сколько известно вам с Шарлоттой и как далеко вы зашли в своих попытках помочь… или помешать…
— Только не помешать.
— Значит, Леони договорилась с Мартином, что будет ждать его в Полтано? И вы с Шарлоттой об этом не знали?
— Они ни о чем не договаривались. Леони сказала мне сегодня вечером.
— Но должна же была существовать какая-то договоренность! Он провел с ней весь вчерашний день!
— Вопреки ее желанию. Очевидно, да Косса подсмотрел адрес, когда Шарлотта писала письмо, и передал Мартину.
Я силился переварить эту новость.
— Но я, естественно, решил, что она вернулась к нему, Разве нет? Зачем бы тогда ей уезжать?
— Возможно, чтобы без помех все обдумать. Увидеть перспективу.
— Перспективу?
Он погасил сигарету и проследил за последней спиралью дыма.
— Вас это удивляет?
После недолгого молчания я сказал:
— Я все понял не так. И он тоже. Но результат тот же самый.
— Об этом она не захотела откровенничать со мной.
Внезапно его удивленный взгляд заставил меня обернуться. С галереи послышался шум. Я подбежал к открытой двери и увидел Леони — она направлялась в сад.
Я перехватил ее на четвертой ступеньке.
— Леони!
Она замерла и прислонилась спиной к балюстраде. На нас падал свет из окон, но мы были вне пределов слышимости.
— Филип, я ни за что не ожидала встретить вас сегодня. Со стороны Чарльза было нечестно приводить вас.
— Возможно. Я прошу прощения, но мне нужно с вами поговорить.
— Разве мы еще не все выяснили?
— Мы только ранили друг друга. Неужели все должно этим кончиться?
Она промолчала — обиженная, испуганная, странная…
— Поймите, я опять допустил ошибку! Решил, что вы сбежали в Полтано, чтобы воссоединиться с Мартином, как только я уехал…
— А я считала… Впрочем, это уже неважно. Просто не имеет значения.
— Имеет!
— Я должна была принять решение — быстрое и правильное… и чтобы никто не мешал… Нужно было решить наверняка…
— И вы решили?
— … Да.
— Это немного не то, что вы решили в Амстердаме.
— Да. Так уж вышло.
— Леони, я хочу, чтобы вы знали. Я люблю вас и желаю так, как никого и никогда. Со мной еще не было ничего подобного. Но это не значит, что я хочу толкнуть вас на неверный шаг. Если ваше чувство к нему таково, как это кажется, не давайте сбить себя с толку, что бы я ни говорил…
Послышались чьи-то шаги. Это расхаживал по галерее Сандберг.
Я продолжал:
— Но не возвращайтесь к Мартину, если вы только жалеете его и стремитесь помочь. Не возвращайтесь только потому, что вы связаны с ним брачными узами и считаете себя обязанной выполнить свою часть сделки. Этого еще недостаточно, Леони! Совсем недостаточно! Так вы только причините себе вред…
Она тяжело дышала — совсем как я.
— Вы его любите?
Она провела языком по губам.
— Я сделала свой выбор.
— Леони, — сказал я, — не увиливайте. Посмотрите мне в глаза.
Она посмотрела.
— Филип, я не увиливаю. Но я не могу его бросить. Да, он плохой человек — во многих отношениях. Но в нем есть и хорошее. Гревил это знал. Как раз теперь Мартин в смятении, потерял ориентиры — я сама была в подобном положении, когда встретила его. Иногда даже женщины способны на благородные поступки. Я не хочу… бежать с тонущего корабля.
— Вы его любите?
Она широко открыла глаза.
— Нет! Не до конца, не по-настоящему, не так, как вы имеете в виду!
— Леони…
— Но это не значит, что я… что он не занимает никакого места в моем сердце. Мне небезразлично, что с ним станет. Такова привилегия и таков тяжкий крест всякого, кто знаком с Мартином. От этого никуда не деться. Тем более мне, его жене. Если я сейчас его брошу, меня всю жизнь будут преследовать призраки. Я должна вернуться и довести дело до конца.
На галерее послышался скрип, и по ступенькам к нам медленно сошел Сандберг.
— Прошу меня простить. Это дурной тон — вмешиваться, но я заинтригован — чем у вас закончится.
— Я еду с Леони — повидаться с Мартином.
— Филип!
— Не бойтесь, я больше не стану затевать драк. С этим покончено.
— Не будьте идиотом, — сказал Сандберг.
— …
— Будь я на вашем месте, я бы посадил Леони в первый попавшийся самолет до Англии, а затем увез в Америку — если бы она согласилась, — Сандберг вздернул одну бровь. — А впрочем, я увез бы ее и без ее согласия.
— Это невозможно, — запротестовала Леони. — Я как раз объясняла Филипу…
— Если вы оба отправитесь в Полтано, это будет означать, что Мартин одержал победу в этой схватке лояльностей — по своему обыкновению. Я не виню его за то, что он ведет себя в полном соответствии со своей эгоцентричной натурой. Ваш брат, дорогой Филип, насколько я мог понять, пробил брешь в его броне из себялюбия. В результате в жизни Мартина настал поворотный момент. Но, если ему суждено начать новую жизнь, он должен сделать это самостоятельно. Если сейчас, Леони, вы вернетесь, чтобы утешать и опекать его, тем самым вы сведете на нет все, чего добился Гревил Тернер. Уезжайте с Филипом, рядом с ним — ваше место.
Она вся дрожала.
— Но я обещала вернуться сегодня вечером. Ничто не заставит меня нарушить слово.
— Я слышал, — заявил Сандберг. — Я сам поеду вместо вас и все ему объясню. У меня крепкая спина. Филип, забирайте ее в Англию.
— Нет! — выдохнула Леони.
— Да! — страстно воскликнул я. — Чарльз прав, Леони. Даже если вы меня не любите, позвольте помочь вам вернуться к матери. Начните все сначала — по собственному усмотрению. Разве не к такому решению вы пришли в Амстердаме? Это было правильное решение.
— Да — в то время. Может быть, когда-нибудь в будущем…
— Леони, сейчас — самый подходящий момент. Вы поедете со мной?
Она молчала.
— Я вам хоть немного небезразличен?
Леони взорвалась:
— Неужели вы не понимаете, какой пыткой будет для вас — связать свою жизнь с человеком, который испытывал какие-то чувства к Мартину?
Я тщательно взвесил свой ответ, все еще не вполне веря, что мы так далеко зашли, и отдавая себе отчет в том, что все висит на волоске.
Конечно, на секунду допустив, что решение может состояться в мою пользу, Леони тотчас выдвинула серьезнейший аргумент против такого решения. Ей не удастся как по мановению волшебной палочки, мгновенно и безболезненно порвать с Мартином. Существует формальная сторона — ее тоже в одночасье не одолеешь. Но рано или поздно… И что потом? Постоянная борьба с призраками?
— Леони, — медленно начал я, — можете ли вы обещать мне по крайней мере одну вещь?..
Она вперила в меня взгляд.
— Не верность, не дружбу, не сочувствие — но хотя бы малюсенькую часть вашей любви?
Она вдруг понизила голос — чуть ли не до шепота:
— Огромную часть моей любви!
Сандберг сделал выразительный жест.
— Во сколько я должен ждать вас на глиссере?
— Но я не могу уехать с Филипом! — защищалась Леони. — Вы оба не хотите понять… Предав Мартина, я предам самое себя, а это — плохое начало. Если мне когда-нибудь посчастливится соединиться с Филипом, это должно произойти честно — по отношению ко всем.
Долгое молчание.
Сандберг первым нарушил его:
— Позвольте сказать следующее. Вернувшись сейчас к Мартину Коксону по изложенным вами причинам, вы сделаете то же, что Гревил Тернер, — и из-за того же самого человека! У меня сложилось впечатление, что Мартин привык к приносимым ему жертвам. Гревил Тернер явно переборщил. Но сейчас самое время положить конец традиции.
И тогда я почувствовал, что в Леони что-то сдвинулось. Она не сделала ни одного движения, но мне почудилось, будто мышцы ее лица уже не так напряжены. Чарльзу удалось в нескольких предложениях сформулировать то, что, зная Мартина, она была не в силах опровергнуть.
— Леони, — горячо проговорил я, — после того, что вы только что сказали, у вас не осталось уважительных причин…
— Мне не следовало этого говорить, но вы…
— Не отрекайтесь, пожалуйста!
— Нет, Филип. Я ни от чего не отрекаюсь.
Я повернулся к Сандбергу.
— Надеюсь, в один прекрасный день я сумею отблагодарить вас с Шарлоттой — тем или иным способом — за все, что вы для нас сделали.
— Чарльз, — начала Леони и вдруг осеклась. Это все еще был протест, но уже вымученный, бессильный.
Он повернулся, чтобы уйти. Но перед этим успел сказать:
— Знаете, Филип, верность сердца в наше время не в чести… и, сдается мне, эта штука может быть опасной. Во всяком случае, с вами обоими она сыграла злую шутку. Однако если вы обратите ее друг на друга, то увидите, что она способна приносить прекрасные плоды.
И он вернулся в дом, чтобы присоединиться к честной компании, а заодно — кивком, улыбкой или понимающим взглядом — успокоить Шарлотту.
УИНСТОН ГРЭХЕМ
ФОРТУНА-ЖЕНЩИНА / БАРЬЕРЫ
WINSTON GRAHAM
FORTUNE IS A WOMAN / THE LITTLE WALLS
”УИНСТОН ГРЭХЕМ ВНОВЬ ДЕМОНСТРИРУЕТ ПОРАЗИТЕЛЬНОЕ УМЕНИЕ СОЕДИНИТЬ ОСТРЫЙ СЮЖЕТ С ТОНКИМ ПСИХОЛОГИЗМОМ!”
САНДИ ТАЙМС
”ЧИТАТЬ ЕГО -
ПОДЛИННОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ!”
БУКС ЭНД БУКМЕН
Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.
Примечания
1
Жаргонное выражение, означающее плен.
(обратно)2
Вечнозеленый декоративный кустарник.
(обратно)3
Дом для престарелых пенсионеров в Лондоне.
(обратно)4
Чиппендель — стиль английской мебели XVIII в.
(обратно)5
Жадеит — поделочный камень яблочно-зеленого цвета.
(обратно)6
Федеральная Резервная Система.
(обратно)7
Да будет здесь несокрушимая стена из металла, за которой нам не чувствовать вины и не бледнеть от стыда (лат.).
(обратно)8
”Винтер” в переводе с английского означает ”зима”.
(обратно)9
Беременна (фр.).
(обратно)10
Синьор (итал.).
(обратно)11
Не дразните львов (лат.). Здесь обыгрывается имя Леони.
(обратно)12
Это гораздо страшнее всего, что только можно представить (лат.).
(обратно)13
Помедленнее! (итал.).
(обратно)14
Несчастный случай (итал.).
(обратно)

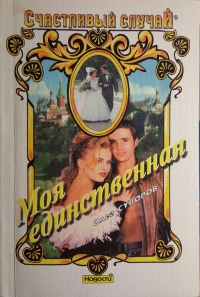

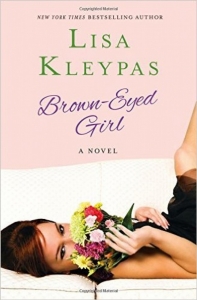





Комментарии к книге «Фортуна-женщина. Барьеры», Уинстон Грэм
Всего 0 комментариев