Анна Смолякова Прощальное эхо
Его лицо, искаженное судорогой нетерпения, казалось прекрасным. Даже в темноте было видно, как блестит взмокший от пота ежик волос. И она снова подумала, что не встречала мужчины красивей и желанней Андрея. Все в ней хотело его, тянулось к нему, и она, уже не сдерживая своих чувств, мучительно прогибаясь в спине, простонала:
— Люблю тебя, хочу тебя! Господи, как мне хорошо с тобой!
Часть первая
Легкие светлые локоны, беззаботно отлетая от стремительных лезвий новеньких ножниц, падали на плечи, скатывались по зеленой пластиковой накидке и замирали недвижно где-то на коленях. В мягком свете полупрозрачных шаров под потолком эти пряди, теперь уже мертвые и ненужные, казались покрытыми тончайшим слоем белого золота. Слева за окнами шумела Пиккадилли, незаметно, но настойчиво заставляя негромкую музыку, заполняющую салон, подстраиваться под ее властный голос. Миссис Клертон равнодушным взглядом смотрела в огромное сверкающее зеркало. Ей почему-то вспоминался длинный, неуютный зал парикмахерской «Чародейка», потрескавшаяся амальгама под мутными стеклами и вонючее средство под названием «Локон» — то ли для обесцвечивания, то ли для «химии». Она хорошо помнила белые пластмассовые флаконы с ребристыми крышечками и вечными грязными потеками, помнила отвратительный резкий запах. Когда мама впервые привела ее в парикмахерскую (когда это было? наверное, лет двадцать назад?), она ужасно испугалась, что сейчас ее чудесные светлые косички намажут этой гадостью. Но толстая тетка в красном фартуке с кокетливыми «крылышками» только развязала банты, провела по ее волосам металлической расческой и восхищенно покачала головой.
— И не жалко такую красоту обрезать? — спросила тетка у мамы. — Это же надо, какое богатство!
Мама, как бы оправдываясь, что-то долго объясняла про бассейн и резиновую шапочку, под которую всегда попадает вода, про хлорку, вредную для волос, и несомненное удобство короткой стрижки. А она, вот так же, как сейчас, смотрелась в зеркало и наблюдала за парикмахершами, собравшимися со всех сторон, чтобы потрогать и взвесить в ладонях распущенные светлые волосы с упругими спиральками на концах…
Молодая тоненькая мулатка своими длинными коричневыми пальцами взбила ее локоны, теперь едва касающиеся плеч, удовлетворенно кивнула и отошла к рабочему столу в поисках подходящей пенки и геля. Миссис Клертон устало прикрыла глаза. Ей не хотелось видеть собственное лицо, теперь, с этой короткой стрижкой, кажущееся чуть более округлым, отраженные в зеркале крохотные огоньки новых сережек с крупными бриллиантами, гибкий силуэт мулатки-парикмахерши. Сознание собственной красоты, прежде такое радостное и неизменно бодрящее, теперь нудной болью стискивало виски. Последние два месяца она не могла заставить себя отвлечься от пугающей мысли-видения: от уголков глаз по гладкой пока еще коже разбегаются веером «гусиные лапки», от крыльев носа пролегают к кончикам губ глубокие скорбные морщины, веки становятся дряблыми и покрываются отвратительными старческими бородавками, а волосы, чудесные светлые волосы, редеют, превращаясь в седые безобразные лохмы… Миссис Клертон знала, что так будет, пусть не сейчас, когда-то, но будет! И ее холодные синие глаза выцветут, станут слезиться, когда она уныло будет изучать сквозь оконное стекло пейзаж осеннего парка… Сегодня Линда опять беседовала с ней о навязчивых страхах, опять просила представить свои опасения в форме маленького, неприятного, но в общем-то безобидного существа, заставляла мысленно отсаживать это существо в дальний угол кабинета, потом на подоконник, а потом и вовсе за окно. И только сегодня миссис Клертон, до этого старательно выполнявшая все ее указания, решилась признаться…
— Знаете, Линда, — она коротко выдохнула и стиснула переплетенные пальцы холодных рук, — я не могу, правда не могу… Я пытаюсь представить то отвратительную старуху, то какого-то гнома, то просто мохнатый бурый шар, но все это так нечетко, так надуманно… Когда вы просите меня «отсадить» эти страхи на стул, я прямо там, в углу, вижу маленького мальчика в белых носочках, джинсовом комбинезоне и бирюзовой маечке. Я вижу, как он улыбается, как болтает ногами, сдувает челку, упавшую на лоб…
— Но почему вы не рассказали мне об этом раньше? — Линда слегка приподняла брови, не укоризненно, впрочем, а скорее сочувственно. — Мы ведь вместе должны решать ваши проблемы. И вы можете полностью довериться мне, иначе будет сложно, очень сложно.
Миссис Клертон согласно закивала, щелкнула застежкой шелковой сумочки и достала пачку сигарет. Сквозь вертикальные голубые жалюзи на окнах в комнату проникал мягкий, успокаивающий свет. Кресла здесь были мягкие, округлой формы, обои на стенах неброские, но в то же время ласкающие взгляд, а композиция из цветов в напольной вазе выглядела безупречно изысканной. Такой и должна быть обстановка в кабинете психоаналитика: спокойная, нераздражающая, наоборот, вызывающая у клиента исключительно чувство уверенности и защищенности. Вот только почему-то и после пятого сеанса у миссис Клертон по-прежнему дрожат руки и мучительной судорогой сводит плечи. Она распечатала новенькую пачку, достала сигарету и уже поднесла ее к дрожащим губам, когда услышала голос Линды, негромкий и как будто извиняющийся:
— Конечно, вы можете курить, но мне бы этого не хотелось…
— Почему? — удивилась она, отложив зажигалку на край стола, и замерла с сигаретой, зажатой между средним и указательным пальцами. — Ведь раньше это не возбранялось? Вчера и на прошлой неделе и вы курили вместе со мной. Почему же теперь…
— Все это так, — мягко прервала ее Линда, — но у нас с вами пока не получается настоящей близости и доверия. Когда вы курите, вы даже руки перекрещиваете на груди, закрываетесь от меня, защищаетесь, что ли… Вы прячетесь от моих вопросов, от своих ответов, вы не хотите раскрываться. Вам, конечно, проще за этим дымом, но ведь так я никогда не смогу вам помочь, понимаете?.. Поэтому давайте сейчас положим пачку обратно в сумочку и начнем все сначала.
Линда поднялась из кресла и отошла к окну, давая пациентке возможность успокоиться и приготовиться к продолжению сеанса. Миссис Клертон молча проводила ее взглядом, а убрала сигареты в сумку, только когда слабые солнечные лучи, с трудом пробившиеся сначала сквозь разрывы в серых облаках, а потом между скошенными пластинками голубых жалюзи, легонько мазнули висок и щеку Линды. Она не знала, о чем сейчас размышляет эта женщина, высокая, сухощавая, похожая на испанку, прячущая под очками в роговой оправе чуть выпуклые бархатные глаза: о проблемах пациентки, о плане ее лечения или о чем-то своем? Линда смотрела куда-то вдаль, и миссис Клертон знала, что там, за окном, нет ничего нового и хоть сколько-нибудь интересного: все тот же голубой шпиль над зданием морского Аквариума, все та же серая и холодная Темза…
Успевшая к своим тридцати годам снискать славу опытного и талантливого психоаналитика, Линда Грейд пока не могла ей помочь, но, похоже, не теряла оптимизма. И миссис Клертон завидовала ей — ее спокойствию, рассудительному хладнокровию, уверенности в благополучном исходе… Еще бы, ведь это не ей видится маленький мальчик в белых носочках!
— Ну, мне кажется, вы готовы? — спросила Линда, снова усаживаясь в кресло. — Давайте начнем с самого главного: попробуем разобраться, почему все-таки мальчик? Ведь, по-моему, у вас была девочка?
— Да, — миссис Клертон напряженными, вытянутыми пальцами потерла висок и успела подумать, что сейчас наверняка выглядит красивой и несчастной… «Да что же это я? О чем я? Господи, ведь Линда же спрашивает о ребенке!» — Она резко отдернула руку от лица, так резко, что локоть, проскользнув по плюшевой обивке, сорвался с подлокотника кресла.
— О чем вы сейчас думаете? Именно сейчас! — неожиданно спросила Линда, и голос ее прозвучал так властно, что нельзя было не ответить. И все же миссис Клертон секунду помедлила.
— Я думаю о том, что я красива, и о том, что вы видите это и немного, по-женски, завидуете. А еще вы видите, что я не могу не любоваться собой, что это как болезнь… Вы замечаете, как я думаю о своих волосах, лице, ногах… — она говорила все тише и монотоннее. — А я, как это ни мерзко, до сих пор не могу избавиться от мысли, что меня ожидает одинокая старость, что я останусь совсем одна, всеми покинутая, обреченная тихо умереть в своем роскошном доме среди красивых, безмолвных вещей…
Линда сидела молча. Миссис Клертон, избегавшая встретиться с ней взглядом и поэтому опустившая глаза вниз, видела только ее крупные кисти, недвижно лежащие на коленях.
— Я думаю о том, что не заслужила всего этого. Моя вина страшна, велика, но плата слишком высока! А мальчик? Ну что мальчик? Просто мне очень хотелось, чтобы он появился. Я часто представляла, как мы втроем — я, Том и он — играем на лужайке Гайд-парка. Вполне идиллическая картинка… А теперь получается, что я сама закрыла для него возможность войти в этот мир. И это мне наказание за ту мертвую девочку… Понимаете, мисс Грейд, я не желала ее смерти, но и любить ее еще не могла! Она бы все равно умерла. Значит, я виновата только в том, что ее не любила?.. Господи, да она ведь еще и не человечек была вовсе — пятьсот граммов, двадцать четыре недели! Я виновата только в том, что ради девочки, которую еще и любить-то было невозможно, не смогла пойти на смертельный риск.
— Достаточно, миссис Клертон, успокойтесь, — Линда, слегка подавшись вперед, погладила ее нервно вздрагивающие пальцы. — Вы в самом деле ни в чем не виноваты. Насколько мне известно, прерывание беременности соответствовало медицинским показаниям?
— Да, это так, но…
— Значит, это ваша беда, а совсем не вина. Но любая боль лечится временем, наша с вами задача лишь немножко помочь этому процессу. Вы и ваш муж, вы ведь любите друг друга? Почему бы вам не взять малыша из приюта, не усыновить кого-нибудь?
— Нет, — миссис Клертон покачала головой, и на стеклянной поверхности столика вспыхнули и тут же погасли два маленьких блика-отражения ее бриллиантовых сережек, — это моя кара, мое искупление… Я виновата в гибели этой девочки, я не оставила ей возможности жить, и мне нужна только она и больше никто. Остальные мои дети не могут войти в этот мир, потому что им преграждает дорогу ее неприкаянная душа… Вы знаете, мне иногда кажется, что она жива, что она ищет меня, зовет… Только не подумайте, что я шизофреничка. Я абсолютно, до омерзения нормальна и, наверное, в принципе не способна сходить с ума ни от любви, ни от горя…
В комнате как-то незаметно потемнело, видимо, солнце, устав бороться с серыми тучами, спряталось окончательно. И только искусно подсвеченные жалюзи на окнах продолжали хранить свою жизнерадостную голубизну. Миссис Клертон, внезапно, на последней фразе почувствовав себя опустошенной, бессильно откинулась на спинку кресла. Она ощущала сейчас нечто похожее на впечатления пациента в кабинете дантиста: первая, нечаянная и острая боль от прикосновения к больному зубу уже прошла, и осталось только какое-то удивленное, замешенное на холодной испарине ощущение, что все кончилось, и тело больше не пронзается невыносимым, мучительным током… Она вдруг впервые ясно поняла, что никакой, пусть даже самый лучший психоаналитик ей не поможет. Ничего не изменится и после того, как в тысячный раз на отчаянное «виновата» будет дан ответ «не виновата». Ничего не изменится в душе… Никто не сможет убедить ее в том, что она безвинно пострадала, уверить в собственной чистоте и мученичестве. И эта полуиспанка с выпуклыми карими глазами и длинными прямыми ресницами тоже не в силах…
— С вашего разрешения, я все-таки закурю. — Миссис Клертон снова расстегнула замок шелковой сумочки, украшенной изящно вышитым вензелем, достала распечатанную пачку и уже довольно спокойно поднесла к губам сигарету. — Мне не хотелось вываливать на вас все свои истерические фантазии, но это получилось как-то само собой.
— Но вы ведь и пришли сюда для того, чтобы… — начала было Линда.
— Да-да, я все понимаю — и специфику вашей работы, и традиционное нежелание пациентов раскрываться полностью, но все дело в том, что это именно фантазии, — она сделала акцент на этом слове, слегка растянув в некое подобие улыбки уголки губ. — Фантазии, только фантазии, понимаете? Я достаточно обеспечена, не работаю, занимаюсь только собой, мужем и домом. Наверное, от этого и придумываю себе всяческие проблемы… Теперь ведь модно иметь личного психоаналитика, правда?
— Правда.
— Кстати, вот вам и еще повод для исследований моей неуравновешенной психики: скучающая домохозяйка бередит себе душу специально для того, чтобы испытать острые ощущения. Проблема? Проблема!
Миссис Клертон затушила сигарету и уже хотела подняться с кресла, чтобы попрощаться, но Линда остановила ее жестом.
— Я хотела бы поговорить с вами еще несколько минут. Вы сейчас расстроены и рассержены на себя, но не нужно делать скоропалительных выводов и принимать поспешные решения. Вы еще так молоды, что можете позволить себе просто наслаждаться жизнью. Вам ведь двадцать семь?
— Почти двадцать восемь.
— И вы на самом деле потрясающе красивы. Так что не нужно винить себя еще и за то, что вы чрезмерно много думаете о своей внешности. В этом виновата только слишком явная, слишком откровенная реакция окружающих. Радуйтесь своей красоте. Зайдите в магазин, купите себе какое-нибудь украшение, сделайте новую прическу. Способ, конечно, примитивный и древний, но, знаете ли, помогает. Успокойтесь, не спеша обо всем подумайте… — она склонилась к настольному календарю, — во вторник опять приходите ко мне. В тринадцать тридцать вас устроит?
— Да, — машинально ответила миссис Клертон, перекидывая через плечо длинный тонкий ремешок шелковой сумочки.
* * *
…И небо было серое, и Темза, и даже воздух — сырой, тяжелый, в клочьях седого утреннего тумана. Зябко поежившись в своем легком брючном костюме, тоже, кстати, жемчужно-сером, миссис Клертон стояла на набережной, опершись локтями о парапет. Свою новенькую темно-синюю «Вольво» она оставила неподалеку, и можно было хоть сейчас сесть в салон, согреться и, повернув ключ зажигания, уехать куда угодно, только подальше от этих массивных, угрюмых домов, чопорных и безупречных, от серых холодных камней, от равнодушной глади реки, которую бороздят красные трамвайчики. Но она продолжала стоять и смотреть на щепку, монотонно бьющуюся о берег, и думала о том, что ехать ей, в сущности, некуда. Конечно, дома можно с ногами забраться на уютный цветастый диванчик перед камином, включить телевизор, уткнуться в книгу, но в какой-то момент все равно придется обернуться и увидеть за окном клочья тумана, бесшумно оседающие на мокрую траву, и пустую лужайку, на которой некому играть… В конце концов, решив, что самое лучшее — как-нибудь убить время до возвращения Тома, миссис Клертон поехала в ювелирный магазин на Пиккадилли. Не ощутив и тени радости, купила себе кольцо, очень удачно сочетающееся с серьгами, а потом зашла в Салон красоты…
Молодая мулатка, закрепив гелем падающую на лоб светлую прядь, удовлетворенно улыбнулась и посмотрела в зеркало через плечо красавицы-клиентки.
— Вам нравится? — она говорила с едва заметным акцентом, и пухлые губки ее при этом смешно оттопыривались.
— Да, — как можно доброжелательнее отозвалась миссис Клертон. На самом деле ей было все равно. Несмотря на прощальные увещевания Линды Грейд, собственное лицо продолжало ее раздражать. Она злилась на свои словно нарисованные синие глаза, на не по-английски смуглую, золотистую кожу, на волосы — светлые и блестящие. И в то же время понимала, что отчаянно лжет себе самой. Ей просто было жаль этой чудесной, редкостной красоты, не получившей заслуженной награды, не выигравшей приза судьбы — чудного карапуза, резвящегося на зеленой лужайке… Мило улыбнувшись парикмахерше и оставив более чем щедрые чаевые, миссис Клертон спустилась по мраморной лестнице к выходу, аккуратно прикрыла за собой двери и села в машину.
Спустя полчаса темно-синяя «Вольво» остановилась перед загородным особняком, и миссис Клертон, супруга крупного бизнесмена Томаса Клертона, в прошлом гражданка России Оксана Плетнева, достав из сумочки ключи, направилась к резной входной двери…
* * *
Том приехал позже обычного. Оксана, отпустившая на сегодня прислугу, уже успела приготовить запеченное мясо и салат и теперь курила на кухне. Привычка курить на кухне, среди кастрюль и тарелок, а не в гостиной или, например, в кабинете, сохранилась у нее еще с Москвы. Муж только беззлобно подсмеивался над ее кухонными посиделками, но не протестовал, а ей нравилось, стряхивая пепел с сигареты, смотреть в окно с раздвинутыми, в белую и красную клетку занавесками на асфальтированную дорожку, ведущую к дому. Правда, в последнее время она начала курить слишком много, причем без особого удовольствия, а скорее из необходимости занять хоть чем-то подрагивающие пальцы. Сколько уже времени прошло после этого окончательного вывода врачей? Два месяца и десять дней? Нет, уже одиннадцать… Сегодняшний, слава Богу, уже кончается… И слово то какое безликое — «вывод»! Наверное, если бы в слове «приговор» было чуть меньше пафоса, оно бы подошло как нельзя лучше. И эта врач в небесно-голубом халате… С каким спокойствием, словно опытный обвинитель в суде, она произнесла памятное:
— К сожалению, детей у вас больше не будет. — И с одной ей понятной иронией добавила: — Уважаемая миссис Клертон…
Тогда Оксане страшно захотелось вцепиться в ее седые букли и завопить, закричать: «Я не виновата! Я могла умереть! Мне пришлось принять решение об искусственных родах!» Но она только проглотила подкативший к горлу комок и спросила:
— Это окончательно?
— К сожалению, при сегодняшнем уровне развития медицины — да… И дело вовсе не в том, что вы не сможете зачать. Даже случись такое чудо, вы не смогли бы выносить ребенка. Мне очень жаль…
Оксана видела, что ей вовсе не жаль, а по-настоящему жаль только ей самой, Тому да еще их семейному доктору мистеру Норвику. А еще она понимала, что эта седая толстая дама завидует ей, молодой, богатой, красивой, к тому же русской, сделавшей на редкость удачную партию. Наверняка, будь она плоскогрудой, скромной англичанкой с мышиным взглядом бесцветных, невыразительных глаз и бледной тонкой кожей, обтягивающей скулы, отношение было бы совсем другим… Докторша нетерпеливо постукивала ручкой с золотым колпачком по полированной поверхности стола и явно ждала, когда же такая неприятная и вызывающая раздражение миссис Клертон наконец уйдет. Оксана поднялась, одернув строгий кремовый пиджак, вежливо попрощалась и, выйдя в коридор, без сил упала в объятия растерянного и огорченного мужа…
«Почему же его до сих пор нет?» — размышляла она, глядя сквозь серую завесу дождя на мокрые кусты и блестящую, коротко подстриженную траву. Может быть, если бы он просто подошел и сжал руками мои плечи, стало бы немножко легче? Том, надежный, верный Том… Наверняка он сумел бы успокоить и, неторопливо расставив факты, как шахматы в сложной комбинации, в который раз доказать, что все не так страшно… Господи, ну почему никого нет рядом?
Ставший слишком длинным столбик пепла на сигарете неожиданно обломился, и невесомые серые частички осели на округлое колено и распахнувшуюся полу длинного атласного халата цвета спелого абрикоса. Оксана брезгливо стряхнула пепел на пол и, бросив окурок в пепельницу, подошла к окну. Когда она прислонила к стеклу длинные холодные пальцы, черный «Мерседес» уже вырулил из-за поворота. Том быстро загнал машину в гараж и под дождем с раскрытым зонтом побежал по асфальтированной дорожке к дому. Уже почти у самой двери он вскинул глаза на окна. Близоруко прищурившись, различил за серой пеленой недвижный силуэт жены и, приветственно помахав рукой, заулыбался открыто и радостно, как ребенок. Оксана задернула занавески и направилась к двери. Она уже знала, что возвращение Тома не даст ей успокоения. Нет, будут, конечно, произнесены утешающие слова, но от железной логики в рассуждениях мужа легче не станет… «Господи, какой же он добрый! — тоскливо подумала она, на ходу подхватив шаль со спинки дивана и накинув ее на плечи. — Он ведь и улыбнулся сейчас для того, чтобы обрадовать меня, чтобы поднять мне настроение. Добрый человек, добрый муж… А я, стерва, ничем, совсем ничем не могу заплатить за его любовь и преданность, а он это видит».
Дверь скрипнула, и Том Клертон, улыбающийся, все-таки слегка вымокший и умопомрачительно пахнущий дорогим парфюмом, появился на пороге. Оксана прильнула к его груди теплой щекой и тут же ощутила на своей спине нежное поглаживание твердых, чуть подрагивающих пальцев.
— Подожди, я сниму плащ, радость моя, — Том отстранился и провел ладонью по ее волосам. — У тебя новая прическа?
— Надо же, заметил! — Она попыталась игриво улыбнуться. — А я думала, будет так же, как с моими новыми вечерними туфлями…
— И ты вечно будешь припоминать мне этот случай вкупе с вашим русским анекдотом про жену, вышедшую к мужу в противогазе? Нет уж, не надейся! — воскликнул он с преувеличенным весельем. — А если серьезно, тебе очень идет… Хотя твоих изумительных длинных локонов, конечно, немного жаль.
— Брось, не о чем жалеть. Ты же знаешь, что волосы у меня быстро отрастут. Пойдем лучше ужинать. Я запекла свинину с хрустящей корочкой, а еще сделала салат.
Том повесил плащ в стенной шкаф и выдержал секундную паузу.
— Что случилось? Что-нибудь не так? — спросила Оксана.
— Нет, все нормально. — Том поправил узел галстука. — Просто я пригласил к нам на ужин доктора Норвика… Конечно, я зря не посоветовался с тобой, но теперь уже поздно отменять приглашение. Он недавно из России, и я подумал, что тебе будет интересно с ним поговорить.
Оксана, плотнее закутавшись в шаль, молча прошла в гостиную и села на диванчик. В камине потрескивали дрова, в комнате было тепло, и очень скоро она почувствовала, как по спине между лопаток стекает тоненькая струйка пота. Но размыкать руки, стиснувшие плечи, сбрасывать пуховую шаль, в которую можно спрятаться, как улитка в раковину, не хотелось. Оксана знала, что в уголках ее нежно-розовых губ наверняка залегли короткие скорбные складочки и что Том, вошедший следом, смотрит сейчас на нее растерянно и виновато.
Он заговорил первым:
— Оксана, любимая, я, на самом деле, не понимаю, чем тебе так неприятен доктор Норвик? Он так вникает в наши проблемы, так переживает за нас. И потом он ведь два дня, как вернулся из Москвы…
— Да что ты заладил: «из Москвы», «из Москвы»?! Ты ведь тоже месяц как оттуда! А я больше там не живу, я уехала из России. И мне не нужны ностальгические воспоминания и разговоры на тему: «А Кремль стоит? А Мавзолей? А ГУМ?.. Стоит? Ну и ладненько, ну и хорошо!»
Том, досадливо поморщившись, опустился рядом на диванчик и неуклюже обнял ее — не за талию, не за вздрагивающие плечи, а где-то под лопатками, больно надавив на позвоночник широким металлическим браслетом от часов. Оксана смотрела на языки пламени в камине, а боковым зрением видела округлый, обтянутый белоснежной рубахой животик мужа, чуть переваливающийся через брючный ремень. Томас Клертон в свои сорок лет выглядел даже не толстым, а каким-то оплывшим, с размытыми, невыразительными чертами лица, коротковатыми ногами и неглубокими, с блестящими при свете люстры залысинами. Если бы не твердые сильные пальцы, его маленькие кисти с круглыми мягкими ладошками казались бы совсем женскими. Сейчас пальцы Тома, нырнув под шаль, терпеливо и успокаивающе поглаживали ее руку сквозь тонкую ткань халата.
— Скажи, почему Джеймс так тебя раздражает?
— Раздражает — не то слово! — Оксана уже пришла в себя. — Он, конечно, милый, хороший, добрый. Но слишком заботливый, слишком печется о своем врачебном долге, ну просто до навязчивости. Я, конечно, понимаю, семейный врач… Но он одним своим видом напоминает мне обо всем, что произошло и два месяца назад, и тогда, давно…
Наверное, «два месяца назад» она произнесла слишком беззаботно и равнодушно. Так равнодушно, что это не могло не привлечь внимания. Том взял свободной рукой ее кисть и прижал к своей гладко выбритой, мягкой щеке.
— Ты опять считала дни? — спросил он печально. — Считала, считала, я вижу… А у Линды была?
— Да, была, — отозвалась Оксана, — и решила, что больше к ней не пойду.
— Почему?
— Потому что она мне не поможет. И ты не поможешь… Изначально глупо было надеяться, что кто-то отпустит мне этот грех. Девочка умерла, ее не вернешь, и я, только я, в этом виновата…
— Ну почему ты? — попытался возразить Том, крепче стиснув ее холодные пальцы. — Ты ничего не могла поделать. Этому ребенку не суждено было жить. Может быть, ты все же найдешь в себе силы принять все, как есть?
Она медленно повернулась, уставилась на него немигающими огромными синими глазами, а потом четко и внятно, выдерживая паузу между словами, произнесла:
— Это тебе легко принять все, как есть. Это тебе легко говорить, что ей не суждено было жить. Тебя-то ведь этот вариант максимально устраивал, правда?.. Конечно, зачем тебе чужой ребенок? Наверное, камень свалился с души, когда стало ясно, что не нужно проявлять благородство и жениться на женщине, беременной от другого? Все получилось как нельзя лучше: я вернулась к тебе уже выхолощенная, пустая… На всю жизнь пустая!
Диванчик резко скрипнул, Том вскочил на ноги и направился к стене так стремительно, словно хотел врезаться в нее лбом.
— Ты же знаешь, что я любил бы этого ребенка, — возразил он. — Эта девочка была бы частью тебя… Да что там говорить! Ты ведь и так все понимаешь. Просто тебе очень-очень больно, милая моя, хорошая девочка…
— Сядь сюда, — позвала Оксана едва слышно. И когда муж снова опустился на диван, сказала, глядя уже не в камин, а в его серые, водянистые глаза: — Прости меня, ладно?.. И пусть доктор Норвик приходит. Я буду самой радушной и милой хозяйкой, какая только может быть на свете… А теперь, извини, мне надо переодеться.
Том кивнул уже почти весело. Она мельком подумала, что он отходчив и незлобив просто до смешного. Чмокнула мужа в щеку и, заправив светлые локоны за уши, легко взбежала на второй этаж по деревянной винтовой лестнице.
Джеймс Норвик приехал через полчаса. Оксана, переодевшаяся в длинную, до пола, юбку и легкий белый джемпер в обтяжку, встретила гостя в прихожей и протянула для поцелуя руку, украшенную одним-единственным массивным золотым кольцом. Мистер Норвик ткнулся в ее руку влажными, мягкими губами, пробормотал что-то вежливо и невнятно и окинул всю ее, с ног до головы, изучающим, лишенным какой бы то ни было сексуальной окраски взглядом. Первое время Оксану очень смущало это сугубо профессиональное, внимательное выражение его маленьких карих глазок. Казалось, что через пару секунд доктор неминуемо произнесет: «Э-э, матушка, да у вас тонзиллит, гайморит, энтерит и миома!» Но Джеймс, как правило, начинал прямо с порога рассказывать какую-нибудь забавную историю, сдобренную шутками и прибаутками и не имеющую ничего общего с медицинской тематикой. Однако сегодня он казался необычно молчаливым и каким-то скованным. Оксана даже подумала, что бедный мистер Норвик заподозрил, что ему не рады, и чувствует себя ужасно неловко. Ей вдруг захотелось погладить его по обширной лысине, плавно переходящей в выпуклый морщинистый лоб, но вместо этого она с церемонностью, за которой, по ее расчетам, не могла не почувствоваться теплота, произнесла:
— Милый Джеймс, я бесконечно счастлива снова видеть вас в нашем доме. Том уже сообщил мне, что вы недавно вернулись из Москвы, и я с нетерпением жду ваших рассказов.
Доктор перевел взгляд с нее на Томаса и без особого энтузиазма подтвердил:
— Да, я действительно только что вернулся из России. Там у состоятельных семей теперь тоже принято пользоваться услугами семейного врача, вот меня и попросили прочитать курс лекций для начинающих… Хотя, милая Оксана, вам это наверняка неинтересно?
— Почему вы так думаете?.. Но для начала давайте пройдем в столовую.
На столе под белоснежной скатертью с неярким цветочным бордюром по краям уже стояли тарелки с салфетками, свернутыми конусом, закуски в маленьких вазочках и бутылка старого «Шато Марго». Извинившись перед гостем, Оксана отправилась на кухню за мясом, пока еще томящимся в духовке. Как только она вышла из столовой, мужчины о чем-то заговорили. Она с горечью подумала, что без нее всем не то чтобы лучше, но явно легче. И Норвик, краснеющий и смущающийся в ее присутствии, и даже муж, следящий за ней встревоженными и полными какой-то уж чересчур бескорыстной любви глазами… Им ведь тоже хочется быть обычными, не задавленными проблемами людьми, беседовать о гольфе и новом ипподроме близ Блумсбери, покуривая сигары, рассуждать о политике, а вместо этого приходится тщательно взвешивать каждое слово, постоянно думать о том, что в доме траур. Красивая женщина не имеет права быть печальной, это преступление перед обществом. Наверняка они думают о том, как бы было хорошо для всех, если бы на зеленой лужайке перед домом появился малыш, играющий в мяч, и детские игрушки были бы разбросаны по всем комнатам. Хорошо для всех…
Оксана лопаточкой переложила истекающее соком мясо с решетки в духовке на большое блюдо, сняла кухонные рукавички и фартук и потянулась за ножом. Ножи висели у самой стены, далеко от духовки, и достать их было не так-то просто. Она вдруг подумала, что малыш бы не смог дотянуться до них, и это хорошо, потому что он бы наверняка порезался. Малыш или малышка… Наверняка та, умершая девочка была похожа на нее — такая же светловолосая и синеглазая. Господи, о каком ребенке из приюта вообще может идти речь, если погибла та, родная, «плоть от плоти», «кровь от крови»? Жаль, что Том этого не понимает, да и никакой мужчина бы не смог этого понять. Почти никакой…
Муж появился в дверях кухни неслышно, и она, как всегда, вздрогнула, внезапно услышав за спиной его голос:
— Милая, тебе помочь?
— Ты меня напугал, — отозвалась Оксана, не оборачиваясь. — Специально подкрадываешься?
— Нет, — ответил Том, и она ясно представила, как он улыбается: чуть виновато и в то же время радостно. Ему вообще нравилось, когда она говорила с ним в шутливом тоне, используя слова, подходящие скорее для характеристики мультяшного героя: «подкрался», «улизнул», «подкараулил»… Хотя он был абсолютно не похож ни на своего тезку веселого кота, ни на какого бы то ни было «утенка», «индейца» или «охотника за привидениями». Сорокалетний Том Клертон напоминал скорее большого неуклюжего пингвина, бесшумно переваливающегося с боку на бок.
— Сейчас, украшу мясо зеленью, и пойдем, — Оксана бросила нож в раковину. — А то бедный Джеймс, наверное, скучает…
Доктор Норвик задумчиво изучал то ли рисунок на бордюре скатерти, то ли собственные пухлые ручки, покоящиеся на коленях. Услышав звук приближающихся шагов, он поднял голову и с готовностью улыбнулся.
— А вот и мы, — Оксана поставила блюдо на середину стола и, опустившись на краешек стула, сняла салфетку со своей тарелки. — Разрешите, я положу вам несколько кусочков мяса, Джеймс?
— Да-да, пожалуйста, — кивнул доктор. — Кстати, забыл сказать, вы сегодня совершенно очаровательно выглядите. Наверное, настроение немного получше?
— Получше, — согласилась она, резонно рассудив, что ни к чему вываливать на Норвика неразрешимые проблемы.
Доктор покачал головой, потом вдруг ни с того, ни с сего добавил:
— А знаете, мне посчастливилось в Москве присутствовать на семинаре педиатров, и выяснилось, что московские врачи достигли очень больших успехов при выхаживании недоношенных детей. Там есть одна такая женщина, Денисова Алла Викторовна, врач с довольно большим стажем, так вот, она добилась очень высокого процента выживания двадцатичетырех-двадцатипятинедельных малышей. Что самое удивительное, они почти всегда остаются сохранными физически и психически. К примеру, полуторагодовалая девочка просто чудо — и умненькая, и энергичная, но родители от нее, к сожалению, отказались, она воспитывается в детском доме…
То ли Джеймс произнес слишком длинную для него речь, то ли, заканчивая последнюю фразу, уже осознал всю бестактность и неуместность своего экскурса в область российской медицины, во всяком случае, круглая его лысина мгновенно побагровела и покрылась мелкими капельками пота. Том деликатно промолчал, пожалуй, только звонко стукнув серебряной вилкой о край тарелки, а Оксана напряглась, чувствуя, что в любую минуту ее эмоции могут выйти из-под контроля, и она или ударится в истерику, или просто разобьет о пол тарелку. «Тоже мне, семейный врач! Психотерапевт выискался! Или это они с Клертоном сговорились насчет шоковой методики?!» — Она вместе со стулом отодвинулась от стола и сжала кулаки, впившись ногтями в ладони…
Прилюдно и демонстративно разбить о пол тарелку Оксана Плетнева позволила себе только раз: лет десять назад. Тогда еще она вместе с родителями жила в двухкомнатной квартирке на улице Рогова, недалеко от «Щукинской». Квартирка была ничего, не «хрущоба», и даже санузел раздельный. Вот только соседи сверху постоянно ругались, скандалили да еще и забывали закрывать краны, поэтому потолок на кухне неумолимо промокал, покрывался серо-бурыми пятнами и отставшими лохмотьями побелки. В тот вечер они сидели за столом втроем и ужинали картошкой с котлетами по-киевски и какими-то замысловатыми салатами. Ужин планировался праздничный, но праздника не получилось, и мама вот уже десять минут старательно беседовала на нейтральные темы, избегая смотреть ей в глаза. А Оксана меланхолично изучала пожелтевшую побелку в углу, грозящую вот-вот осыпаться прямо на красные в белый горошек кастрюльки. Первым не выдержал отец.
— Люся, хватит уже разговаривать, будто в доме покойник. — Он выпрямился и прокашлялся. — Что, собственно, произошло? Ну не победила она на этом несчастном конкурсе. И что из этого? Ты сама говорила, что там заранее все куплено, и в жюри уже все решено… Да и подумаешь, какое событие — конкурс красоты! Прямо выставка достижений народного хозяйства, просмотр лошадок на выгоне, правда, Оксанка?
Наверное, отец просто хотел пошутить, развеселить и ее, и мать. Но глухая, непонятная злоба, возникшая из ниоткуда, вдруг разлилась в груди Оксаны, стеснила дыхание, сдавила горло. Она молча встала, взяла двумя пальцами за краешек тарелку с остатками картофельного пюре и с силой швырнула ее на пол. Тарелка успела пару раз крутануться в воздухе, а потом, стукнувшись о польский облезлый табурет, раскололась на две половинки, испачкав картошкой дверцу холодильника и домашние папины брюки.
— Это что еще такое… — начал было отец, но Оксана, взмахнув рукой, уже выскочила из кухни. В своей комнате она немедленно закрылась на защелку и упала ничком на кровать. Слезы грозили извергнуться Ниагарским водопадом, но она достаточно быстро успокоилась и сумела оценить преимущества своего убежища: сквозь тонкую стену прекрасно было слышно, о чем говорят родители на кухне.
— Она ни в чем не виновата! — раздраженно шипела мать. — Нам надо было с самого начала высказаться против ее участия в этом конкурсе. Ей всего семнадцать лет, это слишком большая психологическая травма!
— Подумаешь, не стала призером! — бубнил отец, видимо, в глубине души чувствующий себя неправым. — Надо уметь достойно проигрывать. Да будь жюри хоть десять раз куплено, все равно она не имела никакого права закатывать истерику. Мы ее туда на аркане не волокли!
На несколько секунд воцарилось молчание, потом из крана полилась вода. Наверное, мама, посчитавшая неудачный ужин законченным, начала мыть посуду.
— Господи, ну почему все мужики такие бесчувственные? — громко сказала она, перекрывая грохот посуды в раковине.
— Все мужики такие бесчувственные, потому что они, во-первых, дурно воспитаны своими мамами, то есть, жениными свекровями, во-вторых, неумеренно употребляют алкоголь, в-третьих…
— Ну хватит, хватит, — мать негромко хохотнула в ответ на явную попытку отца ее рассмешить и погасить назревающую ссору в зародыше. — Вопрос был риторическим…
Оксана уткнулась заплаканным лицом в подушку. «Надо же, они уже веселятся! Никому нет дела ни до меня, ни до моих проблем. Боже, какой же я была дурой, когда надеялась, что-то изменится!» — Она подняла лицо, глубоко и судорожно вздохнула. Наверное, самым правильным сейчас было бы привести себя в порядок, надеть джинсы и куртку и отправиться бродить по улицам до самой ночи, а может быть, до утра… Она уже спустила ноги с кровати, но тут снова заговорила мать:
— Смех смехом, а Оксанку жалко. Все-таки это слишком сильный шок для ребенка. Ты думаешь, почему она разбила тарелку, расплакалась? Потому что не победила, да?
Оксана замерла, вцепившись побелевшими пальцами в железную сетку кровати: «Неужели скажет? Неужели догадается? Господи, как стыдно-то, если она произнесет это вслух!»
— Ты только на секунду представь ее там, на этой сцене, — продолжала мать. — Молоденькая семнадцатилетняя девочка, и толпа кобелей, откровенно разглядывающих ее в зале! Все эти софиты и прожектора глаза слепят, музыка лупит по ушам, впереди повиливают чьи-то бедра… Кстати, помнишь эту Никольскую, ну ту, которая победила? Она как раз перед нашей Оксанкой шла. Какой у нее вид был заранее королевский! Да нет, точно жюри куплено… Но я не об этом. Понимаешь, Оксана на самом деле почувствовала себя вещью, лошадкой на выгоне, а тут еще ты со своими дурацкими шуточками. Вот и сорвалась. Тем более мы праздновать собирались, отмечать победу…
— Н-да, — отозвался отец, — пожалуй, я действительно пошутил «не в ту степь». Надо пойти, вытащить ее из комнаты. Она ведь и не поела совсем…
Оксана тихо и облегченно вздохнула, легонько похлопала пальцами по лицу, массируя опухшие и покрасневшие от слез щеки, и, подойдя к двери, открыла защелку…
Теперь, сидя с Томом и Норвиком в своем роскошном доме под Лондоном, она вспоминала все с самого начала…
Первой неприятной новостью, услышанной ею в организационном комитете конкурса, было то, что одежду и обувь нужно приносить свою. В те годы еще не было бутиков, предоставляющих костюмы ведущим и участницам с целью рекламы своих товаров, поэтому конкурсанткам пришлось выкручиваться «подручными» средствами. Дома она первым делом озадачила маму, сообщив, что ей нужны три платья и к ним, соответственно, три пары туфель. Людмила Павловна тогда только недоуменно пожала плечами и демонстративно распахнула шифоньер.
— Выбирай, что хочешь, хоть из своей одежды, хоть из моей. Благо, размер у нас почти одинаковый.
— Ну да, одинаковый, — усмехнулась Оксана, — не считая того, что я на три сантиметра выше, а значит, все твои вещи будут мне по колено… Да и не нравится мне ничего из твоей «эксклюзивной коллекции».
— Тогда надень свое фиолетовое платье с блестками, — предложила мать.
Оксана изобразила полнейшее и искреннее недоумение по поводу услышанных слов. Фиолетовое с блестками платье висело на отдельных плечиках, удостоившись этой чести в маленьком шифоньере, плотно забитом вещами всех троих членов семьи. Оно было парадным… Пышное жабо на груди, длинные манжеты с тремя блестящими пуговками, прямая юбка чуть ниже колен и узенький поясок, который можно завязать на узелок, а можно — на бантик. Оксана надевала его всего пару раз: на Осенний бал в десятом классе, на вечер Первокурсника в институте и больше зареклась.
На нее смотрели, как на Дуньку из райцентра. Исключительно для того, чтобы не расстраивать маму, она придумала легенду об особой парадности этого платья. В обычные дни можно было вполне обойтись приличными джинсами, парой водолазок и двумя симпатичными джемперочками, слава Богу, не ручной вязки с «шишечками» и «листиками», но для конкурса красоты такая одежда, естественно, не годилась.
— Мам, оно коротковато, а еще оно несколько старомодно, — начала она издалека, однако Людмила Павловна не позволила ей развить тему:
— Ну и что, что старомодное? Да знаешь, как ты будешь выгодно смотреться на фоне всех этих разряженных девиц! Платьице скромное, сшито со вкусом, хорошо смотрится на твоей фигурке… Может, померишь, а?
Оксана категорически отказалась и уже спустя пять минут с тайным удовлетворением слушала, как мама названивает по телефону своим знакомым с просьбой одолжить на три дня что-нибудь «умопомрачительно вечернее». Конечно, можно было одолжить приличные вещи у однокурсниц, но уж очень не хотелось навлекать на себя потоки неизбежной едкой иронии, рассказав о своем намерении поучаствовать в конкурсе. Поначалу и без помощи подруг все складывалось как нельзя лучше…
За день до первого тура мама принесла домой в большом пластиковом пакете четыре платья и одни туфли. Оксана разложила наряды по кровати и только тут поняла, что не учла самого главного: почти все мамины приятельницы работали все на том же молкомбинате, имели маленькие оклады и соответственно примерно одинаковые, простенькие вещи. И красное платье с пышным бантом на груди, и гофрированный шелковый сарафан с накидкой-«болеро», и костюм из жакета и юбки, неуклюже пытающийся спародировать стиль Шанель, являли собой весьма жалкое зрелище. Вот только туфли и в самом деле были хороши: светло-бирюзовые с серебряной окантовкой и тонюсенькой шпилькой, они сидели на ноге, как влитые. Но даже самая замечательная обувь не могла исправить впечатления, произведенного одеждой.
— Мама, я не надену это, — прошептала Оксана побелевшими губами. — Ни за что на свете не надену. Я лучше вообще не пойду на конкурс…
— Доча, ну чем тебе плох вот этот сарафанчик? Ты в нем такая стройненькая…
— Стройненькая? — усмехнулась она. — Да я похожа в нем на ощипанную ворону, точно так же, как и твоя Эльвира… Это ведь ее вечерний туалет? Я не ошиблась?
— Не ошиблась, — поджала губы мать. — Хотя по идее ты должна быть благодарна людям, которые пытаются тебе помочь, а не строить из себя непризнанную принцессу.
Спокойно прикрыв за собой дверь, она вышла из комнаты. Оксана со злостью забросила бирюзовую туфлю в дальний угол и села на кровати, подтянув колени к подбородку. На письменном столе все еще валялся старый «Огонек» с портретом первой красавицы Москвы Маши Калининой, на этой фотографии она была в королевском платье с широкой голубой лентой на груди и маленькой сверкающей короне. Улыбалась Маша более чем щедро, на весь кадр, и Оксана в который раз подумала, что и улыбка у нее лучше, чем у этой признанной красавицы, и волосы, и, уж конечно, глаза… Но зато платье прямо как в фильме «Приходите завтра» — «мамино, выходное»… Что теперь делать, она даже отдаленно не представляла.
Мама зашла в комнату минут через десять. Оксана молчала, виноватой она себя не чувствовала и извиняться не собиралась. Наконец мать заговорила, нехотя и как будто через силу.
— У нас есть кое-какие сбережения, — она зачем-то поправила и без того аккуратную прическу, — не много, конечно, но есть… И мы могли бы завтра с утра вместе с тобой съездить на вещевой рынок…
Закончить фразу она не успела, потому что Оксана, вихрем сорвавшись с кровати, повисла у нее на шее…
Сбережений оказалось действительно совсем немного. Потому что назавтра удалось купить только светло-голубое вечернее платье, сшитое непонятно из чего, и еще длинную узкую юбку с разрезом чуть ли не до попы. Оксана подумала, что с черным топиком такая юбка будет смотреться неплохо, и в какой-то степени успокоилась. В конце концов, до третьего тура еще оставалось время, а значит, можно было успеть решить вопрос с одеждой для финала.
Ровно к пяти часам вечера она в сопровождении родителей приехала во Дворец молодежи. Конкурсанток было безумно много. Оксана поняла это еще в метро, постоянно натыкаясь взглядом на красивые и откровенно кукольные личики, обладательницы которых в немыслимом количестве заполонили вагон. Мужчины чуть ли не сворачивали головы, умудряясь смотреть одновременно и на глаза, ресницы, губы, и на длинные и стройные ножки, весьма условно прикрытые юбками. Пока еще Оксана была почти спокойна, внутренне ощущая свое неоспоримое превосходство. Она сидела между мамой и папой, скромная и элегантная в своих черных брюках и синей блузке с воротником-хомутиком, но все равно взгляды всех входящих в вагон пассажиров первым делом устремлялись к ней: к ее длинным ногам, вытянутым чуть ли не до противоположного сиденья, к глазам, глубоким и потрясающе синим, к густым и пышным волосам, поблескивающим золотом и создающим удивительный контраст со смугло-золотистой, нежной кожей лица.
Но когда она зашла в гримерную, одну на пятнадцать человек, все страшным образом переменилось. Девушки переодевались в платья от Диора и Галлиано, наносили на губы яркую, мягко ложащуюся и умопомрачительно пахнущую помаду. И Оксана в своем голубом платье с кажущимся теперь нелепым шлейфом почувствовала себя бедной дурнушкой. Добавила масла в огонь и одна из организаторш конкурса. Она вошла в гримерку, окинула девушек быстрым, оценивающим взглядом и, подойдя к Оксане, уже полностью готовой к выходу, потрогала ее за плечо:
— Эй, а ты что копаешься? Давно бы уже пора переодеться в конкурсную одежду. Тебя персонально никто ждать не будет…
Она тогда с трудом преодолела желание убежать отсюда немедленно и подставить под струю холодной воды пылающее от стыда лицо. Но времени на размышления не было. Оксана вместе с остальными участницами вышла на сцену и направилась к яркому прожектору, добросовестно покачивая бедрами и наблюдая перед собой только обнаженную спину с маленькой черной родинкой и развернутые гладкие плечи, укутанные розовой и легкой, как вздох, пеной тончайших кружев.
Наверное, ее голубое платье нелепо смотрелось в комплекте с бирюзовыми туфлями, неизвестно откуда появившимися у пожилой и небогатой Антонины Ивановны. Когда она взглянула в зал, то поймала откровенно издевательский взгляд молодого парня в первом ряду. Он сидел, закинув ногу на ногу, в светлом, безупречно сшитом пиджаке и такой белоснежной рубахе, что становилось больно глазам. Парень улыбался иронично и снисходительно. Сказав что-то на ухо соседу, показал ей «козу» и при этом довольно громко хохотнул. Наверное, он пришел сюда в основном повеселиться. Те, кто хотел созерцать красивых женщин, не отрывали восхищенных взглядов от номера 17, Татьяны Никольской, которая шла сразу перед Оксаной. Фигура у нее, конечно, была довольно приличная, и волосы, черные, густые и прямые, могли понравиться любителям восточной экзотики, но главным, конечно же, было платье. Оно словно дышало вместе с хозяйкой, жило вместе с ней, переливаясь тончайшими полутонами и нежно нашептывая что-то в такт позвякиванию невесомых длинных сережек.
К собственному удивлению, Оксана вышла во второй тур, а потом и в третий. И уже успела немного приободриться, когда узнала, что девиз третьего тура — «Красота без прикрас». Десять участниц должны будут пройти по сцене в одних купальниках и без тени косметики на лице. Но если последнее условие ее не особенно волновало, то первое казалось просто убийственным. Где взять нормальный, стильный купальник? Не выходить же перед жюри в доисторическом бикини с дурацкими бантиками на бедрах?
Мамины сбережения были исчерпаны, и Оксане, краснея и запинаясь, пришлось выпрашивать купальник у Нельки Усачевой из ее группы, регулярно приезжающей в институт на папиной машине. Мало того, что ей становилось противно от одной только мысли о необходимости надеть на себя чье-то, по сути дела, белье, так еще и Нелька, чувствуя ее безвыходное положение, дала себе волю поупражняться в ехидстве.
— Так, значит, ты теперь у нас официальная красавица? — интересовалась она, копаясь в бельевом отделении зеркального шкафа. — Ну-ну, официальный титул — это очень даже неплохо. Ты, главное, держи это до поры, до времени в тайне. Будет, как в сказке про Золушку: явится прекрасный принц, а тут ты ему из карманчика — диплом с печатью: «Смотри, мол, я — красавица!»
Оксане хотелось плюнуть в ее широкое лицо с тонкими бесцветными губами и броситься прочь из этой шикарной квартиры. Но в ее воображении витали контракты со спонсорами, бесчисленные предложения поработать в модельных агентствах, дорогие, красивые призы, короче, неясная, но манящая возможность новой, счастливой жизни.
Купальник на самом деле оказался чудесным. Красный в широкую белую полоску и высоко вырезанный по бедрам, он превосходно облегал фигуру и зрительно делал ноги еще более длинными. Вот только чашечки с китовым усом Оксане были совсем не нужны. Ее грудь, небольшая и упругая, прекрасно стояла сама, но не портить же, в самом деле, чужую вещь? Поэтому и на сцену Дворца молодежи она вышла с этими чашечками. Впереди опять же дефилировала Никольская, естественно, прошедшая в финал, и Оксана, глядя на ее спину, со злорадством думала, что талия у соперницы значительно шире, и ягодицы, откровенно говоря, тяжеловаты. Сама она легко и изящно ступала по зеленому ковровому покрытию ногами в маленьких белых туфельках и думала о том, что шансы на победу увеличиваются с каждой секундой. Ей уже мерещилась сверкающая корона Королевы, но тут произошло неожиданное. Когда Оксана в очередной раз поворачивалась спиной к зрителям, что-то противно пискнуло у нее под мышкой, а потом выскочивший из пазов «китовый ус», оказавшийся самой заурядной проволокой, больно впился в правую грудь. Но самое страшное, что злосчастная чашечка безобразно провисла… Она закусила губу и, стараясь двигаться как можно осторожнее, продолжила свой путь. Но теперь ее движения поневоле стали ужасно скованными и угловатыми, плечи перекосились, пытаясь удержать сползающий купальник. В довершение всех бед уже знакомый весельчак в зале пронзительно захохотал. Оксана была почти уверена, что Нелька знала об этом дефекте своей отнюдь не новой вещи и промолчала специально. Но теперь уже было все равно… Она не вошла даже в пятерку призеров и с утешительным призом, большой плюшевой собакой, отправилась восвояси. В вагоне метро давилась от ярости слезами и думала лишь об одном: «Я не хочу быть бедной, я не могу быть бедной! Если бы не убожество моих нарядов, я бы почти наверняка выиграла. А теперь все, все потеряно…»
Естественно, что благостные рассуждения отца, никогда не умевшего достойно обеспечить собственную семью, о «лошадках на выгоне» вывели ее из себя. Вот тогда она и швырнула на пол тарелку с картофельным пюре…
Доктор Норвик смущенно прокашлялся, Оксана незаметно выдохнула и разжала кулаки.
— М-м-м, Оксана, я, по всей видимости, должен просить у вас извинения за то, что невольно причинил боль, — он еще больше наморщил вспотевший лоб. — Но, клянусь, я не хотел вас расстраивать… Мне почему-то показалось, что вам будет важно узнать, что сейчас ваша дочь, несомненно, осталась бы жива…
— Все нормально, извинения излишни, — прошептала она и вышла из-за стола. Сейчас ей было абсолютно наплевать на английский этикет, на джемпер, слегка задравшийся на спине, на озабоченный взгляд Тома. Просто у нее больше не было сил слышать про Москву, про полуторагодовалых малюток и недоношенных младенцев, про гениального доктора Денисову Анну Васильевну (или как там ее?). Оксана с опущенной головой поднялась по винтовой лестнице в свою спальню и упала на кровать. Узкая юбка перекрутилась вокруг колен, и в другой момент она бы обязательно расправила ее, ведь красивой надо быть не только для окружающих, но и наедине с собой, но сейчас ей не хотелось даже шевелиться. «За что все ненавидят меня? — думала она, глядя на свое отражение в зеркале. — Почему им нравится делать меня несчастной и мучить? Почему им приятно, как павловскую собаку лампочкой, дразнить меня разговорами о ребенке? Разве я настолько виновата?» Сквозь непонятное и неконкретное «они» проступали лица Тома и Джеймса Норвика, чопорная физиономия врачихи в Центре репродукции, слащавая улыбка соседки, гуляющей с колясочкой. И только когда этот невыразительный хоровод затмило лицо мужчины с прямым, слегка длинноватым носом, черными волосами и синими, чуть более темными, чем у нее самой, глазами, Оксане удалось уснуть…
* * *
Неожиданно приближающиеся к двери шаги Тома она вдруг услышала так ясно, словно и не спала совсем. Услышала, удивилась и даже немного испугалась. Муж для занятий любовью всегда выбирал совершенно конкретное время — самое начало ночи, когда они только-только успевали разойтись по своим спальням. Она обычно еще стояла в бюстгальтере и плавочках, намереваясь переодеться в пижамку или ночную сорочку, когда раздавался деликатный стук в дверь, и на пороге появлялся несколько смущенный Томас. Как он умудрился в свои сорок лет сохранить стеснение, присущее юнцу, Оксана понять не могла, да в общем-то и не стремилась. И только каждый раз, когда муж, придавив ее к кровати, традиционно раздвигал своими круглыми и тяжелыми коленями ее ноги, думала: правда или нет то, что он рассказал ей во время их второй или третьей, еще довольно яркой и немножечко сумасшедшей близости? Тогда Том ляпнул, что как-то в Париже воспользовался услугами проститутки. Ляпнул и тут же покраснел. Наверное, он тут же вообразил, что Оксана начнет просчитывать ассоциации, возникшие у него в голове: постель — женщина — шлюха. Но она лишь рассмеялась звонко и безудержно и, обняв его за шею, притянула к себе… И вот теперь два раза в неделю она регулярно размышляла над одной «проблемой»: «Интересно, а с французской проституткой тоже было так? И она его ничему не научила? Только — колени вместе, колени врозь, и поехали?»
Эти его тихие, пингвиньи шаги за дверью были необычными и даже немного пугающими. Необычными потому, что степенный и благовоспитанный Том Клертон никогда бы не позволил себе разбудить жену только для того, чтобы заняться плотскими утехами. А пугающими… Оксана осторожно, чтобы не скрипнуть пружинами матраца, перевернулась на другой бок и плотнее сомкнула веки. Ей была и страшна и неприятна одна мысль о том, что мужчина сейчас будет касаться ее тела языком, руками, приникать широкой грудью, животом, тыкаться между ног возбужденной, горячей плотью. Сейчас, когда ей плохо и грустно, когда ее так обидели и расстроили, бестактно напомнив о той девочке! Ей просто не хотелось испытывать удовольствие, ну не хотелось — и все! Спокойный полумрак спальни и горькая радость одиночества — вот ее удел… А когда он уйдет, надо будет снять юбку, джемпер и колготки, не спать же в самом деле как бродяга на вокзале?
Дверь отворилась, почти не скрипнув. Оксана, старательно притворяясь спящей, слышала, как Том подошел к ее кровати, как присел на краешек, как склонился над ней. Она почувствовала на своей шее его горячее, несколько сбившееся дыхание и нервно сглотнула, впрочем, тут же выдав это за ночное и немного детское причмокивание губами. Наверное, он улыбнулся. Во всяком случае, Оксана молилась об этом. Ведь тогда умилившийся и растроганный Клертон наверняка уйдет. И он действительно встал с кровати. Но зато следующий звук не оставил сомнения в его дальнейших намерениях: с мягким вздохом соскользнул на пол небрежно брошенный на пуфик его шелковый домашний халат.
И все же Оксана упорно притворялась спящей. Том пристроился рядом и погладил дрожащей ладонью ее плечо и поцеловал ее спину. Задрав джемпер, вытащил из-под юбки шелковую комбинашку. Дальше изображать глубокий сон было уже глупо, и она, выбрав момент, когда мимо окна, громко хлопая крыльями, пролетела какая-то ночная птица, сделала вид, что проснулась.
— Ты здесь? — удивленно спросила она. — А который час? Почему я так одета?
— Ты, наверное, уснула, после того как убежала от нас с Джеймсом.
— А Джеймс, он что, ушел?
— Давно. Но не будем сейчас говорить о нем…
Том, с необычным для него волнением, одной рукой продолжал стягивать с ее бедер узкую трикотажную юбку, другой в это время поглаживая шею и грудь. Его сильные пальцы забирались под круглый, мягкий ворот джемпера, сбрасывали с плеч бретельки комбинашки и гладили, гладили нежную кожу груди и ямочку между ключицами. Оксана, прикрыв глаза, подумала о том, что муж ее при всей внешней деликатности настоящим чувством такта, увы, не отличается. Что ж, такова ее участь — быть прекрасной, немного грустной и непонятой, а значит, и сейчас следует просто покориться обстоятельствам. Она слегка приподняла бедра, позволяя Тому стащить юбку, едва слышно вздохнула и, отстранив его рукой, встала с кровати, чтобы снять покрывало и разложить подушки.
И тут произошло неожиданное. Том, спокойный, респектабельный Том, неуклюже упал на колени и принялся целовать ее ноги, тиская скомканные вместе подол комбинашки и край джемпера. Его губы от узких ступней с выступающими прожилочками поднялись к коленям, а потом медленно и в то же время ненасытно-жадно поползли вверх, отрываясь от внутренней стороны одного бедра только для того, чтобы приникнуть ко второму. Он так резко рванул вниз ее трусики, что Оксане на секунду даже стало больно. Но в следующий момент ощущение боли сменилось изумлением и растерянностью. Там, внизу, ей стало вдруг щекотно и горячо от его дыхания, а потом глубокая, томительная волна прокатилась внизу живота, и она почувствовала знакомое и уже подзабытое, острое напряжение мышц. Судорожно задрожали колени, сжав с двух сторон плечи Тома, и тут же неотвратимо ослабели. Наверное, муж хотел ее поддержать, потому что на секунду разжал руки и выпустил ее скомканную одежду. Естественно, кружевная комбинашка опустилась ему прямо на голову. Но Оксане мучительно не хотелось сейчас видеть его смешным и нелепым. Уже задыхаясь, но все еще не придя в себя от изумления, она даже обрадовалась, когда Том, резко сорвав с нее комбинашку, негромко выругался. Она могла бы поклясться — выругался! А потом он, поддерживая за талию, опустил ее на оставшуюся застеленной кровать, на шелковое темно-зеленое покрывало. Продолжая дышать горячо и прерывисто, он проник языком еще глубже, в самые сокровенные уголки. Оксана, запрокинув голову и перебирая дрожащими влажными пальцами его волосы, напряженно всматривалась в потолок, а сомкнула веки, только когда уже невозможно стало держать их распахнутыми. В этот момент напряжение отпустило ее, внутри что-то взорвалось тягучими, судорожными толчками, и сердце бешено заколотилось под самой ключицей…
Том спал, уткнувшись лицом в ее плечо. Утреннее нежное солнце желтыми бликами отражалось в его залысинах. Оксана осторожно, старясь не разбудить мужа, выползла из-под одеяла. Легкая пена тумана еще белела у самой травы, но кроны деревьев уже вовсю зеленели на фоне необыкновенно голубого неба. Она подошла к окну, привычно взглянула на аккуратно подстриженную лужайку перед домом и негромко вздохнула. По идее Том должен был бы проснуться, и (как это вечно показывают в мелодрамах? опершись на локоть?) да, именно, опершись на локоть, посмотреть на нее влюбленными глазами. Но он по-прежнему мирно посапывал, а темные волоски, торчащие из его ноздрей, слегка шевелились.
Оксана накинула пеньюар и, устроившись перед туалетным столиком, принялась легкими мазками наносить на лицо нежно пахнущий персиковый крем. Она успела подкрасить глаза и расчесать свои светлые, густые, непривычно коротко подстриженные волосы, а муж так и не проснулся. Короткое очарование странной ночи с каждой секундой все больше рассеивалось, и ей уже не хотелось видеть в нем страстного любовника и настоящего мужчину. В ее спальне зачем-то до утра остался неуклюжий «пингвин» Клертон…
Оксана уже готовила на кухне завтрак, когда Том, гладко выбритый и безукоризненно одетый, стуча по лестнице жесткими подошвами своих черных ботинок, слетел со второго этажа.
— Милая, я есть не буду, не успеваю. — Он походя чмокнул ее в щеку. И в этом небрежном поцелуе, да еще, пожалуй, в давно забытом огоньке, блеснувшем в его глазах, ей почудился пронзительный отзвук прошедшей ночи. Но лишь почудился и окончательно растаял в воздухе, как тихий звон серебряного колокольчика.
— Но как же… — Оксана кивком головы указала на готовые сандвичи.
— Ничего, я поем в перерыве, а ты позавтракай без меня.
Клертон выскочил из дома без плаща и зонта и чуть ли не заячьими прыжками, совсем несвойственными «пингвину», побежал к гаражу. Через пару минут черный «Мерседес» выехал из ворот особняка. Оксана пожала плечами, завернула сандвичи в полиэтиленовую пленку и переложила их в холодильник. Есть совершенно не хотелось. Завтрак она готовила исключительно для мужа, а он, как заполошный, умчался, забыв даже взять зонт.
«А ведь сегодня наверняка пойдет дождь!» — подумала она, посмотрев на небо, так недолго остававшееся безукоризненно голубым. Оксана вышла в прихожую. Черный зонт Клертона с длинной деревянной ручкой висел, как обычно, на крючке. И тут она увидела, что на тумбочке лежит незнакомая коричневая кожаная папка. Она никогда ее раньше не видела и была почти уверена, что Том привез ее с работы и в спешке забыл.
«Ну, что ж, придется звонить, а потом скорее всего ехать к нему в офис», — подумала Оксана и взяла папку с тумбочки. Она уже собралась вернуться на кухню, когда неожиданная мысль промелькнула у нее в голове: «А что если это папка доктора Норвика?.. Тогда из дома уезжать не следует, он может вернуться за ней в любой момент. Возвращение Джеймса было бы неприятно. В любой другой ситуации она, мило улыбнувшись, отдала бы ему забытые бумаги прямо на пороге, пригласила бы выпить чаю, а если бы он отказался, не стала слишком настаивать. Но после вчерашнего… Придется как-то объяснить свое вчерашнее поведение и тем самым поставить бедного Норвика в еще более неловкое положение. Он ведь и так наверняка себе места не находит. Сказка про внезапную и острую головную боль никого не обманет и только усугубит ситуацию…
Желая убедиться в том, что бумаги все-таки принадлежат мужу, Оксана расстегнула позолоченную защелку и раскрыла папку. Она была набита документами, напечатанными на принтере, и газетными вырезками. Но уже через секунду Оксану совершенно перестала волновать проблема, кому принадлежит папка. Она пристально вглядывалась в самый первый газетный листок. Русский газетный листок… Примерно половину страницы занимала фотография молодой улыбающейся женщины, а подпись внизу гласила: «Врач-педиатр московской частной клиники «Мама и кроха» Алла Викторовна Денисова»… Алла, ну, конечно, Алла! Как же она могла забыть ее имя! Андрей, знакомя их в том кафе, тогда еще так смешно сказал:
— Ксюха, познакомься, это Алка.
Женщина улыбнулась как-то не очень весело и заметила:
— «Алка» от слова «алкоголик»… Помнишь, наверное, Андрюшенька, как мы чуть ли не всем курсом обмывали в общаге удачную сдачу госэкзаменов? — И, уже обращаясь к ней, добавила: — Он тогда повел себя как настоящий джентльмен. Таскал меня, пьяную, по всем этажам, пока не нашел свободную кровать, где я могла бы выспаться. С тех пор только так и зовет: не Алла, не Аллочка, а Алка…
Она выглядела довольно симпатичной и немного грустной. Оксана подумала тогда, что эта женщина наверняка влюблена в ее Андрея. Иначе с чего бы ей смотреть на нее так странно? И еще более странно она смотрела на нее потом, в клинике. Привел же Господь лечь именно туда, где работала эта женщина! И ведь именно она тогда завела тот странный разговор, что теоретически ребенок может остаться жить… И как она проходила потом мимо ее палаты: быстро, дробно стуча каблуками, словно боясь столкнуться и посмотреть ей, Оксане, в глаза!.. Полтора года спасенной девочке, от которой отказались родители. Якобы отказались!
Оксана, все еще сжимая в руках папку, опустилась на пол прямо в прихожей. Она не знала, из чего, из какой крохотной надежды выросла ее уверенность, но тем не менее…
«Моя дочь жива!» — произнесла она по-русски и, уронив лицо в ладони, заплакала.
* * *
Когда-то в детстве у нее была юла с блестящими красными и зелеными полосками. Но запускать ее особенно было негде: стол обычно был завален папиными бумагами или на нем стояла мамина швейная машинка, а на полу… Деревянный, зашпаклеванный, но все же со щелями — для юлы он совершенно не годился. «Докрутившись» до очередной впадины между досками, она обычно резко спотыкалась, словно подвернув свою единственную коротенькую ножку, и неуклюже заваливалась на бок. Оксана охладела к юле и довольно скоро забросила ее в «темную комнату» и вдруг, ни с того ни с сего, вспомнила о ней сейчас, глядя сквозь лобовое стекло на вращающиеся колеса «Мерседеса». Утреннее шоссе казалось идеально гладким, словно вылизано языком, и автомобиль Клертона мягко катил по нему с тупой целеустремленностью юлы, которой ничто не мешает.
— Мы не опоздаем? — спросила Оксана только для того, чтобы хоть что-нибудь спросить. Но методичный и основательный Том тут же перевел взгляд на циферблат наручных швейцарских часов в золотом корпусе.
— Нет, регистрация на твой рейс начинается через сорок три минуты, а мы прибудем в аэропорт уже через полчаса.
— Прибудем… Прямо как правительственная делегация! Откуда ты только выкапываешь эти дурацкие чиновничьи выражения? — Она нахмурила свои темные брови ровно настолько, насколько это было безвредно для кожи лица. Лишнее напряжение мышц лба — и возле переносицы залягут сухие и тонкие мимические морщинки. Потом, конечно, можно прибегнуть к специальному массажу, лифтингу, вшиванию «золотых нитей» и еще черт знает каким процедурам, но не лучше ли просто поберечься? Оксана привыкла не то чтобы прислушиваться к негромким сигналам, которые посылал ей собственный организм, она твердо и безошибочно знала, насколько близко можно свести брови, как широко улыбнуться и с какой интенсивностью игриво прищурить глаза, чтобы на свежей золотистой коже не проявилась невесомая паутинка ранней старости. Вот и сейчас она нахмурилась только для того, чтобы добиться хоть какой-нибудь реакции со стороны Тома. Она была просто уверена, что он заметил, как потемнели ее вызывающе-синие глаза, как нервно затрепетали длинные ресницы, слегка утяжеленные бархатной тушью. Заметил, но тем не менее никак не отреагировал. Ее снова охватила неудержимая, клокочущая ярость.
«Флегма, скучная амебоподобная флегма, несчастный пингвин!» — выругалась она про себя, а вслух довольно спокойно произнесла:
— Тебя совсем не волнует то, о чем я говорю? То, о чем я спрашиваю, да?
Том слегка улыбнулся уголками губ. Ее всегда раздражала самоуверенность Клертона, считающего, что ему идет улыбка голливудского супермена. Уж оставался бы просто обычным преуспевающим бизнес-пингвином, достаточно верным, добрым и любящим для того, чтобы ему тоже отвечали привязанностью и лаской. Так нет же! Хоть в мелочах, но пытается изображать из себя сильного мужчину!
— Ты слышишь, что я говорю?
— Да, слышу, — весело откликнулся Том. — Но, дорогая, твой вопрос о том, где я выкапываю эти выражения, я просто посчитал риторическим. Какой ответ ты хотела бы услышать?.. Я выкапываю эти выражения в беседах с сотрудниками моей фирмы? Я выкапываю эти выражения в телевизионных выпусках новостей? Или, может быть, в детских воспоминаниях?
— Все, хватит! — сорвалась на крик Оксана, с непонятной ненавистью глядя на круглые, жирные плечи мужа, упрятанные под белой шелковой рубашкой и светло-бежевым льняным пиджаком. — Хватит! Не нужно было, чтобы ты меня провожал…
Первый приступ тихого раздражения она почувствовала еще вчера вечером, когда сообщила Тому о своем желании слетать в Москву навестить родителей. Слишком уж легко, слишком быстро он согласился. Нет, ей, конечно, и нужен был именно такой ответ: «Да, дорогая… Пожалуйста, дорогая… Когда тебе угодно, дорогая». Но что-то в душе мгновенно взбунтовалось против этой его телячьей покорности. Оксана была далека от мысли о том, что у Клертона может быть подруга, любовница, и, отпуская ее в Россию, он рассчитывает расслабиться в объятиях другой женщины. Наоборот, она и сейчас пребывала в твердой уверенности, что Том будет скучать и тосковать без нее. Но почему он так бессловесно, так смиренно принимает и предстоящую разлуку, и довольно нелепый повод — ни с того ни с сего ей приспичило увидеть маму. Ведь не может же этот совсем неглупый человек вообще ничего не замечать!
— Нам теперь придется отменить запланированную поездку в Италию? — спросила она тогда с последней надеждой на то, что в его водянистых глазках промелькнет хотя бы тень обиды.
— Ничего особенного, — отозвался Том, отправляя в рот вилку с куском ростбифа. — Тебе, наверное, в самом деле лучше слетать в Москву. Отдохнешь, сменишь обстановку…
Оксана с тоскливой обреченностью поняла, что вот так же спокойно он воспримет известие о том, что она привезла удочеренную (якобы удочеренную!) девочку из русского детдома, так же чинно и невозмутимо будет прогуливать малышку по Гайд-парку и набережной Темзы и безмятежно смотреть на мир своими бесцветными глазками наивного обманутого мужа… Она знала, что Клертон не хотел чужого ребенка. Точнее, он согласился бы на чужого, но чужого и для него, и для нее. Он не желал в своем доме живого напоминания о русском Андрее, которого видел всего один раз… «Но тебе все равно не удастся избежать этого!» — подумала Оксана со странной смесью злорадства и стыда. От внезапно накатившей горячей и душной волны стыда ей стало плохо. Так плохо, что захотелось закричать, заплакать, изо всех сил хлопнуть по столу ладошкой. Том, бедный, некрасивый, безобидный Том!.. Он будет и дальше так же преданно смотреть на нее своими маленькими глазками с куцыми ресницами, искренне радоваться тому, что у нее, что у них теперь есть дочь. И даже если девочка окажется слишком откровенно похожей на нее или на Андрея и Клертон обо всем догадается, то никогда не подаст виду, что все понял. Никогда, до конца жизни, не скажет ей ничего обидного и грубого…
Оксана сама не знала, на чем зиждется ее уверенность в том, что спасенная девочка — именно ее дочь. Она просто чувствовала это сердцем, душой, пресловутым биополем матери. Она знала, что это ее девочка, и еще знала, что Клертону все-таки придется с этим жить.
— Да, кстати, кожаную папку в прихожей ты забыл или мистер Норвик? — как можно равнодушнее спросила Оксана напоследок, уже поднимаясь из-за стола.
— Какую папку? — округлил глаза Том. — Я ничего не забывал. А что за папка?
— Коричневая, с позолоченной застежкой.
— Коричневая, с позолоченной застежкой? — Он словно попробовал слова на вкус, продолжая монотонно постукивать вилкой о край фарфоровой тарелки. — Нет, у меня такой не было. Скорее всего это Джеймс… А ты в нее не заглядывала?
— У меня нет привычки рыться в чужих вещах, — нервно бросила Оксана, уже переполняясь тяжелым, гнетущим чувством вины под мелкой рябью бессмысленного раздражения…
…Небо тоже словно бы подернулось рябью. По его равнодушной глади, похожей на отраженное море, поползли неровные маленькие обрывки серых туч. «И опять этот проклятущий дождь, — с привычной тоской подумала она. — Только бы самолет не отменили. Дождь, дождь, дождь и лондонский туман… Изо дня в день одно и то же». Ей вдруг вспомнилась песенка, которую они всем классом разучивали когда-то на уроке сольфеджио: «Спой мне песню, как синица тихо за морем жила, спой мне песню, как девица за водой по утру шла…» Они тогда назло скучной учительнице обязательно переставляли «синицу» и «девицу», находя это чрезвычайно смешным. «Девица»-то ладно — ну, жила себе тихо и жила, а вот синица с коромыслом и ведрами — это действительно «вершина юмора»! Сейчас Оксана, как когда-то в детстве, была уверена: тихо живущая за морем одинокая девица — это на самом деле не смешно…
«Мерседес» вписался в крутой поворот достаточно аккуратно, но большой чемодан из мягкой кожи все-таки с недовольным шуршанием прополз пару сантиметров по заднему сиденью. Том быстро обернулся на шорох и, с явным облегчением убедившись, что ничего особенного не произошло и «драгоценный» чемодан не свалился в проход, устремил на Оксану виноватый взгляд своих бесцветных глаз. «Но ведь тебе же не нравится эта моя «глупая русская привычка» тащить за собой сумки в салон автомобиля? Не нравится ведь? И ты знаешь, что теперь я поступаю так, когда хочу тебя позлить?» — мысленно обратилась она к мужу, медленно переводя пристальный взгляд с его выпуклого лба на круглый безвольный подбородок. Подбородок слегка дрогнул, Клертон снова улыбнулся.
— Надеюсь, ты не везешь с собой ничего бьющегося и хрупкого? — спросил он все так же доброжелательно. — А то еще пара таких поворотов, и я могу провиниться.
— Кроме своих личных вещей, я везу шерстяной костюм-тройку для отца и набор хорошей лечебной косметики для мамы. Таможенную декларацию мне предъявить сейчас или подождем до аэропорта?
— Ну зачем ты так? — Том покачал крупной некрасивой головой и поморщился. — Ты просто расстроена, радость моя. Наверное, чувствуешь себя виноватой из-за дурацкой поездки в Италию и поэтому нервничаешь, да?.. Не стоит даже думать об этом! Мы прекрасно отдохнем в другой раз. Понимаешь, желание увидеть маму — это совсем не глупость и не каприз. Ты — хорошая, любящая дочь и… В общем, езжай, отдыхай и не думай ни о чем неприятном!.. Погуляешь по Москве, встретишься с друзьями, может быть, зайдешь в тот, наш ресторан. — Он изобразил на своем одутловатом лице подобие романтической, светлой полуулыбки. — Я в этот раз хотел там поужинать, но хозяева затеяли то ли профилактику, то ли перестановку мебели, в общем, заказы по телефону не принимали, а только извинялись и просили заглядывать через недельку…
— А почему ты так уверен, что я буду ходить по подругам и ресторанам, а не по любовникам? — вдруг поинтересовалась Оксана. Том то ли вздохнул, то ли крякнул, то ли просто шумно выпустил из волосатых ноздрей воздух, как внезапно проткнутый воздушный шарик. Она не почувствовала ни раскаяния, ни жалости, только тревогу, пронизанную раскаленными нитями отчаяния. Наверное, бойцовый кролик не знает, что такое жалость, один только страх мечется перед его круглыми глазками. Последние сутки Оксана почему-то ощущала себя маленьким и одиноким бойцовым кроликом. О том, что такие кролики бывают, она прочитала в детстве, кажется, у Сетон-Томпсона или у Бианки, но вот как они сражаются, толком не поняла. Представлялось почему-то только бессмысленное и жалкое подергивание передних лапок да глупые удары в бессильной, слепой ярости, порожденной страхом, наносимые куда попало… Она нападала на Клертона, потому что чувствовала себя виноватой, а значит, страстно хотела, чтобы он тоже ответил резкостью, грубостью, вывалился наконец из своей идеальной, безукоризненной скорлупы. Тогда обманывать его было бы не так стыдно.
— Прости, со мной в последнее время невесть что творится, — Оксана скользнула вздрагивающей ладонью ото лба к подбородку, с облегчением чувствуя, как пропадает призрак ушастого испуганного зверька, нелепо размахивающего лапками. — Прости, ладно?
— Конечно, о чем говорить? — вяло отозвался Клертон. Видимо, последняя фраза о любовнике больно его ужалила, а может быть, напомнила далеко не о самом приятном. Оксана внимательно разглядела ладонь: следов губной помады было не видно, значит, консультант в отделе косметики не обманул — помада действительно качественная. Потом она достала из сумочки пудреницу и начала приводить в порядок лицо, легонько проводя пуховкой по щекам, покрасневшим от волнения. Клертон молчал, внимательно наблюдая за дорогой: они уже подъезжали к аэропорту, и поток машин значительно увеличился.
— Том, скажи, — произнесла вдруг она, делая перед зеркалом губы буковкой «о» и проверяя, сохранилась ли помада в уголках рта, — ты так спокойно переносишь мои истерические припадки потому, что обладаешь выдержкой, или потому, что тебе все равно?
Был ли это последний никчемный взмах лапки бойцового кролика или же обычное женское желание услышать ответ: «Я просто люблю тебя, дорогая» — Оксана толком и сама не знала.
Клертон, видимо, опять счел вопрос риторическим и предпочел отмолчаться.
— Нет, ты скажи: тебе все равно, что я думаю, все равно, как я к тебе отношусь, да?
— Я и так это знаю, — с пугающим спокойствием отозвался Том и грустно улыбнулся…
Они обменялись еще парой невыразительных фраз уже в аэропорту, перед выходом на посадку. Потом Клертон ткнулся в ее холодную узкую кисть своими мягкими влажными губами, но как-то дежурно, без энтузиазма. И только когда Оксана уже подхватила легкий чемодан с гладкой, удобно ложащейся в ладонь ручкой, Том быстро и как-то смущенно прикоснулся к ее спине между лопаток с обычной «пингвиньей» нежностью. Впрочем, она довольно быстро забыла о его грустных глазах и, устроившись возле иллюминатора, наполовину прикрытого зеленой шторкой, с бокалом легкого виноградного вина, принялась размышлять о том, на кого похожа ее дочь — на нее или все-таки на Андрея…
* * *
Отца Оксана увидела сразу, еще сквозь стеклянную перегородку, отделяющую зал досмотра Шереметьева-2 от зала ожидания. Почти в одно время с их самолетом приземлился рейс из Пекина, и теперь выход и прилегающие к нему стеклянные панели, как мухи, облепили встречающие китайцы. Благо, что роста в папе было почти метр девяносто и он уверенно возвышался над ними. Заметив отца, Оксана заторопилась и едва не упала, скользнув высокой шпилькой по гладкому полу. Худой англичанин в очках с тонкой металлической оправой, шедший чуть позади, успел подхватить ее под локоть и взял из рук чемодан. При этом улыбнулся, как улыбается человек, узнавший, что за особые заслуги его наградили премией, в два раза большей, чем ожидалось. И это было привычно, как удивленные и восхищенные взгляды толкущихся у выхода китайцев, сквозь которых она продиралась навстречу отцу, как тихое перешептывание явно по ее адресу двух русских амбалов в расписных ярких теннисках. Впрочем, все это Оксана отметила мимоходом, не придав особого значения. Папа, милый, хороший папа уже пытался дотянуться до ее плеча и вытащить из толпы! Мгновенно забытый и теперь уже ненужный англичанин растерянно потоптался возле нее, потом отдал чемодан отцу и скрылся.
— Папка, как я соскучилась! — Оксана обвила его шею прохладными руками, а про себя грустно отметила, что пахнет от отца какой-то отвратительной, дешевой туалетной водой. Конечно же, надо было об этом вовремя подумать и привезти из Лондона что-нибудь стоящее. Отец, взяв ее за плечи, на секунду отстранился.
— Н-да, вы стали еще красивее, миссис Клертон, — с восхищением произнес он. — Теперь тебя по улицам, наверное, только под усиленной охраной возить можно?
— Да брось, папка, я ничуть не изменилась. Впрочем, так же, как и ты…
— Ты, наверное, ожидала, что за эти полтора года мы с матерью превратимся в дряхлых старичков? Ничего подобного! Маму сегодня увидишь — закачаешься. Уж как она к твоему приезду готовилась! За полдня после твоего звонка успела и на рынок сбегать, и по магазинам, и в парикмахерскую, да еще и стол обалденный приготовить. Кстати, пойдем уже, наверное? Что здесь стоять?
— Пойдем, — согласилась Оксана. В своей оливковой шелковой блузе и узкой юбке до середины колена, открывающей великолепные ноги со стройными икрами и узкими щиколотками, она уже начала замерзать в просторном и прохладном, как аквариум, здании Шереметьева-2. Впрочем, как только они вышли на улицу и стеклянные створки дверей мягко сошлись за ними, Оксана сразу же пожалела о том, что не надела простую хлопчатобумажную блузку и какой-нибудь жакет, который теперь можно было бы снять. Жара в Москве стояла невыносимая. Под бетонной крышей над автостоянкой было еще прохладно, но дальше… И асфальт, и крыши автомобилей, казалось, медленно плавились под немилосердным солнцем. Пассажиры маршрутки с крупной надписью «Автолайн» стояли вместе со своими баулами и сумками возле открытой дверцы и тоскливо наблюдали за шофером, курившим неподалеку. Оксану чуть не стошнило, когда она представила, что должен ощущать человек, в такой зной вдыхающий удушливый табачный дым. Видимо, лицо ее в этот момент приняло слишком недовольное или даже брезгливое выражение, потому что отец тут же заторопился:
— Знаешь, Оксанка, наверное, мы не поедем на общественном транспорте, а возьмем такси.
— Давай, — согласилась она, хотя и не видела особой разницы между маршруткой и не снабженным приличным кондиционером «жигуленком». Отец направился к томившемуся поблизости «БМВ». Водитель высунул голову в окно, выслушал его и развел руками: дескать, нет, извини, занят… Следующей стояла новенькая «девятка» фиолетового цвета, словно штемпельная подушечка. Ее владелец странным образом сидел с наглухо закрытыми стеклами и, похоже, дремал. Отец деликатно постучал пальцами по стеклу. Водитель оживился. О чем они беседовали, Оксана не слышала, но наверняка оперативно договорились. Вскорости папа радостно замахал ей рукой. Она, отлепив от расплавленного асфальта уже начавшие проваливаться вглубь шпильки, направилась к машине и вдруг заметила, что хозяин «штемпельной» «девятки» еще что-то сказал отцу. На лицо того мгновенно набежала тень, щека нервно дернулась, он снова наклонился к окну, и тут уж Оксана услышала, как он тихо и смущенно произносит:
— А подешевле никак нельзя?
Ей вдруг стало ужасно жаль отца, оказавшегося в неловком положении: с одной стороны, он с его зарплатой инженера, видимо, не может позволить себе выбросить такую сумму, с другой — ему страшно неудобно перед дочерью. Плюнуть и отказаться от машины тоже немыслимо. Вся ее ярость и злость, которая последние сутки мелкими каплями яда изливалась на Тома, мгновенно подкатила к горлу и готова была уже выплеснуться на чересчур наглого «водилу».
— Итак, сколько же мы хотим? — поинтересовалась она, подойдя к машине.
— Триста тысяч, — равнодушно и как-то даже весело изрек хозяин «девятки». — Можете, конечно, за пять пятьсот в «автолайновском» гробике доехать до «Речного». Никто вас не неволит, но дешевле не найдете.
И тут он удосужился повернуться к ней. Оксана с тихим злорадством представила, как он натыкается взглядом сначала на ее стройное бедро, туго обтянутое белой юбкой, как поднимает глаза к умопомрачительно тонкой талии, потом к груди, обрисованной мягким шелком оливковой блузки… Когда их взгляды скрестились, она была уже почти спокойна. Рот у «водилы» приоткрылся, маленькие выпуклые глазки под жиденькими бровями сверкнули даже не масляно, а просто удивленно. Он увидел ее лицо… Оксана уже привыкла к подобной реакции, знала, что редко кто рассматривает в ней банальную, роскошную самку. Для этого она была слишком необычна и слишком красива.
— Ну так что, едем, папа? — губы Оксаны медленно сложились в улыбку. — Или найдем себе что-нибудь поприличнее?
— Девушка, ну, для такой красавицы, как вы, я готов сделать исключение!.. Эх, а поехали вообще бесплатно! — «Водила» молодецки махнул рукой, чтобы, видимо, разрядить обстановку. Оксана в ответ только усмехнулась. Она была почти уверена, что, увидев ее, он повезет и бесплатно, и с ветерком, и с музыкой, и сам еще приплатит, лишь бы только посидеть с ней полчасика в одной машине. Нет, попадаются, конечно, типы, которые и собственную мать задарма не повезут, но этот жидковолосый, пучеглазый, пузатенький, видимо, никогда не был избалован вниманием красивых женщин и всю жизнь мечтал о такой, как она, до слюней, до жалобного скулежа…
— Нет, мы не можем принять от вас такую жертву. — Оксана развернулась, взяла отца под руку и зашагала прочь. От близости папиного локтя стало еще жарче, но ей необходимо было сейчас чувствовать его прикосновение… Господи, что такое были для нее эти жалкие триста тысяч? Можно было швырнуть их этому шоферюге, достав из своей сумочки, но как сделать это после отцовского сконфуженного вопроса: «А подешевле нельзя?» Можно было тихонько сунуть деньги папе в карман. И тем унизить еще больше?.. До родной улицы Рогова они добрались на старом «москвичонке» с прелестным дедушкой за рулем, который страшно стеснялся попросить сорок тысяч. У подъезда отец, поблагодарив, вручил ему «стольник», чем привел старичка одновременно в восторг и смущение.
За год с небольшим ничего здесь не изменилось. Те же клены и липы возле подъездов, тот же тщательно выметенный добросовестной дворничихой асфальт, тот же маленький зеленый домик телефонного узла по пути в булочную, те же старички и старушки, чинно здоровающиеся друг с другом. Почти все дома поблизости принадлежали когда-то Институту Курчатова, и люди в основном здесь жили интеллигентные. Правда, на лето многие разъезжались по дачам и сдавали квартиры, но даже приезжие на улице Рогова селились почему-то на редкость приличные, прекрасно вписывающиеся в неспешный ритм жизни. У местных старушек даже было заведено делиться впечатлениями о постояльцах, снимающих комнаты, причем беззлобно, словно речь шла об их детях или внуках. Оксана прекрасно помнила, как переживала соседка сверху, Мария Григорьевна, когда ее жилец армянин Алик заработал себе радикулит и на целую неделю оказался прикованным к постели. Наверняка сейчас она вместе с мамой ждала ее появления.
Дверь квартиры открылась еще до того, как успели сомкнуться створки лифта. Мама, споткнувшись о кожаный чемодан и ойкнув то ли от неожиданности, то ли от радости, кинулась Оксане на шею. Сегодня на ней был тот самый голубой костюм с мелкими белыми тюльпанами, который в свой последний визит в Москву привез ей в подарок Клертон. Оксана с удовольствием отметила, что сидят и юбка, и жакет хорошо, значит, с размером она не ошиблась. И супермодный, фигурный вырез спереди тоже маме идет. Вот только эти ужасные складочки на груди… Наверняка под тысячедолларовый костюм мама надела лифчик еще из советских запасов.
— Ну, Люда, Люда! Мы в квартиру-то, наконец, войдем сегодня или нет? — Отец решил взять ситуацию под контроль. Мать всхлипнула и пятясь отошла в коридор, пропуская в дом дочь и мужа. Оксана скинула туфли и разгоряченными ступнями с наслаждением ступила на холодный линолеум.
— Тапочки надень, — произнесла мама уже таким тоном, словно дочка только что вернулась из школы. Все рассмеялись…
Из кухни тянуло знаменитой маминой запеченной рыбой и еще какими-то вкусностями. Отец был приговорен к внеочередному наряду у плиты в качестве помощника главного повара, а Оксану, не взирая на ее возражения, отправили в большую комнату. Она бросила чемодан на диван, укрытый китайским пледом с огромными цветами, и сама уселась рядом. Надо было достать подарки, но шевелиться не хотелось. Высокие клены частично закрывали своими ветвями окна, но даже проникающие сквозь просвет между листьями солнечные лучи раскаляли комнату до кондиции сауны. Из Дома культуры через дорогу доносилась музыка, видимо, записанная на некачественной аппаратуре. «Наверное, готовятся к дискотеке», — подумала Оксана. Перед самым ее отъездом проводились ежесубботние танцы для шестнадцатилетних, возможно, проводятся и до сих пор. Сама она на этой дискотеке не была ни разу, предпочитая общаться со своими друзьями из иняза и ходить в более приличные заведения. Правда, с любопытством иногда наблюдала с балкона за разбредающимися парочками. Симпатичные мальчики попадались крайне редко, а потом появился Андрей: какие уж тут наблюдения?
Оксана поднялась с дивана и подошла к окну. Мельком глянула на подзеркальник. Среди маминых коробочек с кремами и флакончиков с парфюмерией папина туалетная вода «Черный дракон» — из разряда тех, что продаются в любом киоске в переходах метро и пахнут откровенно дешево… «Я вырвалась из всего этого одна», — подумала она печально.
Рыба действительно оказалась великолепной, как, впрочем, и салаты, и домашнее яблочное вино. Мама просто светилась от радости. Оксане было хорошо и спокойно. Она еще сама толком не решила, расскажет ли обо всем маме, или сохранит в тайне, и сейчас ей казалось, что она вот так просто приехала в гости, сидит себе на кухне, а не в помпезной столовой, кушает судака с золотистой корочкой, пробует салаты и может не думать о том, сохранится ли помада на губах, или нет. Впрочем, сохранится, конечно же, в универмаге на Пиккадилли дерьмом не торгуют!
— Оксаночка, а врачи что говорят, все по-прежнему? — осторожно осведомилась мать, подавая на стол десерт из клубники и черешни со взбитыми сливками.
— Все по-прежнему, мама.
Людмила Павловна покачала головой, видимо, сожалея о заданном вопросе, который испортил всем праздничное настроение. Отец вздохнул. Оксана отложила мельхиоровую ложечку на край розетки и продолжила довольно бодро:
— Но я не теряю надежды. Во-первых, медицина не стоит на месте, во-вторых, мы с Томом друг друга любим, а это главное…
— Вот именно, — преждевременно подытожил папа.
— И может быть, возьмем малыша из Дома малютки.
— В Англии? Иностранца?
— Ну почему иностранца? Может быть, ребеночек будет из России.
Только произнеся вслух эту фразу, объявив это не себе, а окружающим, Оксана окончательно поверила в реальность происходящего. Только здесь, среди этих пожелтевших стен с выглядевшим чужеродным холодильником «Стинол», она до конца поняла, что где-то неподалеку живет, ходит, может быть, уже разговаривает ее маленькая девочка, наверняка в ужасном приютском платьице. Ей вдруг сразу вспомнились рассказы подруги Таньки, которая после пединститута ушла работать в детдом воспитательницей. Танька рассказывала, что сначала была преисполнена прекрасных идей и светлых идеалов, а потом убедилась, что все детдомовские дети — сволочи и дебилы. «У, дебилы!» — беспрестанно повторяла она, прихлебывая «Алиготе» из высокого стакана. Тогда Оксане было просто неприятно это слышать, неприятно, и все. А сейчас она вдруг представила, что ее маленькую девочку кто-то называет дебилкой… И тут же, словно прочитав ее мысли, мама продолжила разговор:
— Знаешь, Оксаночка, с нашими детдомами, наверное, сложно. Я вот недавно читала в «Лизе», что на нормальных малюток очередь чуть ли не в тысячу человек. Их еще из родильного отделения забирают, а Остаются дети алкоголиков и наркоманов. Они-то, конечно, никому не нужны… Из китаянок, которые на барахолках торгуют, говорят, многие от детей отказываются. У нас Маша из соседнего подъезда недавно родила, так она рассказывала, что за пять дней две такие стервы спокойно ушли из роддома, якобы за вещами для малышек, и не вернулись… Вот…
— Мам, я в курсе, — Оксана нервно отодвинула в сторону вазочку с десертом. — Давай поговорим на какую-нибудь другую тему. Все это слишком серьезно, чтобы вот так обсуждать за обедом.
Из настенных часов вылезла кукушка, глянула на поднос с изображенными на нем танцующими грузинками, испуганно прокуковала и спряталась обратно. Отец посмотрел на свои наручные часы и поднялся из-за стола.
— Отдыхайте, женщины, болтайте, а мне пора. — Он шумно потянулся. — Я ведь с работы только на полдня отпросился.
— Ой, Володя, подожди, а как же наш подарок? — спохватилась мать и быстро исчезла из кухни. Вернулась она с маленьким зеленым бархатным футляром.
— Возьми, доча, это тебе от нас. Конечно, ни одеждой, ни драгоценностями теперь тебя не удивишь. Но папа специально из командировки привез. Он зимой в Свердловск ездил.
— В Екатеринбург, — поправил отец.
— Да? — удивилась Оксана, на секунду замерев с футляром в руке. — Я и не знала, что ты уезжал. Значит, мама совсем одна оставалась?
— Ну и что? Ты же сидела дома одна, без мужа, когда Том в Москву летал? Вот и я хоть отдохнула от стирки носков да от готовки борща. — Мама добродушно рассмеялась, прислонившись плечом к отцу. Оксана тоже улыбнулась и расстегнула блестящую защелку коробочки. В футляре оказались серебряное кольцо с малахитом и такие же серьги. Стоило все это, конечно, не очень дорого, но сделано было довольно искусно. И ей даже почти не пришлось притворяться, делая вид, что подарок понравился. «В конце концов, это довольно мило, — решила она, захлопывая коробочку. — Конечно, не для поездок в город. Но у себя дома вполне можно будет надевать».
Она помогла убрать со стола, вручила родителям свои подарки и уже собралась забраться под холодный душ, когда услышала за спиной немного смущенный и как будто даже виноватый мамин голос:
— Оксана, а я недавно Андрея видела. Он мимо «Сокола» на машине ехал… У него теперь иномарка, я в них не разбираюсь. Такой же красивый, как и раньше…
— Мам, а что, случайная встреча с моим бывшим знакомым такое событие, о котором нужно сообщать в первый же день моего приезда? — Оксана начала говорить достаточно спокойно, но в последний момент голос ее все-таки дрогнул.
— Нет, конечно… Но я думала, тебе захочется что-нибудь о нем услышать?
— Не захочется! — крикнула она и захлопнула дверь ванной. Уже там, внутри, усевшись в пустую, холодную белую чашу и подтянув колени к подбородку, Оксана безудержно и горько заплакала. Ей было стыдно перед мамой, так готовившейся к ее приезду. И сейчас наверняка она еще стоит перед дверью в ванную, а глаза у нее растерянные и обиженные. Пришло чувство досады, потому что нечетко сработала формула аутотренинга: «Мне будет просто любопытно его увидеть». Она почти приучила себя не думать об Андрее там, в Лондоне. И, оказывается, боялась думать о нем здесь, в Москве…
* * *
Следующее утро началось с визитов гостей. Первой пришла Мария Григорьевна в темно-синем в меленький белый горошек платье с аккуратным белым воротничком. Оксана невольно улыбнулась. По дороге из аэропорта до дома, глядя в окно «москвичонка», она успела насчитать не меньше пятнадцати женщин, одетых в платья, сшитые точно из такой же ткани. То ли мода в этом году в Москве была какая-то особенная, то ли в Китае и Турции возник острый дефицит на другие ткани, во всяком случае, многие замеченные ею дамы от шестнадцати по пятидесяти были одеты именно в это в синее с белым горошком, либо с наброшенной на плечи белой пелериной, либо в пиджачках-«болеро», или же в допотопных жакетиках с торчащим из кармашка краешком такой же тряпочки. Но Марии Григорьевне эта расцветка шла. В этом платье, со своими седыми волнистыми волосами она выглядела старушкой с рождественской открытки. Общее впечатление дополнялось большим домашним тортом на круглом подносе под бумажной салфеткой. Мария Григорьевна много суетилась, расспрашивала об Англии и кивала головой с таким видом, что можно было подумать, будто проблемы тамошней погоды, уровня жизни и качества продуктов — самое главное, что волнует ее в жизни. Торт она взялась резать сама. Мама не особенно и сопротивлялась, с явным облегчением усевшись возле окна. Оксана смотрела, как в мягкие, пропитанные сметанным кремом коржи входит нож, слушала воркующий голос соседки по дому, изредка проскальзывающие мамины реплики и думала о том, что, слава Богу, мама не сердится за ее вчерашнюю выходку. Значит, все снова хорошо и спокойно, как и должно быть дома…
— Ты надолго в Москву-то? — поинтересовалась Мария Григорьевна, выкладывая кулинарной лопаточкой на ее тарелку большой, залитый шоколадной глазурью кусок.
— Не знаю. Я еще точно не решила.
— А что делать собираешься? С родителями наговоришься, по подругам побегаешь?
— Да какие уже подруги? — Оксана махнула рукой. — Кто в Германии, кто во Франции, а кто вообще не знаю где…
— Это ты про своих девчонок с иняза, что ли? — вмешалась мать. — Тоже мне подруги!.. Положа руку на сердце, Оксана, у тебя близких подруг-то никогда и не было, так, приятельницы…
— Ну да, — она отломила ложечкой кусок торта, — и я не особенно от этого страдала. Очень интересно целыми днями выслушивать душещипательные истории о чужой несчастной любви! И потом, ко мне в подруги не рвались по совершенно определенной причине, ты же знаешь!
— По какой такой причине? — спросила Мария Григорьевна, размешивая ложечкой сахар в чашке. Подняла глаза на Оксану и сочла нужным добавить: — Это у вас в туманном Альбионе, — слова «туманный Альбион» она произнесла с необычайным пафосом и сама рассмеялась, — пьют чай с солью. А у нас с сахарком, по старинке. Когда на Щукинский рынок рафинад завозят, мы с твоей мамой сразу коробок по пять закупаем…
— С солью чай пьют то ли в Киргизии, то ли в Казахстане. — Оксана усмехнулась. — Вы спрашивали о причине? Она очень простая. Любая женщина предпочтет иметь в близких подругах «серую мышку», чтобы на ее фоне в компании с мужчинами смотреться выигрышно. Сами понимаете, что мои шансы завести наперсницу были изначально равны нулю…
Бестолковая кукушка опять вылезла из часов, как будто только для того, чтобы своим хриплым «ку-ку» отметить начало молчаливой паузы. Мария Григорьевна по-стариковски закашлялась, приложила ко рту носовой платок, мама подскочила к плите и непонятно зачем начала убавлять и без того маленький огонь под варящимся холодцом. Оксана поморщилась и отодвинула от себя тарелку с остатками торта. Она прекрасно поняла, из-за чего возникла неловкость, но считала поведение матери и соседки глупым до невозможности.
— Я, наверное, должна извиниться за собственную нескромность? — Ее голос прозвучал глухо и словно бы издалека. — Но, во-первых, мне казалось, что мы разговариваем, как три близкие, откровенные друг с другом женщины, а не как два воспитателя и ребенок. А во-вторых… Что плохого в том, что я красива? Почему я не могу этим гордиться, почему я должна делать вид, что этого не замечаю и, более того, что этого не замечают окружающие?.. Давайте я сейчас пройду от дома до гастронома даже в этом халатике. А вы будете наблюдать, как все проходящие мимо мужики головы посворачивают! Я красивая и плюс к этому не дура. Вот это всех и раздражает, потому что нельзя сказать: хорошенькая, как кукла, и такая же пустоголовая!..
Она нервно швырнула ложечку на стол, оставив на пестрой клеенке жирный след шоколадной глазури. Мария Григорьевна почему-то с виноватым видом протянула ей тряпку, лежащую на краю раковины. Благо, размеры кухни позволяли дотянуться до крана, сидя у обеденного стола.
— Видишь ли, Оксаночка, — сказала она, поджав тонкие старческие губы, — не стоит так про себя говорить. Не знаю почему, но не стоит… Это я тебе, как женщина женщине…
Оксана медленно перевела взгляд со своих гладких рук с идеально отполированными ногтями на ее сморщенные кисти со стариковскими пигментными пятнами под иссохшей, почти прозрачной кожей. «Женщина! Тоже мне!..»
— Нет, уверенной в себе быть, конечно, нужно, но вот жизнь за такие слова обычно отыгрывается…
Мамины глаза уже потихоньку наливались слезами: ей явно неудобно было прерывать Марию Григорьевну и в то же время не хотелось, чтобы обижали дочь, всего-то вчера приехавшую в гости. Она уже дважды порывалась что-то сказать, когда тренькнул дверной звонок.
На этот раз пришла Маша. Та самая, которая недавно родила ребенка и еще года три назад числилась если не в приятельницах, то, по крайней мере, в хороших Оксаниных знакомых. Оксане она запомнилась худенькой коротконогой девицей. Сейчас ее фигура сильно расплылась, под халатом с двумя мокрыми пятнами выпирали огромные груди. Маша с порога объявила, что забежала буквально на десять минут, «посмотреть на Оксаночку, но уже пора кормить». На слове «кормить», явно было сделано ударение, и, будь Оксана ее более близкой подругой, она наверняка бы почувствовала себя уязвленной. Торт Маша есть не стала, а вот чаю чуть ли не залпом выпила две чашки: «Чтобы молоко было!» Оценив английский халат и тапочки, Маша быстренько похвасталась, что недавно новорожденная Лизонька даже позволила ей посмотреть днем телевизор: то есть не плакала, не писалась и не просила есть. А ночью она вообще проспала целых пять часов между двумя кормлениями. Оксана вдруг подумала, что, может быть, и к лучшему, что в ее жизни все сложилось именно так, а не иначе. Дело не в том, что ее собственную дочь кто-то взрастил, вынянчил, приучил писать в горшок, а теперь отдаст уже «готовенькую»… Просто теперь ее чувство к этому ребенку не будет никогда омрачено неизбежной усталой ненавистью, выливающейся в безмолвных вопросах: «ну, что ты вопишь?», «дашь наконец поспать?», «сколько можно орать?». Из рассказов других молодых матерей Оксана уже знала, что рано или поздно наступает момент, когда ты, замученная и невыспавшаяся, подходишь к крошечному краснолицему, орущему свертку, в деревянной кроватке и думаешь, пусть всего лишь мгновение: «А может быть, было бы лучше, если бы тебя вообще не было?»
Когда Маша засобиралась, Оксана поднялась из-за стола вместе с ней:
— Мария Григорьевна, мама, извините, но я кое-что на сегодня еще запланировала, так что мне пора…
— Ты куда? — навострилась мать.
— Хочу съездить в церковь.
— В нашу? На проспект Жукова?
— Нет, на Сокол, — быстро объяснила она и уже собиралась, развернувшись, уйти в комнату, но встретила мамин встревоженный и вопросительный взгляд. Людмила Павловна мяла в руках полосатое кухонное полотенце.
— Это не то, что ты думаешь, — Оксана двумя пальцами сцепила на груди халатик. — Просто в церкви на Соколе немного другая атмосфера. В общем, то, что мне сейчас нужно…
Она действительно не хотела видеть Андрея. Или, по крайней мере, внушала себе, что не хочет. И то, что он жил в соседнем с церковью девятиэтажном доме, не служило поводом для поездки на Сокол, а было скорее помехой. Ей на самом деле нравилась тамошняя церковь. В той, другой, на проспекте Жукова, к которой нужно было минут десять идти от конечной остановки трамваев, не было ничего, кроме нескольких икон со стоящими перед ними свечами и высоких беленых стен. Даже батюшка выглядел каким-то несолидным. Они с мамой как-то зашли туда на Пасху, и Оксана очень удивилась, увидев вынесенные на улицу длинные лавки и священника, по очереди освящающего каждый принесенный кулич и чуть ли не каждое в отдельности яичко. Не было в церкви на проспекте Жукова и особой торжественности, могучего потока прозрачных голосов хора, золотой красоты и пышности. Наверное, сейчас, после полутора лет, проведенных в Англии, ей необходимо было именно прикосновение к золоту, к крестам, к расшитой праздничной одежде священнослужителей. А еще — слияние с людьми, теснящимися у порога и ждущими, что, может быть, сейчас, в общем потоке, Господь, не особо присматриваясь, отпустит их грехи…
Однако сегодня народу в церкви Всех Святых было немного. Оксана прошла мимо клумбы, густо усаженной красно-желтыми бархатцами, мельком взглянула на гранитные надгробья Георгиевских кавалеров и офицеров русской императорской армии. Поднялась по ступенькам. Несколько человек возле киоска стояли в очереди за свечами, две женщины в низко надвинутых на лоб платках специальными скребками чистили пол. Пахло ладаном и расплавленным воском. Обе створки дверей в церковь были распахнуты, и яркое солнце пронизывало ее перекрещивающимися пыльными лучами. Оксана, сначала пристроившаяся к хвосту очереди, отошла к стене и огляделась. Да, здесь все было именно так, как и хотелось: огромное распятие, золотые, богатые оклады икон, рождественски-зеленые веточки каких-то деревьев. В общем-то даже и хорошо, что народу немного — меньше будут пялиться. Вот только сгинули бы куда-нибудь еще эти монашки со скребками, а то ползают как черепахи: вжик-вжик, вжик-вжик… Словно подслушав ее мысли, женщина со скребком обернулась и посмотрела на нее странным взглядом. «Интересно, за кого она меня принимает? За сошедшую с небес Деву Марию или за валютную проститутку? — подумала Оксана. — Красивым женщинам принято приписывать или святость, или порок, середины не бывает. Или черное, или белое… Нет, скорее она причислит меня к лику Святых. Одета я вроде бы пристойно». В своем бежевом трикотажном платье до середины колена и туфлях с ремешками вокруг пятки Оксана чувствовала себя уверенно. Эта одежда казалась не слишком вызывающей для церкви и в то же время достаточно стильной для прогулки по городу. Впрочем, то, что ей сегодня предстояло, вряд ли можно было назвать прогулкой, да еще легкомысленной.
Подождав, пока очередь растечется, она подошла к освободившемуся окошку, купила пару самых дорогих свечей и направилась к своей любимой иконе. Оксана толком не знала, как она называется: вроде бы «Утоли моя печали», хотя, может быть, и нет. Она не была уверена, а тусклые славянские буквы над ликом Божьей Матери разглядеть было сложно из-за отражающихся в стекле бесчисленных язычков пламени. Синеглазая Мария в малиновом покрывале держала на руках младенца Иисуса, но смотрела не на него, а куда-то вдаль. Их взгляды не пересекались, но казалось, стоит матери и ребенку чуть-чуть повернуть головы, и они увидят друг друга… Оксана переложила из одной вспотевшей ладони в другую свечи и отошла на несколько шагов назад. Каблучки ее звонко зацокали по каменному полу. «Нет, — сказала она себе, — это не теперь, это потом. Это слишком важно. Сначала нужно помолиться о другом». Молиться она толком не умела, да и не была крещенной. Все ее редкие обращения к Богу начинались с вполне христианского признания собственных грехов, а дальше следовали совершенно конкретные просьбы. Вот и сейчас, остановившись перед наугад выбранным ликом какого-то святого, Оксана установила свою свечку и мысленно произнесла:
— Боже, я знаю, что поступила с Андреем жестоко. Мне жаль, но я ничего не могла поделать, ты же знаешь. Я хочу, чтобы он был счастлив, чтобы у него, может быть, была семья. И еще… Я хочу с ним поговорить, просто увидеть и поговорить, чтобы он понял и простил меня…
Она вдруг ясно представила, как будет происходить этот разговор: летнее кафе, столики под полосатыми зонтиками, непременно цветы, и его синие глаза напротив. Он будет все так же длинными пальцами лохматить свои черные волосы, проводя ладонью ото лба к затылку, а она — смотреть на него, грустно улыбаясь. Его губы будут рассказывать о том, что у него замечательная жена, дом и (как там сказала мама?) новенькая иномарка, что в больнице ему платят неплохо и обещают через пару-тройку лет назначить главным хирургом отделения. Но глаза скажут: «Я никогда не переставал ждать и любить тебя, родная!» И она погладит его по руке успокаивающе и нежно, а потом встанет и тихо скажет: «Ничего не изменишь, Андрюша. Да и ни к чему…» И про дочь ему не скажет ничего…
Тетка со скребком собрала изогнутые, расплавившиеся огарки свечки из подставки возле ее любимой иконы и куда-то уковыляла. Оксана, на секунду прикрыв глаза и постаравшись прогнать на время воспоминания об Андрее, подошла к лику Богоматери. То ли внутренний голос, то ли собственная мысль, в обыденной обстановке казавшаяся чересчур правильной и от этого даже смешной, негромко, но настойчиво застучала в висках: сейчас надо забыть и о полосатых зонтиках, и о синих глазах Андрея Потемкина, и о том, как здорово сидит на тебе бежевое платье, забыть не для проформы, подчиняясь условностям, а на самом деле… И вдруг, неожиданно для самой себя, Оксана заговорила вслух торопливым, сбивчивым шепотом. Родились ли эти слова при воспоминании о платье, она не знала, как родились эти слова, но она произнесла именно их:
— Мать моя, пресвятая Богородица, сделай так, чтобы у моей девочки в детдоме был красивый, выглаженный халатик, чтобы у нее были ленты и удобные туфельки. Когда я ее заберу, то накуплю ей всего, что только можно представить, а сейчас… Сделай так, чтобы ее не обижали и не называли дебилкой.
Одинокая слеза скатилась неожиданно. Если бы Оксана сейчас могла думать о туши, то наверняка вспомнила бы добрым словом любимый универмаг на Пиккадилли: глаза не щипало, и по щекам не расплывались черные ручейки. Она думала о девочке и даже не сразу почувствовала, что кто-то упрямо дергает ее за локоть. Тетка в платке и со скребком, та самая, что так странно смотрела на нее в самом начале, стояла рядом.
— А слова такие будешь дома говорить! Церкви не для того построены, чтобы в них сквернословили. Вырядилась, накрасилась и прискакала. Ноги-то, ноги оголила, и голова непокрытая! И еще кого-то сволочит, дебилкой называет! В храм-то со светом в душе надо входить, а не со злобой!
Тетка, развернувшись с чувством выполненного долга, отправилась скрести угол возле киоска. Оксана с ненавистью посмотрела ей вслед. Женщина была некрасивой, причем настолько, что это сразу бросалось в глаза. Даже черный строгий платок не придавал ее облику возвышенного благородства. «Да ты мне завидуешь, мерзкая курица! — подумала Оксана, пристально разглядывая широкую ссутуленную спину и кривые щиколотки в плотных чулках. — Все вы здесь обычные бабы, и мысли у вас бабские и мерзкие… А я-то, дура, расклеилась, разревелась! Господи, да школьнику же ясно, что все это прежде всего машина для сбора денег с верующего и неверующего населения. Еще бы кассовый аппарат в киоске рядом со свечками поставили и на чеке «спасибо за покупку» выбивали!» Уже не стесняясь громкого цоканья каблуков, она быстро пошла к выходу. На синеглазый лик Божьей Матери взглянуть на прощание все-таки не решилась…
Вдоль дома Андрея, как и полтора года назад, длинной лентой тянулись полосатые тряпичные шатры киосков, торгующих овощами, бытовой химией, хлебобулочными изделиями и еще всякой всячиной. На углу бородатый художник торговал незатейливыми пейзажиками в деревянных рамках. Жизнь здесь била ключом, и нищие, сидящие в воротах храма, казалось, балансировали на зыбкой грани между мирской суетой города и благостным покоем церкви. На их лицах была написана глубокая скорбь, между тем они поглощали какую-то нехитрую снедь. Попрошайки закусывали. Оксана подумала, что и они такие же фальшивые, как та тетка со скребком и как золото куполов в непосредственном соседстве со станцией метро и уличным базарчиком. Ей вдруг показались неприятными и откровенное, повышенное внимание к ней продавцов и прохожих и чей-то восхищенный возглас: «Ой, я эту девушку, кажется, в рекламе шампуня видела?» Она чувствовала и на щеках, и на плечах жгущие, липнущие взгляды и думала только о том, что хочет увидеть Андрея, прильнуть к его груди и пожаловаться, что ее обидели. Впрочем, для этой роли, конечно, сгодился бы и Том. Он жалеть и успокаивать умеет, как никто другой, но Андрей!.. Его незабываемые руки с чуткими и нежными пальцами, его голос… «А ведь я почти не помню его голос!» Оксана остановилась и подняла голову. Конечно, среди бела дня она не надеялась увидеть в его окнах свет, но все же… Окна были как окна. Они ничем не отличались от остальных, не подтверждали, но и не отвергали факта присутствия хозяина в квартире. Оксана свернула во двор и села на одинокую скамейку среди деревьев. Как ни странно, здесь было пусто: ни бабулек с сумками, ни мамаш с колясками. Песочница, деревья и несколько запертых на замок «ракушек». Она вдруг подумала, что в какой-нибудь из них, вполне возможно, стоит сейчас иномарка Потемкина: «Тойота», наверное, или «Шкода», что он еще мог себе позволить, если только не женился на богатенькой невесте? Почти все двери подъездов были закрыты на кодовые замки. «Ну и ладно, я ведь не собираюсь подниматься к нему в квартиру», — сказала сама себе Оксана и, осторожно вытянув длинные ноги, бумажной салфеткой стряхнула с каблуков налипший песок. Это была последняя салфетка в пачке, и через секунду она вместе с яркой упаковкой полетела в урну. И тут же рядом на скамейку опустилась взявшаяся невесть откуда полная старушка в сатиновом платье.
— Вы ждете, что ли, кого, девушка? — поинтересовалась она, явно надеясь завязать беседу.
— А вы, что ли, участковый милиционер? — огрызнулась Оксана и, встав с лавочки, пошла прочь. На бедную старушку выплеснулись последние капли ее обиды и раздражения. Теперь она снова была спокойной и уверенной, другими словами, абсолютно готовой к решительному разговору…
* * *
Адрес этой злосчастной «Мамы и крохи» изнывающая от жары женщина в справочном киоске искала, наверное, целую вечность. А в результате оказалось, что находится сие заведение совсем рядом, между «Октябрьским полем» и «Щукинской». Оксана подумала, что, наверное, это поблизости от 64-й больницы и родной женской консультации. Возможно также, что фирма под этим названием арендует часть какого-нибудь больничного корпуса. Поиски дома с указанным в справке адресом Оксана полностью доверила шоферу такси, а сама, откинувшись на горячую кожаную спинку заднего сиденья и прикрыв глаза, принялась мысленно выстраивать предстоящий разговор. Почему-то больше всего ее смущал вопрос: как теперь к ней обращаться? Алла Викторовна? Алла? Доктор?.. Тогда в ресторане она была просто Алкой, позже в больнице предпочитала, чтобы к ней Оксана вообще никак не обращалась. Оксана безошибочно чувствовала: Алка просто физически боится того, что она сейчас, вот так запросто, назовет ее по имени, да хоть и по имени-отчеству, какая разница? Главное, этим непосредственным обращением протянет между ними невидимую нить контакта, замажет своей «грязью» и «порочностью»!.. И Оксана старалась произносить безликое «вы» или, в крайнем случае, «вы, доктор». Да и беседовали-то они толком всего пару раз…
С улицы Народного Ополчения такси свернуло на улицу Маршала Бирюзова, и на какой-то рытвине их изрядно тряхнуло. Шофер выругался, Оксана, болезненно сморщившись, потерла ушибленную коленку. «Если так дальше пойдет, — подумала она, разглядывая покрасневшую кожу, — то до Сосновой доеду вся в синяках. Почему это судьба все время лоб в лоб сталкивает меня и эту Аллу? Вечно она там же, где и я. Тогда работала в той клинике, куда меня угораздило лечь, теперь — на Сосновой, рядом с моим домом… Интересно, а в постели Андрея она тоже успела побывать? Или, может быть, покувыркалась там еще до меня?»
— Вы не очень сильно ударились? — не оборачиваясь, подал голос шофер, видимо, разглядевший в своем зеркальце ее склоненную голову.
— Нет, — Оксана выпрямилась, встряхнула волосами и едва заметно улыбнулась, заметив, как он восхищенно цокнул языком. Она знала, что когда вот так резко откидывает назад голову, по волосам ее пробегает легкая волна, вспыхивающая множеством мельчайших ослепительных искорок. И это очень красиво. Тому нравится подбрасывать на ладони ее локоны, да и Андрею тоже когда-то нравилось… От явного сознания прошедшего времени сердце неожиданно и неприятно кольнуло. «Нравилось»… Словно речь идет о покойнике! Хотя на самом деле все можно вернуть в любой момент. Пусть хотя бы на вечер, на ночь, на те несколько дней, что пробудет в Москве, но ведь можно! Зависит-то все только от нее, и ей самой решать: нужно это или нет? Наверняка у него в жизни все уже наладилось, он уже почти успокоился, а теперь все сначала? Сможет он выкарабкаться во второй раз или нет? И хочет ли она снова «выкарабкиваться» из собственных воспоминаний?»
Миновав «Щукинскую» и проехав мимо новых высотных домов и небольшого парка, машина остановилась. Оксана рассчиталась с водителем и вышла… Да, именно сюда, на Сосновую, она когда-то бегала в женскую консультацию, а вот в больничных корпусах ни разу не была. Пятиэтажное здание, выкрашенное желтой, кое-где отстающей от стен краской, перед которым притормозило такси, пряталось в буйной зелени деревьев. Из сплетения корявых стволов и изогнутых веток, напоминающих тропические лианы, строгими свечками выглядывали темные сосны. Здесь было умиротворяюще тихо, и величественный, мудрый покой нарушался только глухим уханьем невидимого механизма, работающего на соседней стройке. Оксана вздрогнула, услышав резкий, словно возникший из ниоткуда вой сирены. Белый фургончик «скорой» вылетел из-за поворота и чуть ли не ткнулся тупым носом в торец здания. Засуетились выбежавшие врачи и медсестры, торопливо проплыли носилки. Но она уже понимала, что ей не туда. Массивная дубовая дверь с респектабельной табличкой «Медицинский центр «Мама и кроха» красовалась несколько в стороне от входа в приемный покой больницы. Оксана, мысленно просчитав до десяти, резко выдохнула и прошла по песчаной дорожке к чисто вымытым мраморным ступеням.
Даже холл здесь был не такой, как в обычных российских больницах: мягкие кресла вдоль стен, искусственный родничок, бьющий из затейливого грота, на стенах пейзажи. Молоденькая девушка в белом халате сидела за полукруглой стойкой регистратуры и читала какую-то книжку.
— Здравствуйте. Не подскажете, как мне найти Аллу Викторовну Денисову? — Оксана подошла к стойке и побарабанила по ней твердыми розовыми ногтями. Девушка тут же оторвалась от книги и приветливо заулыбалась:
— Простите, я почему-то не подумала, что вы у нас в первый раз, поэтому не обратила внимание сразу… Еще раз, извините! Алла Викторовна — вы сказали?
Оксана кивнула, но больше для проформы, потому что медсестричка уже набирала телефонный номер. Из трубки донеслись длинные и монотонные гудки, вдруг показавшиеся ей жуткими, как заунывный вой собаки. Прежняя спокойная уверенность начала неумолимо и стремительно таять, неприятным холодком растворяясь в ее крови. Она уже не знала, чего ей хочется больше: чтобы трубку немедленно сняли или чтобы эти гудки продолжались вечно. Одно Оксана понимала наверняка: еще пара минут неизвестности, и она струсит, сбежит, объяснит, что встретится с доктором в другой раз. А другого раза уже не будет, потому что услужливо выползут сначала сомнения, потом нерешительность, а потом знакомая вялая апатия.
— Странно, — девушка посмотрела на пищащую телефонную трубку, как на диковинного зверька, — почему-то никто не подходит. Куда они все делись?.. Ну, ладно, подождите, я сбегаю ее позову. Вам, к сожалению, самой пройти нельзя. Алла Викторовна ведь амбулаторный прием не ведет, она в стационаре работает, а там у нас очень строгие санитарные требования… Вы подождете, да?
Оксана механически кивнула и, отойдя от стойки, опустилась в кресло. Теперь отступать было уже поздно. Хотя почему поздно? Когда медсестра уйдет, можно открыть дверь и выйти на улицу. Только вот зачем, зачем?.. Сердце ее билось так часто, что казалось, что вот-вот, лихорадочно вздымаясь вместе с кожей, запульсируют тоненькие жилки на запястьях. В такси она размышляла об Андрее, когда надо было внутренне собираться, готовясь к разговору с Аллой Викторовной.
Медсестричка, откинув крышку, вышла в холл, и Оксана, несмотря на волнение, заметила, что ей просто-напросто жмут туфли. Девушка шла по коридору мелкими, неровными шагами, с мучительно напряженными плечами и спиной. Нетрудно было представить, как жесткие задники новеньких изящных «лодочек» натирают сейчас на разомлевшей и распухшей от жары ноге кровавую мозоль. Впрочем, Оксана недолго за ней наблюдала, поскольку снова погрузилась в собственные мысли. Ей было страшно, как перед экзаменом, и все приготовленные заранее предложения рассыпались на отдельные бессвязные слова.
Когда в конце коридора хлопнула дверь и к отзвуку мелких шажков медсестрички прибавилось гулкое эхо чьих-то еще — торопливых, но уверенных, она открыла глаза. Алла Викторовна Денисова шла, слегка наклонив вперед голову и глубоко спрятав руки в карманы белого халата. И ноги у нее были такие же, как и полтора года назад, — некрасивые, «бутылочной» формы, с тонкими щиколотками и непомерно толстыми округлыми икрами. Обесцвеченные волосы не подкрашивали, наверное, уже месяца полтора, и теперь темные корни, торчали почти на сантиметр. Разглядывая ее, Оксана с удивлением и радостью почувствовала, как уходят куда-то страх и тревога, уступая место твердой уверенности. «Господи, да как же можно было так распсиховаться? Все ведь ясно и понятно, как белый день, и крыть Алке будет нечем! Это моя девочка, точно моя! Эта влюбленная сучка спасла малышку исключительно потому, что хотела сохранить жизнь ребенку Андрея! И наверняка одинокими ночами убеждала сама себя: «Пусть живет его плоть, его кровиночка, даже в детдоме ей будет лучше, чем с такой матерью!»
— Здравствуйте, вы ко мне? — Денисова резко, как лошадь на полном скаку, остановилась почти вплотную с ней и только сейчас соизволила поднять голову. Оксану всегда «умиляла» манера некоторых врачих ходить набычившись, вытянув шею вперед, отклячив зад и, естественно, погрузившись в глубокие размышления о медицине.
— Да, я к вам, Алла Викторовна, — она уставилась своими синими глазами прямо в ее холодное, лишенное признаков каких-то эмоций лицо. — Вы меня помните?
— Помню, — спокойно отозвалась Алла. — Давайте пройдем в мой кабинет…
И в привычках своих Алла тоже осталась прежней: открыв створку окна и поставив на подоконник пепельницу, она закурила какую-то отвратительную крепкую сигарету с кислым запахом. Точно такую же гадость смолила она тогда в ресторане. Оксана, с трудом заставив себя не сморщиться, все же откинулась на спинку стула, чтобы быть подальше от сизой струйки дыма. Сама она предпочитала легкие дамские сигареты, которые не вредят ни цвету лица, ни состоянию голосовых связок. А уж Алле, с ее пожелтевшей сухой кожей в тон глазам цвета засахарившегося меда, вообще давно пора было перейти исключительно на апельсиновый сок.
— Я помню вас, Оксана Владимировна, — Денисова присела на подоконник, отодвинув пепельницу чуть в сторону, — и, честно говоря, удивлена, причем — неприятно, вашим визитом. Говорить нам, по-моему, не о чем, а если вам нужна медицинская консультация, то ведь я занимаюсь исключительно педиатрией? Не думаю, что вам это интересно…
— Не нужно язвить и пытаться изображать тонкий сарказм, — Оксана закинула ногу на ногу, подставив солнцу красивое золотистого цвета колено. — Что мне интересно и что неинтересно, не вам судить. Кстати, на данный момент мне интересно только одно, где находится моя дочь?
Денисова, поджав губы, странно покачала головой и сползла с подоконника. Под распахнувшимися полами халата Оксана успела заметить короткую сиреневую юбку. «Надо же, с такими ногами еще и в мини наряжается! Наверное, все еще надеется подцепить себе мужа!»
— Вот что, — Алла решительно затушила окурок, — если это у вас маниакальный бред, то обратитесь к психиатру, а если вам просто интересны технические подробности того, куда деваются мертвые плоды, плацента и так далее, то и тут я вам не помощница. Ищите себе другого консультанта. Я педиатр и занимаюсь живыми детьми. Все?
— Нет, не все! Я абсолютно точно знаю, что мой ребенок жив. Не спрашивайте — откуда. Знаю — и точка! И, если будет нужно, подниму всю медицинскую документацию 116-й клиники за последние полтора года, но докажу, что у меня украли моего ребенка.
— Да? — Денисова усмехнулась и неожиданно перешла на «ты». — Валяй, поднимай! Может, тебя приведет в чувство свидетельство о том, что плод был нежизнеспособным, а заодно и твое заявление с просьбой не сохранять жизнь ребенку, если он вдруг родится живым?
Оксане вдруг показалось, что ножки стула стали гибкими, как восковые свечки в церкви, а пол заходил, точно палуба корабля. Задыхаясь, она жадно хватила ртом воздух и почувствовала, как пугающе закружилась голова. Она и раньше знала, что Алла обязательно задаст ей этот вопрос, но что-то внутри ее запрещало думать об этом, может быть, просто срабатывала система безопасности организма, защищающая мозг от возможной психической травмы. И теперь ей казалось, что она заглянула в пропасть, балансируя на самом краешке обрыва. Вопрос все-таки прозвучал, и реальность оказалась бессмысленной и страшной.
— Ты не можешь так говорить со мной! Ты не имеешь права напоминать мне! Ты врач! Я думала, что она останется уродом, я не хотела урода! — Оксана почувствовала, как жестокая судорога мучительно сводит мышцы ее лица и сдавливает горло. Денисова, повернувшись к ней спиной, стояла у окна, легкий ветер тихонько теребил обесцвеченную прядь над ухом, выбившуюся из прически. Она казалась совершенно спокойной, да и голос ее был спокойным, когда она наконец произнесла:
— Что теперь об этом говорить, Оксана? Твое заявление все равно не пригодилось, потому что девочка родилась мертвой, и тут уж ничего не изменишь… Я могу только надеяться, что сейчас ты осознала до конца все то, что произошло полтора года назад, и хотя бы чуточку изменилась. Раньше ты приносила людям только горе и боль.
Наверное, если бы не последняя фраза, Оксана все-таки сорвалась бы в бездонную пропасть, и кто знает, что бы было дальше: уколы, транквилизаторы? Может быть, «психушка»? Но, услышав про «горе и боль», она почти физически почувствовала, как шаткий берег под ногами обретает опору, а сама она отклоняется назад, подальше от опасной черной бездны.
— Не смей морализировать! — прошептала она сдавленным и хриплым голосом, все еще ощущая, как колышется пол. — Ты же просто завидовала мне из-за Андрея и ненавидела меня из-за него. Тебе ведь удовольствие доставило то мое заявление: вот, мол, почитай, Андрюшенька, какая она стерва! Так ведь?
Денисова вздохнула и села за стол. Теперь она сидела напротив, как строгая хозяйка кабинета перед рядовым, назойливым посетителем:
— Мне не могло доставить удовольствие твое заявление по одной простой причине — я нормальная женщина и добровольного согласия матери на смерть ребенка не могу понять. А относительно Андрея? Так тебя это просто не касается. Не касается — и все. И обсуждать это я не намерена.
— И все-таки моя девочка жива, — Оксана наклонилась вперед и поставила локти на край стола, сцепив пальцы. Узкие запястья с двумя тонкими браслетами и изящные кисти отразились на полированной поверхности. — Я это чувствую. Кроме всего прочего, есть конкретные факты. Один мой хороший знакомый присутствовал недавно на каком-то вашем семинаре и рассказывал, что все восторгались твоими успехами в области выхаживания недоношенных. А еще рассказывали про полуторагодовалую девочку, которая родилась двадцатичетырехнедельной и от которой якобы отказались родители. Это в вашей-то клинике! Тогда одно только койко-место в сутки стоило, по тем моим понятиям, бешеные деньги! Просто вот так вот вынашивала-вынашивала какая-то богатая дурочка ребенка, а потом решила отказаться, да? Согласилась на его выхаживание, а потом — нате, забирайте! Не смеши меня!
За окном потемнело, солнце заволокло серым рваным облаком, и сразу же потянуло холодом. Прохладный ветер обдувал ее разгоряченные щеки, но не приносил облегчения. Алла рассматривала ее руки с откровенным любопытством исследователя. И ей вдруг стало досадно на эти золотые браслеты, кажущиеся теперь такими неуместными, а привычная уже вспышка злости где-то там, внутри, не состоялась.
— Это не твоя девочка. От малышки действительно отказалась мать, когда узнала, что может быть повреждена нервная система. Ничем не могу тебе помочь… Но ты ведь замужем, по-видимому, счастлива в браке, почему бы тебе не родить себе новую игрушку?
— Потому что у меня больше не может быть детей, — бросила Оксана и резко убрала руки со стола, больно ударившись локтем об угол. Она не знала, что делать теперь. Алла явно давала понять, что разговор окончен, поглядывая на свои маленькие наручные часики. Собственная уверенность в том, что девочка жива, казалась теперь смешной и глупой. Оставалось встать и уйти. Оксана вдруг представила, как пойдет сейчас по дорожке мимо сосен и деревьев с крупными лопухастыми листьями, такая красивая и уже навсегда несчастная, а Алла наверняка будет смотреть в окно и тихо наслаждаться небывало сладкой местью. Иначе почему едва заметно вздрагивают сейчас уголки ее губ? Она ведь просто по-прежнему считает, что в детдоме ребенку будет лучше, чем с такой матерью, поэтому и слова такие выбрала: «роди себе «игрушку»…
— Алла, послушай, — Оксана поднялась со стула, — я сейчас уйду, но ты, пожалуйста, задумайся об одном: не слишком ли жестоко то, что ты сейчас делаешь… Ты ведь только что обвиняла в жестокости меня, а сама? Ты — врач, Алла, врач! И уже причинила мне страшную боль. Я повержена, раздавлена, пристыжена, что еще? Мне в самом деле очень плохо!.. Это слишком суровое наказание — отнимать у матери ребенка…
Улыбка на губах Денисовой бесследно исчезла. Еще не успев накинуть на плечо тоненький ремешок сумочки с золотой монограммой, Оксана замерла. Она боялась произнести неосторожное слово, боялась даже вздохнуть, чтобы не спугнуть появившуюся надежду. Алла смотрела прямо в ее распахнутые синие глаза, а, быть может, не в них, а сквозь них и, казалось, о чем-то напряженно размышляла. Оксана же не думала ни о чем, испуганно обрывая любые мысли в самом зародыше, она молча ждала. Наконец Денисова, не выдержав напряжения, на секунду прикрыла слегка подкрашенные веки с густыми, но недлинными ресницами, и тогда Оксана торопливо, сбивчиво заговорила:
— Да, ты, наверное, была права, не отдав мне тогда ребенка. И я тебя за это не виню, правда, не виню! Аллочка, я тебе даже благодарна, поверь! Я бы была тогда плохой матерью… Но теперь! Отдай мне ее, скажи, где она! Я просто оформлю документы на удочерение и не стану поднимать никакого шума. Мне это самой невыгодно, потому что муж ни о чем не знает… Я заплачу тебе, хорошо заплачу. Ты ведь, по-моему, жила в Текстильщиках? Я дам тебе столько денег, что ты сможешь купить нормальную квартиру в хорошем районе. Тебе ведь все равно столько не платят!.. Пожалуйста, я сделаю все, что ты хочешь!
Алла тяжело опустилась на стул, зачем-то посмотрела на свои некрасивые короткие пальцы и негромко произнесла:
— Но имей в виду: я делаю это вовсе не из-за твоих несчастных денег. Впрочем, как бы ты ни изменилась, тебе этого все равно не понять… В общем, твою дочь зовут Катя Максимова, она находится в детском доме номер пятьдесят шесть. Это в Новогирееве. Какая-то пара уже узнавала насчет возможности ее удочерения. Я позвоню, чтобы тебя приняла директриса… Все, иди. Я от тебя устала.
И снова пол поплыл под ногами. «Моя дочь Катя Максимова? — удивленно спрашивала себя Оксана и не могла представить ни лица, ни волос, ни фигуры. Только неясный, расплывчатый силуэт. — Кто назвал ее Катей? Мне никогда не нравилось это имя, кукольное какое-то… Пластмассовые руки и ноги, глупые голубые глаза, кудряшки искусственных волос и пищалка в спине: «Ма-ма, ма-ма»… А почему, интересно, Максимова? Наверное, это Алла придумала, сочинила себе Катю Максимову втайне и от меня, и от Андрея, и лелеет свой секрет. Непонятно только, что же она себе ее не забрала? Была бы рядом живая дочка Андрея. Или ее любовь к Потемкину так далеко не простирается, а ребенок только способен помешать замужеству? Катя? Катя! Катя…» Наверняка Оксана побледнела, потому что Денисова, порывшись в ящике стола, подала ей какую-то таблетку:
— На, выпей и успокойся, а то еще в обморок грохнешься.
Оксана сидела на стуле растерянная и… счастливая. Господи, как же просто все получилось, стоило только заговорить о деньгах! И теперь в свой лондонский дом с бесполезной прежде зеленой лужайкой она вернется уже с маленькой дочкой. Том засуетится, радуясь окончившемуся трауру, будет покупать для девочки наряды и игрушки. Да и не такой уж это большой обман: какая разница, чья дочь — какого-то абстрактного русского мужчины или конкретного Андрея Потемкина? Главное, что всем будет хорошо и спокойно… Оксана проглотила таблетку и полезла в сумочку.
— К сожалению, у меня с собой совсем немного наличных, но я заплачу вам позже, — Оксана снова перешла на «вы».
— Мне не нужны ваши деньги, — внятно произнесла Алла. — Не нужны, и все… Извините, но у меня работа, и тратить служебное время на пустопорожние разговоры я не имею права. Еще раз до свидания!
Ей ясно и недвусмысленно указывали на дверь. Впрочем, какое это теперь имело значение? Оксана с неуверенной и робкой улыбкой вышла из кабинета и прислонилась к стене, обшитой деревянными панелями. То ли от принятой таблетки, то ли от переживаний голова немного кружилась, но она тем не менее чувствовала острое, неодолимое желание бежать, кричать, размахивать руками. Это бывало с ней и раньше, в основном после удачно сданных экзаменов, когда резко схлынувшее напряжение сменялось вдруг волной небывалой энергии. Но Оксана никогда не позволяла себе дурацких детских штучек и из здания аудитории выходила все той же сдержанной и потрясающе грациозной походкой. Но невыплеснувшаяся радость сквозила в каждом ее движении, в каждом жесте, делая ее еще более очаровательной. Головокружение прекратилось, сердце успокоилось. Единственным моментом, который омрачал ее теперешнюю радость, было, пожалуй, воспоминание о том, как пришлось унижаться перед Денисовой, подхалимски называя ее Аллочкой, благодарить за то, что она спрятала от всех ее ребенка. А та еще и денег не взяла, продемонстрировала собственное моральное превосходство, что ли? Интересно, зачем тогда она вообще рассказала про Катю? Тоже ради демонстрации благородства или все-таки совесть заела? «Ну и черт с тобой! Живи как хочешь и изображай из себя кого хочешь. Хоть Мать Терезу! — Оксана смахнула со лба упавшую прядь и зашагала к выходу на лестницу. — Я один раз побыла кающейся грешницей, зато на всю оставшуюся жизнь стану богатой английской леди с преуспевающим мужем и прелестным ребенком. А ты так и останешься скучной старой девой с глупыми претензиями, дурацкими принципами и несчастной любовью!» От мысли о том, что даже сейчас она могла бы отыграться, утереть нос этой стерве, возобновив отношения с Андреем, Оксане сразу полегчало. Спускаясь по лестнице, она улыбнулась. Хорошо! Господи, как все хорошо! Скоро маленькая Катя Максимова узнает, что за ней приехала мама, красивая, как сказочная принцесса. А вот про неприятную женщину в белом халате с глазами цвета засахарившегося меда не узнает. Все! Нет ее и не было…
* * *
Спокойный и основательный Клертон учил ничего не делать второпях, а перед каким-нибудь важным делом посидеть в тишине и сосредоточиться. Но сейчас на то, чтобы сидеть на лавочке в парке, у Оксаны просто не хватило ни сил, ни терпения. Взяв такси, она в десять минут домчалась до «Детского мира» на Соколе и вихрем взлетела на второй этаж. Народу здесь было не много, и продавщицы в отделах явно скучали, лениво о чем-то переговариваясь. Пожалуй, ее появление стало для них единственным стоящим внимания событием за целый день. Оксана лишь на секунду остановилась посредине зала, размышляя о том, куда сначала пойти: в отдел игрушек или в «одежду», а женщины в синих форменных халатиках с манжетами в белый горошек уже зашушукались. Привычно послышались слова «актриса», «фотомодель», и она понимающе улыбнулась. Ей хотелось сейчас быть милой и очаровательной, благосклонно внимать комплиментам и любезностям. Скорее всего уже через несколько дней она придет сюда со своей малышкой. Та будет показывать пальчиком на понравившиеся игрушки и радоваться тому, что все улыбаются ей и ее красавице-маме. Полуторагодовалые, они ведь вроде бы все уже понимают? Господи, как хорошо-то!
Оксана подошла к отделу одежды.
— Здравствуйте, — произнесла она как можно более любезно, — вы не могли бы мне помочь подобрать что-нибудь для полуторагодовалой девочки?
— А это, наверное, уже не у нас. Это на первом этаже… — неуверенно начала девушка за кассой, но вторая перебила ее раздраженно и торопливо:
— Там пока ничего приличного нет. Хороший товар только сегодня утром завезли, но еще оформить не успели. Подождите, девушка. Я сейчас спущусь, посмотрю, что там есть, и принесу вам образцы.
Оксана благодарно улыбнулась. Рвение продавщицы ее абсолютно не удивило. Ее необычная красота не возбуждала зависти и ревности у обычных, не обиженных Богом женщин. Они смотрели на нее, как на произведение искусства или на кинозвезду.
Продавщица вернулась минут через пять с ворохом платьиц, костюмчиков и тремя парами туфелек. Вторая девушка, сидящая за кассой, глядя, как покупательница перебирает кружева и оборочки, несмело поинтересовалась: «Для дочки берете?»
— Для дочки, — улыбаясь, ответила Оксана. Она уже предчувствовала, что услышит дальше, и не ошиблась.
— Надо же, как повезло девочке, мама — просто красавица! — восхищенно выдохнула продавщица…
Кате Максимовой сегодня явно повезло. Ей удалось завладеть яркой пластмассовой пирамидкой, единственной на всю их группу в двадцать человек. Она сидела на полу игровой комнаты и настороженно оглядывалась по сторонам. Снимать красный колпачок было страшно, потому что колечки от неосторожного движения могли раскатиться по всей комнате, и тогда их уже не собрать — нападут и отнимут другие дети. Вон их сколько с завистливыми глазами! А может быть, Катя рассуждала совсем по-другому. Кто знает, что творится в маленьком мозгу полуторагодовалого ребенка, не умеющего еще толком ни бегать, ни говорить?
Оксана отвернулась от стеклянной двери, ведущей в игровую комнату, и подошла к Анне Михайловне, директрисе детского дома. Та стояла у стены со скрещенными на груди руками. Оксане не нравилась эта ее поза, описанная в любом учебнике популярной психологии как поза человека, стремящегося закрыться от собеседника. Не нравился ей и сам детский дом, старый, с гулкими коридорами и стенами, покрашенными масляной краской, со скучной и убогой игровой комнатой, оклеенной дешевыми обоями. Не нравились дети, какие-то несимпатичные, бледные и ведущие себя нервно и агрессивно, точно зверята в стае. Но самое страшное, что не нравилась эта девочка. Нет, она не вызывала в ней особо отрицательных эмоций или неприязни. Она не вызывала вообще никаких чувств. Прижавшись к стеклу, Оксана долго всматривалась в бледное удлиненное личико с большими голубыми глазами, разглядывала короткие светлые волосики, жиденькие и прямые. Наверное, дочь все-таки чем-то была на нее похожа, но это сходство было неясным, ускользающим, как рябь на воде. И самое главное — девочка почему-то никак не вписывалась в картинку с зеленой лужайкой, большим надувным мячом и прогулками в Гайд-парке. «Это все из-за имени! — с раздражением подумала Оксана. — Какой дуре… Впрочем, я знаю — какой, пришло в голову назвать ее Катей? Никогда бы не назвала так свою дочь». Ей вдруг стало плохо до тошноты. Так можно рассуждать только о чужом ребенке с неудачным именем. Она попыталась представить, как будет выглядеть девочка, если снять с нее этот омерзительный халатик, если ее красиво постричь и как следует откормить… Но перед глазами по-прежнему стояло невыразительное личико с голубыми глазками и пальчики, судорожно вцепившиеся в пластмассовую игрушку. Пресловутый материнский инстинкт не пробудился, и Оксана, как ни старалась, не могла отыскать с своей душе даже намека на радостное чувство узнавания…
— Ну так что, будете сегодня знакомиться? — спросила директриса, когда Оксана подошла к ней.
— Н-нет, наверное, сегодня нет, — выдавила из себя Оксана. — Я еще не готова.
— Если ребенок вам не понравился и вы больше не придете, то скажите лучше сразу. А то этой девочкой уже одна супружеская пара интересовалась. Но у них вроде бы появился вариант взять совсем маленького, прямо из родильного дома… А то вдруг у них что-нибудь там сорвется, и мы им откажем, а девочка останется вообще без родителей. Вы же знаете, чем они старше, тем их неохотнее берут!
— Нет-нет, я скорее всего возьму, — заторопилась Оксана и непонятно зачем добавила: — У меня просто много дел с документами, мне ведь оформлять удочерение за рубеж. Я — подданная Великобритании.
— А-а, — равнодушно протянула директриса, все так же спокойно взирая на посетительницу. Она принадлежала к тому редкому типу женщин, на которых красота Оксаны совершенно не действовала. Ее тяжелый подбородок оставался неподвижным, а глаза грустными и отрешенными. Оксана чувствовала, что на нее давят и эти холодные стены, и этот взгляд. Руки начали дрожать, она занервничала. Дети в игровой визжали и пищали, и ничто внутри ее не отзывалось на голос дочери. Это было и страшно, и странно.
— Скажите, а почему Катю не удочерили до сих пор, если на здоровых детей такая очередь? — поинтересовалась Оксана осторожно.
— Да потому что она не совсем здоровая. Родилась сильно недоношенная, слабая. Как следствие — замедленное развитие. Только в год начала сидеть. Все это наверстается со временем, но не в детдомовских условиях, естественно. А люди не хотят в это верить. Всем хочется круглощеких карапузов с льняными кудрями.
— Только в год начала сидеть? — удивленно переспросила она. Это тоже никак не вписывалось в праздничную картинку. О том, что у дочери могут быть какие-то отклонения, она как-то не подумала, ведь Норвик говорил, что ребенок здоров. Что хорошего, если траур в доме по поводу бесплодия жены сменится на траур по поводу неполноценности ребенка?
— Понимаете… — Оксана теребила ремешок сумочки с таким нелепым в этих казенных стенах золотым вензелем. — Я ожидала, что увижу эту девочку и сразу к ней что-то почувствую, ну какую-то нежность, жалость, что ли? А не ощутила вообще ничего, и это меня пугает.
— Ничего удивительного, — пожала плечами директриса. — Любовь так сразу не приходит. Даже настоящие матери в роддоме не сразу чувствуют нежность к собственным младенцам. Но это все приходит со временем, хотя… Если сердце совсем молчит, то, может быть, лучше не надо? Испортите жизнь себе и ребенку. На других посмотрите, повыбирайте… Я вас не тороплю и ни к чему не склоняю. Решайте сами.
— Да-да, я подумаю, — Оксана неловко и торопливо сунула в руки директрисе большой пластиковый пакет с подарками. — Это для Кати. Ну а игрушки, наверное, для всех детей, и конфеты тоже… Я подумаю и обязательно приду. Завтра… Или нет, послезавтра!
Она чуть ли не бегом выскочила из серого унылого здания, выбежала за ограду и без сил опустилась на лавочку возле подъезда пятиэтажной «хрущобы». На душе было смутно и гадко. Несмотря на то, что сейчас уже казались невозможно близкими и искупление греха, и вроде бы такое долгожданное счастье материнства, и избавление от чувства вины… Только вот нужно ли все это? И стоит ли искупление прежнего греха риска впасть в новый? Стоит ли забирать в Лондон нелюбимую девочку для того, чтобы всю оставшуюся жизнь вымучивать из себя подобие нежности, всю жизнь каяться, глядя в ее, откровенно говоря, далеко не умные глазки, и снова ненавидеть себя теперь уже за то, что ее родная дочь по-прежнему несчастна? Оксана вытащила из сумочки белую с золотым тиснением пачку сигарет и закурила. Ей было страшно, странно и почему-то знобило. Ветер, лениво колышущий тяжелые, горячие пласты воздуха, теребил ее светлые локоны, знойным дыханием касался обнаженных плеч, а она все равно ежилась так, будто внутри у нее была ледяная глыба. «А может быть, я просто патологически не способна никого любить? — Оксана развернулась на скамейке и села лицом к солнцу. — Может быть, я просто приняла как аксиому то, что люблю, например, маму? Разве сильно я скучала без нее эти полтора года в Лондоне? Нет, скучала, конечно, но это из-за расстояния, заставляющего забывать мелкие обиды и разногласия. На расстоянии можно любить кого угодно. А дома меня раздражали ее бесконечные приступы печеночных колик. Разве мне было ее жаль? Мне было жаль себя, вынужденную сидеть рядом, подносить минералку, менять воду в грелке, а потом слышать, как ее тошнит в туалете? Почему-то в Англии считается нормальным лечиться в больнице и не испытывать терпение родственников, а у нас нужно обязательно цепляться за «родные стены» и «родные кастрюльки»! Том никогда бы не стал докучать мне своими болячками. Быстренько переговорил бы с Норвиком, и — на недельку в хорошую частную клинику… Том, уютный, «пингвинский» Том с толстыми ногами и одутловатым лицом».
Ей вдруг вспомнилось, как она еще в самом начале их отношений для того, чтобы подавить брезгливость, постоянно мысленно напевала как заклинание: «Я зарабатываю себе дом, я зарабатываю себе машину, я зарабатываю себе пожизненное обслуживание в наикрутейшем косметическом салоне…» О какой любви тут вообще можно говорить? А друзья? Да их, в общем-то, и не было никогда. Вот только Андрей…
Оксана вздрогнула и выронила сигарету. Окурок упал в высокую траву. Она загасила его носком туфли и поднялась со скамейки. Андрей! Его все-таки необходимо увидеть. Это обязательно поможет во всем разобраться, все расставит по местам. В конце концов, ведь он отец этой девочки! И единственный человек, расставание с которым принесло ей когда-то настоящую боль. Нужно увидеть его, и тогда сквозь детские черты светловолосой Кати Максимовой обязательно проступит любимое лицо с прямым, чуть длинноватым носом и высокими скулами. Тогда она полюбит эту девочку, обязательно полюбит… Главное, увидеть Андрея сегодня, как можно скорее.
Оксана подумала, что лучше будет не выжидать на лавочке, как в прошлый раз: опять подсядет какая-нибудь пенсионерка, и всякая решимость улетучится. Нужно сразу подняться в квартиру и позвонить в дверь. В общем-то, не так важно, кто откроет: он, жена… (если он, конечно, женился). Все равно она имеет на него, на его душу, на его любовь гораздо больше прав, чем любая баба со штампом в паспорте…
Когда такси наконец затормозило напротив станции метро «Сокол», у Оксаны уже имелся совершенно конкретный план действий…
* * *
Двери в мебельном магазине «Варна» были огромные и сверкающие, бесшумно раздвигающиеся перед покупателем и так же бесшумно смыкающиеся за его спиной. Алла Денисова поднялась по невысоким ступенькам из черного, с тонкими золотистыми прожилками мрамора и окунулась в манящую, поддерживаемую кондиционерами прохладу салона. Все здесь требовало непременной приставки «евро»: «евроремонт», «евродизайн», «еврообслуживание». Стоило ей на секунду остановиться в растерянности, как милейшая девушка в элегантном малиновом платье, которое язык бы не повернулся назвать халатом продавщицы, тут же подошла и предложила свои услуги консультанта. От волос девушки пахло какими-то особенными духами, легкими, свежими, как майские цветы. А еще у нее были очень ухоженные маленькие ручки с аккуратным маникюром. Глядя на нее, Алла вдруг поняла, что выглядит сейчас совсем не так, как должна выглядеть потенциальная покупательница дорогого магазина. Разгоряченное, покрасневшее лицо, покрытые мелкими капельками пота виски и увлажнившиеся корни волос… Да, в конце концов, эта простенькая, хотя все еще приличная сиреневая юбка и босоножки, бывшие ультрамодными два года назад! Только вот сумки, нагруженной молочными тетрапаками и упаковками лианозовского йогурта, для полноты картины не хватает… Ей стало неловко и неуютно на какую-то секунду, но она тут же заставила себя улыбнуться.
— Здравствуйте, я хотела бы посмотреть что-нибудь из кухонной мебели, — Алла почувствовала, что улыбка получается несколько принужденной, однако продавщица только вежливо кивнула.
— Вас интересуют полностью кухни или только уголки? Может быть, что-нибудь конкретно: Италия, Финляндия, Германия, Россия, Белоруссия?
— Нет-нет, я бы хотела просто повыбирать и прицениться.
— Пожалуйста. Пройдемте со мной в третий зал.
Девушка, повернувшись на низких каблучках своих удобных туфелек, неторопливо поплыла вперед с видом радушной хозяйки дворца, показывающей гостье свои владения. Алла последовала за ней, оглядываясь по сторонам и чувствуя, как сладко, по-женски замирает сердце, завороженное сиянием зеркал, теплым дыханием светлой карельской березы и благородным, мудрым величием дубовых панелей. Ей было немного неловко из-за вырвавшегося слова «прицениться» да и своего непрезентабельного вида, но она мысленно утешала себя тем, что кассовому аппарату, выбивающему чек на изрядную сумму, будет безразлично, во что одета покупательница и как она выглядит. Алла стала состоятельной женщиной, начиная с сегодняшнего дня. Точнее, деньги в резной, запирающейся на ключик шкатулке лежали там уже почти месяц, но моральное право воспользоваться ими она получила только сегодня. Она шла по роскошному залу, видя, как в зеркальных шкафах-купе отражается ее льняная блузка с деревянными пуговками, и с торжеством думала о том, что кончилась битва за выживание и бесконечное отдавание долгов; теперь можно будет не только купить хорошую мебель в квартиру, но и наконец обновить ставший за последние два года довольно жалким свой гардероб. Нет, и в элитной 116-й клинике, и в ассоциации «Мама и кроха» квалификацию Аллы ценили и соответственно платили довольно хорошо. И, наверное, она все эти два года могла бы позволять себе и наряды, и украшения, и рестораны, если бы не острое, невыносимое желание убраться куда-нибудь подальше из жалкой однокомнатной клетушки в Текстильщиках, в которой вечно текли трубы и пахло плесенью, плодящейся на стенах подъезда. В свою жалкую нору она привела мужчину всего однажды и потом долго не могла забыть его брезгливо-сочувственный взгляд и походку неуклюжего краба, когда он чуть ли не боком пробирался на кухню по узенькому коридорчику. Эти два года Алла трудилась, как вол, как стадо волов, нет, как сам черт, и все-таки, подзаняв еще несколько тысяч долларов, месяц назад купила себе приличную трехкомнатную на «Войковской». «А теперь — все! — сказала она сама себе. — Нет ни долгов, ни панического страха перед предстоящим ремонтом. Теперь есть деньги — все!» Наверное, слово «все» она, задумавшись, произнесла вслух, потому что продавщица удивленно переспросила:
— Все? Или вы хотите что-то посмотреть в этом зале?
— Да, — Алле не захотелось вдаваться в объяснения. Тем более, что кресла с пуфиками и уютные диванчики ее тоже интересовали. — Пожалуй, я выберу кое-что для гостиной…
— Пожалуйста, — девушка с профессионализмом экскурсовода обвела рукой зал, — если вам понадобится моя консультация, я буду неподалеку.
Пластмассовая табличка с именем и фамилией, приколотая на лиф платья, скромно и с достоинством сверкнула в матовом свете авангардных точечных светильников, словно деликатно давая понять покупателю, как следует обращаться к консультанту. «Киреева Оксана», — про себя прочитала Алла. — «Оксана… Я бы предпочла любое другое имя. Хотя, впрочем, какая разница?»
Кроме нее, в царстве кресел и пуфиков прохаживалась молодая супружеская пара, тоже выбирала мебель для гостиной. Девушка в коротком трикотажном платье на секунду замерла, окидывая взглядом зал и задумчиво постукивая носком туфельки о пол, а потом решительно направилась к пестренькому и веселенькому диванчику с деревянными подлокотниками. Видимо, маршрут этот повторялся уже раз в третий или четвертый, потому что супруг, явно измученный бесконечным хождением по магазину, негромко и обреченно заскулил:
— Витка, если хочешь купить эти деревяшки, — покупай. Только давай уже в темпе!
— Почему это деревяшки? — беззлобно возмутилась Вита. — По-моему, выглядит очень даже шикарно. Италия, стилизация под восемнадцатый век! Чем тебе не нравится, я не понимаю?
— Всем нравится, — с покорностью оловянного солдатика кивнул муж. — Покупаем!
— Нет, ты скажи, чем не нравится? Пока не объяснишь, я с места не сдвинусь.
Парень притворно захныкал и застонал, как больной ребенок:
— Ну всем нравится, всем… Если начистоту — ножки не нравятся!
— Почему ножки? — Вита, не глядя, подала мужу сумочку и присела на корточки. Алла, невольно привлеченная их разговором, с легкой завистью отметила, что талия у нее тонкая, а бедра достаточно округлые. Алый тонкий трикотаж плотно обтянул ладную фигурку, и на спине слегка обозначилась узенькая полоска лифчика. Парень перевел взгляд со спинки диванчика на попу жены, и в глазах его блеснули одновременно и озорство, и желание.
— Так чем тебе не нравятся ножки? — снова переспросила Вита, заглядывая под самое донышко дивана, видимо, рассчитывая именно там найти скрытый дефект. Муж злорадно улыбнулся и объяснил:
— Я просто представляю себе, как ты выходишь из ванной в своем махровом халате без пояса, садишься на этот диванчик, ну как ты любишь. Я сажусь рядом…
Дальше он зашептал жене на ухо, и до Аллы донесся только обрывок фразы: «А тут ножки ка-ак…» Все стало понятно и без комментариев благодаря смущенной улыбке Виты и вырвавшемуся у нее негромкому смешку… Алла поспешно отвернулась и с преувеличенным вниманием принялась рассматривать уродливое кресло-лягушку, казалось, созданное для того, чтобы, сидя в нем долгими одинокими вечерами, бессмысленно пялиться в телевизор. Ей почему-то казалось, что продавщица Оксана в малиновой униформе смотрит на нее сейчас насмешливым и понимающим взглядом…
В результате она заказала с доставкой на дом на завтра неплохой кухонный гарнитур с минимумом наворотов. Продавщица, видимо, получающая процент с прибыли, крутилась рядом с кассой и радостно щебетала что-то про «дуб», «массив», «ручную работу» и «безупречный вкус». Алла же думала только о том, как доберется сейчас до дома, залезет в ванную с прохладной водой и долго-долго будет лежать и смотреть в потолок с пожелтевшей известкой. Да и какая, впрочем, разница: евроремонт в ее квартире или полный разгром? Все равно некому, кроме нее самой, порадоваться приготовленным немецким обоям и новому кухонному гарнитуру, некому посетовать на слишком хрупкие ножки дивана, некому… Зачем же вся эта блажь и суета? Зачем эти безумные деньги? Алла смотрела, как кассир долго и тщательно отсчитывает сдачу, и чувствовала, как к горлу подкатывает неудержимое отвращение к этой растущей на пластмассовом прямоугольном блюдечке груде дензнаков.
Машину она поймала на выходе из магазина. Кавказец лет сорока пяти — пятидесяти, сидевший за рулем, поначалу робко косился на нее, но ближе к дому все-таки осмелел.
— Ви такая красывая жэнщина! — произнес он с характерным акцентом. — А такая грустная! Зачэм грустить? Надо улыбаться! Конэщно, люди нашего с вами возраста плохо переносят такую жару, но нэльзя же совсэм раскисать! Давайтэ с вами посидим, выпьем хорошего вина… Нэт, нэ дома, в ресторане, конэщно же…
Кавказец выжидающе замер, готовясь новым потоком красноречия задавить робкий отказ или же достойно принять отказ решительный, с праведным негодованием, но женщина на заднем сиденье лишь грустно произнесла:
— Я не вашего возраста. Мне тридцать четыре года…
Дома было пусто и душно… Алла скинула босоножки и босиком направилась открывать окно. Вспотевшие ступни прилипали к крашеному полу и отлипали с чавкающим звуком. Она сразу вспомнила, как еще в Текстильщиках нервная соседка снизу прибежала как-то посреди ночи и закричала, что не может заснуть от того, что сверху беспрестанно топают. «Но я же хожу босиком?» — удивилась Алла. И тогда соседка и выдала про чавкающий звук. Алла извинилась и, закрыв дверь, безудержно рассмеялась. По квартире она бродила, потому что ей не спалось, потому что в тот день, пять лет назад, Андрей ни с того ни с сего предложил ей вместе поужинать в кафе, вспомнить студенческие годы… Тогда он еще не был знаком с Оксаной…
Телефонный звонок вывел ее из задумчивости. Тяжело переставляя уставшие ноги с проявившимися синими венами, Алла поплелась к аппарату. Она уже давно вышла из радостного возраста надежд, заставляющего лететь к трубке сломя голову. Алла Денисова давно ничего не ждала и, честно говоря, знала, чей голос сейчас услышит. Поэтому когда после шипения, гудков и невнятного бормотания телефонистки мужской баритон с сильным иностранным акцентом произнес: «Добрый вечер, Алла Викторовна. Что вы мне можете сообщить?» — ничуть не удивилась.
— Все в порядке. Она сегодня была у меня, и, наверное, сегодня же поехала в детдом. Все координаты я дала, — ответила она и, не добавив ни слова, повесила трубку, надеясь, что на другом конце провода все спишут на несовершенство связи…
…За без малого два года супружеской жизни Том Клертон уехал от жены впервые. Он знал, что Оксану не особенно расстроил его отъезд, да и что, вообще, могло расстроить ее сейчас, после бесконечного мытарства по больницам и трагического медицинского диагноза в финале? Они простились на пороге дома. Оксана не любила вставать рано и поэтому, естественно, в аэропорт ехать не собиралась. Да и зачем? Он с острой, щемящей нежностью вглядывался в ее синие глаза, ленивые, сонные, и не прочитал в них ничего, кроме желания забраться обратно в теплую постель. Тому было несколько странно сознавать, что она не думает сейчас о доме в Москве, о родителях, которым он везет подарки, но в этом была она вся, удивительная и непостижимая. Еще вчера с энтузиазмом бродила по магазинам, выбирая голубой с белыми тюльпанами костюм для матери, а сегодня снова погасла и впала в апатию. Бедная, несчастная девочка! Эту неделю без него она так же, молчаливой тенью будет слоняться по дому, много курить и снова считать дни, отмотавшиеся с той секунды, когда лучший гинеколог клиники святой Стефании сказала, что детей у нее никогда не будет… Оксана коротко, словно кошка, зевнула, прикрыв рот. Тому уже пора было уходить. На прощание он вежливо поцеловал руку жены, но почему-то не мог вот так, сразу, расстаться с ней. А Оксана, вся еще окутанная сонной негой, теплая и расслабленная, явно томилась ожиданием.
— Ну что, миссис Клертон? — произнес Том. — Мне, наверное, пора? Не скучай без меня, я скоро вернусь и что-нибудь привезу тебе из Москвы.
— Ничего не надо. Возвращайся сам, — отозвалась она. — И звони…
— Отправляйся в постель. Я сам закрою дверь снаружи.
Оксана то ли недоуменно, то ли равнодушно пожала плечами и поплелась через прихожую. Том проводил ее взглядом и тихонько захлопнул дверь.
Ее чудные волосы, особенно крупная завитушка между лопатками, посредине спины, все время стояли у него перед глазами. Уже сидя в удобном и мягком кресле межокеанского лайнера, Том, казалось, до сих пор чувствовал их запах… Оксана, его чудесная Оксана, не должна была ощущать ни малейшего дискомфорта!.. Том тяжело развернулся и посмотрел в иллюминатор. Внизу растрепанной ватой лежали белоснежные облака, позолоченные утренним солнцем. Белые с золотом, как ее волосы… Он вдруг вспомнил, что именно в тот день возникла эта прозрачная стена. Теперь, целуя губы Оксаны, лаская ее плечи, он постоянно ощущал легкий холод музейного стекла. Она была где-то рядом, как драгоценный бриллиант, прикрытый прозрачным колпаком, и все же до нее нельзя было дотронуться. Нельзя, просто потому, что нельзя! Пусть лучше будет скучно, однообразно и без искорки живого огня. Пусть будет только физическое облегчение, разливающееся от живота к груди и ногам, пусть будет паршиво и гадко на душе, так, будто сделал что-то нехорошее, недостойное. Пусть лучше так!.. Потому что не может быть ничего отвратительнее, оскорбительнее для глаз красивой женщины, чем наблюдать неуклюжую, неконтролируемую животную страсть толстого сорокалетнего мужчины. Ничего не может быть отвратительнее для женщины, которая этого мужчину не любит…
Неслышно подплывшая стюардесса предложила на выбор вино, коньяк, виски и джин. Том вежливо отказался. И без алкоголя его достаточно сильно укачивало в самолете. Он никогда не был «настоящим, крутым мужчиной» и, стыдно сказать, боялся высоты.
Взобравшись однажды на самую безумную, опасную высоту в своей жизни, когда Оксана запросто сказала: «Да, я буду твоей женой», он совсем по-детски ахнул. Она не рассмеялась и снова внятно повторила: «Я буду твоей женой, потому что мне с тобой хорошо». И он, бедный, наивный Том Клертон, решил, что и в самом деле сможет сделать так, чтобы ей было хорошо, чтобы она ни в чем не раскаивалась. Но не получилось… Он еще по-прежнему продолжал гордиться ее красотой и обаянием, а на фигуры и лица других женщин смотрел только для того, чтобы безоговорочно и с удовольствием сделать сравнение в Оксанину пользу, но уже с тревогой замечал, как тают и тускнеют живые искорки в ее глазах. Она уходила куда-то за горизонт, отдалялась, но, самое главное, стала несчастной. И виноват во всем был только он, самонадеянный и эгоистичный Том Клертон. «Это обман во благо!» — прошептал он и закрыл глаза…
В Шереметьеве его встречал шофер фирмы Михаил с какой-то невзрачненькой молодой девушкой, переводчицей. Увидев ее, Том едва заметно улыбнулся: помнят в Российском филиале романтическую историю с Оксаной и, наверное, поэтому тактично присылают серых мышек. Когда она подошла вплотную и уже протянула руку, он не без удовольствия и некоторого самолюбования поздоровался на довольно приличном русском, чем привел девушку в смущение, а водителя в столь же бурный, сколь и фальшивый восторг. От этого чрезмерного проявления эмоций с бесконечными «о!», «здорово!», «абсолютно без акцента, мистер Клертон, как будто вы в Рязани выросли» ему мгновенно стало досадно. В самом деле, чего он выпендривается, как мальчишка? Том сам прекрасно знал, что говорит по-русски еще слабо. Оксана смеялась, когда он, старательно вытягивая трубочкой губы, пытался «естественно» произнести слово «теща». Этому русскому Михаилу тоже наверняка показался смешным нелепый толстый англичанин с его полиглотскими потугами, но субординация предписывала восхищаться, и он восхищался, да еще с этим отвратительным налетом лубочного панибратства, предназначенного специально для иностранцев, как матрешки на Арбате.
— Будьте любезны, отвезите меня сначала на улицу Рогова, а потом поедем в офис, — сказал он уже по-английски, обращаясь к переводчице. Та кивнула и повторила шоферу то, что Том, после почти двух лет жизни с русской женой, вполне сносно мог бы выговорить по-русски. Синий «Мерседес» мягко тронулся с места, а Клертон принялся повторять в уме все то, что Оксана просила передать родителям на словах. Дома оказалась одна Людмила Павловна. Толком не рассмотрев подарки и суматошно вывалив их прямо на кресло в прихожей, она бросилась ставить чай, доставать из холодильника водку. Тому нравилась эта женщина, нравились ее домовитость и доброта, но он, убей Бог, не знал, о чем с ней разговаривать, тем более на его-то несовершенном русском. Он очень обрадовался, когда в разговоре возникла пауза и стало возможным, медленно подбирая слова, объяснить, что внизу, в машине, его ждут люди и сейчас нужно непременно ехать в офис, а вот потом, как-нибудь потом…
— Так вы, значит, в гостинице остановитесь? — почему-то грустно спросила Людмила Павловна, называющая зятя исключительно на «вы». — Не у нас?
— Да, в гостинице удобнее для работы, — мягко ответил Том. — Но я обязательно приеду к вам на ужин, как только выдастся свободный вечер. Обязательно.
Если не считать непременного банкета в фирме, вечерами он будет свободен. Бродить по Москве не хотелось, ходить в русские театры, хоть даже и в знаменитый, но приевшийся Большой, — тем более. Нужно было просто подумать в тишине и одиночестве и сосредоточиться перед принятием важного решения. Однако долгих и основательных размышлений не получилось. Оставшись в номере-люкс «Славянской» наедине со своими сомнениями, Том Клертон, измученный ожиданием, почти сразу же подошел к белому телефонному аппарату, стоящему на прикроватной тумбочке, и набрал сначала номер платного справочного, а потом Московской клиники номер 116…
Он никого не хотел вмешивать в это дело, поэтому не стал тревожить шофера и к ресторану «Камея» подъехал на такси. Возле входа дежурил швейцар в своей синей с золотыми галунами форме и огромной жесткой фуражке. Том, не выходя из машины, огляделся. Народу в переулке, как всегда, было немного, и среди нескольких женщин, неторопливо бредущих куда-то вдоль выгоревших бежевых стен старых домов, той, которую он ждал, явно не было. Водитель начал проявлять признаки нетерпения, неделикатно покашливая. Том поспешно рассчитался и, открыв дверцу, вышел из салона. На улице было довольно тепло, в сером шерстяном пиджаке ему даже стало жарковато. Он повел плечами и тут же встретил сочувственный и понимающий взгляд швейцара. Впрочем, старик мгновенно сделал профессионально-радушное, но непроницаемое лицо, когда заметил, что этот хорошо одетый мужчина в очках с тонкой металлической оправой направляется к дверям ресторана. Том мысленно одобрил его («Вы прежде всего на работе, любезный!») и вошел в предупредительно распахнутые двери.
В этом ресторанчике он бывал пару раз во время своего первого приезда в Москву и еще тогда оценил и хорошую рыбную кухню, и приличную музыку, а главное, удаленность от шумных улиц. Солидному и консервативному Тому Клертону нравилась тишина. А еще он любил розовую форель с ореховым соусом, которую в «Камее» готовили превосходно. А вот в «Репортере» подавали в основном мясо. Но от мяса во всех его видах приходила в восторг лишь Оксана. А он покорно поглощал баранину на косточках и нежную свинину, стараясь не смотреть на розовые кровяные прожилки, слушал ее тихий смех и правильную английскую речь. Он готов был полюбить даже медальоны из телятины под соусом, кажущиеся ему чрезмерно калорийными и слишком острыми; заранее любить все, что связано с Оксаной, и никому чужому не позволять вторгнуться в их мир… Поэтому встречу незнакомой женщине с низким грудным голосом он назначил в нейтральной и удаленной от посторонних глаз «Камее».
Однако время шло, а она не появлялась. К волнению Тома начало примешиваться раздражение. Взглянув на часы, он неодобрительно покачал головой. Неточности мистер Клертон не терпел. За соседними столиками пили вино и веселились хорошо одетые молодые люди, а он один, как сыч, сидел в углу перед наполовину пустым уже бокалом и думал о том, что же могло случиться? Без пятнадцати восемь легкая шторка на входной двери отъехала в сторону, и в зал вошла средних лет женщина в элегантном костюме кофейного цвета и туфлях на невысоких каблуках. Именно такой он себе ее и представлял. Ее глубокому грудному голосу, услышанному им впервые два часа назад по телефону, как нельзя соответствовали глаза, то ли карие, то ли янтарные, коротко постриженные светлые волосы и даже губы, хоть и чуть подувядшие, но все равно еще достаточно чувственные. Том поднялся из-за стола и увидел, как подошедший к женщине официант любезно указывает в его сторону.
Походка у нее оказалась быстрая, деловая, в целом госпожа Денисова производила приятное впечатление. Подойдя вплотную к столику, она протянула ему широкую твердую ладонь и вопреки этикету первая представилась:
— Здравствуйте, я Алла Викторовна Денисова. Вы хотели со мной о чем-то побеседовать?
Они сели за столик. Том заказал форель под соусом, салат и бутылку немецкого вина «Кабинет». Официант, записав заказ, отошел, и на минуту повисла пауза. Алла Викторовна смотрела прямо ему в глаза, видимо, ожидая начала разговора, а он все никак не мог собраться с духом и хоть что-нибудь произнести. «Недотепа и мямля», — мысленно ругал себя Том, заставляя собственные непослушные пальцы выпустить непонятно зачем схваченную со стола серебряную ложечку. «Представь, что это просто бизнес, — сказал он мысленно самому себе, — твой родной фармацевтический бизнес, и ты разговариваешь с партнером. Говори же! Это важно…» Наконец ложечка уже сама по себе выскользнула из вспотевшей ладони и с обреченным звоном ударилась о пол. Том покраснел, а мадам Денисова заулыбалась, обнаружив в уголках губ мелкие морщинки.
— Давайте начнем с того, кто вы такой и чем я могу быть вам полезна. Простите, но ваша фамилия мне, к сожалению, ни о чем не говорит.
— Я — муж одной вашей бывшей пациентки…
— Не может быть! — она усмехнулась, впрочем, довольно добродушно. — Мои пациенты — исключительно груднички. Самые маленькие дети, понимаете? А кто такая ваша супруга?
— Ее зовут Оксана, — с нежностью в голосе произнес Том. — Оксана Плетнева.
Что-то в лице Аллы Викторовны неуловимо изменилось, и он испугался, что сию секунду все пойдет прахом. Эта кареглазая блондинка от всего откажется, скажет, что никогда не знала, даже не видела его жену. Конечно, Норвик предупреждал об этом: врачи не любят признавать неудач. И если жизнеспособного ребенка не удалось спасти по ее вине или некомпетентности, Денисова сделает все, чтобы забыть об этом… Опасаясь, что его тщательно продуманный план сейчас просто рассыплется радужными бликами, осядет пузырьками на стенках хрустальных бокалов, Том заговорил быстро и сбивчиво на ужаснейшем русском с примесью английских слов:
— Вы должны ее помнить, не можете не помнить. Она такая… beutyfull, красивая, безумно красивая… Я узнавал в 116-й клинике, где она рожала: в ту смену дежурили именно вы… Телефон вашего теперешнего place of work, то есть, как это… места работы! Да, места работы, дала мне заведующая. Это… importent, понимаете, очень важно… У Оксаны были искусственные роды, и наш ребенок родился мертвым…
— Я-то тут при чем? — холодно спросила Денисова, глядя на него теперь уже холодными, словно цветные стекляшки, глазами. — Ребенок родился мертвым, значит, я только засвидетельствовала смерть и не имела чести его лечить. Чем еще могу быть полезна?
— Вы знаете ее, — устало покачал головой Клертон. — Я вижу, что знаете и почему-то не любите. Но она так несчастна, и я хотел ей помочь.
— Несчастна! — Алла Викторовна рывком расстегнув сумочку на «липучке», швырнула на стол пачку сигарет с красно-черным рисунком и огляделась по сторонам. — А здесь, вообще, курят?
— Курят. — Он пододвинул к ней пепельницу.
— Знаете, я — педиатр, и поэтому никогда не смогу понять женщин, добровольно соглашающихся на искусственные роды. Такая женщина просто патологически не может быть несчастной или убитой горем, ее ничем не прошибешь, ей все безразлично, кроме собственной персоны. Простите, но о вашей жене у меня сложилось точно такое мнение.
— Но у Оксаны были срочные медицинские показания, — попытался возразить Том. — И потом, если бы ребенка можно было спасти…
Денисова выпустила струйку дыма и посмотрела на него тяжелым и странным взглядом. Когда она курила, губы ее, исчерченные мелкими морщинками, казались прямо-таки старческими.
— Н-да, медицинские показания… — повторила она задумчиво. Потом еще раз взглянула прямо в глаза Тому так же странно и испытующе. — Медицинские показания… Впрочем, какая разница? Я не думаю, что мы встретились для того, чтобы обсуждать моральный облик вашей супруги: мне он безразличен. Давайте лучше о деле: что вы от меня хотите?
Тому уже ничего не хотелось: ни продолжения разговора, ни розовой форели с орехами. Посторонний человек вот так запросто назвал Оксану жестокой, бездушной женщиной, обвинил ее в том ужасном, роковом стечении обстоятельств, в котором она вовсе не виновата. В том, за что она и без того слишком жестоко расплачивается! Он аккуратно положил вилку на салфетку, рядом строго параллельно пристроил нож и, не поднимая головы, произнес:
— Оксана согласилась на искусственные роды только из-за меня… Я не должен был вам этого говорить, но… лучше все же, наверное, чтобы вы знали. Это был не мой ребенок, и Оксана опасалась, что он встанет между нами, доставит мне слишком много сложностей. А потом эта ее почечная недостаточность, как перст Божий… Просто я не смог, не успел объяснить ей, как сильно ее люблю, как буду любить ее ребенка. Поверьте, я очень страдал, когда узнал, что ребенка не будет… Господи, как фальшиво это звучит! На самом деле, конечно, я не святой и страдал не из-за ребенка, а из-за того, что будет плохо ей.
Наверное, она мало что поняла, потому что столь же холодно и равнодушно спросила:
— Что вы от меня хотите? Если ничего, то тогда давайте закончим этот разговор, я тороплюсь домой.
Том почувствовал, что его голова начинает просто разламываться. Будь она проклята, эта ужасная, как всегда не вовремя напомнившая о себе гипертония! Можно было бы, конечно, достать из кармана таблетку, но только не сейчас, посреди этого ужасного разговора. Чего доброго эта женщина с глазами цвета коричневых аптечных пузырьков подумает, что он пытается вызвать ее жалость. Том поморщился и продолжил:
— Дело в том, что у нас в семье большое горе. Оксана теперь вообще не может иметь детей и очень страдает.
— Усыновите кого-нибудь, — равнодушно посоветовала Алла Викторовна. — Наймите, наконец, женщину, которая специально для вас выносит и родит ребенка. Получите готовенького с голубеньким или розовым бантиком. У вас же там это активно практикуется?
— Да, вы правы, конечно, но Оксана… Она в самом деле очень страдает. Понимаете, у нее навязчивая идея: ей кажется, что та мертвая девочка преграждает путь в мир ее возможным последующим детям. Она хочет ее и больше никого… Это выглядит безумием, я понимаю, но…
— Вы очень любите вашу супругу, мистер Клертон, — Денисова, кажется, несколько смягчилась, — но, по-моему, приписываете ей слишком большую чувствительность. Я прекрасно помню Оксану Плетневу и помню также, что она была умной, спокойной и достаточно расчетливой женщиной, поэтому позвольте не поверить во все эти сантименты… Кроме всего, ребенок в любом случае умер, его не оживить, поэтому давайте закончим бесполезный разговор!
— А если ее удалось спасти? Если девочка осталась жива?
Алла Викторовна убрала пачку сигарет в сумку, явно намереваясь уйти.
— Если бы она осталась жива, вы, наверное, как-нибудь разобрались бы со своими семейными проблемами…
— Вы не понимаете, — Том похолодел, мысленно представив, что ему сейчас предстоит произнести. — Я прошу вас сказать моей жене, что ребенок жив. Наверняка можно найти какую-нибудь полуторагодовалую, никому не нужную девочку в детском доме. Ведь можно, правда?
— Простите, — удивленно приподняла брови Денисова. — Я правильно расслышала?..
Через десять минут они заказали еще бутылку вина. Том боялся, что все-таки придется достать из кармана таблетку: боль в висках никак не проходила. Во время подобных приступов у него в глазах часто лопались маленькие кровеносные сосудики, и тогда он выглядел просто ужасно. Наверное, нужно будет выйти в туалет, принять лекарство, а заодно и посмотреть на себя в зеркало. Ну а в глазах Денисовой ровным счетом ничего не отражалось. Она сидела на своем стуле прямая, но не напряженная, а как-то странным образом задумчивая. Ее щеки от выпитого вина слегка раскраснелись. Том, уже с трудом подбирая русские слова, молился только об одном: чтобы от этой ужасной головной боли его не начало тошнить. Он медленно рассказывал про доктора Норвика и про его предстоящую поездку в Москву.
— Значит, я должна дать вам свою фотографию, а газетный листок с русским текстом — это уже ваша забота?
— Да, конечно… Вам нужно только рассказать Оксане про ребенка и взять у нее деньги. Скандала она устраивать не будет, это я гарантирую. Ну а в крайнем случае свяжетесь со мной… Не забывайте, вы делаете доброе дело, находите обеспеченных родителей для какого-то обездоленного малыша.
— Ну да, — усмехнулась Денисова. — И вы мне за это более чем щедро платите?
— Сейчас — я, а потом наверняка Оксана.
— Нет, — она покачала головой. — Как хотите, а из ее рук я денег не возьму. Можете на меня обижаться сколько угодно. Теплых чувств во мне ваша супруга все равно не вызывает, извините, мне просто противно… Той суммы, что предложили мне вы, вполне достаточно.
Том вздохнул. Ему уже было безразлично, что еще скажет эта женщина, какую еще боль причинит Оксане. Главное — она уже согласилась и теперь лишь уточняет детали.
— Я только прошу вас, — он отпил маленький глоток яблочного сока, — быть достаточно убедительной. Она должна поверить в то, что вы сознательно скрыли от нее девочку… Ну, в конце концов, скажите про женщин, соглашающихся на искусственные роды, то же, что сказали мне. Только, умоляю, не унижайте ее, не втаптывайте в грязь.
— А вот это уже как получится! — Денисова достала новую сигарету и, прищурившись, лихо, по-мужски закурила. — Из-за вас я иду на достаточно большой риск, поэтому позвольте мне самой выбирать линию поведения…
Расстались они на выходе из «Камеи». Алла Викторовна категорически отказалась от предложения Тома довезти ее до дома на такси, а он особенно не настаивал. На свежем воздухе головная боль немного отпустила. Мистер Клертон немного прогулялся пешком, затем взял машину и вернулся в гостиницу…
…Телефонный звонок не повторился. «А, впрочем, зачем ему звонить еще раз? — подумала Алла, опускаясь прямо на пол рядом с аппаратом. — Я и так достаточно ясно выразилась. Для мистера Клертона уже все закончилось… А мне завтра привезут честно заработанный кухонный гарнитур и лягушачье кресло. Я усядусь в него и буду думать о том, что и у этой стервы Плетневой все теперь хорошо, потому что у нее есть внезапно найденная, прямо как в мексиканских сериалах, дочь. И у ее добрейшего мужа тоже все хорошо, потому что его красавица жена снова бодра и весела, как юный пионер. И даже у Андрея, похоже, все уже сложилось… Всем хорошо, кто непосредственно участвовал в этой истории. Всем, кроме меня… Или без меня? Всем хорошо без меня, я — лишняя, это ведь правда? Правда?!»
* * *
Оксана рассчиталась с водителем и вышла из машины. Предстоящая встреча полностью занимала ее мысли, и думать о чем-то другом казалось просто невозможным, даже кощунственным. Если Потемкин, конечно, не вышел в ночную смену, сейчас он должен быть дома. Оксана прокатывала языком по нёбу когда-то пронзительно любимое имя «Андрей» и с удивлением понимала, что язык, привыкший к мягкому английскому «р» это слово уже, оказывается, забыл. «Андрей» получалось мяукающим и несколько манерным. Почему-то «здравствуй» — нормально, а вот «Андрей» — только с лондонским акцентом. Ничего, главное, произнести два этих слова, а дальше все пойдет само собой. И будут его глаза, глубокие и отчаянные, и острый кадык, нервно прыгающий вверх-вниз по жилистой шее, и побелевшие от напряжения костяшки пальцев. Сердце Оксаны учащенно билось, и это ей не нравилось. Она должна появиться прекрасная, грустная и немного холодная, словно пришедшая из другого, уже утраченного мира. Она должна четко осознавать происходящее и собственные действия, иначе ситуация может выйти из-под контроля.
К вечеру людей возле ограды церкви меньше не стало. Все так же сновал народ возле полосатых тентов киосков, лениво переговаривались художники, поджидающие у стены покупателей. Оксана краем глаза заметила, что у одного дядьки, торговавшего пейзажами с милыми вставками из янтаря, картин с утра значительно поубавилось. «Похоже, все-таки берут люди», — подумала она, обогнав старушку, выползшую из дверей гастронома. Ей была неприятна эта убогая уличная суета, распродажа дезодорантов, «Кометов», тараканьих ловушек, и было странно думать, что где-то совсем рядом с этим нищенским базаром живет, дышит, ест, разговаривает ее Андрей.
А вот во дворе к вечеру стало довольно тихо. Розовые стены дома, оградившие от внешней суматохи замкнутый внутренний мирок с деревянными дверями подъездов и строгой табличкой «Собак не выгуливать», еще дышали дневной жарой, но первые тени сумерек уже легли на листья деревьев. Оксана остановилась на углу, поправила узенький кожаный ремешок на пятке и мысленно повторила: «Здравствуй, Андрей!» Где-то рядом заворчал мотор автомобиля. Она вскинула голову, тряхнув слегка вспотевшими волосами, и решительно пошла вперед. Темно-синий «Форд» она заметила не сразу, точнее, заметила, конечно, но не обратила на него серьезного внимания. Дверь подъезда была приоткрыта, и в нее собирался проникнуть какой-то пацан, неуклюже грохающий ногами в роликовых коньках с ядовито-зелеными колесиками. Нужно было непременно пристроиться за ним, чтобы не звонить по телефону отсюда, с улицы, и не давать Андрею возможности морально подготовиться к встрече за те несколько минут, что она будет подниматься на четвертый этаж. Иначе он подсознательно, подчиняясь инстинкту самосохранения, обязательно внутренне отгородится от нее, обязательно…
На лобовом стекле «Форда» отплясали свой танец последние солнечные блики. Оксана зажмурилась и непроизвольно ойкнула, когда ослепительный «зайчик» неожиданно и весело ударил ей прямо в глаза. Тряхнула головой, отгоняя расплывающиеся розово-зеленые круги, и перевела недовольный взгляд на хозяина машины, протирающего влажной тряпкой капот. Никто, даже невольно, даже нечаянно, не смел отвлекать ее сейчас! А этот пижон в светло-кофейных слаксах и легкой рубашке в широкую белую и коричневую полоску продолжал стоять, наклонившись к своей любимой «игрушке», не обращая ни малейшего внимания на торопливый, внезапно захлебнувшийся стук каблуков за своей спиной. Оксане захотелось, чтобы он обернулся, увидел ее и застыл с обычной в таких случаях полудурацкой-полублаженной улыбкой на лице. Легким движением смахнув с правого глаза набежавшую от солнечного «зайчика» слезинку, она направилась к подъезду, несколько сдвинув свой маршрут в сторону хозяина «Форда». И он действительно услышал стук каблуков и обернулся. А она замерла, словно споткнувшись…
Что-то в его лице неуловимо изменилось за последние полтора года. И все же это был прежний Андрей. Теперь он носил немного другую прическу: коротко и аккуратно подстриженные сзади черные волосы несколькими прямыми, изысканно-беспорядочными прядями падали на лоб. Пожалуй, лицо его, удлиненное и классически красивое, немного округлилось, исчезла нервная заостренность черт, но трогательная, хрящеватая горбинка на чуть удлиненном носу была все та же. Оксана всегда считала, что Потемкин мог бы достойно пополнить когорту мужчин слащавого, голливудского типа красоты, если бы не эта горбинка да еще странные, словно рассеченные у висков брови. Андрей стоял опершись ладонью о капот «Форда», и застывшая в его глазах растерянность странно сочеталась с радостной улыбкой, озарившей лицо. Он и улыбался всегда как-то особенно: искренне и вроде бы виновато. Уголки его губ немного опускались вниз, и рядом с ними залегали смешные глубокие складочки. Наверное, воспоминания двухгодичной давности еще были слишком свежи, слишком живы, и что-то внутри него автоматически откликнулось на появление Оксаны: она пришла, это хорошо, это нормально, так и должно быть, просто не могло быть иначе. И только потом растерянность и отчаяние болезненным уколом разбудили мозг. Острый кадык на его шее два раза прыгнул вверх-вниз, счастливая улыбка медленно сползла с лица, а рука, загорелая и жилистая, осталась безвольно лежать на капоте. Оксана, чувствуя, что во рту пересохло, сделала два неуверенных шага вперед и тут же краем глаза увидела, как дверь подъезда распахнулась, и на улицу вышла смутно знакомая молодая девушка. На ней был довольно приличный светлый сарафан в меленький зеленый цветочек. Струящийся и полупрозрачный, он позволял достаточно разглядеть ноги.
— Андрей, мы готовы! — радостно произнесла девушка, не заметив его взгляда, отчужденного, предназначенного не ей, его пальцев с побелевшими от напряжения суставами. — Едем?
Прежде чем она перевела взгляд на Оксану, прежде чем застыла с выражением невыразимого отчаяния в глазах, та, словно ошпаренная словом «мы», потрясенная и ужаснувшаяся собственной догадке, медленно пятилась назад, к углу дома. Сейчас Оксана не думала ни о походке, ни о выражении собственного лица. Она видела только маленькую темноволосую девочку, сидящую на руках у девушки в светлом сарафане. У девочки были огромные круглые глаза, синие, как надувной мяч, купленный когда-то Людмилой Павловной для будущего внука или внучки…
Потом Оксана смутно припоминала, как поймала такси, как орала с перекошенным лицом на водителя, который никак не мог сообразить, что на Сосновую улицу следует свернуть от метро на проспект Василевского, а не на Щукинский проезд. Как трясла несчастную регистраторшу, уже собирающуюся домой и передавшую дежурство медсестре стационара… Когда она подъехала к жилому дому на «Войковской», было уже почти девять вечера. Оксана вихрем взлетела по лестнице, с остервенением нажала на кнопку звонка, и когда дверь открылась, заорала бешено и злобно:
— Где мой ребенок, сука? Зачем ты мне соврала? Я сейчас видела Потемкина, а с ним маленькую девочку. Ей как раз годика полтора!
Алла Денисова, видимо, немного ошарашенная внезапным натиском, но быстро приходящая в себя, отступила на несколько шагов назад, пропуская незваную гостью в квартиру. Голос ее был сух и бесцветен, как увядшее дерево, а глаза пусты, когда она спокойно произнесла:
— Это не твой ребенок. Не твой… Мне незачем тебе лгать.
— Я не верю тебе! — прошипела Оксана, проникнув в прихожую и закрыв за собой дверь. — Не верю!..
Часть вторая
— Я не верю тебе, — рассмеялась она, поднимая лицо от подушки. — Не верю, и все!
Оксана лежала на застеленном льняной простынью, разобранном диване и болтала в воздухе розовыми пятками. В форточку сквозило, голая спина уже успела немного замерзнуть, но вставать, поднимать с пола одеяло и укрываться им было просто лень. Прямо перед ее лицом на бежевых с коричневым рисунком обоях сально блестело пятно с размытыми краями — последствие вчерашней неравной битвы со звереющими к осени мухами. Неравной, потому что бедные мухи не обладали могучим интеллектом человека и, естественно, не догадывались, что с ними можно справиться самыми примитивными средствами, без дихлофосов, клейкой бумаги и ультразвуковых ловушек. Андрей крайне брезгливо относился к любым домашним насекомым, а вчера назойливые твари, жужжащие над ухом, просто вывели его из себя.
Когда очередная цокотуха начала потирать свои отвратительные лапки, сидя на Оксаниных волосах, он не выдержал.
— Слушай, я сейчас встану, зажгу свет и начну лупить их газеткой! — Андрей резким взмахом руки согнал муху, тут же взмывшую под потолок. — И чего им не спится? Мне почему-то раньше казалось, что они, как ранние птички, должны укладываться часов в шесть вечера.
— Ага… — лениво отозвалась Оксана, изучая густые волосы у него под мышкой. Ей было любопытно представить, как он сейчас поднимется, прямо в таком виде, как лежит, свернет из газеты мухобойку и примется прыгать по дивану и стульям, словно древнегреческий олимпиец в прекрасной первозданной наготе! Только вот ноги несколько кривоватые, да и волосатые!
Муха снова опустилась на белый плафон бра и начала прогуливаться по нему неторопливо и нагло. Диванные пружины скрипнули, Андрей рывком сел. Наверное, он немедленно пошел бы за газетой, но в Оксаниной душе все же шевельнулось сочувствие.
— Бе-едный! — она жалобно и по-детски протянула звук «е». — Тебе же тоже не хочется вставать, правда?
— А что делать? Иначе они нас загрызут!
— У меня вообще-то есть рационализаторское предложение, но пообещай, что не будешь смеяться?
— Ладно. — Он улыбнулся своей особенной улыбкой, и рядом с уголками его губ залегли глубокие полукруглые складочки. — Излагай!
— Видишь мой лак для волос? — Оксана, длинно взмахнув рукой, показала на бывшую тумбу для телевизора, а теперь ее туалетную тумбочку, стоящую рядом с диваном. — Перегнись через меня, возьми его и брызни в муху.
— Ксюшенька, это же не дихлофос! Ты запуталась, маленькая! — Андрей коротко рассмеялся.
— Ну и что? Какая разница? Лак на нее налипнет, крылышки отяжелеют, и летать она больше не сможет. Что нам и нужно.
— Слушай, а это идея! — Он одобрительно и восхищенно покачал головой. — Можно попробовать…
Когда длинное и тяжелое тело Андрея, перегнувшегося через нее, вдавило Оксану в диван, она сдавленно охнула. И тут же почувствовала, как растет и твердеет его плоть, упирающаяся в ее живот где-то под ребрами. Напряженные, как струна, мышцы тянущегося за лаком Потемкина мгновенно ослабли. Он замер, держась одной рукой за край тумбочки, словно прислушиваясь к своим ощущениям.
— Андрей, ну же! Мухи заедят! — протянула она жалобно. Он, все так же плотно прижимаясь к ней, нащупал пальцами лак в аэрозольном флаконе, тяжело выдохнул, а потом судорожно втянул в себя воздух, как человек, долго-долго сдерживавший дыхание, и рывком перекинул свое тело обратно на диван.
На первое облако аэрозоля мухи почему-то не среагировали. Они продолжали перелетать с места на место и мумифицироваться, по-видимому, отнюдь не собирались. Оксана, вскочившая на колени рядом с Андреем, держала его за запястья и вместе с ним выбирала направление «огня». Из пульверизатора вырывались облачка лака, но «враг» все не сдавался. Наконец одна мушка, наверное, самая маленькая и слабая, тяжело плюхнулась на пол и отползла в тень.
— Ага! — азартно завопила Оксана. — Получается!
С остальными «противниками» скоро тоже было покончено. Теперь в комнате пахло лаком так, будто здесь одновременно готовились к выпускному балу тридцать десятиклассниц. Андрей устало упал на диван, увлекая Оксану за собой.
— Полежи на мне еще! — попросила она тихо и обещающе, проводя пальцами по его ключице. — Ну как тогда, когда тянулся к тумбочке…
Он приподнялся на локте, посмотрел на нее со своей особенной полуулыбкой, а потом обхватил за плечи и притянул к себе:
— А, может быть, лучше ты на мне?
Оксана перекатилась к стене и легла рядом, уткнувшись лицом в его шею и положив ладонь ему на живот. Ей нравилось чувствовать локтем, предплечьем, как напрягаются мышцы его ног, нравилось наблюдать, как вздрагивает брюшной пресс. Стремительно растущее, требовательное нетерпение внизу живота возникало у нее с равной быстротой и от его прикосновений, и оттого, что она молча наблюдала за его лицом. Оксана видела, что Андрей хочет ее, хочет остро, мучительно. Черты его лица исказились, верхняя губа слегка приподнялась, обнажив кромку белых зубов, ноздри начали вздрагивать часто и судорожно. На скулах выступили пятна, казавшиеся сейчас, в сумерках, темными. Но Оксана знала, что на самом деле они красные, как румянец у чахоточного больного. Сколько раз она уже видела их во время дневных и утренних занятий любовью! Андрей дышал часто и тяжело, а она продолжала ласкать его там, внизу живота, пропуская между пальцами жесткие курчавые волоски и касаясь тыльной стороной ладони его бедер. Когда он сильно и нетерпеливо сжал ее ягодицы, подтягивая их на себя, Оксана коротко и нервно засмеялась:
— Подожди, подожди еще, не торопись! Тебе будет так хорошо, я обещаю!
— Ну иди скорее ко мне, маленькая, — простонал он, упрямо притягивая ее к себе и скользя вздрагивающей ладонью вверх, от изгиба бедра к груди с напряженным соском.
— Н-нет, нельзя, подожди, — выдохнула она, чувствуя, как всю ее заполняет внутри острое и пронзительное желание. Почему-то в эту секунду Оксане подумалось, что это желание, еще не удовлетворенное, еще зовущее, похоже на вкус барбарисовой карамельки. Эти кисленькие красные конфетки из детства тоже заставляли в каком-то мучительном удовольствии напрягаться мышцы рта и гортани, и казалось, что вкуснее их ничего нет на всем белом свете.
— Нельзя, — повторила она, — и убери руки. Просто не прикасайся ко мне, как будто рук у тебя нет, я все сделаю сама.
— Я так хочу тебя! — простонал Андрей, туда-сюда мотнув головой по подушке, но все-таки покорно убрал ладони с ее бедер. И она заскользила влажными горячими губами по его шее и груди, обводя языком и прикусывая соски с кружками волосков вокруг; гладила его живот и бедра, целовала его колени и пальцы на ногах. Ее руки обнимали его за плечи, затем спускались к талии и ягодицам. Она видела, как судорожно вздрагивают его лежащие на простыне пальцы.
Когда Оксана, широко расставив колени и помогая себе рукой, медленно опустилась на него сверху, Андрей только выдохнул:
— Ох, какая же ты все-таки!.. Как люблю тебя, Оксанка…
Лицо его, искаженное томительной судорогой нетерпения, казалось прекрасным. Даже в темноте было видно, как блестит взмокший от пота короткий «ежик» волос. И она снова подумала, что не встречала мужчины красивее и желаннее Андрея. Все в ней хотело его, тянулось к нему, и она, уже не сдерживая своих чувств, мучительно прогибаясь в спине, простонала:
— Люблю тебя, хочу тебя! Господи, как мне хорошо с тобой!
А потом Андрей, нарушив запрет, все-таки сжал сильно и требовательно ее бедра несколько раз, поднял и опустил над собой ее страстно и нетерпеливо зовущее тело. А потом встал вместе с ней, не выходя из нее, не отрываясь от нее ни на секунду, и, закинув ее ноги к себе на плечи, прислонил к стене. Оксана еще помнила, как терлись ее лопатки по старым обоям, как билось в лицо горячее, прерывистое дыхание Андрея. Но уже через минуту ей показалось, что ее щеки и ступни стали огромными и горячими, грудь сдавила немыслимая тяжесть, заставляющая ребра вжиматься куда-то внутрь, и неритмичные, сильные, нахлестывающиеся одна на другую судороги сотрясли ее тело. Там, внутри ее, еще все вздрагивало, но напряжение уже отпустило, и черты лица начали медленно разглаживаться, как распускающийся под утренним солнцем прозрачный зеленый лист. И только когда Андрей, осторожно подняв ее под мышки, переложил на диван, Оксана почувствовала, что в комнате до сих пор отвратительно и приторно пахнет лаком для волос «Вечерний»…
Теперь, утром, острота ощущений немного подзабылась, и только блестящее пятно на стене осталось маленьким интимным напоминанием.
— Я не верю тебе! — повторила Оксана. Андрей сидел в старомодном кресле с гобеленовой обивкой, широко расставив ноги и безвольно свесив руки с мягких, поблекших подлокотников. Рубашку, накинутую поверх спортивного трико, он не застегивал, и Оксане была видна его смуглая грудь с двумя коричневыми кружочками сосков, покрытая темными волосами, узкой полоской спускающимися к животу. Она вдруг подумала, что на руках у Андрея, наверное, было бы тепло и можно было бы прижаться замерзшей спиной к его горячему телу, обнять его за шею и прикусить зубами мочку уха, и…
— Почему это не веришь? — обиделся он. — Я уже почти договорился с главным врачом. Он сказал, что постарается на эти три дня дать мне отгулы. Плановых операций нет, а срочные найдется кому и без меня сделать… Все нормально, съездим в твой дом отдыха, в бассейне покупаемся, в сауне попаримся, и в теннис поиграем. Все-таки твой день рождения, и я обещал. С 10 по 12 октября 1995 года я принадлежу тебе безраздельно!.. О, классный пафос, правда?
— Все равно что-нибудь помешает, — Оксана упрямо покачала головой. — Я вот лежу и смотрю на твои ноги…
— А что ноги? — Андрей подтянул босую ступню по серому паласу ближе к креслу и с преувеличенным вниманием принялся рассматривать ее, шевеля пальцами.
— У тебя большой палец на ноге длиннее всех остальных. По народным приметам, это значит, что ты будешь в семье главным и жену будешь держать в ежовых рукавицах. А я смотрю и думаю: неужели ты сможешь держать меня в ежовых рукавицах? Неужели ты сможешь мной командовать? Да и вообще командовать хоть кем-то? Ты, конечно, очень талантливый, но в первую очередь честный и исполнительный врач. Тебе скажут: надо, Андрюха, — и ты, понурив голову, согласишься… Я вот просто чувствую, что десятого октября у твоего Гриценко найдутся какие-нибудь срочные дела, и его плановые аппендициты придется вырезать тебе. Так или нет?
— Не так, — Андрей улыбнулся. — Все уже решено. Да здравствует подмосковное Голицыно, бар с коктейлями, и люкс, запирающийся на ключ от несвоевременных визитов горничной!.. Иди сюда. — Он привстал с кресла и протянул ей навстречу руки. Оксана скатилась с дивана, поправила на бедре завернувшуюся кружевную оборку французских трусиков и прыгнула к нему на колени. Андрей коротко и ласково поцеловал ямочку между ее ключиц, потом пополз губами вверх по шее.
— Ай, щекотно! — рассмеялась она, запрокинув голову и глядя в высокий потолок, по-хорошему уже требующий новой побелки. В целом квартира у Андрея была довольно приличная: добротная, «сталинская», с двумя просторными комнатами и огромным холлом, но хороший ремонт ей бы не помешал. Оксана подумала, что теперь, когда они официально распишутся, надо будет начать откладывать деньги со своей работы в «Арбате» и все-таки браться за переклейку обоев и перепланировку ванной комнаты. В агентстве «Арбат», предоставляющем иностранным группам и туристам-одиночкам переводчиков, владеющих европейскими языками, платили, конечно, неплохо, но вот работы на всех числящихся в штате бывших студенток иняза часто не хватало. Последний раз Оксана работала аж в июле со старой француженкой, ностальгирующей по Родине своих предков. И с тех пор до сентября пусто. Конечно, она понимала, почему так происходит, почему не дают контрактов, хотя и английский, и французский у нее едва ли не лучшие в агентстве. Просто ушла в отпуск веселая и белозубая диспетчер Машенька, обычно подсовывавшая ей выгодные договора. Машенька не завидовала ее красоте, хотя сама на вид была довольно серенькой. Но она прекрасно понимала, что положительный отзыв клиента — большой плюс для фирмы. А вот уже полтора месяца сидящая на ее месте Вика Стропилина не без ехидства отвечала на Оксанины вопросы о работе:
— Нет, для тебя ничего нет. Клиент желает иметь дело со скромной, обаятельной деловой девушкой, умеющей вести себя тактично и не лезть на передний план.
Оставалось только кусать губу: спорить со Стропилиной было бесполезно, Машенька грозилась уйти в декрет, и кто знает, будет ли вообще работа, если эта мымра останется на ее месте. Она понимала, что Вика завидовала ее роскошным натурально-белым волосам, ее фигуре с тонкой талией и стройными округлыми бедрами, ее глазам, наконец, не требующим ежедневного накладывания килограммов туши…
— Слушай, — Оксана осторожно высвободилась из становившихся опасно жаркими объятий Андрея, — ты не будешь обижаться, если я займу немного денег у знакомых… Ну для поездки… Просто мне хочется, чтобы мы чувствовали себя там совершенно свободными и ничем не стесненными.
Он опустил голову, но она успела заметить, как на лицо его набежала серая, пугающая тень, и тут же поспешила смягчить ситуацию шуткой:
— Ну как «новые русские»: хочу пончик — пожалуйста, пончик, хочу колу — пожалуйста, колу, хочу…
— Оксана, — Андрей посмотрел на нее с укоризной, — неужели ты не чувствуешь, как меня обижаешь? Я — мужик, понимаешь, мужик! И должен, обязан обеспечивать семью. Я сам найду деньги, не твоя забота. Это твой день рождения, в конце концов!
Она молчала, понимая, что нечаянно сделала ему больно, и что оправдываться теперь глупо. Молчал и он, уже без прежней страсти и даже как-то равнодушно обнимая ее за талию. За окнами начинала потихоньку оживать улица, народ энергично стекался к метро и так же энергично из него выплескивался. В церкви зазвонили колокола.
— Понимаешь, — Андрей поднял голову и посмотрел ей прямо в глаза, — нужно потерпеть, совсем немного потерпеть. Скоро строители сдают новый корпус, клиника расширяется, говорят, будет новое оборудование и новые оклады… Ну не могу, не могу я оставить эту работу, я люблю ее, в конце концов!
— Да я вовсе не хочу, чтобы ты уходил из больницы! — Оксана порывисто прижалась к его плечу. — Это вовсе не важно, сколько у нас сейчас денег. Главное, они потом будут, ведь будут, правда? Я же понимаю, что тебе хочется делать мне дорогие подарки, водить по ресторанам и ночным клубам. Это все будет, а сейчас я могу подождать.
— Ах ты мой дорогой бриллиант, требующий роскошной оправы! — Он усмехнулся и собрал в пучок ее густые, мягкие волосы. — Все будет, я тебе обещаю. Только подожди, а?
Оксана виновато кивнула, сползла с его коленей на пол и счастливо пробормотала:
— Глупый, глупый Потемкин, конечно же, я подожду! Я так люблю тебя, просто ужас, — и, склонив голову к плечу, добавила: — Если бы ты только знал, Андрюшка, какой ты красивый…
— И умный! — голосом кота Матроскина подхватил он. — И еще на машинке крестиком вышивать умею…
В форточку потянуло совсем уже холодным северным ветром. Оксана посмотрела за окно: небо было скучным и пасмурным. Похоже, сентябрь к своему яркому пурпурно-золотому наряду решил добавить немного модного в этом сезоне серого цвета. Она поднялась с паласа и потянулась за лифчиком, висящим на подлокотнике дивана. Лифчик был ее любимый, греческий, с удобными чашечками и тоненькими бретельками. Оксана вдруг подумала, что скоро нужно будет покупать совсем особые бюстгальтеры. Один такой, с мягкими вкладышами для молока, она видела недавно в специализированной аптеке на Бауманской, но стоил он очень даже не слабо. Конечно, с аванса по любому договору таких можно было позволить себе «великое множество», но ведь еще нужен ремонт, хорошие, а не купленные по случаю коляска и кроватка. А пеленки, а чепчики, а распашонки? Тем более что оплачиваемый отпуск агентство ей явно не предоставит. Значит, нужно жить тем, что удастся заработать сейчас. Экономить на всем и откладывать на ребенка. Да, хорошо было бы, если бы сдача этого нового корпуса открыла для Андрея какие-то перспективы… Ну хоть какие-нибудь!
Потемкин подошел сзади и накинул на ее плечи длинный шелковый халат.
— Ты опять думала о малыше? — спросил он с особенно мягкой нежностью. — У тебя взгляд был такой чудесный, словно внутрь себя устремленный. Как будто ты о чем-то главном думала, о таком… ну не знаю, как сказать…
Оксане вдруг стало неловко из-за того, что она, как старая скупая старуха, озабочена деньгами. Неловко из-за того, что Андрей опять думает о ней лучше, чем она того заслуживала. И сквозь горячую волну стыда, подкатывающую к горлу, тоненьким ледяным лучиком прорезалась обида. «Да, я могла бы думать только о тебе и будущем малыше, я могла бы быть прекрасной и возвышенной, ходить в театры и концертные залы, рассуждать о модных книгах, если бы мне не нужно было придумывать, как угодить этой дуре Стропилиной, — мысленно рассуждала она. — Если бы мне не нужно было слушать ее дурацкие разговоры и молча пропускать мимо ушей всякие гадости в надежде на то, что она все-таки подкинет договорник. Потому что будет «договорник» — будут деньги, а не будет «договорника» — будет опять только этот расстеленный диван и бесплатные прогулки при луне в соседнем парке. А мне, между прочим, витамины нужно жрать в немереных количествах!»
— Да, я думала о малыше, — произнесла вслух, — а еще о нашей свадьбе. Регистрация через месяц, а мы еще не решили, где будем отмечать, кого пригласим.
Андрей подошел к ней вплотную и, скрестив руки на груди, внимательно посмотрел в лицо:
— Что случилось? Говори, что случилось! И не вздумай выкручиваться, я же чувствую, что у тебя голос стал какой-то не такой.
Глаза его были такими родными и такими озабоченными, что Оксана, не выдержав, вдруг расплакалась.
— Прости меня, Андрюшка, — всхлипывала она, пряча лицо в ладонях и одновременно пытаясь пальцем убрать из уголков глаз остатки вчерашней туши, — просто я в последнее время стала какой-то злой, ужасной, мерзкой! И все из-за этой жизни… Понимаешь, ты — хороший хирург, я — неплохой переводчик, а вынуждены влачить какое-то жалкое существование. Я рада бы не думать о деньгах, но я хочу просто всегда знать, что они есть. Я хочу потратить свою жизнь на то, чтобы любить тебя, радоваться тебе, быть с тобой, а не подсчитывать скрупулезно, сколько килограммов помидоров можно купить до зарплаты: два или полтора? По-моему, это так естественно! Почему же могут нормально, достойно жить только те, кто непосредственно занимается бизнесом? Почему их жены, унылые крыски с короткими ногами, одеваются от Прады и Сони Рикель, а мне нельзя? Я ведь тоже уже через десять лет буду старая!
Он прижал ее к себе и погладил по затылку, как испуганную девочку:
— Ничего, маленькая, все будет хорошо, поверь мне! Я сделаю так, что ты не будешь никому завидовать… А сейчас немедленно прекрати рыдать, тебе нельзя! И не забудь принять витамин Е в капсулах.
Через десять минут Оксана, уже умывшаяся, одетая и слегка подкрашенная, сидела на кухне. Андрей заваривал чай, время от времени озабоченно поглядывая на часы: до начала его дежурства в клинике оставалось всего минут сорок. А она смотрелась в маленькое круглое зеркальце на красной подставке. Наклоняя и поднимая голову, находила в нем отражение то своих высоких скул, то чуть припухших от недавнего плача и поцелуев губ и думала, что даже в этом простеньком горчичного цвета жакетике с золотыми пуговицами выглядит в тысячу раз лучше многих дам, неуклюже вываливающихся на Тверской из роскошных «Мерседесов».
* * *
Наташа Солодкина сегодня чуть не опоздала на работу. Поезд метро остановился между «Таганской» и «Китай-городом» и минут двадцать простоял, не двигаясь с места. Обрывки разговоров, как неровные куски цветного серпантина, повисли в воздухе, но быстро съежились и увяли. Напряженная тишина с силой надавила на барабанные перепонки и стекла вагона. Наташа еще раньше заметила, что после памятного взрыва бомбы в метро при малейшем сбое в движении лица пассажиров мгновенно становились исполненными тревоги. Недавно перед самой станцией с грохотом обвалилось на пол плохо закрепленное крайнее укороченное сиденье вместе с сидевшими на нем двумя парнями и толстой бабушкой. И тут же состояние, близкое к панике, среди пассажиров, в глазах одинаковое выражение: «Ну, вот и все!..» Но ничего особенного не произошло. Постепенно мужчины, один за другим, снова углубились в свои газеты, женщины — в дамские романы, а Наташа — в размышления о том, что сегодня непременно последует выволочка от старшей сестры. Начальству будет неинтересно выслушивать про злобную комендантшу общежития Лидию Егоровну, решившую провести инвентаризацию именно сегодня с утра, а не в какое-нибудь другое время. Начальству будет безразлично, что она, Наташа Солодкина, просто не могла уйти из комнаты, в отличие от двух ее соседок, и вынуждена была демонстрировать этой крысе Лидии наличие в сохранности штор, кроватей, тумбочек и стола. Девчонки успели «свалить» на занятия в медучилище, а ее прихватили. Получилось так, что она крайняя, а потому — заранее виноватая, потому что в большом и вечном долгу перед комендантшей, разрешающей ей за небольшую мзду в ее персональный карман проживать в общаге уже после окончания училища. Наташку бесила необходимость пресмыкаться, вечно фальшиво улыбаться улыбкой «китайского болванчика», но перспектива вернуться из Москвы в родной поселок Подлипки казалась такой страшной и такой реальной, что она послушно улыбалась, пресмыкалась и ждала, ждала…
В хирургическое отделение она вихрем ворвалась в начале десятого, подобно Золушке потеряв на лестнице, правда, не хрустальный башмачок, а серую осеннюю туфлю. Больные в полосатых пижамах и фланелевых халатах уже вовсю шастали по коридорам. И то правда, что им в палатах сидеть после завтрака-то? Скучно, уныло, однообразно, а так хоть какое-то подобие развлечения! Наташа тихой мышкой проскользнула мимо кабинета главного врача и толкнула дверь сестринской.
Естественно, все, кроме нее, уже давно были на месте. Жанна, сидя у холодильника, любовно укладывала колбасу на ломоть «Столичного» батона. Олеся у зеркала пинцетом выщипывала брови. На столе стоял укрытый стерильной салфеткой поднос с отработанными одноразовыми шприцами.
— Девочки, я не виновата, честное слово, не виновата! — с порога заявила Наташа, опускаясь на стул и пытаясь унять часто колотящееся сердце.
— Естественно! — меланхолично отозвалась Жанна. — Наверняка поезд в метро стоял, правда?.. А мне пришлось за тебя задницы колоть.
— Ой, спасибо, Жанночка! — Наташа принялась торопливо расстегивать холодные пуговицы на голубой джинсовой куртке. — Ты, наверное, будешь смеяться, но поезд метро, на самом деле, застрял между…
Договорить она не успела. Первой расхохоталась Олеся. Смеялась хрипло и громко, как раненая утка, закидывая голову назад, но почему-то ни смеха своего, ни лошадиной улыбки, при которой обнажались и зубы, и десны, совершенно не стеснялась. Жанна сдержанно захихикала, словно мудрая старушка, деликатно покачивая головой. Наташе было не впервой становиться объектом насмешек и веселья коллег по работе, поэтому, проглотив легкую обиду, она стала переодеваться. Да и в самом деле, на что ей было обижаться? Ей, «лимите», приехавшей в Москву из деревни, пусть подмосковной, но все-таки деревни, и теперь отчаянно цепляющейся за эту самую Москву зубами и всеми четырьмя конечностями, как мишка коала за ствол дерева? Она не любила этот город любовью старожила или восторженного поэта; что-то похожее на восхищение вызывал у нее только, пожалуй, район Чистых прудов с его чудесными особняками вдоль трамвайной линии. А Текстильщики Наташа вообще тихо ненавидела. Здесь ей не нравилось все, начиная с тянущихся вдоль второго этажа старых пятиэтажек толстых наружных труб газопровода и заканчивая местными олигофренами, сбивающимися в дикие и тупые стаи, и постоянно норовящими пролезть в общагу. Защищаться от них приходилось самим, потому что администрации очень скоро показалось нерентабельным вкладывать деньги в омоновца, дежурящего на вахте, а постоянной вахтерше, бабушке — божьему одуванчику, все было до лампочки. Правда, иногда, как в кино, неожиданно получался хеппи-энд. Одной девчонке со второго этажа как-то не удалось отбиться от чересчур ретивого кавалера. Говорили, что она кричала, звала на помощь, стучала кулаком в стену, но не в этом дело. Важно другое: что эта самая девчонка залетела. И в темпе сообразила что к чему. Сообщила об отцовстве своему новому знакомому, причем без угроз (я тебя посажу!), а доброжелательно, с оттенком легкой грусти. Слово за слово, встреча за встречей, короче, когда она была уже на пятом месяце, тот знакомый взял на ней и женился. Наташа с двумя подругами даже ходила потом к этой девчонке в гости. Она переселилась из общаги в квартиру родителей мужа, приличную, двухкомнатную, с семиметровой кухней. Но самое главное — они ее прописали!.. Сразу после этого приятного события еще одна дама из общежития загуляла с молодым, бритым и абсолютно тупым «аборигеном», членом все той же веселой «компашки». Но такой ценой прописка Наташе была не нужна…
— Нет, ну что вы смеетесь, я в самом деле между «Таганской» и «Китай-городом» минут двадцать торчала. А до этого еще тумбочки в комнате сдавала, — Наташа повесила джинсовую куртку в шкаф и стащила через голову водолазку. — Вы скажите лучше, начальство моего отсутствия не заметило?
— А начальству сегодня вообще не до тебя, — Жанна доела бутерброд и теперь куском марли смахивала крошки со стола. — В инфарктном отделении чепе, какая-то старушка «ласты подравняла». Так всех завотделениями, главврачей и старших сестер собрали и теперь дрючат по поводу воспитания персонала.
— Ничего не поняла!
— А что тут не понимать? У них буфетчица в столовой на бабку наорала, а та, инфарктница, естественно, сразу же схватилась за сердце — и на пол! Бросились внутривенные делать, электрошок, но уже поздно… Буфетчицу, конечно, уволили в два счета, а у нас, девочки, теперь начнется райская жизнь!
— Ну ты уж не драматизируй, ладно? — Олеся, задумчиво пошарив в карманах своего белого халата и, видимо, чего-то не найдя, полезла в ящик стола. — У нас-то совсем другая специфика.
— Начнется-начнется, вот увидишь! — замахала руками Жанна. — Ты теперь не сможешь сказать тому оперному певцу из четырнадцатой палаты, чтобы тебя за задницу не трогал. А то вдруг у него шов разойдется, или язва обратно прорежется на нервной почве? Будешь улыбаться, кивать головой и разворачиваться так, чтобы ему удобнее было.
— А мне потом никто за это не развернется по шее? — хохотнула Олеся. Жанна весело и понимающе прищурила глаза и вдруг обернулась к Наташе с видом взрослого, вспомнившего неожиданно о присутствии ребенка в комнате. Наташе хорошо был знаком этот взгляд, знала, что за ним последует, и поэтому сама с обиженным видом заявила:
— Ладно-ладно, можешь не смотреть на меня так выразительно. Сейчас пойду на пост лекарства раскладывать. Только вот закончу переодеваться.
— Мне-то что, оставайся, — пожала плечами Жанна. — Инъекции сделаны, перевязки — тоже, до процедур еще полчаса, сиди, отдыхай… Ох, блин, хорошо, однако, в метро сидеть по двадцать минут: приезжаешь — тут тебе все больные чистенькие, аккуратненькие, никаких волосатых задниц и гноящихся швов. Я, наверное, тоже, Наташка, в следующий раз так опоздаю!.. Да не обижайся, шучу я, шучу…
А она и не обижалась. Только думала, что правильнее будет все-таки уйти из сестринской с лотком и журналом назначений. Или, может, остаться, притворяясь «своей». Разговор все равно завянет, но, может быть, все же к ее присутствию начнут понемногу привыкать? Наташе Солодкиной недавно исполнилось девятнадцать лет, и она считала себя почти взрослой женщиной. Конечно, девчонки в отделении были постарше лет на пять-шесть. И все же она оставалась чужой с самого начала, когда после окончания медучилища пришла в их устоявшийся мир со своими взаимоотношениями, тайнами и интригами, чужой — после того нелепого случая…
Наташа тогда отработала всего неделю или полторы. До «опалы» было еще далеко, и она уже отдежурила на трех операциях. В тот день оперировал Вадим Анатольевич Гриценко, для всех остальных, кроме нее, просто рыжий Вадик. Он казался ей симпатичным и незаносчивым, и Наташа рассчитывала, что скоро тоже сможет обращаться к нему просто по имени, не ощущая при этом, как леденеет от неловкости язык. Операция длилась уже три часа. Из медсестер в бригаде работала Олеся, а Наташа в тот день оставалась на посту и разливала в пластмассовые мензурочки микстуры и настойки. Когда из операционной наконец первым вывалился анестезиолог, удовлетворенный и что-то негромко насвистывающий, половина мензурочек уже была наполнена.
— Ну как? — спросила Наташа, откупоривая очередную бутылку из темно-коричневого стекла.
— Все, что не нужно, отрезали, все, что нужно, пришили, — весело отозвался он. — Закончили уже, все нормально. Сейчас на каталку — и в палату.
Наташа улыбнулась, по-заячьи обнажив длинноватые передние зубы. Оперировали совсем молоденького мальчика с ножевым ранением, и ей очень хотелось, чтобы у него все было хорошо.
— Ох, красавица Наталья, какая же расчудесная у тебя улыбка! — погрозил пальцем анестезиолог, проходя мимо в своем зеленом колпаке и болтающейся на шее маске. — Того и гляди, влюблюсь!
Наташа смутилась, почувствовала, что краснеет, и, поставив на стол флакон с экстрактом валерианы, потянулась за журналом назначений. Не хватало еще, чтобы он заметил, как у нее дрожат руки, когда она отсчитывает количество капель в каждый пластмассовый стаканчик. Нет, анестезиолог совершенно не нравился ей как мужчина. Но было лестно и приятно до дрожи, что с ней шутят, как со своей, то, что она уже понемногу становится частью этого замечательного, так нравящегося ей коллектива. С какой-нибудь девчонкой из училища, пришедшей сюда на практические занятия, никто так шутить не станет! Здесь свой маленький и уютный мир, и в него не принято пускать посторонних.
Журнал назначений лежал на самом краю стола. Наташа потянулась к нему, не поднимаясь со стула, и неловко задела локтем открытый флакон. Бутылка проскользнула по оргстеклу, долю секунды пробалансировала на краю, а потом свалилась на пол. К счастью, не разбилась, ударившись о мягкий линолеум, но все содержимое разлилось: причем, половина на пол, а половина, еще в полете, на Наташин белый, накрахмаленный халатик.
— Н-да, — прокомментировал анестезиолог, разглядывая темно-коричневую пахучую лужу, — сюда бы моего кота… Ну ты, Солодкина, даешь! Это, конечно, не препарат группы А, но и валерьянку тоже жалко. Полный флакон, надо же!
— Половина, — пробормотала она, оправдываясь и кивая на мензурки, — я уже половину разлила.
Наташа принялась энергично вытирать халат стерильной салфеткой. Пятно, естественно, не поддавалось, но самым обидным было то, что ноги под халатом тоже стали липкими и пахнущими валерьянкой. Надо же было так опозориться!
— Ладно, не расстраивайся, — анестезиолог отечески похлопал ее по плечу. — Позови Дашу, пусть подотрет. — И, все так же насвистывая, удалился по коридору.
Наташа поднялась со стула, отодвинула лоток с лекарствами к стене и нащупала в кармане халата ключ от душевой для персонала. Душ постоянно закрывался и изнутри, и снаружи, потому что, как говорили медсестры, пациентам очень часто приспичивало купаться, а табличка «Только для персонала» ровным счетом ничего для них не значила. Сейчас мыться «приспичило» ей. Ну в самом деле, не ходить же весь день с липкими ляжками? Тем более что в душе сейчас Олеся, смывает пот после трехчасовой операции, но кабинки — две, всем места хватит.
Уборщица Даша мыла полы шваброй в конце коридора. В воздухе рядом с ней, казалось, витало облачко хлорки, и трудно было понять, как она не задыхалась. Наташа все время испытывала к ней, ходящей в желтых резиновых перчатках до локтя и стоптанных сабо, некое подобие жалости. Нет, конечно, всякий труд почетен, но ползать весь день с ведром и тряпкой — это уж извините! Тем более, что удовольствия от своего «почетного» труда Даша явно не получала и тыкала шваброй в плинтус с таким остервенением, словно хотела сломать или то, или другое. А сейчас еще придется просить ее подтирать валерьянку возле стола…
— Даша, у меня к тебе большая просьба, — Наташа постаралась придать своему голосу оттенок вежливой деликатности, но отнюдь не униженности, — я там пролила лекарство, вытри, пожалуйста, пока кто-нибудь из больных не поскользнулся.
— Ага, — машинально кивнула та маленькой круглой головой с крашеными волосами, собранными на затылке в куцый хвост, и вдруг замерла со шваброй в руке, словно оживший памятник. Наташа, уже вставила в замочную скважину душа свой ключ и не совсем уверенно переспросила:
— Что-нибудь не так? Я что-то не то сказала?
— Нет, — Даша выразительно показала глазами на душ. — Ты что, туда собираешься?
— Ну да. А что такого?
— Но ведь там Олеся. Операция только что закончилась, — уборщица странно выделяла слова, словно вдалбливала в глупенькую Наташину голову их скрытый смысл.
— Там две кабинки, не понимаю, что такого особенного? — Наташа решительно повернула ключ в замке. Загадочное выражение Дашиного лица уже начало ее раздражать. Что, в конце концов, за причуда говорить какими-то намеками и околичностями? Мы же не на светском рауте? Она уже здесь своя, даже анестезиолог сегодня сделал комплимент.
Наташа толкнула дверь и окунулась в жиденькое облако влажного пара. В кафельный пол с грохотом била вода, в трубах что-то жалобно попискивало. На металлическом крючке висела одежда, а на полу стояли тапочки: две пары! Вадим Анатольевич, которого она наивно собралась называть просто Вадиком, стоял под душем, отфыркиваясь от струй воды. Оказалось, что его плечи и спина густо усыпаны большими коричневыми веснушками. Вадим Анатольевич как-то странно покряхтывал и ритмично подавался вперед нижней частью тела. А талию его обвивали розовые женские ноги с удивительно чистыми, нежными пяточками. Почему-то Наташа сначала заметила именно эти пяточки, аккуратненькие, как у ребенка, без малейшего намека на старую, заскорузлую кожу. Голову Олеси с болезненно зажмуренными глазами и мокрыми, откинутыми со лба волосами, она увидела не сразу. Вадим Анатольевич почувствовал присутствие кого-то постороннего и развернулся к Наташе вместе с Олесей. Это его движение добило Наташу окончательно. У нее самой еще ни разу не было мужчины, но не потому, что она была убогой скромницей — просто почему-то пока не сложилось, не получалось. Но она знала, что, когда придет время, воспримет это совершенно нормально и естественно. Знала точно, определенно. И все-таки сейчас, тупо глядя на рыжего Вадима Анатольевича и похожую на мокрую ящерицу Олесю, она не чувствовала ничего, кроме тошноты. Чувство стыда пришло позже. Когда кто-то из них выдохнул «о!», Наташе стало стыдно за свою детскую глупость, за жуткую неловкость ситуации. Взрослые люди занимаются интимом, а она, как коза в чужой огород, вперлась в этот душ!
Наташа попятилась из душа, рукой нащупывая за спиной дверь, и в буквальном смысле вывалилась в коридор, проскользнув мокрой туфлей по свежевымытому линолеуму. Даша стояла возле самой двери, видимо, предвкушая развитие событий. И когда Наташа плюхнулась на пол, больно ударившись копчиком, уборщица назидательно произнесла:
— Ну что, Селедкина, получила?
Из сестринской выглянула уже собравшаяся домой Жанна.
— Что случилось? — спросила она недовольно, глядя на все еще сидящую на полу Наташу.
— Селедкиной помыться захотелось! — весело прокомментировала Даша.
— А! — отозвалась Жанна понимающим, но все же несколько обалдевшим тоном, и выразительно покрутила пальцем у виска. — Надо же! «Селедкина»! «Солодкина» — «Селедкина», интересно…
С тех пор прозвище к ней намертво пристало. Пару дней с Наташей опасались разговаривать, а потом Олеся, видимо, устав натыкаться на ее испуганный и вопросительный взгляд, выдала:
— Ну что ты все смотришь, что смотришь? С небес, что ли, свалилась? Никогда не видела, как люди трахаются?.. Ты что, из института благородных девиц или из медучилища? Или у тебя в общаге не рассказывали про особенности хирургического отделения?
— Про какие особенности? — пролепетала Наташа. Олеся от ярости начала медленно заливаться краской. А Жанна, более спокойная, тоном школьного педагога объяснила:
— Понимаешь, Селедкина, здесь тратится слишком много нервов, и чувства насилуются, ну, как в театре. Поэтому людям нужна разрядка… Каждый день видеть кишки и кровь, это не каждый выдержит…
И тогда Наташа задала роковой для себя вопрос, глупый и искренний, но, естественно, показавшийся ее коллегам ироничным:
— А жены хирургов об этой особенности отделения знают?
И все! Хотя после этого она уже узнала, что Жанна любовница врача Максима Карпова, а Олеся сделала от Вадима аборт, «своей» она все же не стала. Информация только вскользь протекала мимо ее ушей, но никто с ней не делился своими переживаниями и надеждами, считая ее то ли блаженной, то ли просто инфантильной и недоразвитой…
— …Оставайся и не прощайся! — фальшиво пропела Олеся, выудив из ящика стола пилочку для ногтей. — И в самом деле, чего тебе убегать куда-то? Мы сейчас еще Андрея твоего, Станиславовича, пообсуждаем…
— Кстати, ты в курсе, что язву двенадцатиперстной из десятой палаты Потемкин оперировать будет? — перебила Жанна.
— Ну и что? — Олеся вскинула на нее удивленные прозрачно-зеленые глаза. — Подумаешь, какое событие!
— Конечно, событие. Во-первых, там, под язвой, неизвестно, что, во-вторых, сердце слабое, наркоз максимум на два часа, а в-третьих, он какой-то близкий родственник шишки из Министерства здравоохранения!
— А, понятно… Главный назначил?
— А кто еще? Кстати, выходить с бригадой, наверное, мне придется… Ну ничего, Потемкин должен все нормально сделать. Помнишь, какой он вышел после того пробитого легкого с разорвавшейся аортой? Зеленый, с проваленными глазами, но довольный вот так!
— Ему, по-моему, вообще ни до чего, кроме работы, дела нет, — заметила Олеся, усаживаясь на стул и начиная энергично отделывать пилкой коротко постриженный круглый ноготь.
— Просто у него на тебя персонально не стоит, — Жанна усмехнулась ехидно и вызывающе. — И тебе, наверное, это досадно?
— Вот еще! Мне и Вадика хватает… Нет, Потемкин, конечно, кобель породистый, но Бог с ним, пусть гуляет на свободе!
Наташа стягивала плотно облегающие бедра джинсы и старалась не слушать. Не потому, что ей было неприятно слышать, как Андрея Станиславовича обсуждают другие женщины, не потому, что они обсуждают его примитивно, как самца. Ее скорее даже приятно волновала мысль, что он мужчина со всеми свойственными мужчинам желаниями. Наташе с каким-то холодком в животе часто представлялось, как он подходит к ней, обнимает, и это самое, твердое, напрягшееся, вжимается сильно и просяще в ее тело. Она не хотела слушать и тем более принимать участия в обсуждении Андрея, потому что наперед знала, что они скажут, стоит ей раскрыть рот: «А ты улыбнись ему позавлекательнее!», «А ты сядь ножка на ножку и коленочку оголи!», «А ты ворвись к нему в душ, тебе же не привыкать!.. Хи-хи-хи… Нет, в самом деле, возьми и зайди!» Она не могла не чувствовать, что над ней просто беззлобно шутят. Жанна и Олеся давали бы ей «бесплатные» советы, прекрасно зная, что ее шансы захомутать самого красивого врача клиники практически и теоретически равны нулю.
И угораздило же ее влюбиться в него! Все бы ничего, и даже глупейшая история с душем начала понемногу забываться, когда к ним в отделение пришел работать новый хирург Андрей Станиславович Потемкин. Все тетки на этаже тут же зашушукались: «Красивый какой! Черненький, синеглазый! На Болдуина похож!» А она как увидела его в первый раз, так и пропала… Он прошел мимо нее, высокий, широкоплечий, с чуть грустным взглядом и необычными, словно рассеченными бровями. Прошел, задев рукавом, и Наташка через свой и его халаты, через тонкий батист голубой блузки и, наверное, плотную ткань его рубашки, почувствовала, как что-то ее обожгло! Она втянула в себя воздух со свистом испорченного чайника, а он обернулся удивленно и спросил:
— Что-то случилось?
Тогда она впервые услышала его голос, глубокий и одновременно очень молодой, хотя, наверное, Андрею Станиславовичу было уже около тридцати. Ей захотелось слушать этот голос долго-долго, как песню на магнитофоне. На мгновение Наташе стало неприятно от того, что ее Андрея сравнили с Болдуином. Он ведь не «штампованный», не похожий ни на кого, удивительный, единственный! Потом она поняла, что ни у нее, ни у других теток из отделения просто не хватает слов, чтобы выразить то, что хочется сказать. Вот и приходят в голову торопливые сравнения с тем, что до этого дня, до появления Андрея, было олицетворением их мечтаний.
Но охи и ахи по поводу Потемкина с каждым днем становились все более тихими и скудными. Наташе это постепенное угасание интереса казалось удивительным. Сама она чувствовала его присутствие только больнее, острее. Глядя в зеркало на свое худенькое лицо со смещенными к вискам глазами и большими, как у зайца, передними зубами, она с отчаянием понимала, что шансов у нее действительно не много. А тут еще девчонки заметили, что при появлении Андрея она начинает метаться неуклюже и лихорадочно, и глаза ее блестят, как у молодой вороны. Короче, очень быстро все раскусили ее секрет. Все, кроме самого Потемкина.
А может быть, он просто не подавал виду? Во всяком случае, когда ее определили к нему в бригаду, Андрей только по-дружески улыбнулся и сказал, что очень рад. «Точно так же он обрадовался бы новой уборщице в подъезде или покрашенным бордюрам возле дома», — с минутной горечью подумала тогда Наташа, но очень скоро утешилась. Да и что могло значить это ее мимолетное огорчение по сравнению с тем, что она будет стоять рядом с ним в операционной, подавать ему скальпель и зажим, чувствовать его сдержанное, напряженное дыхание, видеть его глаза, действовать с ним в одной связке?! Она будет с ним единым целым! И она, в самом деле, хорошо отработала с десяток операций. А потом пришел тот день…
Оперировали пожилую женщину со сложной, двойной язвой. Отработали хорошо, но устали безумно. И уже в коридоре Андрей, едва успев снять с лица марлевую повязку, одной рукой обнял ее за плечи и прижал к себе.
— Молодец, Наташка! — сказал он весело и как-то беззаботно. — Хорошо мы с тобой сработались.
Она подняла голову и взглянула в его глаза. Они были синими и манящими, как живое, дышащее море…
С тех пор все начало валиться у Наташи из рук. Когда это касалось ее личных тюбиков с помадой, записных книжек и жетонов на метро, это никого особенно не волновало. Но когда она три раза подряд, пытаясь поймать его взгляд, грохнула на пол операционной стерильные инструменты, администрация призадумалась. В результате ей предложили сначала сходить в отпуск, а потом пару месяцев поработать дежурной сестрой на этаже. Наташа делала теперь в основном внутривенные инъекции и постоянно ощущала на себе чей-то взгляд. «Наблюдают, что ли, трясутся ли руки?» — думала она с тоской и ждала, ждала, когда же ее вернут в бригаду Андрея.
Она знала, что Потемкин не один. Эта его красавица Оксана появлялась несколько раз в хирургическом отделении. Правила, распространяющиеся на обычных посетителей, она просто игнорировала. Да и кто бы посмел сделать ей замечание? Она проходила мимо больных и персонала отрешенная, распространяя вокруг себя едва уловимый аромат дорогих духов. По крайней мере, Наташе казалось, что дорогих. Олеся, однажды принюхавшись, разочарованно и одновременно удовлетворенно заявила:
— Самый обычный «Турбуленс». Ничего особенного!.. Не переживай, Селедкина, тебе такие по карману.
Но ей не хотелось быть похожей на Оксану, ни капельки не хотелось. Поэтому свои темно-русые волосы она нарочно выкрасила в черный цвет, чтобы быть совсем уж другой. Передержала добротную велловскую краску, стала похожей на Жучку, ужасно расстроилась и долго плакала у себя в унылой общаговской комнате. А девчонки опять все поняли. И опять долго иронизировали по поводу того, что с новым цветом волос она, конечно, не похожа на Оксану, а раньше просто одно лицо…
И сейчас должно было начаться то же самое. Олеся почему-то считала шутки такого рода абсолютно безобидными. Наташа явственно представляла себе, как она повернется к ней и спросит: «Ну а как твои дела на личном фронте? Что господин Потемкин, не решил еще сменить объект ухаживаний? Нет? Что ж, действуй поактивнее. Давай, Наташка, не стесняйся!..»
— Ну а как твои дела? — спросила Оксана, внезапно переключая свое внимание на Наташку, уже вылезшую из одной штанины и снимающую капроновый носок. — Так-таки Андрей Станиславович и не обращает внимания? Хочешь, мы похлопочем, чтобы тебя в бригаду вернули? Скажем, что в вену лучше всех попадаешь, прямо как Робин Гуд! Ты, Наташка, учись действовать хитро, по-женски: и мужика охомутаешь, и из своей задрипанной общаги в московскую квартиру переберешься.
— Сама как-нибудь разберусь, — огрызнулась Наташа, пребывавшая сегодня не в духе и еще больше огорченная тем, что ее мысленный прогноз оправдался. А значит, все действительно движется по замкнутому кругу, ничего не меняется в отношении к ней других медсестер, а главное, Андрея. — И без советчиков тошно, — добавила она и рывком стянула с ноги второй носок.
В этот самый момент дверь сестринской распахнулась. Наташа еще продолжала стоять развернувшись к двери, в белых трикотажных трусиках, когда на пороге в растерянности замер Андрей Станиславович.
— Ой, извините, девочки, я не постучал! — выдавил он из себя после секундной паузы и быстро ретировался. Дверь мягко закрылась, а Наташа без сил опустилась на пол. Она не могла понять, как это случилось, а главное — почему так громко хохочут девки. Их смех наверняка слышал Андрей, стоящий в коридоре.
— Ой, не могу! — приговаривала Жанна. — Это надо же какая комедия!
— А мы-то, дуры, ее учим, как посмотреть, как сесть. Она и без нас вон как грамотно выступила! — подхватила Олеся.
И Наташа не могла понять, как объяснить им, что над этим нельзя смеяться, что это не школьные шуточки с мальчиком, нечаянно ворвавшимся в раздевалку для девочек, что тут совсем другое, про что нельзя говорить «грамотно выступила». Ей вдруг стало невыносимо стыдно и захотелось расплакаться. И она, уже с неизбежной ясностью осознавая, что останется на всю жизнь глупой недотепой, вламывающейся в предусмотрительно запертый душ в самый неподходящий момент, оголяющейся при мужике до ужасных, трикотажных трусов, быстро накинула халат, всунула ноги в белые кожаные сабо и с дрожащими в глазах слезами выскочила из сестринской.
* * *
В офисе «Арбата» было тихо и прохладно. Сентябрьское солнце, не греющее, а именно, пекущее, основательно нажарило сквозь шерстяной костюм Оксанины плечи и спину. Поэтому она облегченно вздохнула, когда, закрыв за собой тяжелую дубовую дверь с позолоченной ручкой, вошла наконец в помещение. За время ее почти двухнедельного отсутствия ничего здесь не изменилось. Так же спокойно, респектабельно, изысканно и безлюдно. В приоткрытую дверь кабинета она увидела, как девочка-референт в неизменной белой блузке и строгой юбке что-то печатает на компьютере. Пощелкивали клавиши, экран подмигивал голубыми искорками. Оксана, стараясь не шуметь, прошла дальше по серому в черную крапинку ковролину, после евроремонта аккуратно заправленному под плинтус. Ей не хотелось отмечать свое присутствие стуком каблуков в этом сонном царстве, и она уже пессимистически предполагала, что сегодня, наверное, уйдет с тем же, с чем и пришла, — то есть без работы! Нет людей, нет деловой суеты, значит, нет и контрактов.
В зале для посетителей работал кондиционер, поддерживающий постоянную температуру, оптимальную для изысканных белых калл в горшках на подоконнике. Вообще-то разводить в офисе нежные каллы вместо каких-нибудь банальных фикусов — это была Машина идея, с энтузиазмом поддержанная дирекцией. Еще бы, у конторы будет свое лицо, выделяющееся даже на фоне повального белодверно-золоторучечного евроремонта! Правда, за время отсутствия Маши каллы несколько пожухли, потому что Вике Стропилиной до них, по-видимому, не было никакого дела. Сама Стропилина сидела сегодня не за столом, а в глубоком белом кресле у окна. Вика читала «Игру в бисер», и выражение лица у нее при этом было такое, словно она хотела сама с собой поделиться обалденным восторгом: «Надо же, и это я читаю! Это я открыла такую книгу! Потом я смогу честно, без жульничества сказать: «Я ее читала»!» Оксана вдруг подумала, что у нее самой, наверное, была точно такая же физиономия, когда однажды в классе седьмом или восьмом она поняла, что может наизусть и без запинки произнести потрясающую фразу: «Семейство мотыльковых характеризуется полным отсутствием лестничных перфораций на всех фазах онтогенеза». Причем особый кайф ей доставляло тогда сознание того, что фраза была ее «личная», особенная, а не какая-нибудь банальная про «тенденции» и «индивидуумов».
Услышав звук ее шагов, мягко поглощающийся ковролином, Вика лишь на секунду приподняла голову и снова уткнулась в книгу. Причем на ее бесцветной, вылинявшей физиономии с безвкусно нарисованными глазами, бровями и ртом не отразилось ни радости, ни огорчения. «Ну все, — подумала Оксана, усаживаясь в соседнее кресло. — Сегодня работы, похоже, не будет… А с этой крысой хочешь не хочешь придется здороваться… Обидно, ведь она только и ждет, чтобы я расплылась в слащавой улыбке и залепетала что-нибудь про хорошую погоду». Стропилина продолжала читать, и солнце, пробивающееся сквозь жалюзи, пронизывало золотыми нитями ее оттопыренные уши. Честно говоря, золотым нитям в ее ушах было тесновато, потому что в прозрачных мочках мелкими червячками вились темные капилляры. Оксана неожиданно подумала, что Викины уши чем-то напоминают нос алкоголика, и от этого открытия на душе стало не так мерзко. Она, уже почти без усилий сдерживая злость, собралась поздороваться, когда белая дверь со сдержанно-поблескивающей табличкой «Директор» отворилась, и оттуда с очередным цветочным горшком в руках вышла Маша.
— Машка, Машенька, ты вернулась?! — Оксана легко поднялась из кресла и подбежала к ней.
— Да, — отозвалась та, придирчиво рассматривая цветочный горшок. — Как тебе кудрявая венгерская травка? Здорово, правда? Это сейчас она еще только-только взошла, а через пару недель такие побеги пустит!..
У венгерской травки действительно пока был совсем непрезентабельный вид. Круглые, зеленые, похожие на крошечные диванные подушки листики тонкими пальчиками черенков цеплялись за основной стебель, бледно-зеленый и худосочный. Всего таких стеблей из горшка торчало пять или шесть. Горшок до смешного напоминал голову лысеющего мужчины с жалкими остатками волос.
— Кстати, я очень тебе рада. И еще у меня для тебя есть хорошие новости, — точно таким же тоном добавила Маша. — Пойдем поговорим в комнату отдыха. Заодно и кофейку выпьем.
Оксана обернулась и с мстительной радостью заметила, как неизменно куцый хвост на голове Стропилиной обиженно мотнулся в сторону. Когда Вике что-то не нравилось, она обычно вот так нервно дергала шеей. Сейчас ей было обидно оттого, что двое разговаривающих в комнате слишком явно намекали на нежелательность продолжать разговор в ее присутствии и собирались уединиться. Впрочем, очень скоро она снова преисполнилась спокойного величия человека, читающего Германа Гессе и упивающегося сознанием этого факта…
Белый мулинексовский чайник закипел за пару минут. Маша достала из тумбочки две кофейные чашечки и новую, нераспечатанную банку «Нескафе».
— Так вот, подруга, — закинув ногу на ногу, она устроилась на плетеном стуле и чайной ложечкой принялась прорывать фольгу на банке, — контракты всегда были и никуда не девались. Я, когда вышла из отпуска, журнал просмотрела и ахнула: ни фига себе, думаю, Плетнева-то уже черт знает сколько времени не работает! Может быть, что случилось?.. А потом девки мне сказали, что ты несколько раз приходила, наверное, насчет договора. Ну тогда я сразу поняла, что это Стропилина постаралась… Вот знаешь, Бог — он все-таки все видит! Потому она и замуж никак сходить не может, раз такая стерва!
— Ну ты скажешь тоже: «замуж сходить»! Прямо как в туалет! — усмехнулась Оксана.
— А что? Некоторые, как в туалет, и ходят: фьють — и снова не замужем… Кстати, когда у тебя регистрация?
— Ой, уже через месяц, а еще ничего не готово, и денег нет, и проблем выше крыши…
Маша аккуратно, стараясь не просыпать на стол, положила в каждую чашку по ложечке кофе и тонкой струйкой принялась наливать кипяток. Оксана смотрела, как внутри чашечки вместе с ароматной темно-коричневой жидкостью поднимается легкая кремовая пенка, и думала почему-то о «фирменных» домашних тортах маминой соседки сверху Марии Григорьевны, а еще о том, что она такие торты печь не умеет, но к официальному началу семейной жизни надо бы подучиться.
— Странные вы какие-то! — задумчиво произнесла Маша, отхлебывая кофе и болтая ногой в легкой замшевой лодочке. — Вроде бы уже два года вместе живете и вдруг решаетесь пожениться, когда финансовое положение нестабильное да еще, как ты говоришь, проблемы. Ну пожили бы еще немного «во грехе», ничего бы не изменилось.
— Ну это как сказать! — Оксана тоже отпила кофе и с неудовольствием посмотрела на яркий след ее красной губной помады, оставшийся на полупрозрачном фарфоровом крае чашечки. — Скоро «грех»-то всем заметен будет. Вот мы и решили, как это говорится, спасти мое честное имя!
Некоторое время Маша растерянно молчала, и Оксана подумала, что ее глупейшее заявление может быть расценено как серьезное, но тут подруга наконец весело рассмеялась.
— Ну ты даешь, Плетнева! — Маша согнутым пальцем вытирала выступившие в уголках глаз слезинки. — Стыд, значит, прикрыть решили? Залетела, и под венец?
— Ага! Залетела. Позор-то какой, да?
— Это уж точно, позор! И откуда ты взялась такая безнравственная?
Оксана достала из сумочки салфетку и аккуратно промокнула губы:
— Нет, если серьезно, то это, конечно, не из-за ребенка. То есть, из-за ребенка, но… В общем, мы все равно бы поженились, но откладывать могли бы до бесконечности. А так повод нашелся… А что касается финансовых проблем, то они никуда не денутся. Одни кончатся, другие начнутся. По-моему, Потемкин никогда не будет нормально зарабатывать, он просто не ставит такую цель — добывать деньги. Нет, мне-то он, конечно, говорит, что семью обеспечит, чтобы я не волновалась, но… Понимаешь, Маша, может быть, он сам в это и верит, только я знаю его слишком хорошо. Он и за бесплатно готов своих старушек оперировать. Конечно же, долг врача, клятва Гиппократа! Я все понимаю…
— Ладно, — Маша мягко коснулась ее руки, — не заводись, Оксанка! Твой Потемкин — далеко не самый худший вариант, один у него недостаток — слишком красивый. Если бы ты не была такая же, я бы, наверное, не посоветовала тебе выходить за него. Как говорится, «красивый муж — общий муж». Но это я так, к слову… Самое смешное, что я собиралась тебя успокоить. Успокоила, называется! А вообще ты никого не слушай, живи счастливо и кушай фрукты. Тебе сейчас нервничать нельзя… Кстати, срок-то какой?
— Десять недель, мы уже большие, — Оксана тихо улыбнулась.
— Ох, большие!.. А мама-то знает?
— Знает! Уже и соску купила и какой-то мяч синий. Я ей говорю: «Мам, ну когда еще он с этим мячом играть сможет?» А она, естественно: «Вырастет, и не заметишь!»
— Вот это точно, — Маша покачала головой. — Вроде бы недавно Аринка совсем крошечная в кроватке лежала, а теперь я уже и забыла, как все это было. Так хочется твой животик потрогать, послушать там, как малыш шевелится.
— Ну, потрогай.
— Господи, да сейчас-то что еще там услышишь! Вот когда уже месяцев шесть будет, тогда интересно. Я помню, у меня платье было из тонкого бирюзового трикотажа, и когда Аринка внутри ножками дергала, по платью прямо волны шли, как по синему морю… Эх, сколько сейчас и специальных магазинов для беременных, и детского питания, и памперсов всяких, рожай — не хочу!
— Ну, да. И где бы еще денег на все это взять, чтобы не выбирать, какие памперсы подешевле, а просто пойти и купить те, которые нравятся, хоть французские, хоть американские.
Оксана чувствовала, как внутри ее глухой волной поднимается раздражение. Ну, почему, почему разговоры и о свадьбе, и о ребенке неминуемо сводятся к деньгам? Может быть, оттого, что она такая — приземленная, корыстная? Но почему плохо быть корыстной? Почему плохо стремиться иметь стильную одежду, красивые игрушки для ребенка? Почему стыдно даже думать об этом? Разве лучше приходить в «Детский мир» и сдавленным, пристыженным шепотом объяснять малышу, что игрушечную розовую пантеру ему не купить, потому что нет денег? Разве лучше видеть, как он плачет и тянет к витрине ручки? Почему стыдно иметь столько денег, сколько нужно, чтобы быть от них свободным?
Кофе остыл и почему-то начал горчить. Она с силой поставила чашку на прозрачный столик, остатки бурой жидкости плеснулись через край. Маша достала из тумбочки салфетку и принялась промокать лужицу. Смотреть на Оксану она избегала, видимо, понимая, что сама невольно стала причиной ее расстройства.
— Слушай! — Маша вдруг замерла с салфеткой в руке. — Какая же я дура, а? Я же о чем с тобой хотела поговорить, о хороших новостях! Заболтались, и все из головы вылетело… Для тебя есть работа, контракт на две недели. Я как раз собиралась тебе звонить!
— Спасибо, — Оксана сдержанно улыбнулась. Нельзя сказать, что новость поразила ее до глубины души. С того самого момента, когда Маша вышла из директорского кабинета со своей венгерской травкой, она почему-то не сомневалась, что работа будет. Тирания Стропилиной закончилась, значит, автоматически отпадет проблема денег на поездку в Голицыно и вообще денежная проблема, по крайней мере, на месяц.
— Ну так вот, — с энтузиазмом продолжила Маша. — Контракт, значит, на две недели. Клиент — англичанин, жаждущий пошляться по Москве и посмотреть достопримечательности. Специальной лексики не надо, ничего не надо. Броди с ним возле Мавзолея и болтай о погоде в России. В общем, работка — не бей лежачего… Но самое главное даже не это! Мы тут с девчонками подумали, что будет грандиозная хохма, если отдать этот контракт именно тебе.
— Это почему? — Оксана слегка приподняла одну бровь.
— Да потому что этого англичанина нужно видеть! Нет, нормальный мужик лет сорока, довольно привлекательный, но какой-то весь правильный, до мозга костей. Даже оправа очков у него не просто элегантная, а правильно-элегантная. И галстук, и носки, и трусы, наверное… Знаешь, какого переводчика он желал бы иметь? — Маша сделала строго-сосредоточенное лицо и, явно передразнивая скупую мимику англичанина, проговорила: — Женщину до сорока лет, хорошо владеющую языком, умную и приятную собеседницу, умеющую достойно держаться в обществе… Прикинь, какой портретик, а? Так и представляется старая крыса с ротиком куриной попкой и обязательно в строгом твидовом костюме! А теперь представь, какой будет эффект, когда он увидит тебя? Нет, ты не представляешь, потому что его не видела: такой преснятины у нас давно не было.
Реакция мужиков на Оксану до сих пор была интересна, пожалуй, только девчонкам из агентства. Сама она уже прошла и период радостной гордости, и эпоху усталости, почти ненависти к прилипающим к ней взглядам. Теперь все это не будило в Оксане почти никаких чувств, скорее воспринималось нормально, автоматически, как некий безвкусный, но полезный допинг, необходимый для нормального функционирования организма. Но огорчать так явно радующуюся и предвкушающую развлечение Машу не хотелось. По этой причине Оксана попыталась изобразить на лице подобие интереса. В конце концов, она шла сюда, почти не надеясь получить работу, а как только получила, впала, видите ли, в апатию.
— А вы не боитесь, что он заявит о своем неудовольствии из-за того, что агентство не выполнило его требования? — прищурилась она.
— Да ты что! В этом то и вся соль! Никаких его требований мы не нарушаем. Ну посуди сама: тебе нет сорока лет? Языком владеешь? В обществе с умным видом держаться умеешь?.. Что, собственно, он и просил!.. Ну как, соглашаешься?
— А почему бы и нет? — Оксана улыбнулась. — Двухнедельные контракты с пожилыми английскими девственниками, впавшими в туристический маразм, на дороге не валяются.
— Значит, завтра будь здесь в десять утра, как штык. Зовут твоего клиента Томас Клертон. Приятного вам времяпрепровождения!
Маша проводила Оксану до выхода. В холле все еще сидела унылая белобрысая Стропилина, тщетно силящаяся нарисовать на своем лице некое подобие отрешенности. Похоже, Гессе шел тяжело. За все время их разговора она не прочитала и пяти страниц…
* * *
— Ох, Андрей Станиславович, как вы нравитесь мне в белом халате и с авторучкой в кармане! — худенькая старушка, занимающая всего лишь на треть больничную койку, кокетливо улыбнулась тонкими темными губами. — Такой симпатичный мужчина! А как наденете эту свою зеленую униформу с этими… как их там… бахилами — так просто страх один!
Сегодня Аглая Михайловна выглядела довольно прилично и плюс ко всему прочему шутила. Хотя это как раз не показатель. Она шутила, когда ее положили на операционный стол с прободной язвой, вплоть до того самого момента, как подействовал наркоз. Заходящее солнце окрасило белую больничную наволочку в розовый и почему-то сиреневый тона.
— Ну, Аглая Михайловна, теперь я всегда буду приходить к вам только в халате, — Андрей присел на краешек стула и, взяв невесомую старческую руку, нащупал пульс. — Надеюсь, моей зеленой униформы с бахилами вы больше не увидите. Швы заживают хорошо, анализы удовлетворительные, так что…
— Так что скоро мы с вами расстанемся? — с ноткой капризной обиды в голосе подхватила старушка. — Ах, как жаль! Вы мне очень нравитесь, Андрей Станиславович. Вы милый, симпатичный мальчик. И мне будет очень не хватать общения с вами.
— И мне тоже, — ответил он почти искренне.
Нет, Андрей, конечно, не думал всерьез, что будет скучать после выписки этой старушки. Но из всех женщин, лежащих на данный момент в девятой палате, она, определенно, нравилась ему больше остальных. Койку у окна занимала дама лет пятидесяти с огромным бюстом и выпуклыми глазами. И этими самыми глазами она постоянно буравила его игриво и плотоядно. Рядом стояла кровать молоденькой пятнадцатилетней девушки, которую собственный отчим ударил ножом. Девчонка ругалась трехэтажным матом, причем в основном поминала мать и младшую сестру, «не дающую ей жить». На их фоне мягкое, шутливое кокетство престарелой Аглаи Михайловны выглядело очень выгодно. Плохо было то, что добрая и интеллигентная бабуля совершенно не могла за себя постоять. Как-то раз, то ли через неделю, то ли через десять дней после операции, когда она была еще очень слаба, ей срочно понадобилось судно. Старушка позвала няню, та сделала вид, что не слышит. Она позвала еще раз. Но у той, видно, не было настроения выносить человеческие отходы в тот момент, когда в вестибюле по телевизору показывали «Богатые тоже плачут». Просунув в дверь свою толстую, лоснящуюся харю, она спокойно заявила:
— Ничего, чай не обделаешься!
Аглая Михайловна заплакала, а соседки по палате сделали вид, что ничего не происходит. Все эти подробности Андрей узнал уже потом. В тот день он просто увидел выносящую судно медсестру Наташу, а потом, буквально через пять минут, услышал ее яростный, свистящий шепот, доносящийся из процедурного кабинета.
— В следующий раз я тебя убью, — мрачно предупреждала кого-то Наташа. — Если я хоть раз замечу, что ты, сука, обижаешь эту бабушку или кого-нибудь еще из пациентов, я тебя просто убью. Тебе трудно было задницу оторвать от стула, да? Она до сих пор лежит и плачет. Или ты, стерва, немедленно идешь извиняться, или я накапаю на тебя начальству.
Он тогда очень удивился. Эта девочка с прямой темной челкой, слегка подтянутыми кверху у висков глазами сфинкса и смешными заячьими зубами, всегда казалась ему какой-то затюканной и отчужденной. Потом он вспомнил, что она, кажется, живет в общаге. А общаговский дух, определяющий умение постоять за себя, неистребим в человеке. Он может до поры, до времени спать, как ленивый вирус, а потом в один прекрасный момент выплеснуться и ударить с силой стремительно развернувшейся пружины… Наташа замолчала, в ответ ей раздалось какое-то невнятное бормотание, а потом из процедурной выкатилась толстая санитарка с пунцовым лицом и злыми глазами. Андрей дождался, пока выйдет Наташа, и с деланным равнодушием спросил, почему она выносит судно, вроде бы это дело неквалифицированного персонала.
— Санитарка просто попросила меня помочь. У нее было очень много дел, и я не видела причин ей отказывать, — сказала она и покраснела оттого, что была вынуждена соврать.
Опуская сухонькую руку Аглаи Михайловны на одеяло, Андрей подумал, что надо бы попросить кого-нибудь из сестер сделать ей стекловидное тело пораньше. Можно эту Наташу, а можно и Олесю. У Олеси, по крайне мере, руки не дрожат… Подумал и тихонько усмехнулся. Если бы еще три года назад кто-нибудь сказал ему, что всех, кроме одной, женщин он будет рассматривать исключительно с позиции их профессиональных и человеческих качеств, он бы не поверил. А теперь есть Оксана, и больше нет никого. В кармане куртки лежат аванс и премия, слава Богу, сегодня наконец-то выдали. И можно, нет, даже нужно будет обязательно повести Ксюшу в какой-нибудь ресторан в ближайший же свободный вечер. Кстати, почему не сегодня?
Оксана ждала его дома и, как ни странно, в приподнятом настроении. Она выбежала навстречу ему из спальни с книжкой в руке, спотыкаясь и на ходу пытаясь подцепить левой ногой упорно слетающий тапок. На ней были узенькие черные брючки и блуза навыпуск с яркими и разбросанными в авангардном беспорядке красно-черными квадратами. Наконец Оксана попала ногой в тапок и тут же разогналась по паркету, как заправский фигурист. Лихо проскользнув метр или полтора по полу, она с размаху ткнулась носом в его плечо и обвила шею горячими ласковыми руками. И он с какой-то щенячьей, пронзительной радостью мгновенно окунулся с головой в запах ее духов, в тепло ее тела, в ее дыхание, щекочущее где-то под мышкой. Андрей неожиданно подумал, что не сможет любить ребенка сильнее, чем Оксану. Наверное, это грех — любить женщину так, чтобы физически, а не образно чувствовать себя продолжением ее тела, ее души.
Она наконец подняла свое безукоризненно прекрасное лицо и посмотрела почему-то на его рассеченную левую бровь. Андрей тихонько улыбнулся. Синие Оксанкины глаза, оттого что она стояла слишком близко, несколько были скошены и напряженно моргнули. И ему вдруг так понравилось это ее временное, секундное косоглазие, превратившее его Прекрасную Даму в реальную земную женщину с милыми, смешными недостатками. Ему нравилась ее коричневая выпуклая родинка под грудью, ее неумение и нежелание гладить рубашки. («Я боюсь утюга, — заявила как-то Оксанка, — поэтому он меня не слушается и не любит. Я вообще боюсь всего, что связано с техникой!» «То есть и стиральной машины, и газовой плиты, и пылесоса?» — с наигранной печалью констатировал он.) Она провела пальцем по его брови, пригладив волоски, и задумчиво произнесла:
— Знаешь, наверное, мне надо было в голос поплакать, чтобы в небесной канцелярии услышали и внесли в свои планы какие-то коррективы. Сегодня в «Арбате» мне предложили двухнедельный контракт — прогулки по Москве с престарелым англичанином Томасом Клертоном. Так что мы, кажется, вырываемся из замкнутого круга. Машка вернулась на работу, пока будет подкидывать мне договоры, а там, глядишь, и твой новый корпус откроют… Давай сегодня по этому поводу устроим маленький домашний праздник?
— He-а, не домашний. Ты еще только будешь богатой в перспективе, а я — Рокфеллер уже сегодня. Поэтому мы с тобой пойдем в ресторан, будем танцевать, есть деликатесы и пить настоящее, хорошее вино…
Оксана хотела в «Репортер» на Гоголевском бульваре. Кто-то там ужинал из ее знакомых (кажется, все та же Маша из агентства) и потом отзывался в самых восторженных выражениях. А ему самому, честно говоря, было все равно, и какая будет кухня — испанская, китайская, грузинская, не особенно волновало. Ксюша уже металась по квартире, таская за собой от шифоньера до зеркала то одну, то другую тряпку, а Андрей все еще чувствовал ее близость, тепло ее тела и даже частые, словно голубиные, удары сердечка. Ему хотелось прикоснуться к ней, прижать к себе и еще раз почувствовать на своем плече легкое дыхание. Но он остался сидеть в коридоре на тумбочке для обуви и довольствовался тем, что наблюдал в маленьком зеркальце напротив периодически вспыхивающий, мгновенный блеск ее сережек.
Наконец процесс сборов успешно завершился, они взяли такси и доехали до Гоголевского бульвара. Оксана была чудо как хороша в новом шелковом платье, пестрой косыночке, с изысканной небрежностью повязанной вокруг шеи, и туфлях с маленькими золотистыми пряжками. По поводу цвета этого платья у них уже несколько раз возникали споры. Когда Андрей говорил: «Надень это свое, сиреневое», она возражала: «Оно не сиреневое, а цвета фуксии. Неужели так трудно запомнить?» «Нетрудно», — покорно соглашался Андрей и в следующий раз из вредности называл его «платьем цвета фикуса». Оксана утверждала, что при этом он сопел, как рассерженный, насупившийся ежик. Она часто звала его ежиком и любила при этом проводить ладонью по коротко остриженным, немного колючим волосам. Сейчас она шла в платье «цвета фикуса» по холлу, и казалось, что не только люди, но и сами зеркала любуются ею.
Им достался столик рядом с наклонной белой решеточкой, увитой по-итальянски плющом.
— Здорово здесь, правда? — прошептала Оксанка, опасаясь со слишком откровенным любопытством разглядывать интерьер.
— Здорово, — согласился Андрей.
Ему и в самом деле нравились эти бежевые стены с прекрасными фотографиями в строгих коричневых рамках, нравилась безупречная белизна крахмальной скатерти и букет каких-то необычных, перламутрово-розовых хризантем в изысканной белой вазе. Нравился блеск столового серебра, нравились даже салфетки, свернутые не традиционным конусом, а причудливой трубочкой, напоминающей юный, нераспустившийся бутон чайной розы. И на минуту стало грустно от слишком откровенного по-детски восхищения Оксаны. Она, как никто другой, заслуживала того, чтобы относиться к этой благородной роскоши естественно, принимая ее как должное, не с напускным, конечно, и пресыщенным равнодушием, но и без этого завороженного рождественского блеска в глазах. «Новый корпус, новый корпус! — подумал Андрей с минутным раздражением. — Когда он еще будет, этот новый корпус? И точно ли что-то изменится после того, как его построят? Почему у нас недостаточно быть просто хорошим врачом, чтобы обеспечивать достойное существование своей семье?» В этот момент Оксана легонько тронула его под столом носком туфли, он взглянул в ее сияющие глаза, окунулся в тепло улыбки и почувствовал себя старым, скучным, уставшим за день брюзгой.
И салат по-гречески, и медальоны из телятины в кисло-сладком соусе оказались просто великолепными. Они слушали струнный квартет, неторопливо и задумчиво наигрывающий незнакомую мелодию, пронизанную легкой, прозрачной грустью. Пили восхитительное прозрачное «Шато Цитрон», пахнущее солнцем и свежестью. И почему-то никак не шла из головы огромная бочка с краником, увитая виноградными гроздьями и установленная у входа в винный «погреб», и казалось, что все это настоящее: и бочка, и солнце, играющее в хрустальном фужере на длинной тонкой ножке. А еще казалось, что держишь во рту сияющую прохладную виноградинку, медленно-медленно сочащуюся искристым соком.
— Я люблю тебя, — сказала вдруг Оксана и улыбнулась одними глазами. — И кажется, буду любить всю жизнь… Мне от этого даже страшно.
Сказала и как будто уронила прозрачную виноградинку в бесконечность, в черную дыру. Ему тоже стало страшно. Страшно оттого, что все это рано или поздно кончится, что в какой-то, может быть, прекрасный, даже чудесный день их просто не станет на земле. Именно в один и тот же день, как у Грина. И кто знает, что ждет их там, по ту сторону?..
— Я люблю тебя, — произнес Андрей странным хриплым голосом, отодвигая в сторону фужер и сильно сжимая в своей ладони ее кисть. — Я так сильно тебя люблю…
Когда официант принес десерт, из-за столика возле стены встала невысокая женщина с тщательно уложенной прической и направилась к ним. Ее спутник, пожилой, тучный и, как ни странно, по-ангельски кудрявый, проводил ее тяжелым, смурным взглядом. И только когда женщина, некрасиво покачивая бедрами, подошла совсем близко, Андрей узнал ее. Это была Алка, конечно же, Алка! Добрая институтская подружка с факультета педиатрии. Впрочем, был один случай, несколько омрачивший их безмятежное студенческое братство, но о нем сейчас вспоминать не хотелось.
— Ксюша, знакомься, это Алка, — сказал он, поднимаясь из-за стола и отодвигая свободный стул. — Алла, это Оксана — моя жена… Ну почти жена.
Оксана взглянула на нее с вежливым интересом, но и только. А может быть, еще и с некоторым сожалением. Алла действительно внешне ничего из себя не представляла, особенно по сравнению с ней, феей, королевой. Усталые и набрякшие веки прикрывали когда-то красивые глаза, лицо выглядело осунувшимся. Зато искусственный румянец на щеках хранил свою первозданную, безупречно-симметричную форму. Алла принялась ностальгически вспоминать никому не интересную историю про какую-то пьянку в студенческом общежитии. Оксана обреченно кивала, а Андрей начал злиться. Нет, ей-Богу, он относился к Алке очень хорошо, но сейчас он чувствовал себя так, будто навязчивый телефонный звонок в самый ответственный момент вытащил его из постели. Он сидел, уставившись в пол, и рассматривал носок Алкиной лакированной туфли. Рядом с шелковой нитяной строчкой красовалось золотое сердечко с хвостиком, какое рисуют на пиковых тузах. Наверное, носок был узковат, потому что сквозь тонкие капроновые колготки бугристо выступали синие вены. Андрей подумал, что, наверное, ей тоже много приходится быть на ногах, значит, работа скорее всего не кабинетная.
— А я сейчас работаю в стационаре, — неожиданно призналась Алка и улыбнулась, словно прочитала его мысли. — Предлагали место в поликлинике, но там и платят меньше, и работа неинтересная. Я ведь по микропедиатрии специализировалась… Хотела пойти в Центр семьи и брака, но потом передумала и не жалею… Половину наших ребят я потеряла из виду, в том числе и тебя. А помнишь, как после госэкзаменов мы все чуть ли не на крови клялись, что будем поддерживать отношения?
Андрей вяло кивнул. Меньше всего ему хотелось сейчас беседовать про студенческие годы, что-то вспоминать, но после того, как он увидел Алку, всплыло неприятное воспоминание… В маленькой общаговской комнате многолюдно, дымно, пахнет пролитым дешевым вином. Алка, уже совсем пьяная, безвольным мешком висит у него на шее. Потом ей делается плохо. Он поднимается с кровати вместе с ней и тащит ее в умывальник. Покрашенная зеленой краской стена туалета качается перед глазами. Алка никак не хочет укладываться спать на нижний этаж двухъярусной кровати-«вертолета». Она, словно неваляшка, упрямо поднимается и снова виснет у него на шее. Глаза у нее огромные и сладкие, как мед, губы жаркие и жадные. Он чувствует ее руку, расстегивающую его ширинку, и мгновенное, острое желание пронзает его до самых кончиков пальцев. Алка прижимается к нему и целует в шею. Он понимает, что не стоит поддаваться — они только друзья, не больше, и она к тому же пьяная. А «вертолет» раскачивается перед глазами, и ему хочется все сильнее, а рука ее такая умелая…
— Все, хватит, я больше не могу терпеть, — говорит Андрей.
— Ну и не надо, — отвечает Алка, — падая спиной на кровать и увлекая его за собой…
Наутро она выглядела больной, с отекшим лицом, с размазанной под глазами тушью. И он испытал неожиданное облегчение, когда она вдруг сказала:
— Знаешь, ни тебя, ни меня эта ночь ни к чему не обязывает, договорились?
— Договорились, — согласился Андрей, преисполненный благодарности за эти ее слова. Обычно женщины, наоборот, стремились быть ему обязанными, нужными, необходимыми. А вот Алка не захотела. Да и, конечно, зачем ей это? Она умная, сильная, нацеленная на карьеру. Был период, когда он видел, что нравится ей, наверное, даже очень, но все, слава Богу, давно прошло…
А сейчас она сидит рядом, чертит пальцем на белой скатерти непонятные узоры и как ни в чем не бывало говорит о том вечере, после которого он якобы стал звать ее Алкой. Что Андрею всегда не нравилось в бывших любовницах, так это ужасная манера в любой компании пытаться протянуть хлипкую нить интимности, якобы заметную только им двоим. Мол, ты-то помнишь чудные ночи, которые нас с тобой связывали? Он ничего не хотел вспоминать. Ему хотелось смотреть в Оксанины синие глаза, гладить подушечкой большого пальца ее гладкие, ровные ногти, вдыхать ее запах. А с Алкой он с удовольствием поговорил бы в другой раз, тем более что ее мужик за соседним столиком явно начинает нервничать.
— Ты что, с мужем пришла? — вдруг спросил Андрей с бестактной прямотой.
— Нет, с коллегой по работе, — ответила она и усмехнулась. — Я не замужем. Все работа да работа. Так и останусь на всю жизнь старой девой.
— Ой, Алка, не кокетничай, — он покачал головой, — ты и в институте не больно замуж стремилась, и теперь, наверное. Все, кто хотел, уже давно семьями пообзавелись. Значит, тебе просто было это не нужно. По-моему, за тобой ухаживали очень даже многие.
— Было дело, — согласилась Алка и, как пианист по клавиатуре, побарабанила своими короткими крепкими пальцами по краю стола. — Ну мне, пожалуй, пора. Тебя, Андрюшка, и вас, Оксана, заранее поздравляю с предстоящей свадьбой. Бог знает, сколько лет еще не увидимся… Счастья вам, здоровья, любви. Естественно, детишек. Как педиатр, я просто не могу вам этого не пожелать. Ну всего доброго!
Она встала и пошла обратно к своему толстому мужику, покачивая довольно стройными бедрами.
— Это на самом деле твоя однокурсница? — спросила Оксана, пригубив вино.
Андрей молча кивнул.
— Сколько же ей лет?
— Она моя ровесница. Как поступили все вместе после школы, так и доучились до ординатуры.
Оксана покрутила в пальцах ножку фужера, задумчиво посмотрела на плещущееся в хрустальной чаше янтарное вино и с какой-то жалостью сказала:
— А выглядит так, будто ей уже под сорок. Хотя, может быть, она просто несчастная…
— Слушай, может быть, не будем сегодня больше говорить об Алле? — Андрей под столом прижал свою ногу к ее бедру. — Я хочу говорить только о тебе, думать только о тебе, я хочу погладить твои колени…
Оксана засмеялась коротко и озорно:
— Знаешь, у тебя такой вид, что притворяться бесполезно. Из всей своей тирады оставь только «я хочу», и будет честно. Я не права?
— Права, — признался он, чувствуя, как тепло ее ноги медленно и томительно перетекает в него снизу вверх.
— А ты не думаешь, что это будет вредно маленькому. И вино, и кое-что еще?
— А мы тихонечко, — рассмеялся Андрей в ответ. — Тихонечко-тихонечко.
— Как вчера?
— Да, — сказал он и подозвал официанта, чтобы рассчитаться.
* * *
Томас Клертон запаздывал. Оксана сидела в холле неподалеку от Маши и просматривала последний номер «Космополитена». Болтать Маше было некогда, она заполняла какой-то журнал и только рассерженно махала рукой на попытки ее отвлечь. Зато перед глазами, как маятник Фуко, болталась туда-сюда Стропилина. Видимо, ей было просто нечем заняться. Она то выходила покурить, то отправлялась в комнату отдыха за чайником. Ее очередная книжка, на этот раз детектив в камуфляжно-зеленой обложке, сиротливо валялась в кресле. На последней страничке журнала была помещена реклама эпилятора «Браун-силк-эпил-комфорт». Оказывается, его можно купить в Петровском пассаже, ГУМе, ЦУМе и на Тверской, 17. Оксана перевела взгляд на свои ноги, упакованные в новые, матово поблескивающие колготки с лайкрой. В этот самый момент послышался легкий щелчок, извещающий о том, что охранник нажал на кнопочку, автоматически открывающую дверь кому-то из посетителей. Маша, оставив свой журнал, поднялась со своего вертящегося стула и выглянула в коридор. Когда она затем повернулась к Оксане, выражение ее лица было и радостным, и каким-то заговорщицким.
— Мой клиент? — тихонько спросила Оксана.
Маша энергично закивала.
Раздались мягкие, приглушенные ковролином шаги. Оксана отложила «Космополитен», поправила ворот блузки и улыбнулась. В бывшем дверном проеме, а ныне изысканной арке появился мужчина. На вид ему действительно было около сорока или чуть больше. Он выглядел довольно полным, казалось, что на его достаточно крепкую фигуру налепили тонкий слой жирка. Цвет глаз, прячущихся под очками, разглядеть было сложно, потому что на стеклах, как и на его высоких залысинах, весело прыгали солнечные зайчики. Мужчина подошел к Маше и по-английски мягко извинился за небольшое опоздание. Та проворковала в ответ что-то безупречно-вежливое, а затем показала рукой на Оксану, уже поднявшуюся с кресла. Оксана двинулась навстречу англичанину, а из-за его спины успела вынырнуть Маша, которой ужасно хотелось увидеть воочию реакцию иностранца на русскую красотку. Что касается Стропилиной, то она тоже маячила на горизонте со своим чайником.
Том Клертон остановился и устремил на Оксану жалкий и одновременно умудренно-грустный взгляд ребенка, который знает, что у него вот-вот отнимут красивую и любимую игрушку. Он не косился в растерянности на диспетчера, подсунувшего ему что-то совсем не соответствующее его требованиям. Нет, он не пускал восторженных слюней стареющего сластолюбца, а внимательно рассматривал Оксану. На какую-то долю секунды ей даже стало неловко за свою слишком уж откровенно подчеркивающую фигуру юбку, за лиловые, явно вечерние, туфли с тремя крошечными стразами у самого подъема. На мгновение подумалось, что в самом деле лучше было надеть старый строгий костюм. Но потом она представила себя в жакете и юбке с прямой шлицей, представила свои роскошные волосы, обреченно лежащие на буклированных плечах с мощными подплечиками, шею, упрятанную под строгим, жестким воротником белой блузки, и решила, что сегодняшний туалет был выбран ею правильно.
— Разрешите представить вашего гида-переводчика Оксану Плетневу, — пропела Маша, уже успевшая встать перед клиентом. — Оксана, это Томас Клертон, наш гость из Великобритании, желающий, чтобы вы просто показали ему Москву, погуляли с ним по улицам, осмотрели достопримечательности…
— Что значит, «просто»? — улыбаясь, спросила Оксана.
— Просто, это значит, пешком, — в ответ улыбнулся англичанин и смущенно добавил: — Если это возможно, конечно…
Она искренне пожалела о том, что не надела удобные и мягкие осенние туфельки с кожаными ремешочками, когда они, отмахав не один километр, спустились в подземный переход возле Ленинки. Здесь было темно и немножко жутко от висящих под стеклом на темных стенах сиреневых афиш Кремлевского балета. Почему-то казалось, что это висят заверенные высочайшей рукой приговоры. А в том, что она с сегодняшнего дня приговорена к вечным мукам, Оксана не сомневалась ни капли. Ноги буквально отнимались. Узкие туфли не то чтобы натерли, а просто сдавили «испанским сапожком» пальцы и суставы. К тому же здесь было скользко. Стараясь не потерять равновесие, она бодро вышагивала рядом с Томасом и рассказывала, какой замечательный балет «Золушка» и какие там красочные костюмы, чуть ли не от Нины Риччи. Показать, что ей больно и неудобно, никак было нельзя. Это значило поставить клиента в неудобное положение. К счастью, он, чудаковатый и странный турист, решивший ни с того ни с сего посетить Москву и просто так пошляться по улицам, ничего не замечал. Томас передвигался немного по-пингвиньи, переваливаясь с боку на бок. Он был чуть-чуть повыше Оксаны, и они не выглядели смешно. Впрочем, как раз это ей было безразлично, она просто добросовестно и честно делала свою работу. Милиционер в серой форме, слоняющийся возле подземных коммерческих киосков, проводил их странным взглядом, но останавливать не стал. И они благополучно влились в толпу людей, поднимающихся наверх возле касс Кремлевского дворца.
Оксана думала о том, что баранье рагу на вечер еще сгодится, а вот салат нужно будет сделать новый, и еще нужно зайти в аптеку, купить с десяток упаковочек витамина Е, когда Томас тактично тронул ее за локоть:
— Простите, я не хотел вас тревожить, но мне важно спросить: мы выйдем к Александровскому саду, да?
— Да, — ответила она с улыбкой стюардессы международного лайнера. — А что конкретно вы хотели бы увидеть?
— «Ночной фонарик негасимый из Александровского сада…», — мечтательно произнес Том. — Я не ручаюсь за точность цитаты. Но это такие прекрасные слова, и сад должен быть прекрасным, правда?
Оксане снова стало неловко. Она не помнила точно, чьи это стихи, то ли Ахматовой, то ли Цветаевой, то ли Бродского. А знать бы надо. Процитированная строчка навязчиво всплывала в памяти почему-то в музыкальном сопровождении, и она вдруг вспомнила грампластинку в сине-сером конверте, разбившуюся года четыре назад, и надпись: сверху — «Мегаполис», а снизу — «Бедные люди». Она никогда не могла понять, где название альбома, а где — группы. Там еще была песня про москвичек и их сумасшедший то ли взлет, то ли взмах ресниц… Оксана вдруг с обидой почувствовала, что ей не хватает морального допинга, на который она уже настроилась. Как ни маши ресницами, мистер Клертон не восхищается ее неземной красотой. Он просто по-пингвиньи шагает рядом, козырьком приставляя ко лбу ладонь, смотрит на небо и думает о чем-то своем, наверное, опять стихи мысленно цитирует. Что ему до женской красоты? Он с тем же успехом мог бы заказать себе и дедушку-переводчика. Вот только дедушка не смог бы, как лошадь, носиться по всему городу!.. Оксана, на секунду отвернувшись от Томаса и мучительно сморщившись, попыталась пошевелить в туфлях затекшими пальцами. Ногу тут же чуть не свело судорогой.
— Вот мы и пришли! — радостно сообщила она, удерживая дрожащие в глазах слезы и остановившись на каменной площадке недалеко от суровых милиционеров, пропускающих детишек на утренний спектакль. Клертон облокотился на парапет и посмотрел вниз. В зелени деревьев уже появились золотые пряди. Пожелтела и трава на лужайках. Люди на скамейках в это чудное сентябрьское утро сидели в основном пожилые. Аккуратная старушка в бархатном берете наблюдала за резвящимся рядом абрикосового цвета пуделем, другая, худая и высокая, что-то рассказывала болтающему ногами внуку. А Томас смотрел на фонари, на их строгие столбы, литые завитушки и матовые стекла. Слева поднимались величественные башни Московского Кремля, совсем рядом в киоске торговали красочными альбомами и так любимыми иностранцами православными образками. А он смотрел только на фонари, словно ожидая, что специально для него средь бела дня из них польется чудесный свет… Оксана осторожно переступила с ноги на ногу, когда Клертон робко и как-то неуверенно попросил:
— Может быть, спустимся вниз?
— Пожалуйста, — согласилась она с профессиональной любезностью. На самом деле спускаться по каменным ступеням ей ужасно не хотелось. Если по ровной дороге в узких туфлях идти еще можно, то лестница — это вообще караул! Тем не менее пришлось, закусив губу и чуть приотстав от Томаса, спуститься вниз. Оксана, честно говоря, не понимала, зачем ему сегодня понадобился гид-переводчик. Он ни с кем не общался, встречаться, похоже, тоже не собирался, говорил мало, а Александровский сад и Страстной бульвар сам прекрасно бы мог найти по карте Москвы, продающейся на каждом углу.
— Давайте присядем, — предложил Клертон, указав на лавочку. И это была первая по-настоящему приятная фраза, которую он произнес за день.
Оксана села и с наслаждением вытянула ноги. Какой-то проходящий мимо парень провел взглядом от ее щиколоток к коленям, потом заглянул в лицо и с беспардонным восхищением присвистнул. Она подумала, что Томасу это будет неприятно, что он брезгливо поморщится в ответ на это первобытное проявление чувств, но, к ее удивлению, он только светло улыбнулся и с гордостью троечника, принесшего домой пятерку, сообщил:
— Оксана, вы действительно очень красивая женщина. Такой, как вы, я еще никогда не видел. Правда.
Оксана поняла, что сейчас начнутся традиционные комплименты, а затем предложение поужинать вместе, желательно в номере, и заранее прокрутила в уме тактичный и светский вариант отказа. Но Томас только, зачем-то опять взглянув на фонари, произнес:
— У вас волосы — как лунный свет… О Бог мой, простите, пожалуйста. Когда я говорю комплименты, я выгляжу ужасно нелепо. Я знаю… Просто я одинок, и если бы со мной рядом была такая женщина, как вы, я был бы совершенно счастлив.
Она представила себе уютный загородный домик с маленьким садиком, туристические проспекты на столе, велосипеды в сарайчике и традиционный английский пудинг на ужин. Представила их будущих детей, добропорядочных маленьких англичан, белесых и похожих почему-то на Стропилину, и едва не расхохоталась. Ей немедленно, сейчас захотелось забраться на колени к Андрею, закрыв глаза, найти его губы и… черт с ним, с бараньим рагу, не пропадет оно, если постоит лишних часа полтора! Да, Томас Клертон, добропорядочный и пресный англичанин, ты действительно нелеп со своими мечтами, когда есть милый, любимый «ежик» с черными жесткими волосами и горбинкой на носу, когда есть его ребенок… Господи, да ведь этот респектабельный турист пытается заигрывать с беременной женщиной!.. Она все-таки улыбнулась.
— Я выгляжу смешно? — спросил Томас. — Я знаю, что смешно. Но, как бы это объяснить, я ничего от вас не хочу. Просто вы прекрасны, и не сказать вам об этом невозможно… Это был только комплимент, и больше ничего… Комплимент, как глупо звучит!
Он покраснел, и на кончике его носа выступили крошечные капли пота. Оксана почувствовала что-то похожее на жалость.
— Знаете, — она слегка коснулась его локтя, — мне было очень приятно услышать от вас эти слова… Про лунный свет так поэтично и вовсе не смешно. Вы, наверное, вообще человек, склонный к лирике. Во всяком случае, просто так приехать в Россию, чтобы бродить по городу, придет в голову далеко не каждому…
— А я брожу не просто так. — Ободренный ее реакцией, Клертон несколько успокоился. — У меня такая привычка: прежде чем принять решение об открытии филиала компании в каком-нибудь городе мира, я сначала долго гуляю по улицам, пытаюсь его почувствовать. Поверьте, что это правда. Если мне удается услышать ритм города, почувствовать его дыхание, то и коммерческие дела здесь пойдут хорошо, а если нет… Так, например, было в Барселоне. Фирма, конечно, не разорилась, но дела шли как-то вяло, прибыль минимальная, в общем…
— А в какой фирме вы работаете? — вежливо поинтересовалась Оксана, уже с некоторым интересом разглядывая англичанина. Тот почему-то опять смутился, поправил узел светло-серого галстука и пробормотал:
— Я владелец фармацевтической компании, занимающейся производством лекарств из натурального сырья. Знаете, такие флакончики и коробочки с волнистой желтой этикеткой и символическим соцветием на ней? Сейчас на совете директоров решаем вопрос об открытии филиала в России. А я представляю из себя самый ужасный тип руководителя, который не доверяет до конца подчиненным и норовит все проверить сам. Это плохо, наверное?
— Да нет, почему же? — дипломатично отозвалась Оксана, пытаясь вспомнить, сколько же стоили эти флакончики с соцветием на желтом фоне в валютной аптеке на Маросейке. Рядом с каждым флакончиком в застекленной витрине лежала длинная и подробная аннотация. Изготовители не обещали панацею, но оптимистично надеялись, что их препараты помогут. И они действительно помогали. Мамина соседка вылечила начинающуюся катаракту и почти полностью восстановила зрение. Оксана пыталась представить себе, насколько состоятельным должен был быть владелец такой компании. А он вот так, запросто, бродит с ней в каких-то подземных переходах, цитирует русскую поэзию, а сейчас сидит на деревянной лавочке, похожий на разомлевшего от жары пингвина. Это было чудно и странно.
— Я знаю продукцию вашей компании, — произнесла она наконец. — У меня есть знакомые, которые положительно о ней отзываются.
— Я очень рад, — улыбнулся Томас.
Она вдруг подумала, что улыбка у него по-настоящему приятная, искренняя. Хотя пингвин, он и есть пингвин, хоть с миллионным состоянием, хоть с одним фунтом стерлингов в кармане.
Солнце все так же золотило осеннюю листву, но с севера неожиданно потянуло холодом, напоминающим о приближении слякотной осенней поры. Оксана поежилась. В тоненькой блузке было холодновато. Но день еще в самом разгаре, и программу придется отрабатывать до конца.
— Куда бы вы еще хотели пойти? — спросила она у Клертона. Он поднял на нее свои небольшие глаза, оказавшиеся на поверку водянисто-голубыми, потом покачал головой и наконец произнес:
— Знаете, Оксана, в Москве еще очень много мест, которые мне хотелось бы увидеть, но ведь у нас впереди еще две недели, правда? А сегодня я благодарю вас за то, что вы согласились посидеть со мной в саду и побеседовать. Кстати, у вас приятный, очень правильный английский. Если позволите, я возьму для вас такси, и шофер отвезет вас домой.
Она взглянула на него удивленно, и солнечный зайчик с его очков брызнул ей прямо в глаза. Отдохнувшие ноги болели уже меньше, ей казалось, что она сможет продолжить прогулку. Но Томас поднялся и подал ей руку. Оксана оперлась о его ладонь и с удивлением почувствовала, что он поддерживает ее бережно, но уверенно, как больную. И она поняла, безошибочно почувствовала, что он догадался про ее узкие туфли, но впрямую ничего не сказал. Предложил посидеть на лавочке, и все. Стараясь все-таки не демонстрировать свою временную инвалидность, она выпрямила спину и с солнечной улыбкой на лице поднялась вверх по каменной лестнице, заботливо поддерживаемая респектабельным господином в очках с модной оправой. На Воздвиженке Клертон поймал такси и заплатил шоферу вперед просто умопомрачительную сумму. Правда, адрес объяснять пришлось ей самой. Дверца машины захлопнулась. Улыбающийся Томас остался на тротуаре, а Оксана, прикрыв глаза, подумала, что в баранье рагу нужно будет добавить кетчупа и зеленого горошка, и еще, что у Андрея, кажется, нет на завтра чистой рубахи…
* * *
В общей кухне с отупляющей монотонностью капало из крана, а на душе было препогано. Наташкина комната располагалась как раз напротив этой самой кухни, и поэтому она обречена была слушать грохот чужих кастрюль, тарахтение воды в трубах и раздраженные плевки кипящего на сковородках масла. Но если в обычное время Наташка почти не замечала этих звуков, то сегодня все было по-другому. И, самое ужасное, нельзя было прибегнуть к спасительному, утешающему доводу, услужливо появлявшемуся всякий раз, когда раздражение сдирало с нее защитную завесу. Стояла глубокая ночь, и соседки мирно спали, каждая на своей кровати. А Наташка приговорена была страдать в одиночестве, слушая гулкие удары капель воды о эмалированную раковину. Ей не спалось, и на сердце было так же слякотно, как во дворе после дождя. Наташе не без основания казалось, что ее обманули…
Она уже давно собиралась обратиться в какой-нибудь гадальный салон. На эту идею натолкнули ее не многочисленные газетные объявления, а засевшее в мозгу воспоминание трехгодичной давности: маленькая белая брошюрка про Российский орден белой магии, причем без каких-либо координат этой организации. Тогда она очень сожалела, что никак нельзя найти этих самых белых магов, ведь можно было бы попросить, чтобы они приворожили какого-нибудь мужчину, заколдовали ее на удачу в делах или, по крайней мере, напророчили бы счастье. Теперь же все совсем просто: любой гражданин, позвонив по одному из указанных в объявлениях телефону, мог заказать и приворот, и прибыль в бизнесе, и женское обаяние или энергетическое устранение соперника. Наташка никого привораживать не хотела: от одной девчонки она знала, что человек, которого приворожили, конечно, влюбляется, но на всю жизнь становится сам не свой, и вообще это уже не человек, а какая-то грустная его копня. Она хотела только погадать и узнать всю правду о своем будущем.
Свежий номер «Из рук в руки» нашелся в соседней комнате, а вахтерша, караулившая вход в общагу и телефон, очень вовремя свалила пообедать. В общем, Наташа обзвонила по четырем или пяти объявлениям и вынуждена была признать, после того как поинтересовалась ценами, что таких расходов ее бюджет не выдержит. В конце концов ей через третьи руки достали адрес бабушки, живущей неподалеку, которая брала за свои услуги весьма умеренную мзду.
У самой двери она наткнулась на здоровенного мужика с мешком моркови. То, что в мешке именно морковь, а не другой овощ, сообщил визгливый женский голос, донесшийся из квартиры и пожелавший мужику по имени Коля вместе с его морковью, чуть ли не полгода валявшейся под ногами в коридоре, свалиться в погреб и переломать ноги. Причина столь яростной ненависти и к Коле, и к безответному овощу крылась в том, что хозяйственный порыв одолел мужчину аккурат в тот самый момент, когда в соседний же погреб отправилась некая «белобрысая стерва». Мужик с морковью, ожидая лифта, тихо матерился, а Наташа замерла у стены, размышляя, стоит ли ей входить в квартиру. Но все решилось за нее. Видимо, рассвирепевшая женщина посчитала, что ее мужик через дверь плохо слышит, и выглянула в коридор. Сначала она увидела закрывающиеся за беглецом двери лифта, а потом девушку, вжавшуюся в стену.
— Ты ко мне? — спросила женщина и почти без паузы добавила: — Проходи.
На вид даме можно было дать лет пятьдесят, а может, и все шестьдесят. Она была толстой и сильно обрюзгшей.
— Подожди, я сейчас, только внука накормлю, — объяснила гадалка, унеся свои телеса на кухню. Наташа кивнула и опустилась на табуретку в коридоре. Это была самая обычная квартира среднего достатка с неизменной стенкой, поблескивающей стеклами из комнаты, с барельефом «писающего мальчика» на двери туалета и густым запахом борща, тянущимся из кухни. Внук, малыш лет четырех, в шортах, надетых поверх колготок, пробежал мимо Наташки, издавая звук пикирующего бомбардировщика. Его бабушка на кухне бряцала половником о край кастрюли, видимо, стряхивая налипшую капусту. Все здесь выглядело каким-то домашним, подчиняющимся привычному укладу. Наташе вдруг показалось, что она просто ошиблась адресом, забрела не туда. И вообще, может быть, эта женщина занимается вовсе не гаданием, а чем-то еще… Но тут раздался телефонный звонок. Тяжело переваливаясь с боку на бок и громко сипя, женщина поспешила к аппарату и схватила трубку. «Ворожу!» — подтвердила она, дослушав до конца пространный вопрос собеседника с другого конца провода. Причем ударение сделала на второй слог, и от этого «ворОжу» прозвучало как-то угрожающе. Стало почему-то неприятно. Наташка уже поднялась с табуретки, чтобы незаметно выйти из квартиры, но бабка обернулась на нее и остановила жестом, дескать, сейчас-сейчас…
Потом они долго сидели в комнате над разложенными по столу картами. Бабка переворачивала карты то так, то сяк, а Наташа сама пыталась разгадать смысл выпавшего. По ее представлениям, не выпадало ничего хорошего: болезнь, куча пустых разговоров и хлопот, подружка, мамины мысли, денежный интерес…
— А как тебя зовут? — спросила ни с того ни с сего гадалка, рассматривая почему-то на свет трефового короля, выпавшего в глубоком прошлом. Наташа от растерянности четко, как в отделе кадров, сообщила:
— Солодкина Наталья.
— Солодкина? — бабка словно попробовала фамилию на вкус и уважительно резюмировала. — Да-а, Солодкина. Хорошая фамилия.
Почтения в ее голосе было столько, словно она произнесла «Трубецкая» или «Волконская». А Наташке вдруг стало обидно и за свою фамилию, которую на работе переделали в «Селедкину», и за свои пережженные краской, как у цыганки черные волосы, и за расклад карт, который ничего хорошего ей не сулил.
— Ну что, все у тебя в жизни будет хорошо, Солодкина, — поведала наконец бабка. — Грядут скорые перемены в жизни, да такие, каких ты и не ожидаешь: ты поменяешь дом, работу. Сейчас в твоем сердце есть место для короля, а будет — для короля и дамы. Будущее пока неясно, хотя, подожди, я посмотрю…
Гадалка обращалась к ней не по имени, а по фамилии, как школьная учительница, и от этого все происходящее казалось сном, нереальным и глупым. Наташа выслушивала все новые и новые подробности, уже ничему не веря. Что значит место для короля и дамы? Что она, вместе с Андреем полюбит эту его Оксану, что ли? Скажет им «будьте счастливы» и умиленно заплачет на их бракосочетании? Она даже не рассматривала варианты каких-то своих подруг или родственниц. Кроме Потемкина, можно любить только маму, а для нее и так есть место в сердце. Бабка говорила и говорила, а Наташка старалась не пропустить момент, когда та упомянет порчу. После этого следовало быстро сматывать удочки. Иначе начнутся обещания и уговаривания, бесконечное, никчемное и дорогостоящее отливание воска. В общем, затянет, как наркомана, и будешь потом выискивать деньги для новой «дозы». Через это уже прошли две девчонки из общежития, она их участь разделить не хотела.
Но, как ни странно, гадалка про порчу говорить ничего не стала. Собрала со стола карты, завернула их в красную тряпочку и назвала сумму, почти в два раза превышающую ту, на которую Наташка рассчитывала. Та спорить не стала, отдала деньги и уже с порога осведомилась у гадалки о ее предыдущей профессии. Получив полный собственного достоинства ответ: «Преподаватель математики», попрощалась и отправилась обратно в общагу. В обычной воскресной суете прошли день и вечер, а ночью стало совсем тошно.
Она лежала на кровати и тупо смотрела в потолок. Ей было жаль так бездарно потраченных денег, жаль потерянного утра, а самое главное, было обидно! Наташка не могла объяснить, но чувствовала, что и девчонки в больнице, дающие ей бесплатные советы, и эта бабка, щедро нагадавшая перемены, после того как она показала ей украденную из отдела кадров фотографию Потемкина, просто не верят в малейшую возможность ее и его совместного счастья. Гадалка говорила про блестящее будущее только потому, что ей не нужно было хоть сколько-нибудь привязывать свой рассказ к реальности. С тем же успехом она могла нагадать Наташе морской круиз с французским президентом или знакомство с Томом Крузом. Никто бы не поверил старухе гадалке, кроме нее самой, а значит, ее гадание скорее всего откровенная глупость. Наташе хотелось плакать. И не хотелось видеть своего лица со слишком густыми у наружных углов глаз ресницами и заячьими передними зубами.
На работу утром она отправилась с твердой решимостью забыть про всю эту любовную чепуху, работать и работать, а в Андрее Станиславовиче видеть только доброго знакомого. Ей грезилось, что она сможет стать холодной, неприступной и отстраненной. Для поддержания нового имиджа Наташка вместо привычной и удобной косички-«колоска» сделала сегодня аккуратный, заколотый шпильками, валик.
Необычное оживление в отделении она заметила не сразу. Успевшая переодеться из своей канареечной кофты с металлической «молнией» в простую блузку и белый халат, Наташа вышла из сестринской, когда к ней подошел веселый анестезиолог.
— Ну что, красавица Наталья, слезы будем лить или, может быть, найдем себе новый объект для любви? — спросил он без предисловий.
— В каком смысле? — она нервно затеребила пальцами аккуратно простроченный край воротника.
— В прямом, — уточнил анестезиолог. — Давай с тобой дружить!
Анестезиологу было около тридцати пяти, он был круглый, добродушный и считал себя непревзойденным юмористом. Сейчас его маленькие глазки смеялись вместе с колышущимся под стерильным комбинезоном животом. Он, как всегда, был уверен, что говорит очень смешные вещи. Наташка вдруг поняла, что же так резануло по ушам в самой первой его фразе: конечно же, это «найдешь себе новый объект для воздыханий»! Значит, не только девчонки, но уже все отделение знает про ее любовь к Потемкину. Оказывается, это вовсе не любовь, а воздыхание, как у поклонниц группы «Иванушки Интернешнл». И выглядит так же глупо и унизительно. Но, Господи, за что, почему с ней поступают так жестоко? Почему смеются, как над каким-то уродцем? Потому ли, что она уже вышла из возраста детей, которых принято жалеть, и не вошла еще в возраст молодых, здоровых, активно трахающихся женщин? Потому что она болтается где-то в невесомости со своими глупыми мечтами и надеждами, но зато без постоянной московской прописки?
Из ниоткуда возник цокот каблуков. Наташа обернулась. От поста к ним торопливо шла хорошенькая Жанна. Глаза ее, гневные и испуганные, были обращены на анестезиолога. Наверное, она слышала весь их краткий разговор. Сейчас она с решительным видом привычно крутила пальцем у виска, и жест этот явно предназначался не Наташе.
— Ты что, совсем с дуба рухнул? — громким шепотом осведомлялась она, не прекращая движения.
— А что? — оправдывался анестезиолог. — Вы же сами говорили, что все это так, шутки.
— Иди отсюда, — скомандовала Жанна. На Наташу пахнуло от нее дезодорантом «Дюна» и тошнотворно сигаретами. Она почувствовала, что ее пришли защищать, как безмозглого лосенка, решившего поиграть с волком.
— Ну ладно, ухожу, ухожу, ухожу, — анестезиолог пожал плечами и развернулся. Из палаты напротив выполз больной в полосатой пижаме и направился в туалет. Теперь он был между ней и анестезиологом, и почему-то казалось, что именно из-за него она не узнает какой-то страшной тайны. Вот сейчас он широко распахнет дверь в полкоридора, и для нее закроется последняя возможность все понять.
— Паша, — отчаянно вскрикнула Наташка, впервые назвав анестезиолога по имени, — а что случилось-то?
Он обернулся. То ли выражение лица у нее было достаточно спокойное и безмятежное, то ли он сам со своими бесконечными потугами к юмору утратил ощущение реальности. Во всяком случае, сделав брови «домиком», он совершенно спокойно произнес:
— Потемкин твой наконец-то решил обжениться официально. Свадьба у него через три недели.
Жанна еще дергала ее за рукав халата, а Наташа уже чувствовала, что падает в глубокую, страшную пропасть и тоненькими Жанниными пальчиками удержать ее невозможно. Грудь сдавило так сильно и так больно, что казалось, ребра вот-вот выгнутся внутрь. Мир вокруг не изменился. Точно так же пахло омлетом из пищеблока и хлоркой из Дашиной каморки со швабрами, так же вещал разными голосами портативный телевизор из «блатной» двенадцатой палаты, так же подмигивала с потрескиванием и пощелкиванием люминесцентная лампа на потолке. Наташа вдруг поняла, что для нее больше нет места в этом мире. Точнее, место, возможно, и есть, но ей скучно здесь, как в кинотеатре на сеансе плохого фильма. Ей больше нечего здесь делать, потому что она не болеет за героев, не сопереживает им. И ей совершенно все равно, успешно ли вырежут язву из «десятой», выйдет ли Жанна замуж за недавно появившегося на ее горизонте «нового русского», вернут ли ее в операционную бригаду… Все равно, потому что Андрей женится. Она и сама не могла понять, почему на нее так ошеломляюще подействовало это известие. Он все равно был несвободен, он был с Оксаной, и рано или поздно этим должно было кончиться. Да и на что, собственно, она рассчитывала? Что он променяет красавицу блондинку на нее, худую, крашеную, почти плоскогрудую? Наташа стояла посреди коридора, пытаясь набрать в легкие воздух, и мечтала только о том, чтобы Жанна наконец оставила в покое рукав ее халата.
— Наташка, Наташка! — обеспокоенно шептала Жанна в самое ухо. От ее дыхания становилось щекотно. — Ты что, в самом деле, так распереживалась? Корвалолчику накапать, а?.. Ну что ты, в самом деле? Это же несерьезно. Ну кто он тебе? Так, прекрасный принц из сказки…
Наташа обернулась. Вздохнуть наконец удалось, и стало немного полегче. Лицо Жанны приблизилось вплотную, и от этого ноздри ее вздернутого носика выглядели огромными, как блюдца.
— Я говорю, не переживай так!.. Это Пашка, дурак, тебя расстроил. Мы собирались как-нибудь помягче сказать. И вообще, иди-ка в сестринскую, все равно ты сейчас уколы делать не сможешь, а я подойду минут через десять… Только сиди тихо, ладно?
Наташка покорно повернулась и пошла в сестринскую. Она совершенно ясно осознавала происходящее и удивлялась, что производит впечатление сломленной горем и даже впавшей в безумие. Что имела в виду Жанна, когда попросила сидеть тихо? Наверное, она испугалась, что ей придет в голову забраться в сейф с лекарствами и заглотнуть лошадиную дозу чего-нибудь из группы А. Смешно… Разве из кинотеатра со скучным фильмом уходят, громко хлопнув дверью? Кому и что доказывать? Билетерше, зрителям? Все равно ни сценариста, ни режиссера в зале нет. Из кинотеатра уходят тихонько и незаметно, стараясь не привлекать к себе внимания. А еще кино может кончиться само по себе. Наверное, так и должно быть: рано или поздно фильмы кончаются, и ничего не нужно делать…
Она уселась на кушетку, покрытую простыней да еще сверху затянутую полиэтиленом, попробовала читать задом наперед название плаката о СПИДе. Не получилось, и сразу же стало скучно. Скучным казалось все, кроме Андрея, а о нем думать было нельзя: там, на запретной территории, зияла страшная пропасть.
Жанна пришла, как обещала, минут через десять. Сигаретами от нее больше не пахло, зато пахло жвачкой «Орбит». Видимо, прежде чем приступить к уколам, она решила зажевать табачный аромат. Закрывшись на защелку, Жанна присела рядом с Наташей.
— Ну как ты? Успокоилась немножко? — спросила она голосом заботливой матушки. — Давай поговорим спокойно.
Наташе было странно и даже смешно слушать эти глупые, никчемные фразы. О чем говорить спокойно? Как будто это Жанна собирается выходить замуж за Андрея. Она что, в силах что-то изменить? Что вообще может измениться от разговоров? Или она, словно Кашпировский, силой внушения заставит ее разлюбить Потемкина? Или расскажет о нем что-то такое, что затошнит от отвращения и в висках запульсирует спасительная мысль: как хорошо, что не я его жена?
— Мы правда не думали, что у тебя это так серьезно, — теперь Жанна говорила голосом делегата от целого коллектива. — Поверь мне, Наташка, мужиков у тебя в жизни еще будет ой-ой-ой…
— Да, будут, — послушно согласилась Наташа, с трудом разлепив губы. — И я буду так же счастлива, как вы. Только я не хочу других, и пятиминутных развлечений под душем тоже не хочу. Отстаньте вы все от меня, ладно?
— Ты еще глупая и молодая, поэтому тебе кажется, что мир рухнул, хотя, в сущности, ничего не произошло. Вы ведь с ним и десятка слов друг другу не сказали, он и не знает тебя совсем… Что, он тебя с ребенком бросил, беременную или, может, девственности лишил?.. Смотри на него гордо, весело и независимо, и нечего устраивать шекспировскую трагедию.
Жанна была образованная, а главное, стремилась к дальнейшему самообразованию, поэтому она могла свободно оперировать такими понятиями, как «шекспировская трагедия», «толстовское всепрощение» и «мопассановское шлюшество», чем обычно несказанно смешила Олесю.
— Не надо меня уговаривать. — Наташа поправила челку. — Я не впаду в депрессию и не выпрыгну с балкона. Все нормально. Только у вас теперь не будет поводов для веселья.
— Да перестань ты, пожалуйста, — Жанна пожелтевшим от курения ногтем на указательном пальце правой руки брезгливо смахнула с халата какую-то черную мошку. — Мы же просто шутили. А сегодня, если хочешь знать, так Олеся тебя больше всех пожалела… Просто завотделением просил Потемкина перенести отгулы на какие-нибудь другие дни, а он начал объяснять, что не может, что у его невесты день рождения. И вообще, не хочет ее обижать, потому что у них регистрация через три недели… Тут все, кто слышал, бросились его поздравлять. Он так засмущался, как красна девица, покраснел…
Жанна продолжала говорить, а Наташка представляла себе смущенного и покрасневшего Потемкина. Она так ясно видела любимую горбинку на его носу, краснеющую в первую очередь, губы, в полуулыбке опустившие куда-то вниз свои уголки, и ровно подстриженные черные волосы на висках, виднеющиеся из-под медицинского колпака. Наверняка он не знал, куда девать руки, неловко переступал с ноги на ногу, а в конце концов радостно рассмеялся вместе со всеми, уже не обороняясь, а счастливо принимая шутки по поводу того, что его «охомутали», «заарканили» и «обженили». Даже хорошо, что ее не было в этой развеселой компании. Она бы, наверное, не смогла шутить. Интересно, а что бы подумал Андрей, глядя на ее мрачное лицо? Что она дебилка с замедленной реакцией, что она завистница, или что у нее плохое настроение? Он мог подумать все, что угодно, потому что ничего о ней не знает. «А он ведь действительно ничего обо мне не знает! — с каким-то даже ужасом подумала Наташа, чувствуя, что опять перехватывает дыхание. — Ровным счетом ничегошеньки. Ну считает, что я неплохая операционная сестра, правда, с пошаливающими нервишками, ну видел, как я выносила судно вместо санитарки, ну наблюдал в течение пяти секунд мои ужасные белые трусы. И все. Все!.. Работая рядом, мы почти не общались. Да нет, почему мы? Это я умудрилась не общаться с ним, хотя много раз предоставлялась возможность просто поговорить… Разве можно полюбить человека, да хотя бы проникнуться к нему симпатией, ни разу не перекинувшись с ним словом хотя бы о погоде?»
Наверное, она в этот миг побледнела, потому что Жанна снова заботливо и печально заглянула к ней в глаза:
— Тебе что, плохо? Нет?
— Я же сказала, все нормально! — выкрикнула Наташа, едва не сорвавшись в истерику. Сейчас ей важно было удержать в мозгу мгновенно промелькнувшую искру надежды, важно было не затушить ее, не потерять такой шаткий, внезапно установившийся настрой. Силы и решимость могли оставить ее в любую секунду, поэтому она, судорожно скомкав воротник халата у горла, вскочила с кушетки и бросилась вон из сестринской.
К счастью, Андрей был в ординаторской. Когда дверь распахнулась и на пороге появилась запыхавшаяся и красная Наташка, он только удивленно приподнял брови и оперся широкой ладонью о стол. Как достаточно опытный врач, он готов сию секунду бежать на помощь больному, которому требуется срочная помощь.
— Что случилось? Где? С кем? — спросил он почти скороговоркой, поднимаясь со стула.
— Ничего не случилось, — она разжала кулачок и выпустила измятый воротник халата, ставший похожим на перекошенное испанское жабо. — Точнее… Андрей Станиславович, мне очень нужно с вами поговорить, и это срочно.
— Милая дама, — подал голос из кожаного кресла в углу рыжий Вадим Анатольевич, — а вы в курсе, что с Андреем Станиславовичем теперь посторонним женщинам разговаривать строго запрещено? Вы знаете, что через три недели он станет женатым мужчиной?
Вадим Анатольевич, как ни странно, после того случая в душевой совершенно не испытывал смущения перед ней. Ему было безразлично, что она видела его голым, да еще и в такой пикантной ситуации. Впрочем, это, наверное, было и правильно, зачем акцентировать внимание?
— Я знаю, — отозвалась она, чувствуя, как яростная решимость постепенно покидает ее. — И все-таки…
— И все-таки что? — снова спросил Вадим Анатольевич.
В этот момент Андрей поднялся из-за стола и миролюбиво произнес:
— Ладно, оставь девчонку в покое. Пойдем, Наташа, поговорим.
Она развернулась в дверях, как оловянный солдатик, и вышла из ординаторской. На слуху оставались его слова: «Оставь девчонку в покое». Девчонку, мальчонку, собачонку… Андрей вышел следом и прикрыл за собою дверь.
— Ну рассказывай, что произошло? — Он с интересом рассматривал ее. Наташка поймала на себе его взгляд и почувствовала, наверное, то же, что ощущает человек в сорвавшемся вниз лифте. Она вдруг впервые заметила, что у него по смуглой коже лица от уголков глаз наметились тоненькие сухие морщинки и что края бровей не рассеченные, просто волосы в этих местах более редкие.
— Андрей Станиславович, — прошептала она, боясь оторваться от его глаз, ведь тогда лифт точно упадет и разобьется. — Андрей… Давайте выйдем на улицу и поговорим там. Это очень важно.
— Ну ладно. — Он пожал плечами, видимо, несколько удивленный фамильярным обращением «Андрей». — Пойдем, поговорим…
На улице было прохладно, и Наташа пожалела, что не захватила куртку из сестринской. Скорее всего придется проговорить долго, а ветерок-то довольно ощутимый. Верхушки деревьев вон как мотаются, и листья слетают один за другим. Прямо перед ней, мелко вертясь в воздухе, спланировал на асфальт кленовый «вертолетик». Когда-то давно соседский мальчик Витя сказал ей, что если поймать в воздухе такой «вертолетик» с синими прожилками, то самое заветное на этот день желание обязательно сбудется. Она тогда никак не могла понять двух вещей: как может быть желание «заветным на сегодняшний день» и откуда могут взяться синие прожилки на желтом листе. Но Витька лишь покровительственно похлопал ее по плечу и сказал, что в старших классах она будет изучать явление фотосинтеза и тогда все поймет. А маленькая Наташка обиделась, подумав, что он над ней издевается и специально выдумал непонятное слово… Неподвижный лист лежал у ее ног. Наташа перевернула его носком туфли. Синих прожилок не было ни с той, ни с другой стороны. Андрей протянул руку и поймал в воздухе еще один кленовый «вертолетик», протянул Наташке. На мгновение ладони их соприкоснулись. Она подняла глаза и сказала просто и почему-то виновато:
— Я вас люблю…
И ничего не произошло: не разверзлась земля, не потемнело небо, лишь очередная «скорая» ворвалась в ворота со зловещим ревом сирены. Она смотрела на него и ждала хоть чего-нибудь: радости, огорчения, смущения. Но Андрей просто стоял, засунув руки в карманы халата, и смотрел не на нее, а в небо. Наташе вдруг подумалось, что он спрятал руки в карманы специально, чтобы снова ненароком не коснуться ее ладони. Ветер почти не шевелил его волосы. Когда Потемкин наконец повернулся к ней, Наташка вжала голову в плечи. Он казался спокойным и каким-то меланхоличным. И тут вдруг Наташка с диким, животным ужасом поняла, что он думает вовсе не о ней. Что такие признания ему не в диковинку, их приходилось выслушивать не единожды. И он привык к ним, воспринимает без раздражения или смущения. А думает сейчас скорее всего о своей Оксане…
— Не забивай себе голову чепухой, ты все это просто придумала, — тихонько произнес он улыбаясь. Взгляд его по-прежнему был чужим, отсутствующим. И Наташка окончательно осознала вдруг, что безразлична ему, как этот кленовый «вертолетик», как асфальт под ногами, как облака. И если она исчезнет из мира так, чтобы не возбудить особых толков, он просто не заметит, что ее больше нет.
— Я вас люблю! — повторила она, как заведенная, с упрямством и отчаянием. Андрей вздрогнул, словно очнулся, и посмотрел на нее уже внимательнее.
— Послушай, Наташка, — он взял своими чуткими пальцами ее холодную кисть, но потом, подумав, отпустил, — мы с тобой просто коллеги по работе и хорошие друзья. У меня есть любимая женщина, и у тебя, как только ты отвлечешься от всякой чепухи, обязательно появится близкий человек. Ты очень красивая и необычная, в тебе есть какая-то изюминка. Поверь, ты мне очень симпатична, но…
Ветер усилился, где-то наверху яростно хлопнуло окно. Наташа вдруг подумала, что наверняка за ними сейчас наблюдают. Значит, все видели, как он, чуть ли не брезгливо взял и тут же отпустил ее руку. Не захотел даже толком поговорить с ней, а сразу, как автоответчик, выдал заготовленную фразу. И она поняла, что невозможно будет вот так сейчас взять и вернуться в корпус с опущенной головой, с глазами в слезах.
— Знаешь, что, Андрей, — Наташка прикоснулась ладонью к его щеке, чувствуя, как сердце проваливается куда-то в живот, — я должна тебе сказать одну вещь, только ты не обижайся… — слова получались сами собой и лились легко и свободно, а подушечки пальцев слегка горели, потому что щека оказалась небритой на ощупь, как кошачий язычок. — Мы придумали с девчонками проверить, как ты среагируешь, если накануне свадьбы симпатичная женщина признается тебе в любви. Я ведь симпатичная?
— Симпатичная, — отозвался он, явно обрадованным и в то же время еще не совсем уверенным голосом. — Ну вы, дамы, даете!.. А мне показалось…
И Наташка, чтобы только не услышать, что именно ему показалось, чтобы не переживать свой позор заново, заговорила быстро и нервно, не забывая жизнерадостно улыбаться:
— Ну, конечно, мне тоже было приятно сыграть эту роль. Я ведь как подумала: жениха у меня пока нет, а ты — единственный неженатый врач в отделении, вдруг получится, и ты свою невесту бросишь, а на мне женишься. Я ведь в общаге живу, мне бы московскую прописку, и жилплощадь не помешала бы… Но это так, шутки! — она резко оборвала себя короткой фразой, чувствуя, что щеки начинают пылать. Теоретические изыски Олеси и Жанны наконец пригодились, процитировала она их почти точно.
Андрей смотрел на нее странным взглядом, и глаза его вдруг сделались печальными.
— Ох, Наташка, — вздохнул он и покачал головой.
— Не грустите, товарищ Потемкин! — выкрикнула она. — Невесте вашей мы ничего не расскажем. Да если бы и рассказали, что тут стыдиться: экзамен вы выдержали на пятерку!
Он ничего не сказал и прошел обратно в корпус. Наташка разжала кулак. На ладони, рядом с полукруглыми, глубокими следами ногтей, лежал кленовый «вертолет» с переломанными лопастями. Тот, который подарил Андрей. Она вместе с ладонью прижала его ко лбу, царапая твердой жилкой кожу, провела по щеке и с ненавистью швырнула на асфальт. Забежала в корпус, минуту постояла, прижавшись спиной к обитой красным кожзаменителем двери, выскочила обратно и присела на корточки на том месте, куда только что швырнула лист, но его уже не было. А вокруг валялось с десяток других. И ни на одном не проступали синие прожилки, гарантирующие исполнение «заветного на сегодняшний день желания»…
* * *
Иногда Оксана задавала самой себе стыдливый вопрос: что же ей все-таки нравится по-настоящему? Спектакль или «поход в театр», включающий в себя и непременный маникюр, и тщательное, так, чтобы не осталось ни одной морщиночки, подтягивание колготок, и гул театрального фойе, и пыльный запах бархатных кресел, и… Впрочем, сегодня ей нравился спектакль. Нравилась великолепная Гундарева, играющая леди Гамильтон, очаровательная, даже в роли хромоножки, Немоляева и, конечно же, адмирал Нельсон в исполнении блистательно-мужественного Виторгана. Когда первое действие закончилось и по залу, как шум летнего ливня, пронесся шквал аплодисментов, она поднялась с кресла, незаметно одернула подол любимого платья цвета фуксии и прикоснулась к плечу Андрея:
— Давай встретимся возле буфета, мне нужно в дамскую комнату.
Он поднял на нее глаза, и Оксана увидела, что в них прыгают мелкие насмешливые бесенята.
— А вместе выйти из зала мы никак не можем? — поинтересовался Потемкин. — Или у тебя в туалете тайная встреча и связной должен видеть, что ты пришла одна?
— Можем, конечно же, можем. Только не надо провожать меня до самой таблички с девочкой в треугольном платье… Знаешь что, возьми мне в буфете попить и какой-нибудь бутерброд. Есть почему-то хочется ужасно.
Андрей кивнул и посторонился, пропуская ее впереди себя по проходу. Оксана начала пробираться между двумя довольно тесно стоящими рядами кресел, стараясь не задевать колени театралов, предпочитающих и во время антракта оставаться в зале. Она пробиралась мимо бабушек с программками и замшелых холостяков в потертых пиджаках, а в голове весело и азартно звучала песня Александра Малинина: «Леди Гамильтон, леди Гамильтон, я твой адмирал Нельсон»…
Они расстались у выхода из зала. Андрей направился к буфету, а она — в дамскую комнату. Сюда выстроился длинный хвост из женщин со скучно-непроницаемыми лицами. Оксану всегда немного смешило особенное выражение физиономий дам, пытающихся попасть в театральный туалет. Или же, к примеру, в «Макдональдс». Каждая отдельно стоящая женщина, казалось, объясняла: «Не знаю, кто зачем стоит, а я — только припудрить нос и поправить прическу». Она пристроилась в самый конец очереди, которая продвигалась очень медленно. Оксана подумала, что Андрей, наверное, уже успел купить пепси-колу с бутербродом. От нечего делать она принялась мысленно считать, через сколько секунд в среднем хлопает дверь туалета, извещая тем самым, что еще одно место освободилось. Когда впереди нее осталось всего два человека, из уборной вышла Нелька Усачева. Вот уж кого Оксане хотелось видеть меньше всего! После того инцидента с ее купальником на конкурсе красоты она избегала с ней общаться и на лекциях специально отсаживалась на противоположную сторону аудитории. Впрочем, Нелька, похоже, не особенно от этого страдала. Сейчас на ее лице легко читалась полная и безоговорочная уверенность в том, что она «всех милее», «румянее», «белее», а также богаче, стильнее и счастливее. Одета Усачева была действительно стильно и дорого. До самых щиколоток нежно мерцающим потоком стекало вниз черное шелковое платье с двумя кружевными клиньями по бокам, тонкие бретели открывали округлые белые плечи. Волосы ее, прежде неопределенно-русые, теперь приобрели рыжевато-каштановый цвет и были высоко забраны на затылке, а от виска чуть ли не до ключицы спускалась прямая, как бы выбившаяся из прически, прядь. В руках Нелька держала маленькую шелковую театральную сумочку на золотой цепочке.
— О, Плетнева! — громко воскликнула она, с неожиданной радостью, по-деревенски раскидывая в стороны руки. Оксана почувствовала, как внутри у нее все сжалось. С того самого момента, как «китовый ус» из чашечки вонзился в ее грудь, она возненавидела Усачеву, самим фактом своего существования напоминавшую ей о собственной бедности и плебействе. Но сегодня Нелька, видимо, неудержимо хотела общаться. Она пристроилась рядом и, что самое неприятное, взяла Оксану под локоток.
— Ну откуда ты здесь? Какими судьбами? — голос у нее остался все таким же противным и мяукающим, а выражение лица глупым, как, впрочем, и вопросы, которые она задавала.
— В театр пришла. Спектакль посмотреть, — Оксана пожала плечами.
— И я, представь себе, тоже!.. Нет, обычно мы с мужем ходим только на премьеры, но сегодня почему-то не хотелось ни в ресторан, ни в клуб… Мы даже подумали, а не сходить ли нам в кино, а там поцеловаться на заднем сиденье, как в юности? Но, к сожалению, во всех кинотеатрах сейчас мебельные салоны, пришлось выбираться в Маяковского.
Оксана смотрела, как шевелятся на широком, с раскосыми глазами лице тонкие карминовые губы, и думала о том, что Нелька, наверное, никогда в жизни не целовалась в кинотеатре. Даже выражение-то выбрала сугубо автомобильное — «заднее сиденье». Да, собственно, и смысл ее реплики был отнюдь не в «сиденье» и не в «кинотеатре». «Ударные» слова: «муж», «ресторан», «клуб» — Усачева выделяла довольно четко. Наверное, предполагала, что собеседница немедленно начнет кусать локти и рвать на себе волосы от зависти.
— Девушка, вы заходите или нет? — недовольным тоном поинтересовалась женщина, стоявшая сзади. Действительно, из дамской комнаты вышли уже два человека, а Оксана бестолково стояла перед дверью. Обрадовавшись возможности избавиться от Нельки, она виновато развела руками.
— Ничего, я еще раз зайду с тобой, — успокоила ее та. — Все равно прическу толком не поправила.
Оксана вздохнула и покорилась судьбе. Когда она вышла из кабинки, Усачева все еще стояла перед зеркалом и пыталась развернуть рыже-каштановый кончик пряди волос строго к ямочке между ключицами.
— Ну что, пойдем в фойе? — без особого энтузиазма предложила Оксана.
— Зачем? — Нелька махнула рукой. — Давай поболтаем здесь до третьего звонка. Иначе мой строгий супруг схватит меня и уведет в нашу ложу. По его понятиям, неприлично шататься по буфетам и туалетам до последней секунды… Эх, а помнишь нашу студенческую юность? Какие мы были бесшабашные, чихать хотели на все условности!
Оксана вяло улыбнулась. От Усачевой, ее глупого трепа у нее начинала болеть голова. Где-то за столиком ждал Андрей с бутербродом и пепси, а она вынуждена была выслушивать бывшую сокурсницу.
— Послушай, меня ждут, — она решительно поправила сумочку на плече.
— Муж? — впилась в нее глазами Нелька.
— Да, муж.
— Ой, как здорово! Значит, ты тоже замужем?.. А твой где работает? Мой в нашем посольстве во Франции, сейчас в отпуске… Знаешь, Оксанка, мы уже привыкли произносить как штамп: «Там другая жизнь, там другие люди!» А ведь на самом деле там совсем другая жизнь и другие люди. Там женщина может чувствовать себя женщиной, ну как птица чувствует себя птицей… Это так естественно! Мне, кстати, недавно один французик сказал, что в русских есть какой-то особый тяжеловатый шарм. Представляешь, тяжеловатый? Я сначала даже обиделась, а он объяснил, что это ничуть не хуже, чем утонченность француженок. И вообще это даже не тяжеловатость, а наполненность, глубина… А твой-то где, как?
— Кто? — не сразу включилась Оксана.
— Муж твой кто! Кем он работает?
Надо было, конечно, ответить, что он пока не совсем муж и работает рядовым хирургом в самой обычной городской больнице, но ей вдруг ясно вспомнились давние Нелькины слова: «Приедет Прекрасный Принц, а ты ему из кармана джинсов диплом в нос. Смотрите, мол, я красавица! А красавицы всегда дожидаются Прекрасных Принцев». Выходило, что Прекрасный Принц опять же достался «хозяйке жизни», страшненькой, широкоскулой Усачевой. И платье с восхитительными кружевными клиньями — тоже ей, и наверняка «Мерседес» на ближайшей к театру автостоянке. Даром, что лицо у нее бесформенное и плоское, как блин, и брови широкие, как у монголоида, и задница за эти десять лет не стала нисколько более соблазнительной! Дорогое платье висит на ней, как половая тряпка!..
— Мой муж? — Оксана повела темной бровью, прекрасно зная, что на глаза ее сейчас набежит мгновенная тень, и от этого они сверкнут ярко, как старинные сапфиры. — Муж — ведущий врач частной клиники пластической хирургии. У нас неплохой коттеджик под Москвой, но сейчас там перепланировка, и мы живем в городской квартире на Соколе.
Усачеву такой ответ явно не устраивал. Она сразу скисла и поскучнела. Наверное, дальше планировалось утешение не нашедшей себе места в жизни подруги. После упоминания частной клиники пластической хирургии говорить стало не о чем.
— Ну, ладно, мне, наверное, пора, — Нелька раскрыла сумочку, достала маленькие часики в перламутровой раковинке и небрежно скользнула взглядом по циферблату. — Муж уже заждался. Приятно было поболтать, может, еще когда-нибудь встретимся…
«А может, нет?» — с надеждой подумала Оксана. После ухода Усачевой она тщательно, с остервенением вымыла руки с мылом, провела влажными ладонями по волосам, но настроение все равно не улучшилось. Она не решилась сказать, что Андрей — самый обычный врач. То, что он талантлив, Нельку бы, вне всякого сомнения, не взволновало. И тогда она просто придумала ему престижную должность в крутой клинике, и коттедж за городом, и совсем другую жизнь… Конечно, для того, чтобы была другая жизнь, нужен другой характер. Время красивых мальчиков с чистыми устремлениями, не желающих и пальцем пошевелить для собственной карьеры, давно прошло. Теперь «за красивые глазки» что-то перепадает только «голубым». А «натуралы» с прекрасными очами Улисса и философским отношением к жизни остаются на бобах, если только не подцепят себе богатую дамочку средних лет или дочь обеспеченных родителей! Но это уже альфонсы. Потемкин не был ни «голубым», ни альфонсом. Он был рядовым хирургом, которому предстояло всю оставшуюся жизнь вырезать аппендициты и язвы, после работы добираться домой на общественном транспорте, жить в квартире, вот уже пятнадцать лет требующей ремонта… И тут Оксана вдруг подумала о Клертоне. Не то, чтобы ей приятно было о нем думать. Воспоминание возникло случайно: добродушный, скромный «пингвин» подает ей руку, и об эту руку хочется опереться. Не важно, что ладонь мягкая и немного влажная, не важно, что на ней почти не прощупываются твердые узелки суставов, ведь руку взрослого, ведущего тебя на прогулку, не выбирают? У папы так вообще прямо под безымянным пальцем растет круглая и шершавая бородавка…
Меланхолично прозвенел второй звонок. Она еще раз смочила кончики пальцев, побарабанила ими по разгоряченным щекам и, поправив на шее ожерелье из розового кварца, вышла из туалета. Песня про леди Гамильтон больше не шла на ум. Оксана шагала мимо висящих на стене портретов актеров и думала о том, что она, как шарик в лунке, катается с детства в уготовленной для нее ячейке и будет кататься там до самого конца. Андрей будет приезжать с работы на троллейбусе, вешать на плечики пальто, купленное на ближайшем оптовом рынке, а она, стоя у зеркала, прикладывать к вырезу ненавистного платья цвета фуксии то пеструю шелковую косыночку, то кварцевые бусы. Кстати, нужно выбрать наряд для завтрашнего похода в ближайшую забегаловку, гордо именующуюся рестораном!.. Ее шарик никогда не выкатится из этой лунки, а откуда-то сверху на нее будут взирать с участием и сочувствием широкоскулая Нелька Усачева, кудрявенькая Оля Зарайская, вышедшая замуж за выдающегося скрипача, гастролирующего по всему миру, и, наконец, милая и безупречно элегантная будущая супруга Томаса Клертона. Ведь когда-нибудь он женится? Конечно, женится! И опять какая-то женщина вытащит предназначенный Оксане счастливый билет. Какая-нибудь скромная англичаночка вместо нее будет распивать в шикарном загородном коттедже традиционный пятичасовой чай и вкушать утреннюю овсянку… Она усмехнулась и прикусила нижнюю губу, чтобы не расплакаться. Билетерша у входа, уже готовящаяся закрыть двери в зал, посмотрела на нее крайне неодобрительно. Наверное, в любой другой день Оксана просто бы сделала вид, что ничего не заметила, но сегодня она была слишком несчастной, чтобы что-то кому-то прощать. Она резко остановилась и взглядом, полным тяжелого презрения, смерила вмиг оробевшую женщину с ног до головы. Билетерша стала первым человеком, возненавидевшим ее за сегодняшний день. Впрочем, почему первым? Вторым! Наверняка Нелька ей не простила ее мифического, несбыточного счастья…
В буфете не было уже никого, кроме самой буфетчицы, стремительно собирающей на подносы грязную посуду, и Андрея, сидевшего за столиком с двумя бокалами фанты и бутербродами. Выглядел он крайне нелепо, грустный и похожий на красивую, обиженную птицу. Да еще свет от люстры падал прямо на плечо его пиджака, и Оксана вдруг с удивлением заметила, что из серой в светлую полосочку шерстяной ткани кое-где выбиваются ужасные синие нитки.
— Ты где так долго? — спросил Андрей несколько обиженно. — Я уже собирался идти тебя искать. Сижу здесь как дурак…
— Однокурсницу встретила, она теперь жена какого-то то ли посла, то ли дипломата. — Оксана села за столик и пододвинула к себе бокал с бывшей фантой, теперь, лишенной газа, превратившейся в сладкий апельсиновый сиропчик. — И знаешь, я, не знаю зачем, соврала, что ты у меня — ведущий хирург частной клиники пластической хирургии…
Оксана разжала пальцы, сжимающие стакан, так осторожно, словно держала чеку гранаты. Она пристально смотрела на Потемкина и ждала. Ждала, не решаясь вздохнуть или даже моргнуть, чтобы он не заметил.
— Ну ты даешь! — Андрей смешно наморщил нос. — Почему именно пластической хирургии? Для этого же нужна совершенно конкретная специализация. Или тебе так солиднее показалось?.. Бедная, бедная Оксанка! Ну никак ты не можешь поверить, что у нас совсем скоро все будет хорошо. Я это чувствую, понимаешь?..
Его синие глаза были безмятежно-чистыми. «Ты чувствуешь?! — подумала она с неожиданной злостью. — Чувствуешь! Как ворона приближение дождя!.. Не чувствовать надо, а дело делать. Господи, сколько сейчас еще денег угрохается на ребенка!.. Вот возьму и сделаю аборт назло тебе. Может быть, хоть тогда начнешь чесаться?»
— Ну что, будешь есть? — Потемкин показал глазами на бутерброд. Оксана брезгливо поджала губы: осетрина на подсохшем кусочке хлеба имела совсем не аппетитный вид. Он снова коротко рассмеялся. — А что, сама виновата! За то время, что ты болтала с подружкой, любое блюдо превратится в нетоварное. И вообще, мне кажется, твой распрекрасный англичанин, с которым ты уже почти неделю носишься по городу, не простил бы подобной непунктуальности.
— Простил — не простил, какая разница? — она пожала плечами, и снова ей почудилась мягкая, влажная ладонь, поддерживающая ее бережно и заботливо…
* * *
— Я уезжаю через три дня, — сказал Том неожиданно грустно, вроде бы даже не ей, не себе, а кому-то невидимому, слушающему их разговор. — Все хорошее заканчивается очень быстро. Да?
— Да, — эхом отозвалась Оксана, — мне было очень приятно работать с вами, мистер Клертон.
— Но я ведь, наверное, замучил вас пешими прогулками по городу?
— Нет, почему же? — она пожала плечами. — Это было интересно: почувствовать себя резвой школьницей, готовой бегом обежать полмира. Да и потом, я ведь еще совсем не старуха!
— Вы — прекрасная женщина! — он мягко улыбнулся и положил свой круглый локоть на спинку деревянной лавочки. Пальцы его замерли всего в каких-нибудь миллиметрах от Оксаниной спины, но все же не коснулись ее. Она непроизвольно отодвинулась. Глаза Тома мгновенно погрустнели. И он стал похож на печального пингвина, не решающегося прыгнуть со льдины в воду. На скамейке напротив сидела еще одна пара, но у тех дела шли значительно лучше: парень в джинсовой куртке самозабвенно целовал свою девушку. На Оксане тоже была джинсовая куртка. С того памятного дня, когда лиловые туфли кошмарно натерли ноги, она стала одеваться на работу попроще и поудобнее. Вот так, как сегодня, например: белые кроссовки, джинсы, футболка и куртка. Она вдруг подумала, что эта осенняя аллея располагает к симметрии, и, чтобы ее не нарушать, ей в своей «джинсе» надо бы сейчас склониться над Клертоном и тоже его поцеловать. Интересно, как он отреагирует? Будет отбиваться или же расслабленно откинется назад, как та девушка напротив? Наверное, все-таки он не стал бы отбиваться, но все дело в том, что ей ужасно, до тошноты, не хочется его целовать. Интересно, когда она впервые попыталась представить себя с ним в одной постели? После разговора с Нелькой или позже, когда Андрей начал шутить по поводу ее пионерского служебного рвения? Андрей… Жирное пятно на обоях в его спальне, потрескавшаяся эмаль раковины, единственный приличный костюм, вечное ожидание зарплаты…
— Так вы все-таки откроете в Москве филиал своей фирмы? — спросила Оксана, чтобы еще больше не затягивать слишком долгое молчание. — Вы почувствовали «дыхание города»?
— Да, благодаря вам, — с безупречной вежливостью отозвался Том. Потом поморщился, приподняв очки, потер переносицу. — Но вообще-то это все не главное…
Что-то сзади нее тихонько зашуршало. Оксана слегка скосила глаза и увидела, что Клертон осторожно и медленно убирает свою руку. «Он не хочет, чтобы я чувствовала себя виноватой! — подумала она с неожиданной нежностью. — Не хочет показать, что заметил мое неудовольствие».
Листья сегодня падали не часто и как-то лениво. Когда очередной кленовый «вертолетик» запутался в ее светлом локоне, Оксана не сразу отреагировала. Зато Том просто впился в него глазами, и она почувствовала, что ему мучительно хочется прикоснуться к ее волосам, пусть даже только для того, чтобы убрать опавший листок. Но полные его руки продолжали хранить неподвижность: одна — на коленях, а вторая — на спинке лавочки.
— Оксана, — выговорил Клертон наконец, — я узнал в агентстве, что совсем скоро у вас день рождения. И я хотел бы, если вы позволите… Я хотел бы задержаться еще на пару дней, чтобы иметь честь лично поздравить вас… Впрочем, все это глупо. Конечно, глупо…
Он сидел перед ней на скамейке, затерявшейся в осеннем Парке Горького, и ждал, как ребенок, каприза ради отказавшийся идти в зоопарк, но все еще надеящийся, что начнут уговаривать. А может быть, Том и в самом деле считал все только что сказанное глупостью? Оксана этого не знала. Она в последнее время уже мало что понимала в нем, впрочем, как и в себе. Иногда Клертон казался ей обычным влюбленным «пингвином», а иногда он смотрел на нее так странно, с какой-то мудрой иронией, обращенной скорее внутрь себя. Том не любил говорить о своей работе, но она чувствовала, что там, в прохладе офиса, он совсем-совсем другой… А здесь он тихий «пингвин», и руки у него мягкие и влажные, а влажные руки — это так ужасно, и ужасно представить, что он касается ими ее шеи, лица, груди… Поэтому, наверное, правильно будет сейчас сказать, что через две недели у нее свадьба, что ей очень приятно его участие, внимание, но… Правильнее будет остаться со своим надоевшим платьем цвета фуксии и оптимистичными надеждами на светлое будущее.
— Том, я была бы очень рада встретить с вами мой день рождения. Но, к сожалению, мне нужно уехать на два-три дня, — Оксана сама смахнула с волос очередной кленовый «вертолетик». — Если вы сможете остаться в Москве еще ненадолго и дождетесь меня, то мы, конечно, отметим этот скромный праздник… Понимаете, я уже обещала…
— Да, — он как-то слишком покорно и обреченно опустил голову, — я понимаю. У вас, наверное, есть близкий человек, и я… В общем, я неуместен и нелеп?
Она на секунду представила его потные руки и, наверное, такие же потные от волнения залысины, потом глубоко вдохнула, как перед прыжком в воду, и протянула дрожащие, тонкие пальцы к его виску. А виски у Клертона оказались холодные и гладкие.
— У меня нет близкого друга, — замирая от собственного падения, произнесла Оксана, и провела подушечками пальцев вниз по скуле и щеке. — И мне очень приятно ваше общество. Поэтому я прошу вас дождаться меня. Пожалуйста!
Том так и не решился накрыть своей ладонью ее тонкие нервные пальцы…
В тот день они расстались раньше обычного. Оксана заговорила про головную боль, хотя в общем-то это было излишне. И он, и она явно чувствовали необходимость в одиночестве. К счастью, Андрей должен был вернуться с дежурства только через пять часов. Она взяла такси, за которое, как всегда, заплатил Клертон, и поехала на Сокол. Уже по дороге ей стало противно до реальной, сводящей скулы тошноты. Оксана вспоминала холодные, как у покойника, виски, мягкие щеки и, главное, дыхание, щекочущее ее ладонь. Хотелось вымыться с головы до ног с каким-нибудь ароматическим гелем для душа, а потом зарыться лицом в подушку и лежать, лежать… Она понимала, что теперь уже ничего не будет по-старому, потому что она не сможет вот так запросто смотреть в глаза Потемкину. И зачем нужна была эта отсрочка в три дня? Зачем нужна теперь эта поездка в Голицыно? Что окончательно решать? О чем думать? Какие чувства проверять? Даже если решить остаться, что останется от этих самых чувств теперь, когда она не сможет улыбаться в ответ на забавные больничные истории, которые Андрей любит рассказывать, вернувшись с работы. Не сможет, потому что будет невыносимо ярко помнить свои пальцы на «пингвиньих» висках? Это острое ощущение безнадежности и непоправимости случившегося Оксана впервые познала в детстве. Тогда, во втором классе, она как-то получила двойку за контрольную работу. Сказать маме было страшно, и не сказать тоже было нельзя. А мама как назло пришла с работы в чудесном настроении. Не поинтересовавшись школьными успехами, она сразу усадила ее ужинать и, плюс к картошке с котлетами, достала из сумки крупные оранжевые апельсины. Оксана уселась на свой персональный табурет, а мама принялась рассказывать истории из своего детства. Истории, откровенно говоря, были скучные и тысячу раз слышанные. Но тогда она все бы отдала за пронзительное счастье сидеть рядом, слизывать с ладоней апельсиновый сок, слушать, слушать и знать, что нет этой ужасной двойки в дневнике. Но двойка тем не менее была. Как были сейчас потные виски Клертона…
Шофер, до глубины души пораженный щедростью иностранца, привез ее во двор, где обычно останавливались грузовики, привозившие продукты в гастроном. Оксана вышла из машины и быстро скрылась в подъезде. Ей не хотелось видеть чьи-то лица, слышать чужие голоса. Хотелось одиночества и тишины. В квартире было пыльно. Седая, тонкая пленка лежала и на тумбочке для обуви, и на подставке для телефона. Вообще, даже странно, с какой бешеной скоростью в этом доме образовывалась пыль. Казалось, сегодня утром Оксана прошлась по мебели влажной тряпкой. «Наверное, это оттого, что стены старые и из них лезет труха, — устало подумала она, расшнуровывая кроссовки. — Впрочем, возможно, это скоро перестанет меня волновать». И все-таки ей было странно представить, что она может и не стать хозяйкой этой квартиры. Слишком уж привычными стали мечты о наборе кастрюлек, о новом плафоне для кухни и обивке для двери.
Оксана не пошла в спальню, а уселась в большой комнате перед телевизором. Пульт лежал рядом, но нажимать на красную кнопочку не хотелось. Зачем? Достаточно спокойно сидеть на диване и ждать. Тогда, может быть, суматошные, мечущиеся мысли, готовые, кажется, свести ее с ума, наконец угомонятся и можно будет подумать об Андрее. О нем надо подумать, от этого никуда не убежишь… Но, Боже, как не хочется! Не хочется, как не хотелось в детстве думать о смерти, потому что от этого по позвоночнику до самого копчика бежали мурашки и ноги сводило судорогой. Ничего не может быть после Андрея, как ничего не может быть после смерти… Но разве лучше жить вот так и постоянно звереть от безденежья и снисходительных взглядов разных там Нелек Усачевых? Разве лучше постепенно, день за днем, проникаться тихой ненавистью к его безмятежным синим глазам, к его отстраненной улыбке? Разве, в конце концов, не честнее будет уйти сейчас, когда любовь, как в прозрачном аквариуме, еще живет в ее сердце? И кто запретит ей сохранить эту чистую, не испорченную серой бытовухой любовь? Ведь никто не заставит ее любить Клертона? От нее требуется только стать его женой и вытянуть наконец свой счастливый билет. А потом… Кто знает, что будет потом? Во всяком случае, она останется сама собой и сможет быть такой, какой ее задумала природа: красивой, безмятежной, женственной. Она стоит этого, она заслужила. И потом, почему ей должно быть стыдно? Ведь пока еще их с Андреем не связывают никакие обеты: ни перед Богом, ни перед людьми. Только тогда нужно будет быстрее решать вопрос с ребенком. В конце концов, она не первая и не последняя, кто делает аборт! Почему, почему она должна чувствовать себя преступницей?!
Оксана поднялась с дивана и прошла на кухню. В холодильнике оставалась полупустая пластиковая бутылка пепси-колы. Пить хотелось ужасно, то ли от волнения, то ли от этого дурацкого витамина Е, который приходится глотать по шесть капсул в день. «Впрочем, теперь, наверное, я буду от этого избавлена»… — подумала она и открыла округлую зиловскую дверцу. Просмотрела полки, нашла бутылку и хотела уже захлопнуть холодильник, когда заметила большое румяное яблоко, выглядывающее из-за пакета с кефиром. К яблоку были прилеплены два озорных бумажных глаза и рот, а рядом лежала записка: «Это тебе. Грызи и набирайся витаминов. Вечером будут груши. Я тебя люблю». Оксана вместе с бутылкой опустилась прямо на холодный пол и прижала кончики пальцев к вискам. «А ведь Том еще ни разу не сказал, что любит меня? И может быть, не скажет вообще… А если скажет своими толстыми и, наверное, мягкими, как у девушки, губами, где гарантия, что меня не стошнит? Кто даст гарантию, что я смогу жить без Андрея? Что не превращусь в злобную стерву, не сойду с ума? Не прокляну все на свете? Кто скажет мне, как я должна поступить?» Ей вдруг захотелось прямо сейчас поехать в клинику к Потемкину, разыскать его, даже вытащить из операционной, потому что важно, жизненно важно, увидеть его лицо. Но потом она подумала, что там, в больнице, наверняка все знают о предстоящей свадьбе, а значит, будут смотреть на нее как на счастливую невесту и улыбаться дурацкими фальшивыми улыбочками. Лучше ждать дома. Просто ждать. В конце концов, спешить некуда? В запасе есть еще три дня в Голицыно. Три дня на размышления…
* * *
— Нет, насчет трех дней он, конечно же, меня наколол, — Андрей, не оборачиваясь, передал Вадиму два пустых стакана со стола, — но от Виталия Павловича этого можно было ожидать… Жалко только, Оксанка расстроилась. Ты представь: у нее уже сегодня день рождения, а мы до двенадцати ночи только-только успеем добраться в это гребаное Голицыно и открыть шампанское. И то если выедем сразу после окончания моего дежурства… Класс, да?
— Класс, — меланхолично отозвался Гриценко, наливая в стаканы кипяток из литровой банки, обернутой в вафельное полотенце. — А ты бы пришел к нему, стукнул кулаком по столу, сказал: так, мол, и так, отпустите сейчас же и до конца октября! А что? Празднование дня рождения любимой женщины, плавно переходящее в свадьбу и медовый месяц!
— Да я сам понимаю, что, по идее, он прав, — Андрей поморщился, — но перед Оксанкой неудобно жутко. Она и так, бедная, живет жизнью образцовой домохозяйки: работа — дом, работа — дом… Недавно в театр вырвались, так там и то какая-то крыса из бывших институтских подружек умудрилась ей настроение испортить… А ей ведь, наверное, хочется и в рестораны, и в клубы ночные… Не дома же сиднем сидеть, с ее то внешностью!
Наивная мальчишеская гордость проклюнулась в его словах, словно нахальный птенец, причем настолько неожиданно, что сам он смущенно заулыбался. Зато Вадим с демонстративно и восхитительно равнодушным видом продолжил методично топить в стаканах с кипятком пакетики чая. Пакетики были похожи на терпящие крушение корабли, их рифленые уголки — на взывающие к помощи паруса, а глаза Гриценко — на два рыжих комочка смеха. Потемкин на секунду почувствовал себя семилетним пацаном, слишком уж расхваставшимся игрушкой с дистанционным управлением.
— С ее-то внешностью! — принимая правила игры, повторил он.
— А? — рассеяно отозвался Вадим, прижав ложечкой пакетик ко дну стакана.
— Я говорю: с ее-то внешностью!
— Что-что?
— С ее-то внешностью! — рявкнул Потемкин, наклонившись к его лицу. Гриценко резко отодвинулся, делая вид, что прочищает ухо, а свободной рукой показал ему кулак. Потом выпрямился, поправил воротник халата и деловито поинтересовался:
— Так что ты говоришь?
Оба расхохотались, а потом Вадим задумчиво добавил:
— Да-а… Если бы у меня была такая жена, я бы тоже, наверное, кричал об этом на каждом углу.
Жену Гриценко Андрей никогда не видел. Просто знал, что она у него есть, как и двухкомнатная квартира на «Полежаевской», как двое детей, как старенькая красная «шестерка». А еще у Вадима была длинноногая Олеся с круглыми зелеными глазами. Эти глаза, вечно, кажется, прозрачные и печальные, Андрею почему-то сейчас и вспомнились. Нет, на работе Олеся, случалось, смеялась или, по крайней мере, улыбалась, демонстрируя ровные белые зубки и безмятежное настроение. Но как-то совершенно случайно он заметил, как она смотрит в спину уходящему Гриценко. Она стояла посреди гулкого больничного коридора, засунув руки в карманы халата, и из глаз ее словно постепенно вытекала жизнь. Впрочем, когда Вадим обернулся, то ли почувствовав ее взгляд, то ли еще почему, Олеся мгновенно заулыбалась, сделала ему «ручкой» и, цокая каблучками, заспешила в сестринскую. Андрей тогда деликатно «нырнул» в ближайшую палату, подумав только: «Несчастная девчонка!» А сейчас вдруг впервые задался неожиданным вопросом: «Интересно, а как смотрит на меня Оксана, когда я поворачиваюсь к ней спиной?»
Чай оказался горьким и пах соломой. Сделав пару глотков, Вадим потянулся за коробочкой, взял ее двумя пальцами, как дохлую мышь, и с отвращением прочитал:
— «Чай «Напиток жизни». Изготовлен на основе натуральных экстрактов элеутерококка, женьшеня, мяты, китайского лимонника…» Ну, все ясно! А также из маральих пантов, мумие, сотового меда, бальзама Биттнера и вьетнамской мази «Золотая звезда»! Намешают, поди, сена из ближайшего коровника, а понапишут-то, понапишут!
Андрей машинально кивнул. Ему захотелось увидеть Оксану. Хотелось слышать, как близко и гулко бьется ее сердце. Ему вообще нравилось сильно и нежно прижимать ее к себе, чувствуя ее мягко распластывающуюся грудь, с упрямыми сосками, остающимися твердыми горошинами между их разгоряченными телами. Он перевел глаза на часы. До конца дежурства оставалось чуть больше получаса. Значит, скоро придет Оксанка, с обезоруживающей бесцеремонностью плюхнется в единственное кресло, вытянет свои длинные ноги, скорее всего в белых кроссовках, и скажет весело и ласково:
— Ну что, Потемкин, я по тебе соскучилась. Поедем, что ли?
Всего через полчаса…
— Слушай, я отлучусь на пять минут? — снимая белый халат, Андрей обернулся к Гриценко. — Цветов Ксюше куплю. А то здесь кругом этот стерильный белый цвет, ощущения праздника нет…
— Поэт! — с деланным презрением отозвался Вадим. — Зачем спрашиваешь, если одной ногой ты уже в коридоре? Можно подумать, что если я скажу «нет», ты горько заплачешь и останешься!
— Нет, конечно, но все-таки…
— Все-таки! — Вадим укоризненно покачал головой. — А тебе кто-нибудь говорил, Потемкин, что когда ты смущаешься, то становишься похож на красну девицу? Очи долу опускаешь!.. Да и вообще, кому ты сегодня здесь нужен? Дежурство заканчивается, Севостьянов уже пришлепал, так что можешь сваливать!
Славка Севостьянов, недавний выпускник мединститута, обычно приходил за час до официального начала своей смены и отправлялся в коридор пить кофе. Зачем ему нужна была ежедневная кофейная церемония, никто толком понять не мог. Благо бы человек подпитывал себя кофеинчиком, чтобы взбодриться, или просто млел от чудесного сочетания какого-нибудь «Якобса» с хорошей сигаретой. Так нет же! Севостьянов пил нечто такое, что и кофе-то называть было кощунственно. В огромную «бадейку», расписанную светло-зелеными цветочками, он клал всего одну ложечку коричневого порошка и целых пять чайных ложек сахара! Все это заливалось кипятком, превращалось в омерзительный и густой сахарный сироп, а потом выпивалось с задумчивым видом и взглядом, устремленным в форточку. Вот и сегодня Славка стоял у подоконника и не спеша потягивал нечто, сладко пахнущее дореформенным тортом «Прага». Андрей вдруг подумал, что он похож на игрушечную заводную ворону, ритмично опускающую свой длинный клюв в чашку с угощением.
— Вы уже все, Андрей Станиславович? — спросил Севостьянов, обернувшись на звук его шагов.
— Нет. Сейчас выскочу на улицу на пять минут и вернусь.
— Понятно. — Славка флегматично качнул головой. И было совершенно неясно, огорчило его это известие или обрадовало. На его длинноносом лице вообще трудно было что-либо прочитать. Он и операции проводил с тем же философским видом полной покорности судьбе, и больных осматривал, и, наверное, даже целовался с женой. Белую в зеленый цветочек кружку он в очередной раз поднес ко рту, а Андрей, прыгая через ступеньки, побежал вниз по лестнице…
Цветы продавали прямо перед входом в больничный городок. «Цветочники» довольно быстро разобрались, что ближайшая станция метро, окруженная целой букетной оранжереей, достаточно далеко, а молодых мам забирают из роддома каждый день. Поэтому перед маленькой кирпичной проходной со строгим омоновцем появился настоящий базарчик с высокими конусообразными вазами, стеклянными ящиками и горящими внутри их свечами. Здесь продавали и роскошные розы, и изысканные хризантемы, и официальные гвоздики, а одна дама так и вовсе шла в ногу со временем. Во всяком случае, Андрей сразу подумал, что она прочитала тот же дамский журнал, что и Оксанка. А точнее статью про то, как организовать первый день новорожденного младенца дома и, в частности, что девочку положено встречать розовыми цветами, а мальчика — голубыми. Перед дамой, черноволосой, полной, кутающейся в джинсовую «косуху», на раскладном столике стояли чудесные букетики из необычных нежных цветов. Они, в самом деле, были розовыми и голубыми, как ленточки на детских конвертах. А еще над ними легким облачком парили мелкие белые «звездочки» на тонких стебельках.
— Берите, берите, молодой человек, — зычно и авторитетно предложила дама, перехватив его взгляд. — Пыльцы на них нет, аллергии не вызывают, для такого случая в самый раз. У вас мальчик? Девочка?
— Да у меня пока еще никого, — спокойно улыбнулся Андрей.
— А! — грустно кивнула головой цветочница, стремительно теряя к нему интерес.
Он еще раз взглянул на розово-голубые букетики и подумал, что встречать Оксанку из роддома нужно будет именно с такими цветами. А пока, наверное, лучше розы…
Выбрать розы оказалось делом совсем непростым. Ему предлагали белые на толстых темно-зеленых стеблях, бордовые, цветом напоминающие свекольник, маленькие бутоны, погруженные в пышную зелень и обернутые сверкающим целлофаном. В конце концов он взял три классически красные и отправился обратно в отделение.
Розы пахли просто великолепно! Оксанка, не переносящая духов со сладким цветочным запахом, обожала запах натуральных цветов. Она всякий раз замирала возле какой-нибудь вазы, привстав на цыпочки и блаженно зажмурив глаза, как кошка, учуявшая запах валерьянки. При этом тонкие ноздри ее слегка подрагивали, а на губах блуждала неясная улыбка. Андрей этого не понимал, но по ее просьбе старательно принюхивался, а потом совершенно серьезно говорил: «Ну, ва-аще!» И поворачивал к ней лицо с бессмысленными, сведенными к носу глазами. За что обычно получал по лбу… Сейчас ему казалось, что розы оставляют тень своего запаха на стерильных стенах отделения, и что это аромат радости и надежды — чувств, как известно, более чем полезных для больных. Но он имеет право быть глупым и наивно-счастливым, потому что сегодня день рождения любимой женщины, которая очень скоро станет его женой. И вообще дежурство благополучно заканчивается через десять минут, Севостьянов, уже, наверное, готовится к вечернему обходу. Неожиданно Андрей остановился и принюхался: сладкий аромат роз тяжело и страшно перекрывался густым запахом свежей крови…
Навстречу ему, словно огромная перепуганная бабочка, выскочила медсестра Жанна.
— Что случилось? — спросил Потемкин, зачем-то пряча букет за спину.
— Мальчика привезли тяжелого. На железный прут напоролся, — на бегу ответила она. — Смотреть страшно. Да еще мать в каталку вцепилась, подойти не дает… Операционную готовим. Вот, блин, невезуха!
«Невезуха» явно относилась к тому, что тяжелая операция выпала на ночную смену. К тому же Жанне не хотелось работать с молодым и неопытным Севостьяновым. Стоило тому взять в руки скальпель, как на лицо его наплывало выражение философской покорности судьбе. Сквозь эту меланхолическую пелену отчетливо проглядывал страх. Севостьянов заранее готовил себя к поражению и каждый раз «восставал из пепла», когда выяснялось, что больной не умер у него под ножом. То ли просто в мединститут его запихали родители, озабоченные, чтобы их чадо получило приличное образование, то ли он сам слишком поздно осознал свою «профнепригодность». Во всяком случае, теперь каждый день он что-то доказывал сам себе, и непонятно, чем это должно было в результате закончиться. К счастью для пациентов, в институте Слава учился чрезвычайно прилежно, и хирургом был хоть неопытным, но грамотным. Он напоминал грамотного канатоходца, превосходно знающего «теорию» и тем не менее каждую секунду боящегося сорваться вниз…
Жанна стремительно понеслась дальше, в направлении приемного покоя. Андрей немедленно последовал за ней. Теперь он уже не чувствовал запаха роз, и о том, как нелепо выглядит сейчас в своей серой «толстовке» с черными пуговками, в черных джинсах, да еще с этим шуршащим целлофаном букетом, задумался только тогда, когда его фигура мгновенной тенью отразилась в стеклянной двери приемного покоя.
Мальчик выглядел тщедушным и жалким в безжалостном свете ламп. Ему могло быть лет десять-двенадцать. Его лицо превратилось в серую безжизненную маску с черными кругами под глазами. Он лежал на закрытой белой простыней каталке, а под ним расплывалось неровное алое пятно. Мать уже не цеплялась за носилки, а сидела рядом на кушетке и плакала безнадежно, как на похоронах. Наверное, они с сыном были в гостях или собирались куда-то в гости, потому что мать была тщательно причесана и одета в дорогой шерстяной костюм. Девчонки-медсестры успели обрезать у мальчика вдавившиеся в края раны кусочки белой шелковой рубашки. Вадим стоял у стены, скрестив руки на груди, и смотрел прямо перед собой отсутствующим остекленевшим взглядом. Услышав скрип открывающейся двери, он повернулся, кивнул Андрею и, указав глазами на мальчика, скептически поджал губы. Это могло означать только одно: шансов спасти пацана практически нет.
— У Севостьянова от ужаса даже уши побелели, — шепнул Вадим, когда Андрей рядом с ним прислонился к стене. — Жалко пацана…
Мальчишка явно находился в болевом шоке и ничего не чувствовал. Что касается хирурга Славика, то он наверняка сидел где-нибудь в одиночестве, уставившись в стену перед собой и холодея от одной мысли о предстоящей операции. Способность осознавать действительность не потеряла скорее всего только мать, такая же неуместная в этих стенах со своими залитыми лаком каштановыми локонами, как и Потемкин с алыми розами в руках.
— Ты думаешь, он справится? — шепотом спросил он у Вадима, стараясь не привлекать к себе внимания окружающих.
— А от него тут уже ничего не зависит, — Гриценко пожал плечами. — У мальчишки вот-вот начнется агония. Ну еще час ему, ну два осталось… Так что тут ни студент, ни профессор уже не помогут.
— И все-таки не хотелось бы, чтобы это был студент…
Вадим отлепился от стены и посмотрел на него с любопытством энтомолога, разглядывающего диковинного кузнечика. И Андрей с каким-то полуиспугом-полуудивлением заметил, как в глазах его вспыхнули веселые искорки, точно такие же, как во время недавнего разговора об Оксане.
— Ты на что это намекаешь, друг мой? — поинтересовался Гриценко с вполне светской иронией. — Уж не на то ли, что кому то из нас нужно встать к столу вместо Севостьянова?
— А почему бы и нет? — Потемкин чувствовал, как к горлу подкатывает ярость.
— Нет — потому что нет. Потому что тебя ждет невеста, а меня жена, если угодно, с котлетами и борщом! Потому что наше дежурство кончилось. И самое главное потому, что это ничего не изменит. А исключительно для последующего самолюбования: «Вот какой я хороший! Попытался что-то сделать, хоть и знал, что бесполезно». Я лично палец о палец не ударю и тебе не советую!
Последнюю фразу он произнес довольно громко. Женщина, сидящая на кушетке, подняла свое заплаканное, опухшее лицо и недоуменно посмотрела в их сторону. Казалось, она не понимала, о чем и зачем теперь можно говорить.
— Кстати, вот эта же дама, когда очухается, — Вадим кивнул головой в сторону матери, — побежит жаловаться по всем инстанциям. Будет кричать, чтобы проверили квалификацию хирурга, который зарезал ее сына. Тебе это сильно надо?.. Ну что молчишь?
Он так и не выбился из спокойного тона светской беседы, и рыжие «бесенята» по-прежнему плясали в его глазах. Им было там удобно, а главное, привычно.
Андрей достал из кармана джинсов спичку, переломил ее двумя пальцами, обломки спрятал обратно в карман, а потом тихо сказал:
— Пойду поговорю со Славкой, а ты зайди, пожалуйста, в ординаторскую и оставь для Оксаны цветы, ну и какую-нибудь записочку от моего имени…
Наташа тем временем накрыла каталку свежей простыней. Мальчика собирались везти в операционную.
— Давай цветы, — Вадим протянул руку и усмехнулся. — В воду поставлю, записку напишу… Будут еще какие-нибудь пожелания или распоряжения?
Андрей молча сунул ему празднично шуршащий букет и вышел из приемного покоя. Он знал, что Гриценко вышел сразу же следом за ним, что идет сзади на расстоянии нескольких шагов, силясь сохранить на лице мудрую улыбку уверенного в своей правоте мужчины. Они дойдут до лестницы, оттуда Вадим свернет к ординаторской, а Андрей к операционной. Андрей, на ходу периодически поднося к лицу ладонь и с отвращением вдыхая запах мокрых стеблей роз, просочившийся сквозь целлофан, думал об Оксане. Да, она была тысячу раз права! Каким же надо было быть идиотом, чтобы с блаженной улыбкой на лице обещать ей эти три дня в Голицыне? Каким же надо было быть дерьмом, чтобы не подумать о том, как Оксанка будет чувствовать себя, если в последний момент все сорвется? Операция почти наверняка затянется, ни в какое Голицыно они уже сегодня не успеют. И бедная Ксюша вынуждена будет праздновать собственный день рождения в гордом одиночестве или в лучшем случае с родителями…
Андрей не успел еще свернуть в боковой проход, ведущий к операционной, когда заметил вдалеке, у дальней лестницы знакомый силуэт. Против его ожиданий, Оксанка надела сегодня не брюки с кроссовками, а светлую узкую юбку и туфли на низеньком каблучке. Но, что в этих туфлях, что в кроссовках, что в лодочках на сумасшедшей шпильке, походка ее всегда оставалась одной и той же — как бы летящей над землей. Розовые лучи закатного солнца, льющиеся через одинокое окно в конце коридора, обрисовывали вокруг ее фигуры тонкий светящийся ореол. Она шла навстречу ему и улыбалась.
Сзади его нагнал Вадим и незаметно сунул ему в руку уже потерявший свою первозданную свежесть и словно бы пожухший от больничных запахов букет. Впрочем, можно было особо не «шифроваться». Оксана не замечала ни Вадима, ни цветов. Она смотрела только в глаза Андрея. И он, вбирая в себя эту удивительную синеву, чувствовал, как горло сжимает то ли любовь, то ли жалость, то ли сознание собственной вины…
— Ну так что? Мы едем? — Она остановилась в двух шагах от него, поправив на плече ремень светлой матерчатой сумочки с двумя пряжками. И Андрей вдруг подумал, что она похожа сейчас на красивую гибкую кошку, предпочитающую с безопасного расстояния принюхаться к предполагаемому противнику. Они никогда не были противниками. Тем не менее Оксана присматривалась к нему недоверчиво и осторожно, словно ожидая наткнуться на что-то странное, опасное. А может быть, просто она предчувствовала недоброе?
— Ксюшенька! — Он подошел вплотную и мягко притянул ее лицо к своей груди. — Милая, любимая… Я знаю, что виноват ужасно, что ты меня не простишь. Но мы не можем сегодня поехать, даже поговорить толком не сможем… Понимаешь, привезли мальчика, очень тяжелого, а в ночную вышел Славка Севостьянов… Ну я тебе рассказывал, который на чашку кофе килограмм сахара кладет… В общем…
Андрей ожидал чего угодно: обиженного, чисто женского «я так и знала», по-детски растерянного «а как же мой день рождения?», слез, упреков, ссоры. Но только не того, что произошло. Она подняла на него глаза, спокойные и полные невозможной нежности, провела пальцем по щеке и сказала вполголоса:
— Ни о чем не волнуйся. От тебя ведь ничего не зависело, правда? Это кто-то на небе так за нас решил… Иди, оперируй своего мальчика. И знай, что я очень-очень тебя люблю.
Он наконец догадался отдать букет Оксане. Она взглянула на розы без какой-либо радости, машинально кивнула и развернулась, чтобы уйти.
— Оксана, — позвал Андрей, толком не понимая, зачем он это делает и почти реально слыша, как слабо тикают невидимые часы, отмеривающие минуты жизни маленького мальчика. Она замерла, секунду постояла в неподвижности, смотря не на него, а куда-то в пространство. Потом подошла вплотную и еще раз прижалась к его груди. Он почувствовал, что она прощает его. Прощает, в полном смысле этого слова… Уже наполовину отсутствующий, сосредоточенный на том, что будет происходить в операционной, а главное, успокоившийся, Андрей сообщил ей, что будет скорее всего завтра утром, и как-то отрешенно помахал ладонью. Оксана еще некоторое время постояла у стены, уронив руку с алыми розами. Потом так же молча пошла к лестнице. На секунду остановившись у самого входа в операционную, Андрей увидел, как она набирает какой-то номер на висящем на стене телефоне-автомате. «Наверное, звонит родителям, — подумал он. — Правильно, так будет лучше»…
* * *
Том Клертон еще никогда так тщательно не готовился к свиданию с женщиной. Обычно он только платил: деньгами за любовь «профессиональную», добрым отношением за доброе отношение, симпатией за симпатию. Это было просто и пресно, как вегетарианское рагу: цивилизованная торговая сделка, и ничего более. Ровным счетом ничего! Он слишком хорошо представлял себе свое будущее, слишком твердо знал, что бесплатно в жизни ничего не бывает, поэтому, наверное, сегодняшний звонок застал его врасплох.
Том Клертон долго чистил зубы перед зеркалом в ванной. Зеленая пена щипала десны, по подбородку стекала мутная влага, а он все тер и тер щеткой вверх-вниз, вверх-вниз, словно надеясь, что зубы заблестят так же, как раковина с позолоченными кранами. Горничная по его просьбе за полчаса навела в номере идеальный порядок, расставила в вазы живые цветы, и теперь гостиная и спальня — все стало немного походить на иллюстрацию к богатому и толстому журналу «Интерьер». Том не знал, как все опять сделать живым и настоящим, и поэтому спрятался в ванной, вместе с отглаженным костюмом и начищенными туфлями, отгородив для себя уголок реального мира.
Вода умиротворенно журчащим, прозрачным ручейком стекала по белоснежной стенке раковины, а Том продолжал чистить зубы, уже ощущая на языке солоноватый привкус крови. «Она сказала, что хочет меня увидеть!» — мысленно он повторял и повторял про себя. Именно так «она сказала». Как будто историю его отношений с Оксаной рассказывал кто-то другой. Собственно, истории никакой еще и не было. Было похожее на шок ощущение беспомощности и растерянности, когда он увидел ее впервые, было желание зарыться лицом в ее колени, было ее неуверенное и ласковое прикосновение и чувство, что внутри все обрывается раз и навсегда. А сегодня раздался этот звонок. Он не ждал его, не смел надеяться. Он перенес дату возвращения в Лондон, ну, только, пожалуй, потому, что надо было немного успокоиться и побыть в одиночестве…
Том тщательно прополоскал рот и глянул в зеркало. На него смотрел совсем еще не старый мужчина с прямым носом, приятным овалом лица и совсем даже не пустыми глазами. «Я не урод, не глупец, не стареющий ловелас, — произнес он негромко, прислушиваясь к тому, как его голос эхом отражается от холодного и сверкающего кафеля. — Я действительно мог бы ей понравиться. Это не может быть из-за денег. Не такая она женщина, да и случай не тот… Сейчас далеко не все русские живут в нищете, а она, с ее красотой, давно могла бы сделать выгодную партию… Да и, в конце концов, ничего же еще не произошло! Она сказала только, что хочет со мной поговорить. Это всего лишь разговор и больше ничего. Глупо что-то планировать и на что-то рассчитывать». Он с раздражением опустил влажную зубную щетку в специальный стаканчик. «Начал тут начищать зубы, глупый, безмозглый индюк! — осадил самого себя Том. — Можно подумать, она собирается тебя поцеловать?!» Мысленно он всегда называл Оксану только «она», хотя ему и нравилось ее имя, нежное, неудобно ложащееся на язык, но все равно, прекрасное. Тем не менее она была «она» — чудесная женщина с синими глазами и золотыми волосами, похожая на Деву Марию на церковных фресках.
Тоненькая минутная стрелка на его часах неумолимо завершала очередной крут. Он промокнул лицо мягким махровым полотенцем, зачесал назад волосы и снял с плечиков висящий на них костюм, сшитый специально для июньского приема в Букингемском дворце, безукоризненно элегантный, респектабельно серый и немыслимо дорогой. Впрочем, сейчас Том смотрел на него без энтузиазма. Его раздражали матово поблескивающие пуговицы, консервативной формы лацканы и даже дорогая добротная английская шерсть. Но более всего его раздражал он сам. Ну почему природа не отмерила ему и малой толики очаровательной раскованности плейбоя? Почему он толст, неуклюж и нелеп, как Санта-Клаус на знойном пляже? Гораздо естественнее было бы встретить ее в легкой домашней куртке и фланелевых брюках. Ведь она же просила: никаких ресторанов и людных мест, пусть будет просто комната, и они вдвоем. Она придет, красивая и нежная, немного несчастная (это явственно слышалось по голосу), пахнущая чистотой и молодостью. А он выйдет ей навстречу в этом сером панцире, словно официальное лицо на правительственном приеме. Том легонько провел ребром ладони по ряду пуговиц и устало вздохнул. Пусть все идет, как идет. Пусть будет этот костюм! Тем более что в домашней куртке он наверняка будет чувствовать себя совсем по-дурацки…
Оксана, как и обещала, приехала ровно в восемь. Клертон, уже минут пятнадцать нервно прогуливающийся по ярко освещенному прохладному холлу гостиницы, заметил ее в последний момент, когда она уже подходила к стеклянным дверям. Погруженный в собственные мысли и в панике беззвучно повторяющий холодными губами: «Что-нибудь обязательно не сложится, что-нибудь не получится, она не приедет», он так и продолжал бы мотаться, как челнок в швейной машинке — от цветного фонтанчика в одном углу до искусственного дерева — в другом. Но в какой-то момент до его слуха донеслось, как молодой человек, судя по произношению американец, сидящий на кожаном диванчике, сказал достаточно громко своему приятелю: «Ты посмотри, какая!» В этой фразе не было ни капли свойственной юности показной развязности, в ней слышались только удивление и восхищение. Том обернулся. Оксана уже входила в вестибюль, и взгляды мужчин притягивались к ней, как железные опилки к магниту. На ней была простая светлая куртка, нежно-голубая юбка и туфли на низком каблуке. Может быть, из-за этих туфелек она, в общем-то довольно высокая, казалась сейчас гораздо ниже. Ее пальцы беспрестанно дергали широкий ремешок светлой сумки с двумя блестящими пряжками. Оксана нервничала и от этого делалась похожей на пугливую юную девочку, изо всех сил пытающуюся казаться явно взрослой. Том вышел из-за празднично-зеленого искусственного дерева, успев с ненавистью подумать, что, наверное, выглядит нелепо в парадном сером костюме, и устремился к ней навстречу. Она заметила его не сразу, а когда заметила… Господи, он не мог в это поверить и, однако, убил бы любого, кто посмел в этом усомниться! Оксана улыбнулась несмело и одновременно радостно, так, как может улыбаться только человек, долго-долго кого-то ждавший. Он уже не первый раз видел ее улыбку, но теперь в ней читалось что-то другое, совсем другое… Том шел к ней навстречу и думал, что был полным кретином, когда, играя непонятно для кого эстета и знатока, утверждал, что длинноногие блондинки с синими глазами — это банально и пошло, что в женщине должно быть что-то другое… Она улыбалась ему одному, не обращая внимания на тянущиеся к ней «опилки» мужских взглядов, ее «банальные» синие глаза светились ожиданием, на ее «пошлых» светлых волосах поблескивали холодные капельки сентябрьского дождя, и в ней был весь мир, вся любовь, вся жизнь…
— Здравствуй! — сказала она негромко и уже знакомым, но теперь как бы мимолетным жестом коснулась его виска.
— Здравствуй, — ответил Том. — Ты пришла…
Оксана кивнула, подтверждая, что она действительно пришла, что это не сон, не галлюцинация. Но он уже сам видел, чувствовал, что это — реальность. Он видел следы помады в уголках ее губ, видел за этими полуоткрытыми губами ровную полоску белых зубов, видел ресницы, сейчас почему-то не пушистые, как прежде, а тяжелые и блестящие, впитавшие в себя осеннюю влагу.
— Пойдем ко мне? — спросил он нерешительно. Она снова молча кивнула. И Том вдруг понял, что нельзя, немыслимо ничего больше спрашивать, и говорить больше ни о чем не нужно. Каждое слово дается почему-то сейчас ей с такой же болью, как сказочной Русалочке первый шаг по твердой земле.
— Пойдем ко мне, — повторил он уже утвердительно и уверенно взял Оксану за руку.
В номере по-прежнему царила парадно-скучная атмосфера мебельного салона. Даже цветы казались искусственными и пахли слишком уж навязчиво. Да явно и было их слишком много. Том досадливо поморщился: надо было сказать горничной, чтобы из всех принесенных букетов она оставила половину, а остальные, ну, хоть себе забрала, что ли! Теперь тяжелые сочные розы с белоснежными, пастельными и бордовыми бутонами с царственной гордостью выглядывали из огромной фарфоровой вазы, похожей на супницу. Цветы стояли и возле зеркала, и на прозрачном столике у окна, их густой приторный запах тянулся из спальни.
— Прости меня, я, наверное, перестарался? — Он виновато улыбнулся и кивнул головой в сторону вазы-супницы.
— Это ничего. Я люблю цветы в любом количестве. Наверное, у меня плебейский вкус, — отозвалась Оксана, правой рукой расстегивая пуговицы на своей курточке, прозрачные, с золотой серединкой и блестящим ободком по корпусу. Том обратил внимание на то, что кронштейны на шнурке, стягивающем талию, изготовители, неуклюже пародирующие «Бергхауз», почему-то решили сделать из пошлой белой пластмассы. Но нет, Тому нравилось в Оксане абсолютно все: и даже эти нелепые кронштейны, и ее перламутровые ногти, и нервные, торопливые движения пальцев, и стройные икры, теперь, в этих туфельках на низком каблуке, кажущиеся чуть более округлыми. Он опомнился только тогда, когда она, уже сняв ветровку, начала осматриваться вокруг в поисках крючка или вешалки. Пробормотав извинения, Том взял из ее рук куртку и еле удержался от того, чтобы не зарыться лицом в прохладную плащовку: курточка пахла ее телом…
А Оксана в номере почувствовала себя значительно спокойнее. Легким движением убрав со лба волосы, она неторопливо прошла на середину комнаты и опустилась на диван. Том повесил куртку в стенной шкаф и сел в кресло напротив. Он больше не чувствовал себя унылым, толстым холостяком. Ему показалось, что его собственное тело вместе с прежними сомнениями и тревогами словно исчезло, и это было ново, волнующе, но немного страшновато.
— Я так рад, что ты пришла! — Том поправил на переносице очки и слегка наклонился вперед, чтобы лучше видеть ее лицо. — Тем более сегодня, когда я уже совсем не рассчитывал тебя увидеть. Но почему твои планы изменились? Мне помнится, что ты собиралась уехать из Москвы?
— А, — она как-то небрежно махнула рукой. Слишком небрежно, чтобы ее жест мог показаться естественным, — это должна была быть совсем пустяковая поездка. Совсем неважная, и не стоит даже о ней говорить. И вообще, давай просто посидим вдвоем. Я ведь впервые с тобой в такой обстановке, когда можно забыть о служебных обязанностях.
— А ты всегда помнила об их исполнении? — договорив фразу до конца, Том похолодел от ужаса. Ему вдруг показалось, что она прозвучала так, будто произнес ее развязный плейбой, вложивший в нее потаенный смысл. — Прости, я не хотел… — виновато выдохнул он, внезапно снова почувствовав, как тянут под мышками рукава серого пиджака. Но Оксана только взмахнула ресницами и улыбнулась.
В эту же секунду в дверь позвонили. Горничная вкатила столик, сервированный на двоих, и неловкая пауза растаяла сама собой. Меню ужина было самое изысканное. Хороши были и устрицы, и карп с апельсиновыми дольками, и салат из спаржи, и, конечно же, неподражаемое «Шато шеваль бланк». Оксана, кажется, окончательно успокоилась. Она сидела, откинувшись на спинку дивана, неторопливо посасывала сочные вишни и маленькими глотками пила вино из высокого хрустального бокала. Почти все время молчала и слушала рассказы Тома. А тот нес какую-то потрясающую чушь, ужасался собственной, внезапно накатившей глупости, но никак не мог остановиться. Вино в бокалах весело искрилось, Том вот уже десять минут рассказывал какую-то нелепую историю из собственного детства, длинную и вовсе не такую уж веселую, как он предполагал вначале. Он уже думал, как бы быстрее добраться до финала, когда одна вишневая косточка внезапно соскользнула у Оксаны с ложки и упала на ковер.
— Ой! — по-детски вскрикнула она, наклоняясь за ней.
И он опять повел себя по-дурацки. Конечно, следовало опередить ее и самому поднять эту несчастную косточку. Но он замер, как истукан, увидев открывшийся под волосами кусочек нежной шеи, и понял, что он безнадежный склеротик. Когда Оксана выпрямилась, Том уже доставал из внутреннего кармана плоский футляр из черного бархата с позолоченной застежкой.
— Оксана, — произнес он негромко и виновато, — я, конечно, форменный идиот. Мы сидим здесь с тобой уже почти час, а я так и не поздравил тебя с днем рождения…
— Да, — отозвалась она тихо и зачем-то встала с дивана, как примерная школьница, разговаривающая с учителем.
— Но я прошу у тебя прощения и хочу, чтобы ты приняла от меня вот это…
Застежка поддалась легко, футляр открылся… Том ожидал, что сейчас Оксана увидит колье, на самом деле, очень красивое, золотое, с одиннадцатью довольно крупными бриллиантами, и обрадуется, не может не обрадоваться! Но она по-прежнему молча и пристально смотрела в его глаза, будто чего-то ждала. Он почувствовал, что краснеет, что еще секунда молчания, и он сморозит какую-нибудь глупость. А Оксана вдруг вздохнула так, как вздыхает наплакавшийся ребенок, и печально произнесла:
— А знаешь, чего бы мне хотелось сейчас больше всего?
— Чего? — хрипло спросил Том, уже понимая, что исполнит любое ее желание.
— Чтобы ты меня поцеловал, — ответила она и, закрыв лицо руками, опустилась на диван. Он глупо и растеряно спросил: «Можно?», и только потом, уронив невостребованный футляр, присел рядом и дрожащими, вмиг ставшими потными руками обнял ее за плечи, привлек к себе. Оксана плакала, а он целовал каждую ее слезинку, каждую намокшую ресничку, приговаривая: «Не плачь! Ну, пожалуйста, не плачь!» А она бормотала что-то про нелепость и пошлость, про гостиничный номер, про злосчастный подарок, про то, что он иностранец, и про то, что все подумают самое ужасное, а никому ничего не докажешь. Он беспрестанно повторял: «Я люблю тебя, люблю!» Прикасался горячими губами к ее постепенно обнажающимся плечам и неловко, задыхаясь от немыслимо острого желания, сжимал ее мягкую грудь. Тому казалось, что он больше не выдержит ни секунды, что умрет сейчас прямо здесь на диване оттого, что не решается прижаться к ней всем телом, войти в нее, влиться и раствориться внутри. И он бессильно сполз на ковер и прижался щекой к ее коленям, гладким и круглым, как рыцарь в латы, упакованным в скользкий капрон. Том погладил ее стройную щиколотку, но уже почти равнодушно, как котенка, и устало вздохнул. Колье, свернувшееся золотистой змейкой, лежало рядом с его подогнутой ногой. Он молчал и чувствовал себя полным ничтожеством. Ему не хотелось ничего говорить, и когда Оксана осторожно и нежно переложила его голову со своих колен на диван, и когда она поднялась, подтягивая колготки. Том знал, что она сейчас уйдет… Она действительно встала и подошла к стене. Тут же погасла люстра, и автоматически включился крошечный светильник на столике. Он был похож на небрежно брошенный батистовый платок, и свет из него лился мягко, как молоко из кувшина. Оксана вернулась, села рядом с Томом на ковер, оперлась локтем о диван и сказала так буднично, будто обсуждала обеденное меню:
— Ничего не бойся. Все можно… Понимаешь? Все.
Блузка, сползшая с плеча, открыла ложбинку между грудей, и он вдруг почувствовал себя молодым и сильным. С чисто мужским азартом принялся наблюдать, как она, вытягивая вперед свои умопомрачительно длинные ноги, скатывает в трубочку поблескивающие колготки, как, заведя руки за спину, расстегивает «молнию» на юбке, как снимает бюстгальтер. Ах, какой она оказалась мягкой и податливой! Как нежно обвивали его шею ее прохладные руки, как подавалась она навстречу ему распахнутыми коленями, бедрами, животом! Том целовал ее тело, с его чудесными округлостями и изгибами, торопливо и ласково, и каждый поцелуй был исполнен особого смысла, глубокого и непостижимого, как бесконечность. У него не однажды перехватывало дыхание и по позвоночнику пробегали мурашки. В какой-то момент Том понял, что человечество давно и удачно «выкрутилось»: оно приучилось, обозначая пугающую бесконечность, писать равнодушную, перевернутую на бок восьмерку, и оно придумало для всего этого простенькую словесную формулу: «Я тебя люблю!» Оксана то отрывала плечи от ковра, стремясь прижаться щекой к его щеке, то снова падала вниз, как больная, обессилевшая птица, и шептала, нежно шептала что-то невнятное. Он не мог понять ее еще и потому, что она в этом своем полузабытьи, скрывающемся за мучительно дрожащими бровями, стремящимися вверх печальным «домиком», и трепетными полуприкрытыми веками, говорила по-русски. А волосы ее пахли дождем и свежестью…
Когда все кончилось и Том, потный, уставший, с дрожащими коленями, откатился наконец в сторону, Оксана поднялась с пола и, обхватив руками колени, села на диван. Она по-прежнему была совершенно голой, чуть взлохмаченные волосы укрывали ее локти и грудь. Он смотрел на нее снизу, морща лоб и ожидая, когда же у него перестанет бешено колотиться сердце. Это была уже совсем другая женщина, не та, что совсем недавно билась под ним в безумных судорогах. Но она казалась не менее прекрасной. Оксана смотрела на него и улыбалась какой-то мечтательной материнской улыбкой.
— Ты будешь моей женой? — спросил Том, поражаясь собственной смелости.
— Буду, — спокойно и уверенно ответила она.
Он глупо ахнул и от неожиданной простоты ответа, и оттого, что в этот момент как-то особенно остро кольнуло сердце, а она рассмеялась и повторила:
— Я буду твоей женой, потому что мне с тобой хорошо!
Потом Оксана накинула его теплую шерстяную рубаху и от этого стала еще ближе и роднее. Теперь она волновала Тома даже больше, чем обнаженная. Под мягкими складками ткани в серую и темно-зеленую полоску угадывались ее восхитительные очертания. Но вполне достаточно было видеть ее узкое запястье в разрезе на рукаве и ее колено, зачем-то стыдливо прикрываемое полой рубашки. Ему ужасно хотелось поцеловать ее ногу и быстро пробежать губами вниз, к чудесным маленьким пальчикам, но он чувствовал, понимал, что нельзя сейчас нарушать это нежное очарование, нельзя тревожить ее светлое и задумчивое одиночество.
— Я должен завтра уехать, любимая. Больше откладывать возвращение в Лондон, к сожалению, нельзя, — наконец выдавил из себя Том, виновато глядя в ее погрустневшие и какие-то испуганные глаза. — Но я вернусь. Самое большее через десять дней. Ты только скучай по мне, ладно?
На минуту он испугался, что она поймет его не так и подумает не то, и что глаза ее сейчас из ярко-синих станут темными, как сумеречное небо, но Оксана только улыбнулась дрожащими губами, всхлипнув, сказала: «Ладно!» — и, взяв в свои руки его ладонь, прижалась к ней щекой…
* * *
Утро выдалось промозглым, сырым и холодным. Выйдя из гостиницы, Оксана поежилась, поправила маленький воротник куртки, хотела было даже поднять капюшон, но передумала. Все равно через минуту подъедет такси, заказанное Томом, а, значит, замерзнуть окончательно она не успеет. А из окна его люкса все казалось таким прекрасным: синее небо, прямо как летом на пляже, тонкое кружево белоснежных, чуть позолоченных солнцем облаков… Надо было сообразить, что точно такое же небо бывает и в жуткий зимний холод, когда губы стынут, а волосы покрываются инеем. Да, оттуда, из номера с огромным окном и нежными шелковыми гардинами, где бесшумно работал кондиционер и сладко пахли роскошные розы, все казалось другим. В том числе и сам его хозяин… Сейчас Том стоял рядом с ней и неуклюже переминался с ноги на ногу. «Или он замерз сильнее, чем я, или в туалет торопится, — подумала Оксана, с отвращением разглядывая волоски, торчащие из его ноздрей. — Наверное, при мне постеснялся все свои дела сделать». Ее немного подташнивало, а собственные губы и ладони до сих пор казались липкими и источающими запах его тяжелого потного тела. А тут еще и бесстыдное солнце добавляло впечатлений, с детской наивной откровенностью выставляя напоказ и сероватую кожу Тома, и жирные поры на его щеках, и морщинистые мешки под глазами. Да, там, в окружении красивых и дорогих вещей, он выглядел значительно респектабельнее…
Такси, заговорщически мигнув фарами, остановилось у края тротуара. Оксана бесшумно вздохнула и подняла глаза на Тома. Он с какой-то робкой нежностью обнял ее за талию и потерся виском о висок, едва не уложив свою круглую голову на ее плечо, подобно старой заезженной кляче.
— Я приеду, очень скоро приеду. И сразу же тебе позвоню. Ты только жди, — прошептал он с скрытой страстью в голосе. — Я очень люблю тебя, Оксана!
— Я тебя тоже, — с улыбкой отозвалась она и поцеловала его куда-то в уголок глаза, оцарапавшись о жесткую дужку очков, к счастью, не сильно.
Дверца такси была полуоткрыта, и печально-веселая Апина, сквозь шумы и шипение магнитофона, напевала оттуда про узелок, который «развяжется», и про другой, который «завяжется», а также про любовь, которой вроде бы и нет, потому что она только кажется. А значит, по ее окончании, следуя апинской логике, нужно перекреститься. Оксана еще раз поцеловала Клертона, теперь уже в щеку, и села в машину. Шофер, проверив, хорошо ли закрыта дверца, тронулся с места, а Том сразу же повернулся и торопливо пошел обратно к гостинице. «Значит, правда, в туалет ему захотелось», — подумала она, превозмогая подкатывающие к горлу волны тошноты.
Такси выехало на Бережковскую набережную, залитую холодным золотом обманчивого солнца, а Оксана устало прикрыла глаза. Спать не хотелось, впрочем, как и о чем-то думать. Но перед глазами упорно вставала жирноватая и дряблая грудь Тома с редкими, начинающими седеть волосами, его живот с пупком, удивленно произносящим букву «о», и почему-то его плечи с кое-где уже проявившимися старческими пигментными пятнами и крошечными бородавочками. А еще эта его нижняя губа, в самый ответственный момент безвольно отвисающая, как у престарелого шимпанзе. Оксана все время боялась, что с нее вот-вот начнет капать слюна. Впрочем, она и отвлекала себя, и успокаивала одновременно, ритмично и четко, как хорошо заученную молитву, повторяя: «Да!.. Еще… Еще… Так!.. Мне хорошо с тобою, Том!» Это была счастливая идея — шептать по-русски. Именно шептать, а не кричать. Иначе у него могли возникнуть крайне нежелательные на данном этапе ассоциации с гостиничным номером, страстной валютной «любовью» и чем-то грязным, распутным. Потом пусть будет все что угодно: королева в гостиной, шлюха в спальне… Потом, но не теперь. Теперь нужна была только нежность, затуманенный взгляд и тихий, тихий шепот. И мистер Клертон благополучно купился, как последний идиот, даже глазки увлажнились от умиления. Поставленная задача не такой уж оказалась и трудной…
Оксана с усилием открыла глаза, достала из сумочки пачку сигарет и вопросительно взглянула на шофера. Тот вежливо улыбнулся и благожелательно кивнул на форточку. Этот их беззвучный диалог казался странным, как ярко-желтое солнце, плавающее в ледяном, осеннем небе. Магнитофонная Апина уже ностальгически вспоминала про «Леху», который ушел в армию года четыре назад и до сих пор не вернулся. Суетливые воробьи за окном перелетали с места не место и пропадали из виду, безнадежно отставая от мчащейся вперед машины… Оксана поднесла к сигарете колышущийся огонек зажигалки. Тошнота никак не проходила, и на душе было мерзопакостно. Намного мерзостнее, чем она рассчитывала. В общем-то не случилось ничего из ряда вон выходящего, ничего, так уж жестоко оскорбляющего человеческую нравственность. Ну ушла женщина от одного мужчины к другому! Пусть даже от любимого к нелюбимому и богатому. Не она первая, не она последняя. Да и потом Клертон далеко не самый худший вариант. Он умен, тактичен, нежен… Оксана снова прикрыла дрожащие веки. Опять эта жирная грудь с курчавыми седыми волосками! Ну почему, почему Том не внушал ей такого дикого отвращения до тех пор, пока они не оказались в одной постели? Почему ей раньше не было так гадко и не хотелось, пусть с муками, но содрать прикипевшую к телу липкую грязь вместе с кожей!.. Этот его провисающий живот, эти его расставленные, как у гимнастического «коня», колени, и ее собственные бедра, распахнутые гостеприимно и смачно… Она судорожно сглотнула, заколотила ладонью по плечу водителя и энергично замотала головой. Неизвестно, что уж он там понял, но машину все-таки остановил. Оксана, резко нажав на ручку двери, выскочила, как ошпаренная кошка, и кинулась в ближайший двор. К счастью, людей здесь ранним утром почти не было. Только высокий парень со спортивной сумкой через плечо прошел мимо подъезда, когда ее мучительно рвало прямо на газон. Но ему было всего лет семнадцать, то есть он пребывал в том счастливом возрасте, который предписывает не вмешиваться в проблемы взрослых со стеснительной и ужасной, как юношеские прыщи, показной независимостью. Когда парень торопливо скрылся за углом, Оксана подняла голову и аккуратно вытерла рот носовым платком. Теперь оставалось только молиться, чтобы солнце не начало припекать, иначе в самом скором времени от нее запахнет кисло и отвратительно. «Господи, какая же ты противная со своим отекшим за ночь лицом, со своими пахнущими желудочным соком губами, со своими ногами, с такой готовностью задирающимися к потолку! — подумала она и печально усмехнулась. — Ты противная, а не Том! И его ты теперь ненавидишь только потому, что боишься ненавидеть себя. А себя и презирать надо, и ты это понимаешь. И, наверное, поэтому еще усугубляешь ситуацию, вспоминая и про точный расчет, и про слезы в его глазах?» Оксане казалось, что она яростно лупит себя по лицу, а может быть, и нужно было бы ударить, чтобы ощутить прилив крови к горящей щеке, чтобы почувствовать, что она все еще жива. Ссутулившись и спрятав руки в карманы куртки, она медленно брела между домами на улицу и чуть не плакала от обиды. Никто, кроме нее самой, не знал, что она не хотела, чтобы все получилось именно так, никто не знал, как она сейчас страдает и как терзает себя, с сарказмом напоминая себе самой умной, талантливой и в общем-то отнюдь не стерве Оксане Плетневой, про тщательно просчитанные вздохи, про свой утренний променад проститутки мимо дежурной по этажу. Она шла и чувствовала, как начинают гореть измученные сухие веки, как наворачиваются на глаза тяжелые дрожащие слезы. Она понимала, что ужасно несправедливо все, что с ней произошло. Что она, редкостно красивая, желанная женщина, по всем законам природы должна была только дожидаться, когда же придет достойный претендент на ее руку и упросит ее стать его женой. Если бы этот мир был правильно устроен, она должна была только счастливо ждать, а не извиваться под чьим-то потным неприятным телом, надеясь обрести достойный уровень существования… Такси, естественно, уже уехало. Оксана еще раз промокнула губы платком, бросила в рот подушечку «Стиморола» и вышла на обочину, подняв правую руку. Первая же проезжавшая мимо изумрудно-зеленая «Вольво» не остановилась только потому, что на переднем сиденье сидела чопорно поджавшая губы девица. Зато водитель чуть не свернул себе шею, делая вид, что сосредоточенно разглядывает рекламный щит на стене дома. А солнце было все таким же холодным и далеким, и губы, непривычно лишенные помады, ласкал легкий ветерок. «Дело сделано. Теперь жалеть о чем-то и заниматься самобичеванием поздно. А еще надо прекращать это мысленное унижение Тома. Ведь, на самом деле, он совсем неплохой и не такой уж противный», — подумала Оксана и светло улыбнулась шоферу притормаживающего «Опеля»…
Андрей уже был дома и, видимо, давно спал. Потому что, когда он выполз из комнаты, услышав ее шуршание в коридоре, вид у него был, как у беспризорника, ночевавшего на сеновале. Волосы торчком и сбиты набок, правая щека красная и измятая.
— Привет, — полупростонал-полупропел он, еще совсем лениво и сонно подходя к Оксане и бессильно обнимая ее вялыми руками. — Алешу удалось спасти, ты представляешь?
— Какого Алешу? — переспросила она, осторожно снимая его руки со своих плеч.
— Ну Алеша… Тот мальчик, которого я вчера оперировал… Ой, ты же толком ничего не знаешь! Ну, в общем, он не умер и, похоже, пойдет на поправку. Как это ни удивительно…
Ей не казалось удивительным ничто, кроме этой прихожей, вдруг, в мгновение ока, ставшей чужой. Произошло то, что она пыталась себе представить и не могла. Эта ночь решительно отделила ее от Андрея, от всего, что связано с ним. Отделила, как будто накрыла прозрачным колпаком. Оксана чувствовала себя сейчас, как водолаз в скафандре, путешествующий по морскому дну. Во-первых, доносящиеся звуки, неясные и смутные, а во-вторых, все вокруг какое-то нереальное. Можно, конечно, потрогать и эти стены, и этот календарь с березками, но кажется, что не ощутишь ничего, кроме покалывания иголочек в собственных пальцах. И страшно это, и странно.
Она аккуратно сняла туфли и поставила их строго параллельно, носками к обувной полочке. Правая туфля была немного стоптанна на одну сторону. Оксана присела на корточки, с точностью физика, производящего сложный эксперимент, взяла ее двумя пальцами и подняла глаза на Потемкина. Андрей, уже отчасти проснувшийся, стоял прямо над ней. Глаза его были полны тревоги.
— Ты так и не простила меня? — спросил он тихо и как-то испуганно.
— Мне не за что было тебя прощать, — отозвалась она, не поднимаясь. — Просто каждый выбрал свой путь… Ты только пойми правильно: я не пытаюсь тебя укорять. Но это, в самом деле, так… У тебя свой путь, и тебе рядом больше никто не нужен. А я хочу мещанского уюта, дорогую мебель и красивый дом, я не могу считать последние копейки, потому что устроена по-другому. И дело не в том, что Андрей Потемкин лучше, чище, нравственно выше Оксаны Плетневой, или наоборот… Просто у нас с тобой, на самом деле, разные дороги. Жалко, что я это так поздно поняла.
— А вот я ничего не понял! — Он присел рядом и приблизил к ней свое лицо с усталыми складочками, бегущими от крыльев носа к уголкам губ. — Совсем ничего не понял, Оксанка!.. Я так подозреваю, что ты очень сильно расстроилась из-за вчерашнего? Давай поговорим обо всем спокойно и уедем хоть в Голицыно, хоть к черту на кулички сразу после завтрака. У меня два свободных дня, и вот их уже никто не отберет.
Он еще говорил о каком-то завтраке, традиционной яичнице с «Останкинской» колбасой, вспоминал безнадежно далекое теперь Голицыно, а Оксана сидела на корточках, опираясь растопыренными пальцами левой руки о пол, и думала о том, что все кончилось страшно и просто. Наверное, и смерть будет такой же простой? Раз! — и перестанут чувствовать руки, глаза, губы… Когда она в детстве задумывалась о смерти, то мечтала, чтобы все произошло там, в далеком будущем, чтобы ее жизнь просто выдернули из мироздания, как штепсель из розетки… Она смотрела на Андрея, как смотрят на полюбившегося героя кинофильма, последний раз появившегося в сопровождение белых буковок завершающихся титров. Он был красивым, мужественным, обаятельным, любимым до слез, но уже чужим, обреченным вот-вот исчезнуть навсегда.
— Андрей, я сейчас соберу свои вещи и уйду, — проговорила Оксана тихо и внятно. — И ничего уже изменить нельзя. Все решено, и в наших силах только остаться друзьями… Хотя, не думаю, что нам нужно будет видеться…
— Что ты несешь? — Он больно схватил ее за запястье. — Ты сама-то понимаешь, что говоришь?.. Конечно, можно было обидеться из-за сорвавшегося дня рождения, но бросаться такими словами нельзя! Я живой человек и тоже, в конце концов, могу разозлиться!.. Что я сделал не так? Что я должен был, по-твоему, сделать?! Взять тебя под ручку и увести из больницы, а назавтра узнать, что мальчик погиб, что Севостьянов перепугался в самый ответственный момент? И потом всю жизнь вспоминать, что в то время, как мы занимались любовью на кровати в голицынском санатории, у нас в операционной умирал ребенок?
Его голос сорвался на хрип, который перешел в надсадный, захлебывающийся кашель. Андрей на несколько секунд задержал дыхание, потом вытер рот тыльной стороной ладони и посмотрел на нее уже как-то растерянно и ищуще, сильно наморщив лоб.
— Ну что ты молчишь? — Он снова потрогал ее за запястье, но теперь уже мягко и осторожно. — Накричал на тебя, да? Еще больше расстроил?.. Ну, прости, а?
Оксана осторожно высвободила свою руку и тяжело поднялась с пола. Ноги от долгого сидения затекли, и теперь по ним бежали противные мурашки. Она зашла в ванную, вытащила из стаканчика свою зубную щетку, достала с полочки фен. Можно было и не смотреть в зеркало. Она и так знала, что Андрей стоял за ее спиной. Похоже, он все еще считал происходящее глупой игрой или шуткой.
— Ну и что дальше? — спросил он, когда Оксана, отодвинув его плечом, вышла из ванной.
— Дальше спальня и большая комната. Там мои книги и пластинки.
— Тебе помочь собраться, или ты предпочитаешь, чтобы я не касался твоих вещей?
Слушать это было невыносимо, но не из-за едкой иронии обиженного человека, сквозившей в каждой его фразе. Невыносимо оттого, что Потемкин пока не понимал, что все это всерьез, а не понарошку. Оксана на секунду представила, как полыхнет в его глазах невыносимая боль, когда он наконец осознает, что происходит. Как возненавидит ее тогда! И лучше уж скорее, лучше сразу. Чем быстрее это произойдет, тем быстрее забудется…
— Андрей, — Оксана остановилась в дверях, упершись рукой в косяк, — давай сейчас не будем говорить о ерунде и что-то из себя изображать. Я очень тебя люблю, и никогда любить не перестану, но я ухожу… Насовсем… И я не вернусь, потому что ухожу к другому мужчине.
— А как же наша свадьба? — спросил Андрей растерянно и только потом, не дожидаясь ее ответа, повторил, как бы пытаясь понять смысл ее слов: — К другому мужчине?
Фраза «К другому мужчине» была выбрана явно неудачно. Оксана почему-то сразу представила на своем месте этакую тетку пятидесятых годов с завитыми крутыми локонами и платком, повязанным на лбу, как у гоголевской Солохи. Вот такая бы могла сказать: «К другому мужчине!» И у нее действительно могли быть «другие мужчины»: завхоз, бывший фронтовик, директор клуба и так далее… А у нее, у Оксаны Плетневой, всего-то и хотевшей, чтобы судорожно не пересчитывать последние рубли в очереди за мороженой говядиной, разве у нее могли быть мужчины, кроме Андрея?
— К другому человеку, — поправилась она, покраснев. — К мистеру Клертону. Ну ты знаешь, я о нем рассказывала…
И вдруг Андрей рассмеялся, легко и весело, как человек, долго пребывавший в напряжении и в конце концов услышавший на редкость приятное известие. Оксана смотрела на его прищуренные глаза, на жилки, проступившие на висках, на подрагивающий кадык и не могла ничего понять.
— Ну ты даешь, Ксюха! — наконец, произнес он. — Я тебе уже почти поверил. Но с Клертоном это, конечно, круто… Ты, наверное, позарилась на его миллионы, да? На шикарный дом где-нибудь в предместьях Лондона?.. А знаешь, что я сейчас у тебя собирался спросить? Ну перед тем, как ты сказала про этого Тома… и Джерри? Я собирался спросить, как же наш ребенок?
— А ребенка больше нет, — неожиданно для себя самой ответила Оксана и, быстро пройдя внутрь комнаты, распахнула дверь шифоньера.
— Это правда? — донеслось до ее сознания откуда-то издалека.
— Правда, — глухо отозвалась она, нервно перебрасывая через руку кофты и юбки. — И еще, Андрей, не надо больше искать со мной встреч и заводить бесполезные разговоры…
Последние ее слова вместе со старой известкой осели на пол после того, как она резко, с оглушительным треском захлопнула входную дверь…
До женской консультации на Сосновой она добиралась почти час. Автобусы от Сокола почему-то не ходили. И Оксана минут тридцать наматывала круги вокруг навеса остановки, тихо кляня общественный транспорт и думая о том, что гораздо быстрее можно было бы дойти до больницы пешком, прежде чем изволил подрулить автобус номер сто. Она втиснулась вместе с толпой жаждущих уехать в задние двери, прижалась спиной к поручню и, стоя одной ногой на самом краешке ступеньки, а второй вообще в подвешенном состоянии, доехала до улицы Бирюзова. Дальше можно было пройти через парк, но Оксана пошла вдоль дороги, потому что так было быстрее. Вообще-то прием у ее гинекологини сегодня заканчивался в час дня, значит, время еще оставалось, но откладывать неприятный разговор не хотелось. Тем более что ближе к обеду в консультацию стекалось много беременных, которых, естественно, пропускали вне очереди. Первую такую колышущуюся тетку в красном плаще она заметила еще метрах в двадцати от входа в консультацию. Она выползла из парка, огромная, как теплоход. Оксана вдруг подумала, что, может быть, и к лучшему, что ребенка у нее сейчас не будет. В общем-то она не чувствовала себя готовой стать матерью и, как ни странно, к будущему младенцу не испытывала ни нежности, ни любви. Даже необходимые анализы сдавала без свойственного будущим матерям трепета. Кстати, на прошлой неделе очередную явку в консультацию просто проигнорировала, не до того было! И сегодня гинекологиня наверняка будет ругаться и читать нравоучения. Впрочем, какая теперь разница?
Тетка в плаще свернула по коридору налево. Оксана облегченно вздохнула и направилась к своему врачу. Народу здесь было, к счастью, совсем немного: две женщины среднего возраста и молоденькая девчонка лет семнадцати с толстым учебником по электронике.
— Кто крайний к Милютиной? — вежливо осведомилась она.
Студентка подняла глаза от учебника, оценивающе окинула взглядом ее фигуру и спросила:
— Вы же не по беременности? Тогда будете за мной… А то мы их пропускаем, пропускаем, уже не знаем, когда и наша очередь подойдет…
Улыбалась она располагающе и заговорщически. Женщины на лавочке напротив согласно закивали головами, как два престарелых дрессированных попугая.
— Я по беременности, — ответила Оксана. Ждать ей не хотелось. Все три мгновенно и обиженно насупились. И только девчонка нашла в себе силы довольно хладнокровно процедить:
— Тогда заходите сразу, как врач освободится…
Милютина освободилась минут через пять. Оксана прошла в кабинет, села на стул рядом с акушеркой и принялась внимательно рассматривать ногти на собственной правой руке. Гинекологиня беседовала со своей коллегой из соседнего кабинета.
— Нет, ну ты представляешь, — говорила она, протирая стерильной салфеточкой стекла очков, — прямо на улице к ней подошел фотограф и предложил попробоваться в модельном агентстве «Ред Стар». Мы с отцом, конечно, сначала были против, но Люська сама захотела, и теперь вот нам сказали, что у нее очень хорошие перспективы…
— Ой, не знаю, не знаю, — качала головой ее собеседница. — Сейчас развелось так много сомнительных контор, можете сломать девчонку…
— Ну ты что? Какая же «Ред Стар» сомнительная контора? Да и потом, кто говорит, что она будет заниматься этим всю жизнь? — спорила Милютина.
Речь шла наверняка о дочери гинекологини, блондинистой девчонке с маленькой головкой и удивительно длинными ногами. Она в прошлый раз заходила к матери в кабинет в белом халате, едва прикрывающем острые коленки. Красивой Люську назвать было можно с большой натяжкой. Разве что немного она напоминала ухудшенный вариант Линды Евангелисты, да и только… Впрочем, сейчас такие, худые, безгрудые, бесцветные, почему-то пользовались популярностью у модельеров и фотохудожников. И пробивались, достигали каких-то высот. А тогда, десять лет назад, даже очень привлекательной внешности оказывалось недостаточно. Впрочем, если бы тогда ее не душили светлые пионерские идеалы?.. Оксана невесело усмехнулась и перевела взгляд на зеркала и зажимы, жутковато поблескивающие из-под медицинской салфетки.
— Кстати, какая у тебя красивая пациентка сидит, — собеседница Милютиной неожиданно, широким жестом сеятеля, указала в ее сторону. — Вот бы тебе спросить у нее, хотела бы она для себя избрать профессию манекенщицы?
— Мне у нее хочется спросить, — гинекологиня снова водрузила очки на нос, — почему она на весы не становится и почему на прошлой неделе анализ не сдала?
— А, ну все, не буду вам мешать, — соседка-врач поспешила к дверям, а Оксана, постаравшись придать своему лицу выражение полной невозмутимости, спокойно произнесла:
— Потому что я решила делать аборт…
Акушерка за столом на секунду оторвалась от своих бумажек и осуждающе вздохнула, а Милютина подвинула к себе ее карту и календарик.
— Долго думала? — спросила она наконец.
— Что? — не поняла Оксана.
— Я говорю: долго думала?.. Мы с тобой определили примерный срок двенадцать недель, но, судя по матке, там может быть и больше… И не надо мне говорить, что ты все считала. Знаю я таких счетоводов!.. Ребенок-то там уже с ушками и ножками, уже ручками шевелит и все чувствует. И вообще у нас аборты разрешены до двенадцати недель. До, а не после… Ты что, прямо сейчас бегом полетишь в операционную ложиться на стол?
— А хоть бы и так!
— Что значит «хоть бы и так»? — взвилась Милютина. — Наверное, с мужиком своим поссорилась? Как поссорилась, так и помиришься! Ребенок-то почему страдать должен?
— Я делаю аборт, чтобы никто не страдал, — Оксана провела дрожащей рукой по щеке и губам. — И вообще если вы не хотите дать мне направление, я пойду в любую платную клинику…
Колени ее мелко дрожали, как в школе перед вызовом к завучу, перед глазами почему-то возникали то растерянное лицо Андрея, то розовая грудь Клертона.
— Ладно, — гинекологиня еще раз взглянула на нее как на государственную преступницу и достала из пластмассовой подставки на столе какой-то бланк. — Я пишу тебе направление на УЗИ. Иди, уточняй срок, а дальше будем думать, что делать.
В том, как она швырнула ей через стол уже заполненную бумажку, было что-то даже более унизительное, чем в мгновенном взгляде, которым ее проводила гостиничная дежурная по этажу…
В кабинете ультразвука пожилой дядечка с остатками кудрей на макушке долго и тщательно смазывал Оксанин живот голубым гелем, потом подсел к экрану и начал водить от ребер вниз насадкой, похожей на душ с гибким шлангом. Ей было немного щекотно и тревожно. Врач что-то удовлетворенно мурлыкал себе под нос, то замирая со своим «душем», то продолжая описывать им круги.
— Фотографию, так сказать, будущего ребенка хотите? — поинтересовался он, не отводя взгляд от экрана.
— Нет, — отозвалась она. — Да там все равно еще ничего не видно…
— Ну как хотите, — миролюбиво произнес врач. — Так, Тамара Васильевна, записывайте. Расположение плаценты нормальное… Количество вод нормальное… В полости матки один живой плод… Длина бедра…
Оксана слушала, прикрыв глаза, и молилась, чтобы все это скорее кончилось, чтобы к возвращению Тома позади были уже и больничная палата, и тяжелый запах крови, и туман в голове от наркоза. Все женщины сходятся на том, что это быстро забывается. Просто сначала кажется, что страшно… Этому ребенку вообще не суждено было появиться на свет, потому что по-настоящему его не хотели ни она, ни Андрей. Потемкину поначалу казалось занятным воображать себя отцом, чинно прогуливающимся с колясочкой по парку. А может быть, ему хотелось еще сильнее привязать ее к себе, сделать совсем беспомощной, похожей на ту тетку в плаще? Ведь не мог же он не понимать, не осознавать, что она слишком красива, чтобы всю жизнь просидеть на цепи возле мужа? У нее обязательно будет ребенок от Тома, а к нему — колыбелька с кружевным балдахином и добрейшая няня в белом фартуке. Когда наследник появится на свет, Клертон, наверное, опять расчувствуется до слез… Все правильно. Ребенок должен родиться от законного мужа. А Андрей?.. Пусть то, что произошло, останется самым счастливым и самым горьким воспоминанием о юности…
— Размеры плода примерно соответствуют сроку шестнадцать недель, — закончил доктор. Оксана подскочила на кушетке, да так, что внизу живота что-то остро и неприятно кольнуло.
— Как это шестнадцать недель? Вы уверены?
— Естес-стно! — Доктор так победно просвистел «с», что она похолодела. — Я, девушка, не первый год этим занимаюсь. Еще чуть-чуть, и можно будет определить, кто у вас: мальчик или девочка? Так что, милости просим, заходите.
— Да, — растерянно ответила Оксана, одновременно поднимаясь на ноги и вытирая живот краем собственной блузки. — Обязательно…
Она почти «на автопилоте» дошла до кабинета Милютиной, взобралась на кресло, оставив юбку и колготки с плавочками на стуле возле ширмы. Потом что-то машинально отвечала, с чем-то соглашалась. До ее сознания долетали только отдельные фразы о том, что ультразвук на ранних сроках обычно добавляет недельку или две, что все равно здесь никак не меньше четырнадцати, и что это уже три полных месяца. Что аборт делать нельзя, потому что она потом может никогда уже не родить. Что по идее сейчас надо подлечить шейку матки, а никак не ковыряться. И еще тысяча бесконечных «что»…
— Ольга Тимофеевна, — Оксана, приподняв голову, посмотрела на гинекологиню, все еще стоящую между ее раздвинутых ног, — скажите мне честно: вы все это говорите из врачебного долга, чтобы сохранить зарегистрированную беременность?
— Ох, и глупая ты, Плетнева! — Милютина стащила с руки резиновую перчатку. — Я это говорю ради тебя. Аборт тебе делать противопоказано категорически. Мало того, что это опасно, так ты еще и бесплодной останешься гарантированно… Нужна ты тогда будешь хоть нынешнему твоему мужику, хоть следующему? Ты подумай хорошенько!.. Нет, сейчас, конечно, кооперативов много развелось, и ты можешь найти врача, который сделает все, что ты хочешь, — только заплати, но что потом будет с твоей жизнью? А лично мне твоя беременность нужна, как рыбке зонтик. Вон вас сколько ходит с разными сроками! Я уже ни миомы, ни эрозии лечить не успеваю…
Кровь на гемоглобин Оксана согласилась сдать без споров и пререканий. Хотя наверняка ничего еще не знала. Надо было, конечно, походить по врачам, выяснить, нет ли у мамы хорошего знакомого гинеколога. Но она почему-то чувствовала, что в любом другом месте скажут то же самое. Ей вдруг начало казаться, что она толстеет и тяжелеет прямо на глазах и что походка у нее уже стала уродливой, как у утки. Это было противно и унизительно. Наверное, если бы Том узнал, что провел ночь с беременной женщиной, его бы затошнило, точно так же, как ее в такси. А он обязательно узнает, потому что от этого уже никуда не деться. Не выдашь же этого младенца с какими-то там уже бедрами, ногами и руками за его собственного ребенка? Это было бы уже слишком низко и подло. Значит, все разрушится быстрее и неотвратимее, чем карточный домик. Разрушится вся ее жизнь, уже выстроенная мысленно на много лет вперед и продуманная вплоть до узора кружева на переднике няни. И с этим ничего нельзя поделать…
— А если у меня будет выкидыш? — вяло поинтересовалась Оксана у гинекологини, уже взявшись за ручку двери.
— А ты попробуй, со шкафа попрыгай, мебель подвигай, — со скрытой угрозой посоветовала Милютина, сердито захлопнув чью-то карточку. — Или что вы там еще любите делать? Ноги в горчице погрей, таблеток наглотайся… Я тебе гарантирую, что до больницы не довезут. Загнешься от кровотечения. Или в лучшем случае матку вырежут. Но это, если очень сильно повезет…
— Спасибо за предупреждение, — горько усмехнулась Оксана и вышла из кабинета.
* * *
«Ах, как жаль, что Оксана так прохладно относится к рыбе и дарам моря! — сокрушался Том Клертон. — Да и я тоже хорош! В первый же вечер предложил ей дурацких карпов и устрицы!»… Легонько постукивая кончиками пальцев по столу, он с улыбкой смотрел на самую красивую женщину в мире, сидящую напротив. Сегодня она казалась задумчивой и какой-то отстраненной, но это ей шло. Как шла прическа с волосами, высоко подобранными на затылке, как шло светлое кремовое платье на тонюсеньких бретельках, матово поблескивающее и открывающее безупречные плечи. Он смотрел на нее, а она — на расцвеченный перламутровыми бликами изгиб фарфоровой вазы. И эти блики на эмали, и цветы, желтые чайные розы, хранили скучную неподвижность натюрморта. Но Оксана почему-то все равно всматривалась в одной ей ведомую точку и даже, казалось, беззвучно шевелила губами. Впрочем, скорее всего это только казалось. Просто Тому очень нравилось, когда она приоткрывала губы и показывалась влажно поблескивающая полоска зубов.
Как радостно и странно было осознавать, что теперь он имеет право ее целовать, что теперь это его женщина. Вот уже пятнадцать дней, как его… Он до сих пор не мог до конца в это поверить и, наверное, слишком часто подносил к губам ее мягкую руку, тревожно и счастливо всматриваясь в глаза. Скорее всего привыкание должно было бы произойти постепенно, как врастание в ствол дерева привитого черенка. Тому было немножко смешно и удивительно представлять, что из этого получится. Ну начать хотя бы с того, приучится ли Оксана есть рыбу, или ему придется всю жизнь довольствоваться мясным меню?.. Кстати, ресторан, в который она его сегодня привела, совсем неплох. И скатерти на столах не уступают в белизне манжетам его рубашки, и музыка приятная, и официанты вежливы. Да и в общем-то можно было решить проблему, заказав ей телячьи медальоны, которые она, оказывается, так любит, а себе форель или семгу. Но тогда Оксана мгновенно осознала бы его упрямство по части кулинарных пристрастий и, наверное, почувствовала себя неловко из-за того, что категорично отказывалась идти в какое-нибудь заведение с рыбной кухней. Значит, придется довольствоваться медальонами. А впрочем, какая это, в сущности, ерунда!
— Оксана! — позвал Том негромко. Она вздрогнула и наконец-то отвела завороженный взгляд от вазы. И ему вдруг на секунду показалось, что она чувствует себя сейчас, как человек, внезапно проснувшийся в незнакомом месте с вопросом: где я? что со мной? Тень то ли тревоги, то ли отчаяния промелькнула в ее глазах, но тут же пропала.
— Прости, — прошептала она мягко и виновато, — я сегодня какая-то рассеянная…
Он только улыбнулся и своим коленом отыскал под столом ее бедро. И все-таки это было удивительно, прикасаться к ней, ложиться с ней в одну постель, любить ее… Все пять дней после его возвращения из Лондона прошли словно в странном полусне. Оксана приходила и уходила, и только гостиничные подушки еще некоторое время хранили запах ее волос. А ему хотелось, чтобы рядом в ванной висел ее махровый халат, чтобы по утрам она сидела перед зеркалом и наносила на лицо крем, чтобы рядом с его обувью постоянно стояли ее легкие и изящные туфельки… Том не просто хотел этого, он был уверен, что только так и будет. Оксана уже и сейчас, по сути дела, его жена. Почему же каждый вечер она должна уходить куда-то в свою жизнь и возвращаться оттуда с испуганными, ожидающими чего-то глазами? Ему казалось, что она смотрит на него и беззвучно спрашивает: «Ты еще здесь? Ты не пропал? Ничего не сломалось и не нарушилось? Ты любишь меня по-прежнему?»
— Я люблю тебя, — вслух произнес Том и неожиданно встретил слегка озадаченный взгляд официанта. Наверное, это и на самом деле выглядело странно: долгое время молчавший респектабельный господин в очках с металлической оправой вдруг ни с того ни с сего признается в любви своей очаровательной даме. Оксана улыбнулась, и ему вдруг показалось, что вино в бокалах заиграло так, будто в них попали солнечные лучики…
Пока официант расставлял на столе тарелки с закусками, Том нащупал во внутреннем кармане пиджака маленький футляр, в котором на бархатной подушечке лежало обручальное кольцо из белого золота с благородным крупным бриллиантом. Оно наконец должно было все расставить по своим местам. В конце концов дела, связанные с открытием филиала, не позволят ему раньше, чем через два месяца, уехать из Москвы. Так почему же уже сейчас не купить себе приличный дом за городом и не начать жить там нормальной семьей? Почему должен до бесконечности продолжаться этот нелепый гостиничный роман, унижающий и его, и ее? Когда официант наконец удалился, оставив на столе разноцветную мозаику салатов, украшенных свежей, восхитительно пахнущей зеленью, Том эффектно раскрыл ладонь. Но в глазах Оксаны почему-то не вспыхнуло и слабого подобия женского интереса, на который он рассчитывал. Наоборот, они стали совсем тревожными и темными, как грозовая туча.
— Не надо, — произнесла она, опуская голову.
— Что «не надо»? — недоуменно спросил он.
— Кольца не надо. Это ведь кольцо?
— Да, — растерянно согласился Том. — Но почему? Мне казалось, что у нас все уже решено… Или, может быть, мы друг друга неправильно поняли?.. Это кольцо обручальное…
— Я знаю, — тихо отозвалась Оксана и прикрыла ладонью глаза. Он почему-то некстати подумал, что пальцы у нее длинные и очень красивые и кольцо на них, наверное, смотрелось бы прекрасно. Подумал и ужаснулся, поняв вдруг с мгновенной, беспощадной ясностью, что она, по сути дела, отказывается стать его женой. «Я знаю», — сказала Оксана, и эти слова прозвучали как приговор.
Она сидела за столом, наполовину прикрыв рукой лицо. Том видел только ее губы, вздрагивающие, словно от сильной, непрекращающейся боли. А еще он видел неровные красные пятна, выступившие на ее груди, и длинную тень руки. Нет, Оксана не плакала. Он был почти уверен, что не плакала…
— Но почему? — спросил он, поражаясь, как жалобно и вовсе не по-мужски прозвучал его голос. Она отвела ладонь от лица. Глаза ее действительно оказались сухими. Но в них нетрудно было прочитать глубокое отчаяние и полную безнадежность. На ее высоком светлом лбу у самых корней волос выступили крошечные капельки пота, скулы покраснели и как-то заострились, и почему-то казалось, что тени ресниц, лежащие на щеках, стали еще длиннее.
— Потому что я не смогу стать твоей женой, — внятно произнесла она, глядя ему прямо в лицо. — Извини, что привела тебя сегодня сюда. Я просто хотела с тобой проститься.
Том почувствовал, как ладони его быстро и противно вспотели. Его пальцы все еще бессмысленно сжимали футляр с кольцом, и он нечаянно нажал на кнопочку. Футляр тотчас открылся, бриллиант брызнул снопом ярких, праздничных брызг. Оксана непроизвольно сощурилась и растерянно ахнула. Теперь Том окончательно понял, что оказался в дурацком положении, оттого что, пусть нечаянно, но тем не менее клоунским жестом открыл эту коробочку. Более того, он продолжал сидеть сейчас с этим футляром в дрожащей руке, словно герой низкопробной мелодрамы.
— Но почему? — повторил Том с глупым упрямством говорящего попугая.
— А тебе так важно это знать? — Оксана слегка наклонила голову, и ему показалось, что слез пока нет, но они все-таки должны пролиться, раз ей так больно. Наверное, это было жестоко, и по всем неписаным законам благородства следовало сейчас закончить ужин и не мучить ее больше, но Том чувствовал, что невозможно будет вот так запросто встать и уйти отсюда, поддерживая ее под локоть, теперь уже холодный и чужой. Подать ей плащ, словно какой-то малознакомой женщине, и расстаться, обменявшись ничего не значащими и ничего не объясняющими фразами.
— Да, мне это важно, — по-ученически деревянно ответил он и наконец-то отложил в сторону футляр с кольцом. Она сложила ладони перед лицом домиком, немного подавшись вперед, прикоснулась внешней стороной губ к этим самым пальцам, словно пытаясь определить, теплые они или холодные. Все это выглядело странным, как ритуальный жест шамана. Тому не хотелось, чтобы она начала говорить. Он просто сидел и смотрел на ее поблескивающие ногти, на сухие темно-розовые губы, на мягкий, круглый подбородок. Смотрел, понимая, что, может быть, это последние их минуты, проведенные вместе, и отчаянно не желал в это верить.
— Я беременна от другого человека. И ничего уже сделать нельзя. — Оксана сказала это так неожиданно и просто, что сначала это даже не показалось ему страшным. И только потом, через несколько секунд, до мозга и всех нервных окончаний одновременно дошел весь разрушительный смысл ее слов. Том почувствовал, наверное, нечто похожее на то, что ощущает человек, нечаянно коснувшийся оголенного электрического провода. Дыхание перехватило, в каждую клеточку, в каждую пору вонзились раскаленные, вращающиеся иголочки. Он нелепо ухнул и подумал о том, что, когда он целовал ее руки, ее шею, ее колени, в ней уже жил чужой ребенок! И она его чувствовала, твердо знала о нем! Но почему же тогда, почему?.. Том медленно поднял глаза и посмотрел в ее лицо. Оксана, видимо, следившая за направлением его взгляда с самого начала, сидела белее, чем фарфор цветочной вазы, и такая же холодная. Казалось, даже губы ее заледенели в непривычном скорбном изгибе.
— Вот так, — с тоской и вызовом произнесла она и нервно повела плечами.
— Да-да. — Том зачем-то снял очки и положил их стеклами вниз рядом с кольцом в футляре. Теперь все предметы казались ему нечетко очерченными, словно подернутыми туманной дымкой. Но почему-то не хотелось выбираться из этого тумана, чтобы не знать наверняка, улыбается Оксана или усмехается печально и жалко… А почему она сказала, что ничего уже нельзя сделать? Потому что этот ребенок уже есть, и отрезаны пути назад? Или потому, что поздно по медицинским показаниям? Но она ведь такая стройная, такая изящная! Если она хотела избавиться от беременности, то почему не сделала этого раньше? Ведь то чувство, что сейчас связывало их, родилось даже не неделю назад, а три. Почему же она медлила? Чего ждала? Или, может быть, кого?
— Ты, наверное, хочешь спросить об отце ребенка? — Она разомкнула свои ледяные, плохо слушающиеся губы.
— Зачем?.. Н-нет! Не хочу! — Том с какой-то отчаянной решимостью замотал головой. Ему в самом деле не хотелось об этом слышать и почему-то даже казалось: если Оксана вслух произнесет чье-то чужое, неприятное ему имя, то и дымка эта исчезнет, и все вокруг приобретет омерзительно реальные очертания, такие же, как у этих жирных медальонов на тарелке, стоящей прямо под носом. Где-то за его спиной квартет наигрывал знакомую мелодию из Брамса. Причем небрежно и достаточно равнодушно. К тому же скрипач, явно увлекшийся солированием, разрушал хрупкое очарование музыки. Его виртуозные пассажи резали уши, как визги сумасшедшего. Но, как ни странно, никто из сидящих в зале не обращал на это внимания. Все были веселы, заняты едой, вином и застольной беседой. Никто не обращал внимания и на них с Оксаной.
— А я все-таки расскажу тебе про ребенка и про то, почему так получилось. Я хочу, чтобы ты знал. — Оксана, дернув за лепесток низко склонившейся чайной розы, оборвала его, смяла и бросила на тарелку. — Тебе нужно это знать, чтобы ты не считал меня последней дрянью…
— Да, — с отрешенным видом согласился Том.
— Я жила с этим человеком достаточно долгое время. Его звали… Его зовут Андрей. Раньше мне казалось, что я люблю его, мы собирались пожениться. И в общем-то этот ребенок… Он, конечно, был не вовремя, но раз уж так получилось, я решила: пусть будет… А потом я встретила тебя и поняла, что не смогу уже жить с Андреем. Наверное, мне надо было сразу уйти от него. Но я — всего лишь обычная женщина, а не героиня романа. Ты понимаешь, обычная женщина! Еще тогда, в Александровском саду, когда я ужасно натерла ногу этими кошмарными туфлями, а ты поддерживал меня под локоть, я почувствовала… Хотя о чем уже сейчас говорить?
— А когда должен родиться ребенок? — спросил он неожиданно и бестактно. Она на секунду задумалась, а потом неуверенно произнесла:
— Кажется, в апреле…
Том наморщил лоб. Апрель? А сейчас октябрь? Значит, она беременна уже три месяца. И тут же ему отчего-то стало стыдно за свои акушерские выкладки. Стыдно настолько, что кровь хлынула в лицо. Кроме того, он понял: Оксана тоже догадалась, что он занимался расчетом… Ситуацию, становившуюся с каждой секундой все более напряженной, надо было как-то разрядить, но Том боялся еще сильнее ее взвинтить. Дернуло же его спросить про срок родов!
— Видимо, нам придется уйти отсюда вместе? — произнесла наконец она, решившись первой нарушить молчание. — Я понимаю, что тебе это не совсем приятно. Но, наверное, будет хуже, если мы привлечем к себе внимание, правда?
Том посмотрел на нее растерянно и даже ошеломленно. Потом надел очки. Дымка тут же пропала, но теперь это было к лучшему. Теперь он нуждался в ясности. Странная мысль, сумасшедшим лейтмотивом блуждавшая где-то в его мозгу, вдруг вспыхнула так ярко, что стало больно глазам. До сих пор он воспринимал то, что ему сообщила Оксана, как жестокий проступок ребенка. Проступок, который может привести к самым ужасным последствиям, но искупать его предстоит им вместе. А выяснялось, что уже отсюда, из дверей этого ресторана, они пойдут в разные стороны. Это было страшно и немыслимо. Он не хотел, не мог лишиться Оксаны. Она уже стала частью его жизни, и ее невозможно было вырвать из нее, как больной зуб!
Когда Том заговорил, голос его звучал испуганно и одновременно устало, как у отстающего ученика, плавающего на экзамене, но все еще надеющегося выйти сухим из воды.
— Оксана, — он постарался, чтобы ее имя прозвучало как прежде, словно ничего не произошло, — я не хочу тебя ни к чему принуждать. Но если ты не собираешься вернуться к своему… В общем, если ты не против, я хотел бы, чтобы все было по-прежнему и ты взяла это кольцо…
Она прошептала: «Том!», и сжала ладонями покрасневшие щеки. А он смотрел на нее, на смятый лепесток розы в центре тарелки и думал о том, что ребенок еще, в сущности, так мал, что он просто часть ее. В нем пульсирует ее кровь, у него мышцы, выросшие из ее мышц. И почему, собственно, не любить эту ее часть? Тем более если это сделает ее счастливой.
— А знаешь, — Том задумчиво провел пальцем по краю бокала, — это ведь, может быть, мой ребенок?
Оксана качнула было отрицательно головой, но вдруг поняла все, что он хотел сказать. Поняла за какое-то счастливое мгновение. И замерла с удивленной и медленно проступающей на лице улыбкой.
— Да, это будет твой ребенок, — произнесла она с акцентом на слове «будет». — Господи, если бы ты знал, как я благодарна судьбе за встречу с тобой…
Он смутился, часто-часто закивал, чтобы чем-нибудь занять руки, потянулся за бархатным футляром. Неловко повернувшись, задел локтем бокал. Тот со звоном упал, и искристое вино желтоватой лужицей вылилось на Оксанину тарелку. Но лепесток уже не всплыл. Он только развернулся медленно и бессильно, как сгорающая бумага…
* * *
В воздухе уже вовсю пахло новогодними елками. И это было совсем неудивительно. Маленькие елочные базарчики лепились и возле станций метро, и рядом с оптовыми рынками, и просто неподалеку от булочных и универмагов. За время своих прогулок Оксана успела заметить, что в этом году особой популярностью пользуются не пышные лесные красавицы, а маленькие обрубленные верхушки, которые можно поставить даже в банку на тумбочку. Во-первых, стоили они значительно дешевле, а во-вторых, люди, похоже, утратили романтически-трепетное отношение к Новому году и теперь находили более приемлемыми эти куцые символы праздника. А у них дома, на «Багратионовской», в углу балкона уже стояла голубоватая, шикарная пихта с толстыми и тяжелыми, как у щенка овчарки, лапами. Ее привезли по просьбе Тома русские ребята из его фирмы, молодые и веселые. Как они умудрились запихнуть ее в лифт и при этом не помять, уму непостижимо. Вообще, ей не особенно нравился этот новый дом. Он напоминал ей о прежней квартире на Соколе. Да и, кроме всего прочего, снимать жилье у хозяев было не очень-то приятно. Но Том сказал, что самое позднее в середине января они уже улетят в Лондон, а здесь, в России, жить в удаленном от города, а соответственно и от медучреждений, коттедже в ее положении, вообще-то говоря, опасно. И они решили остановиться на этом довольно приличном варианте. В квартире, в соответствии с их запросами, был сделан евроремонт, двери сияли белизной, словно в крутом офисе, на полу — ковровое покрытие с мягким длинным ворсом. Мебель дорогая, совсем новая, но какая-то безликая. Из всей дорогой обстановки Оксана полюбила только туалетный столик на изогнутых серебристых ножках с высоким овальным зеркалом. Это было именно то, о чем она всегда мечтала: несколько выдвижных ящичков, полочки для кремов, подставка для тюбиков губной помады. Теперь у нее было, чем все эти отделения заполнить. Том накупил для нее множество безумно дорогой и шикарной косметики, украшений, туалетов. Он любил выбирать ей подарки, и надо заметить, что вкус у него был безупречный. И она всему этому искренне радовалась…
Иногда Оксане казалось, что шок от расставания с Андреем еще не миновал. К ней еще не вернулось ощущение реальности. Все происходит будто во сне, а значит, что вполне логично, без острой боли. Она еще только ждала, когда ощутит страдание, как ждет солдат, оглушенный шумом боя и вглядывающийся в собственную, до кости располосованную руку. Но порой ей начинало чудиться, что тот же взрыв безжалостно ампутировал и ее способность вообще что-то чувствовать. И тогда Оксана пыталась намеренно сделать себе больно, мысленно повторяя не без брезгливости: «Я всего лишь успешно провела собственную рекламную кампанию. Я продалась, как продают красивый автомобиль или какой-нибудь корниш-рекс семейства кошачьих. И в этом нет ничего плохого! Назначение любой вещи — быть проданной!» Но то ли слова и образы, исключая, пожалуй, лишь корниш-рекса, были какими-то затертыми и поэтому действовали как раз наоборот, то ли гомо сапиенсу в любой ситуации свойственно соблюдать правило «не причини себе зла», но эти запланированные злые и безжалостные обвинения она вонзала в себя с той осторожностью, с какой достают булавкой занозу… Во всяком случае боль никак не приходила. И Оксана продолжала, правда с легким налетом грусти, радоваться и изысканному белью с шелковыми кружевами, и домашним блузкам, элегантным и до умопомрачения дорогим, и возможности хоть каждый день посещать элитные салоны красоты. А еще ей нравилось играть роль хорошей жены. Встречать Клертона у порога, прикасаться к его щеке теплыми, но бесчувственными губами. Выслушивать его с нежной улыбкой и легкой дымкой печали в глазах, гладить его крупную голову, отстраненно перебирая пальцами жидковатые, неопределенного цвета пряди. И если бы еще не унылая необходимость спать с Томом три раза в неделю, все было бы прекрасно…
Все и было прекрасно до того самого дня, когда однажды утром она подошла к зеркалу в тонком черном комбидрессе с ажурной вставкой на груди. Комбидресс планировалось надеть с черными же брюками и пиджачком песочного цвета. Этот комплект очень ей шел. Оксана привычно покрутилась влево-вправо, чтобы проверить, не замялся ли где-нибудь трикотаж. Складочек не было видно, но то, что она увидела, чуть не заставило ее разрыдаться испуганно и безнадежно. Ребенок, долгое время никак не напоминавший о своем существовании, вдруг, видно, вспомнил, что ему пора расти. Животик, пока еще небольшой и аккуратный, выпирал сегодня настолько явно, что ей захотелось немедленно закутаться в просторный халат, прикрыться им и от Тома, и от себя самой, и от всего света. Может быть, весь секрет заключался в черном цвете комбидресса, подчеркивающем выпирающий живот… На ум пришло сравнение — она похожа на беременную пловчиху, смешную и неловкую. Однако смеяться почему-то совсем не хотелось, да и запланированная прогулка показалась обременительной и ненужной…
С этого дня она начала быстро полнеть. Сначала еще удавалось как-то скрывать это просторными, мягкими жакетами и блузами «а-ля художник». Но однажды ночью Том прижал ее к себе и тут же в испуге отстранился. С тех пор они стали спать в разных комнатах. Но внешне в их отношениях ничего не изменилось, Клертон остался таким же ласковым и внимательным, тем не менее в сердце Оксаны поселилась тревога. Если раньше Клертон, зная о существовании ребенка, лишь абстрактно представлял, что он когда-то родится на свет, то теперь этот чужой младенец становился навязчивой реальностью. Каждое утро и каждый вечер Том видел перед собой почти живое, пока еще спрятанное под тонкой джинсовкой специального комбинезона для беременных напоминание о другом, неизвестном и скорее всего ненавистном мужчине. Оксана точно не знала, как часто муж думает о ее прошлом, но зато она видела, как он относится к ее настоящему. Как-то на кухне он случайно прикоснулся к ее животу и тут же отдернул руку, будто обжегся. Она тогда еще долго плакала в ванной, включив душ на полную мощность. Нет, молодая миссис Клертон, все еще сохранившая паспорт на имя Оксаны Плетневой, совсем не была уверена, что этот младенец сможет обрести в Томе отца…
Но она старалась поменьше об этом думать и активно, так, чтобы не оставалось времени на глупые мысли, занимала себя поездками по городу и прогулками в Филевском парке. Да тут еще и Милютина начала вызывать к себе чуть ли не по два раза в неделю. Что-то ей там не нравилось в Оксаниных анализах. Честно говоря, в последнее время чувствовала она себя действительно не очень. Ребенок начал шевелиться и противно «булькал» внутри. Ноги постоянно отекали и с трудом помещались в итальянские зимние ботиночки на квадратном каблуке, купленные всего две недели назад. Неизвестно откуда появились мешки под глазами. А самое главное, губы! На собственные губы Оксана теперь просто не могла смотреть — такими они стали огромными и распухшими, как у негритянки. Милютина объясняла, что у нее плохо работают почки, запрещала пить больше литра жидкости в день. А пить хотелось ужасно. И Оксана килограммами грызла зеленые яблоки «Симиренко», чтобы хоть как-то утолить жажду.
Она казалась самой себе безобразной и порою даже злилась на проклюнувшегося так не вовремя младенца. Впервые у нее за двадцать пять лет жизни появилось все, что душе угодно, а воспользоваться этим нет никакой возможности. Не наденешь ведь с таким животом вечернее платье от Прады или туфельки с прозрачными шпильками? Понятно, что в своем английском брючном костюме для беременных или в сарафане за пятьсот долларов она все равно выглядела лучше любой женщины в консультации. Но разве об этом она мечтала?
Самое странное, что мысли о ребенке, которого Оксана в общем-то не хотела, преследовали ее постоянно. Она испытывала к будущему младенцу отнюдь не ненависть, а скорее жалость. А лучше сказать, относилась к нему так, как человек, решивший навсегда порвать с прошлым, относится к старым фотографиям: да, они милые, но лучше их все-таки не видеть. Иногда Оксана молилась по ночам о том, чтобы все поскорее кончилось, чтобы родился ребенок и развеялись подсознательные страхи Тома. Он убедится наконец, что никакой это не монстр, а беспомощный человечек и, может быть, его полюбит. В такие минуты ребенок замирал в ней, как хитрый лисенок, боящийся обнаружить свое присутствие. Наверное, ему было хорошо там, в уютном плодном пузыре, и не хотелось наружу…
Сегодня Оксана решила сократить обычный маршрут прогулки. Дышалось, несмотря на прозрачную свежесть морозного воздуха, как-то тяжеловато, в пояснице нудно тянуло, да еще и ноги почему-то передвигались тяжело, как огромные тумбы. К тому же сегодня ее как-то особенно раздражали навязчивые взгляды мужчин. В расклешенной, элегантной шубе из мягкой голубой норки ее беременность была незаметна, а сама она казалась похожей на очаровательную Снегурочку, поэтому мужики по-прежнему смотрели на нее с откровенным восхищением. Обычно Оксана старалась не замечать их взглядов, но сейчас это давалось с большим трудом. Она дошла до елочного базарчика и опустилась на деревянную скамейку, смахнув с нее снег перчаткой. Отведя от лица заиндевевшую прядь, обратила свой взгляд к базарчику. Молодой продавец, то ли калмык, то ли бурят, в тряпичном, перетянутом белыми тесемками шлеме стройбатовца, переминался с ноги на ногу, похлопывая руками по плечам. Покупателей было немного, продавцу явно было скучно, и он с удовольствием остановил взгляд на красивой светловолосой женщине в дорогой шубе, присевшей на лавочку у входа. Оксана усмехнулась: этот мальчишка с широкими скулами, узкими глазами и крепкими, как у лошади, зубами не вызывал у нее раздражения. Он не был еще мужчиной в полном смысле этого слова и соответственно довольно далеко стоял от той черты, за которой маячат прилипчивыми тенями ничтожества, мнящие себя Казановами. К таковым мог скорее принадлежать один из покупателей елок в светло-коричневой куртке, черных брюках и почему-то легких ботиночках на скользкой подошве. Наверняка он выбирал елку для семьи, для дома. Но Оксана была почти уверена, что, встретившись с ней взглядом, он непременно удивленно, но с чувством собственного достоинства поднимет бровь, потом улыбнется и сморозит какую-нибудь глупость. Или просто посмотрит исподлобья жадно и мрачно.
Калмык-продавец подмигнул ей пару раз узкими, как будто заплывшими глазами, но, не дождавшись ответа, не расстроился, а продолжал солнечно улыбаться. Делать ему было нечего, покупателей было немного, да и те, что были, не торопились с выбором елки. Бабушка с внуком, так и не подобрав подходящую, медленно брели к выходу. «Калмык» крикнул им на прощание, чтобы заходили к вечеру: ожидается завоз новых елок. Оксана подумала, что ей тоже пора, и тяжело поднялась со скамейки. И тут мужчина в светло-коричневой куртке обернулся. Реакция его была банальной и свойственной людям, не выбившимся в «хозяева жизни», но изо всех сил старающимся таковыми казаться.
— О! Какая козочка! — воскликнул он, покачав головой и поцокав языком. — Жалко, что не моя.
Наверное, она бы просто развернулась и ушла, не удостоив его вниманием, если бы глаза его не были такими синими, а на носу не выделялась покрасневшая от холода горбинка. В общем-то двумя чертами все сходство с Андреем и ограничивалось. Но этого оказалось вполне достаточно, чтобы Оксана почувствовала резкое и пугающее удушье. Так, наверное, бывает, когда смертник, долго-долго готовивший себя к встрече с электрическим стулом, все-таки видит его в назначенный день и за долю секунды успевает понять, что бесполезны все теоретические изыскания и психологические тренинги. То, что произойдет, страшно — и все!.. Андрей несколько раз звонил ее маме, но та, предупрежденная Оксаной, не давала ни адреса, ни телефона. Оксана предполагала, что запросто может столкнуться с ним где-нибудь на улице, готовила себя к этой встрече и все-таки не была готова. «Это не он!» — успела подумать она, а сама тем временем уже медленно скатилась с лавочки на снег. Голова ее погрузилась в расплавленный металл, а живот и поясницу разрывало надвое. Последнее, что она помнила, было склонившееся над ней озабоченное лицо незнакомой старушки и далекий разочарованный голос, может быть, «калмыка», но скорее всего все-таки мужчины в светло-коричневой куртке: «Так она, оказывается, беременная!»…
Пробуждение оказалось достаточно безболезненным. Оксана открыла глаза и увидела высокий белый потолок с нелепым коричневым бордюром. Почему-то она сразу поняла, что находится в больнице. Память возвратила ее к тому самому моменту, когда лицо склонившейся над ней старушки заволокло кровавым, мерцающим зелеными звездочками туманом. Скорее всего ее привезли на «скорой» в ближайшую гинекологию, а не в частную клинику. Кстати, Том знает или нет? И что, вообще, случилось с ней и с ребенком?
Оксана медленно перевела взгляд на свой живот. Аккуратной горкой он по-прежнему поднимался под простыней. Значит, с младенцем все нормально? Ребенок в животе недовольно заворочался, больно надавив на печень. Оксана поморщилась и повернула голову. Из вены на руке у нее торчала иголка капельницы, закрепленная полосками лейкопластыря. Лекарство медленно капало по трубочке из перевернутой вниз горлом бутылки. На кровати, что напротив, лежала беременная негритянка и лучезарно ей улыбалась.
Появившийся вскоре в палате врач был исполнен гораздо большего, профессионально выработанного оптимизма.
— Ну, что ж, поздравляю, вы быстро выкарабкиваетесь. Можно было ожидать худшего, — радостно объявил он. Оксана осторожно приподнялась на подушках, стараясь не шевелить правой рукой. Чего такого «худшего» можно было ожидать и чему доктор сейчас так радуется, она, откровенно говоря, не понимала. Поясницу все еще тянуло, ужасно ныл живот, и ноги покалывало так, будто их изнутри до отказа накачали водой.
— Ну, начнем с того, как вас зовут, где вы живете, и в какой консультации наблюдаетесь? — Врач присел на краешек ее кровати, отчего сетка, жалобно взвизгнув, прогнулась.
— Плетнева Оксана Владимировна. Живу на улице Олеко Дундича, правда, прописана не там… Но я — москвичка! А наблюдаюсь в консультации на Сосновой, недалеко от «Октябрьского поля»… Честное слово, не помню, какой у нее номер…
— Понятно. А кто ваш гинеколог, Оксана Владимировна? Не Привалова, случайно?
— Нет, — Милютина. А в чем дело?
— Не Привалова? — удивился врач. — Странно… Обычно она так своих пациенток запускает! Толстая, самоуверенная, сама себе авторитет!
То ли они с этим врачом в свое время не поделили место работы, то ли еще чем несчастная Привалова ему не угодила, но глаза его сейчас были злыми, как у кошки, собирающейся в защиту котят сразиться с огромным бультерьером. На своей койке негритянка шуршала какими-то пакетами, а Оксане хотелось только одного — чтобы ей в конце концов объяснили, что именно с ней произошло.
— Так вот, Оксана, — врач, видимо, решил временно распрощаться с мыслями о неприятной коллеге из консультации на Сосновой. — У вас острая почечная недостаточность. Вещь, вообще говоря, малоприятная, а при беременности — особенно. В этот раз вам повезло, вы остались живы, а как будет дальше, когда срок подойдет к семи-восьми месяцам, я не знаю… На ноги мы, конечно, вас поставим, но вы вправе решить…
— Что решить? — забыв о капельнице, она резко дернула рукой, и иголка угрожающе выгнулась. Доктор осторожно поправил трубочку и переклеил одну из полосочек лейкопластыря.
— Ну пока говорить об этом, конечно, рано. Нужно сделать все необходимые анализы… Странно, почему их не сделали в консультации. Примите, пожалуйста, мое сообщение спокойно, хотя опасность для вашей жизни сохраняется. В случае, если почечная недостаточность будет прогрессировать, показано искусственное прерывание беременности… Вы еще очень молоды, дети у вас, несомненно, будут. Надо только хорошо подлечиться и в следующий раз с самого начала наблюдаться у специалистов…
Он еще что-то говорил, но Оксана уже не слушала. Она так сильно испугалась, что трудно стало дышать. И это было странно, потому что такой вариант разом решал все проблемы. Ребенка извлекут из нее, мертвого, не способного дышать, она освободится от безобразного выпирающего живота и одновременно от чувства вины перед Томом. Получит возможность начать жизнь сначала. И, главное, ни в чем не будет виновата: ведь есть реальная опасность для ее жизни! Оксана мысленно убеждала себя в этом и чувствовала, как внутри все сжимается. Ребенка извлекут из нее… Ее ребенка! Который уже умеет затаиваться, как лисенок, и, наверное, не хочет появляться на свет…
— Слава Богу, есть множество прецедентов, когда женщины с тем же диагнозом, что и у вас, благополучно рожали, поэтому не следует расстраиваться раньше времени. — Врач успокаивающе похлопал по руке Оксаны, безвольно лежащей на простыне ладонью кверху. — Во всяком случае, мы сделаем все для того, чтобы сохранить беременность… Кстати, дайте мне координаты ваших родных, мы сообщим о произошедшей с вами неприятности. Хотя скорее всего они уже обзвонили все больницы.
Оксана продиктовала телефон секретарши Тома и, дождавшись, когда доктор выйдет из палаты, закрыла глаза. Ей хотелось спать, но негритянке с соседней кровати почему-то захотелось беседовать.
— Доктор сказаль… хорошо лешить… не плакать… девошка, мальшик?.. Хорошо! — радостно проговорила она.
— Да-да, хорошо, — поморщилась Оксана.
— Девошка, мальшик? — снова спросила негритянка и села на кровати, спустив на пол ноги, шоколадно-коричневые и очень стройные. Одета она была в обычный русский фланелевый халатик с желтыми и красными разводами, доходивший едва до колен.
— Мальчик, — ответила Оксана, чтобы отвязаться.
— A-а, мальшик — хорошо, девошка — хорошо! — Негритянка закивала головой, как старая мудрая черепаха. — Амин… Сомали… девошка Рэнда.
Оксана приклеила на лицо вежливую улыбку, а негритянка достала из-под подушки длиннющую черную юбку, надела ее под халат, повязала голову черным с золотом платком и, взяв с тумбочки мыльницу, отправилась в туалет. Повисла тишина, нарушаемая только невнятным бормотанием телевизора из соседней палаты.
Оксане захотелось немедленно убраться из этой больницы, где про ее будущего ребенка говорили, как про какой-то аппендикс, опасный для жизни. И не потому, что она очень хотела его родить, просто это был ее ребенок, часть ее судьбы. А отсекать ненужные части она всегда предпочитала сама.
Том приехал через час, взволнованный, вспотевший и испуганный. Его пропустили в палату. Оксана даже не сразу среагировала на его появление. Просто возник в дверях какой-то мужчина в расстегнутом белом халате. Ну, возник и возник! Может быть, очередной врач. Или больничный электрик. Капельницу с нее уже сняли, и она лежала, с наслаждением ощущая, как уходит из тела боль, и краем уха слушая, как акушерки на посту обсуждают особенности поведения негритянок при родах. Соседка-негритянка, не владеющая русским, ничегошеньки в их беседе не понимала, и поэтому, вернувшись из туалета, бродила по палате, все так же лучезарно улыбаясь.
— Оксана! — выдохнул Том так, будто увидел привидение. Она приподнялась на подушках и хотела спустить ноги с кровати, но он стремительно кинулся к ней и воспротивился этому.
— Мне объяснили, что произошло. — Том, с прямой, как у гимназистки, спиной отогнул край простыни и присел на кровать. — Как это могло получиться? Я срочно перевожу тебя в самую лучшую клинику, где будут обеспечены хороший уход и лечение. Скажи, тебе не больно?
— Нет. — Она покосилась на негритянку, которая теперь с интересом прислушивалась к их с Томом разговорам: английским она наверняка владела. — Мне не больно, — продолжала Оксана. — Но врач сказал, что это достаточно серьезно. И вообще, неизвестно, чем все кончится…
— А ребенок? Ребенок жив?
Оксане показался особенно настораживающим непривычный холодок в голосе Тома. Спрашивая о младенце, он демонстративно перевел взгляд на окно, чтобы не смотреть на ее живот.
— С ребенком ничего еще не ясно. — Она откинула рукой волосы со лба. — Вполне возможно, что его не будет…
Теперь Оксана была уже почти уверена, что Клертон облегченно вздохнул. Но, однако, он быстро справился с собой и погладил ее по руке, совсем как час назад врач.
— Я найду хороших специалистов, и все будет нормально. Только не надо волноваться.
— Хорошо, не буду, — согласилась она с довольно спокойной улыбкой. Похоже, где-то на небе и в этот раз все решили за нее…
Из больницы ее отпустили через три дня под расписку. Чувствовала она себя уже получше, но тем не менее до машины дошла с трудом, опираясь на руку Тома. Врач перед уходом долго внушал, чтобы она сразу же обратилась в консультацию по месту жительства и обязательно продолжила лечение. Оксана соглашалась вяло и равнодушно. Она уже знала, как все будет. Разговор с Милютиной оказался даже более легким, чем она ожидала. Сначала гинекологиня убеждала ее сохранить беременность, говорила про то, что нет бесспорных показаний к искусственным родам. Но стоило Оксане задать всего лишь один вопрос: «А вы можете гарантировать, что я не умру?», как Милютина как-то сразу угасла, завздыхала и в конце концов признала, что это только ее, Оксанино, дело, и строить препоны она не имеет права. Тем более что симптомы достаточно угрожающие. Из кабинета миссис Клертон вышла с заверенным направлением, разбухшей от множества справок обменной картой и чувством, что внутри ее уже сейчас что-то умерло.
Том дожидался ее в вестибюле, сидя за журнальным столиком. Он выглядел явно встревоженным. Оксана села рядом, прижавшись щекой к его плечу. Если бы это был его ребенок, она бы знала, как себя вести. А теперь… Предаваться безмерному отчаянию глупо! А равнодушно объявить о том, что уже довольно большого, способного чувствовать и страдать младенца скоро не будет в живых — жестоко. Она вдруг поняла, что еще секунда, и из неуверенности родится ненависть. Она возненавидит Тома Клертона, из-за которого уже второй раз ей приходится поступать подло и низко. Возненавидит его за то, что он, мужчина, не может сделать так, чтобы она не чувствовала себя виноватой. А также и за то, что ей придется врать, чтобы виноватым не почувствовал себя он. И оба они при этом будут успешно делать вид, что верят друг другу, и ничего, ровным счетом ничего не происходит… Ребенок в животе больно толкнулся то ли локотком, то ли коленкой.
— Ребенка не будет, — сказала Оксана, стараясь смотреть только на лежащий на столике журнал «Здоровье». — Это окончательно. Мне необходимо сделать искусственные роды, иначе я погибну. Вариантов нет… От тебя требуется только одно: найти хорошую клинику и заплатить за лечение.
— Ну, зачем ты так, хорошая моя? — покачал головой Том, ласково сжимая рукой ее плечо. — Бедная моя, хорошая девочка… Если бы ты только знала, как мне жаль!
«Я знаю, как тебе жаль!» — подумала Оксана и впилась ногтями в ладонь, чтобы не расплакаться.
* * *
Алла Денисова возлагала на этот Новый год довольно большие надежды. Хотя, вообще-то, вряд ли их можно было назвать впрямую надеждами. Надежды — это то, чего хотят, неуверенно, робко и страстно, сжав до боли кулаки, строя в голове воздушные замки… А у нее просто имелся некий смутный план, связанный с ее будущей жизнью. Пока неясный и какой-то куцый, чтобы его «строить», поэтому лучше было бы сказать: у нее были определенные планы на Новый год. В частности, в период с 31 декабря по 3 января планировалось, что Толик Шанторский сделает ей предложение…
27 декабря Алла вышла на работу в приподнятом настроении. Во-первых, Лариса Соловьева должна была сегодня принести ей платье, как обещала, очень красивое, а главное, недорогое, и это не могло не радовать. В последнее время Алла ожесточенно копила на новую квартиру, поэтому на туалеты не тратилась. Во-вторых, ночью ей приснился чудесный сон: она увидела свою будущую семью: себя, Толика и маленького ребенка в кроватке. Во сне она любила этого малыша и испытывала что-то похожее на нежность к Толику. Вот это ее в основном и вдохновило. Как-то еще в школьные годы, классе в пятом или в шестом, Алле приснился одноклассник, на которого она до этого не обращала никакого внимания. На следующий день она отыскала его глазами на утренней линейке и поняла, что влюбилась. Просто так взяла и влюбилась во сне. И сейчас ей очень хотелось, чтобы хрупкое чувство нежности, возникшее ночью так неожиданно, закрепилось, приобрело какую-то форму.
В последнее время Алла почти убедила себя, что любить будущего супруга или испытывать к нему глубокое, трепетное уважение вовсе не обязательно. К нему важно только притереться. Говорят, что взрослого, сформировавшегося человека уже не переделаешь. Но это не так. Процесс притирки подразумевает отлетание «лишних деталей» и даже некоторое видоизменение внешнего облика. Ей хотелось верить, что Толик станет хоть немножечко другим, а может быть, она — другой, той, которой уже все будет безразлично… Уважать Шанторского было чрезвычайно трудно, и он сам создавал эти трудности, чрезмерно часто повторяя местоимение «я», утверждая, что большинство его коллег сволочи и подлецы, а также по любому поводу вспоминая сонм женщин, якобы в него влюбленных. У Аллы иногда создавалось впечатление, что в Москве просто нет такой особи женского пола, которая бы не страдала по Толику. Впрочем, преподносил он это с оттенком легкой небрежности, давая понять мимикой и взглядом: «Но сейчас-то все они забыты. Я с тобой, дорогая!» И он, в самом деле, был с ней. К его достоинствам, несомненно, следовало отнести пунктуальность и обязательность. Как-то у Аллы выдался неудачный день, ужасно болела голова, поднималась температура, а главное, не хотелось видеть Шанторского — до тошноты, до крика. А тут еще накатили воспоминания об Андрее. Она сидела перед зеркалом в ванной и плакала, с раздражением думая о том, что сегодня обязательно приедет Толик, и надо будет выйти объясниться с ним, прежде чем он наконец уедет. Шанторский приехал через час, позвонил в дверь. Алла выползла в прихожую, открыла, и с порога объяснила, что сегодня поехать с ним никуда не может, а поэтому просит ее извинить.
— Что значит, не можешь? — искренне удивился Толик. — Мы же договорились. Я распланировал свой день, отказался от важной встречи. Да и столик в ресторане уже заказан!
— Я сама закажу столик в следующий раз. И, честное слово, возмещу тебе все нравственные и материальные потери. Но потом, ладно? — Алла попыталась улыбнуться ласково и миролюбиво.
— А бензин? Бензин ты мне тоже возместишь? Я ведь приехал сюда аж со Щелковского шоссе и теперь по твоей милости поеду обратно!
И она поняла, что эти несколько литров бензина она никогда ему возместить не сможет, настолько огромная эта потеря. К тому же Толик всего лишь взывал к ее обязательности. И она сказала:
— Хорошо, мы поедем. Дай мне десять минут на сборы…
Да, Шанторский был пунктуальным и обязательным. Из явных недостатков можно было выделить только, пожалуй, мелкие белые кудряшки, делавшие его, пожилого, в общем, человека, похожим на ангелочка-переростка. Но о каких, вообще, недостатках можно говорить, если следовать народной мудрости: «Жена должна быть умной, красивой, сексуальной, тактичной, домовитой, преданной, талантливой, заботливой. А муж должен просто быть»? Алле исполнилось тридцать два года, и ей хотелось замуж, хотелось любить своего будущего мужа Анатолия Игоревича Шанторского…
В холле родильного отделения рядом с телевизором стояла нарядно украшенная зеленая елочка. Если бы Алла наперед не знала, что она искусственная, то ни за что бы не догадалась. Даже пахло деревце благодаря хвойным ароматизаторам совсем как настоящее. Телевизор работал, под звуки рождественского гимна крутили мультяшки про каких-то там Санта-Клаусов, гномов и оленей. Больных в холле не наблюдалось. Алла еще до сих пор не могла привыкнуть, что здесь, в 116-й клинике, в каждой палате есть и телевизор, и холодильник. Каждая пациентка у себя в палате могла смотреть что ей хочется, о чем и свидетельствовали колокольчики рождественского гимна, переплетающиеся в коридоре с бравурно-ироничными звуками марша из «Принца Флоризеля»…
Лариса Соловьева, как всегда, вынырнула откуда-то абсолютно неожиданно. Алла даже не успела сообразить — откуда.
— Ой, подожди! — Лариса энергично замахала обеими руками, как заяц лапами. — Сейчас я тебе платье принесу, оно у меня в шкафу, в пакете.
— Не торопись, — осадила ее Алла. — Все равно у меня сейчас профилактическая беседа с вашими беременными. Пока еще все палаты обойду! Новых-то никого нет?
— Есть. — Соловьева кивнула с таким видом, что сразу стало ясно: она намерена сообщить что-то важное. Опустив руки в карманы халата, зацокала каблучками, направляясь к посту. Говорить она начала, только подойдя вплотную и убедившись, что их никто не слышит.
— Ты знаешь, — она интимно понизила голос, — вчера в седьмую палату легла женщина с двадцатью четырьмя неделями. Красавица, прямо фотомодель! Вроде бы замужем, но мужа я пока не видела. Собирается искусственно прерываться. А ребенок абсолютно нормальный, хороший, девочка. Ей вчера сделали ультразвук… У нее почечная недостаточность, разумеется. Но не до такой степени, чтобы прямо сейчас в гроб ложиться. Могли бы мы эту даму дотянуть до родов! В общем, предоставили решать ей самой, а она, по-моему, просто труса отпраздновала… Тебе, конечно, у нее в палате делать нечего со своим ликбезом, но ты все-таки зайди, а? Без карты, без всего, будто случайно! Поговоришь — может, она и передумает. А то очень уж жалко и ребенка, и ее. Такая красивая!
— Зайду, — Алла пожала плечами. — Почему бы не зайти? Но только я не уверена, что это кому-то нужно. Такие вот «фотомодели» обычно от детей и отказываются. А зачем они им? У них личная жизнь, Парижи, Канары! От кормления фигура, не дай Бог, испортится! Так что вышвырнет она меня вместе с моим ликбезом из палаты и еще мужу «новорусскому» пожалуется…
Ей почему-то вдруг вспомнилась та девочка Оксана, что сидела вместе с Андреем в ресторане. Девочка была виновата только в одном — ее полюбил и на ней собирался жениться Андрей. Но Алла тогда, с первого взгляда, возненавидела ее со всей страстью, на которую была способна. Она прекрасно понимала, что ненависть эта глупая и бессмысленная, но ничего не могла с собой поделать. И сейчас ей было приятно представлять на месте безвестной «новорусской» беременной из седьмой палаты эту Оксану. Приятно примеривать на нее поступок, далеко не безупречный с точки зрения морали, и думать о том, что когда-нибудь она обязательно сделает что-нибудь в таком же духе. И тогда Андрей поймет, с опозданием, но поймет…
— Так ты зайдешь? — Лариса поправила возле уха кокетливый каштановый завиток.
— Зайду, — вздохнула Алла. — Куда я денусь?
После обхода гинекологов женщины еще не вставали с кроватей и лежали, кто с книжкой в руках, кто с пультом от телевизора. Дольше всего ей пришлось задержаться в пятой палате, где обосновалась девятнадцатилетняя жена президента какого-то коммерческого банка с «индийской» родинкой между бровей и двойней в животе. Ей хотелось знать абсолютно все: и как кормить двух малышей сразу, и как укладывать их спать, и как купать. Она спрашивала одно и то же во время каждого осмотра, но каждый раз ее вопросы обрастали все новыми и новыми подробностями. Сегодня Алла успокаивала ее, объясняя, что вовсе не обязательно, чтобы один младенец был «совой», а другой «жаворонком». Впереди Аллу ожидали беседы еще с пятью пациентками, в том числе и с красавицей «фотомоделью» из седьмой палаты…
Едва она открыла дверь, то сразу поняла, что здесь лежит женщина, которую кто-то очень и очень любит. Комната была завалена цветами. Не настолько много, чтобы это могло показаться безвкусным, но вполне достаточно для того, чтобы она находила их взглядом и лежа в постели, и сидя у зеркала, и отправляясь в душ. Розы, свежие и еще, кажется, хранящие на лепестках дрожащие капли росы, стояли в классических белых вазах, оттеняющих их щедрую красоту. Женщина, видимо, находилась в ванной, оттуда доносился шум воды. Алла деликатно покашляла, но, поняв, что это бесполезно, присела на стул рядом с кроватью. Стул оказался как раз напротив зеркала. Она взглянула на свое отражение, машинально поправила прическу и на секунду замерла с ладонью, прижатой к волосам. Лицо ее, все еще довольно привлекательное, сегодня казалось каким-то неживым, словно маска Арлекина. То ли радость с годами перестала его красить, то ли повод для этой самой радости был слишком вымученным и ничтожным. А сейчас в эту комнату должна была войти женщина не просто красивая, а очень красивая, которая, возможно, посмотрит на нее с сожалением.
Шум воды, доносившийся из ванны, прекратился. Послышалось шлепанье босых ног. Белая дверь, ведущая в ванную, отворилась, и Алла на мгновение почувствовала разочарование. Так бывает, когда посреди хорошего, захватывающего детектива сыщик с преступником «вдруг» встречаются в каком-нибудь случайном месте, вроде вагона поезда или уличного кафе. И происходит это не потому, что сыщик злоумышленника выследил, а потому, что он ни с того ни с сего ехал в ту же сторону или в это же время захотел покушать в том же заведении. На пороге ванной стояла та самая Оксана, с мокрыми, слипшимися длинными прядями волос, умытым свежим лицом и остро выпирающим животом. На ней был накинут нежно-розовый махровый халат, пушистые тапочки, на пальце массивное кольцо с крупным бриллиантом. Похоже, в первый момент Оксана ее не узнала, потом сощурилась, как бы что-то вспоминая, и неуверенно улыбнулась. Алла почувствовала, как сердце забилось быстро и суматошно. Выглядела Оксана месяцев на шесть с хвостиком, но даже если у нее точно двадцать четыре недели, все равно, это скорее всего ребенок Андрея. Точно, Андрея! Ведь виделись они в общем-то совсем недавно, и тогда он представил ее, как свою будущую жену.
— Здравствуйте, — осторожно сказала Оксана, опускаясь на кровать, застеленную шелковым, цвета спелого персика покрывалом. — Мне раздеться?
Слава Богу, она, похоже, не собиралась выходить из рамок официального общения.
— Здравствуйте, — ответила Алла, сосредоточенно копаясь в папке. — Раздеваться не нужно. Я — педиатр. И я хотела бы…
Она собиралась провести плановую беседу, посвященную уходу за новорожденным, ответить на вопросы, объяснить, какие консультации здесь оказывают. И вдруг, в одно мгновение, осознала, что все это не имеет смысла. Оксана сидела перед ней мокрая после душа, неуклюжая, но все равно невообразимо красивая. И самое главное, она все-все понимала.
— Оксана, — Алла захлопнула папку и отложила ее на тумбочку, — понимаете… В общем, у меня и карты вашей нет, но мне обрисовали вашу ситуацию, и я хотела бы…
— Не надо, — прервала ее Оксана. — Все уже решено, и разубеждать меня бесполезно. Во-первых, я имею право делать все для сохранения своей жизни, во-вторых, все показания за искусственные роды, в-третьих, я вам за это плачу. Не лично вам, конечно, потому что вы — педиатр, со мной для вас работы нет. Но в любом случае давайте не будем тратить время друг друга!
— Вы платите и мне тоже. В любом случае мне придется засвидетельствовать гибель плода. А кроме всего прочего, — Алла прокашлялась, — я должна предупредить вас, что ребенок может остаться жив. У вас девочка, причем, видимо, довольно крупная, а девочки вообще более жизнеспособны, чем мальчики. Так что вы, как мать, должны решить, подключать ли вашего малыша к дыхательному аппарату, если вдруг все сложится благополучно.
— Спасибо, но меня уже обо всем предупредили, — Оксана подтянула к себе подушку и подложила ее под спину. — Я беседовала с заведующей клиникой, и все формальности уже улажены. Нам, в самом деле, не о чем с вами разговаривать. Я не хочу, чтобы моего ребенка сначала держали под стеклянным колпаком с проводками в носу, а потом всю жизнь таскали по психиатрам. Пусть уж его вообще не будет, чем будет урод.
— Ну тогда прощайте. Извините, что начала этот разговор. — Алла поднялась со стула, подхватив папку. — Всего доброго…
По пути от палаты до поста она успела вспомнить все ругательства, которые когда-либо знала, и мысленно обрушить их на голову ни в чем не разобравшейся и втравившей ее в глупейшую историю Соловьевой. Конечно, эта стерва Оксана заботится в первую очередь не о собственном здоровье, а о том, чтобы не было ребенка. А к карте ее наверняка уже приложено заверенное нотариусом заявление о том, что она просит не сохранять жизнь младенцу, если он появится на свет живым. И надо же было сунуться к ней со своими увещеваниями!.. Но почему она это делает? С Андреем она сейчас или нет? И что такого критического могло произойти в их жизни, что она решила не сохранять беременность? А может быть…
Алла в раздумье остановилась посреди коридора. Может быть, она рассталась с Андреем? Конечно! Это вполне реально! Вряд ли Потемкин с его зарплатой мог позволить себе такое обручальное кольцо! Но тогда это значит… В ординаторскую она ворвалась, чуть не обрушив вешалку для халатов, стоящую у косяка. Что-то пишущая за столом Соловьева удивленно подняла глаза.
— Ты откуда такая взбудораженная? Из седьмой палаты, что ли?
— Да, — Алла присела на краешек стола, отодвинув ее бумаги в сторону, — но об этом мы с тобой еще поговорим. А пока, будь человеком, погуляй пять минут. Мне нужно сделать один конфиденциальный звонок.
Лариса пожала плечами и вышла, ничего больше не спросив. А Алла, мысленно прочитав начало «Отче наш…», набрала номер, который помнила наизусть уже много лет. Раздалось всего три или четыре длинных гудка, а потом трубку сняли.
— Да, — сказал Андрей недовольным и сонным голосом, — я вас слушаю…
Это был он, несомненно, он. От звука его голоса что-то в груди Аллы начинало мелко-мелко вибрировать, ноги слабели, губы пересыхали. И так было всегда, на протяжении уже многих-многих лет. Он знал об этом, не мог не знать, потому что самой ей казалось, что скрыть это невозможно, что ее чувство постыдно вылезает наружу, как экзема на руках. А раз он знал и делал вид, что не замечает, значит, просто не хотел ничего замечать. Сама Алла всего лишь раз сделала шаг навстречу, но зато какой! Проснувшись после той пьяной ночи на серых общаговских простынях, она ждала: вот сейчас наконец… Но ничего не произошло. Андрей торопливо одевался и молча смотрел. Во взгляде читалось чувство вины, словно он нечаянно опрокинул вазочку с вареньем, и одновременно тревога. Она все поняла, нашлась, что сказать. Но когда ее сухие, распухшие от поцелуев губы произносили: «Эта ночь ни тебя, ни меня ни к чему не обязывает», сердце все еще надеялось…
— Да, — повторил Андрей. — Перезвоните, вас не слышно.
Она заторопилась и, наверное, показалась ему глупой и по-бабски суетливой:
— Андрей, это я, Алла Денисова. Я, наверное, тебя разбудила? Ты с ночного дежурства?
— Да, — отозвался он без всяких эмоций. — Ничего страшного. Что ты хотела?
— А жену твою не разбудила? — Она чуть не задохнулась от ужаса, осознав всю глупость заданного вопроса.
— Нет, — ответил он так же спокойно.
— Андрей, я знаю, это выглядит нескромно и бестактно, но… В общем, я видела сегодня женщину, очень похожую на твою невесту… Помнишь, ты познакомил нас тогда, в «Репортере»? Вот я и решила узнать, как у вас дела.
— Вот как, — произнес он слегка удивленно, но скорее с вялым любопытством умирающего старика. — И где же ты ее видела?
Правильнее всего сейчас было бы повесить трубку. Раз Потемкин спросил «где ты видела ее?», значит, они наверняка не вместе, значит, нужно просто выждать и попытаться начать все с нуля, а этот телефонный разговор как-нибудь потом перевести на шутку. Что ж, первый раунд почти уже выигран. Но когда ей в голову пришло это дурацкое сравнение с боксом, Алла поняла, что ничего не выиграно, потому что судья сейчас засчитает нарушение правил или что-нибудь еще. Потому что ее Андрей лежит сейчас на ринге, сраженный чьим-то чужим страшным ударом…
— Я видела ее у нас в отделении. Она вчера легла делать искусственные роды. Я работаю в 116-й клинике, ты, наверное, уже не помнишь…
Против ее ожидания, он не оборвал разговор на середине фразы, а дослушал ее до конца и вежливо попросил разрешения приехать.
Он появился уже через сорок минут, хотя от его дома добираться сюда на городском транспорте — никак не меньше часа, и Алла поняла, что все-таки безнадежно проиграла так называемый первый раунд.
* * *
«Ее же невозможно не полюбить! — восклицала мама, разводя руками и как бы призывая всех восхищаться вместе с ней. — Она же такая чудесная и обаятельная». В столь бурный восторг приводила ее дочь старой подруги, двадцатитрехлетняя длинноногая Танька. Кроме длинных ног, у Таньки были пушистые волосы, широкие, как у Брук Шилдс, брови, толстые, «расквашенные» губы и вязаная кофта с крупными розами. Андрею она напоминала большую говорящую куклу, в какой-то момент начинало казаться, что она вот-вот раздельно и механически произнесет: «Мам-ма!» Полюбить Таньку ну никак он не мог, чем страшно огорчал маму, руша ее далеко идущие планы. Впрочем, сам он к парадным дверям, за которыми раздается торжественный марш Мендельсона, совсем не торопился. Предпочитал спокойно ждать, когда придет эта самая «большая, чистая и светлая», тем более, что процесс ожидания был приятным и необременительным. У Андрея были женщины: умные, обаятельные, красивые. Он не обещал им ничего, и они знали, на что шли, но, наверное, все равно чего-то ждали, так же, как и он.
Ему часто вспоминался первый класс, профилактический осмотр врачей и длинная очередь к стоматологу. Теоретически все мальчишки и девчонки понимали, что такое бормашина, но практически с ней еще не сталкивался никто. Андрей тоже знал, что это больно, но как именно больно, представить себе не мог. И шаг за шагом продвигаясь к страшному кабинету, воображал, как тонкое сверло орудует у него во рту. А из кабинета один за другим выходили его одноклассники, и кто-то уже знал, что это такое, а у кого-то оказались здоровые зубы, и он оставался в счастливом неведении…
Андрей не торопился узнать, что такое любовь, но когда она пришла, понял все мгновенно и пронзительно. Понял, что назад уже не «открутишь», что это — навсегда. И теперь на вечеринках традиционный тост «за сбычу мечт» поднимал уже не с разудалым замахом в будущее, а с нежной оглядкой в прошлое, в тот памятный день, когда он встретил Оксану. Они познакомились в одной компании, куда она пришла с влюбленным по уши в нее молодым человеком, но скоро это стало неважно. Неважно, как и многое другое. Она не была идеальной, как, впрочем, и любой живой человек. Андрея ужасно смешило, например, ее неукротимое детское желание в любой игре, в любом самом пустяковом споре оставаться победительницей. Однажды она даже расплакалась после того, как убедилась, что в основу дурацкого-предурацкого шлягера «Принц огня» действительно легло стихотворение Гумилева, с чем не соглашалась. Но и обидчивость, и капризы только добавляли Оксане нежной прелести. Иногда Андрею казалось, что, не будь этих недостатков, он и любил бы ее меньше. Наверное, она просто играла в маленькую девочку, но эта игра нравилась и ему, и ей. А еще она не умела ждать. Ее страшила бедность, она не хотела есть бульон из кубиков и до скончания века спать на старом скрипучем диване. И он не знал, как успокоить ее, как убедить, что скоро-скоро все будет хорошо. Впрочем, вполне возможно, что это тоже было частью игры: примерная хозяйка, будущая жена, озабоченная семейным бюджетом. Когда Андрей задумывался над этим, то вспоминал обычно завотделением урологии Валентину Ивановну, которая утверждала, что смотрит какой-то глупый мексиканский сериал только для того, чтобы создать у мужа ощущение дома и надежности, чтобы он чувствовал, что женат на обыкновенной нормальной бабе, а не на ходячей докторской диссертации.
А потом Оксана ушла. И он сначала даже не понял, что произошло. Не понял и удивился так, как если бы застал Валентину Ивановну совершенно искренне рыдающей над очередной телетрагедией какой-нибудь Розалии. Он просто не мог поверить, что нет Оксаны, и нет ребенка, потому что не чувствовал расставания, потому что они, все трое, уже стали единым целым, и нельзя, невозможно было вот так сразу разорвать общие нервы и общие кровеносные сосуды. Андрей долго бродил бесцельно из спальни в гостиную, из гостиной в кухню, напряженно прислушиваясь к тишине и надеясь, что вот-вот зазвонит телефон. Шел на работу, возвращался, первым делом окидывал взглядом полочку для обуви, рассчитывая увидеть там ее кроссовки, и снова ждал. Потом звонил ее матери и выслушивал путаные объяснения. А потом пришла ярость. Что-то подобное, наверное, чувствует ребенок, запертый в квартире ушедшими на вечеринку родителями: сначала только одно тоскливое желание быть вместе с ними где угодно, а потом почти ненависть (как они могли так поступить со мной! мне ведь страшно! мне одиноко!). Но как даже самый обиженный ребенок не перестает любить своих отца и мать, так и Андрей не переставал любить Оксану. И все же ему было невыносимо думать о том, что он, как пощечину, как плевок в лицо получил, по сути дела: «Ты — не мужчина! Ты можешь только спать с женщиной и романтически-поэтически гулять при луне. Ты не в состоянии прокормить семью. Оставайся в моем сердце бесплотной Вечной Любовью». Иногда ему казалось, что все это только нелепая, злая шутка, что придет Оксана, ткнется лбом в его плечо и скажет: «Неужели ты мог в это поверить? Скажи честно, ты поверил?!» И тогда он просто убьет ее. Нет, не убьет, конечно, но обидится всерьез и надолго — это точно. А может быть, не обидится и просто прижмет к своим губам ее тонкие длинные пальцы?
Оксана не возвращалась. И острую обиду сменила тяжелая апатия. Андрей ясно понимал, что любить никогда уже не сможет по одной простой причине: весь выделенный ему Господом Богом лимит любви он израсходовал за один раз. Раньше ему делалось немного смешно, когда он слышал «прижизненные» разговоры об однолюбах. Ну как, как могут и окружающие, и сам человек знать, что будет с ним через год, полгода? Говорить: «Все, я — однолюб», — это то же самое, что: «Все, я — вечный чемпион мира по прыжкам с шестом, и никто никогда не побьет мой рекорд». А теперь он знал, что внутри может быть пусто и черно, как после пожара, что любовь может и занимать, как газ, «весь предоставленный ей объем», не оставляя места ни для чего другого, и уходить, оставляя позади себя черную, страшную, безжизненную гарь.
Его стали раздражать блондинки с синими глазами. Все они были несовершенны, одним фактом своего существования портили идеальный образ, хранящийся в его памяти. Его раздражала даже собственная память, потому что она не хотела отфильтровывать только хорошее, и в самый неподходящий момент вспомнились последние слова Оксаны, прощальные слова: «Я ухожу к другому человеку». Господи, если бы она еще не краснела при этом, если бы она сказала честно и виновато: «Я люблю его!» Но ведь нет! Она сказала: «Я люблю тебя, а ухожу к нему!» Андрею было досадно так, как если бы чистейшая героиня прекрасного мудрого романа в кульминационный момент отправилась воровать ириски в ближайший гастроном. Это было пошло и невозможно, и, наверное, он возненавидел бы автора, позволившего себе легким, ироничным росчерком пера уничтожить и многодневный труд собственной души, и тот мир, что успели для себя придумать его читатели. Впрочем, если бы дело касалось книги, наверное, не только не возненавидел бы, а даже, наоборот, оценивающе и благосклонно усмехнулся: «Да, оригинальный у мужика взгляд на жизнь! Молодец, сюжетик завернул, конечно, здорово!»
Он не знал, какого Автора ненавидеть сейчас. Да, впрочем, у него уже и не осталось сил на ненависть. Желания его стали вялыми, смутными и еле уловимыми, как у умирающего старика. Андрею вроде бы и хотелось видеть Оксану, и в то же время не хотелось, потому что инстинкт самосохранения подсказывал, что от этого будет только хуже. Он утешал себя тем, что она скорее всего уже в Англии, и что боль его постепенно пройдет, нужно только терпеливо ждать. А потом позвонила Алла. И это было как электрошок, после которого на мониторе начинают бешеными зигзагами отражаться удары уже остановившегося сердца. Андрей толком не знал, зачем едет в больницу. Кто-то другой, понимающий смысл происходящего, ловил за него такси, называл адрес, открывал тяжелые двери и спрашивал, как найти врача Денисову. Кто-то другой вел его в пространстве — до Алкиного кабинета, а во времени — до той минуты, когда он узнал: ребенок жив, ребенок нормальный, это девочка…
Оксана лежала на заправленной кровати, свернувшись клубочком, и со спины было совсем не заметно, что она беременна. Она не спала. Пальцы ее, чуть отекшие, но все еще красивые, отрешенно перебирали неровные складочки на рукаве махрового халата. Андрей остановился на пороге. Он вдруг понял, что не сможет вот так, просто назвать ее имя, сказать «здравствуй» или что-нибудь еще. Где-то в коридоре истерично взвизгнула колесиками каталка для белья. Оксана обернулась, вернее, развернула только голову и плечи, посмотрела на него равнодушно, так, будто они в последний раз виделись только вчера, и попросила:
— Прикрой дверь, пожалуйста. Из коридора сквозит, да еще эта каталка постоянно громыхает. Знаешь, удивительно: здесь обслуживание такого цивилизованного уровня, а каталки из каменного века!
Андрей послушно притворил дверь, подошел к ее кровати и сел на стул, ощущая себя то ли посетителем, то ли просителем. В ванной монотонно капала вода из плохо закрытого крана, в окно заглядывало декабрьское солнце. Оксана продолжала лежать, развернувшись плечами к нему, а коленями к окну. Когда она наконец поднялась, тяжело опершись на локоть, стало видно, что ребенок все-таки есть.
— Тебе, наверное, странно, что я не удивляюсь? — Оксана запахнула разъехавшиеся на располневшей груди полы халата. — А я сразу поняла, что твоя институтская подружка непременно тебя разыщет. Женщинам такого типа обычно до всего есть дело. Суются они туда, куда не просят… Но, в общем, ладно. Рассказывай, зачем пришел?
— Значит, аборт ты тогда все-таки не сделала? — он указал глазами на ее живот. Она усмехнулась:
— А какие, по-твоему, есть варианты ответа? — усмехнулась Оксана.
Губы ее нервно кривились, и Андрей вдруг подумал, что, наверное, сейчас Оксане очень хочется курить. Когда она расстраивалась или волновалась, то первым делом хватала сигарету.
— Не надо, — он покачал головой. — Не надо вот этого всего. Давай не будем устраивать состязания в остроумии… Мне просто хотелось узнать, почему ты не сделала аборт, но если не хочешь — не говори. Тем более сейчас это уже не так важно.
— Я просто опоздала, как опаздывают тысячи баб. — Она снова усмехнулась. — А ты, наверное, подумал, что я решила оставить ребенка в память о нашей любви? Ну, скажи честно, подумал, да?
И все же она была безумно красива. Даже с этим злым изгибом губ, с холодным огоньком, мечущимся в синих глазах, с чужим усталым голосом. Андрею вдруг стало так жаль той, ушедшей Оксаны, той, которую уже никогда не вернешь, что захотелось кричать. Лицо ее осталось таким же прекрасным, жесты — привычными. И все же это была уже не она.
— Послушай, — Андрей, сжав кисти, хрустнул костяшками пальцев, — я как раз об этом и хотел с тобой поговорить… В общем, мне сказали, что ребенок тебе не нужен. И я могу это понять: у тебя новая жизнь, новый мужчина. Но зачем обязательно его убивать? Тем более что это уже не аборт на малых сроках, а почти нормальные роды. Может быть, тебе имеет смысл доносить его еще хотя бы месяц, а потом сдать в Дом ребенка?
Ее брови удивленно и насмешливо поползли вверх, некрасиво наморщился лоб, задрожали уголки губ.
— Ну давай-давай! Продолжай! — Оксана скрестила руки на груди. — Расскажи мне, как ты заберешь его из детдома и воспитаешь. Ты ведь знаешь, что это девочка, да? Ну тогда расскажи, что сделаешь из нее идеальную модель меня, вырастишь себе маленькую, хорошенькую Оксану, которая тебя никогда не обидит и никогда не бросит. Я ведь угадала, правда?
Андрей отвернулся к стене и уставился на полочку под зеркалом. Он с самого начала знал, что она все поймет, да в общем-то и не собирался ничего скрывать. И все-таки почему-то ему казалось, что все это произойдет не так. Ведь она уходила из дома виноватой, страдающей и вроде бы еще любящей. Откуда же вдруг ни с того ни с сего взялись и эта стервозность, и эта обозленность, и это отчаянное, паническое нежелание выслушать его?
— Я не хочу тебя слушать! — продолжила она, словно прочитав его мысли. — Не хочу, потому что все это ужасная чушь! Даже глупые девки понимают, что хранить в память о прошедшей любви можно открыточки с сердечками и залитые слезами фотографии, а отнюдь не детей. Ты врач и наверняка покопался в моей истории болезни, поэтому не имеешь права уговаривать меня отказаться от искусственных родов. Если я умру, виноват будешь только ты… Все уже решено, и ничего менять я не собираюсь.
— Тогда все, я пошел. — Он поднялся со стула, подвинул его к стене и направился к двери. Сзади, за его спиной, повисло молчание, тяжелое и страшное. Он, не оборачиваясь, знал, что Оксана сидит сейчас на кровати, схватившись обеими руками за край матраса, и смотрит ему вслед. Он знал, что она все еще ждет от него, конечно, не пафосно-идиотского «прощай, я ухожу навсегда», но чего-то хотя бы отдаленно похожего на финальную точку. Их разговор, напоминавший неудавшуюся встречу деловых партнеров, повис в воздухе, как оборвавшаяся нить паутины. И все же он решил, что не скажет больше ничего.
И тут дверь перед ним открылась, и в палату вошел средних лет мужчина с высокими залысинами и очками в металлической оправе. Андрею стало ясно, что это и есть тот самый Томас Клертон. Наверное, и Томас Клертон понял, кто он такой. Во всяком случае, взгляд его был долгим и грустным. Говорить «Я тебя люблю!» в компании третьего, тем более, если этот третий — муж, Андрею расхотелось. Да и кому говорить? Оксаны Плетневой больше не было, ее заменила миссис Клертон, сейчас, наверное, мучительно соображающая, как она будет оправдываться перед супругом…
Алла ждала в своем кабинете. На столе перед ней лежал листочек, сплошь изрисованный дурацкими цветочками и глазками с длинными ресничками. Эта привычка машинально рисовать где попало и что попало сохранилась у нее еще с института. Андрей хорошо помнил ушастого Чебурашку на обложке ее тетрадки с лекциями по анатомии.
— Тебе надо было стать офтальмологом, — сказал он, усаживаясь напротив. — Глазки у тебя получаются просто чудесные.
Она отодвинула ручку в сторону так же аккуратно, как он пять минут назад стул, и подняла на него серьезные и грустные глаза.
— Не надо, Андрей, — голос ее мягко осел, как западающая клавиша рояля. — Я же вижу, какое у тебя лицо заледеневшее… Так что, если хочешь, поговори со мной. Только шутить не надо, ладно?
Ему вдруг стало стыдно из-за неудачного разговора с Оксаной, что пожалела его сейчас именно Алка. Та Алка, которую он не хотел видеть, та Алка, которой был благодарен за ненавязчивость. Женщина, связь с которой вспоминалась, как досадное недоразумение.
— Да, прости меня, — Андрей потер пальцами переносицу. — А поговорить с тобой мне действительно нужно… Если я правильно понимаю, в своем детском отделении ты — царь и Бог, и никто в твои дела не суется?
— Ну, в общем, можно сказать и так. — Она взглянула на него несколько удивленно.
— Тогда у меня к тебе есть одна просьба… Точнее, это сложно назвать просьбой. В общем, если ребенок Оксаны родится живым, я бы хотел, чтобы ты не позволила ему умереть.
Она инстинктивно отстранилась, откинувшись на спинку стула, и отрицательно покачала головой.
— Чего-нибудь в этом духе я от тебя и ждала, — Алла снова взяла шариковую ручку и подтянула к себе листок. — Но только ничего не получится. Во-первых, я в два счета вылечу с работы, если кто-нибудь из начальства об этом узнает. А узнают обязательно, потому что, кроме меня, есть еще детские сестры и бригада, которая будет принимать роды…
— И кто-то пойдет «стучать» на заведующую детским отделением? Тем более что ты никого не убиваешь, а, наоборот, спасаешь жизнь ребенку! — заметил он.
— Ой, ты же сам врач, так что перестань говорить красивые слова! — Цветочки на ее листке получались ровные, но как будто придавленные к земле. — Этому ребенку, если он, конечно, родится жизнеспособным, можно пожелать только одного: чтобы ему было комфортно и небольно. А комфортно и небольно ему будет, только если ему дадут умереть… Тем более мать решила, что девочке лучше не жить. Ребенок сильно недоношенный, и она имеет полное право распоряжаться его судьбой.
— Интересно получается! — Андрей резко выдернул у нее листок, и от очередного круглого лепестка к краю протянулась тонкая чернильная линия. — Значит, самоубийц мы спасаем, потому что они как бы не имеют права распоряжаться собственной жизнью, а вот мать может сказать: «Пусть мой ребенок умрет!»
Алла проводила взглядом листочек и снова отложила ручку.
— Но там же может быть какая угодно патология! — Она переплела пальцы и взмахнула ими, как бабочка крыльями. — Твоя Оксана формально не обязана всю жизнь воспитывать инвалида и своим решением, можно сказать, избавляет государство от забот.
— Хватит! — Он скомкал листочек и швырнул его в корзину для бумаг. — Хватит, Алка! Ты заведомо говоришь ерунду. Какое государство? Какое избавление от забот? Ты ведь с самого начала поняла, что ребенка хочу забрать я!
Она только вздохнула и подперла лоб ладонью, пропустив пальцы сквозь пряди волос.
Алка, добрая старая подружка Алка, сидела напротив за своим персональным полированным столом. Она избегала смотреть в ему в глаза, но Андрей упорно пытался поймать ее взгляд. Он пришел сюда, четко зная, чего хочет.
— Ты хоть понимаешь, что я могу вылететь с работы с волчьим билетом? — выдавила она с трудом. Он замер, боясь произнести хоть одно неосторожное слово и тем самым спугнуть почудившуюся удачу. — Потребуются липовые документы на отказного ребенка, на усыновление… Если бы ты был хотя бы фиктивно женат, теоретически это было бы возможно. Оформили бы как ребенка твоей жены, а так…
— Аллочка, я скоропостижно женюсь на какой-нибудь добропорядочной гражданке, — он неуверенно и в то же время ободряюще улыбнулся. — Все сделаю, как ты скажешь. Только помоги, а? Неужели тебе, как врачу, как женщине, не жаль этого младенца? Она ведь уже большая, уже все чувствует, на все реагирует…
— Ох, Андрюшка! — Она снова покачала головой, но уже как-то обреченно, совсем не так, как в начале разговора, — влипну я из-за тебя в историю!.. А ты уверен, что это тебе нужно? Пройдет время, Оксана забудется, а ребенок останется. И никуда ты его уже не денешь! А если появится другая женщина, которую ты полюбишь, что тогда?
Конечно, можно было сказать ей о том, что никакой другой женщины, которую он полюбит, не может быть даже теоретически, о том, что в этой девочке сосредоточился теперь весь смысл его жизни, но Андрей только вздохнул и произнес раздельно и четко:
— Алка, ты же знаешь меня много лет, ты уже должна была понять, что я не имею привычки менять решения, тем более, жалеть о чем-то, что сделал…
Это было запрещенным приемом. Она вскинула на него тревожные глаза, в которых отразились и острая память той давней ночи, и смущение, и даже удивление.
— Да, я не имею привычки жалеть о том, что сделал, — повторил он еще увереннее, — потому что я всегда принимаю решение, предварительно хорошенько подумав.
— Будь по-твоему, — отозвалась Алла. — Я попробую тебе помочь, но заранее ничего не обещаю. И ты должен будешь сделать все, как я скажу…
* * *
Оксане всегда казалось, что у людей с крупными чертами лица и кисти должны быть соответственные: широкие, массивные, с сильными набрякшими пальцами. А вот у медсестры Зои, которая ставила ей капельницу, ручки были маленькие, гладенькие, просто не ручки, а кошачьи лапки. Сначала она этими своими крошечными ручками долго массировала сгиб ее локтя, потом перетянула руку резиновым жгутом, и когда вена упруго вздулась, осторожно ввела в нее иглу. Оксана отвернулась к окну. Ей не хотелось видеть ни Зою, ни ее поднос с ватными тампонами и салфетками, ни Тома, тихо сидящего в углу на стуле. Прошло полчаса, как ей сказали, что у нее должны начаться роды.
Честно говоря, после вчерашнего визита Андрея она очень рассчитывала, что преждевременные роды начнутся сами собой, и делать ничего не придется. Как только дверь за ним захлопнулась, у нее началась истерика, да еще какая! Пришлось пригласить дежурного врача. После трех таблеток какого-то успокоительного все кончилось, и осталось только особое ощущение пустоты. Том ни о чем ее не спросил, деликатно завел разговор о их будущей жизни в Лондоне, вот только ушел скорее, чем обычно. Оксана снова осталась одна. На этот раз растревоженная и несчастная. Она ненавидела всех, включая собственную мать, два часа тому назад рыдавшую возле ее кровати, как перед гробом. Она ненавидела Тома за то, что он такой «положительный» и «добренький», ни к чему ее не принуждающий, но всем своим видом намекающий, что так будет лучше. Она ненавидела Андрея за то, что он вслух предложил ей тот выход, о котором она старалась не думать. Оксана предпочитала успокаивать себя тем, что для Потемкина это просто блажь, что, может быть, он, конечно, и заберет ребенка, но пожалеет об этом уже через месяц, и в результате девочка будет несчастной. Так не лучше ли этой девочке вообще не родиться? Она находила новые и новые слова, но все они были неубедительными по одной простой причине — внутренний голос, перебивающий их холодностью и монотонностью, как автоответчик, повторял: «Ты сделала свой выбор, значит, надо идти до конца. Надо рвать абсолютно все нити, связывающие тебя с Андреем. Надо сжигать за собой мосты, чтобы не было соблазна вернуться». И она соглашалась, потому что понимала, что пожертвовала уже слишком многим, и сейчас нельзя давать волю эмоциям. Один неверный шаг, одна минута слабости, и она повиснет в неизвестности и неопределенности. Ей хотелось верить, что боль пройдет и последующая счастливая жизнь позволит ей забыть эту палату с розовыми шторами и мягким ворсистым ковром. Но она все равно замирала, леденея от ужаса, когда ребенок начинал слепо и тяжело ворочаться у нее в животе.
А утром пришла врачиха, сказала, что результаты анализов готовы, и все можно закончить уже сегодня. Спешно вызвали Тома, так же спешно сменили постельное белье, постелили огромную клеенку и прикатили устройство с капельницей на колесиках. Гинеколог предупредила, что будет больно, но терпимо, что ей, по возможности, будут давать анестезию. Потом приехал Клертон и снова сел в углу, как провинившийся школьник, а минуты через три после него появилась Зоя…
Время шло, лекарство медленно капало в вену, голова слегка кружилась, но скорее от волнения. Боли не было — только ее ожидание и желание, чтобы все уже поскорее началось. Том скучно и раздражающе покашливал в своем углу, видимо, порываясь что-то сказать, но осекался в последний момент. А ребенок затаился, словно предчувствуя неладное.
— Ну что ты молчишь? — Оксана наконец повернула к нему голову. — Поговори со мной о чем-нибудь. Или, если тебе неуютно, просто уйди. Я сейчас могу накричать на тебя, обидеть, так что, наверное, в самом деле, будет лучше, если ты подождешь дома…
— Нет-нет, — он торопливо встал, чуть не опрокинув стул, — кричи, если тебе хочется, ругайся. Я же все понимаю, я люблю тебя… Бог мой, Оксана, если бы ты только знала, как мне тебя жалко!
В пояснице резко стрельнуло, как в простуженном ухе: она поморщилась. Наверное, Том принял это на свой счет, потому что тут же заговорил быстро и суетливо:
— Да, мне тебя жалко, но сейчас не нужно расстраиваться. Не в наших силах было что-то изменить. Все у нас с тобой будет хорошо, и дети обязательно будут. Тебе нужно только поправиться, окрепнуть и как следует полечиться в хорошей клинике. Но всем этим мы займемся уже в Англии… Господи, совсем скоро мы уедем, и ты забудешь все это, как ночной кошмар!
Она согласно прикрыла глаза и чуть-чуть подвинула к краю постели свободную руку, чтобы пришедшему мужу было удобнее ее гладить. Пальцы у него оказались неожиданно горячими. Оксана подняла глаза к пластиковой бутылке и увидела, что жидкости в ней осталось уже меньше половины. Значит, прошло так много времени? Значит, уже пора? И, словно отвечая на ее вопрос, где-то в глубине тела возникла боль, горячая и безжалостная, как раскаленные клещи. Оксана только сдавленно охнула, с удивлением и растерянностью прислушиваясь к собственным ощущениям. Ей почему-то казалось, что первые схватки должны быть слабенькими и редкими, как подергивание в нарывающем пальце… Новый приступ боли заставил ее судорожно втянуть в себя воздух и зажмуриться. «Что это? — испуганно подумала она. — Может быть, это от лекарства? Надо немедленно позвать врача! Вдруг что-нибудь пойдет неправильно, и я умру? Зачем тогда было огород городить? Зачем?»
— Том! — произнесла она со стоном при очередной схватке.
— Что такое? — встрепенулся он. — Тебе так плохо, что пора приглашать доктора?
Эта его, в общем, невинная медлительность (пора приглашать доктора или, может быть, не пора?) взбесила ее неизмеримо сильнее, чем потные ладони. «Пингвин» со свойственной пингвинам тупостью берется рассуждать: «достаточно плохо» или «недостаточно плохо»! Да просто плохо — и все!
— Началось! — Оксана выкрикнула это слово с озлоблением дикой кошки. — Ты, наверное, рассчитывал, что все будет цивилизованно и красиво, и мы с тобой вот так, рука об руку, просидим до вечера, приятно беседуя? Ну да, это было бы здорово! Вечером бы ты ушел, а назавтра узнал, что все кончено, ребенка нет, а жена поправляется!
— Господи, милая! Я люблю тебя. Только потерпи! — забормотал он, протягивая руку к кнопке в изголовье. — Потерпи, пожалуйста…
Потом добавил что-то еще, и она с мгновенным и вместе с тем вялым удивлением поняла, что не воспринимает смысла его слов. Думать теперь получалось только по-русски. Да и получалось ли вообще? Какие-то куцые обрывки английских и немецких школярских фраз всплывали вдруг сквозь паническое: «А вдруг я умру? Я ведь не знаю, как именно должно быть больно? Вдруг все идет неправильно?» Она почти задыхалась от ужаса и металась по кровати, рискуя выдернуть из вены иголку капельницы.
Врачиха прибежала через пару минут, осмотрела ее и сказала, что все хорошо, надо просто ждать. Теперь все пойдет быстро, правда, последний час будет очень тяжелым, но от этого никуда не денешься. Оксана слушала с закрытыми глазами и еле сдерживалась, чтобы не крикнуть ей: «Ага, конечно, никуда не денешься! Наверняка есть и специальное обезболивающее, и какая-нибудь электростимуляция. Просто мне их не хотят давать, потому что я «злая стерва», не пожелавшая из-за ребенка рисковать своей жизнью!». Сквозь мутную красноватую пелену боли чудовищная несправедливость происходящего представала перед ней во всей своей кошмарной полноте. Что она сделала не так? Кого обманула? Кого обидела? Она просто захотела жить нормально и достойно. Причем пошла не в какие-нибудь там любовницы, а совершенно законно вышла замуж. Она захотела быть честной перед собственным мужем? Почему же тогда все так?..
Том по-прежнему сидел рядом, гладил ее по руке. Стоило ей застонать, и пальцы его на долю секунды отдергивались, словно ужаленные электрическим током. «Жалеет меня? — подумала Оксана с каким-то уже болезненным равнодушием. — Нет, не меня! Себя жалеет. Жалко ему себя, несчастного, вынужденного все это слушать, на все это смотреть и еще изображать из себя сильного, спокойного мужчину!» Очень скоро схватки участились, и она перестала замечать его присутствие. Ей уже было все равно, кто держит ее запястье, кто слышит крики, кто видит судорожно и некрасиво выгибающееся тело: Том ли, Андрей? Андрей?.. Почему Андрей?.. Где Андрей?
А потом был родильный зал, кресло, затянутое оранжевой клеенкой и показавшееся ей куда более удобным, чем кровать в палате, какие-то металлические скобы для рук и сосредоточенные лица акушерок. Она тужилась, плакала и снова тужилась. И снова плакала, теперь уже от обиды. Никто не называл ее по имени, и никто не произносил ободряющих слов. А она ведь слышала, когда подходила к стеклянной перегородке, отделяющей родовой блок, как врачи кричат роженицам, ну, совсем как болельщики на стадионе: «Давай, давай, давай!» Никто не кричал ей: «Давай, Оксана!» Ей говорили: «Постарайтесь, женщина! Дышите, женщина! Тужьтесь, женщина!» И она дышала, старалась и тужилась, пока на самом пике боли, надрыва, напряжения из нее вдруг не выплеснулось что-то скользкое и теплое. Она приподняла голову, превозмогая внезапно накатившую смертельную слабость, и увидела красное скрюченное тельце, похожее на освежеванного кролика. Этот мокрый комок, напоминающий только что вырезанную опухоль, никак не мог быть плодом любви ее и Андрея. Он мог быть только сгустком боли, который только что рвал ее изнутри. Оксана, чувствуя, как по телу растекается невыразимое облегчение, равнодушно подставила руку для укола. Ребенок не закричал! Значит, родился мертвым. Значит, она тем более ни в чем не виновата. Значит, теперь можно уснуть. Ей хотелось спать, спать и только спать… Там, возле ее обессилевших, раздвинутых специальными подставками ног, еще орудовали какими-то инструментами, а она уже погружалась в глухую, вязкую дрему…
Оксана не могла видеть, как в соседнем зале от закрывшейся барокамеры отошла светловолосая женщина с глазами цвета засахарившегося меда, как она тяжело опустилась на стул, как прикрыла глаза ладонью. Она не могла слышать, как молодая медсестра спросила: «Ну, что, Алла Викторовна?» И, уж конечно, не могла видеть, как та в ответ пожала плечами и вздохнула странно и неопределенно…
* * *
Девочка была похожа на маленькую сморщенную обезьянку со светлым пушком на красных щеках. Она жила на этом свете уже больше недели и за это время значительно похорошела. Алла находила ее привлекательной. Впрочем, она просто привыкла к тому, что недоношенные дети должны выглядеть именно так. Андрей, по идее, тоже должен был воспринять это нормально. За время учебы в мединституте ему, как и всем студентам, приходилось видеть кое-что и похуже. Правда, сейчас под стеклянным колпаком, в паутине проводков лежала его собственная дочь, и это совершенно меняло дело. К девочке Алла уже привыкла. Сейчас ей было гораздо интереснее наблюдать за Андреем, за его удивленной, полурастерянной улыбкой, за уголками его рта, характерно опустившимися книзу, за его слегка подрагивающими ресницами. Если бы она умела рисовать что-нибудь, кроме солнышка с перекошенным ртом и кривыми лучиками, глазок и цветочков, то обязательно нарисовала бы его профиль с горбинкой на носу, с полуоткрытыми губами. Кстати, она и попробовала сделать нечто подобное еще на первом курсе. Тогда, перед лекцией по философии, к ней подошла однокурсница Петряева и с невинным видом положила на стол обрывок тетрадного листочка. На листочке простым карандашом был нарисован мужчина, очень напоминающий Андрея. У него была другая прическа, немного другой подбородок и уши, растущие из самой шеи, но в целом просматривалось сходство.
— Подари мне, пожалуйста, — попросила Алла, обалдев от желания иметь этот маленький портрет и совершенно забыв об осторожности.
— Что, нравится? — коварно усмехнулась Петряева. — Правда, на Потемкина похож?
Она опомнилась, но было уже поздно. С соседней парты ехидно улыбалась Соня Бергман, видимо, решившая вычислить конкурентку и весьма в этом преуспевшая. По Андрею, вообще, сохли многие девушки их курса, но признаваться кому-нибудь в любви к нему считалось постыдным. Наверное, потому, что выглядело это так же глупо и бесперспективно, как увлечение каким-нибудь киноактером. Алла тогда подумала и решила, что минутный позор — не слишком большая цена заветного портрета. А Петряева с Бергман, видимо, посчитали, что вполне достаточная. Картинку ей оставили. И она на следующей же лекции принялась исправлять на «портрете» прическу и выравнивать подбородок. Вроде бы в деталях все становилось точнее, но общее сходство пропадало. К концу занятий на затертом-перетертом тетрадном листочке осталось нечто, равно напоминающее и Андрея Потемкина, и Льва Лещенко, и даже Квазимодо…
Алла стояла рядом, легонько касаясь своим плечом его руки, смотрела на его высокие, восточного типа скулы и думала, что он не очень изменился за эти годы. Разве что тоненькая сеточка морщинок у глаз? Так это только придает ему шарм зрелой мужественности. Да еще появился серый налет скорби во взгляде и даже в улыбке? Но это можно будет исправить, разгладить ладонями, исцеловать. Он же сказал, что никогда не делал ничего такого, о чем бы потом пожалел. Значит, он, на самом деле, хотел ее тогда, значит, вспоминал об этом потом! А она-то, дура, все время тряслась, заглядывая ему в глаза: помнит — не помнит? Господи, какое же это счастье, что им выпал еще один шанс! А ведь не случись Оксане лечь именно в эту клинику, она бы никогда не решилась набрать его номер. Она бы просто изначально знала, что это бессмысленно. И был бы у нее Толик Шанторский с его растраченным бензином и ангельскими кудряшками на старой мудрой голове, было бы скучное вечернее сидение перед телевизором, но не было бы ничего, ради чего стоит жить…
— Слушай, до чего все-таки она крошечная, — произнес наконец Андрей, не оборачиваясь и продолжая почти испуганно разглядывать тельце под стеклянным колпаком. — На нее даже смотреть страшно, не то что в руки брать.
— А брать ее тебе пока никто и не предлагает, — тихонько улыбнулась Алла. — Пусть подрастет, вес наберет. Ты не забывай, что она родилась пятисотграммовая. Это же всего две пачки сливочного масла! А ты хочешь, чтобы у нее сразу и мордашка хорошенькая была, и щечки пухленькие, да?
— Ну, нет, почему? — Он немного смутился. — Но все-таки…
— Все-таки! Ты молиться должен, что у нее вроде бы нервная система сохранная, да и вообще нет явных патологий. Если все пойдет нормально, через годик будет чудесная девчушка, похожая на папу…
Последнюю фразу она сказала намеренно, чтобы проверить его реакцию. И реакция не замедлила последовать. Брови его, резко вздрогнув, сошлись к переносице, на лбу залегли морщинки, а уголки губ опустились еще ниже, исчезла и без того слабая тень улыбки. «Он все еще любит эту свою стерву. Все еще хочет, чтобы девочка стала ее точной копией», — мысленно констатировала Алла, незаметно отстранившись и перестав ощущать плечом тепло его руки. Она не чувствовала себя ни обиженной, ни разочарованной. Это был только диагноз болезни, которую предстояло лечить. И теперь она знала, что сможет ее вылечить. Главное, не бояться сейчас говорить об Оксане! Главное, не пытаться его заставить забыть ее слишком быстро!
— А у нее ты был? — спросила она с довольно-таки правдоподобным спокойствием.
— Нет, — Андрей решительно, словно стряхивая сонную одурь, покачал головой. — Не был и не пойду. Ни мне, ни ей это не нужно. Прошло уже все, Алка. На самом деле прошло… Кстати, ее скоро выпишут?
— Не знаю, но скорее всего дня через два-три. Она уже вовсю ходит, и вообще…
— И вообще не будем больше говорить о ней, ладно? — поспешно перебил он Аллу, видимо, решив, что задал неуместный вопрос. — Вон какая красавица лежит. Только она и заслуживает, чтобы о ней говорили, восхищения, преклонения, чего угодно… Когда большая вырастет, я куплю охотничье ружье, заряжу его крупной солью и буду с балкона женихов отстреливать.
Алла вдруг подумала о том, что девочка в самом деле может вырасти точной копией матери. Пока у нее нет имени и она похожа на красного лягушонка. А потом ее будут звать Оксана, наверняка Оксана. У нее отрастут длинные светлые волосы, глаза из младенчески-голубых станут ярко-синими. Место той, другой, в его сердце она, конечно, никогда не займет, но станет календарем на стене, фотографией в рамке, вечно напоминающей о прошедших днях и не дающей нормально и полноценно жить днем сегодняшним. И ей вдруг страстно захотелось, чтобы девочка стала брюнеткой, чтобы она не взяла от матери ничего: ни родинки, ни формы ногтей, ни этой ужасной манеры смотреть с легким, едва заметным прищуром. Пусть бы даже она выросла дурнушкой, так ведь бывает даже при очень красивых родителях.
— Кстати, ты уже нашел кандидатуру для фиктивного брака? — спросила она, чувствуя, как замирает сердце. — С этим делом тянуть нельзя. Я иду из-за тебя на подлог документов, так что уж создай, пожалуйста, мне идеальные условия для должностного преступления.
Андрей улыбнулся и по-дружески потрепал ее по плечу. Впрочем, тут же его взгляд вернулся к существу под прозрачным колпаком. Алла ощутила что-то вроде легкой ревности. Андрей разговаривает с ней, с женщиной, которая ему когда-то нравилась, с которой он был близок и которой теперь должен быть благодарен по гроб жизни, а думает только о ребенке, который не только понимать, воспринимать еще толком ничего не может. Мешочек рефлексов, и то слабо выраженных! И надо же, стопроцентный мужик со всеми нормальными мужскими качествами, а любуется малышкой, точно как счастливая мать!
— У меня есть парочка вариантов, — Андрей усмехнулся, — но они, конечно, не стопроцентные. Но ты можешь не беспокоиться. К моменту, когда девочку нужно будет забирать, все будет готово.
— Эх, Потемкин, самой, что ли, за тебя замуж выйти! — Алла потянулась и вдруг с ужасом поняла, что лицо у нее сейчас заледеневшее, напряженное и неестественное. Но все же продолжила, стараясь удержать на губах развязную улыбку. — А что, я женщина незамужняя, для фиктивного брака самая подходящая!
Он хмыкнул и покачал головой:
— Нет, Алка, такой жертвы я от тебя не приму. Можно подумать, ты столько лет не выходила официально замуж для того, чтобы испортить паспорт фиктивным штампом?.. Нет, на таких женщинах, как ты, женятся только всерьез, навсегда и по большой любви.
— Я пошутила, — судорожно зевнула она, спрятав руки обратно в карманы.
— Я так и понял, — в тон ей отозвался Андрей. И, немного помедлив, добавил: — Со мной в последнее время вообще часто так шутят…
Она вдруг почувствовала такую пронзительную, такую острую жалость, перемешанную со стыдом, что захотелось заплакать. Потемкин стоял рядом с ней, красивый, высокий, желанный до одури. Она хотела его, как не хотела никогда ни одного мужика в мире. И это как раз было нормально. А ненормально то, что он, прежде такой живой и какой-то солнечный, за те два месяца, что они не виделись, превратился во что-то бесплотное и неживое.
А она просто хотела получить его для себя. Прежде всего! Прежде чем помочь ему, вылечить эту серую тоску. Сначала получить, а потом уже помочь. Потому что у счастливой и любящей жены должен быть счастливый и любящий муж… Наверное, все ее переживания снова отразились на лице. Алка знала за собой эту особенность: когда она начинала волноваться по любому, даже самому пустяковому поводу, щеки ее, и без того худые, западали, глаза делались печальными, как у спаниеля, а брови приподнимались тоскливым домиком. Скорее всего и сейчас на ее лице отпечаталось переживание, потому что Андрей заговорил успокаивающе и торопливо, будто оправдываясь:
— Так вот, по поводу шуток… Я подумал, может быть, тебе это будет забавно услышать? Недавно одна медсестричка из моего отделения делала мне предложение. Я сначала даже поверил и, что самое смешное, всерьез начал ее убеждать в том, что у нее впереди прекрасная, счастливая любовь, что она встретит достойного человека. Не усомнился в том, что она говорит правду, ни на секунду! В общем, повел себя как полный самовлюбленный идиот. А потом выяснилось, что это у них приколы такие, проверяют у мужиков моральную устойчивость…
Алла улыбнулась вежливо, но прохладно. Вначале ее занимал только тот факт, что Андрей так трогательно помогает ей не чувствовать себя виноватой, заботится о том, чтобы она не мучилась угрызениями совести из-за того, что невольно подвела разговор к опасной черте. Но она не верила в подобные, мягко говоря, странные «приколы», чувствовала: что-то здесь не чисто. Не хотела, чтобы он даже вскользь вспоминал о каких-то там вешающихся на шею медсестричках. Пусть лучше думает только о ребенке, по крайней мере, так будет безопаснее.
— Кстати, все собираюсь тебе сказать: когда заберешь ее из больницы, — Алла кивнула на девочку, — держи ее дома в памперсах, никого не слушай. Для нее сейчас очень важен правильный температурный режим, и чтобы ножки были широко. Это нормальных, четырехкилограммовых можно перепеленывать хоть по сто раз на день, а такую малышку лучше не простужать.
— Хорошо, — кивнул он с улыбкой. — Слушаюсь, доктор Денисова!
Ей нравилось, когда он разговаривает с ней вот так, в духе их старой дружбы и студенческого братства, потому что именно за этим стилем общения легче всего было скрыть что-то серьезное и значительное. Ей хотелось верить, что Андрею есть что прятать, хотя, возможно, он сам об этом не знает. Ей нравилось, когда он такой — живой, прежний, настоящий. Как чудесно было бы просто взять сейчас в свои ладони его лицо, провести пальцами по тонкой и красивой линии скул, спуститься к губам, погладить их осторожно и нежно, а потом поцеловать. И, уткнувшись носом в ямочку между его ключицами, слушать его тихий, счастливый смех. А потом отстраниться, упершись обеими руками в его грудь и, преодолевая его шутливое сопротивление, скомандовать: «Выполняйте, доктор Потемкин!»… Хорошо бы, конечно! Но сейчас нельзя пускать события на самотек, сейчас надо быть хитрой и умной, как старая лиса, а уж потом будет все — и эти твердые губы, и непринужденные поцелуи, и его теплое дыхание, шевелящее и ласкающее волосы.
— Слушай, — Алла прикусила ноготь на большом пальце и довольно удачно изобразила внезапное озарение, — почему бы тебе не жениться полуфиктивно?
— В каком смысле? — он взглянул на нее с искренним недоумением.
— Ну в том смысле, что не просто ради штампа в паспорте, а ради того, чтобы женщина жила в твоем доме в качестве няньки. Такой малышке нужна мать, а не просто приходящая тетка. Мать, которая умела бы обращаться с детьми, которая вставала бы к ней ночами… Только не перебивай меня, пожалуйста. Я знаю все, что ты хочешь мне сказать: мол, никто вам не нужен, вы сами справитесь, а днем патронажная няня поможет… Но ты послушай! Девочка сильно недоношенная, за ней нужен глаз да глаз, причем не тот, который за деньги, а тот, который за любовь… Да, в конце концов, женись на какой-нибудь нормальной, хорошо относящейся к тебе женщине, которой нужна жилплощадь!
Андрей покачал было головой, как ученик, отказывающийся отвечать на уроке, но она остановила его жестом и продолжила:
— Ты — красивый, умный мужик, и мне почему-то кажется, что просто не может не быть женщины, которая бы тебя любила и была бы готова для тебя на все. Тебя ведь никто не обязывает пылать к ней страстью. Объясни все честно, а уж потом — как жизнь сложится… Развестись ведь совсем не трудно!
Во время всей этой тщательно подготовленной и даже отрепетированной дома речи она чувствовала себя канатоходцем, выполняющим головокружительный трюк. Трюк, от которого замирает сердце и сладкий хмель опасности ударяет в голову. Но скоро она поняла, что канат провис, и сорваться с него теперь гораздо легче, чем минуту назад. Маленькая девочка, которую она, сделав решающий ход, «передвинула» с клетки Е2 на Е4, лежала в своей колыбели беззащитная и одинокая, как скворчонок без перьев. Алле хотелось убежать, закрыв лицо руками, чтобы только не внимать этому ужасному молчанию Андрея. Ей хотелось вцепиться в его плечи так, чтобы он почувствовал боль, встряхнуть его как следует и завопить, закричать, завизжать: «Скажи хоть что-нибудь, но только не молчи!»
И он действительно поднял на нее глаза, едва заметно повел бровью и произнес, обхватив рукою подбородок:
— А знаешь, может быть, ты и права, Алла…
И важными остались только две вещи в мире: его взгляд, пронзительный, долгий и какой-то ищущий, и ее собственное имя «Алла», которым он закончил фразу. Именно «Алла», а не «Алка»! Не «подружка моя» и не «доктор Денисова»! Алла! Алла! Алла… Это значило, что он почти принял единственно верное решение, к которому она его нахально подвела, как ослика на веревочке. Это значило, что он не против того, что она так бесцеремонно предложила себя в жены. Это могло значить только то, что он думает о том же и, может быть, даже хочет того же. Хотя и боится пока себе в этом признаться… Он сказал: «Может быть, ты и права, Алла», а она явственно услышала: «Я буду с тобой, Алла. Мне просто нужно время»…
* * *
Наташа Солодкина сидела на общаговской кровати, поджав под себя ноги и выгнув спину, как гимнастка. Спина уже устала, да и шея затекла, но Любка, при малейшей ее попытке пошевелиться, командовала: «Замри!», и продолжала заплетать ее косу, начинающуюся от самой макушки и постепенно вбирающую в себя мелкие пряди от висков и ушей. На робкое предположение Наташи, что получится обычный «колосок», Любка в самом начале «процесса» гневно ответила: «Ни фига себе, «колосок»! За такой «колосок» с тебя бы в велловском салоне долларов сто содрали!» С того момента покорная Солодкина перестала сопротивляться и задавать вопросы. И отвечать на заданные ей тоже. Вообще-то это были не вопросы, а так, фразы, брошенные якобы в пустоту, но непременно требующие ответа или какой-нибудь, желательно негативной, реакции. Ольга, вторая соседка по комнате, бросала их с периодичностью раз в пять минут, они немного различались формулировкой, но общий их смысл сводился к следующему: «Какое-то странное у тебя замужество!» Наташка демонстративно пропускала эти «фразочки» мимо ушей, с легким злорадством замечая, как постепенно начинает злиться и раздражаться сама Ольга. Та, возможно, оттого, что у нее что-то там не складывалось в личной жизни. Зато все остальные девчонки в общаге восприняли известие о ее предстоящей свадьбе с огромным энтузиазмом. Кирикова из пятнадцатой комнаты дала в безвозмездное пользование свое шикарное платье, почти не ношенное. Шелковое, нежно-кремовое, с ажурными кружевами, открывающими колени и, наоборот, прикрывающими кисти, словно манжеты испанской инфанты, оно висело сейчас на спинке стула и дожидалось своего часа. Рядом на полу стояли туфельки из мягкой кожи с маленькими дырочками на носках, сквозь которые, как сказала Любка, пальчики в колготках должны были выглядывать очень сексуально. Впрочем, Наташа плохо представляла себе, как достанет из пакета эти «сексуальные» туфли, как начнет переобуваться… Очень может быть, что придется заходить в зал регистрации и в ботиночках. А все-таки непонятно, зачем это платье, зачем косичка «за сто долларов»? Вполне можно было пойти в обычной юбке и джемпере.
— Так ты что, даже три цветочка в косу не вплетешь? — спросила Ольга.
— Я вообще пойду в трусах и лифчике траурного черного цвета. Довольна? — огрызнулась Наташка и закрыла глаза. Она была почти уверена, что сейчас в который раз услышит: «Странное у тебя замужество, странное»…
В тот день она сидела на посту и откровенно клевала носом. Особо тяжелых больных не было, а спать хотелось ужасно. Наташка уже подумывала о том, чтобы перебраться на кушетку в сестринскую и оставить на всякий случай открытой дверь, когда за спиной раздались чьи-то мягкие неторопливые шаги. Она сразу поняла, что это кто-то из персонала. Пациенты, даже уже выздоравливающие, ходили совсем по-другому, тяжело и медленно. Что интересно: стоило человеку переодеться из больничной пижамы в домашнюю одежду, как и двигаться он тут же начинал по-человечески, будто это и не он вовсе пять минут назад еле волочил ноги, шаркая по полу кожаными тапочками. В общем, сейчас по коридору шел явно не пациент. Наташка сильно опасалась, что это Олег, санитар из токсикологии, опять пришел вести с ней длинные, интересные исключительно с его точки зрения разговоры. Олег был юный, худой и глупый. Отпугивать и обижать по-хамски было жалко, а общаться — не хватало уже никаких сил. Она развернулась с откровенно скучным выражением лица, решив сегодня конкретно намекнуть, что перспектива продолжить этот дурацкий флирт ее совершенно не прельщает. Развернулась и замерла. Это был Андрей, Андрей Станиславович. И он, совершенно определенно, направлялся к ней, смущенно улыбаясь.
После того позорного объяснения под больничными окнами они почти не общались. Наташка, завидев его в другом конце коридора, предпочитала нырнуть в первую попавшуюся палату, пережидая, пока он пройдет мимо. Больше всего она боялась, что Андрей кинется в одну из двух крайностей: будет теперь разговаривать с ней либо подчеркнуто холодно и вежливо, либо нарочито дружески. Но, к счастью, в редкие минуты их вынужденного общения он продолжал вести себя по-прежнему, сдержано, без особых эмоций, так, будто ничего между ними не произошло. А потом что-то в нем сломалось. Наташка поняла это еще задолго до того, как по отделению пополз слух, что свадьбы не будет и Потемкин со своей красавицей разбежались.
Однажды во время обхода он осматривал мальчика Алешу, напоровшегося на прут и теперь уже выздоравливающего. В какой-то момент Андрей тогда вздрогнул, будто ему за шиворот неожиданно стекла струйка холодной воды, и посмотрел на мальчишку так, словно увидел его в первый раз. Потом быстро вышел в коридор. Наташа слышала, как он говорил Вадиму:
— Не могу. Просто не могу его лечить. Пусть возьмет кто-нибудь другой… Да, я понимаю, что это был только повод, пацан тут ни при чем. Но не могу — и все…
Голос Андрея, обычно ясный и чистый, сейчас звучал приглушенно, словно сквозь стелющийся у земли туман.
В свете последних событий собственное дурацкое поведение казалось ей еще более постыдным. Наташка подумывала о том, что, когда пройдет какое-то время и Андрею станет немного полегче, нужно будет обязательно подойти к нему и извиниться. Просто извиниться, не вдаваясь в подробности, не разводя снова весь этот сыр-бор…
А теперь он сам шел к ней и улыбался! Сердце ее забилось часто-часто. Мама в таких случаях говорила: «Колотится, как у зайца хвост». И Наташка с испугом и отчаянием подумала, что, наверное, похожа сейчас на зайца со своими прилизанными, забранными в нелепый хвост волосами, с вытаращенными глазами и нелепыми «мультяшными» ресничками, с широкими, прямо-таки заячьими передними зубами.
— Привет, — сказал Андрей и опустился на соседний стул.
— Здравствуйте, — произнесла она заледеневшими губами. Перед ней на столе лежала открытая на пятнадцатой странице книжка с детективами Сименона. Наташка машинально захлопнула ее и отодвинула на край стола, продолжая неотрывно смотреть в его глаза.
— Чем занимаешься? — спросил он, видимо, сам смущаясь бессмысленности своего вопроса. Что тут можно было ответить? «Сижу, читаю книжку, хочется спать, поэтому дальше первой главы не продвинулась. А теперь пришли вы, и я с вами разговариваю»? Примерно в таком духе проходили обычно ее беседы с юным санитаром Олегом. Но Андрей, по всей вероятности, хотел поговорить о чем-то очень важном. Наташка была в этом уверена и даже, наверное, могла бы поклясться. И не мог начать, не чувствуя ее поддержки.
— Андрей Станиславович! — Наташка судорожно сглотнула и зачем-то перевела взгляд на его пальцы, неритмично постукивающие по краю стола. — Я давно уже хотела вам сказать… В общем, извините меня за тот разговор! Это было ужасно глупо…
Его пальцы замерли и сложились так, словно он хотел показать ей, как выглядит крошечный, вставший на задние лапы динозаврик. Она вдруг с пронзительной ясностью поняла, что ей нужно остановиться, что договаривать ни в коем случае нельзя. Потому что тогда стена между ними, почему-то вдруг ставшая страшно тонкой, снова мгновенно обрастет слоем кирпичей и цемента.
— Да, я в общем-то тоже об этом… Хотя и не совсем. — Андрей волновался, нервно покусывая губы. От его прежней смущенной улыбки не осталось и тени. — Я вот что хотел спросить у тебя, Наташа… Тебе по-прежнему негде жить?
— Почему негде? У меня место в общежитии. — Она вдруг почувствовала, что дышать становится трудно. Ничего особенного еще не произошло. Он справлялся о ее проблемах, принимал участие в ее судьбе, но, Господи, как это было много! Да если бы даже он сейчас нашел для нее комнату за сто долларов в месяц у какой-нибудь старушки, что было бы слишком серьезным ударом по скромному бюджету медсестры, она бы переехала туда, крича от счастья! Пусть бы даже пришлось работать в два раза больше и спать по три часа в сутки. Ведь это был бы его вклад в ее судьбу, желание ей помочь!
— Ну да, конечно… — Андрей снова забарабанил пальцами по столу, «сломав» «динозаврика». И Наташка почувствовала, что он уйдет, так и не решившись сказать что-то важное. Она испугалась, что сейчас просто заплачет от досады и разочарования, когда он продолжил:
— Просто я хотел предложить тебе нормальные условия, ну, и прописку московскую, естественно… В общем, глупо все это выглядит, но… Наташа, выходи за меня замуж!
На этот раз мир, устоявший во время их разговора под окнами больницы, все-таки рухнул. Она почувствовала, как к щекам горячо прилила кровь, кожа мгновенно покрылась мурашками, а в ушах тоненько-тоненько зазвенело.
— За-амуж? — переспросила ошарашенная Наташа с выговором купеческой дочки, лузгающей на крыльце семечки, растянув звук «а».
— Да, замуж, — повторил Андрей и неровно, пятнами, покраснел. Наверное, следовало переспросить, не издевается ли он, не шутит ли? Но она почему-то мгновенно и безоговорочно поверила, что это правда. Наташа не могла бы объяснить ни себе, ни кому-либо другому, почему так происходит, но то, что это происходит в действительности, она не сомневалась. Да и, в конце концов, разве могло быть по-другому? Разве любил его кто-то еще так как она? Разве могли там, на небе, допустить, чтобы эта ее любовь осталась нерастраченной? Она уже чувствовала, как сквозь судорогу, сковавшую ее лицо, проступает неуверенная, счастливая улыбка, когда Андрей снова заговорил:
— Только это не совсем то, о чем ты думаешь… Это я, болван, виноват, не так выразился… В общем, речь идет о том, что ты официально становишься моей женой, переезжаешь ко мне, получаешь прописку, мы с тобой начинаем жить, как нормальная семья, но это не значит… Короче, это не потому, что я тебя люблю или что-то к тебе испытываю.
Он продолжал говорить, наворачивая одну на другую казавшиеся ей бессмысленными фразы. Потом Андрей заговорил о ребенке, которому нужна мать. Как она поняла, Оксанином ребенке. О том, что если ей что-то не понравится, она в любой момент может подать на развод. О том, что они, в самом деле, могут жить как нормальная семья. О том, что женитьба необходима ему для оформления каких-то документов…
— Ты прекрасный человек, — говорил Андрей. — Мне почему-то показалось, что я могу попросить тебя об этом. Тем более что и квартирный вопрос тебя волнует. Понимаешь, этому ребенку вообще-то не суждено было жить… Если ты согласишься, я расскажу тебе подробнее…
Ей хотелось плакать, а слез не было. Наверное, он понял, в каком состоянии она находится.
— Наташа, — Андрей осторожно и неуверенно, совсем как тогда, осенью, взял ее за руку, — я тебя, наверное, обидел? Прости меня, ради Бога, и считай, что мы ни о чем не говорили. Конечно, с моей стороны было большим свинством это тебе предлагать…
— Нет, почему же? — Она подняла на него вот-вот грозящие налиться слезами глаза. — Меня очень заинтересовало ваше предложение. С детьми я обращаться умею, у меня два младших брата и сестра, а прописка мне действительно не помешает. Так что, если не найдете лучшей кандидатуры, можете на меня рассчитывать.
Наташа договорила и торопливо потянулась к книге, давая понять, что разговор окончен. Еще не хватало разреветься при нем! Не хватало, чтобы он подумал, будто она поверила, вообразила невесть что и теперь обиделась! Да, может быть, она с самого начала рассчитывала именно на деловое предложение и ни на что больше! Строчки перед глазами прыгали, и она пыталась сфокусировать взгляд хотя бы на начальной букве фамилии Мегрэ, напоминающей о том, что скоро откроется метро и, сдав дежурство, можно будет уехать домой и там нареветься вволю. Андрей никак не уходил. Она подняла взгляд от страницы, пытаясь изобразить на лице светское удивление по этому поводу и понимая, что получается это у нее чрезвычайно плохо. И тут он снова взял ее за руку, легонько сжав пальцы, и произнес то, чего она меньше всего ожидала услышать. Всего одно слово: «Спасибо!».
Когда он ушел, оставив ее наедине с комиссаром Мегрэ, до Наташи дошел весь смысл случившегося. Пусть на каких-то там условиях, пусть без любви, но она будет женой Андрея! Ему нужна женщина, которая по документам станет матерью его ребенка и которая будет этого ребенка воспитывать. По сути дела, нянька со штампом в паспорте. Но тем не менее из множества девушек, которые охотно согласились бы на это, он выбрал ее! Именно ее! Это не могло ничего не значить.
Заявление в загс они подали через неделю, и в тот же день она уволилась с работы. Как Жанка и Олеся восприняли это сногсшибательное известие, Наташа уже не узнала. С Андреем она общалась исключительно по телефону, обговаривая деловые подробности. В день так называемой свадьбы они договорились встретиться лишь за полчаса до регистрации. В общем, все это было странно. Очень странно…
— Ну, вот и все! — Любка взбила ее волосы у висков и, скрестив руки на груди, отошла в сторону. Ольга, решившая посвятить время до Наташкиного ухода изучению фармакологии, а может быть, просто уставшая на нее нападать, тоже подняла глаза от конспекта. Взгляд ее не выразил ровным счетом ничего. Наташа сползла с кровати и в одних трусах и лифчике, правда, беленьких, а не траурно-черных, подошла к зеркалу. «Стодолларовая» косичка, на плетение которой Любка потратила больше получаса, особого восторга в ней не вызвала. Косичка как косичка. Волосы сильно и как-то чересчур аккуратно забраны назад, лицо от этого делается узким и беззащитным. Ужасная, похожая на мышиный хвост, прядь болтается возле уха. Да еще и челка, искромсанная филировочными ножницами, свисает над правой бровью… А в общем, не все ли равно? Разве можно спрятать под пышными локонами острые ключицы, худые, как у узника Освенцима, плечи?
Наташа стремительно отвернулась от зеркала и, схватив со стула платье, натянула его через голову.
— Осторожнее! — сдавлено крикнула Любка. — Всю прическу поломаешь!
— Ничего, — она высунула тщательно подкрашенное лицо из ворота. — Мой жених как-нибудь переживет…
Когда они с Любкой подошли к зданию загса, на часах было уже без двадцати одиннадцать. Андрей вместе с каким-то незнакомым и невзрачным парнем прохаживался возле автостоянки. Он был без шапки, в расстегнутой куртке, под которой виднелся серый костюм, и казался таким свободным, таким красивым и таким чужим, что у Наташки даже защемило сердце.
— Который твой? — шепотом поинтересовалась Любка, взяв ее под локоть.
— Тот, который с цветами, — отозвалась она не без сарказма. — Могла бы сама догадаться…
— Да? — Любка удивленно приподняла брови.
Розы в руках у Андрея болтались бутонами вниз, как ненужный веник. Наташке вдруг стало обидно за цветы, вовсе не виноватые в том, что бракосочетание такое дурацкое. И еще она подумала, что точно так же, как эти розы, выглядела бы сейчас ее мама, решительно отказывающаяся понимать, почему ей нельзя приехать в загс. Мама бы, наверное, явилась в своем любимом бордовом платье с люрексом, прическа ее густо пахла бы лаком, она улыбалась бы и призывала к всеобщему веселью, точно не зная, но чувствуя: что-то здесь не так.
— Здравствуй, Андрей, — она решительно прошла к нему прямо через заснеженный газон и тронула за локоть. «Здравствуй» далось с трудом. Наташа в последнее время называла его по имени, но все еще на «вы»: «понимаете, Андрей», «повторите, пожалуйста, Андрей», «скажите, Андрей». Теперь при посторонних это выглядело бы неестественно и глупо. — Здравствуй, Андрей, — повторила она, прокашлявшись.
Он обернулся в тот самый момент, когда почувствовал прикосновение ее пальцев, и теперь смотрел на нее так, будто видел в первый раз. Андрей вглядывался в лицо женщины, которая, поставив свою подпись в загсовском журнале, окончательно вырвет его из того счастливого времени, в котором он любил Оксану, надеялся жениться на ней и был полон надежд. Может быть, в последний раз он смотрел на безобидную и в общем-то милую девушку Наташу Солодкину, которой через пятнадцать минут предстояло стать Натальей Потемкиной, стать его нелюбимой женой? Скорее всего да. Ничего другого не мог передать его странный взгляд.
— Здравствуй, Наташенька, — сказал Андрей и холодными, безучастными губами поцеловал кончики ее пальцев.
Потом они вчетвером, с Любкой и свидетелем, назвавшимся Валерой, вошли в загс. Кроме них и уборщицы с ведром и шваброй, в холле никого не было. Женщина, вышедшая из-за дубовых дверей, сообщила, что нужно немного подождать, регистрируется внеплановая пара, и их время поэтому передвинули на десять минут. Наташа уже вся издергалась и даже шнурки на ботинках не смогла развязать с первого раза. Когда ей наконец удалось вылезти из ботинок и переобуться в туфли, Потемкин уже отошел к окну. Теперь он, избавленный от цветов, стоял, заложив руки за спину, и покачивался с носков на пятки и обратно. Она вдруг с внезапной обидой и злостью подумала, что выходит за него замуж прежде всего потому, что это надо ему! Что она получает от этого брака гораздо меньше. И он это прекрасно понимает, не может не понимать! Так неужели трудно было опуститься перед ней на корточки и помочь развязать эти несчастные шнурки? Сделать это если не для нее, то хотя бы для Валеры, для Любки, да, в конце концов, для уборщицы с пластмассовым ведром! Почему она в день собственной свадьбы должна чувствовать себя несчастной и нелюбимой, даже если это на самом деле так?
Наташа опустила ботинки в пакет и расправила кружева на подоле платья. Теперь, похожая на кремовую бабочку с маленькой черной головкой, она выглядела еще более жалко и нелепо. Валера с Любкой, видимо, уже успевшие найти общие интересы, оживленно болтали у зеркала и не обращали на нее ни малейшего внимания. Потемкин продолжал что-то сосредоточенно рассматривать за окном. Чтобы хоть чем-нибудь заняться и перестать нервничать, Наташа принялась изучать фотографии на стенде. И первая же поразила ее какой-то необычайной романтичностью и загадочностью. Невеста в белом воздушном платье смотрелась в зеркало, а на фотографии было только ее отражение, ограниченное массивной позолоченной рамой зеркала. Тонкая рука в длинной, до локтя, перчатке, поправляющая светлый локон, сверкающее ожерелье, полуоткрытые губы… Где-то за ее спиной маячили жених и родственники, а она глядела сама на себя из Зазеркалья, словно ждала чего-то, немного печально. «Вот тебе и фотограф в каком-то затрапезном загсе! — удивленно подумала Наташа. — Никаких тебе стандартных положений. Это же надо так увидеть, так почувствовать! Просто произведение искусства!» Она перевела взгляд на следующий снимок, потом еще на один, а потом… Потом была уже другая невеста, точно так же печально и выжидающе всматривающаяся в зеркало, и еще одна, и еще… Про композицию «родители — жених — невеста» фотограф тоже не забывал. Наташа поправила прядь, свисающую возле уха, с иронией подумав, что ей не хватает только длинных шелковых перчаток, и поднялась со скамейки.
Через пару минут из-за дверей снова вышла женщина с голубой лентой через плечо и вернула им паспорта.
— Кольца, пожалуйста! — сказала она.
— Колец не будет, — спокойно ответил Андрей.
— И фотографий тоже? — уточнила женщина, взглянув на него крайне неодобрительно.
— И фотографий тоже, — сказал он и спрятал свой паспорт в карман. Наташа снова ощутила себя несчастной, униженной дурой, которая влезла в какую-то глупую историю. Сейчас она почти не ощущала любви к Потемкину. Одну только злость. Ей хотелось выкрикнуть ему в лицо что-нибудь обидное и яростное. Что-нибудь такое, что позволило бы ему понять: она не послушная тряпка, с которой можно обращаться как угодно! Пусть она заключила с ним деловое соглашение, но ей оно нужно гораздо меньше, чем ему. Кармана на платье не было, и Наташа сунула свой паспорт Любке, посмотревшей на нее растерянным взглядом. Встав рядом с Андреем, Наташа прижалась к нему плечом. Мышцы его мгновенно напряглись, она почувствовала это сквозь шелк своего платья, сквозь серую с тонкими полосками шерсть его костюма. Конечно же, он не хотел ее обидеть, совсем не хотел, но слезы уже задрожали на кончиках ресниц…
— Не плачьте, невеста, — произнесла женщина с голубой лентой официально и равнодушно. — Лучше запоминайте. После того как скажут, что для регистрации брака приглашаются Наталия Солодкина и Андрей Потемкин, вы вместе со свидетелями проходите в зал и останавливаетесь ровно на середине ковра под третьей люстрой. Под третьей, запомните! Свидетели тут же делают два шага назад, а жених с невестой остаются стоять на месте. Что делать дальше, вам объяснят.
Любка негромко прыснула и что-то живо зашептала на ухо Валере. Наташа недоуменно обернулась.
— Под третьей люстрой! — уже для нее со значением повторила свидетельница Любка, давясь от смеха. — И чтобы свидетели отошли! Уж не упадет ли эта люстра вам на головы?
— Смешно, — согласилась Наташа и подняла глаза на Андрея. Он стоял совсем рядом и был слишком высоким для того, чтобы она могла видеть его глаза. А разглядела только гладко выбритый подбородок, чуть синеватый, острый кадык на шее и коричневую родинку у правого уха. Она слышала, как он дышал — тихо, сдержанно.
Потом заиграла музыка, кажется, из «Ласкового и нежного зверя», двери открылись, и где-то там, в глубине тяжеловесно и помпезно оформленной комнаты, из-за стола поднялась еще одна женщина, грузная, с химической завивкой и тоже с голубой лентой через плечо. Они остановились под третьей люстрой, как и было приказано, выслушали официальное напутствие и с одинаковым бесцветным равнодушием ответили «да, добровольно».
— Молодожены, поздравьте друг друга! — с фальшивым оживлением предложила грузная женщина. Наташа в зеркале увидела, как он поворачивает к ней голову. Она тоже обернулась к нему, ожидая что, в лучшем случае, их поцелуй будет выглядеть неловким и некрасивым, а в худшем — Андрей скажет, что поздравления ни к чему, как и кольца, и фотографии. Но он осторожно, словно боясь сделать больно, обнял ее за плечи, наклонился… И вдруг стало ясно, что лично к ней, к девочке со «стодолларовой» косичкой и татарскими скулами, у него нет никаких претензий и неприязни. Да и, вообще, ровным счетом ничего. Одна лишь учтивая благодарность. Глаза его смотрели куда-то сквозь нее, будто она на миг стала прозрачной. И Наташа почувствовала, что за ее спиной появилась никому, кроме Андрея, не видимая, сказочно прекрасная Оксана. Его твердые, обветренные губы на секунду прикоснулись к ее рту, и он снова отстранился, ни на секунду дольше не задержав ладонь на ее плече…
Продолжения церемонии не планировалось. Свидетели, видимо, успевшие понравиться друг другу, обменивались адресами. Андрей, сидя на скамейке, скатывал в трубочку «Свидетельство о браке». Наташа зашнуровывала ботинки.
— Поедем ко мне? — неожиданно предложил он.
Она подняла голову, посмотрела на него долгим и пристальным взглядом, а потом резко сдернула с косички маленькую черную резиночку и тряхнула головой. Волосы, успевшие завиться мелкими спиральками, рассыпались по плечам.
— Это ни к чему. — Она вызывающе усмехнулась. — Мы договорились, что я буду выполнять функции няни, а ребенок еще в роддоме. Значит, делать мне у вас, Андрей Станиславович, пока нечего. Я поеду к себе в общежитие.
— Что подумают твои подружки?
— А ничего не подумают. Я объясню, что у вас дома ремонт, покрасили полы, а у меня аллергия на краску. Надеюсь, вы не будете возражать?
— Не буду, — Андрей сунул «Свидетельство» во внутренний карман пиджака. — Ты по-прежнему можешь абсолютно свободно собой располагать и поступать, как считаешь нужным.
Фраза прозвучала нейтрально, но Наташа с горечью заметила, что вздохнул он все-таки с облегчением. Они распрощались на ступенях загса. Потемкин с Валерой пошли в одну сторону, а она со свидетельницей Любкой — в другую.
— Вы что поссорились, что ли? — недоуменно поинтересовалась Любка, когда мужчины скрылись за углом. — А как же первая брачная ночь?
— А у него сегодня нестояние, — объяснила Наташка, переполняясь отвращением к самой себе и втайне надеясь, что это отвращение вместе со злостью и обидой развеет хотя бы на сегодня глупую, сиротливую, никому не нужную любовь…
* * *
Выбор блюд в кафе «Лунная радуга» не был обширным, то ли потому, что оно недавно открылось, то ли из-за того, что шеф-повар предпочитал держаться строго в рамках выбранного стиля и не расширять ассортимент за счет расплодившейся по всей ресторанной Москве телятины с грибами и салатов из авокадо. Но Алла вот уже, наверное, десять минут внимательно изучала меню. Честно говоря, на белый лист с золотым тиснением и столбцами названий она почти не смотрела, ей просто нравилось вот так, глядя поверх темновишневой кожаной папки, наблюдать за Андреем. Он сидел напротив и задумчиво следил за ярким бликом, то появляющимся, то исчезающим на стенке бокала. Над столом вращался сверкающий, видимо, призванный символизировать маленькую Луну, светильник, и блик пробегал синхронно с ним семицветным веером. Может быть, это и была та самая «Лунная радуга»? Глаза у Андрея сегодня были чуть более спокойные, чем раньше. Алла тихонько улыбнулась. Он отойдет, обязательно отойдет. Хотя такие люди, переживающие все внутри себя и старающиеся не выплескивать эмоции на окружающих, возвращаются к нормальной жизни гораздо дольше и тяжелее, чем какие-нибудь Толики Шанторские. Вспоминать о Толике не хотелось, но перед глазами уже невольно, сам собой, всплыл их вчерашний разговор, его перекошенное, красное от возбуждения лицо и мелкие кудряшки на голове.
— То есть как это ты решила? — кричал Шанторский, буравя ее разъяренными глазками. — Значит, все время, что мы были вместе, — псу под хвост? Значит, тебе что-то, не будем уточнять, что именно, в голову ударило, шлея под хвост попала, — и все, до свидания?
— Все. До свидания, — Алла постепенно начала звереть. — Я вообще не понимаю, к чему этот разговор? Я оскорбила тебя, обидела, поступила подло и мерзко. Ты уже полчаса кричишь, что ненавидишь меня и не вернешься, как бы я ни просила. Так уходи же, будь в конце концов мужиком! Ничего уже не изменишь!
— Да я и не хочу ничего менять, — Толик, вцепившись толстыми пальцами в подлокотник дивана, подался вперед и завис над ней, как гигантская кобра, готовящаяся к прыжку. — Я только хочу, чтобы ты поняла: этот мужик тебя бросит и будет тысячу раз прав! Потому что таких стерв, как ты, и надо бросать. Ты что думаешь, ты — красавица? Молоденькая сексуальная девочка? Дорогая моя, ты уже старая, выходящая в тираж баба! Еще полгодика, и на тебя уже никто не посмотрит. А я посмотрел и уже, дурак, готов был на тебе жениться!
Алла быстро и покорно, как заводная кукла, кивала головой. Она хотела только одного — чтобы Толик поскорее ушел. Но он продолжал кричать, брызгать слюной и дышать, как кузнечные мехи. А она, слушая это его тяжелое дыхание, с омерзением вспоминала, как ложилась с ним в постель, как ласкала его жирные ягодицы, как обнимала красную лоснящуюся шею. И дышал он в эти минуты точно так же, тяжело, но ритмично.
— Ты меня слышишь? Слышишь? — Он наклонился совсем близко, и на нее жарко пахнуло туалетной водой «Доллар», смешанной с потом.
— Послушай, Толя, — Алла, вздохнув, погладила его по плечу, — давай расстанемся, как взрослые умные люди. То, что я старая, вышедшая в тираж баба, и то, что мой новый мужик меня бросит, это ведь мои проблемы, правда? Да и дело, в общем, не в мужике… Если хочешь, я ухожу не к нему. Никто меня еще никуда не звал и, вполне возможно, не позовет. Я ухожу просто потому, что поняла: мы с тобой счастливой парой никогда не будем. Кроме взаимного уважения, которого, как сейчас выяснилось, тоже нет, необходимо еще что-то, понимаешь?
— Не надо разговаривать со мной, как с олигофреном! — Толик демонстративно вытащил из кармана валидол и положил таблетку под язык. — Не надо сейчас собирать в одну кучу все старые и новые обиды. Если бы ты вела себя достойно, я бы тебя уважал, а так… Принеси мне, пожалуйста, водички!
— Валидол лучше не запивать, — ответила она машинально. — И вообще, давай поскорее закончим. Мы разговариваем уже час, а толку никакого… Я тебя прошу: уйди! Я — стерва, сволочь, шлюха. Да кто угодно! Только уйди!
Он просидел еще минут сорок, а потом все-таки удалился. А она открыла форточку и, подставив лицо мелкому, колкому снегу, прошептала: «Андрей!» Она жила им всегда, всю жизнь, но после его утреннего звонка и предложения встретиться и поговорить, поняла, что ни с кем, кроме него, жить просто не сможет. Пусть придется уехать из Москвы туда, где никто не знает ни его, ни ее, ни историю появления ребенка, пусть хоть в тундру, пусть хоть на полюс, где круглый год такой же колючий, злой снег. Пусть, лишь бы с ним. Только с ним!..
И вот теперь он сидел напротив и изучал радужный блик, мечущийся по стенке бокала. Невнимательный, как все мужики! Не заметил ни ее новой прически, ни необыкновенно удачного, золотисто-русого цвета волос. На сегодняшнюю встречу Алла собиралась особенно тщательно. Истратила из отложенных на новую квартиру денег четыреста долларов, но купила и новый шикарный брючный костюм песочного цвета, очень идущий к ее глазам, и босоножки с расширенными книзу каблуками, и дорогую французскую косметику. Зато чувствовала себя теперь молодой, красивой, элегантной и почти счастливой.
— Так о чем ты хотел со мной поговорить? — мягко спросила она, когда официант, принявший заказ, отошел от столика.
— О чем? — Андрей улыбнулся, опустив книзу уголки губ. — Да обо всем сразу: о моей девочке, о всяких формальностях, но главное, о тебе… Ты знаешь, Алка, я никогда не думал, что у меня есть такой друг, даже не предполагал… В общем, спасибо тебе огромное. Я понимаю, что словами тут не отделаешься, но поверь, я сделаю для тебя все, что захочешь!
«Не о том говоришь, красивый мой, чудесный мальчик! — подумала она, представляя, какие теплые у него сейчас губы. Ей вдруг захотелось прижаться к этим губам щекой и почувствовать, как висок щекочут его пушистые темные ресницы. — Не с того начинаешь. Но кто знает, с чего нужно начинать такие разговоры? Главное, ты — здесь, и я — здесь. И, может быть, даже не впустую прожиты все эти годы? Только говори! Какая разница, что? Главное, говори!»
— Ну, что ты молчишь и улыбаешься как сфинкс? — Андрей поправил узел галстука. — Ты и в институте была такая же загадочная. Наверное, потому я и не узнал, что ты такая…
— Какая? — Алла снова улыбнулась одними уголками губ, стараясь не щуриться, чтобы не проступали слишком явно у висков «куриные лапки».
— Замечательная! — Он повел головой как-то смешно, совсем по-пионерски.
«И опять не то говоришь, — она мысленно щелкнула его по носу. — Может быть, просто не умеешь найти нужные слова? Сначала ты привык, что девчонки тобой восхищаются. Потом твоя Оксана и вовсе отучила тебя разговаривать по-человечески».
Вынырнувший из полумрака официант принес вырезку, фаршированную черносливом, овощной салат и бутылку «Кальве Бордо». Вино, разлитое по бокалам, отливало густым темно-красным цветом.
— Давай выпьем за маленькую чудесную девочку, которую ты спасла, — Андрей поднял бокал и серьезно посмотрел в ее глаза.
— Давай. — Алла потянулась со своим бокалом ему навстречу. При этом так руку развернула, чтобы тыльной стороной кисти коснуться его пальцев. Прикосновение было мгновенным, как вспышка. Она почувствовала, как ее колени под столом сами собой раздвигаются, как теплеет в груди, как жарко и томительно перехватывает горло.
— Спасибо тебе, — сказал он еще раз и выпил вино залпом, словно водку. Ей нравилось смотреть, как он пьет, еще с института, с их совместных студенческих гулянок. Не было в нем при этом показной бравады и лихости. Пить он умел и делал это красиво. Только сейчас что-то вот сплоховал. Две мягко светящиеся капли вина словно обиженно сползли по краю бокала. Алла незаметно усмехнулась и, вооружившись ножичком, отрезала кусочек мяса. Времени у них предостаточно. Ей на работу только завтра утром, Андрею скорее всего тоже. Можно не торопить события. Даже, наверное, лучше не торопить. Только вот слишком уж трудно, слишком мучительно ждать.
— Кстати, ты не забываешь, что тебе надо поторопиться с оформлением твоей женитьбы? — она аккуратно положила черносливину в рот, стараясь не задеть помаду. — Я думаю, что малышку можно будет забирать совсем скоро, надо бы начать готовить документы.
«Господи, опять я его гоню, опять тяну куда-то на веревочке! Дура несчастная! Надо ждать, просто ждать, и он скажет все сам, не зря же он пригласил меня сюда! — Алла отложила в сторону вилку и взглянула на Андрея испытующе. — Если он сейчас занервничает, засмущается, нужно будет дать задний ход и мягко перевести разговор на более безопасную тему. Бедный мой, хороший! Слишком жива еще память об этой стерве. Слишком трудно ему еще представить себя женатым на другой женщине, произнести вслух: «Выходи за меня замуж».
Но по лицу его прочитать что-либо определенное было крайне сложно. Андрей крутил между большим и указательным пальцами тоненькую ножку бокала и, казалось, думал о чем-то своем. Впрочем, он, по крайней мере, не нервничал. Рассеченный кончик его правой брови выглядел совершенно спокойным и неподвижным. Скорее всего он раздумывал не над тем, что сказать, а над тем, как сказать — каким тоном. Когда он в конце концов вздохнул и приготовился говорить, Алла мысленно пожелала самой себе: «С Богом!»
— А знаешь, Алка, вопрос моей женитьбы — это еще один пункт, за который я должен быть тебе благодарен. — Андрей поставил свой бокал рядом с ее и наполнил их оба вином. — Ты дала мне неоценимый совет, и, кажется, я действительно поступил правильно. В общем благодаря тебе решаются все мои проблемы… Я ведь женат со вчерашнего дня на милой девушке, которой нужна квартира, которая имеет медицинское образование и которая неплохо ко мне относится. Это, конечно, просто формальность, но все равно, можешь формально меня поздравить.
— Как это — женат? — с детской растерянностью переспросила Алла, разжимая пальцы и выпуская ножку бокала. Ей показалось, что она заговорила прежде, чем осознание этого факта обрушилось на нее всей своей многотонной тяжестью. А может быть, и нет? Время перестало существовать, потому что бокал с расплескивающимся вином падал как-то неправдоподобно медленно, очень медленно, в нарушение всех законов физики. К моменту, когда он наконец оказался у нее на коленях, на новых, не нужных теперь никому песочных брюках, прошла, наверное, целая вечность.
— Что значит женат? — переспросила она хриплым голосом. Он вздрогнул, взглянул на нее недоуменным взглядом и как-то виновато, со смущением пробормотал:
— Мы вчера расписались с медсестричкой Наташей из нашего отделения. Я тебе про нее, кажется, как-то рассказывал? А почему ты… Прости, я — дурак и сволочь!
Пауза вышла глупой и безобразно долгой. Алла пыталась проглотить слезы и заставить себя думать о чем-нибудь постороннем: о повышении цен, о новой стальной двери у соседей, о неплохом столовом сервизе, который она вчера видела в витрине. Невыносимо больно было сознавать, что сейчас, без скидки на всякие ее женские фантазии, они, несомненно, вспоминают об одном и том же — о той единственной ночи на серых общаговских простынях. Вот в этом она была уверена на сто, на двести процентов, как, впрочем, и в том, что Андрей не в силах будет заговорить первым. Он слабый, нуждающийся в помощи, как все мужики, а она родилась сильной женщиной, была ей до сего дня, ей и останется!
— Нет, ты не дурак и не сволочь, — Алла вымученно улыбнулась. — Просто мои очередные безумные бабские фантазии опять отказались воплощаться в жизнь. Но это ведь мои проблемы, а не твои, правда?.. Давай-ка лучше допьем вино, и подай мне салфетку, я ведь как была каракатицей, так и осталась. Видишь, все брюки себе промочила!
— Алла, прости, я правда не знал, — Андрей, не сводя с нее тревожного взгляда, наполнил бокал вином. — Нам надо было, что ли, как-то более конкретно поговорить, а то ты думала об одном, я — о другом… Хотя, что теперь уже рассуждать?
— Да, действительно, что теперь рассуждать, — на последнем вздохе выговорила она и, прикрыв одной рукой лицо, а другой — мокрое пятно на брюках, выбежала в дамскую комнату…
* * *
Ребенка забирали из клиники в понедельник. Точнее, забирал один Андрей. Наташа осталась ждать у него дома, встревоженная, взволнованная. Она сама чувствовала себя ребенком, которого мама оставляет возле магазина, наказывая никуда не двигаться с этого места. Диван, на котором она сидела, был старый, скрипящий, кажется, даже от дуновения ветра, и прикрытый пестрым пледом. Видимо, плед, как и детскую кроватку с матрасиком, купили совсем недавно, когда готовили комнату к появлению младенца. Купили! Наташа снова поймала себя на том, что думает во множественном числе: купили, приготовили, поставили… Как будто здесь, в этой комнате, живет нормальная молодая семья из двух человек: мужчина и женщина, любящие друг друга. Их связывают чувства, секс, ребенок, наконец! А в действительности она — няня, которая будет менять подгузники, стирать пеленки и окатывать кипятком бутылочки.
Дух Оксаны все еще витал в этой квартире. Он не покидал ее до сих пор и исчезать не собирался. Ее плавные движения чудились в складках штор, словно бы отогнутых легкой женской рукой. Ее незримое присутствие выдавала зеленая расческа на полочке под зеркалом. Самая обыкновенная, плоская, из пластмассы, она с одинаковой вероятностью могла бы принадлежать как женщине, так и мужчине. Но Наташа почему-то могла поклясться, что это ее, Оксаны. А еще ей казалось, что она чувствует запах ее духов, ненавистного «Турбуленса», который она научилась выделять из тысячи других.
Наташа осторожно, словно боясь разбудить спящего в соседней комнате, встала и вышла в коридор. Собственные шаги показались ей слишком гулкими. С окончательно испортившимся настроением она прошла на кухню, открыла навесной шкафчик и достала оттуда большую чашку с какими-то корабликами и парусами. Чашка вряд ли могла принадлежать Оксане, но теперь это совсем не успокаивало. Наташа пила холодную водопроводную воду и не могла избавиться от мысли, что на фарфоровых краях остаются жирные и, естественно, неприятные для Андрея отпечатки ее собственных пальцев и губ.
Звонок в дверь раздался в половине второго. Наташа, еще не освоившая дверной замок, долго возилась с ним, а когда наконец открыла дверь, то поняла, что для тех, ждавших на лестничной площадке, времени не существовало. Для маленькой девочки, завернутой в одеяло, — по той простой причине, что она была совсем крошечная, величиной примерно с крупного кота. А для Андрея — потому что он жил сейчас только ее дыханием, только ее детскими смутными чувствами и соответственно только ее временным измерением. В его руках девочка выглядела какой-то ненастоящей, игрушечной. Наташа хотела сказать «проходите», но не смогла и просто отошла в сторону, пропуская их в квартиру.
Малышку распеленали в комнате на диване. Когда ее освободили из многочисленных «уголков», одеялец и пеленок, девочка выглядела неправдоподобно крохотной. У нее было пурпурно-красное, сморщенное личико, опухшие глаза, тонкие, как у паучка, ручки и ножки. Плакала она тоненким голоском, требовательно, как кукольная «пищалка». Наташа ожидала, что Андрей скажет сейчас что-нибудь банальное, вроде того, какая же его дочь красавица. Но он только кивнул на малышку, нелепо шевелившую ручками и ножками, и спросил:
— Справишься?
— Справлюсь, — спокойно ответила она, прикрывая тельце девочки пеленкой. — А как ее зовут? Оксана?
Она не хотела никого обидеть, произнесла это имя, как само собой разумеющееся, и тут же испугалась собственной бестактности. Однако Андрей отреагировал, к ее удивлению, без всякого всплеска эмоций.
— Почему Оксана? — Он удивленно пожал плечами. — У нее своя собственная жизнь и своя судьба. Я думаю, что она у нас будет Настенькой. Ты не против?
— Нет, не против, — Наташа почувствовала, что краснеет от гордости и удовольствия. — Только вот имя очень распространенное. Сейчас сплошняком идут Машеньки, Катеньки… Да и Настенек тоже многовато.
— Она будет одна-единственная, — улыбнулся Андрей и достал из кармана свернутый пополам бумажный листок. — Кстати, убери это, пожалуйста, на верхнюю полку в шкаф. Там у меня… у нас хранятся документы. Это выписка из твоей обменной карты о рождении дочери. Нужно будет отдать педиатру из поликлиники…
Потом они сидели за столом на кухне и ели гуляш с овощным салатом. У Потемкина вид был такой, будто он обедает на официальном приеме, а не у себя дома: прямая спина, локти, не касающиеся стола и плотно прижатые к туловищу. Наташа тоже чувствовала себя неловко, еда не лезла в горло и казалась безвкусной. Правда, Андрей пытался шутить и выглядеть любезным. И все же она была уверена, что сейчас ему больше всего на свете хотелось бы остаться наедине со своей новорожденной дочерью и духом той, другой женщины, витающем в комнате. Но уйти она не могла, во-первых, потому что через полчаса предстояло первое домашнее кормление Насти, а во-вторых, потому что ее уход выглядел бы демонстративным и невежливым. У Наташи тоже было свое заветное желание. Наверное, очень многое она отдала бы сейчас за то, чтобы в этой квартире появилась вдруг третья комната. Пусть маленькая, пусть крошечная. Она забилась бы туда вместе со всеми своими шмотками и выползала бы только для того, чтобы укачать девочку или накормить ее «Тутелли». По крайне мере, тогда она могла бы не раздражать и не смущать своим видом Андрея.
И тут обнаружилось, что вдруг ни с того ни с сего отключили воду, и горячую, и холодную. Как всегда, в самый неподходящий момент. Нечем оказалось окатить бутылочку — даже развести смесь не в чем. Андрей быстро оделся, взял пластмассовое ведро и отправился в соседний подъезд «побираться». Наташа проводила его до порога, искоса наблюдала как он завязывает шнурки на ботинках, как одергивает брючины, как автоматически, не глядя, застегивает куртку. Это был ее законный муж, мужчина, с которым ей предстояло жить в одной квартире, мужчина, который нравился ей до того, что перехватывало дыхание. Несмотря на эти, еще совсем недавно казавшиеся немыслимыми, признаки семейного быта (общий обед, две тарелки в раковине, ее ботики, стоящие рядом с его тапками), ощущения близости не возникало. И глупо, изначально глупо было на это рассчитывать. Потому что с самого начала вся эта канитель затевалась не ради него, не ради нее, не ради их возможного будущего, а ради сморщенного красного человечка, лежащего сейчас в спальне.
Когда дверь за Андреем захлопнулась, Наташа вернулась в спальню. Девочка спала, но, видимо, уже собиралась проснуться и заорать. Личико ее некрасиво кривилось, беззубый рот разевался так, будто из него вот-вот полезут радужные мыльные пузыри. Чепчик самого маленького размера на ее крошечной голове перекосился и закрыл половину лица. Наташа отошла от кроватки и с размаху плюхнулась на диван, так что взвыли пружины. Ребенок не проснулся. «А жаль», — подумала она. Теперь, когда Андрей ушел и она осталась наедине с этим безобразным краснолицым существом, ей расхотелось быть доброй и ласковой. Пусть поорет, ничего с ней не случится, дети должны плакать! Она понимала, что должна быть благодарна этой маленькой лягушке за то, что сейчас живет вместе с Андреем, за то, что может разговаривать с ним о погоде, о светской ерунде, может смотреть вместе с ним телевизор. Она будет стирать его носки, в конце концов! Но именно мысль о том, что она должна быть кому-то благодарна, казалась невыносимой. Эта девочка была дочерью Оксаны, ее прошлым, ее частью, напоминанием о ней куда более реальным, чем призрачно отогнутые шторы. Наташе даже чудилось что она слышит ее голос, холодный, как у диктора: «Я разрешаю тебе жить здесь. Я разрешаю тебе ухаживать за моей дочерью. Я разрешаю тебе лелеять и холить живую память обо мне. Бедный ты заяц! Я просто освободила для тебя ненужное мне место. Но ты и занять-то его толком не сумела».
Девочка хрюкнула в своей кроватке. Наташа подошла и перегнулась через деревянные прутья. Теперь, когда малышка открыла глаза, она казалась еще более отвратительной. Один глаз у нее смотрел вправо и вверх, а другой — влево и вниз. Вообще-то это была обычная младенческая несфокусированность зрения, но почему-то в конкретном случае это производило ужасное, просто пугающее впечатление. Наташа вдруг подумала, что настоящий ее ребенок был бы светлокожим и пухленьким, с обязательными толстыми щечками, спелыми персиками подпирающими глазки. И он был бы гораздо больше достоин любви. Но Андрей не любил бы его все равно, а продолжал бы восхищаться этой маленькой уродиной. А вот она не станет любить эту Оксанину лягушку. Ее никто не заставит это сделать. То, что она, Наталья Потемкина, является по документам ее матерью, ничего не значит. Тем временем девочка продолжала жалобно хрюкать. Делать было нечего, Наташа достала ее из кроватки и прижала к себе вздрагивающее, костлявое тельце, не испытывая при этом ни нежности, ни умиления, ни любви…
Поужинала Анастасия Андреевна Потемкина тридцатью граммами «Тутелли», а они с Андреем — кексом из булочной и чаем с лимоном. Пора было ложиться спать, но Наташа продолжала сидеть за столом, гоняя ложечкой по блюдцу три скользкие лимонные косточки. Можно было, конечно, встать и помыть посуду, но что делать потом? Испуганно и смущенно прятать друг от друга глаза? Стелить одну простынь на диване, а другую — на раскладушке? Он — мужчина, она — женщина. Они, в конце концов, муж и жена! И что означали памятные его слова: «Мы можем жить как нормальная семья»? Вместе смотреть воскресные телепрограммы или все-таки спать вместе? Наташка не могла не думать об этом и когда говорила «да» в загсе, и когда надевала сегодня свое самое лучшее белье, — просто так, на всякий случай. И когда гасила свет в спальне, где засыпала девчонка. Любка рассказывала, что после того, как мужчина и женщина спят друг с другом, они обязательно сближаются. И это совсем не банально, как может показаться на первый взгляд. У них сразу находятся какие-то естественные, невымученные темы для разговоров, исчезает скованность и зажатость. А в том, что сейчас Андрею было тяжело, она не сомневалась. Время шло, и молчание постепенно становилось невыносимым.
— Ну что? — произнес он, наконец, поднимаясь с табуретки и задвигая ее под стол. — Наверное, пора ложиться?.. Я вот что хочу сказать тебе, Наташа. Мы с тобой женаты, причем, неизвестно, сколько проживем вместе… Во всяком случае, я думаю, мы не разведемся, пока ты сама не посчитаешь нужным как-то устроить свою личную жизнь… В общем, если хочешь, мы можем спать вместе…
Слова «если хочешь» резанули по ушам едва ли не больнее, чем те его прежние: «Это не значит, что я люблю тебя». Впрочем, сегодня она слишком переволновалась и устала, чтобы плакать. Да и теперь в его доме она просто не могла позволить себе такой роскоши.
— Ничего я не хочу, — Наташа тоже поднялась из-за стола, подошла к раковине и включила воду. — Я ухаживаю за ребенком, отрабатываю жилплощадь и прописку… А то, что вы предлагаете… Мне почему-то кажется, что это не понравится ни вам, ни мне…
Андрей посмотрел на нее пристально и вроде бы удивленно, потом аккуратно сложил оставшиеся куски кекса в пакет и убрал его в хлебницу. Когда он наклонялся к навесному шкафчику, рукавом рубахи коснулся Наташкиных волос. Она вздрогнула.
— Ты странная девушка, — сказал он задумчиво. — Гораздо более странная, чем я думал…
* * *
У нее оставалось всего два дня в Москве. Где-то там, в предместье Лондона, уже приводился в порядок трехэтажный коттедж, ожидающий возвращения хозяина с молодой супругой. Наверняка затопили камин. Том говорил, что в доме имеется камин с тяжелой бронзовой решеткой. Оксана часто представляла себе языки пламени, жадно вскидывающиеся к потолку и бессильно сползающие вниз, словно змеи. Наверное, там есть и кресло-качалка, и плед, и можно будет усаживаться вечерами перед огнем и наслаждаться живым теплом, ласкающим измученное тело.
После выписки из клиники чувствовала она себя все еще неважно. Наверное, причина была все-таки в том, что ребенка извлекли из нее слишком рано. Нет, она сама хотела этого и ни о чем сейчас не жалела. Но когда спелое яблоко в срок отрывается от дерева — это одно дело, а когда его, еще зеленое, тянут с силой, оставляя на месте соединения с веткой сочащуюся ранку — совсем другое. Оксана почти не сожалела об умершей девочке, потому что знала, что не успела ее полюбить. Мертвой она ее не видела. Мама, пришедшая проведать ее перед самыми родами, сказала, что ни в коем случае нельзя смотреть на мертвое безжизненное тельце, потом будет хуже в тысячу раз. Но что мог значить один-единственный взгляд на сморщенный красный комок? Она не сожалела о девочке и часто, как формулу аутотренинга, повторяла про себя: «Ничего, в общем, и не произошло. Это был еще не человек, а так, бессмысленное скопление клеток. Разве можно жалеть о вырванном зубе, о сломанном ногте? Поэтому тяжесть в груди и потребность плакать означали вовсе не тоску по ребенку, а обычную послеродовую депрессию!» Она хотела верить в это со всей искренностью, на которую была способна, и у нее даже начинало получаться.
Да и было за что этого ребенка не любить. Он ушел в тот сумрачный мир, из которого и явился, незаметно, не успев оставить на земле даже памяти о себе. А Оксана получила в наследство растяжки на животе и безобразные, провисшие складки кожи. Гимнастику ей делать было пока еще нельзя, и она молча страдала, разглядывая перед зеркалом свою раздавшуюся талию, без малейшего изгиба переходящую в бедра. Впрочем, Том по-прежнему называл ее красавицей и обращался с ней теперь даже нежнее, чем раньше. Что, кстати, казалось вполне естественным. Ведь ребенка, чужого ребенка, теперь уже не было!
«Красавица! — злобно и тихо повторяла она, уткнувшись лицом в подушку с наволочкой из банальнейшего черного шелка. — Красавица с провисшей задницей и животом, который приходится прятать в эластичные трусы! Господи, только бы все пришло в норму, только бы стало как раньше! Иначе зачем все испытания? Зачем?»
А дом в Лондоне готовился к встрече молодой жены преуспевающего бизнесмена, и Оксана готовилась тоже, активно втирая в волосы целебный состав из яиц, меда и лука, обкладывая лицо кубиками льда и втайне от Тома надевая под домашнюю одежду специальный пояс для похудения. Теперь она, как настоящая супруга, имела от него маленькие и безобидные секреты и все ждала со страхом и одновременно с каким-то болезненным нетерпением, когда он спросит о главном секрете. Ведь он видел тогда в палате Андрея и скорее всего понял, кто это такой.
Сегодня Том пришел раньше обычного и принес цветы, купленные явно не у метро. Это были хризантемы, белые, огромные, лохматые, как болонки. Оксана встретила его с улыбкой. Цветы ей понравились, нравилось и настроение Клертона, какое-то умиротворенно-созерцательное. Но она вздрогнула, когда он вдруг спросил:
— Ты не хочешь перед отъездом попрощаться с твоим бывшим возлюбленным? Вполне возможно, что ты не скоро в следующий раз окажешься в Москве…
Оксана замерла с фарфоровой вазой в одной руке и хризантемами — в другой. Ее напугала фраза Тома. Том сказал: «Возможно, ты не скоро в следующий раз окажешься в Москве». И предложил сейчас попрощаться с Потемкиным. Зачем он сказал про «следующий раз»? Подразумевал, что она захочет увидеться с Андреем? Увидеться втайне от него? И боялся выглядеть глупцом, поэтому сам предположил вариант, вполне естественный и, в общем, не предосудительный? Значит, он не верит ей до сих пор? Значит, боится? Значит, в любой момент все ее настоящее и будущее, собранные тщательно и осторожно, могут рухнуть как карточный домик?
Оксане показалось, что ваза в ее руке стала тяжелой, как гиря циркового атлета. Ей захотелось немедленно швырнуть и эту вазу, и эти цветы прямо на ворсистое ковровое покрытие и завопить, закричать: «Не смей говорить так, не смей меня мучить, не смей меня пугать!» Но остереглась. Это были цветы, подаренные Томом, квартира, за которую платит Том, ковровое покрытие и ваза тоже куплены на его деньги. Все это было его, и она была — его. Нет, не собственность, конечно, но все же…
Оксана неторопливо и бережно расправила листья хризантем и только потом обернулась. Когда их глаза скрестились, в ее глазах уже читались спокойствие, любовь, может быть, лишь чуть-чуть обиженной женщины.
— Том, хороший мой, зачем ты так говоришь? — Она опустилась на диван, взяла его за руку и мягко притянула к себе. — Мне не следует прощаться с Андреем, я уже простилась с ним навсегда. Там, в больнице. Помнишь, ты встретился с мужчиной, выходившим из моей палаты?
Расчет был верный. Она не собиралась от него ничего скрывать. Взгляд Клертона мгновенно потеплел.
— Я никогда ничего не сделаю у тебя за спиной, — продолжала Оксана, нежно поглаживая пальцем его мягкую, маленькую кисть. — Никогда! Ты слышишь, никогда! Я люблю тебя, и никто другой мне не нужен…
Он наконец-то сел на диван, неловко, как кукла, которой слишком резко ослабили ниточки, и прижался холодным лбом к ее коленям. Оксане было тяжело и неудобно, но она не шевелилась, а только гладила его круглую голову до тех пор, пока Том сам не поднял к ней уже окончательно успокоенное и просветленное лицо. Тогда она извинилась и почти бегом скрылась в ванной. Хотелось выплакаться, но это было бы слишком опасно. И без того ее будущее, стоившее таких жертв, казалось еще слишком хрупким и зыбким. Оксана открыла ящичек под зеркалом, достала из него тюбик с персиковой маской для лица, нанесла на кожу густую, быстро затвердевающую массу и, опустив ноги в теплую воду, выждала положенные пятнадцать минут. Она не могла позволить себе быть некрасивой или хотя бы чуть менее красивой, чем раньше. Она собиралась бороться до полной и безоговорочной победы…
* * *
В день, когда маленькой Насте исполнился месяц, Наташа поняла, что ей уже ничего не хочется. Ни московской прописки, которая, правда, и с самого начала не была самоцелью, ни теплого семейного очага, ни даже любви. Она устала ждать, устала надеяться, а самое главное, поняла, что это бесполезно. Лихорадочная одурь первых дней, проведенных в квартире Андрея, схлынула, миновало и отчаянное желание все-таки понравиться ему, заслужить если не любовь, то хотя бы повышенный интерес, а не только вежливую благодарность. Осталось одно ясное и беспощадное сознание того, что все, что бы она ни предприняла, бесполезно…
Сначала она пыталась, правда, пыталась! В доме все время была вкусная еда, рубашки Андрея, выстиранные и отглаженные, висели в шкафу на плечиках. Ей нравилось чистить его брюки, наглаживать смоченные уксусом «стрелки». Нравилось лепить для него пельмени и готовить судака в фольге, запекать рыбу по совершенно особенному рецепту Наташу научила мама. Кроме обычных соли, перца и масла она добавляла еще укроп, немного фенхеля и совсем чуть-чуть мяты. Судак получался — пальчики оближешь! — вкусный, ароматный, истекающий соком. Но Андрей ел его, как и все остальное, быстро, аккуратно, но без особых эмоций. Нет, он, конечно же, говорил, что приготовлено очень вкусно, просто восхитительно. Но Наташа видела, что ему не терпится быстрее выйти из-за стола и заняться чем угодно, лишь бы не разговаривать с ней. Она сильно подозревала, что он тоже мечтает о маленькой отдельной конуре, куда можно было бы забиться одному и выходить оттуда только в случае крайней необходимости. Иногда Наташа с тоской думала, что они похожи на двух пассажиров, попавших волею судьбы в одно купе. Бывает так, что попутчикам поговорить или не о чем, или просто не хочется, а потом наступает время обеда. И вроде бы надо вытащить из сумки свои запасы, но как-то неудобно приступать к обгладыванию неизменной жареной курицы на глазах у постящегося соседа. В лучшем случае пассажиры начинают предлагать друг другу присоединиться к трапезе, организовывают общий стол, но из этого обычно ничего хорошего не получается. Колбаса и вареные яйца заглатываются мгновенно, застревая поперек горла, каждый старается есть все-таки свою еду, не посягая на запасы соседа. В общем, удовольствия от совместной трапезы не получает никто. Попутчики снова валятся на свои полки и начинают тихо думать, каждый о чем-то своем…
Она догадывалась, что, возможно, Андрея тяготит и смущает ее слишком рьяная хозяйственная деятельность, но наверняка поняла это, когда однажды решила почистить его обувь. Положив рядом с собой щетку и тюбик с черным кремом, Наташа уселась тогда в прихожей рядом с полочкой для обуви и принялась вытаскивать из ботинок шнурки. В гостиной работал телевизор, и она не услышала, как Андрей вышел из комнаты. Когда она подняла голову, он стоял рядом с ней и, засунув руки в карманы брюк, сосредоточено рассматривал календарь, висевший на противоположной стене. Ей был знаком этот его взгляд с памятного объяснения ему в любви в осеннем больничном саду. В тот момент Андрей тоже был не с ней, думал не о ней и тем не менее не забывал о ее присутствии. В обоих случаях у него был взгляд человека, который собирается сказать что-то жестокое, но необходимое. Наташа выпустила из рук ботинок, с глухим стуком упавший на пол.
— Наташа, я давно хотел поговорить с тобой на эту тему, но все как-то не получалось, — начал он. — Понимаешь, я очень благодарен тебе за то, что ты делаешь для Настеньки и для меня, но, честное слово, ты ставишь меня в крайне неловкое положение. Я ничем не могу тебя отблагодарить, кроме доброго отношения. Ты — славная, милая девушка, но… В общем, не надо так уж стараться, тем более чистить мою обувь. Я вполне в состоянии сделать это сам…
Она хотела ему сказать многое, но ответила коротко и ясно.
— Хорошо, если вам это неприятно, я постараюсь меньше суетиться. — Наташа нащупала рядом с собой тюбик с кремом и стиснула его в мгновенно вспотевшей ладони. — Только, пожалуйста, не нужно вдаваться в подробности, я и так все понимаю.
Андрей согласно кивнул и, секунду помедлив, вернулся в комнату. А она осталась сидеть в прихожей с тюбиком обувного крема, зажатым в руке, как кинжал.
С этого дня Наташа перестала проявлять чрезмерное рвение. Ужинала и завтракала теперь в одиночестве, не дожидаясь Андрея с работы и решая тем самым проблему «двух пассажиров в одном купе». Стирала ему только рубашки, не притрагиваясь к носкам и тем более к нижнему белью. Она выбрала для себя удобную и привычную прическу «конский хвост», собранный на затылке, и больше не пыталась изобразить на голове то «стодолларовую» косичку, то каскад свободных и романтических локонов. Правда, за малышкой по-прежнему ухаживала тщательно и добросовестно, внушая себе, что выполняет работу, за которую ей платят жильем и питанием. К первому «месячному» дню рождения Насти она все-таки решила испечь торт.
Когда она заливала верхний корж белковым кремом, в замке повернулся ключ, и в прихожую вошел Андрей.
— Привет! — Он принюхался и удивленно приподнял брови. — У нас сегодня праздник?
— У вашей дочери праздник, — бесстрастно отозвалась она.
Наташа повернулась и тыльной стороной ладони убрала со лба лезущую в глаза челку. Андрей стоял у порога, опираясь плечом о косяк, и смотрел на нее так же странно, как в тот вечер, когда она сказала, что вовсе не требует от него исполнения супружеского долга. Наташа уже давно не пыталась разгадать, что означает это неопределенное выражение его тревожных глаз. Она просто ждала, держа на весу испачканные белковым кремом руки, и чувствовала, что он хочет что-то сказать.
— Вот что, Наташа, — произнес наконец Андрей, отряхнув снег с шапки, которую держал в руках, и снова надел ее, — в самом деле, давай сегодня немножко попразднуем, а? Настенька выросла благодаря твоим заботам. А у меня сегодня на работе хорошие новости. Так что еще один повод есть. Схожу я, наверное, за бутылочкой вина, как ты думаешь?
Наташа молча кивнула головой. Он сам предложил посидеть и выпить вина! Хотя даже после загса они не выпили ни капли шампанского! Что ж, их брак был, по сути дела, фиктивным. День рождения-то тоже не Бог весть какой. Тем не менее Андрей предложил сам, да еще и посмотрел так, что сердце жалобно екнуло. Если бы он хотел быть просто благодарным за торт, то наверняка просто вежливо съел бы кусочек и заметил, что никогда не пробовал ничего подобного. А ведь он уже надел шапку и готов идти в магазин!
— Ну так что? Предложение принимается? — снова спросил Андрей, теперь уже с улыбкой.
— Принимается, — прошептала Наташа еле слышно.
Когда Потемкин вернулся с бутылкой массандровского портвейна, гроздью бананов и коробкой конфет, она уже успела переодеться в короткую джинсовую юбку и свободный голубой джемпер с рукавом «летучая мышь», выглядевший, правда, несколько доисторически, но почему-то он ей нравился.
— Ого! Я тебя не узнаю! — усмехнулся он, снимая у порога ботинки. И хотя эта оценивающая улыбка вышла отчасти нарочитой, Наташа почувствовала себя почти счастливой. Он никогда раньше не говорил с ней так! Возможно, впервые осознал, что она — женщина, а не бесполое существо с дипломом медицинской сестры.
— Ужин готов, — объявила она, кивнув головой в сторону кухни, где уже на столике были разложены приборы, расставлены бокалы и тарелки с картофельным пюре и котлетами.
— А как же Настенька? — На лицо Андрея набежала мгновенная тень. — Все-таки это ее день рождения. Я полагаю, нужно для начала поздравить ее? Я ей ползунки принес и две погремушки. Пойдем-ка на нее посмотрим?
Наташа почувствовала, как от горла к щекам и вискам поднимается жаркая, удушливая волна. Конечно! Как можно было забывать о маленькой «лягушке», ради которой, собственно, все и делается? Ради которой, похоже, вращается Земля! А она-то, дуреха, невольно придала их предстоящему застолью оттенок недопустимой интимности.
— Да, конечно, пойдем, — отозвалась она, пряча глаза, чтобы не встретиться с ним взглядом. Теперь Наташа видела его ноги в темно-серых носках и коричневых шлепках. Ступни у Андрея были вытянутые и худые, щиколотки тонкие, но крепкие. И она вдруг с ужасом поняла, что ей хочется упасть на пол и прижаться щекой к этим щиколоткам, поцеловать эти выступающие косточки, пробежать губами к пальцам. Непонятное желание показалось ей каким-то извращенным и постыдным. Нормально хотеть прильнуть к рукам любимого мужчины, его губам, но не к ногам.
— Только давайте осторожно. Настя, наверное, уже спит, — добавила Наташа совсем тихо и увидела, как правая ступня, оторвавшись от ковра, сделала первый шаг в сторону спальни…
«Лягушка» лежала в своей кроватке и спать вовсе не собиралась. Личико ее, в общем-то не особенно привлекательное, сейчас почему-то хранило выражение тупого отчаяния. Казалось, что она вот-вот заорет, изогнув рот широкой «подковкой». Соска со светящимся колечком валялась у самых деревянных прутьев. Видимо, «лягушка» выплюнула ее. Андрей подошел к кроватке и низко наклонился, взявшись руками за боковую планку. Когда его тень пересекла матрасик, под прямым углом продолжившись на стене, малышка все-таки взвизгнула. Наташа видела в жизни немало грудных детей, но почему-то ей казалось, что никто из них не пищал противнее юной госпожи Потемкиной. Наверное, и ее мать в детстве вопила точно так же.
— Вот тебе подарок ко дню рождения! — объявил Андрей, доставая из кармана пуловера пластмассового попугая и резинового зайца, грызущего резиновую же морковку. Девочка ни на зайца, ни на попугая никак не отреагировала. Впрочем, как и на голос отца. Она продолжала жалобно повизгивать и похрюкивать.
— Да-а, — произнес Андрей неопределенно и, выпрямившись, отошел на пару шагов от кроватки. Теперь он стоял, скрестив руки на груди, и изучал «лягушку», устремив на нее все тот же странный, тревожный взгляд. Тень его, длинная и тонкая, все так же пересекала матрасик, а вокруг головы, в свете ночника, образовалась золотисто мерцающая аура. В эти минуты он был красив так, как не может быть красив простой смертный, и Наташа чуть не задохнулась от любви, восторга и счастья. Да, и от счастья тоже! Потому что она все-таки жила с ним в одной квартире, хоть и формально, но была его женой, и никто, кроме, может быть, каких-нибудь гадалок и экстрасенсов, не мог еще с точностью сказать, что будет с ними обоими завтра. Ей вдруг захотелось по-настоящему присоединиться к торжеству по случаю дня рождения малышки, почувствовать близость, единство, принадлежность к семье. Ведь как-никак она имела на это право.
— A у меня тоже в детстве был почти такой же заяц, — Наташа перекинула «хвост» через плечо и намотала прядь волос на палец. — Только вместо морковки он, по-моему, держал бутылочку с молоком, и шерстка у него была не желтенькая, а серая. Я его очень любила.
Андрей обернулся не сразу, а где-то ближе к концу ее краткого монолога. Обернулся, вспомнив, по-видимому, что, кроме него и Насти, в комнате еще кто-то присутствует. Наташа вдруг почувствовала себя в этой комнате такой же лишней и неуместной, как стиральная машина в музыкальном салоне. И книги ее, занимающие целую полку, здесь были лишние, и пакетик с косметикой… Здесь явно не хватало Оксаниного халатика, небрежно переброшенного через спинку кресла, и запаха «Турбуленса».
— Ну, что, пойдем выпьем? — спросил Андрей, и улыбка его на этот раз получилась вымученной и жалкой.
— Нет, — Наташа инстинктивно отступила на два шага назад. — Это ведь необязательно?
— Но ты же хотела. — Он, понемногу приходя в себя, засунул обе руки в карманы пуловера и довольно сносно изобразил оживление.
— Я ничего не хотела, — внятно произнесла Наташа, поражаясь истерично-жестким ноткам, звенящим в собственном голосе. — Я ничего не хотела и не хочу! От тебя ничего не хочу! Ты понял? Иди сам пей свое вино и празднуй день рождения своей дочери, потому что я не хочу иметь никакого отношения к вашей семье. Я — наемная рабочая сила, и больше никто! Отстань от меня, оставь в покое!
Андрей то ли недоуменно, то ли раздраженно пожал плечами и быстро вышел из комнаты, хлопнув дверью. А она всхлипнула и без сил опустилась на диван, на котором вот уже месяц спала одна.
Девчонка продолжала плакать, негромко, но нудно и противно. Ее отец не подавал признаков жизни, видимо, как обычно, укрывшись от реальной жизни в комнате с чеканкой на стене и креслом-кроватью в углу. А еще — с секретером, в ящике которого хранится фотография Оксаны. Наташа вытерла слезы рукавом джемпера и подошла к кроватке. Наверное, оттого, что «лягушка» изрядно наоралась, личико ее стало красным. Рот девчонки разевался, как у выброшенной на песок рыбы, а по щеке стекала белая струйка непереваренного молочка, успев испачкать край пеленки и простыню. «Вот несуразное создание! — с раздражением подумала Наташа, доставая «лягушку» из кровати. — Теперь придется не только тебя перепеленывать, но и постельное белье менять!» Впрочем, торопиться теперь все равно было некуда. Никому не нужное картофельное пюре вместе с котлетами и клубничным тортом мирно и обреченно остывало на кухонном столе.
Однако, когда она распеленала девчонку, что-то похожее на тревогу серым комочком шевельнулось в ее сердце. Настя совсем не сопротивлялась. Если обычно она яростно сучила ручками и ножками, то теперь ее ручонки повисли вдоль тельца вяло и покорно, как у куклы. Наташа осторожно прикоснулась к ее лбу губами. Лобик оказался холодным, но тельце!.. Оно пылало! Наверное, не меньше тридцати девяти градусов, и детское сердчишко колотилось часто-часто. Забыть про то, что у грудничков даже при высокой температуре лобик может оставаться холодным при ее среднем медицинском образовании было непростительно! Наташа торопливо достала из аптечки градусник и засунула «лягушке» под мышку. Но все и так оказалось яснее ясного. Ртутный столбик с угрожающей быстротой пополз вверх… Все происходившее дальше еще полчаса назад показалось бы ей сказкой или глупым финалом слащавой мелодрамы. Запеленывая Настю, она вдруг с горячностью и нежностью прижалась к ее влажной щечке губами. Прижалась и отпрянула, удивившись и не поверив в то, что только что сделала. Но жалость, пронзительная, острая и мучительная, не покидала ее. Девочка, больная, несчастная и одинокая, лежала перед ней на диване. И Наташа вдруг поняла, что никакая она не «лягушка», а просто малышка, которую, по сути дела, никто не любит. Малышка, которую бросила собственная мать, ребенок, которого ненавидит мать «официальная». Поддерживая маленькую потную головку, она заходила с ней по комнате из угла в угол, из угла в угол… Минут через пять Настенька наконец успокоилась. Тогда Наташа осторожно переложила ее в кроватку.
Она вбежала в гостиную. Андрей сидел в кресле, тупо уставившись на ящик секретера, в котором лежала Оксанина фотография. Услышав стук открывающейся двери, он медленно и неохотно, как человек, просыпающийся после наркоза, повернул голову.
— Что случилось? — спросил он. А глаза его все еще были там, с ее портретом. Наташа, случайно нашедшая эту фотографию во время уборки, возненавидела ее с первого взгляда. Но сейчас ей было не до Оксаны, не до ее манерно полуоткрытого рта, не до ее прищуренных глаз, даже не до ее колдовской власти над Андреем.
— Твоя дочь заболела! — со злостью бросила она. — И еще я хочу тебе сказать, что ты — самовлюбленный, жалкий тип. Зачем ты позволил родиться этой девочке, если ты ее не любишь? И не надо оправдываться…
— Да я и не оправдываюсь, — он рывком поднялся из кресла. — Объясни толком, что с ней? Понос? Температура?
— У нее температура, — Наташа неожиданно злобно и резко толкнула его, заставляя снова опуститься в кресло. — Две минуты ничего не решат, поэтому я скажу тебе все, что считаю нужным…
Она стояла перед ним в короткой джинсовой юбке, в джемпере с закатанными рукавами, из которых выглядывали тощие ручки «ребенка Освенцима». Краем сознания она понимала, что и волосы у нее сейчас растрепались, как у бабы-яги, и лицо скорее всего покрылось неровными красными пятнами. Но она продолжала говорить, захлебываясь от обиды и путаясь в словах.
— Я тебе скажу, что ты не любишь свою девочку. Невооруженным глазом видно, что ты просто сравниваешь ее с Оксаной. Наблюдаешь за развитием, словно она… какой-то кактус! Похожий уже носик или еще непохожий? Похожие глазки или нет? А она еще не похожа, и, может быть, вообще, похожей на мать никогда не станет. Ты это понимаешь и злишься! А еще ты, наверное, чувствуешь, что вся эта затея с самого начала была страшной глупостью, потому что делал ты все только для себя. Не для нее, не для Настьки, а для себя!
Андрей продолжал сидеть в кресле, судорожно вцепившись побелевшими пальцами в подлокотники, и желваки на его щеках задвигались страшно и быстро. Наташе по-прежнему, если не больше, хотелось обнять его колени и прижаться щекой к щиколоткам, но вместе с тем и ужасно хотелось его ударить.
— Ты не имел права вмешивать в собственные проблемы ни меня, ни свою дочь, — продолжала она, чувствуя, как там, внутри ее, клокочет тяжелыми пузырями ярость, как борщ в кастрюле. — Я-то ладно, я теоретически в любой момент могу свалить! Но ей деваться некуда, она уже есть!.. Ты пойми, что это не соседская девочка Дусечка! Кроме тебя, твою Настю некому любить, у нее нет другого папы, а мамы нет вообще никакой! Я даже и не мачеха, а так, пришей кобыле хвост! Она, в сущности, сиротка, бедняжка!
— Ну все, хватит! — Андрей снова встал из кресла и, не глядя, рукой отодвинул Наташу в сторону. — Дамские истерики будем устраивать потом. Сейчас нужно заниматься ребенком.
Ладонь его была горячей и твердой, движения быстрыми и красивыми. Она вдруг впервые подумала, что он похож на молодого, поджарого, сильного волка. И даже эта его обаятельная и чуть-чуть виноватая улыбка с опускающимися книзу уголками губ всегда была отчасти усмешкой волчонка, обнажающего клыки. А еще она поняла, что завтра уже ничего этого для нее не будет, что она все сама себе испортила, нагло и бесцеремонно перейдя границы дозволенного. И что делать это было в общем-то незачем, что наговорила она кучу обидных вещей, что не имела никакого права соваться в его личную жизнь, что это все — конец… Злость и обида, только что заставлявшие ее кричать и размахивать руками, как балаганный Петрушка, вдруг куда-то пропали, уступив место ледяному отчаянию. Она почувствовала, что не может больше произнести ни слова, или, может быть, только одно, последнее?
— Прости, — тихо прошептала Наташа. Но Андрей уже вышел в коридор и, похоже, ее не услышал.
* * *
Хотя с тех пор прошло уже больше двух недель, Андрей так и не смог ничего забыть. Он помнил все до мелочей. И темную морщинку на ее колготках под коленкой, и пальцы, нервно и яростно теребящие край голубого джемпера. Джемпер почему-то казался воздушным и мягким, как облако, а сама она — колючей, жесткой, незнакомой. Самое странное, что с этими беспорядочно разбросанными по плечам волосами, с глазами, от волнения и отчаяния ставшими диковатыми, с крупными передними зубами, смешно торчащими вперед, его официальная жена Наталья Потемкина показалась ему красивой! Он никогда не подозревал в ней такого темперамента и вообще считал, что кровь течет в ее жилах спокойно и медленно. Нет, он предполагал, что, вполне возможно, в ее жизни тоже были какие-то нервные срывы, трагедии, истерики, но наверняка их проявление ограничивалось судорожным комканием носового платка. Незаметной медсестричке Наташе с ее коричневыми глазками-вишнями, узеньким личиком и тихим голосом, ей-Богу, следовало родиться в девятнадцатом веке. Прогуливаться в белоснежном платье по зеленой роще, любоваться на закатную солнечную дорожку, дрожащую на глади реки, заполнять альбом стихами и покорно ждать замужества. Честно говоря, она просто была ему удобна. Вот он и остановил на ней свой выбор. Тем более девочка нуждалась в жилплощади и прописке…
Он никогда не допускал ее в свою личную жизнь даже в мыслях. И поэтому, когда она, подобно фурии, влетела в гостиную с какими-то требованиями и обвинениями, ему поначалу захотелось просто взять ее за шкирку, как нашкодившего щенка, и вышвырнуть вон. Никто не смел касаться его Оксаны, никто не смел ее порицать. Даже он сам… А тут неизвестно откуда взявшаяся пигалица с перекошенным от злобы ртом и коленками, о которые, кажется, можно уколоться! Прошло минуты три, прежде чем он вдруг понял, что Наташка никого не ругает, кроме него самого, что она просто хлещет его по щекам, как человека, потерявшего сознание. Он падал в обморок один раз в жизни, когда их на первом курсе повели в анатомичку, и тогда его тоже шлепали по лицу, приводя в чувство. Андрею хватило этого раза, чтобы понять: пощечина, целебная ли, оскорбительная ли, вызывает абсолютно одинаковую реакцию. Человек, выдирающийся из темной, глухой обморочной ямы, чувствует только обиду, ярость и недоумение. Но это и помогает ему прийти в себя! Только вот благодарности к спасителю он не испытывает… Тогда, вскочив с кресла, он просто отодвинул ее рукой и ушел в спальню.
К счастью, у Настеньки оказалась неопасная вирусная инфекция. Через три дня она уже снова весело гугукала, смешно разевая беззубый ротик. Зато с Наташкой случилось что-то непонятное. Она погасла мгновенно и безнадежно, как лампочка, в которой от слишком сильного напряжения перегорела вольфрамовая спиралька. Сколько Андрей ни пытался ее расшевелить, вывести на разговор, все было без толку. Она или отвечала вежливо и кратко, или отмалчивалась, или просто ограничивалась равнодушным: «Да, конечно, Андрей, вы правы». Теперь это «вы», раньше казавшееся если не единственно возможным, то, по крайней мере, удобным, раздражало его бесконечно. Но «ты», пусть даже в контексте «ты — самовлюбленный, жалкий тип», больше от нее он не слышал.
Он пытался внушить себе, что ему просто нужна женщина, что такой длительный перерыв — это уже патология. И совсем неудивительно, что в девочке, на которую раньше не обращал внимания, начинают проступать привлекательные черты. Нет, это просто случайность, что ему захотелось именно эту женщину с чуть подтянутыми к вискам глазами и прямыми темными волосами, так не похожую на Оксану. Или же это извращение — пылать болезненной страстью к собственной фиктивной жене? Да и не страсть это вовсе, а так, быстро проходящее увлечение… Итак, спустя две недели после драматической сцены они решили пойти вместе прогулять Настеньку. Точнее, он предложил, а Наташа согласилась. Однако он был давно полностью собран, а она вот уже полчаса не выходила из комнаты. И Андрей сильно подозревал, что она опять там плачет. Наташа вообще часто плакала в последнее время, но тайком. Ее выдавали припухшие покрасневшие веки и болезненная бледность щек. При этом она ни на что не жаловалась, а он считал бестактным ее расспрашивать.
Наташа никак не появлялась, и он уже начинал тревожиться, когда дверь наконец тихонько скрипнула. Она вышла в коридор в унылом сером кардигане с завернутой в одеяло Настей на руках. Андрей вдруг подумал, что ей, в самом деле, есть о чем плакать. Жизнь ее скучна и однообразна. Из дома почти не выходит, одевается затрапезно. Он раза три предлагал ей денег, чтобы она купила себе что-нибудь из одежды и косметики. Наташка отказывалась, он настаивал. Она делала вид, что соглашается, но новых вещей у нее вроде бы не появлялось. Зато к ужину неизвестно откуда брались креветки, мидии и грудинка. Как можно было этого не замечать? Нет, он все видел, но просто не обращал внимания, как пассажир, сидящий в машине и не знающий правил вождения, не обращает внимания на дорожные знаки.
— Ну что, идем? — спросил он, подходя к Наташе и забирая из ее рук Настю. При этом как бы случайно коснулся ладонью ее локтя.
— Идемте. — Она качнула головой, и прямая челочка упала на лоб. Пока Наташа надевала зимние ботинки, он рассматривал маленькое личико девочки, робко выглядывающее из многочисленных чепчиков и шапочек. Настенька пока еще не обещала стать ни блондинкой, ни брюнеткой, ни синеглазкой, ни кареглазкой. Ноздри у нее были смешные и круглые, а щечки гладенькие, как яблочки. Он не удержался и легонько нажал указательным пальцем на «кнопочку» ее носа. Малышка возмущенно мяукнула, а Наташа тут же подняла голову. «Беспокоится! — подумал Андрей с неожиданным удовлетворением. — Или, может быть, проверяет, какие результаты дал ее воспитательный сеанс? Ну и правильно, она имеет на это право. Жена как-никак!»
Потом Наташа с Настенькой на руках вышла на улицу, а он взялся спустить вниз коляску. Естественно, в самый неподходящий момент она застряла между стеной и перилами лестницы. Пытаясь освободиться, Андрей едва не упал вместе с коляской, носящей гордое название «Маркиза». Коляска, правда, угрожающе заскрипела и сверкнула в воздухе спицами всех четырех колес, но осталась цела и невредима. Когда он наконец выволок ее из подъезда, Наташа прохаживалась с девочкой на руках, и к ней успела прицепиться соседка по этажу Серафима Викторовна. Андрей поморщился. Серафиму Викторовну он не любил то ли за чрезмерную слащавость, то ли за бьющую в глаза неискренность, то ли еще за что-то. В общем, не любил — и все! Она, однако, отвечала ему нежной привязанностью и называла «наш красавчик Андрей Станиславович».
— А, здравствуйте, здравствуйте, Андрей Станиславович! — Заметив его, Серафима Викторовна оставила в покое Наташу и изобразила на сморщенном лице весьма отдаленное подобие светской улыбки. Он мысленно возблагодарил Бога за то, что она на этот раз не назвала его «нашим красавчиком». — Как поживаете?
— Спасибо, хорошо, Серафима Викторовна, — Андрей вежливо обогнул ее и покатил пустую коляску вперед, давая понять, что беседу продолжать не намерен. Но это никак не совпадало с намерениями соседки.
— А я вот все смотрю-смотрю, девочка с колясочкой выходит из нашего подъезда, а спросить, чья она, как-то случая не было… Вот подхожу сегодня и, надо же, узнаю, что из вашей квартиры! Прямо удивительно, как жизнь быстро идет, и не поспеваешь за ней…
Последняя фраза призывно повисла в воздухе. Серафиме Викторовне явно хотелось спросить: «А кем эта девочка вам приходится?», но она не решалась. Андрей подумал, что лучше будет расставить все по своим местам, иначе сплетен не оберешься.
— Моя жена, знакомьтесь. — Он указал рукой на Наташу. Та стояла возле заснеженного газона и тетюшкала девочку. — А это наша дочь Настя.
То ли слово «жена» ему произносить было еще не очень привычно, то ли слова «наша дочь» дались ему с трудом? Во всяком случае, Серафима Викторовна, похоже, что-то заподозрила.
— Жена-а? — она длинно и удивленно раскатила звук «а», в конце взмыв к недоуменным высотам. — Ну надо же!.. А как же Оксаночка? Вы простите меня, дуру старую, что я спрашиваю, просто что-то она как пропала, так и нет ее… Ну да, теперь, конечно, все понятно. Понятно, да…
Она мелко и скорбно закивала головой, сцепив ручки на животе, а Андрей почувствовал вдруг такую всепоглощающую злость, что готов был, кажется, засунуть Серафиму Викторовну вместе с ее интересом к чужой жизни в первый попавшийся сугроб. Конечно! Ей интересно знать, куда делась Оксана! Естественно, она задала этот вопрос совсем не для того, чтобы получить ответ, а просто чтобы он прозвучал. Сейчас она стояла и разглядывала Наташу с интересом и одновременно осуждением. Осуждение, вероятно, относилось к тому, что новоявленная жена еще слишком молода, к тому же взялась неизвестно откуда, а интерес?.. Андрею вдруг показалось, что он может читать ее мысли, что вместе с ней рассматривает «не такие красивые, как у Оксаночки, глаза», «не такие пухленькие губки», «не такую чудную фигурку». А самое ужасное, что Наташа тоже, без сомнения, понимала, о чем думает Серафима Викторовна. Губы ее побелели, глаза потемнели от подступившего гнева. Тем не менее она не отвернулась и продолжала стоять недвижно, такая худенькая и беззащитная в своем темном пальтишке и смешной круглой шапочке с длинными «ушами», обречено впитывая недобрый, изучающий взгляд.
— Наташка, пойдем уже, наверное? — разогнав коляску, Андрей приблизился к газону. — Вы извините, Серафима Викторовна, мы спешим.
— Да-да, — быстро согласилась старушка и развернулась назад, к подъезду. Потемкина именно такое поведение соседки как раз и устраивало. Собственно, то, что он собирался сделать, делалось отчасти для нее, отчасти для того, чтобы успокоить Наташку. Ну и немного для себя, конечно… Уложив Настеньку в коляску и прикрыв ее чехольчиком, он выпрямился, привлек к себе жену и с улыбкой поцеловал ее в щеку. Точнее, собирался поцеловать в щеку, а попал в ложбинку между глазом и носом, потому что в самый последний момент Наташка вдруг сильно и яростно уперлась обеими руками ему в грудь. Со стороны это, наверное, выглядело милой игрой молодых любящих супругов, и Серафима Викторовна почувствовала что-то вроде разочарования. Но Андрей ощутил лишь трепет Наташиных ресниц на своих губах, запах ее кожи, нежный и какой-то юный, и собственное пронзительное, всепоглощающее желание. Сдержанно и тихо выдохнув, он отстранился и взглянул на нее с неуемным весельем.
— Ты чего толкаешься? — Глаза и губы его улыбались, но правая бровь мелко дрожала. — Испугалась, что я тебя уроню?
— Нет. — Она машинально провела перчаткой по лицу, словно пытаясь стереть следы его поцелуя. — Извините, я просто растерялась… Я как-то не сразу поняла, что это из-за вашей соседки, для того, чтобы я… В общем, спасибо вам, Андрей.
То, что она произнесла эти слова, а не промолчала, входило, похоже, в ее репертуар. Но это мгновенно и непоправимо разрушило всю романтику ситуации.
Коляска медленно катилась вперед, наматывая на колеса влажный, тяжелый снег. Позади нее на дороге оставались две глубокие ровные борозды, быстро заполняющиеся талой водой. Февраль в этом году выдался неожиданно теплым. Андрей подумал, что впервые в жизни оказался в такой дурацкой и двусмысленной ситуации. Жить вот уже полтора месяца в одной квартире с привлекательной молодой женщиной и ни разу даже не прикоснуться к ней. Кому из старых институтских друзей рассказать — не поверили бы! А особую пикантность и нелепость эта история приобрела бы для тех, кто узнал бы, что мужчина и женщина, спящие на разных кроватях, — законные муж и жена!.. Они до сих пор даже ни разу толком не поговорили на эту тему, если не считать первого вечера, когда он с тошнотворно скучным видом обреченно предложил ей свои сексуальные услуги! Урод, дурак, олигофрен!..
Наташа шагала рядом, и из-за свисающих шапкиных «ушей» он видел только темные краешки длинных ресниц и бледненький кончик носа. Ему вдруг захотелось сказать ей все прямо сейчас, прямо здесь, на улице с подтаявшим снегом. Не дожидаясь полумрака вечерней спальни, рассеянного света ночника и отогнутого угла верблюжьего одеяла. Сейчас и здесь!.. Колеса «Маркизы» жалобно поскрипывали, малышка внутри сладко спала. Андрей открыл рот, секунду помедлил и неожиданно для самого себя произнес совсем не то, что собирался.
— Наташа, — он поправил сползшую на лоб шапку, — у меня есть хорошие новости. Я собирался сказать тебе это еще две недели назад, но тогда Настенька заболела, да и потом, все было еще не точно… Короче, мне предложили место заведующего хирургическим отделением одной частной клиники, и я согласился. Платить обещают более чем прилично, условия хорошие… Так что наше материальное положение резко улучшится, а ты потом, если захочешь, можешь устроиться работать туда же.
Она обернулась все с тем же равнодушно-печальным выражением лица, и Андрей почувствовал, что понемногу начинает злиться. Господи, как он мечтал когда-то сказать эти слова Оксане! Та бы сейчас наверняка восторженно ахнула и, обняв за шею, прижалась теплой щекой к его щеке. А эта смотрит, как овечка перед закланием. Один раз ожила, один раз вспыхнула и погасла, будто израсходовала весь свой запас эмоций на десять лет вперед. Господи, ну что же такое с ней творится?.. Наташа шла, держась одной рукой за ручку коляски, и смотрела ему в лицо. Казалось, она хочет что-то сказать, но не решается.
— Я поздравляю вас, Андрей, — произнесла она, наконец по-прежнему пользуясь своим любимым «вы». — Наверное, это очень кстати. Потому что я хотела вас спросить: мы ведь договаривались, что я могу устраивать свою личную жизнь как угодно и когда угодно, не так ли?
— Ну да, — Андрей кивнул, чувствуя, как подозрительный спазм сжимает горло.
— Просто Настя уже подросла и не требует моего постоянного присутствия. Вот я и подумала, что, наверное, могу уже заняться устройством своей жизни?.. Тем более теперь, когда вы будете хорошо зарабатывать. Если вдруг у меня что-то получится и я соберусь уйти от вас, вы всегда сможете найти платную няню… Но вы не волнуйтесь, я обязательно предупрежу вас заранее!
— Пожалуйста, — отозвался он. — Ты же знаешь, что я не буду против. Ты мне очень помогла, я, естественно, не собираюсь ограничиваться устной благодарностью. Располагай собой, как считаешь нужным. В случае чего, с разводом проблем не будет.
Сказала ли она «хорошо» или ему только показалось, Андрей точно не помнил. Погода начала портиться, и вечер обещал быть мерзким. Настя с ее чувствительностью к перемене погоды опять будет плакать, а его угораздило увлечься легкомысленной молодой девчонкой и даже поверить в искренность и серьезность своего увлечения. «Хорошо, что я не успел выложить ей всю ту чушь, которую собирался. Выглядел бы сейчас полным идиотом! — подумал он, искоса глядя на болтающиеся где-то на уровне его локтя белые песцовые «уши». — Хорошая девочка. Только маленькая еще и глупая. Не для меня».
* * *
Газета «Из рук в руки» была сегодняшняя и приятно пахла типографской краской. Наташа рассматривала фотографии предлагающихся к продаже собак и кошек, выбирая, кого именно заведет, когда у нее будет своя квартира и своя настоящая семья. Больше всего ей нравились «мультяшные» черно-белые далматинцы, ну еще смешные вислоухие коты, стоящие баснословно дорого. После рубрики с котами сразу шел раздел «Другие животные», где продавались козы, жеребцы, обезьяны и черепахи. Читать стало неинтересно. Она вздохнула и, пролистнув изрядное количество страниц, приступила к изучению рубрики «Брачные сообщения».
Андрей еще не вернулся со своей новой работы. Настя, как обычно после сытного ужина, мирно дрыхла. Настроение у Наташи было скверное. Брачные сообщения попадались самые разные: откровенно глупые, смешные и такие, от которых становилось грустно. Какой-то семидесятилетний дедушка искал бабушку, чтобы вместе дожить оставшиеся годы. Инвалид детства, прикованный к коляске, хотел встретить женщину со схожими проблемами. Но смешных, конечно, было больше. Двадцатилетний парень, работающий завскладом, гордо сообщал многотысячной читательской аудитории, что у него «темный волос». Примерно его ровесник признавался, что «ахнет», встретив голубоглазую красотку с пышным бюстом. Иногда прикалывались сотрудники редакции. Следом за объявлением, гласившим, что некий гражданин «сгорит от страсти» в обществе молодой, привлекательной от 23 до 26, шло сообщение, начинающееся словами: «Пожарный на пенсии 52/165/75 желает познакомиться с милой женщиной средних лет…»
Наташе казалось странным, что столько умных, обеспеченных, хорошо образованных и красивых людей никак не могут найти себе пару. Конечно, она воспринимала эти объявления с большой оглядкой и все-таки, если верить словесным портретам, большинство женщин, надеющихся встретить спутника жизни, должны были как сестренки-близняшки походить на Оксану. Почти все заверяли потенциальных женихов в том, что обладают роскошными светлыми волосами, синими глазами, тонкой талией и длинными ногами. Все они были «Оксанами» с несложившейся почему-то личной жизнью…
Наташа отложила газету и встала из-за стола. Ей вдруг ужасно захотелось увидеть лицо той женщины, из-за которой она, собственно, сейчас и копалась в объявлениях, женщины, которую она так и не смогла вытеснить из памяти Андрея. В общем-то на это с самого начала смешно было и глупо рассчитывать. И полтора месяца, проведенных в его квартире, с успехом это доказали. В гостиной было темно. Наташа зажгла свет и подошла к секретеру. Фотография Оксаны лежала на прежнем месте, между листов общей тетрадки в клеточку. Она несколько секунд подержала ее в руке, неприязненно вглядываясь в красивое, породистое лицо с чуть прищуренными глазами, потом положила на место и быстро вышла из комнаты.
Дальше тянуть время было глупо. Из шести длинных столбцов объявлений Наташа выбрала одно, сообщавшее, что «мужчина 28/175/65, привлекательной внешности, с высшим образованием, жилищно и материально обеспеченный, желает познакомиться для создания семьи с обаятельной молодой женщиной». Она быстро черкнула письмо в полстранички и запечатала его в конверт. Ей хотелось решить все как можно быстрее, но этика знакомств по переписке требовала скромных реверансов и соблюдения некоторой осторожности. Поэтому встречу, теперь уже только в ответном письме, должен был назначить таинственный мистер Икс с высшим образованием и привлекательной внешностью…
В условленный день погода резко испортилась. Не то чтобы стало холоднее, просто из серых, грязных облаков сочилась холодная влага. Наташа поехала на встречу у кинотеатра «Россия» в куртке с опушкой на капюшоне, длинной шерстяной юбке с глубокими разрезами по бокам и ботиночках на толстой подошве. Сидя в теплом вагоне поезда метро, она думала о мужчине, которого ей предстоит увидеть. Наверняка он будет в черном кашемировом пальто с белым кашне. Еще она думала о свежем морковном соке для Настеньки, который Андрей может и не найти в холодильнике, о том, что Потемкин, отпустивший ее так легко и равнодушно, ее отсутствие все же заметит, хотя бы из-за того, что заботиться о дочери придется самому. Что ж, второй раз в жизни она поступает как по-настоящему сильная женщина, сама делающая свою судьбу, и, может быть, впервые не совершает при этом ошибки…
«Мистер Икс» стоял возле киоска «Печать» с толстым журналом в пестрой обложке в руках. Наташа сразу его вычислила, хотя ожидала увидеть что-то совсем другое.
На нем действительно было черное кашемировое пальто, неплохо сшитое, но почему-то делающее его похожим на неуклюжего тролля из какой-нибудь немецкой сказки. Кашне белым бинтом обвивало шею. Над темными тупоносыми ботинками нависали серые брюки… Прочитав письмо и узнав, что «мистер Икс», дабы его ни с кем не перепутали, будет держать в руках журнал в яркой обложке, Наташка почему-то представила себе «Плейбой», «Андрей» или на худой конец «Огонек», но уж никак не «Науку и жизнь», причем старый номер. «Мистер Икс» то сворачивал его в трубочку, то начинал нервно похлопывать им по ладони и все время оглядывался по сторонам. Волосы у него были светлые, есенинскими волнами приоткрывающие круглый лоб. Глаза, вероятно, серые или голубые. Впрочем, на расстоянии разглядеть все досконально оказалось невозможным. Так или иначе, но ее потенциальный жених ничуть не был похож на Андрея…
Первым ее желанием было потихоньку спуститься обратно в метро и уехать, ни к кому не подходить и ни с кем не знакомиться. Но она представила, как этот «кашемировый» дядечка, напоминающий актера студенческого театра, пародирующего «новых русских», будет стоять здесь еще десять минут, и еще десять… Холодный дождь постепенно превратит его пальто в грязную намокшую губку, белое кашне — в портянку, а настроение — в гремучую смесь раздражения, обиды и разочарования. Люди, выбирающиеся на поверхность из перехода, будут смотреть на него недоуменно и с жалостью. Дело даже не в том, что он будет мысленно ругать ее последними словами…
Наташа, как пелерину на мантии принцессы, расправила на плечах капюшон, и слегка взбила пальцами волосы.
— Здравствуйте. — Она подошла к нему и остановилась, спрятав руки в карманы куртки. — Вы, наверное, ждете меня? Я — Наташа. Извините, что немного опоздала…
Он посмотрел на нее удивленно-счастливым взглядом.
— Здравствуйте. Мне очень приятно… Валерий. Валерий Лучников.
Его глазки изучали ее с настолько откровенной радостью, что Наташке даже стало неприятно. Она прекрасно помнила строки своего письма: «Внешность обычная, средняя. Хотела бы встретить человека, для которого это не главное, и который ищет прежде всего духовной близости и поддержки». Вообще-то это было нечестно по всем пунктам. Во-первых, она хотела встретить человека, который не ищет, а хочет оказать духовную поддержку. Во-вторых, она никогда не считала себя дурнушкой, разве что по сравнению с божественной Оксаной. А в-третьих, эти строчки писались словно бы с расчетом на то, что за спиной стоит Андрей и все читает.
— Очень приятно, Валера, — произнесла Наташа и быстрым движением завела прядь мокрых волос за ухо. Он проводил взглядом ее пальцы, потом смущенно переложил журнал из одной руки в другую.
— Ну что же, — «мистер Икс», лишенный маски, явно чувствовал себя неловко, — наверное, нам надо куда-нибудь пойти поговорить? Может быть, зайдем в «Макдональдс»?
— Давайте, — быстро согласилась она.
Пока они шли от «России» до «Макдональдса», Наташка думала только об одном: если в этот раз ничего не получится, больше знакомиться подобным образом она никогда не будет. Постыдно и унизительно встречаться с мужчиной, прочитавшим твое сумбурное послание, которое с легкостью можно заменить одной красной вопящей строчкой: «Возьмите меня замуж!» О чем думал Валера, догадаться тоже было несложно, как бы нескромно эта догадка ни выглядела. Он определенно ожидал увидеть нечто коротконогое, бесфигурное, с крашеными волосами и прыщавым толстым лицом и теперь радовался тому, что ему повезло, что с такой девушкой идти по улице не стыдно, и что, может быть, в самом деле, на этот раз что-нибудь получится…
— Валера, — спросила она, — а кто вы по специальности?
— Я окончил МГУ. Сейчас работаю в риэлторской фирме: купля-продажа квартир, сдача в наем.
В «Макдональдсе» потенциальный жених заказал гамбургеры, картошку фри и фанту. И еще два пирожка с ягодной начинкой. Народу в заведении было немного, и никто не маячил за спиной, нетерпеливо ожидая, когда же освободится столик. Мальчики и девочки в красных униформах неслышно, как привидения, сновали по залу, пахло свежей выпечкой.
— Простите, Наташа, я могу спросить, почему вы выбрали именно мое объявление? — Валера покончил с картошкой фри и приступил к гамбургеру. — Нет, я, конечно, очень этому рад, но все же интересно…
— Ну потому, что оно было самое невычурное, что ли. — Она отложила недоеденный пирожок. — Мне, вообще, не нравится, когда подобные объявления пишут в стихах или с призывами типа: «Отзовись, моя ненаглядная!»
«Мистер Икс» недоуменно приподнял брови, а Наташа покраснела. Надо же было сморозить такую глупость! Сразу создается ощущение, что она каждый божий день покупает газетку и внимательно штудирует раздел брачных объявлений. Он сочтет ее полной идиоткой и будет прав. Но Валера не захотел поставить ее в неловкое положение, деликатно прокашлявшись, как ни в чем не бывало продолжал разговор:
— Вам, наверное, в таком случае должна нравиться классическая музыка — Моцарт, Бах? Мы могли бы, наверное, с вами сходить на какой-нибудь концерт? Если, конечно…
Наташа мгновенно представила, как они сидят в огромном зале среди сотен других зрителей, как этот ее Валера внимает музыке. На них обязательно будут смотреть, как на молодую и интеллигентную супружескую чету. Он сделает какое-нибудь тонкое и оригинальное замечание по поводу игры пианиста, блеснув при этом познаниями. Она кивнет согласно, как и подобает жене, несомненно, талантливого ученого. Если…
— А что вы имели в виду под словом «если»? — в упор спросила Наташа. — Если мы понравимся друг другу? Так ведь? Мы ведь пришли сюда друг к другу присмотреться? Так давайте говорить о музыке, о поэзии, о художниках-импрессионистах! Давайте проверять культурный уровень друг друга. Все равно говорить нам больше не о чем. Да и, положа руку на сердце, ведь не хочется, Валера? Правда?
Она хотела сказать, что и ей не хочется, но произнести вслух не решилась. Надеялась, что этот (как там его? Лучников?) сам догадается. Поймет и сделает так, чтобы вся эта унизительная процедура поскорее закончилась. Впрочем, что он может сделать? Сказать: «Ну, если вам со мной скучно…»? А потом встать и уйти, оставив на столе подносы с недоеденными слоеными пирожками и пакетиками из-под кетчупа? Но если ей так уж плохо и неловко, то почему так же плохо и неловко должно быть ему?
Валера густо покраснел, как умеют краснеть только блондины, потом зачем-то отодвинул свой поднос на самый край стола и произнес, глядя ей прямо в глаза:
— Мне хочется с вами говорить. И вы мне очень нравитесь, Наташа. Без всяких «если»… Особенно после того, как вы это сказали… Черт возьми, как все-таки здорово, что вы это сказали!
— Я замужем, — ответила она с нелепым вызовом, чувствуя, как он ласкает несмелым и надеющимся взглядом ее губы, ее скулы, ее все еще мокрые волосы. — Я воспитываю ребенка моего мужа. Я наверняка не ваш идеал. Кроме того, у меня всего лишь среднее медицинское и нет собственной жилплощади!
— Это ничего. То есть, это совсем не важно!.. Почему вы решили, что вы не мой идеал? Может быть, как раз напротив?
«Господи, ну, почему, почему, я не нарвалась на сантехника Васю Сидорова, от которого можно было бы сейчас уйти без проблем? — подумала Наташа с раздражением. — Или на мужчину, которому бы я просто не понравилась? А, впрочем, чего ты, собственно, дура, дергаешься? Ты что, планировала отыскать по объявлению неземную любовь? Ты хотела выйти замуж, чтобы уйти от Андрея и иметь возможность гордо говорить: «Я вышла замуж, вы должны… Я вас прошу меня оставить!» Если, конечно, наивно предположить, что он будет иметь какие-то претензии! Вот и получает интеллигентного молодого человека, который хочет найти жену, которому ты нравишься. Без сомнения, он хоть завтра поведет тебя в загс. Если сейчас давать задний ход, зачем было все это затевать?»
— Вы мне очень нравитесь, Наташа, — повторил Валера, все еще пурпурно-красный, видимо, изумляясь собственной решимости. — И я бы хотел называть вас на «ты»…
— А поцеловать меня вы бы не хотели? — спросила она, глядя на него в упор. — Мы ведь, собственно, встретились в расчете найти спутника жизни! Я вам нравлюсь, так почему бы нам не поцеловаться?
Он обвел глазами зал и, наверное, покраснел бы еще больше, если бы это было возможно. Господи, каким ей казалось убогим сейчас и его модное пальто, и белое кашне с претензией на элегантность, и этот его неуверенный, стыдливый мужской интерес. Он ведь мужчина, как и Андрей! Значит, ему свойственны нормальные мужские желания. Наверняка у него были женщины. По действующим стандартам, он довольно симпатичный, да еще с образованием, да еще с квартирой! А ею увлекся, что называется, с первого взгляда! Чем не романтическая история? Чем не кандидат в мужья? Особенно если учесть народную мудрость, гласящую, что женщина будет счастлива только при условии, что мужчина любит. А самой любить вовсе не обязательно. И вообще, если один из партнеров любит на 99 процентов, то другому остается только один! Не важно любить, важно быть любимой!
— Валера, вы хотите на мне жениться? — снова спросила она, решив окончательно добить его своей прямотой.
— Да, — после секундной паузы ответил он, и глаза его тут же расширились от ужаса.
— Но вы же знакомы со мной всего час?
— Это неважно. Я понимаю, что вы просто нервничаете так же, как и я, что вам так же неловко. А, вообще, вы замечательная, умная и красивая девушка.
— Вас не смущает, что я веду себя так вульгарно?
— Я хочу вас поцеловать, — ни с того, ни с сего произнес он, сделав акцент на слове «хочу», и коснулся ее руки неуверенными, неловкими пальцами.
«Господи, у него еще и замедленная реакция!» — подумала Наташа с отчаянием, разглядывая его скорее не мужскую, а детскую руку с аккуратно подстриженными ногтями. — Ну и пусть! Какая разница кто, если это не Андрей?»
Она встала из-за стола, аккуратно сложив вчетверо обертку от гамбургера, демонстративно допила фанту и сказала:
— Тогда поехали!
— Куда? — не понял Валера.
— Домой к вам. Куда же еще? — Наташа с фальшивым и нервным недоумением пожала плечами. — Вы сказали, что женитесь на мне. Вы хотите меня поцеловать. Так не здесь же, в самом деле? Зачем тянуть?
Он нащупал рядом свой «спасительный» журнал, перелистнул мгновенным «веером» страницы и, опустив голову, вздохнул:
— Наташа, у вас, видимо, что-то случилось в жизни, да? Вам, наверное, плохо, и поэтому…
Ей вдруг стало так стыдно, что еще сильнее захотелось заплакать. Стало стыдно и жалко этого, наверное, неплохого парня, который виноват только в том, что нарвался на глупую истеричку. Но одновременно захотелось, чтобы он не чувствовал себя обманутым и обиженным. Да и к тому же, какая разница, кто, если не Андрей?
— Нет, Валера, я прекрасно понимаю, что делаю. Вы мне нравитесь. И, пожалуйста, не надо больше ни о чем спрашивать…
— Вы не пожалеете? — спросил он, поднимаясь.
— Нет, — покачала она головой и первой направилась к выходу…
До «Полежаевской» доехали на такси. Валера жил в новой девятиэтажке недалеко от станции метро. Выйдя из машины, Наташа взглянула на ровные, тянущиеся вверх ряды застекленных лоджий и подумала, что у него в квартире тоже наверняка такая лоджия. Порядок на ней, конечно, идеальный. Никаких там старых табуреток и ненужных коробок. А дома он ходит в качественных шерстяных трико и джемпере с треугольным вырезом.
В общем, все совпало. Кроме, пожалуй, трико. Лучников не стал переодеваться, а джемпер с рельефными зигзагами был у него под пальто.
— Проходи, пожалуйста, в комнату, — сказал он, снимая с нее куртку. Здесь, на своей территории, он перешел на «ты». — Я сейчас, на секундочку.
Наташа кивнула, пригладила волосы и взглянула на себя в зеркало в прихожей. Глаза у нее сейчас стали безумными и огромными, ну просто как у кошки, брошенной в море. В зеркале отразился торопливо удаляющийся на кухню Валера, она секунду помедлила, а потом решительно отлепилась от зеркала и вошла в комнату.
Лучников появился после того, как прожурчала вода в туалете, прогромыхали трубы в ванной и жалобно звякнуло что-то на кухне. В руках он держал два бокала и бутылку вина. Марку Наташа не разглядела, да ее она и не особенно интересовала. На бокалах, только что ополоснутых водой, застыли мелкие брызги. Она представила, как они будут целоваться при свете, с мучительной ясностью отмечая все неровности, шероховатости и пятнышки на лицах друг друга. Потом разденутся и лягут в постель, и на стуле останется висеть ее черный лифчик с маленьким атласным бантиком. И как вообще можно ложиться в постель, предварительно договорившись об этом? Что, просто вот так лечь и раздвинуть пошире ноги? Или повернуться лицом друг к другу и по команде «три-четыре» продолжить обмен поцелуями?
— Выпьем вина? — спросил Валера, присаживаясь рядом с ней на диван. Он произнес это неуверенно, как, впрочем, и все, что говорил в последнее время. А глаза его в этот момент тревожно вглядывались в ее лицо, пытаясь прочитать в нем объяснение происходящему. Она вдруг заметила, что губы у него нежно-розовые, как у пластмассового пупса, и местами обветренные. Наверное, ее «будущий супруг» имел детскую привычку облизывать их языком на ветру. Может быть, он поцелует ее и тоже оближется? Скорее бы уже, скорее бы все кончилось!
— Задерни шторы, пожалуйста, — попросила она, чувствуя, что голосовые связки отказываются повиноваться. Лучников вздрогнул.
— Понимаешь, — развел он руками, — у меня только тюлевые гардины, темнее все равно не станет.
— Тогда не надо. Тогда давай вина…
Пробка поддалась с трудом. Валера долго возился со штопором, покраснел от натуги, как верхнее окошечко светофора. Наташа смотрела на него и думала о том, что все очень глупо. Что потом, если, конечно, у них будет это самое «потом», им будет стыдно вспоминать сегодняшний день. Все должно быть не так. Не так, как у них, не так, как у Олеси с Вадимом в больничном душе. А как?..
Пробка наконец выскочила, разломившись пополам. Лучников покраснел еще сильнее и разлил вино по бокалам. Они выпили, не чокаясь, не глядя друг на друга и не произнеся ни слова. Да и говорить было не о чем. Что мог сказать ей Валера? «Я люблю тебя»? Это прозвучало бы глупо и наверняка было бы враньем. «Я хочу тебя»? — еще глупее и неестественнее. Наверное, он тоже подумал об этом. Потому что просто приблизил свое напряженное лицо к ее лицу и неуклюже обнял за плечи. Наташа покорно подвинулась, раскрывая навстречу ему губы. Почувствовала, как он нервно и торопливо пытается раздвинуть ее зубы языком, как поглаживает ладонью спину. А изо рта у него пахло карамельками. Так всегда пахло от Вики Наумовой, девушки из их поселка, жившей когда-то по соседству, а потом уехавшей в город и там вышедшей замуж за «нового русского». Она была старше Наташи всего на три или четыре года, но казалась сейчас совсем взрослой и даже не особенно молодой женщиной. К родителям в гости она всегда приезжала без мужа, а на прежний запах карамелек наслаивался аромат дорогих духов. В поселке до сих пор жил парень, с которым Вика когда-то встречалась. Она приезжала не только к родителям, но и к нему… Наташа однажды слышала, как бабы судачили: «Вот Вика странная какая! Ладно бы говорила, что с мужем живет по долгу или по расчету, а Серегу любит. Так нет же: говорит, мужа люблю, а к Сереге — животная страсть! Естественно, выдвигались стандартные версии, что любит она вовсе не мужа, а четырехкомнатную квартиру с дорогой бытовой техникой и гардеробом, полным платьев и шуб, что честная женщина давно бы развелась. Сейчас же, вдыхая сладкий карамельный запах и чувствуя в своем рту скользкий чужой язык, Наташа поняла, что нельзя, невозможно спать с одним мужчиной, если любишь другого! Потому что без любви все грязно и мелко, потому что если есть любовь, все остальное неважно. Просто нет тогда всего остального! А если остается еще какое-то левое «животное влечение», то с другим человеком — это что угодно, но только не любовь…
Наташа резко дернула головой, отстраняясь от его губ, отодвинулась в угол дивана и заговорила быстро, торопливо, сбивчиво:
— Валера, прости меня, пожалуйста! Я в самом деле мерзкая и гадкая. Я не рисуюсь, это правда… В общем, я не могу. Не могу, и все. Я люблю другого человека. Он меня не любит, нет! Ты только не подумай, что я таким способом хотела кому-то отомстить. Ты хороший, умный, добрый. Тебе просто не повезло, что попалась такая, как я… Прости меня, пожалуйста! Я пойду, ладно?
Он растерянно кивнул, зачем-то взял свой бокал, взглянул на него удивленно и поставил на место. Его волосы смешно растрепались, а глаза сейчас были, как никогда, похожи на глаза беззащитного пастушка Иванушки. Наташа встала и бегом кинулась к двери. Она уже знала, что приедет сейчас в дом, из которого вечером уйдет навсегда, подойдет к Андрею и скажет, что любит его бесконечно, но мучить своим присутствием больше не будет. А еще попросит прощения за то, что ненавидела Оксану, и за то, что мысленно называла его влюбленным идиотом, придумавшим себе страдания и не желающим видеть, кроме них, ничего вокруг. Она скажет ему, что он имеет право на свою любовь, и никто не может, не должен заставлять его жить по-другому…
Когда она уже надевала куртку, сзади послышались шаги.
— А может быть, ты все-таки останешься? — Валера стоял в дверях комнаты, упираясь одной рукой в косяк, а другую безвольно уронив. — Нет, я не в этом смысле… Мы могли бы просто посидеть вдвоем. Или, еще лучше, сходить куда-нибудь. Если хочешь, расскажи мне, что у тебя случилось… Останься!
— Я не могу. Мне нельзя остаться, — сказала Наташа и захлопнула за собой входную дверь.
* * *
Ее нет уже два часа, а она сказала, что вернется к вечернему кормлению. Впрочем, какая разница? С приготовлением смеси он прекрасно справится и сам. Кроме того, Настенька уже большая и вполне можно приглашать к ней приходящую няню. Нет, Наташа пусть, конечно, живет здесь, сколько захочет. И, вообще, какие могут основания для обиды? Она имеет право на личную жизнь — красивая, обаятельная, молодая. Почему она должна сидеть целыми днями в квартире, как приклеенная, и без того уже сделав для него и ребенка столько, что ему не расплатиться за всю жизнь?.. Надо было в самом деле жениться на Алке. Тогда бы никаких проблем вообще не было ни у кого. Сейчас в шифоньере висели бы Алкины платья, у порога валялись Алкины тапочки, а сама она наверняка стояла бы у плиты, как обычно разведя ступни чуть ли не по первой балетной позиции, спокойная, довольная жизнью…
Андрей осторожно, стараясь не шуметь и не тревожить спящую в кроватке Настеньку, встал из кресла и подошел к окну. На подоконнике лежала Наташина заколка для волос, коричневая, «под дерево», с блестящей пряжечкой посредине. Он взял ее тремя пальцами, щелкнул несколько раз автоматическим зажимом и снова положил на место. Сегодня она ушла, не заколов хвоста, как обычно, а свободно распустив волосы по плечам. Ему в последнее время очень нравилось смотреть на эти матово поблескивающие пряди, на изящную, как у балерины, шейку, когда Наташа вдруг решала подобрать волосы в высокий валик. Нравилось смотреть, как она мелко, точно птаха крыльями, взмахивает мокрыми после стирки руками, стряхивая с них капли воды. Ему вообще нравилось смотреть на нее, слышать ее шепот и тихий смех, когда она наклонялась над кроваткой Настеньки.
Ему нравилось смотреть на нее, думать о ней. Он вспомнил, как где-то читал о знаменитом путешественнике, который, отправляясь в очередное странствие, брал с собой самую некрасивую женщину, какую только мог найти. Когда эта женщина начинала казаться ему привлекательной, он понимал, что пора возвращаться домой. А Андрей просто заехал в гости к одной старой доброй подружке, с которой много лет был знаком еще до Оксаны. Подружка не изменилась, и ничего не изменилось вообще. Все было так же легко, просто и неотягощено взаимными обязательствами. Вот только на душе у него не было так дерьмово, наверное, с того дня, как ушла Оксана.
Накануне по дороге домой он выпил баночку водки. Можно сказать, для храбрости, потому что решил больше не откладывать и поговорить с Наташей. Объясниться с ней, что ли. Когда он вошел в комнату, она сидела в кресле с книжкой: ноги под себя, острые коленки торчат, глаза сощурены. Услышав скрип двери, стремительно вскочила, словно пружинка, и быстро заговорила:
— Андрей, в ванной нестираные пеленки, вы не обращайте, пожалуйста, внимания. Они замачиваются с детским мылом. Через пять минут иду стирать!
Глазищи огромные, тревожные, будто хочет подать ему какой-то знак или, наоборот, разглядеть что-то в его лице, и не может. Он молча кивнул и ушел в гостиную…
А сегодня днем она ушла. Объяснила, что у нее встреча. Как-никак жена, обязана отчитываться! Он хотел улыбнуться, пожелать удачи, но не получилось. Ему не хотелось думать о том, кто вечером, возможно, будет целовать ее темные губы, о том, кто может запросто коснуться ее руки, легкой и воздушной, как веточка весеннего дерева. Он убеждал себя, что будет лучше, если она уйдет из его жизни. По крайней мере, спокойнее. Останется Настенька, останется фотография Оксаны…
Он стоял у окна, задумчиво изучал коричневую заколку с золотой пряжечкой и думал о том, что еще все вещи Наташи здесь, будто она никуда и не уходила, что она придет и все будет по-прежнему. В какой-то момент понял: не будет! Он представил себе пустой крючок вешалки в прихожей, где нет ни ее курточки, ни пальто, кресло, в которое она никогда уже не заберется с ногами, пустой подоконник, с которого заберет заколку. Наверное, это будет последняя вещь, которую Наташа бросит в сумку. Встанет посреди комнаты, окинет ее быстрым взглядом, посмотрит на подоконник, подойдет…
Наверное, так животные чувствуют приближение землетрясения или извержения вулкана. Андрей вдруг ясно, безошибочно, больно понял, что процесс уже пошел, что его жизнь в очередной раз рушится именно сейчас. Наташа уходит, уже ушла, хотя формально она еще здесь. Можно внушать себе что угодно, объяснять происходящее и физиологией, и психологией одинокого мужчины, и еще черт знает чем! Но если ее не удержать, не найти прямо сейчас, сию секунду, то все сломается, и уже навсегда. Наверное, жить без нее будет возможно, только вот зачем? «Я ее люблю? — спросил он сам себя удивленно. — Нет, не может этого быть! Есть Оксана, есть Настя, и никто больше мне не нужен… Неужели я люблю ее?»
Заколка хрустнула под пальцами, и металлическая планочка, перевернувшись в воздухе, отлетела в угол. Андрей зашвырнул оставшуюся в ладони бесполезную «деревяшку» в кресло и, взглянув на спящую Настеньку, вышел из квартиры.
К счастью, Серафима Викторовна оказалась дома. Он без предисловий стал уговаривать ее помочь ему. Соседка некоторое время задумчиво жевала нижнюю губу вставными зубами, потом кивнула и тут же предупреждающе развела руками, как бы пресекая его преждевременную радость:
— Посидеть с малышкой я, конечно, могу, — Серафима Викторовна выглядела настолько важной, будто собиралась подписывать важный международный договор, — но есть одна проблема. Даже не одна, а две! Во-первых, мне надо сходить в магазин за фруктами и молоком, а во-вторых, у меня на плите варится холодец, так что из квартиры я отлучаться не могу…
— Может быть, вы возьмете Настеньку к себе, в коляске? — неуверенно предложил Андрей.
— Возьму, — как ни странно, охотно согласилась Серафима Викторовна. — Только вот как же фрукты и молоко?
Он не стал уточнять, как же она собиралась идти в магазин, оставляя на плите беспризорный холодец. Пообещал, что все купит и принесет ей. Пока переехали в соседнюю квартиру вместе с коляской, пеленками, запасными подгузниками и бутылочками, прошло еще полчаса. На улицу Андрей вышел в половине восьмого. Наверное, если бы его спросили, зачем он это делает, он не смог бы связно объяснить. Он не знал, куда поехала Наташа, не предполагал даже, где ее искать. Слонялся, как маятник, у выхода из метро, желая одного — увидеть ее как можно раньше.
Когда за стеклянными дверями мелькнула знакомая курточка, Андрей вздрогнул от неожиданности. Он не ждал Наташу так скоро и, честно говоря, боялся, что она не вернется вообще. Но это была она. Она смотрела мимо него на шоссе, по которому неслись автомобили и, лязгая металлом, катились трамваи. Андрей бросился навстречу, задев плечом и чуть не сбив с ног продавщицу газет. Извинился, поддержал зашатавшийся раскладной столик. Снова отыскал Наташу глазами в толпе. Но она уже заметила его, вскинула вверх руки и выдохнула: «Андрей!»
— Наташка, — произнес он торопливо, обнимая ее за плечи и привлекая к себе, — только не говори ничего, ладно? Давай я сейчас скажу? Мне давно надо было объяснить, но я сам не знал до конца…
— И я не знала, ничего не знала. — Она наморщила лоб. — Я только сегодня поняла, когда ушла, как я люблю тебя… Я ведь тогда возле больницы сказала тебе правду. Потом соврала, чтобы ты не думал… чтобы не смеялся…
И он вдруг с каким-то даже ужасом понял, что смеяться ему сейчас хочется больше всего на свете. Смеяться, зарывшись лицом в ее мокрые, пахнущие дождем и снегом волосы. Смеяться, легко и счастливо, целуя пушистые кисточки ее ресниц.
— Я уйду сегодня, потому что это все неправильно, потому что Оксана, потому что… — шептала она, захлебываясь собственными словами и неотрывно глядя ему в глаза. А он говорил только: «Нет, нет, нет!» — и целовал ее щеки, виски, брови. Они стояли на самом оживленном пятачке, и на их спины то и дело кто-то налетал. И даже: «Я тебя люблю, правда, люблю» — Андрей произнес в тот момент, когда дама неопределенного возраста ткнулась в них с разбегу всей массой своего тяжеленного корпуса. Наташа ахнула, а дама завопила:
— Нет, ну надо же! Она еще и ахает. Встали посреди дороги и ахают! На эскалаторе нельзя спокойно проехать: положат головы друг другу на плечи, как лошади, и стоят лижутся! Господи, да что же это такое творится?
Потом они, обнявшись, шли к дому и останавливались ежесекундно, чтобы поцеловаться. До подъезда добирались, наверное, не меньше получаса… Войдя в квартиру, они упали на маленький диванчик в гостиной. И были ее пальцы, нежно и изучающе скользящие по его лицу, и черные стрелочки ее бровей, и ее губы, оказывается, такие ласковые! Наташа была нежная и податливая, чувствующая, угадывающая его, как никто другой. Только один раз слишком сильно стиснула его своими ногами, только один раз рванулась куда-то вверх с громким стоном. И тут же снова приникла к нему, тихая и счастливая.
— Ты моя жена, — задумчиво произнес Андрей, когда все кончилось. — Ты правда моя жена. Мне даже не нужно делать тебе предложения. Я вообще могу отправить тебя на кухню варить борщ… Странно, правда?
Она перевернулась на живот и подняла голову.
— Да, на самом деле странно… А хочешь, я кое-что скажу, чтобы ты поверил, что действительно только что… В общем, что только что целовал свою жену?
— Хочу, — он улыбнулся и провел указательным пальцем по ее позвоночнику.
— Ты не думай, что я тупая или бесчувственная. Просто я почему-то об этом все время думала, пока ехала домой. Ехала и думала, ехала и думала… Думала, что скажу тебе все, соберу вещи и уйду, но перед уходом надо было не забыть напомнить… Только не смейся, ладно? Я хотела спросить: ты дал Настеньке морковный сок?
Андрей расхохотался легко и счастливо, как не смеялся уже тысячу лет, а потом ткнулся лбом между ее острых, крылышками вздымающихся лопаток и прошептал прямо в ее теплую, узенькую спину:
— Хорошая моя девочка, как же я люблю тебя! Никуда ты не убежишь от меня. Никогда! Слышишь?..
Часть третья
Она потерла переносицу одновременно двумя указательными пальцами, как человек, за день уставший от очков, обреченно вздохнула и спросила:
— Ну и что ты от меня хочешь?
— Ты еще спрашиваешь? — Оксана в ярости врезала кулаком по стене. — Ты непонятно зачем соврала мне… Хотя нет, это как раз понятно! Вы с Потемкиным объединились против меня и действуете заодно. Только он мстит за то, что я его бросила, а ты за что? Надеешься таким образом добиться его расположения? Ну-ну, валяй! И вспоминай хоть иногда о том, что, даже расставшись со мной, он жить с тобой не стал, а нашел себе молоденькую шлюшку. Впрочем, твои эротические фантазии — это твое личное дело. А мне ты сейчас расскажешь все с самого начала, вот тогда я уйду…
Оксана раздражала Аллу, как назойливая крупная муха, не более того. Но даже обычная муха может испортить прекрасный день. Ей хотелось закрыться в ванной, включить воду на полную мощность, принять душ, а потом выйти и со счастливым изумлением обнаружить, что гостья не дождалась возвращения хозяйки. К сожалению, подобной роскоши позволить себе было нельзя. Поэтому она продолжала сторожевым псом, не пускающим чужака в квартиру, стоять у порога и слушать, как из совершенного темно-красного рта вылетают грубые и грязные слова, словно кровавые ошметки пены эпилептика во время приступа.
— Я жду! С самого начала! — выкрикнула Оксана, прислоняясь спиной к входной двери и всем своим видом демонстрируя полное нежелание трогаться с места.
— С Адама и Евы, что ли?.. Это, конечно, можно, но вряд ли мы до утра закончим. А если утром ты не выпустишь меня на работу, придется вызывать милицию.
— Перестань кривляться! Женщинам в твоем возрасте это уже не идет. А ты конкретно становишься похожа на клоуна из фильма ужасов. У них обычно красные глаза, а вокруг рта белым намалевано… Но лекцию на тему «До скольких лет можно подкрашивать глаза», я прочитаю как-нибудь в другой раз, а сейчас ты объяснишь мне, как получилось, что Андрей забрал моего ребенка?
Алла почувствовала, как в уголках, и в самом деле, уставших за день глаз начинает противно пощипывать: про краску для глаз Оксана напомнила вполне резонно, и от этого делалось еще обиднее. Накрасилась, хотелось казаться помоложе! Дура! Вот теперь стой и выслушивай насмешки молодой яростной стервы с персиковой кожей и гладкой длинной шеей!
— Я уже говорила, что это не твой ребенок. — Алла достала с полочки пачку сигарет и закурила здесь, в прихожей, наблюдая, как в сизых клубах дыма лицо Оксаны делается серым и расплывчатым.
— Не мой? А чей же, позволь спросить? Этой мокрощелки?.. Я, конечно, не педиатр и не воспитатель детского сада, но примерный возраст ребенка определить могу. Девочке полтора годика или чуть больше. Ты хочешь сказать, что Андрей спал еще и с другой женщиной, которая забеременела примерно в то же время, что и я?
— Тебе это кажется невозможным?
— Да, мне это кажется невозможным! — Оксана произнесла эту фразу, словно вбивая по острому гвоздю в каждое, только что сказанное Аллой слово. Алла взглянула на нее с иронией и осторожно выпустила изо рта струйку дыма. Наконец она снисходительно произнесла:
— Ты, конечно, очень красивая, но и очень глупая. А может быть, просто наивная? Во всяком случае, мне тебя жаль… Я знаю Андрея много лет, гораздо дольше, чем ты, и смею тебя заверить: он никогда не был монахом. Может быть, он искусно пускал пыль тебе в глаза, а может быть, ты сама себе придумала любовную идиллию. Во всяком случае, в том, что у Потемкина не могло быть внебрачных детей, никакой уверенности нет. Это я тебе по-дружески говорю.
— Ты? — Оксана отстранилась от двери и повела затекшими лопатками. — А кто ты, собственно, такая? Одна из многих баб, пытавшихся залезть к нему в постель! Я еще понимаю, если бы что-нибудь в этом духе попыталась заявить его нынешняя молодая шлюшечка, хотя в общем-то и она…
— Кстати, если тебе интересно: она уже не шлюшечка, а его законная жена Наташа…
— Наташа? — она брезгливо замахала перед лицом ладонью, пытаясь разогнать ставший слишком густым дым. — Ну да, точно, Наташа! Теперь я вспомнила. Кажется, медсестра из его отделения? Хотя это и неважно, и совсем неинтересно… Так вот, я, кажется, говорила о том, что такие заявления из твоих уст кажутся более чем неубедительными. Ты что, своим томным взглядом хотела намекнуть, что тоже спала с ним? Так, что ли? Можешь считать, что твой актерский дебют провален. Артист, играющий Гамлета, не может быть маленьким горбатым и лысым эфиопом…
— Но я спала с ним! Самое интересное, что в самом деле спала! Могу поклясться, — Алла хотела, чтобы это прозвучало спокойно и чуть высокомерно. Но помешала сигарета, некстати запрыгавшая в губах, и дым внезапно едко защипал горло. В результате она сорвалась на истеричный бабский выкрик, постыдный, унизительный, да еще и прерываемый судорожным кашлем. Оксана устремила на нее странный пристальный взгляд. Точно так же умел смотреть Андрей. Наверное, за время совместной жизни они успели приобрести общие манеры и привычки. Потом, тяжело взмахнув ресницами, сказала:
— Если женщине приходится клясться в том, что она спала с мужчиной, для того чтобы ей поверили, то это все — конец… Ладно, извини, что отняла у тебя время, я прекрасно разберусь во всем сама…
Позолоченная пряжка на ремешке ее сумочки блеснула мгновенной искоркой. Она исчезла за дверью. В прихожей остался сизый табачный дым, Аллу охватило чувство небывалого, немыслимого унижения.
Она прошла в комнату и села на пол, опершись спиной о жесткое сиденье дивана и вытянув перед собой ноги. Колени тут же прогнулись и «провалились» внутрь. Когда-то в молодости ей говорили, что такие ноги хороши для балерины, что, по балетным понятиям, «проваливающиеся» и выпирающие назад колени — это красиво. А сейчас над коленями толстыми складками нависала старая кожа, на икрах бугрились варикозные вены. Она сама была уже старой, не особенно красивой, а главное, никому, даже себе самой, не нужной.
Оксана ушла, плюнув ей в душу, и, как молодая кобылица, растоптала остатки хрупкого душевного равновесия. Она приехала крушить и разбивать. Сейчас наверняка поскачет в своих супермодных туфлях с ремешками на пятках в дом Андрея, чтобы довершить начатое. Ее сила в том, что она красивая и поэтому на самом деле может очень многое. А она ее не остановила, не переубедила… Алла поморщилась и пошевелила пальцами на ногах, отекшими от жары. В общем-то, если быть до конца честной, ей не очень и хотелось ее останавливать. Что спасать? Кого защищать? Эту девочку Наташу, взявшуюся непонятно откуда и каким-то абсолютно немыслимым образом завладевшую Андреем? Девочку, явными достоинствами которой были только молодость и напористость? За ее счастье бороться, что ли? За сохранение их семьи? Естественно, ей не справиться с Оксаной, потому что она меркнет рядом с ней, как цветок картошки рядом с чайной розой. Пусть уж лучше Андрей достанется «чайной розе», чтобы «картошка» наконец-то поняла, что ей просто однажды в жизни повезло. Повезло, только и всего! Что она тоже не заслужила его, что она ничем не лучше остальных женщин, что она просто подвернулась ему под руку в удачный момент…
Алла еще могла смириться с тем, что Потемкин останется с Оксаной, но то, что он выберет какую-то другую, обычную, заурядную, которая ничем не лучше ее самой?.. Сознавать это было невыносимо. И теперь она даже радовалось новому, хотя и небезопасному обороту этой запутанной истории. Пусть эта медсестричка поймет, как непрочно, зыбко и незаслуженно все то, что ей удалось выстроить…
Алла поднялась с пола, добрела до телефона и неторопливо набрала номер. Ответили сразу, не успел еще раздаться и второй гудок.
— Да! — произнес Андрей. — Да, я вас слушаю. Говорите, не молчите!
И по тому, как он это сказал, как добавил нелепое и странное «не молчите», она поняла, что он уже в курсе происходящего. Возможно, они с Оксаной уже встретились:
— Алло, Андрей? Привет. Это я, Денисова. — Алла постаралась придать своему голосу спокойный будничный тон. — Я хотела тебе сказать, что твоя Оксана уже приехала. Она в Москве и сегодня была у меня.
— Я знаю, — сказал он, и голос его мгновенно утратил всю напряженность. — Вообще-то ты обещала предупредить заранее, а то как снег на голову.
— Между прочим, я тебе все рассказала сразу же после приезда ее мужа, и если ты не успел морально подготовиться, — это исключительно твои проблемы. Она появилась у меня только сегодня днем, и я просто при всем желании не могла… Кстати, она видела вашу девочку и теперь твердо уверена, что это — ее дочь. Фокус с детдомом не прошел.
— Я так и понял. — Андрей вздохнул, и она явственно представила, как подергивается сейчас край его правой брови. — Ладно, Алка, извини. Я просто что-то сильно разнервничался. Так неожиданно все! Мы с Наташей и Настенькой собирались съездить в Серебряный Бор, а тут она выходит из-за угла, как привидение… Ну, естественно, поездка сорвалась. Наташка закрылась в комнате, меня не пускает. Плачет, наверное. Жалко ее, а как успокоить, не знаю, вот и дергаюсь…
— Ну ничего, будем надеяться, что все у вас утрясется. Пока, — сказала Алла и повесила трубку. А про себя мстительно подумала: «Ага, из-за слез милой женщины ты такой наэлектризованный! Как же! Так я тебе и поверила!» На душе у Аллы по-прежнему было слякотно и мерзко. Но от сознания того, что этой чернявой медсестричке тоже несладко, становилось как-то легче…
* * *
Наташа никогда не думала, что такое простое занятие, как чистка картошки, может быть настолько обременительным и раздражающим. Нож постоянно проскальзывал, «глазки» не желали выковыриваться. Да еще маленькая Настенька крутилась рядом в своем новом платьице и тапочках с «барбосьими» мордами, воображала, кокетничала, наклоняя голову то к одному плечу, то к другому, и всячески мешала. То дергала ее за подол, то протискивалась между ней и столом, поднимая кверху умильную хитрую мордочку, то по-обезьяньи обвивала своими мягкими ручонками ее голую ногу. Очистки периодически падали не в раковину, а на пол, сама картошка плюхалась в кастрюлю с водой и поднимала фонтаны брызг. Хотелось бросить все, яростно отшвырнуть нож и уйти бродить по улицам. Наверное, Наташа так бы и поступила, если бы Настенька продолжала питаться из баночек и могла обойтись за ужином без картофельного пюре. Можно было бы быстренько накормить ее сейчас каким-нибудь «Гербером» или «Топ-Топом», переодеть в сарафан и увезти, например, в Серебряный Бор. Туда, куда они вчера так и не добрались. А Андрей нашел бы их к вечеру и забрал домой уже часов в десять. Когда вероятность того, что раздастся зловещий телефонный звонок, или из-за угла снова появится знакомый и ненавистный силуэт, сошла бы почти на нет. Со вчерашнего вечера она начала бояться телефона и чуть ли не на цыпочках проходила теперь мимо аппарата, словно мимо спящего зверя, опасаясь разбудить и рассердить его. Ей почему-то казалось, что если переждать, спрятаться, не столкнуться с Оксаной лицом к лицу, то ничего ужасного не произойдет. Ну не навсегда же эта женщина вернулась в Россию? Наверняка погостит и уедет обратно в свой Лондон! Главное, на время затаиться, и тогда все останется по-прежнему, и никто не отнимет у нее Андрея и Настеньку.
Когда в дверь позвонили, Наташа вздрогнула и уронила нож. Теоретически прийти мог кто угодно: Серафима Викторовна, Любка, распространитель ньювейсовской косметики, кто-то из друзей Андрея. Валера, кстати, обещал заскочить на днях! Тем более, что на пол упал нож, значит, появиться должен мужчина. Она очень хотела надеяться, но уже с тоскливым ужасом предчувствовала, что это то самое, чего она так боялась, от чего хотела убежать, скрыться…
— Мама Натаса, звонят! — радостно сообщила Настенька, дергая ее за подол халата. — Посему ты не отклываес? Папа плисел?
— Нет, не папа, — отрешенно произнесла Наташа, опускаясь перед дочкой на корточки. От ее темных кудрявых волос все еще пахло молочком. Она прижала Настю к себе, поддерживая ее под затылком, как поддерживала когда-то, когда она еще не держала головку, и поцеловала в висок. Девчушка пропищала, освобождаясь: «Фу, мама, луки моклые!» И рассмеялась.
В дверь позвонили второй раз. Она подняла с пола нож, закинула его в раковину и пошла открывать. На лестничной площадке стояла Оксана. От нее пахло теперь отнюдь не «Турбуленсом», а какими-то другими, незнакомыми и наверняка безумно дорогими духами. Она стояла в каких-нибудь десяти сантиметрах и улыбалась холодно и вежливо. На ней был белый пыльник с шелковыми кистями, под которым виднелось перламутрово-розовое платье, и белые босоножки со множеством перепоночек, поднимающихся от кончиков пальцев к щиколотке. Светлые волосы, едва достающие до плеч, словно светились изнутри. И Наташа с забытой уже тоской вновь поняла, что она умопомрачительно и недосягаемо красива.
— Здравствуйте, — сказала Оксана, не отводя от ее лица изучающих и чуть насмешливых глаз. — Вас, кажется, зовут Наташа?
— Да. — Она отступила от двери. — Но Андрея Станиславовича сейчас нет дома.
— Это ничего. Можно пройти?
Собственно, вопрос был задан скорее из вежливости. Оксана бы все равно зашла, даже если бы ее останавливали силой. Тем не менее, словно соблюдая правила светского этикета, дождалась, пока ее пригласят войти, и только тогда переступила через порог. Двигалась она непринужденно и чувствовала себя вполне уверенно. Наташа смотрела, как она снимает босоножки, как, не глядя, убирает их в полочку для обуви, как сразу находит зеркало и, не обращая на хозяйку ни малейшего внимания, начинает поправлять перед ним прическу. Короче, она вела себя здесь как хозяйка, уезжавшая, скажем, в длительную командировку. Теперь вернулась с намерением первым делом проверить, не напакостила ли без нее тут временная жиличка.
— А, кстати, где Андрей Станиславович? — Оксана легко и плавно обернулась. — Или, может быть, будем называть его Андреем? Насколько я понимаю, вам он — муж, а мне когда-то был жених. Так что так, наверное, будет проще?
— Андрей Станиславович на работе, — упрямо не желая опускать отчество, произнесла Наташа. — Будет не раньше чем через час…
— Значит, все-таки Андрей Станиславович? Ну, что ж, может быть, у вас в семье так принято… — Оксана улыбнулась, и в голосе ее прозвучала изысканно грустная и тщательно взвешенная ирония.
В квартире было тихо, раздавалось лишь тиканье настенных часов. Наташа порадовалась, что Настенька сидит как мышка и скорее всего увлеченно играет со своим любимым винтом от мясорубки, но тут из кухни донесся грохот, плеск воды и растерянный детский крик «ай!». Наверняка малышка дотянулась до края стола и уронила на пол чашку с соком. Наташа испуганно замерла лишь на секунду, а потом заговорила быстро, нарочито-громко, бестолково, судорожно тиская отвороты халатика, надеясь, что Оксана, может быть, не услышала, может быть, не обратила внимания, может быть, еще не поняла, что произошло. Конечно, это было глупо, потому что та явно знала про ребенка и, в конце концов, должна была заговорить о нем, но она все еще пыталась защититься.
— Вы знаете, Оксана, — Наташа замирала от страха и стыда, — у Андрея Станиславовича теперь новая работа. Он больше не работает в больничном городке. Ну там, где мы работали вместе. Вы ведь приходили туда, вы, наверное, меня помните? Так вот, он теперь заведует хирургическим отделением в частной клинике, у него большие перспективы и хорошая зарплата. К нему даже достаточно большая очередь. Его называют одним из самых талантливых молодых хирургов Москвы…
— Я очень рада, — Оксана прервала истеричный словесный поток мягким и каким-то кошачьим жестом, в котором была и незавершенность, и загадочность, и невообразимое изящество. — Я очень рада, что у вас все так хорошо складывается. Для молодой семьи это крайне важно. Кстати, возможно, вам будет интересно: я как-то очень давно в разговоре со старой подругой практически напророчила Андрею его будущее. Он работал рядовым хирургом, а мне очень хотелось добавить ему значительности, респектабельности, что ли. И я соврала, что он — завотделением частной клиники… Господи, как же это все было давно! — Она невесело усмехнулась. — Жаль, что я тогда не стала пророчествовать дальше. Сейчас бы, может быть, знала не только его, но и свою собственную судьбу.
Вроде бы Настиного вскрика она не услышала. Наверняка не услышала. Иначе выдала бы себя хоть чем-нибудь: тревожным взглядом, поворотом головы. Но Оксана по-прежнему казалась спокойной, чуть меланхоличной. Наташа вдруг подумала, что она разговаривает с ней как с доброй старой приятельницей. Не близкой подругой, а именно приятельницей, менее красивой, менее культурной, менее умной, к которой нужно снисходить и делать это как можно мягче, чтобы ненароком не обидеть. И эта ее очевидная снисходительность была оскорбительнее всего. Оксана не считала ее соперницей, просто никем: пустым местом, статисткой, фарфоровой куклой со стеклянными глазами, глупой, непонятливой и слишком приземленной супругой необыкновенного, одной ей принадлежащего мужчины.
Оксана сняла пыльник, холодно блеснувший белоснежными шелковыми кистями, свернула его пополам и легко бросила на полку в прихожей. Платье на ней, в самом деле, оказалось великолепное, перламутрово-розовое, обрисовывающее фигуру, но не облегающее ее, а только подчеркивающее и тонкую талию, и изгиб бедер, и классическую форму груди.
— Надеюсь, вы не слишком заняты сейчас, и я не отрываю вас от каких-нибудь важных дел? — Она улыбнулась тонко и очаровательно, коснувшись кончиками пальцев Наташиного плеча. Господи, как Наташе хотелось выставить эту божественную красавицу за дверь вместе со всей ее наигранной утонченностью и многозначительностью! Хотелось крикнуть ей в лицо, что она ушла из этого дома раз и навсегда и теперь не имеет права возвращаться, что она не нужна здесь никому, что ее здесь никто не ждет…
— Мне нужно успеть с ужином до прихода Андрея Станиславовича, поэтому я не уверена, что смогу быть интересной собеседницей, — объявила Наташа с некоторым вызовом.
— О! Это как раз не проблема, — Оксана махнула рукой. — Я вам помогу. Надеюсь, запасной фартук у вас найдется? Встанем вдвоем к столу… Насколько я помню, там было предостаточно места. Я, например, когда раньше здесь готовила, всегда клала рядом открытую книжку и по ходу готовки читала.
Предложение помочь с приготовлением ужина таило в себе скрытую насмешку. Но Наташу не трогали сейчас Оксанины саркастические изыски, она думала только о том, как бы не пропустить ее на кухню, где мирно возится маленькая Настенька.
— Проходите в гостиную, пожалуйста, — сказала она, стараясь унять дрожь в голосе. — Я постараюсь закончить побыстрее, и тогда мы сможем поговорить.
Оксана удивленно вскинула брови, затем пожала плечами и поинтересовалась:
— Вам что, неудобно принимать мою помощь? Не создавайте себе лишних проблем, я лично не вижу в совместном приготовлении ужина ничего зазорного ни для вас, ни для себя. Но я, конечно, не настаиваю и ни к чему вас не принуждаю… Если вы из-за ребенка, то это глупо вдвойне. В любом случае я ее увижу. Я ведь и пришла сюда исключительно из-за нее. Вас, наверное, научили заявлять, что это ваша родная дочь, да? Так вот, я обращаюсь к вам с предложением: мы обе — умные взрослые женщины, поэтому давайте беседовать цивилизованно. Я точно знаю, что это моя девочка, и для начала просто хотела бы с ней познакомиться.
Наташа почувствовала, как внутри у нее все мгновенно оборвалось. Андрей, в самом деле, учил ее, что надо все отрицать, что Оксана ничего твердо не знает и доказать ничего не сможет. Что в суд она не пойдет, потому что не сможет предъявить ничего, кроме собственных призрачных догадок. Что даже если она биологическая мать девочки, то прав на нее никаких не имеет, ни по закону, ни тем более моральных… Она откинула со лба волосы, вздохнула и сказала сухо и почти спокойно:
— Это ваша дочь. Я не собираюсь вас обманывать. Но вы имеете право только познакомиться с ней. Ни о чем другом и речи быть не может. Я вас не боюсь и наперед хочу сказать, что Настю вы не получите.
— Значит, ее зовут Настя! — Оксана задумчиво провела указательным пальцем по нижней губе. — Да, хорошее имя. Мне, во всяком случае, нравится гораздо больше, чем Катя. Наверняка это была идея Потемкина. Я права?.. Ну, ладно, я вижу, что вам этот разговор неприятен! Давайте пока займемся ужином, а потом снова побеседуем уже в более спокойной обстановке.
Она осталась такой же светской, невозмутимой и утонченной. Этой своей легкостью и нарочитой интеллигентностью подчеркивала, что не только к жене Андрея, но и к ее заявлениям серьезно не относится. И все же чувствовалась во всем этом явная фальшь, как душок в несвежей рыбе. Когда Наташа нащупала эту ускользающую тревожную ниточку, ей даже стало как-то полегче.
— Ну что ж, проходите, — она кивнула в сторону кухни. — Только не удивляйтесь, если Настенька заплачет. Она у нас боится незнакомых.
Оксана взяла с тумбочки пестрый пластиковый пакет и молча прошла мимо нее. Лишь стремительность ее движений да прикушенная нижняя губа свидетельствовали о том, что она все-таки волнуется. С кухни донеслись шорохи, потом детский голос произнес: «Тетя». Войдя, Наташа увидела, как Оксана присела на корточки и достает из пакета куклу-младенчика с толстыми кривыми ножками, круглым животиком и выбивающимися из-под кружевного чепчика кудрявыми светлыми волосиками. На кукле были надеты белоснежная распашонка и крошечный памперс. А еще она умела тихонько пищать настоящим детским голосом. Лица Оксаны Наташа не видела, а только ее руку, робко прикасающуюся к темным кудряшкам девочки, дрожащие пальцы Оксаны и ее плечи, напряженные, как крылья птицы, готовой вот-вот взлететь. Оксана лишь пару раз погладила девочку по головке, провела пальцем от лобика к пуговке носа, а потом развернулась и задала вопрос, в котором уже прозвучали человеческие нотки:
— Она совсем не похожа на меня, правда? Наверное, больше на Андрея? — В следующую секунду Оксана поднялась на ноги, одернула платье и улыбнулась с милой непосредственностью: — Ну вот мы и познакомились. Теперь можно приступать к приготовлению ужина. Мы заболтались, а Андрей может прийти уже совсем скоро. Кстати, это можно будет поставить на стол. — Она извлекла все из того же пакета высокую темную бутылку и несколько спелых персиков. — Испанский королевский «Мускат». Абсолютно классная вещь! Но его надо пить исключительно с фруктами. Мы, наверное, с него и начнем, правда?
Таков был ее план действий на ближайшее время. Своим неизменным «правда?» она, видимо, хотела подчеркнуть, что уважает правила игры и готова делать вид, что хозяйка в этом доме, и в самом деле, Наташа.
— Ну так что, будем готовить ужин?
— Я бы предпочла, чтобы вы отдохнули, — пожала плечами Наташа.
— Ну тогда я буду чистить картошку, — улыбнулась Оксана, устраиваясь возле раковины. — Во-первых, начищенной осталось совсем немного, а во-вторых, я вижу, что вы собрались готовить тушеную печенку, а у каждой женщины свои рецепты, неровен час, что-нибудь сделаю не так.
Настеньке вручили половинку большого яблока, очищенного от косточек и кожуры, и отправили играть в спальню. Сами занялись делом. Гостья сначала пыталась еще что-то говорить, но ей упорно не отвечали, и она через некоторое время умолкла. Наташа сосредоточенно обжаривала печень в горячем масле и смотрела, как из-под ловких длинных пальцев Оксаны выходят ровные, геометрически правильные брусочки картошки, как поблескивает на ее руке массивное кольцо с бриллиантом, и как отражается закатное солнце на темной бутылке старого королевского «Муската».
Андрей появился почти в восемь вечера. Повернулся ключ в замочной скважине, скрипнула дверь, а потом раздалось удивленное:
— Наташенька, у нас что, гости?
И пауза. Длинная, просто мхатовская. Еще не успев закончить фразы, Андрей понял, что спросил то, чего не следовало спрашивать. Но он не смог уже остановиться, как мальчишка, слишком сильно разогнавшийся на роликах.
— Да, зайди, пожалуйста, на кухню, — отозвалась Наташа. Оксана невозмутимо достала из кастрюли очередную картофелину и положила ее на разделочную доску. И снова молчание. Наташе не хотелось смотреть на мужа, следить за тем, как он пялит глаза на эту Афродиту, явившуюся из серой пены прошлого.
— Здравствуй, — произнес вошедший Потемкин. Оксана повернулась и улыбнулась так светло и радостно, будто они расстались только вчера, будто ровным счетом ничего не было: ни ее бегства к Томасу Клертону, ни крошечной шестимесячной девочки, ни ее заявления «прошу не подключать родившегося ребенка к дыхательному аппарату».
— Здравствуй, Андрей! — Она вытерла руки фартуком, подошла к нему вплотную, словно собираясь поцеловать или погладить по щеке, но в конце концов только легко и непринужденно рассмеялась. — До тебя теперь даже нельзя дотронуться. У тебя своя семья, у меня — тоже. А я все еще помню, какие у тебя колючие и жесткие волосы. Сейчас ты их отрастил, и тебе так даже больше идет… Знаешь, я когда вчера вас всех увидела, просто растерялась. Испугалась и сбежала, как девчонка. Глупо, правда? А вот теперь набралась духу и пришла…
Он молча кивнул, по-прежнему не отводя от ее лица внимательных глаз. Оксана поморщилась и покачала головой:
— Не надо на меня так смотреть. Правда, не надо. Я пришла решить некоторые деловые проблемы, ну, и посидеть, вспомнить старые времена… Господи, ребята, если бы кто-нибудь нам всем сказал пару лет назад, что все так обернется, разве бы мы поверили? Разве вы, Наташа, могли представить, что станете женой Андрея? Разве мы с тобой, Андрюшка, могли предположить, что расстанемся и после этого будем вполне довольны жизнью?
Наташа стояла у плиты и уже в который раз переворачивала обуглившийся ломтик печенки. Ее, слава Богу, ни о чем не спрашивали. Оксана пришла сюда сыграть придуманную ею же роль. А что же Андрей? Если он так уверен, что приезд его бывшей пассии ничего не изменит, если он утверждал, что все кончено раз и навсегда, почему тогда так побелели суставы его напряженных, сжатых в кулаки пальцев?
Потом они сидели за столом в гостиной и ели печенку с картофельным пюре. Оксана было поставила на стол свой «Мускат», но Наташа пить категорически отказалась. Отказался и Андрей. Гостья сначала попробовала было шутливо настоять, но вовремя нашла более элегантный выход. Она заявила, что вино — это подарок, так же, как и кукла. Забирать обратно, конечно же, глупо. Поэтому бутылка останется в их семейном баре до лучших времен, и выпьют ее они, когда сочтут нужным и с кем сочтут нужным. В ее голосе не слышалось и тени обиды. Она была исполнена легкости, изящества, непринужденности.
— Ну, вот что, мои дорогие, — Оксана аккуратно положила вилку на тарелку, — можно до бесконечности мило сидеть и молчать, думать каждый о своем. Я не обманываюсь по поводу того, как ко мне здесь относятся. Да это и не так важно. Каждый из нас уже сделал свой выбор… Вы, наверное, понимаете, что я пришла поговорить о своем ребенке.
— У тебя есть ребенок? — Андрей положил в рот очередной кусок тушеной печенки.
— Да, есть. И не надо изображать светское удивление. Я очень благодарна вам за то, что вы вырастили и воспитали мою Настю, но…
— Настя — наша дочь. — Андрей тихо, но жестко подчеркнул слово «наша». — И твои больные фантазии…
— Не надо, Андрей, — Наташа почувствовала, что сию секунду заплачет. — Не надо. Я ей уже все сказала.
Он посмотрел на нее не осуждающе и не вопросительно, а скорее оценивающе. Потом прокашлялся, положил обе руки на стол и произнес раздельно и четко:
— Пусть так, но это ничего не меняет. Настя — наша дочь, нашей дочерью и останется.
А бровь его вздрагивала, как агонизирующая птица. Наташа вдруг подумала, что правильные и надежные слова за него говорит сейчас какой-то посторонний человек. Сам же он мечется, страдает и совершенно не представляет, что делать дальше. Пока еще внутри его работает «автопилот», но что будет потом? Что будет дальше? Они с Оксаной похожи, они подходят друг другу. Может быть, там, наверху, их и придумали друг для друга? Что тогда делает здесь она со своей простецкой мордочкой и никому не интересными эмоциями? Что, если Андрею, правда, было просто очень плохо тогда, полтора года назад? Что, если он уже раскаивается и просто не хочет этого показать?
— Примерно этого я и ожидала. — Оксана задумчиво прочертила черенком вилки на скатерти длинную «восьмерку». — И это нормально. А теперь давай поговорим, как взрослые люди. Без излишнего пафоса… Вы с Наташей молоды, любите друг друга, у вас прекрасная семья. Зачем вам ребенок, который будет постоянно напоминать о неприятном прошлом? Ты, Андрей, подумай о своей жене, пожалуйста! Ей наверняка хочется иметь собственных детей, и они у нее обязательно будут. И тогда она поймет, что чужую ляльку любить по-прежнему не сможет. Она будет мучиться, потому что девочка совестливая, это видно невооруженным глазом. А главное, Настя будет страдать. Кому это нужно, скажи?.. К тому же я заплачу вам сумму, которая не только компенсирует все ваши расходы, связанные с воспитанием моей дочери, а позволит безбедно прожить, даже не работая, пожалуй, пару-тройку лет.
Наташе показалось, что воздух в комнате внезапно сгустился и всей своей массой надавил на лоб, на виски, на барабанные перепонки. Тишина стала серой и плотной, как слежавшаяся вата. Андрей встал из-за стола, подошел к подоконнику, взял бутылку с испанским «Мускатом» и поставил ее перед Оксаной.
— Ужин закончен, — произнес он глухо. — Уходи и забирай свои подарки. Куклу я сейчас принесу. Ты в свое время убила не только то, что было между нами, ты сознательно и хладнокровно убила нашего ребенка. Поэтому я не хочу видеть тебя в своем доме. Более того, я не могу тебя видеть. А Настю, можешь мне поверить, ты никогда не получишь…
В этой его последней фразе прозвучало что-то веское, угрожающее, веющее безнадежностью, как серый могильный камень. Оксана вся подалась вперед, затем поднялась со стула и побледневшими даже под слоем помады губами сказала:
— Не смей так со мной разговаривать, тем более при этой девочке. Это только наше с тобой дело, и больше ничье! Я никого не хотела убивать, наверное, поэтому Бог и решил, что Настя будет жить… И он уже наказал меня в полной мере. Можешь не добавлять от своего имени. Я пришла сюда не нападать на тебя и не устраивать скандалы. Тебе есть что еще мне сказать?
— Уходи, — бросил он резко, не отрывая глаз от паркета.
Оксана развернулась и быстро вышла из комнаты. И тут же с силой захлопнулась входная дверь…
* * *
Часовая стрелка медленно приближалась к двенадцати. А Наташа по-прежнему сидела на диване, подтянув к груди острые коленки и положив на них подбородок. Глаза ее были пустыми и безнадежными, как у смертельно раненной собаки. Выключив свет в коридоре, Андрей вошел в комнату.
— Ну что, наверное, будем ложиться спать? — спросил он, присев перед ней на корточки и легонько пощекотав маленькие розовые пальцы.
— Да, — согласилась она равнодушно, но с места не двинулась. Он вздохнул и поднялся, тяжело опершись одной рукой о мягкий гобеленовый подлокотник. За окном давно стемнело. Настя спала в своей кроватке на колесиках. Луна тревожным желтым маяком заглядывала в квартиру.
— Послушай, так же нельзя! — Голос Андрея звучал умоляюще. — Что, в конце концов, произошло? Пришла Оксана! Ну и что? Нельзя было исключать этого. Но она здесь больше не появится… Настенька осталась с нами. Мы друг с другом…
— В этом-то и дело, — отозвалась Наташа едва слышно. — Мы остались друг с другом вопреки здравому смыслу. Это я должна была уйти, а не Оксана. А я осталась, и от этого мне сейчас плохо. Но никто в этом не виноват, кроме меня самой.
Он болезненно поморщился и отвернулся. Собственные слова казались ему отвратительно фальшивыми и неубедительными. А Наташа с ее обостренным чутьем не могла этого не заметить. Что же все-таки произошло? Почему так получилось? Почему не прошел шок от встречи с Оксаной? Ведь он был готов к этому и, кажется, твердо знал, что никаких изменений в своей жизни не хочет. Почему же тогда, когда она появилась из-за угла дома, он почувствовал, как останавливается сердце? Он говорил с ней сегодня даже без тени прежней близости, но так всегда бывает, когда встречаешься с человеком, которого не видел очень долго. Тогда кажется, что лицо — то и вроде бы не то, взгляд — тот и вроде бы не тот. Даже голос, даже мимика — чужие и незнакомые. Когда она подошла совсем близко, он почувствовал ее теплое дыхание на своей щеке. Оксана, кажется, стала еще красивее, чем была. В плавных линиях ее фигуры наметилась зрелая утонченность взрослой женщины, скулы чуть заострились, придавая лицу французский шарм. Странно, поскольку она живет в Англии, где серая холодная Темза, королевские гвардейцы в медвежьих шапках и вечный промозглый туман. А сама осталась по-прежнему источающей солнечное золотое тепло, прекрасной и желанной… Нет, тысячу раз нет! Есть Наташа, ласковая и трогательная. Есть Настя, которая ее любит и зовет мамой Наташей… Но почему все так страшно переменилось? Почему еще позавчера его жена была безоговорочно самой красивой и самой любимой женщиной на свете, а теперь уже приходится настойчиво убеждать себя в этом?
— Наташа, — Андрей снова вернулся к дивану и сел рядом, — давай договоримся не говорить чепухи? Я тебя очень люблю и не вижу причин сомневаться…
— Зачем ты это делаешь? — Она спрятала лицо в ладонях и тут же провела ногтями по лбу, оставляя на коже вертикальные красные полоски. — Зачем ты заставляешь меня вести себя по-идиотски? Ты что, хочешь, чтобы я начала кричать: «Нет, не любишь, нет, не любишь!» Приводить различные доказательства? Ты не должен мне ничего объяснять и тем более в чем-то оправдываться. Да и я не собираюсь закатывать сцен ревности. Просто не торопи меня, ладно? Я должна спокойно все обдумать.
— Хорошо, думай, — сказал он, откидываясь на спинку дивана. — Только не усложняй все еще больше.
— Больше? — отозвалась она эхом. — Больше уже некуда. Ты сказал, что не можешь видеть ее, а я, кажется, уже не могу видеть тебя… После сегодняшнего вечера. Не могу — и все!
— Может быть, мне лечь в гостиной?
— Это как раз не так важно, — Наташа сползла с дивана, подошла к бельевой тумбе и достала оттуда подушки. — Можешь спать со мной. Просто…
— Просто что? — спросил Андрей, схватив ее за узкие запястья и притянув к себе.
Она выпустила подушку, мягко плюхнувшуюся ему на колени. Тубы ее дрожали и кривились, как у обиженного ребенка. Он вдруг подумал, что Настька уже плачет точно так же. Кто у кого учится?
— Просто я хочу вести себя так же независимо и интеллигентно, как Оксана. — Наташа прерывисто всхлипнула. — Не хочу никого обижать, никого ни в чем обвинять, но не получается… Я просто хочу говорить с тобой, а выходит, будто давлю на жалость. Словно дамочка, демонстративно падающая в обморок, чтобы получить в подарок и утешение новую шубу или кольцо… Понимаешь, я хочу быть похожей на Оксану, а ведь когда-то страшно не хотела. Помнишь, я даже как-то выкрасилась в жгуче-черный цвет? Нет, наверное, не помнишь, потому что тогда ты никого, кроме нее, не замечал…
Он отрешенно кивнул, невпопад, бестактно. Ему вдруг вспомнились плечи Оксаны, с которых медленно сползает платье «цвета фикуса». Плечи у нее всегда были красивые, точеные, изящные и в то же время округлые. Да и запястья пошире, чем Наташины птичьи косточки. До чего все-таки она тощенькая.
— Значит, в ней в самом деле что-то такое есть. Даже я, женщина, которая должна ее ненавидеть, это признаю. Да, она красивая, она бесподобная, она шикарная, но она какая-то еще. И это самое главное! И ты тоже это видишь, только боишься себе признаться, — Наташа осторожно высвободила свои руки из ладоней Андрея. — В общем, насчет самого главного выяснили… А хочешь узнать, что самое противное? То, что я сейчас говорю, не давлю на жалость, потому что… чтобы тебе не стало еще больше жалко меня. Это — замкнутый круг. Из него не выбраться… Что, я несу полную ерунду?
— Нет, — ответил он коротко. — Говори все, что считаешь нужным. Я никогда не подумаю о тебе плохо…
Сейчас Андрею больше всего хотелось остаться одному. Наверное, в самом деле, лучше бы лечь сегодня в гостиной, чтобы остаться на расстоянии не только от Оксаниных глаз, но и от теплой, ставшей уже привычной близости жены. Но — поздно. Если после всего, что она сказала, забрать свою простыню и одеяло, Наташа наверняка обидится и расстроится еще больше. Жалко ее, маленькую, узкоплечую, такую несчастную… и одинокую!
Наташа расправила постель, надела через голову розовую полупрозрачную ночную сорочку и присела на краешек дивана.
— Ты прости меня, но я должна тебе сказать еще кое-что… — она низко наклонила голову и ссутулилась. — Это очень важно. Я не могу тебя видеть, потому что боюсь, что тебе самому видеть меня неприятно. Я не играю в благородство. Честно! Просто не хочу, чтобы ты мучился… Я уже видела тебя несчастным, и это было ужасно. Когда ты окончательно определишься, скажи мне. И я уйду без всяких жалоб и упреков.
Андрей положил голову на ее плечо и потерся щекой о мягкий шелк рубашки:
— Все уже давно решено, и никто ничего менять не собирается. С чего ты взяла, что тебе придется уходить?
— Потому что это не столь уж невероятно, — грустно ответила она.
Он вдруг вспомнил деревянную заколку на подоконнике, отлетевшую металлическую застежку, и возникло ощущение ужасной, пронзительной и невосполнимой потери. Потом вспомнились их поцелуи у входа в метро, ее губы, вздрагивающие, неуверенные, ускользающие. Все это было настолько острее, настолько реальнее призрачного, словно подернутого дымкой воспоминания о платье «цвета фикуса», что он даже застонал. Ведь и в самом деле это не так уж невероятно невозможно! Так будет страшно ее потерять!
— Что с тобой? — тревожно спросила Наташка, приподнимая его лицо обеими ладонями и внимательно вглядываясь в глаза. — Скажи мне, что?
— Ничего, — Андрей обнял ее за талию. — Помнишь, я как-то сказал, что никогда и никому тебя не отдам?.. Так вот, это правда!
* * *
Номер Оксане, в общем, нравился. Нравилась кипенная белизна тюля и васильковый шелк портьер, ковер на полу, мягкий и ласкающий босые ступни, словно прохладная трава. Нравились цветы в тонкой стеклянной вазе на столике, нравился сам столик, круглый, с высокими позолоченными, изогнутыми, как стебли лилии, ножками. И все-таки во всем этом что-то было не то. Сама атмосфера гостиницы навязчиво напоминала о том, что это временное пристанище, на короткий срок. Но у нее не было другого выхода. Не назначать же в самом деле встречу с Андреем на кухне маминой квартиры? Можно было, конечно, поговорить и в ресторане, и в салоне его автомобиля, припарковавшись где-нибудь в безлюдном переулке или на обочине загородного шоссе, но Оксане нужно было уединиться с ним от всего остального мира. А еще нужна была эта большая кровать с шелковым покрывалом и овальным зеркалом в изголовье.
Она подошла к роскошному двуспальному «сексодрому», присела на краешек и провела рукой по синему шелку. В ладонях тотчас закололо — множество искорок статического электричества одновременно разрядились о ее кожу. Словно кровать была одушевленным существом и не хотела, чтобы ее трогали. И хризантемы, кажется, не хотели, чтобы кто-то вдыхал их запах, недаром они так равнодушно и отчужденно развернули свои изысканные золотистые головки к окну, за которым уже зажглись вечерние фонари и многоцветно переливалась всеми цветами неоновая реклама.
Оксана невесело усмехнулась, достала с тумбочки пачку сигарет и закурила. До нее в самом деле не было никому дела. Даже Андрей, ответив вчера поздно ночью на ее телефонный звонок, сначала просто не захотел разговаривать.
— Что тебе еще надо? — спросил он резко.
— Мне надо с тобой встретиться. С тобой одним, — прошептала она в трубку. Говорить приходилось тихо, — в соседней комнате спали родители. — То, что я хочу тебе сказать, не предназначено для Наташиных ушей. Не потому, что я не уважаю ее или хочу обидеть… Мне необходимо тебя видеть. Пожалуйста!
— Хорошо, — неуверенно произнес он после некоторой паузы. — Где и когда?
Она назвала адрес гостиницы и номер комнаты, преподнесла заранее придуманную чушь про апартаменты, которые автоматически резервируются для сотрудников фирмы Клертона, приезжающих в Москву. И он вроде бы поверил. Во всяком случае, согласился подъехать.
Нельзя сказать, что после этого Оксана ушла спать со спокойным сердцем. Она еще долго ворочалась в постели — то ли оттого, что было полнолуние, то ли потому, что голос Андрея по телефону все еще звучал в ее ушах. Он тоже разговаривал тихо, наверное, боялся разбудить жену и Настеньку. Но теперь она была уверена, что поступила правильно, решив заказать на три дня люкс с баром, душем и «сексодромом». В интонациях Потемкина постоянно проскальзывало зыбкое, призрачное сомнение. Он и сам не знал еще до конца, хочет или не хочет ее видеть, говорить с ней, заниматься с ней любовью. Хотя скорее всего любовью заниматься он как раз и хотел больше всего. Знакомым блеском вспыхнули его глаза, когда она на кухне приблизилась к нему, почти вплотную, так, чтобы он ощутил ее дыхание, ее запах. Слишком уж старательно отводил он взгляд от ее шеи, груди, коленей. И в самом деле, что могла дать Андрею эта черненькая тощенькая девочка в халатике с оттянутыми карманами? Как ни странно, Оксана совершенно не испытывала к ней ни злости, ни ненависти. Она даже не ревновала к ней Андрея. Скорее опасной могла быть эта Алла с варикозными ногами, увядшими, некогда чувственными губами и голодными глазами, но только не Наташа, нет! Ей даже было немного жаль эту девочку, потому что теперь она точно знала, что завтра вечером встретится с Потемкиным! Она избавит его от обета супружеской верности. А проще говоря, ляжет с ним в постель, заставит его встать на свою сторону и… отдать девочку.
О том, что будет дальше, Оксана старалась не думать. Ей просто не хотелось просчитывать вероятность неудачи. Вполне возможно, что за эти полтора года он изменился, научился притворству и спокойно сможет вернуться в семью после всего, что произойдет. Возможно, Наташа не узнает об их сумасшедшей ночи в гостиничном номере. Да, в общем, это и неважно. По-настоящему имеет значение лишь Настя. У девочки, по сути дела, матери вообще нет. Эта черноволосая малышка, конечно, заботится о ней, но ведь Настюшка даже зовет ее как-то странно — «мама Наташа».
Когда Оксана начинала думать о себе и об Андрее, на душе становилось тягостно и смутно. Она не могла разобраться в том, что чувствует к нему сейчас, и предпочитала не размышлять на эту тему. Теперь следовало четко выполнить намеченный план и получить обратно дочь. А уж тогда, если останется время, подумать и обо всем остальном. Человеку, замерзавшему в снегах, попав в тепло, необходимо сначала отогреться, а уже потом поесть и попить; так и ей нужно было вернуть ребенка и избавиться от жуткого, гнетущего, немыслимого чувства вины.
Оксана докурила сигарету и загасила окурок в пепельнице. По идее, помада смазаться была не должна, но на всякий случай она все же решила подойти к зеркалу. Больше всего она опасалась, что в глазах ее будет метаться подозрительный лихорадочный огонек, который другой человек, быть может, и не заметил бы, но Андрей… Однако глаза ее оставались спокойными и синими, как море в погожий день. «А я бы, наверное, смогла бы сыграть роль достойной подружки Джеймса Бонда!» — подумала Оксана, и недобрая усмешка искривила ее губы. Яркая помада — единственный макияж, который она себе сегодня позволила. Платье в мелкую белую и салатовую клетку до середины колена, множество кругленьких пуговиц на лифе, почти незаметные сережки в ушах. Чем не девушка с соседней улицы? Этот наряд показался ей не то чтобы единственно возможным, но наиболее подходящим. Вечерний туалет с декольтированной спиной на фоне шикарного двуспального ложа был бы вульгарным перебором. В ее планы вовсе не входила ни презрительная усмешка Андрея, ни его растерянный взгляд.
Когда в дверь негромко постучали, она отошла от зеркала, присела на кровать и только потом сказала: «Да!» Успела подумать, что прямая спина, словно у гимназистки, и руки сложенные на коленях, — это слишком, а на пороге уже появился Андрей. Сегодня на нем была темно-синяя футболка с тремя пуговицами у воротника и те же светлые слаксы. Похоже, выбором какого-то особенного наряда для свидания он себя не утруждал.
— Привет, — сказал он, осторожно прикрывая за собой дверь. — Что у тебя стряслось?
— Ничего, — Оксана пожала плечами, не двигаясь с места. — Просто хотела побыть с тобой вдвоем…
Первая фраза была тщательно продумана, как и одежда. Она слишком хорошо знала Потемкина и поэтому могла поспорить, что он не хлопнет дверью и не уйдет, выкрикнув на прощанье возмущенное: «Ну, знаешь!» Один из ее бывших кавалеров в такой ситуации наверняка бы подсел к ней и ехидно спросил: «А конкретнее?» Но Андрей должен был сделать то, что он и сделал. Он просто прошел через всю комнату, сел в кресло напротив и сказал спокойно и даже как-то сочувственно:
— Не надо, Оксанка, все уже прошло. И у тебя, и у меня в самом деле другая жизнь. Я даже не знаю, огорчен ли тем, что все получилось именно так… То есть я хотел сказать…
Она печально покачала головой и протянула руку, словно хотела прикрыть пальцами его губы:
— Ничего не говори, ладно? Я заранее знаю все, что ты мне сейчас скажешь. Ты будешь утверждать, что счастлив, что Наташа — твой идеал женщины, но ты уже произнес: «Я не знаю»… Дедушка Фрейд учил, что ни бессмысленных оговорок, ни описок не бывает… И я не знаю! Самое страшное, что я тоже ничего не знаю, хотя и добилась чего хотела.
Желваки на смуглых щеках Андрея задвигались, выдавая его волнение, но лицо оставалось непроницаемым.
— Послушай, Оксана, — произнес он в конце концов, — не надо считать меня идиотом. Я прекрасно понимаю, что ты ничего не делаешь просто так и сюда меня скорее всего пригласила исключительно для того, чтобы еще раз завести разговор о Насте. Можешь не ублажать мое самолюбие трогательными рассказами о том, как страдала одна русская девушка в туманном Альбионе без своего возлюбленного. Итак, я тебя слушаю!
— А тебе, в самом деле, совершенно неинтересно знать, чем я жила, о чем думала все это время? — Она подалась ему навстречу, но колени оставила плотно сжатыми, а щиколотки — под углом наклоненными к полу. Андрею раньше нравилось, когда она сидела вот так. Но на этот раз он просто встал с кресла и отошел к окну. С улицы доносилась «попсовая» музычка. Оксана подумала, что звукоизоляция, несмотря на внешний шик, здесь скверная. Потемкин в самом деле может уйти, если немедленно не приступить к решительным действиям. Сейчас у него такой вид, словно он готов в любую секунду сорваться с места: обе руки в карманах слаксов, взгляд отсутствующий и недовольный, в самой позе, в развороте плеч, в наклоне головы — застывшее движение.
— А знаешь, в чем-то ты был прав, — сделала она признание. — Я действительно ничего не делаю просто так. Вот только насчет мотивов немного ошибся. Я просто хочу тебя. Хочу, как кошка!.. Надеюсь, такое объяснение устраивает? Правильно, к чему тебе забивать голову моими проблемами? Да ты и не поверишь, что я могу страдать, могу чувствовать, могу все еще любить тебя… Но вот я просто стою перед тобой и говорю, что хочу тебя, что умираю без тебя, что это не внесет в твою семейную жизнь никаких осложнений! Неужели ты сможешь вот так уйти?
Андрей обернулся. Глаза его были темными, почти черными, кадык на смуглой жилистой шее прыгал вверх-вниз, уголки губ кривились в болезненной усмешке. Оксана вдруг подумала, что с этой новой прической, с темными волосами, неровными прядями падающими на лоб, он еще больше похож на героя голливудской мелодрамы. Два года назад он ни за что на свете не заставил бы себя упрашивать. Сознание того, что какие-то двадцать месяцев разрезали ее жизнь на две половинки, которые невозможно срастить, вдруг открылось ей с необычайной ясностью. И все же она, не отрывая взгляда от его лица, быстро растегнула пуговицы на платье и начала снимать его через голову.
Оксана не ожидала, что занервничает, что локти вдруг начнут застревать в проймах, а бедра и икры покроются «гусиной кожей». Она не рассчитывала, что пока будет стоять с перекрещенными над головой руками, Андрей так и не двинется с места. Красивого стриптиза не получалось, тем не менее останавливаться было уже поздно. Она со злостью рванула платье через голову, и одна из пуговичек, со звоном оторвавшись от ткани, упала на ковер. Ей вдруг стало жалко пуговицы, которая наверняка оторвалась «с мясом», жалко себя, красивую, сексуальную, стоящую в одних белых плавочках перед абсолютно равнодушным мужчиной, жалко своих стройных ног и тонкой талии, так и невостребованных. Жалко своей вполне земной мечты о зеленой лужайке и огромном детском мяче, за которую приходится платить ценой такого унижения.
— Ну что ты стоишь?! — яростно выкрикнула Оксана хриплым голосом. — Что я, хуже, уродливее твоей Наташки? Или ей тоже приходится упрашивать тебя каждый вечер?.. А может быть, тебе просто противно прикасаться ко мне? Может быть, ты еще мысленно спишь со мной прежней, которая ходила в обносках и радовалась серебряному колечку с фианитом?.. Ничего не изменилось, понимаешь, ничего! Я просто уезжала в длинную-предлинную командировку и поэтому не могла быть с тобой, но в душе у меня все по-прежнему!
— Значит, правду рассказывают про командировочные романы, — усмехнулся Андрей, буравя ее взглядом. — Я-то от своей работы так ни разу в командировку и не съездил.
Он смотрел на нее, на ее чуть тяжеловатую, но по-прежнему красивую грудь, на ее живот, по-девичьи плоский и ровный, на ее бедра, под стать античным вазам. Смотрел и не двигался с места. И тогда Оксана сделала шаг вперед, потом еще один. И наконец подбежала к нему босиком по ковру и обвила руками его шею. Он вздрогнул, а она ласкала его плечи и грудь, дрожащими пальцами расстегивала пуговицы футболки. Опустившись на колени, прижалась щекой к животу. Почувствовала губами, как напрягается под светлыми слаксами его плоть. Снова скользнула ладонями вверх, по ягодицам, по спине, запрокинула лицо, приоткрыла глаза…
— Ну и что дальше? — спросил Андрей, глядя на нее сверху. — Я же с самого начала предлагал поговорить серьезно. Вовсе не нужно было себя так утруждать. Все это без толку… Я вообще удивляюсь тебе: вроде бы умная женщина, а делаешь невообразимые глупости! Ну допустим даже такой вариант: я куплюсь на твою провокацию, окажусь с тобой в постели, проникнусь прежними чувствами. Допустим, я даже соглашаюсь отдать тебе Настю. А дальше что? Как ты собираешься вывезти ее из России? В чемодане, что ли? Где возьмешь документы на удочерение? Как будешь объяснять свой поступок любимому мужу?
Оксана устало вздохнула и села прямо на ковер, подогнув под себя ноги и по-детсадовски сложив руки на коленях. Ей не было ни стыдно, ни горько. Захотелось остаться одной, со своей пустотой и страшным вопросом: «Зачем жить дальше?» Она ни на секунду не поверила в равнодушие Андрея, но зато она знала его упрямство. И если уж Потемкин что-то решил, то с места его сдвинуть можно было разве что бульдозером. Сейчас он выбрал для себя стратегию поведения гордого оставленного любовника и верного мужа. А у нее уже не оставалось сил бороться.
— Вы же смогли сделать для Насти фальшивое свидетельство о рождении, — напомнила она скучным голосом. — Почему ты думаешь, что при моих деньгах я не смогла бы оформить липовые документы? Вы якобы отдали ребенка в детдом или на удочерение, а там… В общем, о чем сейчас уже говорить? Я правда хотела вернуть дочь, но ничего не получилось. Я надеялась, что ты пожалеешь меня, потому что эта девочка — единственная память о тебе, о том, что у нас с тобой было. Пожалеешь меня, потому что я в самом деле несчастна — у меня уже больше никогда на может быть детей…
Оксана даже не поняла, что произошло раньше: из ее глаз брызнули слезы или же Андрей опустился рядом с ней на колени? Но уже в следующую секунду он прижимал к своей груди ее голову, гладил по затылку, шептал слова успокоения и почему-то не в ухо, а в висок. Ей было щекотно, и она, по сути, ничего не слышала, но боялась пошевелиться, чтобы не спугнуть эту его внезапную ласку. Продолжала сидеть перед ним, голая, замерзшая, зареванная. А руки его остались такими же ласковыми. Он гладил ее спину, ее плечи, но не стремился овладеть ею, боялся и запрещал себе хотеть ее. А когда Оксана вскинула лицо для поцелуя, только шутливо чмокнул в губы, не вбирая в себя ни ее язык, ни ее дыхание.
— Почему все не так, как раньше, почему все по-другому? — спросила она, вглядываясь в его глаза.
— Потому что я не люблю тебя, — ответил он просто. — Даже если бы что-то и осталось, ничего изменить нельзя…
И снова он говорил неправду, она знала это. Никогда не станет человек, который в самом деле ничего не испытывает к женщине, объявлять вот так прямо в лоб: «Я не люблю тебя!» Равнодушие подразумевает только вежливость и холодность.
— Ну и не люби меня, — сказала она вполне мирно, прижавшись щекой к его плечу. — Только не уходи прямо сейчас. Побудь со мной еще немножко. Мне уже тысячу лет не было так хорошо, как сейчас.
Андрей как-то неопределенно вздохнул, через ее голову потянулся к кровати и подал ей платье:
— На, надень. Так будет лучше… А потом мы с тобой обязательно посидим и обо всем поговорим.
Оксана вдруг поняла, что ей действительно, на самом деле, не хочется, чтобы он уходил. Хочется все время чувствовать подушечками пальцев его колкую щетину, гладить его виски и скулы, прижиматься губами к глазам. Хочется ощущать теплую тяжесть его тела, целовать эти светлые выщербины на бровях. Хочется остаться вместе с ним хоть в этом номере, хоть в квартире на Соколе, хоть у черта на куличках! А может быть, правда оставить Тому его Лондон, его респектабельность и его загородный дом, а самой начать все сначала здесь, со своим ребенком, со своим единственным и любимым мужчиной?.. Мысль, родившаяся, кажется, только для того, чтобы красиво умереть, постепенно обрела вполне реальные очертания. Оксане на секунду показалось, что она стоит, раскачиваясь, на самом краю высоченного обрыва, а там внизу — темнота и клубящийся туман…
Она улыбнулась мягко и растерянно, надела через голову платье и с сожалением взглянула на дырку на месте оторвавшейся пуговицы.
— Жалко, — Оксана показала пальцем на дырку. — Извини, что я так, ладно?
— Ничего, — отозвался Андрей уже совсем иным, каким-то мягким и позабытым голосом. — Ты мне лучше расскажи, что за диагноз тебе ставят? Почему ты решила, что все так печально?
Она поднялась с ковра, мимоходом взъерошив пальцами его темные, густые волосы, и подошла к зеркалу:
— Давай поговорим об этом чуть позже… Нет, ты не подумай, я не собираюсь держать тебя тут до ночи. Просто мне надо немножко успокоиться… Ой, какой кошмар! Тушь потекла, прямо как у Пьеро! Смешно, правда?
Оксана обернулась. Потемкин по-прежнему сидел на полу, вытянув вперед одну ногу, и обхватив обеими руками колено другой. От крыльев его носа к уголкам губ пролегали знакомые складочки, он улыбался:
— Ты красивая. Правда, очень красивая. И мне жаль, что у тебя в жизни все так неудачно сложилось…
— Не надо раньше времени меня оплакивать. Ты мне лучше расскажи о Настеньке… Только, знаешь, у меня к тебе есть одна просьба. Тут недалеко аптека, ты не мог бы сбегать и купить мне валидол или корвалол, а то я что-то никак в себя прийти не могу…
На этот раз в его глазах мелькнула искренняя тревога. Он быстро поднялся, застегнул пуговицы на футболке и уже у двери сказал:
— Отдыхай, я мигом. Думаю, какие-то лекарства должны быть у администратора.
Оксана покорно опустилась на кровать, но как только дверь номера закрылась, снова вскочила на ноги. Времени у нее было совсем немного. Андрей мог позволить себе такую роскошь — размышлять, колебаться, долго не принимать решение, а она — нет. И еще она боялась, что это решение он может не принять вообще, побоявшись сделать больно своей худосочной Наташеньке. Если бы та знала, что происходит сейчас здесь, то все решила бы за него. Потому что в ее юные годы и в ее ситуации еще исходят из принципов, сохраняют собственную гордость и светлые идеалы… Потом можно будет кинуться к Андрею на шею, заплакать, закричать, что поступила подло, мерзко, что теперь ей так стыдно — хоть с шестнадцатого этажа головой вниз! Но только когда все уже будет позади, и он осознает, наконец, что им больше ничто не мешает!
Оксана подошла к телефону, на секунду задумалась и торопливо набрала номер. Наташа ответила сразу. Наверное, уже тревожилась из-за отсутствия Андрея и надеялась, что это позвонил он.
— Да! — нетерпеливо крикнула она в трубку.
— Наташа, здравствуйте, — Оксана постаралась говорить в меру взволнованно и в то же время уверенно. — Мне необходимо с вами встретиться. Срочно, сейчас… Нет, я в гостинице, запишите, пожалуйста, адрес… Да, это касается ребенка. Нет, я не собираюсь никого отбирать… Пожалуйста, я прошу вас!.. Да. Во сколько вы будете?..
Когда вернулся Андрей с валокордином и еще какими-то таблетками в блестящей упаковке, она уже расслаблено лежала на кровати, закрыв ладонью лицо. Он сел рядом, взял ее теплую руку, нащупал пульс.
— Кстати, пульс у тебя довольно ровненький. Тебе полегче? — спросил он все еще тревожно.
— Да, спасибо, — Оксана приоткрыла глаза. — Только, пожалуйста, побудь со мной еще немного. Не уходи…
Примерно минут через двадцать за дверью послышались чьи-то шаги. К этому времени Андрей уже успел рассказать и о том, как Настенька училась ходить, и о том, сколько у нее зубов, и как она упорно не желала носить платья и под любую юбочку натягивала ползунки в горошек. Оксана делала вид, что слушала его, а сама тем временем прислушивалась к шорохам, доносящимся из коридора. Торопливый цокот каблучков засекла сразу же. Наташа приехала раньше, чем обещала. Она успела обнять Андрея одной рукой за шею, другой погладила его по щеке, от брови к уголку рта, задев пальцами густые, вздрогнувшие ресницы. А он не успел отстраниться — на пороге стояла Наташа. А на руках у нее была Настенька.
Наташа вздохнула прерывисто и жалобно, как Чебурашка в детском мультфильме, потом сказала: «Мне ее просто не с кем было оставить». И только потом опустила девочку на пол. Андрей не шевелился. Она сделала шаг вперед, потом снова поспешно отступила назад, и видом своим, и поведением напоминая душевнобольную. Оксане даже показалось, что ее карие, подтянутые к вискам глазки начали немного косить. Во всяком случае, когда женщина судорожно дергает вверх-вниз край юбки, так что периодически открываются колени, нормальным это не выглядит.
— Как глупо все, — выговорила она, наконец, счастливо улыбаясь улыбкой полной и неизлечимой идиотки. — Как в мелодраме. Только сейчас таких глупых фильмов, кажется, уже не снимают, правда?.. Я, наверное, пойду?
И снова аквариумная, искусственная тишина. Машинально поправила челку, смотрясь не в зеркало, а в лицо Андрея, потом легонько подтолкнула девочку к кровати, а сама стремительно бросилась в двери. Мягко щелкнул замок.
— Наташа… — сказал он глухо и потерянно, словно проверяя, существует ли еще хотя бы ее имя. — Наташа…
В этом имени, произнесенным дважды, прозвучало столько горя и страдания, что Оксана мгновенно поняла: все кончено, ничего можно уже не говорить, с самого начала все было бессмысленно и бесполезно. Он кричал ей в лицо: «Ты как была тварью, так тварью и осталась! Ненавижу тебя, ненавижу!» А она все смотрела в его глаза, полные ярости… и любимые. И мигом очнулась, чтобы физически ощутить эту его немыслимую боль. Неожиданно громко, навзрыд заплакала Настенька. Может быть, малышка поняла, что творится неладное.
— Натаса! — истошно кричала Настя. — Натаса!
Когда Андрей выскочил из номера, подхватив Настеньку на руки, Оксана поднялась с кровати и вошла в ванную. Теплая вода набиралась невыносимо медленно. А она думала о том, что у нее нет ни дочери, ни права на искупление, ни надежды на любовь. Ничего нет. Остались только родители, которые уже привыкли жить без нее, да еще, к счастью, этот гостиничный номер. Она плеснула в воду ароматической пены, и на поверхности сразу стали кучковаться похожие на облака гроздья радужных пузырьков… Дом в Лондоне пустой и холодный, и даже камин не греет. Том устал от ее вечной тоски и неудовлетворенности. Да она и сама от себя устала. Есть какой-то предел, после которого жить не то что не хочется, а просто невозможно… Оксана потрогала воду пальцами, потом осторожно переступила через мраморный край ванны. Ее трясло. Прежде чем взять с полочки ножницы, она почему-то вспомнила о том, как они с мамой вчера днем ходили на рынок. Мама сказала, что в крайнем киоске мясо дешевле на полторы тысячи, и надо брать там. А она тогда подумала, что вообще-то правильно и достойно будет, наверное, зайти в супермаркет на Щукинской, что там, конечно, намного дороже, но зато качество гарантировано: «Мама, а почему мы не можем купить свинину в магазине?» — спросила она. Англичанка, блин! Аристократка!..
Ножницы были острые. Оксана сначала примерилась к запястью, а потом вспомнила, что вены надо резать или на шее, или на сгибе локтя. Кто-то из друзей Андрея рассказывал, что запястье «царапают» только те, кто твердо рассчитывает быть спасенным. Ничем, кроме беленьких шрамов и последующей необходимости носить широкие браслеты, такое членовредительство не грозит… Кожа подалась с трудом. И когда над разрезом выступили первые густые капли крови, Оксана подумала, что в действительности это не так и страшно. Примерно, как раздавить на руке комара…
* * *
— Ну, что? — спросил Андрей, когда молодой врач в мятом белом халате вышел из реанимации в приемный покой.
— Ты сам профессионал, — пожал плечами тот. — Все понимаешь. Главное, вены перетянул вовремя, а тут и наш ублюдский «рафик» подоспел. Как ни странно… Слышал, как водила матюгается? Не знаю, что там у него барахлит: ротор, статор, хренатор, но то, что мы не ездим, а ползаем, как глисты, это, блин, точно!
Услышав про «хренатор» и глисты, Наташа взяла малышку за руку и вместе с ней отошла к стене, на которой висела стенная газета с названием «Убийца ваших недругов» и нарисованным в левом верхнем углу тюбиком зубной пасты «Бленд-а-мед». В приемном покое больницы, кроме их троих да врача «Скорой», никого не было.
— Как на нее документы заполнять, я просто не представляю, — врач в мятом халате достал из кармана столь же мятую сигарету и коробок спичек. — Если ты говоришь, что она замужем, то паспорт у нее, наверное, на фамилию мужа?
— Наверное, — безразлично согласился Андрей.
— Вот я и говорю, «наверное», — передразнил тот. — Что писать — Оксана Клертон? Это прямо как Маша Смит или Евфросинья Делакруа получается?.. Вот, блин, вроде бы за границей живет, а такая же дура, как наши! Недавно тоже к одной приехали. Лежит на диване в кружевном пеньюаре, при макияже и в одних трусах, которые одни, наверное, баксов сто стоят. Красивая, как Ким Бессинджер! А кругом — полная комната белых хризантем… И записка: в моей смерти прошу никого не винить, а только передать Васе Сидорову, что я бесконечно его люблю… Родители домой вернулись раньше времени и нашли ее. Нас вызвали, а что толку? Начали откачивать. Ну ты знаешь, как это бывает. Куда там вся красота делась: и слюни, и сопли, и моча… Самое обидное, что откачать-то откачали, а там уже необратимые поражения нервной системы. Короче, теперь всю жизнь будет ходить и слюни пускать. Зато накрасилась, хризантемами обложилась!.. Вот и твоя подруга тоже: напускала в ванну радужных пузырьков! Купальщица, блин!
Радужные пузырьки, испуганными ягнятами жмущиеся к краям ванны… Это почему-то поразило Андрея даже больше, чем розовые разводы на воде, чем запрокинутое белое лицо Оксаны, чем ее мокрые волосы, испачканные кровью… Это все было потом, после того, как он догнал возле лифта Наташу, после того, как схватил ее за плечи и закричал, ничего не объясняя и ни в чем не оправдываясь: «Я люблю тебя!» Она наконец пришла в себя и задала первый осмысленный вопрос: «Почему ты не сказал мне, что пойдешь сюда?» Он потянул ее за руку обратно в номер, повторяя: «Она должна будет сказать тебе всю правду. Она не может быть такой подлой». Комната с кроватью под синим шелковым покрывалом и хризантемами, отвернувшимися к окну, была пуста. И снова, как когда-то, без малого два года назад, на тонкий аромат цветов наслаивался тяжелый запах крови. Дверь в ванную подалась с первого удара. Он увидел жмущиеся к краям ванны облачка пены и Оксанино неживое лицо. Где-то за его спиной вскрикнула Наташа, прижимая к себе Настеньку…
Он не помнил, что почувствовал в тот момент, когда понял, что эта женщина с запавшими щеками, полуоткрытым ртом и прозрачными серыми веками, женщина, которую он когда-то любил, может умереть. А может быть, и почувствовать толком ничего не успел. Профессионализм заставил его действовать, и он поверил, что все будет нормально. Будут хирургические иглы, бестеневая лампа и чужая кровь, вливающаяся в ее артерии…
— Хорошо, что хоть кровь сразу нашли, — сказал Андрей, подняв глаза на врача «Скорой».
— А какие могли быть проблемы? — пожал плечами тот, выпустив колечками дым изо рта.
— Ну все-таки отрицательный резус.
— Чего? — «мятый халат» недоуменно вскинул вверх белесые брови. — Какой там отрицательный? Первая группа, резус положительный.
— Значит, нужно еще раз проверить. Возможно, лаборантка ошиблась.
— Да никто не ошибался. С чего ты так решил?
— С того, что у ее ребенка отрицательный резус, — он хотел сказать «у меня», но вовремя осекся, — а у отца ребенка, как раз первая группа, резус положительный.
Врач «Скорой» медленно повернул голову в сторону Наташи с Настей, которые вдвоем изучали стенгазету, информирующую широкие массы о вреде кариеса и пользе «Бленд-а-меда», потом перевел взгляд на Андрея и иронически усмехнулся.
— Ну да, ну да, — проговорил он все с той же понимающей и сочувствующей усмешкой. — Всякое бывает…
Никогда Андрей еще не чувствовал себя таким идиотом, как сейчас. Черт! Конечно, надо было подумать об этой возможности, прежде чем высказываться вслух. Если Оксана могла уйти за две недели до свадьбы, то почему за два месяца до этого она не могла спать с другим мужчиной? И можно сколько угодно убеждать себя: «Она меня любила!» Все равно это ничего не изменит. Да и в общем-то даже за пять минут до того ее последнего утреннего возвращения он, наверное, мог поклясться на крови: «Она меня любит!» Значит, все вот так? Значит, Настя?..
Андрей поднялся с жесткой, обтянутой бурым кожзаменителем лавки и, стараясь не замечать насмешливо-сочувствующего взгляда «мятого халата», пошел к Наташе, все еще стоящей у нелепо голубой больничной стены и нервно тискающей детскую ручонку. Да ему и неважен был сейчас чей-то чужой взгляд. Имела значение только эта напряженная худенькая спина, только эти неестественно распрямленные узкие плечики. Наташка стояла и ждала, что он подойдет и скажет: «Все по-прежнему, ничего не изменилось. Я люблю тебя, и люблю Настю». Естественно, она слышала, не могла не слышать их разговор и сделала точно те же выводы, что и он. Где-то за спиной «мятохалатый» бросил, что они сейчас уезжают на новый вызов и могут подбросить их до метро или еще куда-нибудь, если по пути. Где-то там еще клубился, еще плыл по полу отвратительный дым его сигареты…
— Ну как вы? — спросил Андрей, подойдя и поцеловав ее в затылок. — В принципе, мы можем ехать, но я хотел бы остаться еще минут на сорок. Пока окончательно не станет все ясно. Вы можете прилечь где-нибудь на кушетке. Или поедем?
— Все нормально, — сказала она, поворачиваясь. — Мы подождем. Жалко только, что твоя машина в гараже, потом бы было быстрее добираться.
— Возьмем такси, — он провел кончиком пальца от середины ее лба, к переносице и дальше, к губам и подбородку. Наташа вздохнула и опустила голову. И он вдруг понял с каким-то светлым изумлением, что она с ее тонкими ноздрями, изящной, как у балерины, шеей, с ее пушистыми беличьими ресницами и даже с широкими передними зубами, которых страшно стесняется, пожалуй, даже красивее Оксаны. Нет, точно красивее! И еще, что говорит сейчас не то. Совсем не то.
Андрей подхватил Настену под мышки и потерся своим носом об ее круглый детский нос, а потом сказал, вроде бы ни к кому конкретно не обращаясь:
— Надо позвонить Алле прямо сейчас Может быть, она еще не спит? И узнать… В общем, может быть, они там, в своей 116-й, что-нибудь напутали?
— А ты уверен, что это нужно делать? — Наташа машинально поправила белый воротник Настиной матроски.
— Да. Мы узнаем точно и не будем больше думать об этом. И еще. Я хочу сказать тебе, что это ничего не изменит, и что я люблю тебя очень сильно.
Он снова поставил девчушку на пол и направился к кабинету дежурной медсестры. Наверное, Алла все-таки уже спала. К телефону подошла только после четвертого или пятого гудка. Он вкратце объяснил ей ситуацию, не вдаваясь в подробности. А потом она замолчала. Андрей долго кричал в трубку «алло, алло», боясь, что связь пропала. Когда Алла снова заговорила, голос ее был прозрачен и тих.
— Я давно должна была тебе все рассказать, — сказала она. — Давно…
…Алла проснулась с раскалывающейся головой и ощущением, что жизнь кончена. Памятью о вчерашнем вечере с Андреем осталось не отстиравшееся винное пятно на новом костюме песочного цвета и пустая бутылка коньяка, которую она выпила в одиночестве уже ночью. Как алкоголичка. Или просто как глупая баба, которую бросили. А кто, собственно говоря, бросил? Ну женился он на своей ретивой медсестричке? Ну и флаг ему в руки и барабан на шею! Никто никому ничего не обещал. Никто никому ничем не обязан. Все это ее глупые фантазии и только ее личные проблемы. Андрей ничего не видел, Андрюшечка ничего не замечал… Не замечал? Черта с два! Все он видел и все понимал! Ему так было удобнее косить под Иванушку-дурачка? Поманил одинокую бабу радужной, хоть и зыбкой перспективой замужества, создал ей, так сказать, дополнительный стимул… А что? Она и за ребеночком потщательнее поухаживает, и документики, какие надо, оформит!
Алла спустила с дивана опухшие ноги со вздувшимися венами и с каким-то болезненным наслаждением поставила горячие, дрожащие ступни на холодный линолеум. Топили этой зимой плохо, батареи чуть теплые. Но сегодня это пришлось как нельзя кстати. Голова гудела, собственное дыхание, отдающее «Белым аистом», заставляло подкатывать к горлу все новые и новые сгустки тошноты. Она вдруг вспомнила, что прошлой ночью позвонила-таки Андрею и наговорила всяких гадостей, чем окончательно опозорила себя, вывалившись из образа сдержанной, умной, сильной леди, как картошка из дырявого мешка. Ну и пусть, ну и ладно! Пусть бы он даже увидел ее такой, уснувшей во фланелевом задравшемся халате поверх клетчатого пледа, с размазанной по лицу косметикой. Пусть, теперь все равно… Потому что на месте ее сознательно разрушенной семейной сказочки, продуманной тщательно, вплоть до розового кафеля в туалете и утренних завтраков с йогуртами, ничего нового построить уже нельзя. Нет, можно, конечно, по осколочкам собрать старую жизнь. Позвать Толика. Он придет. Пообижается непременно, заставит рухнуть на колени и покаяться. Только зачем? Пусть лучше останутся все при своих: Андрей со своей «сестрой милосердия», Шанторский, ни в чем не виноватый, со своей обидой и она — с пустой коньячной бутылкой…
Алла поднялась на ноги и побрела в ванную. Стены вибрировали, а линолеум раскачивался туда-сюда, как отломанное донышко неваляшки. Хорошо хоть, что идти недалеко. В ванной она первым делом взглянула в зеркало, увидела отекшее серое лицо с опухшими глазами и подумала: «Это надо же было так напиться!» Алла зло усмехнулась и спросила у своего отражения: «Ты меня уважаешь?» Потом насильно влила в себя чашку крепкого горячего кофе, прополоскала рот отваром мяты и пошла одеваться.
Поправила перед зеркалом прическу. Не тщательно, а так, чтобы хотя бы не пугать людей. Капнула на запястья немного «девятнадцатой «Шанели» и подкрасила опухшие после вчерашних рыданий губы бледно-розовой помадой. Хотелось снова упасть на диван ничком и лежать, лежать, лежать…
Но работа в дорогой элитной клинике не предусматривала прогулов. Алла достала из шкафа капроновые колготки и с отвратительной смесью сарказма и пафоса сказала сама себе, поражаясь тому, как хрипло и пропито звучит голос: «Вперед! Тебя ждут маленькие детишки, которые нуждаются в тебе, несчастная пьянь с мутными глазами и трясущимися руками!.. Да кто вообще в тебе еще нуждается? Есть варианты? Ах, нет!.. Ну тогда поздравляю!»
В троллейбусе ее тошнило, в метро кружилась голова. Даже медсестра Галя, с которой она столкнулась в вестибюле, участливо заметила:
— Заболели, Алла Викторовна?
— А, ничего, пройдет, — отмахнулась она. — Простыла немного.
Галя не отходила. И вид у нее был испуганный и виноватый.
— Ну, говори, — Алла стащила с головы белую пуховую шаль и стряхнула с нее снег. — Что? Санэпидемстанция была? Что-нибудь нашли? Или кто-нибудь из мамочек чем-нибудь недоволен? Жалуются?
Галя стояла перед ней, понурив голову и переминалась с ноги на ногу, как лошадь, привязанная к столбу. Алла успела подумать, что при Галиных толстых икрах надевать шерстяные носки с отворотами противопоказано категорически, когда та наконец вскинула глаза и голосом ученика, который собирается канючить директору школы «я больше не буду», выдала:
— Вы только не сердитесь, пожалуйста, не сердитесь… То есть, я, конечно, не то говорю… Но девочка, та, которая под колпаком, умерла… Там ничего нельзя было сделать, мы старались. Таня всего на полчасика отлучилась, потом пришла обратно, а там уже…
— На полчасика? — заорала Алла, еще не соображая, что в данном, конкретном случае кричать никак нельзя. — Знаю я эти полчасика! Наверное, опять Татьяна со своим мужиком обжималась до посинения, до зеленых чертиков в глазах?.. Ах, падлы! Вот падлы!
Потом она летела вверх по лестнице, перескакивая через две ступеньки, и думала о том, что бежать уже, собственно, некуда. А еще о том, что все и должно было кончиться именно так, потому что, когда карточный домик начинает рушиться, то веером рассыпаются и бубны, и трефы, и черви. Полный крах…
Девочка по-прежнему лежала под колпаком, только все системы жизнеобеспечения контроля уже были отключены. Сейчас она казалась еще больше похожей на обезьянку. На маленькую мертвую обезьянку. Алла в отчаянии опустилась на пол, взялась рукой за холодную металлическую ножку. Ей было безумно жаль ребенка. Она уже считала его частью своей жизни — столько вложила она в него нервов и сил. И вот ребенок умер. Она думала о том, что и Галина, и Татьяна, обиженные, изруганные, в конце концов утешатся на груди своих мужчин, расскажут про злобную и несправедливую завотделением. Посетуют на то, какими невыносимыми и опасными для окружающих становятся старые девы…
Мысль о том, что девочка умерла на следующее утро после разговора с Андреем, пришла ей в голову только часа через два, когда она уже беседовала с дежурным врачом, пытавшимся реанимировать ребенка.
— Нет, там в самом деле, было бесполезно что-либо предпринимать, — оправдывалась молодая, красивая и, как ни странно, умная Юля Вельяминова. — Я пыталась, честно!
— Он подумает, что это я ее убила. Захотела отомстить и убила, — отрешенно проговорила Алла, поднимаясь со стула.
— Кто? Кто подумает? — вскинулась Юля. — Если хотите, я кому угодно подтвержу, что вы совершенно не виноваты. Хотите?
— Спасибо. Ничего не надо, — ответила она и ушла в свой кабинет.
Ни плакать, ни курить не хотелось. Конечно, Андрей ничего даже не скажет, не подаст вида. Но подумает, обязательно подумает, что мерзкая бабешка, которую не взяли замуж, решила напакостить, убив ребенка. А что? Ей ведь в любом случае ничего не грозит. Девочка давно уже числится мертвой. А не все ли равно, что подумает теперь Андрей?.. Нет, не все равно!
Алла наклонилась над столом, опрокинув подставку с карандашами, подтянула к себе телефонный аппарат с серыми кнопочками и по памяти набрала номер. Когда на другом конце провода ответили, она заговорила быстро, четко и без эмоций:
— Нина, ты? У вас есть сейчас отказные дети? Нужна девочка. Желательно, недоношенная… Я тебе потом все объясню. Нет, никакой торговлей детьми я заниматься не собираюсь… Ты скажи сначала: есть или нет?.. Ну, хорошо, ребенок умер. Общий смысл поняла? Да, мне это надо! Да, мне, а не родителям… Нет, они никакие не «шишки», но мне это нужно… Ниночка, миленькая, помоги мне, иначе я погибну…
Андрей сидел на жесткой кушетке и гладил Наташину голову, лежащую у него на коленях. Настенька уже спала в широком кресле, придвинутом к стенке. Благо, места ей требовалось совсем немного.
— Ты устала? — спросил он, перебирая теплые, темные волосы.
— Нет. — Она повернулась и посмотрела ему в глаза. Взгляд ее был исполнен нежности, любви и какой-то прозрачной, чистой боли.
— Прости меня. Прости меня, родная, ладно? — прошептал он, проводя ладонью по ее вспотевшему бледному лбу. — Я должен, должен был сказать тебе, что иду в эту чертову гостиницу. Просто я не ожидал от Оксаны…
— Не надо, — перебила Наташа торопливо. — Не надо. Она несчастна… И, знаешь, мне кажется, нужно ей все рассказать?
— Зачем? — Андрей пожал плечами. — Она, по крайней мере, не будет чувствовать себя виновной в смерти ребенка.
— Так она чувствует себя разлученной с ним. Знаешь, как в колонии строгого режима — без права на свидание… Та же казнь, только долгая и мучительная. Только мне кажется, лучше будет сказать, что девочку нельзя было спасти, что она родилась уже мертвой.
В кресле недовольно завозилась Настенька, переворачиваясь на другой бок и по грудничковой еще привычке засовывая большой палец в рот. Андрей улыбнулся и кивнул в ее сторону:
— Смотри, все никак отучиться не может. Так и будет до выпускного бала.
Наташа тихонько улыбнулась. И он, стремительно наклонившись и прошептав: «Я люблю тебя очень сильно», поцеловал ее в уголок глаза, почувствовав, как на губах затрепетали ее пушистые реснички…
* * *
Шрамы на сгибах локтей все еще оставались красными и бугристыми. Оксане приходилось надевать платья и блузки с длинными рукавами, плавиться на жаре и утешать себя мыслью, что совсем скоро она вернется в Лондон, где холодно, сыро и туманно. Мама до сих пор не позволяла ей ничего делать по дому: мыть посуду, готовить обеды, выносить пакеты с мусором в мусоропровод. На нее все еще смотрели как на больную и несчастную. А она, как ни странно, чувствовала себя почти счастливой. И когда бродила по парку, и когда спускалась к Москва-реке, и когда просто, вот так, как сейчас, валялась с книжкой на кровати. Правда, содержание прочитанного тут же выветривалось из ее головы, как только она закрывала последнюю страницу. Оксана даже точно не могла сказать, что она перечитывала вчера: старенький сборник чеховских рассказов, Маркеса или Голсуорси? Зато она могла часами думать о той самой зеленой лужайке, об огромном детском мяче с красными и голубыми разводами и о Томе. Да, именно о Томе. О том, как она в аэропорту Хитроу, еще только спустившись с трапа самолета, скажет ему:
— Я люблю тебя. Я очень тебя люблю.
И это будет почти правдой. Как счастье — почти счастьем. Потому что Клертон, на самом деле, хороший, добрый и мужественный человек. И действительно мужчина, в полном смысле этого слова. Такого можно любить. Сейчас, анализируя события прошедших двух лет, она понимала, что почувствовала это с самого начала. Но внушила себе: «Меня покупают, меня покупают». И возненавидела его.
Сейчас ей хотелось жить. Хотелось любить свой дом с камином, своего мужа и даже скучного плешивого доктора Норвика. Оксана чувствовала себя ослабевшей, уставшей, но готовой начать все сначала — хоть завтра. А может быть, это была обычная клиническая картина больного, потерявшего много крови и медленно идущего на поправку? Она помнила об умершей дочери и осознание собственной вины по-прежнему висело за ее плечами поникшими крыльями. Но теперь она с каким-то усталым спокойствием осознавала, что так будет всегда, что свершившееся нельзя ни искупить, ни замолить. Что ее маленькая девочка, улетая на свое детское небо, пробила в куполе ее «космоса» огромную рваную дыру. И из этой дыры всегда, всю жизнь будет сквозить скорбью и холодом. И тень ее будет слоняться по зеленой лужайке…
На кухне мама загремела посудой. Наверное, уже закончила делать тесто и теперь собиралась печь блины. Оксана тихо улыбнулась. Блины в их семье поглощались с такой скоростью и в таком количестве, что Людмиле Павловне оставалось только разводить руками и добродушно ворчать: «Вот проглоты! Развела себе семейство! Жила бы одна, сколько сил и времени на еде экономила! Утром — вареное яичко, вечером — стаканчик молока». Бедная, бедная мамуля! Теперь ей забот прибавилось…
Когда тихонько заскрипела дверь, Оксана быстро приподнялась на локтях и спустила ноги с кровати.
— Она к тебе идет, с бабушкой сидеть не хочет, — запоздало крикнула мама с кухни.
— Да я уж вижу, — отозвалась она с притворным недовольством.
В дверях, уцепившись одной рукой за косяк, а другой — за край шифоньера, покачиваясь на худеньких неуверенных ножках, стояла маленькая девочка в нарядном пышном платье с розовыми бабочками и рукавчиками-фонариками. Личико у нее было настороженное и любопытное.
— Здравствуй, Катюшенька! — Оксана слезла с кровати и присела перед малышкой на корточки. — Ну иди ко мне!
Девочка не двинулась с места. Тогда Оксана обняла ее и прижала к своему плечу. Катя тут же начала пищать и выдираться. Вырвавшись, она отступила на один шажок назад и снова взглянула на Оксану с настороженным интересом.
— Ну-ка, скажи «мама», — попросила та.
— Ам-мам, — послушно повторила девочка.
— А теперь «dady». «Папа», «dady»… Ну, попробуй.
— Ам-мам, — снова произнесла Катюша.
— Ох, ты Катя, моя Катюша! Кто же тебя так назвал в твоем этом ужасном детдоме? Совсем ты на Катю не похожа. Ну да ладно, будешь Кетрин, Кейти, Катенька!
Девочка неожиданно фыркнула, потешно и громко. Оксана рассмеялась и подхватила ее на руки. Где-то в коридоре тревожно заохала мама, видимо, решившая посмотреть, чем они тут занимаются. Грозно зашипел на кухне подгорающий блин. А Оксана все кружила и кружила свою приемную дочь, то прижимая ее к себе, то снова отстраняясь и всматриваясь в круглые голубые глазенки. Ей ужасно хотелось сделать все возможное и невозможное для того, чтобы была счастлива Катя, для того, чтобы был счастлив Том. А еще ей хотелось верить, что она сама тоже будет счастлива. Почти счастлива…
Юной красавице Оксане Плетневой предстоит сделать нелегкий выбор: выйти замуж за преуспевающего английского бизнесмена Тома Клертона или остаться в Москве со своим возлюбленным Андреем Потемкиным.
И вот жребий брошен — Оксана в Лондоне. Но какая-то неведомая сила неудержимо влечет девушку в родной город.
Ведь именно там осталась частичка ее души…
Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.



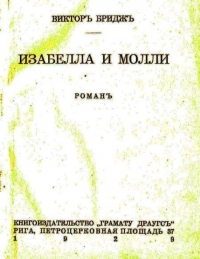
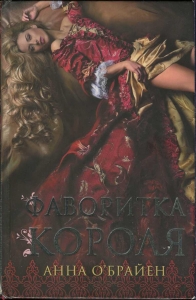

Комментарии к книге «Прощальное эхо», Анна Смолякова
Всего 0 комментариев