Мария Лебедева Горький мед
Ольга повернулась спиной к Кириллу и внезапно почувствовала, как его сильные руки обняли ее и крепко прижали к себе. Борода щекотала ей шею и ухо, дыхание его было прерывистым и взволнованным.
— Не уходи! — почудилось ей в его выдохе. И столько мольбы, столько боли было в этом, что она словно обмякла вдруг в его руках, ноги стали ватными, сердце сладко заныло, и запоздавшее тепло разлилось в груди в слабом предчувствии какой-то небывалой радости и счастья.
Посвящаю маме Марусе
ЧАСТЬ I
Свадьбу справляли в Александровке широко, со всей имевшейся в наличии родней и многочисленными друзьями, а наутро предполагалось венчание в местной церкви. Получилась свадьба многолюдной, шумной, крикливой и утомила Ольгу до боли в висках, вызвав лишь одно безудержное желание: оказаться дома на любимом диване. Молодежь бурно веселилась на пристроенной веранде, родственники же, оставшись за столом, затевали время от времени хоровое пение. Пели про гулявшего по Дону казака, про свадьбу на пыльной проселочной дороге, про черноглазую казачку, подковывавшую коней. Но поскольку всех слов, как это и бывает, не знал никто, то исполняли в лучшем случае по два куплета, а потом долго самозабвенно мычали и тянули «ля-ля-ля-ля», не отрывая проникновенного взгляда от своих визави.
Руководил столом, как всегда, дядя Паша, теперь же новоиспеченный тесть, человек неуемной энергии, довольно высокий, плотный, с брюшком, поредевшей шевелюрой, но так и не утративший молодого блеска в глазах и неутомимый в застольях, как и в прежние годы. Его голос не просто выделялся, а перекрывал своей силой и мощью голоса всех поющих.
Ольга помнила этот голос и эти глаза с тех пор, как помнила себя. Воспоминания детства всегда связывались у нее с этим домом в Александровке, с огромным тенистым садом вокруг него, и порой казалось, что все самые лучшие и радостные события ее жизни произошли именно здесь. И добрым духом этого дома, как домовой из волшебной сказки, неизменно оставался дядя Паша. Даже когда Ольга приезжала сюда с друзьями или с очередным «другом», а он в это время жил в Москве, она не могла отделаться от ощущения его незримого присутствия в доме. Ей казалось, что дядя Паша или варит малиновое варенье на террасе, или окучивает картошку, или чинит крышу. Но это не раздражало, а, напротив, успокаивало ее, давало чувство уверенности и защищенности, хоть на время спасало от пустоты и одиночества, знакомого до боли состояния, которое накатывало внезапно и всегда заставало врасплох.
* * *
Ольга родилась в Москве, но, когда ей исполнилось десять лет, отца, кадрового офицера, направили на службу в маленький военный городок на Волге, где родители живут до сих пор и где пришлось бы жить и ей, если бы не дядя Паша. Именно он, заметив тоску девочки и постоянно мокрые от слез глаза, настоял на том, чтобы она осталась с ними в Москве. «И Иришке веселей будет», — добавил он безапелляционно, предвидя возражения со стороны жены Тамары, родной сестры Олиной матери.
Так что дядя Паша явился добрым духом всей судьбы Ольги, и только благодаря его тогдашней настойчивости она не оказалась запертой навсегда в душном, вонючем городишке с казармами и единственной достопримечательностью — заводом по переработке рыбы. Жизнь в столице дала ей возможность окончить хорошую школу, получить музыкальное образование, она увлеклась театром, занималась фехтованием и плаванием, научилась фотографировать и управляться с байдаркой.
Для Ирины, ее двоюродной сестры, с которой они вместе росли все эти годы и даже жили в одной комнате, Ольга была непререкаемым авторитетом и примером для подражания во всех отношениях. Ира, почти на семь лет моложе Ольги, обожала сестру, считая ее самой умной, самой красивой, самой-самой…
Впрочем, так считали многие из Ольгиных друзей и поклонников. Когда она училась на журфаке МГУ, ей прочили блестящее будущее и в профессиональной сфере, и, конечно, в личной. Но — увы! Стоя на пороге тридцатилетия, невольно оглядываясь на уходящую «первую молодость», Ольга с досадой сознавала, что ее нынешняя жизнь во всех отношениях далека от того, о чем она грезила в юности.
До самого окончания университета она представляла себе работу журналиста довольно смутно, но непременно в романтическом свете. Ей казалось, что это ежедневный подвиг, сопряженный с опасностями и лишениями, которые она должна будет преодолевать… в общем, как подростки 60—70-х годов представляли себе работу геолога или космонавта.
На самом же деле все оказалось не только не опасно, но довольно скучно и даже рутинно. Работа в газете не приносила ей ни радости, ни удовлетворения: ее либо использовали в качестве девочки на побегушках, либо усылали в командировки в какую-нибудь тьмутаракань с весьма расплывчатыми целями. В итоге ее очерки и статьи получались безликими, «никакими», она так и не смогла найти свою тему, интересную ей и нужную газете.
Народ в редакции подобрался тертый, бывалый, писали почти все по-газетному бойко, названия, каламбуры, сравнения вылетали у них мгновенно, статьи пеклись безостановочно. Ольге трудно было как-то выделиться в таком коллективе. Но главное, за три года работы она поняла, что постоянные авралы, запарки и неиссякаемый энтузиазм сотрудников — весь этот газетный дух глубоко чужд ее спокойной, основательной натуре. Не могла она стать фанатом газеты, как почти все ее коллеги, считавшие редакцию домом родным, проводившие на работе большую часть времени и даже частенько ночевавшие здесь прямо на стульях.
Домом ее, причем любимым домом, ее тихой гаванью и крепостью была однокомнатная квартирка в Сокольниках, которую родители при помощи каких-то связей дяди Паши купили ей к двадцатилетию. Здесь проходили дружеские студенческие пирушки, здесь же начинались и заканчивались ее бурные или не очень бурные романы.
Эти стены знавали много романов, так как отдельная квартира без родителей была предметом зависти всей группы и частенько ключ от нее перекочевывал из кармана подруги, которой надо было расставить все точки над «i» со своей пассией, к другу, которому невмоготу становилось гулять с девушкой по Бульварному кольцу или сидеть в кинотеатре на последнем ряду.
Но все это в прошлом. Все университетские друзья повзрослели, остепенились, выяснили свои отношения с возлюбленными, женились, завели детей. Теперь они встречаются только раз в году, 15 июня, да и то приходят далеко не все: кто в отпуске, кто в командировке, у кого болен ребенок или какие-то неотложные дела.
У Ольги было такое ощущение, что жизнь как-то заладилась у всех, кроме нее и Светки. Ну, конечно, не все довольны своей работой, почти все недовольны зарплатой, Нинель Барсукова развелась с мужем, жена Славика Мищенко погибла в автокатастрофе. Но у них остались дети… А у Ольги со Светкой ни с детьми, ни с замужеством почти до тридцати так и не получилось…
* * *
Светка считалась (и справедливо) первой красавицей на курсе. Высокая, вызывающе стройная, с осиной талией, с копной темных волос и ярко-синими глазами, она казалась сошедшей со страниц рекламного западного журнала.
Когда она после окончания школы приехала из Курска в Москву и пришла в приемную комиссию, все мужчины застыли как изваяния, а студент-старшекурсник, принимая ее документы, пошутил: «А вы, девушка, случайно вуз не перепутали? Вам бы во ВГИК или, на худой конец, в ГИТИС…»
Первое время Ольга как-то сторонилась ее, следуя своему глубокому убеждению, что все красавицы непроходимо глупы и самовлюбленны. Потом, после первого семестра, узнав Светку ближе, она поняла (и усвоила это на всю жизнь), что очень легко ошибиться, оценивая человека по его внешности.
Светка оказалась человеком противоречивым, взбалмошным, склонным к различным фантазиям и даже авантюрам, но глупой или самовлюбленной ее никак нельзя было назвать. Ей очень повезло с учителем литературы в курской школе. Она даже призналась Ольге, что, несмотря на разницу в сорок лет, довольно долгое время была влюблена в него. Она много читала под его руководством, и круг ее любимых авторов, как выяснилось, был тот же, что и у Ольги: Достоевский, Бунин, Сэлинджер. А еще она любила поэзию и в седьмом классе попыталась сама сотворить вирши. Но учитель, прочитав сии «стихи», строго посоветовал ей впредь выражать свои мысли в прозе и подсунул томик Цветаевой.
Частые их разговоры на кухне у Ольги строились по законам, ведомым только женщинам. Человек, обладающий чисто мужским складом ума, быстро устал бы от мелькания тем их беседы, как глаз утомляется следить за бесконечными перелетами пчелы с цветка на цветок.
Разговор мог начаться с обсуждения нового наряда Вики и естественным образом перейти на декана, которому она строит глазки; тут вполне логично было вспомнить про мымру-инспектрису в деканате и предстоящий экзамен по советской литературе, одно только упоминание о котором наводило на мысль поговорить о выставке Ларионовой в Третьяковке, а заодно и о новых польских духах в магазине «Ванда», поскольку он находится рядом с музеем; после чего сам Бог велел обсудить роман Зюскинда «Парфюмер» и вообще проблему запахов, особенно эротического свойства, и как следствие — эротику, секс, случаи из личной практики. И, как бы обобщая все вышеперечисленное, Светка читает наизусть своего любимого Мандельштама:
Возьми на радость из моих ладоней Немного солнца и немного меда…Им искренне казалось, что весь вечер они проговорили о чем-то одном. И, по большому счету, так оно и было.
* * *
Ольга была не так красива, как ее подруга, но обладала качеством, которое ценится не меньше, чем красота, — был в ней некий шарм, необъяснимое обаяние не только в чуть скуластом лице, но и в манере говорить, в походке, в каждом движении. «Оля даже со стула встает не как все, а красиво!» — хвасталась сестрой Ирина. Приобрести это невозможно никакими упражнениями и тренировками, это от рождения дается — либо не дается, как цвет глаз или форма рук.
Лет десять назад дядя Паша как-то пошутил в их со Светкой адрес: «Красивые женщины очень разборчивы и не боятся остаться без ухажеров, вот именно они-то в девках и засиживаются…» И ведь как в воду смотрел.
Ольга нравилась мужчинам, и поклонники у нее не переводились. Но до стадии близких, интимных отношений допускались далеко не все, иные так и исчезали, измученные чаепитиями и разговорами на кухне, кончавшимися раскладушкой и утренней головной болью.
А вот Игорек не исчез, мало того — он стал теперь ее родственником, так сказать, кузеном (или двоюродным зятем?). Вот он сидит во главе стола, на месте жениха, оживленный, красивый, и о чем-то возбужденно спорит со своим закадычным другом и свидетелем Стасом. Ирина не сводит влюбленных глаз со своего мужа и, даже не вникая в суть спора, заранее готова во всем согласиться с Игорем.
— Дядя Паш, можно тебя на минутку? — Ольга дождалась перерыва в хоровом пении родственников, подошла к дяде и потянула его за рукав.
— В чем дело, Олюшка?
— Выйдем на террасу.
На террасе в полумраке обнималась какая-то парочка, пришлось сойти в сад.
— Дядя Паш, ты только не обижайся, все было очень здорово… но так голова разболелась… В общем, я хочу домой поехать.
— И думать не моги, Ольга! Никуда я тебя не отпущу. Ложись в сарае на сене, головную боль как рукой снимет. А завтра, по православному обычаю, венчаться молодых поведем — самый душевный момент, так сказать, в бракосочетании. Нет-нет, никуда я тебя не отпущу, даже не помышляй, да и время позднее… нет, Олюшка, как же без тебя-то завтра, уж ты не порти нам праздник, и Иришка расстроится, и Тамара… да и Игорек… Ведь такое… раз в жизни…
Дядя Паша не на шутку разволновался, пот мелкими бисеринками выступил у него на лбу. Он стал шарить по карманам в поисках носового платка.
Ах, дядя Паша, дядя Паша, милый, добрый дядя Паша… Как он постарел! Казалось, еще недавно они втроем — он, Ольга и Иришка — катались на велосипедах в Лосином острове, любили заезжать далеко-далеко, и дядя Паша учил их ориентироваться в лесу по солнцу, по мху, по деревьям. Был он такой молодой, стройный, вел себя так озорно, так любил шутить и дурачиться, что казался в свои тридцать пять их ровесником.
А однажды, когда Ольга, не заметив корягу, застрявшую в спицах, полетела на полной скорости через руль головой вперед, первое, что она увидела, когда очнулась, было лицо дяди Паши, глаза его, полные любви к ней, страха за нее, готовности сделать для нее все что угодно, даже отдать свою жизнь.
Никогда ни до ни после этого случая Ольга не видела ни в чьих глазах ничего похожего. Да и готовности подобной она ни у кого не замечала, даже у своих родителей.
* * *
— Оленька, ты вроде похудела. Опять твои диеты? — говорила при их редких встречах мать и, не дожидаясь ответа, начинала ехидный рассказ про Надежду, свою соседку по лестничной клетке, которая благодаря какой-то диете попала в больницу с язвой желудка.
Надежда вообще была излюбленной темой всех разговоров матери. Ольге порой казалось, что, не будь этой Надежды с ее чудинкой, бесконечными увлечениями йогой, мистикой, астрологией, учением Иванова и пр., о которых почему-то сразу узнавал весь их дом, матери вообще не о чем было бы говорить. Ольга с досадой сознавала, что матери, видимо, не хватало событий в своей жизни, не на что было опереться, и отрицание чужого, нелепого и бестолкового, на ее взгляд, мира служило для нее своего рода опорой, поддерживало в ней сознание собственной правоты и наличия здравого смысла.
За время их редких встреч, один-два раза в году, Ольга с горечью убеждалась, что родители и она — чужие люди, просто случайно в документах названные семьей. Голоса крови она не чувствовала, а проблемы друг друга их не волновали, хотя они и старались делать вид, что проявляют интерес и заботу.
Ольга как-то размышляла о том, почему и как это произошло, и приходила к выводу, что всему виной обстоятельства, вынудившие их жить врозь. Потом, повзрослев, она стала понимать, что все гораздо сложнее, но думать об этом ей уже не хотелось. Своими тайными радостями она делилась со своей лучшей подругой Светкой, а когда было очень плохо или она не знала, как ей поступить, — она шла к дяде Паше.
Часто ей казалось, что на всем свете нет человека ближе, роднее и добрее, чем он. А то вдруг она вообще забывала о его существовании и могла неделями не появляться у Беркальцевых и даже не звонила, пока сам дядя Паша или Ирина не проявляли активность.
Тетя Тамара не звонила почти никогда, только в крайних случаях и по делу.
* * *
Хотя Ольга плохо понимала необходимость своего присутствия на венчании молодых, но жалость к дяде Паше, такому растерянному, постаревшему, внезапно перехватила ей горло, и она готова была сделать все что угодно, только бы не огорчать его, не видеть его потухших глаз и расстроенного лица.
— Хорошо, хорошо, дядя Паша, я останусь, только, если можно, не пойду в дом, ты принеси мне в сарай одеяло с подушкой.
Сарай был просторным, кое-где стояли пыльные сундуки и короба, в углу — панцирная сетка на деревянной подставке. Назначение этих сундуков с детства было окутано для Ольги тайной. Ей казалось, что там прячется кто-то наподобие старика Хоттабыча, поэтому открывать их она осмеливалась только в присутствии кого-нибудь из взрослых. И хотя позже она узнала, что там хранится старая одежда, которую постоянно привозят, чтобы не захламлять московскую квартиру, ощущение таинственности не проходило с годами. Пожалуй, даже сейчас она не отважилась бы открыть какой-нибудь из сундуков.
У кровати должна стоять керосиновая лампа, а на полочке слева всегда лежали спички. Ольга знала все это наизусть и могла ориентироваться в темноте едва ли не лучше, чем в собственной квартире. Вот спички. Так. Лампа… Зажигать осторожно, ведь сарай наполовину забит сеном.
Зачем дяде Паше столько сена каждый год, не знал никто, да и сам он не знал. Просто ему доставляло огромное удовольствие косить траву на рассвете или на вечерней зорьке, а потом сушить ее, ворошить граблями, безумно волноваться, как только появлялось на небе хоть одно облачко, и сгребать сено в аккуратные стожки, накрывая сверху брезентом.
Эта невинная страсть дяди Паши была постоянным предметом насмешек всех родственников и знакомых, приезжавших на дачу.
— Паш, смотри, кажется, дождь собирается, — озабоченно заявлял кто-нибудь из гостей, выглядывая в окно.
— Да что ты! — И дядя Паша, всякий раз простодушно попадаясь на подобную удочку, выскакивал из-за стола и бежал к сараю за граблями и брезентом.
И вот уже с конца июня (при хорошем лете) все гости Александровки спали на матрасах и подушках, набитых свежим сеном, а дядя Паша похаживал с гордым видом победителя.
— Вот, черти, а вы насмешки строили. А сенцо-то первый класс. На такой постели только цветные диснеевские мультики снятся.
Свет фонарика у двери вывел Ольгу из задумчивости. Вернулся дядя Паша.
— Вот, Олюшка, одеяло и наволочка, сейчас сеном набью. И наматрасник надо из сундука достать, сейчас, сейчас…
Дядя Паша привычно суетился, набивая сеном матрас и подушку, потом проверил, мягко ли, хорошо ли, и погладил Ольгу по голове.
— Ну ложись, Олюшка, не забудь лампу потушить. А я уж постараюсь поскорее всех угомонить, завтра ведь к десяти в церкви надо быть. Старики наверняка уймутся, а вот молодежь… говорят, мы еще купаться на пруд пойдем.
— Дядя Паш, а чья это была идея — венчаться? Игоря, что ли?
— Да я не знаю, Олюшка… Пришли как-то они вдвоем и сообщили нам с Тамарой: хотим не просто штамп в паспорте, хотим по-настоящему, венчаться то есть, как наши деды и прадеды. Вообще-то это, конечно, правильно, если чувство… если знаешь, что на всю жизнь…
— А они знают, что на всю жизнь? — Ольга горько усмехнулась.
— Так ведь, Олюшка, гарантий теперь, как говорится, даже банк не дает. То есть давать-то он дает, да не всегда выполняет. А уж человек и подавно. Но если у них есть желание серьезно отнестись, так сказать, не формально…
— Ага, не формально. У нас на курсе был такой неформалист, так он четырежды был женат, два раза из них венчался.
— Ну, Олюшка… — Дядя Паша беспокойно заерзал на краю постели, куда присел по привычке, как бывало, когда он укладывал их с Ириной спать и приходил на пять минут, а сидел порой по часу, рассказывая им о детстве, о друзьях, вспоминая разные случаи из жизни.
— Ладно, дядя Паш, все будет нормально. — Ольга почувствовала, что зашла слишком далеко, и решила не касаться больше этой темы. — Ну, я попробую заснуть, может быть, голова пройдет. Хотя при таком шуме в доме… Ты проследи, чтобы хоть на улицу громко орать не выходили.
Дядя Паша встал с кровати и направился к выходу, вдруг остановился:
— Да, совсем забыл, Олюшка, я же тебе таблетку принес.
— Какую?
— От головной боли. Только вот воду забыл, ах ты, Господи…
— Да ладно, давай, я и так проглочу. Спасибо, дядя Паш.
— Ну, покойной ночи, Олюшка, завтра в восемь подъем.
— Хорошо, дядя Паш, сам-то хоть немного поспи.
— Уж это как получится.
Дядя Паша вышел, осторожно прикрыв за собой дверь сарая.
Ольга лежала, с наслаждением вдыхая аромат свежего сена и пытаясь взглядом найти щель в потолке, сквозь которую, она знала, видно небо. Щели не было. «Наверное, дядя Паша крышу починил».
Она закрыла глаза, но сон не приходил. Да и не столько от шампанского, сколько от всей этой ситуации, от этого нелепого, ложного положения, в котором она оказалась по отношению к своим близким (конечно же, в первую очередь к дяде Паше и Ирине, родители здесь были ни при чем).
«Он сошел с ума. Он просто сошел с ума», — твердила она себе последние два месяца, уже не вдумываясь в смысл этих слов и не пытаясь понять поведение Игоря.
* * *
С Игорем она познакомилась давно, в одной компании, он был чьим-то младшим братом, учился на втором курсе МИСИ и казался наивным и неискушенным. Ольга в то время была уже дамой со стажем во всех отношениях, работала в газете, имела роман с Вадимом, затяжной и безнадежный, так как тот был женат и обожал свою дочь.
Игорь, как потом, спустя год, сам ей рассказывал, влюбился в нее сразу и бесповоротно. Он стал бывать везде, где, по его сведениям, должна быть Ольга. И, несмотря на то что она приходила не одна, сидел весь вечер где-нибудь в уголке и не сводил с нее глаз, влюбленных и восторженных. Именно благодаря этому взгляду Ольге стало понятно всегда казавшееся ей поэтической выдумкой выражение «глаза светятся».
Все было настолько очевидно и бесхитростно, что друзья, на все лады подтрунивавшие поначалу над этой ситуацией, оставили и его, и ее в покое, потому как Игорь ничего и не скрывал, а Ольга… а Ольге нечего было скрывать. Она настолько была занята своими отношениями с Вадимом (и все это знали), вернее, даже не отношениями, а бесконечным их выяснением, что ей не хватало душевных сил уже ни на что другое.
Хотя, как и любой женщине, Ольге льстило это восторженное, неотступное внимание со стороны Игоря. Тем более что он был неглуп, ненавязчив и довольно привлекателен, а порой даже красив. «Будущая гроза женщин», — пророчили ему Ольгины подруги.
Ольгу удивляло, что если рассматривать каждую черту его лица в отдельности, то нельзя было обнаружить ничего примечательного: крупный, неправильной формы нос, слишком густые брови, невыразительный рот. Но необыкновенно темные, почти черные глаза, которые освещали лицо ярким, тревожным светом, придавали всему его облику что-то загадочное и притягательное. «Если правда, что глаза — зеркало души, то этот Игорек — темная лошадка», — думала Ольга.
Отношения с Вадимом в то время зашли в тупик, Ольга уже не имела иллюзии, она не просто понимала, но как бы всей кожей, каждой клеточкой чувствовала, что никогда они не будут вместе, никогда он не оставит семью. И невольно она, сознавая свою унизительную роль второго плана в жизни Вадима (все на бегу, скрываясь, сюда нельзя, здесь могут увидеть знакомые жены, выходные и праздники только в лоне семьи и т. п.), получала своего рода «компенсацию» при виде сияющих глаз Игоря. Стоило ей вспомнить этот взгляд, его радостную улыбку, адресованную только ей одной, как тепло разливалось в ее груди, плечи расправлялись, походка становилась упругой и летящей. Появлялось победное чувство уверенности в себе: она любима. Пусть не желанной, а совсем ненужной ей любовью, но она, эта любовь, все-таки помогала ей, поддерживала в трудные минуты. Это длилось довольно долго.
Светка была в курсе всех ее дел и на работе, и в личном плане, и, сидя у нее на кухне за кофе, стряхивая пепел с сигареты куда попало, она наставляла подругу:
— Ты с ума сошла! Сколько можно тянуть эту бодягу с Вадимом? Ты ведь знаешь, что это ничем не кончится. Ты что, хочешь до сорока лет встречаться с ним по вторникам и четвергам? Прямо как банные дни какие-то, ей-богу. Или рыбные.
— Ладно, Свет, ты-то хоть меня не добивай… — слабо отмахивалась Ольга.
— Да не строй ты из себя несчастную! — кипятилась подруга. — Прекрасно знаешь, что я для твоей же пользы стараюсь. Посмотри на себя: все при тебе, на тебя даже юные красавцы пялятся. Бросай своего женатика как можно скорее, потом мне же спасибо скажешь.
— Легко сказать — бросай, — вздыхала Ольга. — Почти два года… А потом, ты знаешь, что такое совсем одинокая женщина?
— Одинокая? Опять прибедняешься. Да стоит тебе только свистнуть… Взять хотя бы твоего Игоречка. Чем не клин?
— Какой клин?
— Ну помнишь поговорку: клин клином вышибают? Вот и действуй!
— Ох ты какая быстрая! Знаешь, Свет, если честно, он мне нравится, но как-то отвлеченно уж очень… абстрактно… Да и юный он совсем, почти школьник.
— Ну, это не беда, любви, как говорится, все возрасты покорны. Парень на глазах усыхает по тебе. А ты его еще и воспитывать можешь, возраст позволяет…
— Издевайся, издевайся…
— Нет, Олюня, я серьезно. По мне, пусть лучше меня любят, страстно и постоянно. А чтобы я сама по ком-то страдала… ну нет, не дождутся они от меня.
— Не зарекайся, подружка! Вот влюбишься по-настоящему, да страстно, да безответно…
— Как же! Ну а уж если бес попутает… только давить в зародыше, а не культивировать. Да ты меня знаешь, увлечься я, конечно, могу, но на любовь с первого взгляда не способна, ведь мой идеал…
— Знаю, знаю я твой идеал! «Ум и деньги — вот главное в мужчине».
— Да, Олюнчик, без этих качеств для меня мужчина не существует. Рано или поздно срабатывает защитный рефлекс.
Подобные разговоры, с теми или иными вариациями, велись достаточно долго и регулярно. Поэтому неудивительно, что, когда Ольгу в очередной раз оскорбило поведение Вадима, она бросилась к Игорю как к спасательной шлюпке. Его сильные любящие руки подхватили ее, и…
Игорь долго не мог поверить своему счастью. Складывалось впечатление, что он не ожидал такого поворота дел, что он вообще ничего не ждал и что высшим наслаждением для него было всю жизнь сидеть, как раньше, в углу и смотреть на предмет своего обожания.
Порой у Ольги закрадывалось смутное подозрение, что его вполне устраивала прежняя, идеальная форма их отношений, что новый статус любовника был чуть ли не обременителен для него. Но Светка считала, что подруга все это выдумывает и излишне усложняет, и, привлекая Фрейда, пыталась растолковать той извивы ее подсознания.
Вадим поначалу жаждал объяснений и чувствовал себя оскорбленным, потом общие знакомые обрисовали ему ситуацию, он как-то на удивление быстро успокоился и ограничился редкими звонками и нелепыми поздравительными телеграммами.
— А чего ты ожидала? — комментировала Светка. — Что он всю оставшуюся жизнь будет биться головой о твою дверь и умолять вернуться к нему? Плохо же ты знаешь это мужское племя. Да ты Фрейда почитай! Современный мужчина не выдерживает чувства вины и груза ответственности. Это придавливает его, но на время он может с этим смириться. Зато когда он освобождается от этого (заметь, причем не по своей инициативе!), то чувствует дискомфорт только первое время. А потом — разлюли…
— То есть ты хочешь сказать, что наши отношения…
— Да, именно, ваши отношения на уровне подсознания были для него обузой. Учитывая, что он, человек порядочный, по сути хороший семьянин, должен был постоянно врать, выкручиваться…
Ольга тяжело вздохнула. Что греха таить, слова подруги не были для нее новостью, она всегда это чувствовала, но не хотела об этом думать.
— Что ж, значит, все к лучшему. Только, Свет, ты и меня пойми… Мне же обидно… ведь два года… — К горлу подступил комок, и Ольга замолчала.
— Олюнчик, все понимаю и сочувствую, но, поверь мне, так лучше для всех. Тебе тяжело сейчас, это естественно. Но твоя женская сущность должна пройти период реабилитации… а вот период отторжения… нет, ты все-таки почитай Фрейда.
Светка была неустанным толкователем человеческой натуры по Фрейду. Когда-то, еще в студенческие годы, она прочитала по диагонали пару-тройку его трудов, была потрясена прочитанным и усвоила все как-то по-своему, но крепко.
Из ее доморощенных толкований вырастал образ старикана Фрейда, похожего на Санта-Клауса, с большим мешком за плечами, в котором покоились советы и разъяснения на все случаи жизни. Те их знакомые, которые изучали Фрейда серьезно и глубоко, смеясь называли Светкины толкования «кухонным Фрейдом» или «Светкиным Фрейдом», но подругу это не смущало и не останавливало. Ольга же, сама так и не удосужившись ознакомиться с трудами великого мужа, бывала вполне удовлетворена Светкиными объяснениями и определениями.
Потом Светка вдруг исчезла, ничего никому не сообщив. Хозяйка, у которой она снимала комнату, сказала, что та заплатила ей за полгода вперед, вещи не взяла и уехала якобы в длительную командировку. Да, несколько раз за ней заезжал очень представительный мужчина на красивой машине, хозяйка решила сначала, что это отец приехал из Курска, но Светка объяснила ей, что отца своего не помнит. Поэтому хозяйка не знала, что и думать. Больше ничего она сообщить не могла. В рекламном агентстве, где работала Светка, сказали, что она неожиданно уволилась, даже не забрав трудовую книжку.
Эх, Светка, Светка… Смылась в самое неподходящее время! Где ты сейчас? Нашла себе какого-нибудь крутого поклонника? Неужели умного и богатого? И вдобавок влюбленного? Вот уж действительно редкостное сочетание свойств и качеств. Но почему же так внезапно, молча скрылась, как будто спряталась ото всех и почти три месяца не дает о себе знать? А Ольге в это время как никогда была нужна помощь Светки и старика Фрейда.
* * *
Беркальцевы о существовании Игоря в жизни Ольги не знали. Они думали, что она продолжает встречаться с Вадимом. Дядя Паша, догадываясь, что Вадим женат, очень переживал за Ольгу, но советов давать не осмеливался. И вообще, советы дядя Паша, человек деликатный, давал только тогда, когда его об этом просили.
Например, когда Ольга три года назад пришла к нему и сообщила, что уходит из газеты и что ей предложили участвовать в конкурсе на замещение должности редактора театральной редакции одного небольшого, но престижного издательства.
— Ну что, дядя Паш, как ты считаешь?
На самом-то деле Ольга для себя уже все решила, но ей необходима была поддержка близких людей, так как она все же сомневалась в своих силах. Светка дала ей «добро», присовокупив, что вообще не понимает, как та могла работать столько лет в «этом газетном гадюшнике», что надо наконец выходить на интеллигентное окружение и заниматься благородным делом, а не «жареными фактами» и пасквилями. «И в театры будем чаще ходить», — мечтательно добавила она.
Но Ольге для полной решимости и спокойствия необходим был и голос дяди Паши.
— А что же тебя, Олюшка, смущает? Театр ты любишь и знаешь, еще со школьной скамьи, так сказать…
— Да ведь это, дядя Паш, два совсем разных рода деятельности, понимаешь — журналистская и редакторская. То я сама писала, а теперь должна буду читать и править то, что пишут другие. И не только править, а, как мне объяснили, вообще участвовать в издательском процессе: искать достойных авторов, работать с рецензентами, изучать театральную жизнь…
— Так это же очень интересно, Олюшка. Ты молодая, у тебя вся жизнь впереди, ты еще многому сможешь научиться. Но ты сказала — конкурс. Значит, тебя могут и не взять?
Ольга полистала валявшийся на диване журнал.
— Ах, дядя Паш, ты такой наивный, воспринимаешь все буквально. Это просто форма такая, это якобы конкурс.
— Но почему бы тогда просто не взять тебя, без объявления конкурса?
— Ну, не знаю. Так положено почему-то, какие-то ведомственные игры.
— Так, кроме тебя, претендентов на эту должность нет?
Ольга достала помаду из сумочки, подкрасила губы и причесалась.
— Да есть там мужик какой-то, из какого-то НИИ. Я думаю, что он больше имеет отношение к полиграфии, чем к театру. Но это так, вроде подсадной утки.
— Мужик — утка? Тогда уж подсадной селезень, — пошутил дядя Паша.
Честно проработав почти тридцать лет инженером на заводе низковольтной аппаратуры, дядя Паша никогда не вникал в закулисные игры администрации, поэтому немало был озадачен таким положением дел в некоторых учреждениях. Но «добро» на переход Ольги в издательство дал.
В то время Игорь только-только появился на ее горизонте. Началось его «великое сидение», как шутила Светка, имея в виду, что, где бы Ольга ни появлялась, он уже сидел там и ждал ее появления, чтобы на весь вечер зафиксировать на ней свой взгляд. Спиртного он почти не пил, танцевал крайне редко, либо с Ольгой, которая иногда королевским жестом приглашала его, либо с какой-нибудь нахальной девицей, которая против воли выволакивала его в круг танцующих.
Позже выяснилось, что он младший брат Инги, с которой Светка работала до своего перехода в рекламное агентство. Светка поражалась поведению Игоря больше всех, так как, еще не зная его, была наслышана о нем: Инга частенько рассказывала на работе о похождениях брата, о девицах, обрывавших телефон.
— Ее послушать, так выходит, что Игорек лишился девственности лет в десять, — иронизировала Светка.
Образ Игоря, возникший в ее сознании благодаря рассказам Инги, никак не вязался с этим живым Игорем, влюбленным в ее подругу, который тихо сидел в углу дивана и неотрывно смотрел только на Ольгу. Даже слабой печати порочной опытности не было в его облике. А ведь в этом возрасте юноши любят демонстрировать свою искушенность в такого рода делах. Светка была в полном недоумении.
— Послушай, Олюнь, — говорила она, — здесь только одно из двух: или эта Инга сдвинутая и все придумывает про сексуальные приключения брата (ох, тут, конечно же, Фрейд чистой воды), или я, прожив чуть ли не половину жизни, совсем не разбираюсь в людях. Одно из двух!
Для человека столь юного возраста, попавшего в глуповатое положение влюбленного, да еще и безнадежно влюбленного, Игорь вел себя безукоризненно: был несуетлив, ненавязчив и при этом предельно внимателен. Когда Ольга бывала без Вадима и просила проводить ее домой, он делал это с большой радостью.
Однажды ему пришлось остаться ночевать у нее в Сокольниках, Так как было поздно, а такси поймать не удалось. Он послушно лег в кухне на предложенную ему раскладушку, попыток зайти ночью в комнату на предмет «что-то мне не спится» не предпринимал, а рано утром тихо ушел, прикрыв за собой дверь.
«Что-то подозрительное в этом благородстве, — подумала тогда Ольга. — Что-то даже демонстративное. Просто пай-мальчик!»
Но стоило ей снова увидеть Игоря, и она поняла, что была не права. Ничего он не демонстрировал, просто он так жил, так чувствовал, а обожание свое не считал нужным скрывать.
«Тут, скорее, простодушие, а не демонстрация», — решила Ольга.
Светку тоже поразило поведение Игоря той ночью.
— Нет, Олюнь, я что-то не пойму, — недоумевала она, когда на следующий день заехала вечером к подруге. — Он что же, вот просто так лег и, не попрощавшись, ушел? Слушай, может, он больной? Я, конечно, не то имею в виду… ну, с головой что-нибудь, а? А может, он тебя просто боится? Понимает, что все равно ничего не получится, что у тебя Вадим…
— Значит, ты считаешь, человек его возраста в состоянии влюбленности способен на такой холодный расчет? А что по этому поводу думает твой Фрейд?
— Да Бог с ним, с Фрейдом, — отмахнулась Светка. — Послушай, Ольга, — вдруг медленно и как-то зловеще заговорила она, — напрягись и вспомни: а он когда-нибудь вообще намекал тебе о своих чувствах? Ну, что жить не может… что-нибудь в этом роде?
— То есть ты хочешь сказать… — начала Ольга.
— Да, именно хочу сказать, — насмешливо произнесла Светка. — Может, мы все дружно это придумали?
Наступило молчание. Слышно было только, как ходики на стене в кухне бодро и невозмутимо отстукивают время. Подруги в задумчивости пили кофе.
— Нет! — вдруг громко и категорично заявила Светка, как бы придя вдруг к определенному выводу. — Дураку ясно, что он к тебе, мягко говоря, неравнодушен. Назови это любовью или как-то еще… все равно. Просто он, наверное, робеет… ну, разница в возрасте и прочее…
Но Игорь не производил впечатления робкого юноши. Когда Ольга обращалась к нему, он не краснел «удушливой волной», не бледнел, лишь улыбка удовольствия озаряла лицо, делая его почти красивым. Однако это лицо не омрачалось и тогда, когда Ольга приходила и уходила с Вадимом. Порой она даже ловила себя на чувстве досады оттого, что он так же открыто продолжает смотреть на нее, когда она, танцуя, тесно прижимается к Вадиму.
Да, Игорь не был похож на тех юнцов-психопатов, которые, влюбившись в зрелую женщину, готовы преследовать ее и закатывать сцены ревности по любому поводу и без, не разбираясь, имеют ли на то право.
К подобным сценам был, скорее, склонен Вадим.
— И что этот молокосос на тебя так таращится? — недовольно ворчал он.
— Влюблен, наверное, — беззаботно отвечала Ольга.
— А ты и рада? Готова ему глазки строить для поддержания его любовного пыла? — кипятился тот.
Но при этом он отлично видел, что Ольга не обращала на Игоря внимания и только изредка заговаривала с ним, да и то шутливо-снисходительно, как взрослые говорят с ребенком.
* * *
До церкви было недалеко, минут пятнадцать ходу. Пошли только те, кто успел немного поспать, и те, кто совсем не ложился. Всего набралось человек десять-двенадцать. Остальные гости либо спали где придется: во всех комнатах, на террасе, на чердаке и даже в саду, либо были в состоянии, непригодном для восприятия духовного таинства.
Тетя Тамара с матерью Ольги, приехавшей на свадьбу племянницы, остались хлопотать по хозяйству и накрывать на стол, хотя им тоже очень хотелось пойти в церковь.
— Ничего, ничего, — успокаивал их дядя Паша, — вот Олюшка будет венчаться, тогда уж вы обязательно поприсутствуете.
— А с чего ты взял, дядя Паша, что я венчаться буду? Потому что это модно? Как раньше было модно цветы к Вечному огню?
Ольгу сегодня раздражало все: и чрезмерная жизнерадостность друзей Игоря и Ирины, и фальшивая благостность на лицах родственников, и волнение дяди Паши, и сами молодожены, как-то торжественно вышагивавшие под руку впереди всех.
«Устроили цирковое представление и радуются, — злилась она. — И почему, почему я вчера не уехала?»
Обряд длился неожиданно долго, около двух часов. В церкви было прохладно, но после почти бессонной ночи постепенно всех разморило. У Ольги перед глазами поплыли огоньки свечей, борода священника, лики святых… Она схватила дядю Пашу под руку и почти повисла на ней.
«Венчается раб Божий… рабе Божией…»
Она повернулась к дяде Паше и увидела, что глаза его полны слез. «Не приведи, Господи, обманывать тех, кто верит нам беззаветно». Кто это сказал? Почему именно эти слова пришли ей в голову? Почему именно сейчас?
Почти всю дорогу из церкви шли молча, оживились только при подходе к дому. Там их опять ждало застолье, и полусонные гости высыпали на крыльцо с поздравлениями. Всем предлагалось снова веселиться до вечера.
Одна только мысль о том, что ей придется задержаться здесь хотя бы на минуту, приводила Ольгу в ужас. Помятые физиономии родственников, хохочущие девицы, подвыпившие юноши, которые постоянно затевают азартные споры на политические и экономические темы…
«Боже мой, да это просто дурдом какой-то», — раздраженно подумала она. С террасы было видно, что дядя Паша возится у двери погреба, рядом с сараем. Наверное, пошел за очередными бутылками для гостей. Ольга быстро спустилась в сад и подошла к погребу.
— Дядя Паша! — взмолилась она. — Если ты меня любишь… позволь мне уехать сейчас же, но только, прошу тебя, без обид. Иначе… иначе я умру прямо здесь, в погребе.
Дядя Паша растерянно заморгал, но что-то во взгляде Ольги, в ее интонациях заставило его верно оценить состояние племянницы.
— Я вижу, Олюшка, тебе совсем худо. Что ж, поезжай, отдохни как следует. Матери и Иришке скажу: заболела, мол. Сумочку свою в сарае не забудь. — Он нежно поцеловал ее в голову. — Иди нижней тропкой, чтоб из дома тебя не видно было. Только смотри действительно не разболейся. Завтра позвоню.
Дома Ольга, чтобы хоть как-то справиться с раздражением, прибегла к давно испытанному ею средству — затеяла генеральную уборку. Включив проигрыватель, поставила пластинку своего любимого Баха. Она заметила, что благородный строй его музыки не только воздействует на душу, очищая ее от мелкой повседневной шелухи, но и все будничные дела и заботы возвышает почти до уровня космических.
Ольга понимала, что стремление навести порядок во внешнем пространстве (хотя бы в масштабах жилища) шло у нее от необходимости избавиться от хаоса в душе, в мыслях, в чувствах.
Когда этот хаос, этот разброд разрастался, оборачиваясь беспричинной тревогой, раздражением, готовый захлестнуть ее и уничтожить, она инстинктивно хваталась за домашние дела, стирку, уборку, затем принимала хвойную ванну и слушала Баха и Вивальди.
И затем чувствовала, как хаос невольно сдавал свои позиции, как гармония слабо начинала проступать из сверкавших оконных стекол, из матово блестевшего кафеля ванной и легко дышавшего паркета. Тогда Ольга, завернувшись в пушистый махровый халат, прихватив из кухни чашечку кофе, забиралась с ногами на диван и уже более или менее спокойно могла начать «уборку внутри», разобраться в своих мыслях, ощущениях, поступках.
Таким образом время от времени ею достигалось внутреннее равновесие, согласие с собой, вернее, своего рода сделка, ибо любви к себе она практически никогда не испытывала.
Закончив уборку, Ольга только прилегла на диван, пытаясь сосредоточиться, как раздался телефонный звонок, пронзительный, междугородный.
— Курск на проводе, ждите.
Она выключила проигрыватель. «Светка, что ли?» — успело промелькнуть в голове.
— Оля, здравствуйте, это Кира Петровна, мама Светланы.
— Добрый день.
— Как у Светы дела? Вы давно ее не видели? Я так волнуюсь! Квартирная хозяйка сказала, что она в командировке, но от нее больше трех месяцев ни звонков, ни писем.
— Успокойтесь, Кира Петровна, вы же знаете, Светка терпеть не может писать письма. Как только я что-то узнаю, сразу вам сообщу.
— Оля, очень вас прошу, запишите, пожалуйста, телефон моей подруги, она мне все передаст.
Ольга записала номер, попрощалась, и смутная тревога, передавшаяся, видимо, от волнения Киры Петровны, всколыхнулась в ее душе. «А действительно, где же все-таки Светка? Где?»
Она прилегла на подушку, закрыла глаза и представила себе подругу, в умопомрачительном наряде разъезжавшую в иномарке с поднятым верхом. За рулем почему-то сидел Игорь, а дядя Паша бежал рядом и что-то кричал. «Почему так?» — мелькнуло как в тумане, и сладкий спасительный сон накинул на нее свое покрывало.
* * *
На следующий день, ровно в десять утра. Ольга была в издательстве. После обеда предстояла встреча с автором, и надо было серьезно к ней подготовиться, просмотреть еще раз рукопись и свои замечания.
— Боже мой, Оленька Михайловна, — встретила ее восторженная Елена Павловна, — вы прекрасно выглядите. Наверное, от общения с молодежью, это так тонизирует. Как свадьба?
Елена Павловна, или «божий одуванчик», как многие звали ее за глаза, приходила в издательство настолько раньше всех, что никто не мог бы сказать, когда именно. До обеда она бегала по редакциям, собирая новости, в обед делилась ими с коллегами в своей комнате и только к концу рабочего дня приступала к своим непосредственным обязанностям. И когда все расходились по домам, ее круглая голова с седым пухом, как у одуванчика, все еще маячила за столом в желтом свете настольной лампы. Когда она уходила домой, тоже было загадкой. Поэтому неудивительно, что то одного, то другого сотрудника посещала одна и та же забавная мысль: а вдруг она живет в издательстве? Спит на своем столе, и все тут?
— Да нет же, что за фантазии, говорю вам, она живет дома, — басила Искра Анатольевна, зав. редакцией, желая пресечь насмешки в адрес «Леночки», с которой проработала бок о бок четверть века. — Просто она одинокий человек, и на работе ей лучше, чем в своей отдельной квартире.
Искра Анатольевна, высокая, дородная дама пенсионного возраста, недавно в третий раз вышедшая замуж (или, по словам Елены Павловны, сделавшая прекрасную партию), была очень колоритной фигурой. Она постоянно носила какие-то немыслимые балахоны, которые называла «костюмами», и любила украшать себя массивными серебряными браслетами и ожерельями.
Причем и «костюмов», и украшений было такое неизбывное множество, что Ольга не понимала, откуда они возникают и куда исчезают. Но это был ее стиль, и она строго его придерживалась.
Позже, присмотревшись, Ольга оценила, насколько Искра Анатольевна была права в своем наряде. Ее громоздкую, неуклюжую фигуру нельзя было помещать во что-то облегающее или даже полуприлегающее, а действительно нужно только драпировать. Мягкие складки ее балахонов оставляли хоть какой-то простор воображению, а более или менее четкие контуры одежды сразу развеяли бы все иллюзии.
* * *
— Ольга Михайловна, вы сегодня, насколько мне помнится, встречаетесь с Варфоломеевым? — с порога загудела Искра Анатольевна, дымя неизменной папиросой.
— Да, Искра Анатольевна, он обещал приехать к трем.
— Ну, голубушка, а как свадьба? Как ваши молодожены? — продолжала та без всякого перехода. — Расскажите нам, старикам, как теперь венчаются.
Дверь широко распахнулась, и появилась запыхавшаяся Верочка, их младший редактор.
— Ой, Ольга Михайловна, не рассказывайте без меня, ладно? Я только в машбюро сбегаю.
Ольга не могла удержаться от улыбки.
— Тогда уж и Сергея Никанорыча надо подождать для полного комплекта, — сказала она. — Все равно он потом потребует подробного отчета об этом событии.
Сергей Никанорыч не заставил себя долго ждать. На пороге возникла его тощая, долговязая фигура в висевшем как на вешалке мятом костюме.
— «Пою тебя-я, о Гимене-ей!..» — воздев руки, дребезжащим голосом фальшиво пропел он.
Сергей Никанорыч (или просто Никанорыч, как звали его между собой все без исключения) не только не уступал по колоритности Искре Анатольевне, но был, пожалуй, самой яркой фигурой во всем издательстве.
Над ним потешались и безмерно уважали абсолютно все, а администрация издательства боялась его больше любой инспекции из министерства. Он был большим эрудитом, отменным знатоком театра и отчаянным борцом за справедливость. Причем был знаком со всеми театральными знаменитостями и порой искал управу на очередного директора там, где тот даже не подозревал.
Проработав в издательстве почти сорок лет, с самого его основания, пережив много директоров и главных редакторов, он считал, что ему позволительно «резать правду-матку заради общего благородного дела». Он и резал.
На общих собраниях он всегда брал слово и громил всех и вся: критиковал производственный отдел за задержку рукописей, типографию — за отсталую технологию, авторов — за бездарность. Доставалось и директору, и главному редактору, и начальнику отдела кадров. В общем, раздавал всем сестрам по серьгам. Главное, говорил он всегда по делу, и возразить ему было нечего.
Ольга поначалу удивлялась, почему Никанорыч, знавший издательское дело и весь полиграфический процесс до тонкости, будучи к тому же «ходячей театральной энциклопедией», за сорок лет дослужился лишь до научного редактора.
— Да потому, милочка, что правду-матку любит больше карьеры, — объяснила Искра Анатольевна, взглянув на нее победоносно поверх очков. Она явно гордилась этим качеством своего коллеги.
— Ну что ж, друзья мои, все в сборе, — суетилась Елена Павловна. — Чаек уже готов, можно наконец спокойно выслушать Оленькины впечатления.
«И далась им всем эта свадьба, как сговорились! — подумала Ольга. — Ну ладно Верочка, ей восемнадцать, ей, как говорится, сам Бог велел интересоваться подобными вещами. Елену тоже понять можно: старых дев до ста лет волнует все, что связано с браком. Но Искра-то, при трех-то мужьях, или Никанорыч, всю жизнь проживший со своей Мусей, — им-то что за удовольствие это обсуждать?»
— По общему оживлению можно предположить, — усмехнулась она, — что замуж вышла не моя сестра, а непосредственно я.
— Ольга Михайловна! — с пафосом произнес Никанорыч. — Поверьте, все мы ждем этого радостного события в вашей жизни с искренним нетерпением. — Он встал, попытался галантно шаркнуть ножкой и поцеловать Ольге руку, но поскользнулся и схватил ее за плечо.
Все расхохотались.
— Верочка, достань, пожалуйста, торт из холодильника, — попросила Ольга.
— Как! Еще и торт? — оживились все. — Прямо со свадебного стола?
— Почти, — ответила она.
Придя вечером домой, Ольга почувствовала, что безумно устала: с утра ее мучили старички с Верочкой своими бесконечными расспросами, а после обеда добивал Варфоломеев со своей монографией о Мейерхольде, автор интересный, но очень капризный и чопорный, изъяснявшийся заковыристее Никанорыча. В ответ почти на каждое ее замечание он напрягался, краснел и начинал: «Соблаговолите объяснить…»
Чтобы как-то взбодриться, Ольга решила принять горячий душ и выпить кофе.
Зазвонил телефон. Едва успев набросить халат, она выскочила из ванной: «Алло? А, дядя Паш, это ты? Здравствуй… Да нормально все. Я только что с работы пришла, с автором одним задержалась. А у вас там как?.. Что? Ты рядом?.. Конечно, заходи. Поужинаем вместе, я что-нибудь быстренько приготовлю».
После ужина они с дядей Пашей долго пили чай с вишневым вареньем, изготовленным им самолично по какому-то японскому рецепту. Они были знаменитые чаевники, или «водохлебы», как называла их тетя Тамара, меньше двух-трех чайников за вечер не выпивали.
— Хорошо у тебя, Олюшка, чистота кругом, глаз радуется… Молодец! — похвалил дядя Паша. — Я знаешь что подумал? Может, нам с Тамарой в Александровке пока пожить, а молодые пусть уж сами… притереться им как-то надо, привыкнуть к совместной жизни. Ведь знакомы-то они всего ничего, — вздохнул он. — Как ты считаешь?
— Ну, тетя Тамара на пенсии, а ты-то как на работу оттуда ездить будешь?
Ольга снова налила в чайник воды и поставила на плиту.
— Так я на своей «моське» часа за полтора до завода добираюсь, — бодро ответил дядя Паша.
«Моськой» он любовно называл свой старенький «москвич», служивший ему с незапамятных времен верой и правдой.
В детстве, укладывая их с Иришкой спать, он частенько рассказывал им различные истории про «моську»: и про то, какая она храбрая — ни милиции, ни хулиганов не боится, а боится только красного света, да и то не боится, а уважает, и про то, какая она умная — сама дорогу к дому находит. А по утрам, когда он заходит в гараж, она открывает капот и говорит: «Здравствуй, дядя Паша!»
«Моська» была их общей любимицей. На ней они не раз путешествовали летом по Крыму, ездили на Волгу к Ольгиным родителям и вообще нагружали ее работой сверх всякой меры.
«Другая машина на ее месте давно бы на свалке была, — говорил дядя Паша. — А «моське» хоть бы что, почти и не ломалась ни разу. И все почему? — хитро прищуривался он. — Потому что любовь у нас с ней взаимная. А кто любит, тот не умирает никогда».
— А что это у тебя за бумажка с цифрами какими-то валяется? — Дядя Паша наклонился и поднял с пола клочок бумаги. — Смотри-ка, чей-то телефон записан, может, нужный?
Ольга взяла протянутый клочок с номером телефона и буквами «К.П.» на обратной стороне.
— Ах да, это Светкина мама вчера из Курска звонила, оставила телефон подруги.
— А что случилось, Олюшка? Что-то ты давно мне про Светлану ничего не рассказывала. Как у нее дела?
Ольга налила очередную чашку чаю и поставила перед ним.
— Да пропала она куда-то, дядя Паш.
— Как это — пропала? — поперхнулся он. — Когда?
— Почти три месяца о ней ничего не слышно, — ответила Ольга. — По крайней мере после своего дня рождения я ее не видела и мы не созванивались.
Дядя Паша покраснел и закашлялся. Потом проговорил задыхаясь и даже с какой-то угрозой в голосе:
— Ольга, ты соображаешь… нет, ты только вдумайся: что ты говоришь?..
Вдруг его лицо прямо на глазах изменило цвет, стало пепельно-серым, и он схватился за сердце. Ольга метнулась к аптечке, накапала корвалол. Такая неожиданная реакция не на шутку испугала ее.
— Дядя Паша, миленький, да не волнуйся ты так, это все свадебные хлопоты да бессонные ночи… в твои-то годы. Приляг здесь на топчан, — суетилась она, не зная, чем еще помочь ему, как успокоить. — Да что я, Светку не знаю, что ли? Наверняка нашла себе богатого ухажера, влюбилась и укатила в какой-нибудь круиз по Средиземному морю. Это как раз в ее духе.
Дядя Паша молча полежал минут пять, лицо его постепенно розовело и принимало естественную окраску. Ольга облегченно вздохнула.
— И что же ты сказала ее матери? — спросил он, поднимаясь.
— Ну, сказала: в командировку уехала. В длительную, — ответила она. — Между прочим, это слова ее квартирной хозяйки.
— А на работе у нее что? — продолжал допытываться дядя Паша.
— На работе? Она уволилась.
— Ну а ваши общие друзья, знакомые… может быть, кто-нибудь что-то знает, видел ее, хотя бы случайно? — с робкой надеждой произнес он.
— Да нет, я всех, кого знаю, обзвонила.
Наступило молчание. За окном послышались глухие раскаты грома, по стеклу застучал мелкий дождь.
Волнение и тревога дяди Паши передались Ольге, и она вдруг, впервые за три месяца, отчетливо представила себе эту ситуацию со Светкиным исчезновением.
— Как же так, Олюшка? — вдруг тихо заговорил он. — Ведь она твоя лучшая подруга, вы столько лет вместе… а тебя, я вижу, совсем не волнует, что с ней могла случиться беда.
— Какая беда, дядя Паш? — всполошилась Ольга. — Ты о чем?
— Да ты посмотри, что сейчас творится: люди стальные двери в квартирах навешивают, окна решетят, в свой подъезд ночью войти боятся, а уж на улицах… Помнишь, я рассказывал тебе про нашего бухгалтера?.. Ну, который вышел поздно ночью с собакой погулять? Так его полгода найти не могут… Исчез.
Ольга выключила чайник и закрыла окно: дождь хлестал уже вовсю.
— Дядя Паш, ты меня нарочно на ночь пугаешь, да? — попробовала пошутить она.
— Не бойся, Олюшка, — грустно улыбнулся он. — Тем более что мне придется заночевать у тебя, не прогонишь же ты меня в такой дождь?
— Даже если бы не было дождя, — проговорила она, — я бы тебя никуда не отпустила в таком состоянии. Все. Решено. Тебе надо выспаться, ты переутомился. Ляжешь на моем диване. — Она замахала на него руками, предвидя возражения. — И даже ничего не хочу слышать, именно на диване. А я здесь, на раскладушке.
Спустя полчаса они как бы поменялись ролями. Дядя Паша, уставший, но более или менее успокоившийся, лежал в комнате на чистой постели, заботливо укрытый пледом, а Ольга сидела рядом и гладила его руку.
— Все образуется, дядя Паш. Через три года выйдешь на пенсию, поселишься с тетей Тамарой в Александровке, зимой будешь печку топить, летом — рыжики солить да пчел разводить.
Завести пчельник было давней мечтой дяди Паши, несмотря на то, что ни сам он, ни его домашние мед не любили, хотя понимали, что при простуде он незаменим и вообще в малых дозах для здоровья полезен. Но мечта его так и осталась все эти годы нереализованной. И только нынешней весной дядя Паша упросил соседа Степаныча продать ему один улей, только с условием, что зимовать пчелы будут под его присмотром.
А пчел он хотел завести не из-за меда, просто всю жизнь, с самого детства, почему-то был неравнодушен к этим мохнатым трудолюбивым существам, считал их удивительно красивыми и даже изящными. Его завораживало пчелиное жужжание, и он любил подолгу, не отрываясь следить за хлопотливыми перелетами желтобрюхих любимцев. Он мог говорить о них часами, так как прочел уйму литературы по пчеловодству и теоретически был подкован основательнее самого Степаныча, который жил в Александровке круглый год и лет двадцать держал пасеку.
Ольгу забавляла его трогательная тяга к этим, по ее мнению, полезным, но отнюдь не безобидным созданиям. Она соглашалась с ним, что по сути пчела — это хитроумная фабрика по переработке природного нектара в целебный продукт для человека.
— Ведь буквально из ничего, только благодаря своему трудолюбию, — восхищался он. — Вот бы и человеку так же, а?
— Что — так же? — смеялась Ольга. — Мед вырабатывать?
Но у дяди Паши на этот счет имелась целая жизненная философия, которую он стеснялся излагать открыто, боясь упреков в нравоучительстве и своей неловкости в формулировках. Ему было известно, что сходство человеческого сообщества с ульем или муравейником подмечено еще в древности, и философия его была проста.
Прожив уже немало лет, наблюдая различных людей и их судьбы, он пришел к выводу, что есть такая счастливая категория людей, похожих на трудолюбивых пчел, которые создают свое счастье, казалось бы, из ничего. На самом же деле они трудятся над ним не переставая, но не испытывают усталости от этого труда, как пчела не требует похвалы за свою жизнедеятельность. Только человеческая жизнедеятельность — это работа души, неустанная переработка своей жизненной энергии для других в целительный нектар, который называется просто: любовь.
Эту свою теорию он представлял себе ярко и отчетливо, но когда однажды, в минуту особой откровенности, попытался изложить ее Ольге, то смешался и вконец запутался.
— Да ты, дядя Паш, оказывается, философ, — удивилась та и, не утерпев, все же съязвила: — Ну а как же быть с трутнями? Они ведь счастье свое без труда получают?
* * *
Наутро в издательстве Ольгу встретил радостный «божий одуванчик»:
— Оленька Михайловна, вам звонил мужчина с удиви-ительно приятным голосом, необыкнове-енные обертоны.
— Не Вадим? — насторожилась та.
— Нет-нет, голос Вадима Николаевича я хорошо знаю, и Павла Сергеевича тоже. Это был какой-то новый голос, его забыть невозможно.
Странно… Кто бы это мог быть? Игорь? Но его голос вряд ли вызвал бы у Одуванчика столько восторга. Впрочем, как знать, может, для нее каждый мужской голос напичкан обертонами.
— Он что-нибудь просил передать, Елена Павловна? — спросила Ольга. — Как-то представился?
— Представиться не представился, — с готовностью откликнулся Одуванчик, — а вот передать просил: позвоню, дескать, домой в двадцать ноль-ноль.
— Так и сказал: ноль-ноль? — с сомнением переспросила Ольга.
— Именно так и сказал.
Ольга села за свой стол, достала недочитанную рукопись сборника «Театр абсурда».
— А где же сегодня наша старая гвардия? — поинтересовалась она, заметив наконец, что, кроме них с Одуванчиком, никого в комнате нет. — Как, впрочем, и молодая?
— Так ведь Искрочка с Никанорычем на конференции, — объяснила та. — А Верочка сочинение сегодня пишет, вступительное.
— Ах да, Боже мой, совсем из головы все вылетело!
В последнее время Ольга настолько погрузилась в свои личные проблемы, что все окружающее как бы отошло на второй план и не то чтобы перестало трогать ее, а просто не задерживалось в сознании. Нервная система была так перегружена, что, видимо, срабатывал защитный инстинкт самосохранения: кто-то невидимый нажимал клапан и давал отбой любой информации извне.
Так, она совсем забыла о дне рождения Ирины, чего раньше никогда не случалось, и, если бы дядя Паша не напомнил, даже не позвонила бы ей в тот день.
Из химчистки сообщили, что ей следует забрать свой плащ, который, оказывается, лежит там уже три месяца.
И только сейчас она вспомнила, что обещала Верочке позаниматься с ней литературой перед экзаменом, а та, видимо из деликатности, так и не напомнила об этом. Но на душе было до того скверно, что даже не хватало сил винить себя.
Наверное, и к исчезновению подруги она отнеслась так беззаботно в силу тех же причин: сначала, когда Игорь объявил о своем намерении жениться на Ирине, было не до Светки, а потом… потом, честно говоря, было просто страшно задуматься об этом, поэтому она инстинктивно отгоняла от себя эту мысль.
Ей хотелось верить, что Светка пустилась в какую-нибудь любовную авантюру и пребывает в полном благополучии. Она и верила. Но после разговора с дядей Пашей эта ситуация перестала казаться ей столь безоблачной и безобидной.
Елена Павловна, как всегда, пошла в свой утренний обход по редакциям, а Ольга попыталась сосредоточиться на «Театре абсурда». Но в голову лезли посторонние мысли, на основании которых она невольно приходила к незатейливому выводу, что ее теперешняя жизнь — это не просто театр, как утверждал Шекспир, а именно театр абсурда.
Мало того, что подруга исчезает вдруг в неизвестном направлении, а любовник женится на сестре и становится, следовательно, ее братом, так теперь еще и «почитатель» занял активную позицию и грозится кончить жизнь самоубийством, грех за которое, как он уверяет, останется на ее совести.
«Почитателю» было лет сорок, и звали его, как нарочно, Федором Михайловичем. И он, видно, с юности усвоил все бремя ответственности, которое накладывает данное имя в сочетании с данным отчеством, вел себя порой под стать героям Достоевского, причем героям явно нездоровым и крайне экзальтированным.
Появился он в издательстве около года назад, когда в художественной редакции поднялась паника, что некому оформлять «Японскую театральную гравюру». Ему дали заказ, и он с блеском с ним справился. С тех пор он, оставаясь «вольным», то есть внештатным, художником, от случая к случаю получал от издательства самые ответственные и выгодные заказы.
И вот как-то, на свое счастье и на свою беду, он встретился с Ольгой, им пришлось вместе работать над одной книгой. Он потерял покой, впрочем, время от времени лишая покоя и ее: исчезнув куда-то на неделю-другую, он вдруг появлялся, активизировался, начинал дежурить под ее окнами и дышать в телефонную трубку.
В общем-то, он был вполне безобидным существом, в браке никогда не состоял и жил со старенькой мамой и котом Фомой Фомичом в огромной квартире на Красной Пресне.
«Почитателем» назвал себя он сам, причем в присутствии свидетелей. Как-то, узнав, что у Ольги день рождения, он явился в редакцию с охапкой хризантем и кинулся к ней, теряя лепестки по всей комнате.
— Ольга Михайловна! — вопил он в каком-то экстазе. Можно было бы подумать, что он пьян, но все знали, что он спиртного в рот не берет. — Ольга Михайловна, позвольте мне, как вашему почитателю…
— Опомнитесь, Теодор, — перебил его Никанорыч. — Во-первых, не причитайте так громко, а во-вторых, вы, видимо, оговорились, вы ведь хотели сказать — поклоннику?
— Нет-нет, Сергей Никанорыч, именно, именно — почитателю, потому как я Ольгу Михайловну чту, чту и почитаю, — совсем зарапортовался тот.
После этого случая все в издательстве называли его «Оленькин почитатель», а потом, для краткости, стали звать просто «почитателем».
Уже не раз за последнее время Ольга проклинала тот злополучный день, после тяжелого объяснения с Игорем, когда согласилась пойти с «почитателем» в ресторан. Даже не согласилась, а фактически сама предложила повести ее туда. Он звал ее давно, ему хотелось бывать с ней в театрах, на вернисажах, в ресторанах. Но она постоянно отказывалась, и он уже потерял было надежду. И вдруг — такое счастье! Конечно, «Арагви», какой может быть разговор!
Но закончился этот поход весьма плачевно: совсем непьющего «почитателя» так развезло от бокала шампанского, что Ольге пришлось везти его на такси к маме и Фоме Фомичу.
Она злилась на себя за эту нелепую попытку использовать «почитателя» в качестве «клина», как в свое время советовала ей подруга в отношении Игоря.
Да, собственно, никакого «плана использования» она и в мыслях не держала, просто это был естественный порыв оскорбленного женского самолюбия, защитная реакция «женской сущности», как сказала бы Светка.
Когда холод и пепелище остаются на месте счастливых минут и сладких грез, когда разверзается бездна черного, беспросветного одиночества, ноги сами, не слушая голоса разума, несут человека туда, где свет, где тепло и музыка. Когда-то все это называлось одним словом, теперь это слово застревает в горле и не выговаривается.
Ольга прекрасно понимала, что она, как и многие женщины, боится одиночества. Она также отдавала себе отчет в том, что этот страх явился первичным импульсом в ее отношениях с Вадимом и с Игорем, именно страх и отчаяние чуть не заставили ее броситься в комические объятия «почитателя».
После столь неудачной попытки культурного отдыха в ресторане «почитатель» долго не мог прийти в себя, но потом забрал себе в голову, что еще не все потеряно, раз Ольга пожелала хоть куда-то пойти с ним.
Видимо, в силу стеснительности, с одной стороны, и высоких требований к избраннице — с другой, он не только остался холостяком, но и не добрал в юности по части любовных приключений. Поэтому, встретив в лице Ольги свой идеал, он обрушил на нее все свои нерастраченные чувства и эмоции, столько лет томившиеся под гнетом обстоятельств.
При этом он боялся быть слишком назойливым и старался не часто попадаться ей на глаза, но его неотступное незримое присутствие, в зависимости от ее настроения, то умиляло, то раздражало ее.
Так, не раз, придя домой, она обнаруживала прямо на коврике перед дверью квартиры то алые гвоздики, то хризантемы, то скромные ромашки. Сначала Ольга заподозрила Вадима и при случае спросила его об этом, но тот был так простодушно удивлен, что она даже пожалела о затеянном разговоре. Это был совсем не его стиль.
А однажды в почтовом ящике она нашла конверт с билетом на спектакль «Служанки» в модной постановке известного режиссера. В то время она только приступила к работе над «Театром абсурда», и посмотреть пьесу знаменитого «абсурдиста» ей было не только любопытно, но и необходимо. Конечно же, все это было делом рук «почитателя».
* * *
Ольга взглянула на часы. Боже, уже два часа она сидит без толку и мысли ее витают непонятно где. Ну нет, так дело не пойдет, надо сосредоточиться, иначе она сорвет все сроки сдачи рукописи.
В комнату впорхнул Одуванчик:
— Оленька Михайловна, вы не представляете, кого я встретила сейчас в лифте! Самого Климовича! — заверещала она.
— Неужели самого? — насмешливо переспросила Ольга, но Елена Павловна не заметила ее иронии.
— Да, вообразите, он написал новый труд по истории Малого театра. Это прелесть что за автор, с ним работать — одно удовольствие.
Схватив с тумбочки кувшин с водой, она принялась поливать цветы, без умолку перечисляя Ольге все новости, какие ей удалось узнать. «Господи, сколько же в этом неугомонном человеке энергии!» — не без зависти подумала Ольга.
— Елена Павловна, послушайте, — сказала она, когда та наконец замолчала, чтобы перевести дух, — что-то у меня сегодня работа не клеится, не могу сосредоточиться: за стеной кто-то кричит, по коридору бегают… Я, пожалуй, возьму работу домой, там спокойно почитаю.
— Конечно, конечно, Оленька Михайловна, — с готовностью отозвался Одуванчик, закивав в знак согласия седым пухом на голове. — У вас сейчас о-очень ответственная работа, я понимаю, нужна предельная сосредоточенность.
Дома, перекусив и выпив кофе, Ольга расположилась с работой на кухне. Вдруг позвонил Вадим:
— Оля, что случилось? Елена Павловна сказала мне, что ты ушла домой. Ты не заболела? — обеспокоенно спросил он.
Его озабоченность, учитывая частоту его звонков раз в квартал, показалась Ольге не только фальшивой, но даже забавной. «Наверное, жену с дочерью в Крым отправил», — подумала она и ответила вежливо и холодно:
— Нет, Вадик, все в порядке. Надеюсь, Елена Павловна сообщила тебе также и то, что я не просто ушла домой, а взяла с собой работу.
— Да, но я все же подумал… — замялся он.
— Вадик, — перебила она, — в последний раз ты звонил мне в день рождения. Сегодня меня поздравить не с чем. Так в чем же дело? Зачем ты звонишь?
— Просто… — пробормотал он, — соскучился, захотел услышать твой голос.
— Твои в Крым уехали? — не вытерпев, спросила Ольга.
— Да… — растерянно протянул Вадим. — А ты откуда знаешь?
— Сценарий уж очень примитивный, — съязвила она.
— Какой сценарий? — не понял он. С юмором у него всегда было туговато.
— Ну вот что, Вадим, извини, у меня срочная работа, встретиться мы не сможем, за заботу о моем здоровье спасибо, ты тоже будь здоров. Все. Счастливо, — выпалила она на одном дыхании и положила трубку.
После подобных звонков Вадима у Ольги всегда возникало чувство досады и недоумения: как могла она два года быть рядом с этим человеком и считать, что нужна ему, что он любит ее? А она? Как она сама относилась к нему?
Лицом к лицу лица не увидать. Большое видится на расстоянье, —сказал поэт.
Да, но когда речь идет о чувствах, то на расстоянье лучше видится и малое. Вообще, пространственно-временное расстояние проворнее любого психоаналитика расставляет все по своим местам.
И сейчас, по прошествии времени, Ольге казалось, что Вадим был для нее чем-то наподобие старого уютного халата, на котором не замечаешь пятен и дыр, потому что он стал почти твоей второй кожей. Сравнение не очень лестное, зато верное. Она усмехнулась. «Наверное, такие отношения бывают в многолетнем супружестве, — подумалось ей. — Это и означает «мое второе Я», только на бытовом уровне».
Сравнение Вадима с халатом показалось ей настолько удачным и забавным, что она даже развеселилась и включила радио. «Наша служба и опасна, и трудна», — бодро запел оттуда знакомый голос, и Ольга тут же вспомнила, что не зашла в милицию насчет Светки. «Ну ладно, завтра перед работой пойду», — решила она и села за рукопись.
Как только кукушка в ходиках на кухне выдавила из себя восемь хриплых «ку-ку», раздался телефонный звонок.
— Ольга Михайловна? Добрый вечер. — Незнакомый мужской голос был обволакивающе приятным, и казалось, что и сам обладатель его знает об этом.
— Здравствуйте. Кто это говорит? — насторожилась Ольга.
— Вас беспокоит друг Светланы.
«О Господи, вот они, обертона… тот, что утром…» От волнения она задохнулась, голос сел, она хотела закричать, но смогла только тихо просипеть:
— Что с ней? Где она?
— Не волнуйтесь, с ней все в порядке. Она соскучилась и очень хочет вас видеть, — продолжал обволакивать голос.
— Где она? Почему она сама не позвонила?
— К сожалению, ее нет сейчас в Москве. — Голос действительно выразил сожаление. — Она… гостит у меня на даче.
Первое волнение улеглось, Ольга вздохнула с облегчением. Слава Богу, Светка жива и все нормально. Значит, она все-таки была права: у подруги просто появился новый обожатель, судя по голосу, актер или кто-нибудь из богемы.
— Простите, как вас зовут? — успокоившись, спросила Ольга.
— Ираклий Данилович, — бархатно пропел голос и тут же добавил: — Впрочем, можно просто Ираклий.
— Хорошо, Ираклий, что вы позвонили, мы все очень волнуемся. Почему Света так долго ничего не сообщала о себе? И не сказала никому, куда уезжает?
— Ольга Михайловна, — вкрадчиво начал Ираклий и замялся. — Это долгий и, возможно, не телефонный разговор. Если вы хотите увидеться со Светланой, подъезжайте в субботу к памятнику Пушкину в одиннадцать ноль-ноль.
— К памятнику Пушкину? — растерялась Ольга. — Почему к памятнику?
— Там я буду ждать вас, чтобы отвезти на дачу к Светлане, — пояснил Ираклий.
— Она что, заболела? — снова забеспокоилась Ольга.
— Нет-нет, она абсолютно здорова, — поспешил заверить он, — и ждет вас с нетерпением.
— Ничего не понимаю… — растерялась она. — Бред какой-то… Почему Света сама не может приехать в Москву, если она здорова?
— Ольга Михайловна, — терпеливо, как тупой ученице, повторил Ираклий, — еще раз позволю себе напомнить вам, что это долгий и не совсем телефонный разговор.
— Ладно, — решилась Ольга. — Но как мы узнаем друг друга?
— Я сам к вам подойду, — с готовностью пояснил Ираклий. — Светлана очень подробно мне вас описала.
— Хорошо. В субботу, в одиннадцать, у памятника Пушкину, — по-деловому произнесла она, желая закончить эту нелегкую беседу.
— На прощание запомните одно условие, Ольга Михайловна, — мягко, но настойчиво проговорил Ираклий. — Вы должны быть совершенно одна. И пожалуйста, не рассказывайте никому о нашем разговоре. Поверьте, — добавил он со значением, — это в ваших же интересах. И, конечно, в интересах Светланы.
После этих слов, заключавших в себе явную угрозу, произнесенных как-то зловеще-ласково, у Ольги подкосились ноги, и она присела на пуфик в прихожей.
Смутное сомнение, зародившееся было, как только ей предложили поехать куда-то, неизвестно куда, переросло в окончательную уверенность, что дело здесь нечисто. Сразу в голове промелькнули и рассказ дяди Паши о пропавшем бухгалтере, и колонка «Хроника происшествий» в одной лихой московской газете.
Может быть, Светка ни на какой даче не сидит и ее не ждет, может быть, она вовсе и не знает этого Ираклия, а просто он хочет заманить Ольгу в ловушку?
Вдруг ее осенило. Ей в голову пришла мысль проверить это.
— А как вы докажете, что вы на самом деле друг Светы или хотя бы действительно знаете ее? — спросила она.
Ираклий добродушно рассмеялся. Смех был настолько искренним, что даже немного успокоил ее.
— Ах, Ольга Михайловна, Ольга Михайловна! Светлана как в воду глядела, что вы мне не поверите, поэтому на всякий случай написала мне две строчки и велела вам прочитать. Слушайте:
Возьми на радость из моих ладоней Немного солнца и немного меда…— Ну, — бодро произнес он, — теперь-то вы мне верите?
— Да. Хорошо. Я буду в субботу у памятника.
Положив трубку, Ольга долго сидела в прихожей, не имея сил сдвинуться с места. В висках стучало, в голове, помимо ее воли, как на заезженной пластинке, проносилось только три слова: «Надо… что-то… делать…», и опять: «Надо… что-то… делать…»
Машинальным движением она взяла лежавшую на тумбочке под зеркалом щетку и провела по волосам. Из зеркала на нее смотрело хорошо знакомое, чуть скуластое лицо с красивым, резко очерченным ртом и светло-зелеными глазами.
Она потерла виски, прошла на кухню и достала из холодильника початую бутылку коньяку. От выпитой рюмки ее передернуло, но постепенно приятное тепло разлилось внутри, и она подумала: «Хорошо, что завтра только пятница». Надо успеть все обдумать и что-то предпринять. Но что? Сосредоточиться все не удавалось, тогда Ольга достала записную книжку и принялась лихорадочно листать ее в надежде, что, может быть, именно таким образом отыщется тот, к кому могла бы она обратиться за помощью и советом.
Когда она сказала дяде Паше, что обзвонила всех знакомых, которые могли бы что-то знать о Светкиных планах или о ее местонахождении, она имела в виду прежде всего их общих подруг и, конечно, Геннадия, с которым та познакомилась в Новый год и, насколько Ольге было известно, встречалась регулярно.
Геннадий, с его богатырским ростом и сложением, всем своим внешним видом опровергал расхожее народное представление о том, что науку двигают вперед тощие очкастые хлюпики, ибо являлся кандидатом физико-математических наук и очень успешно двигал ее в одном НИИ закрытого типа. Двигал до тех пор, пока в результате конверсии НИИ не стал на глазах разваливаться и трещать по всем швам.
Был он не только талантливым ученым, но и, что, пожалуй, встречается реже, прекрасным собеседником и обладал вдобавок чувством юмора. Ольга, зная об их частых встречах, исподволь наблюдая за ними, когда они проводили вечера у нее на кухне, за чаем, спорами и шутливыми излияниями, как-то поинтересовалась у Светки, не собирается ли она остановить свой «подбор спутника жизни» на кандидатуре Геннадия.
— А жить мы на что будем, подруга? — ответила та вопросом на вопрос. — На его пособие по безработице? Он ведь, кроме своей науки, делать ничего не умеет. — И, помолчав, вздохнула: — Да и не захочет.
Человек, не знавший Светку так, как знала Ольга, мог бы вообразить, что она, как все красивые женщины, любит дорогие модные тряпки и шикарные украшения и хочет найти мужа, который способен был бы все это оплачивать.
Да, Светка любила модно одеваться, но она могла, распустив старую кофту и ненужный шарф, связать потрясающий жакет, а из двух-трех штапельных платков и мотка тесьмы за один вечер соорудить умопомрачительный блузон, в котором наутро вышагивала по улице как королева и выглядела так, что мужчины всех возрастов сворачивали себе шею, оглядываясь на нее.
— Эх, Светка, — смеясь, говорили подруги, — не тот ты выбрала жизненный путь, такой талант закопала.
— Почему — закопала? — возражала она. — Я сама себе кутюрье, собственный дом моделей для моей персоны.
Если учесть еще и то обстоятельство, что к украшениям она была абсолютно равнодушна, в еде неприхотлива, а к светскому образу жизни относилась иронически, становилось совсем непонятно, зачем ей вообще богатый муж.
— Как это — зачем? — удивлялась Светка. — Чтобы у него не было комплекса несостоятельности на финансовой почве. — Дальше шло объяснение психологии мужчин с привлечением Фрейда.
Ольга позвонила Геннадию в первый раз месяца полтора назад, после разговора с Игорем, когда разыскивала подругу, чтобы излить ей душу, как говорится, поплакаться в жилетку.
Геннадий сказал, что после Ольгиного дня рождения сам Светку не видел, она вдруг стала избегать встреч с ним, и однажды, когда он, позвонив, случайно застал-таки ее дома и попросил объяснить, что происходит, она объявила ему, что надолго уезжает в командировку, но куда и что это за командировка, пояснять не захотела.
Геннадий был раздражен и обижен, он понял Светкино заявление однозначно, что она нашла себе нового друга, но сказать ему об этом прямо не решается.
Потом, спустя какое-то время, Ольга еще раз позвонила ему, он отвечал вежливо, но холодно, что ему ничего не известно и что все связанное со Светланой его уже не интересует.
Поэтому Ольге в первую очередь следовало разыскать Светкиных прежних знакомых (мужеского пола, разумеется) и выбрать среди них того, кому до сих пор небезразлична ее судьба и кто на самом деле, а не на словах готов пожертвовать для нее всем, даже жизнью. Полистав книжку, она нашла пять нужных имен и выписала их на отдельный листок. Потом, немного подумав, вычеркнула телефон Олега, так как вспомнила, что Светка рассталась с ним уж очень давно, лет пять или шесть назад. Осталось четверо. «Прямо как у Дюма», — невольно подумалось ей.
Это были «мушкетеры», возникшие на Светкином горизонте и получившие отставку в последние два-три года. Среди них было два Александра, одного из которых все знакомые звали Шуриком.
Ольга не помнила, где и при каких обстоятельствах Светка с ним познакомилась, но тот вечер, когда она впервые привела его к подруге для знакомства и традиционного «показа», прочно засел в ее памяти.
Очевидно, этому способствовал тот факт, что за один только вечер Шурик ухитрился разбить в ее доме столько посуды, сколько все ее гости не разбили бы за год. Причем, смущаясь и страдая от своей неуклюжести, он продолжал ронять все, что подворачивалось ему под руку. Кончилось все тем, что Светка потребовала для него пластмассовую кружку и висевшую с незапамятных времен на стене кухни деревянную плошку, после чего Шурик приуныл и боялся лишний раз двинуть рукой или пошевелиться.
Позже, когда прошлым летом они ходили на байдарках по Нерли, Ольга убедилась, что неуклюжесть не являлась его природным свойством. Шурик, страстный путешественник, ловко управлялся с байдаркой, мгновенно ставил палатку и разводил костер, знал много различных тонкостей походной жизни и любил ее неповторимую романтику. Он никогда не согласился бы поменять палаточный отдых, с его непредсказуемостью и полной свободой передвижения, на комфорт, скажем, пятизвездочного отеля, где чувствовал бы себя не в своей тарелке. «Да уж, — смеялась Светка, — Шурик там все сервизы переколотил бы».
Второй и, может быть, даже основной его страстью был адский плод научно-технической революции — ЭВМ. Он был программистом высокого класса, работал в одной крупной фирме, где его труд очень ценили и хорошо оплачивали, но он все равно порывался уйти, так как считал, что нужный фирме профессиональный уровень недостаточно высок для него и что он способен на большее.
Часто он задерживался на работе, чтобы «обкатать», как он выражался, ту или иную новую программу, а уж когда приобрел наконец собственный компьютер и водрузил его на почетное место — на обеденный стол, стоявший посредине комнаты, тут-то Светка окончательно поняла, что она в этой комнате лишняя. «Не могу я тягаться с машиной, — объяснила она Ольге свой разрыв с Шуриком. — Мощности не хватает».
Но Ольга понимала, что на самом-то деле компьютер послужил только поводом, той последней каплей, которая и помогла Светке расстаться с Шуриком, не обременяя свою совесть чувством вины и ощущением дискомфорта, как это бывало при ее расставаниях с возлюбленными, когда ей становилось с ними невыносимо скучно.
Сам Шурик знал, что он отказался бы от всех компьютеров и байдарок в мире, лишь бы Светка была рядом с ним. Он очень переживал, страдал, звонил Ольге в поисках сочувствия и поддержки. Чем могла она утешить его?
Примерно по такому же сценарию развивались Светкины отношения и с тремя остальными «мушкетерами», которых Ольга знала хуже, чем Шурика, так как в походы с ними не ходила, а встречалась только у общих знакомых или у себя на кухне, когда Светка приводила их к ней «общаться». Разговоры и споры в основном не выходили из магического круга тем, очерченных политизировавшимся за годы перестройки сознанием граждан только было воскресшей и тут же начавшей агонизировать страны. Говорили о том, в какую пропасть катится страна и долго ли ей еще катиться, спорили о плюсах и минусах неизбежного западного влияния на все сферы жизни, а также не забывали обсудить новости очередного кинофестиваля и прелестную выставку Левицкого на Крымском валу.
Ольга помнила только, что Андрей, художник-мультипликатор, трудился на киностудии, а Гриша, работавший, по его словам, исключительно над собой, нигде конкретно не служил, жил непонятно на что, но явно не бедствовал. Перебирая в памяти достоинства и возможности каждого из «мушкетеров», она остановилась на втором Александре — Алике. Бывший спортсмен, когда-то известный теннисист, получивший травму на соревнованиях и вынужденный перейти на тренерскую работу, он всегда производил впечатление человека наиболее надежного и не только желавшего, но и умевшего помочь в трудную минуту. Да и Светку он всегда опекал как любимую младшую сестру, с готовностью входил во все ее нужды и помогал советом и делом.
Именно благодаря этой чрезмерной заботе и опеке его в свое время и постигла участь Шурика. «Он мне как бабушка, честное слово», — возмущалась Светка.
Это был неизбежный конец всех ее романов. Сначала она загоралась, ходила счастливая и веселая, потом, спустя полгода-год, постепенно как-то тускнела, начинала раздражаться, а после очередного разрыва мучилась угрызениями совести и называла себя «вертихвосткой». Ольга, впрямую не осуждая подругу, все же подобную самоаттестацию ее не оспаривала, поскольку считала, что для натуры глубокой и основательной такие скороспелые влюбленности чужды и неприемлемы.
Но сейчас, одиноко сидя на своей тихой уютной кухне, держа в руках листок с четырьмя именами и телефонами, представляя, что подруга влипла в какую-то историю и пребывает где-нибудь в заколоченном доме в качестве заложницы, она иными глазами посмотрела на эти Светкины увлечения. Восприятие окружающего обострилось от сознания нависшей не только над подругой, но, может быть, и над ней самой опасностью, и она пришла к любопытному выводу. Если исходить из требований, предъявляемых Светкой к идеалу мужчины (умный плюс богатый), то нельзя не заметить, что все ее поклонники, по крайней мере эти четверо, были несомненно умны и по-своему интересны. Второе же непременное условие идеала у всех практически напрочь отсутствовало. Вряд ли это было случайным совпадением.
И для самой Светки, судя по всему, материальная база являлась понятием весьма относительным. Ведь ей никогда и в голову не приходило, например, принять участие в каком-нибудь конкурсе красоты или попробовать себя в качестве фотомодели, хотя предложения такого рода поступали в ее адрес неоднократно, порой даже не совсем в приличной форме.
И тут Ольга вдруг поняла то, чего не понимала, вернее, не хотела видеть за долгие годы общения с ней: Светка была идеалистка, причем самого романтического толка. Она уже не раз могла устроить свою жизнь, не дожидаясь «бальзаковского возраста». Умные и любящие у нее были, с богатыми и безумными она сама не хотела связываться, но при ее-то внешних данных не составило бы труда найти и так долго лелеемый ею идеал.
Однако все ее теории относительно идеала при ближайшем рассмотрении оказывались блефом, потому что именно своей-то любви ей и недоставало, ее отсутствие и приводило к неминуемым разрывам, и именно надежда на возможность этой любви заставляла ее лететь навстречу новым приключениям.
«Нет, она не вертихвостка, — подумала Ольга, увидев подругу в каком-то неожиданном свете, — просто она никого еще по-настоящему не любила, а без этого она не может быть счастлива в своей жизни…»
Кукушка в ходиках на стене неистовствовала так долго, что Ольга невольно посмотрела на часы: была полночь. Звонить кому бы то ни было уже поздно, да и спать вдруг захотелось так, что глаза начали слипаться и все тело охватило какое-то дремотное оцепенение. Встать и сделать несколько шагов до комнаты было выше ее сил, она прилегла на топчан, на котором сидела, и сон, мгновенный и целительный, избавил ее от всех волнений и страхов тревожного вечера.
Когда Ольга вышла из дома, на улице не было ни души, только слышалось размеренное шарканье метлы дворника по тротуару где-то за углом. Небо было затянуто тучами, и моросил мелкий дождь.
Неожиданно возле нее остановилось такси, дверца распахнулась, и водитель жестом пригласил ее сесть на заднее сиденье.
— Вы от Ираклия? — спросила она.
Он кивнул, машина с визгом рванулась с места, и дома вперемежку с деревьями замелькали за окном с такой быстротой, что Ольга, как ни напрягалась, не могла понять, где они едут и куда.
Она не могла бы сказать, сколько времени они ехали, потому что, сев в такси, почти сразу задремала. Очнулась она от того, что машину резко начало бросать с ухаба на ухаб. Дорога шла через лес, по обе стороны темнели деревья, в основном ели, что придавало их странному путешествию очень мрачный колорит, который усугублялся и серой пеленой дождя, и бычьей шеей водителя, за всю дорогу не проронившего ни слова.
Тревожное предчувствие пронзило ее. Господи, как могла она заснуть и не видеть, куда ее завезли? Почему она не сообщила никому о своем разговоре с Ираклием? Теперь никто не знает, что с ней случилось и где ее искать.
Тревога переросла в отчаяние, она тихо простонала от ощущения своей полной беспомощности…
Резкий телефонный звонок освободил ее от продолжения этого кошмара. Еще не вполне понимая, почему она спит одетая и не в комнате, но чувствуя огромное облегчение от того, что весь пережитый ужас был всего лишь сном, она встала и неуверенно, пошатываясь, пошла в прихожую.
Звонила мать с сообщением о том, что ночью в Александровке у дяди Паши случился сердечный приступ и «скорая» увезла его в пушкинскую больницу. Сон как рукой сняло.
— Который час? — спросила Ольга.
— Четверть восьмого, — ответила мать. — Мы с Тамарой сейчас в Пушкино, она сама, бедняжка, в плохом состоянии. Ты, Оленька, созвонись с Ириной, и подъезжайте сюда, мы будем вас ждать.
— А что это за больница?
— Первая городская больница, от станции сразу налево, да вам тут любой подскажет. Мы в приемном покое будем.
После этого сообщения все ее страхи, связанные с предстоящей встречей с Ираклием, отошли на второй план и показались чуть ли не игрой собственного воспаленного воображения. Что значат все эти рассуждения о чувствах, эти телефонные запугивания, когда речь идет о жизни близкого человека?
Она знала, что сердце у дяди Паши начало пошаливать несколько лет назад, после того, как он похоронил своего лучшего друга, с которым со школьной скамьи привык делиться всеми радостями и горестями жизни. Врачи определили стенокардию и посоветовали побольше двигаться на свежем воздухе и избегать волнений.
И все шло более или менее нормально, без каких-либо серьезных ухудшений, до появления в жизни Ирины Игоря. В глубине души Ольга чувствовала, что дядя Паша, человек очень доброжелательный, как-то не очень симпатизирует ему, хотя и пытается скрыть это всеми возможными способами. Она решила тогда, что это просто обычная родительская ревность, как бывает, когда приходит пора отдавать свою единственную дочь чужому человеку, с которым отныне будет связано все самое важное и сокровенное в ее жизни.
Дядя Паша знал, что Ирина познакомилась с Игорем у Ольги дома, когда, после встречи с друзьями в Сокольническом парке, неожиданно оказалась поблизости и решила зайти к сестре. Ольга представила его как младшего брата своей приятельницы, что отчасти соответствовало истине, потому что с Ингой она знакома была и Игорь действительно доводился той братом. Ирину полученная информация вполне устроила, и оттого ли, что она была уверена в продолжающемся романе сестры с Вадимом, оттого ли, что Игорь ей сразу очень понравился, ей в голову не пришла, казалось бы, простая мысль: а что делает этот юноша у Ольги и почему ориентируется в ее квартире не хуже, чем в собственной?
Дяде Паше эта мысль наверняка пришла сразу же, потому что Ольга с давних пор перестала появляться у них с Вадимом, ничего о нем не рассказывала и вообще держала Беркальцевых в неведении относительно своей личной жизни. Хотя он не был ни в чем твердо уверен, видимо, эта мысль не давала ему покоя, а неуверенность и подозрение для человека разрушительнее горькой истины. Приступы стали следовать один за другим, а когда молодые, после трехнедельных встреч, заявили о своем намерении пожениться, ему стало совсем худо. От госпитализации его спасло только то, что тетя Тамара, проработавшая всю жизнь медсестрой в поликлинике, не отходя ни на шаг, сутками дежурила у его постели.
Потом он как-то обмяк, смирился, видимо, осознав, что ничего тут не поделаешь, и принялся за подготовку к свадьбе с каким-то даже энтузиазмом.
Ольга избегала с ним разговоров об Игоре, что было естественно: лгать ему она с детства не могла, но и правду сказать язык не поворачивался. Сам же он не заводил подобных разговоров, очевидно, из боязни эту правду не услышать, нет — увидеть в ее глазах, которые не сумели бы ввести его в заблуждение, даже если очень захотели бы.
Ольга позвонила на работу, чтобы сообщить о случившемся. Сердобольная Елена-Одуванчик разохалась и запричитала, искренне выражая свое сочувствие:
— Ах, Оленька, какая уж тут работа! Конечно, сразу же поезжайте к Павлу Сергеевичу в больницу. Ах, несчастье какое! Обязательно позвоните, когда вернетесь.
Машинально Ольга взглянула на часы: без двадцати восемь. А Одуванчик уже в издательстве. И опять невольно промелькнула навязчивая мысль, что не иначе как она провела эту ночь на столе в редакции.
Ольге очень не хотелось встречаться с Игорем, и она обрадовалась, узнав, что именно сегодня у него защита диплома и он поехать в больницу не сможет. Она договорилась с Ириной встретиться через час на вокзале и начала одеваться. Зазвонил телефон.
— Алло!.. Слушаю вас! Алло!..
В трубке раздавалось тихое потрескивание и слышалось чье-то знакомое дыхание.
— Федор Михайлович, это вы?
В трубке задышали активнее.
— Так знайте, что эти подростковые выходки вам не к лицу! — возмутилась Ольга. — Вы же солидный человек!
Трубка обиженно помолчала и дала отбой.
Выходя из квартиры, Ольга наступила на что-то мягкое, слабо хрустнувшее под ногой. На коврике под дверью лежали девственно-белые роскошные шапки георгинов. «Ну конечно, — усмехнулась она, — опять этот садовод-любитель в действии». Веря в приметы, она не стала возвращаться в квартиру, чтобы поставить их в воду. Ей сейчас было не до цветов.
Больница располагалась в угрюмом, обветшалом здании, бывшем особняке, на углу которого висела полустертая табличка, оповещавшая, что это «памятник архитектуры» и что он «охраняется государством». В приемном покое, как в муравейнике, жизнь била ключом: сновали с озабоченными лицами санитары и врачи обоих полов, появлялись и исчезали каталки с больными, родственники, пытаясь что-то выяснить, толпились у окошка регистратуры.
Тетя Тамара, измученная, постаревшая от тяжелой, бессонной ночи, проведенной на стуле в приемном покое, сидела, как-то боком привалясь к сестре, и бессмысленно смотрела в одну точку. Ирина бросилась к матери:
— Ну? Как он?
Та слабо улыбнулась:
— Только что говорили с врачом. Слава Богу, опасность миновала. Я уж думала, это конец… — На глазах у нее показались слезы.
— Когда это случилось? — спросила Ольга.
— В три часа ночи. Хорошо, Ларочка была рядом, одна бы я…
Выяснилось, что дядя Паша находится пока в реанимации, но через день-другой его переведут в общую палату.
Ольга с Ириной решили, что мамам надо немедленно ехать в Александровку, принять что-нибудь успокоительное, как следует выспаться и отдохнуть, а они побудут в больнице до вечернего обхода, чтобы еще раз поговорить с врачом.
Времени у них было достаточно, и Ольга предложила прогуляться по городу в поисках еще каких-нибудь «памятников архитектуры». Ирина отказалась, объяснив сестре, что после защиты сюда должен подъехать Игорек и они могут разминуться.
Услышав это имя и ту интонацию, с какой его произнесла Ирина, Ольга невольно вздрогнула. Меньше всего она хотела бы сейчас оказаться один на один с молодоженами.
— Что ж, — сказала она, изо всех сил стараясь казаться спокойной, — пойду одна пройдусь, погода замечательная.
После сообщения Ирины первым ее порывом было повернуться и уехать в Москву, тем более что особой нужды в ее присутствии не было: они с Игорем сами могли поговорить с врачом и позвонить ей потом из дома. Но что-то непонятное, необъяснимое заставило ее остаться. Здесь было намешано всего понемногу: и нездоровое любопытство, и ревность, и мазохистский порыв поковырять еще не зажившую рану, и желание продемонстрировать свое добродушно-снисходительное отношение к новому родственнику. Она же, лукавя сама перед собой, считала, что осталась только для того, чтобы как можно скорее приучить себя к мысли об этом родстве.
Ольга шла куда глаза глядят по пустынной окраине городка, не замечая ни редких прохожих, ни утопавших в зелени домиков, лепившихся совсем близко к дороге. Когда она вспоминала об Игоре, в памяти сразу возникали его сияющие черные глаза и улыбка. Его глаза, которые сияли навстречу ей, и его улыбка, которая была предназначена только для нее.
Бросившись в его объятия от отчаяния, не имея сил и времени на размышления, повинуясь лишь безотчетному стремлению быть любимой, единственной, Ольга за эти годы привыкла к его сильным, ласковым рукам, к интонациям его голоса и даже к его мальчишеским выходкам.
Во многом он и был еще мальчишкой. Ему нравились боевики с героями-суперменами, он любил мороженое, конфеты и вообще сладкое. Читал он в основном фантастику и детективы. Ольга пыталась руководить его чтением и подсовывала ему то Достоевского, то Лескова. Он, уважая ее вкус, внимательно прочитывал предложенное, высказывал ей свое мнение, нередко любопытное, выдававшее природный ум и нетривиальность мышления, и снова переключался на фантастику и триллеры.
Не имея свободных средств, кроме стипендии и того, что время от времени подбрасывали родители или Инга, он не только не мог делать Ольге подарков, но чаще всего вообще приходил к ней с пустыми руками и только иногда приносил что-нибудь к чаю.
Он жил с родителями и старшей сестрой, которые одевали и кормили его, поэтому материальная сторона жизни волновала его очень мало. Ольга тоже никогда не заводила с ним разговора о деньгах, считая это унизительным. Но не менее унизительными казались ей ситуации, когда приходилось платить за него в кафе, в такси, а порой даже в кино.
Она не любила обсуждать эту сторону их отношений со Светкой, зная наперед, что та может сказать ей по этому поводу, и заранее раздражаясь оттого, что это будет справедливо.
Но Светку трудно было урезонить, и время от времени ее негодование прорывалось наружу.
— Нет, ты посмотри, как сейчас его ровесники крутятся, — почти кричала она. — Подрабатывают в каких-то фирмах, кооперативах, в стройотрядах, наконец! Ведь он же будущий строитель!
Ольга старалась гнать от себя эти мысли, потому что боялась, что ни к чему хорошему они не приведут, а лишь усложнят ей жизнь, поставив их отношения под угрозу.
Она не задумывалась над тем, сколько это может продолжаться и чем закончится. Но за все три года их встреч ее почти никогда не покидало ощущение какой-то ненастоящности, игрушечности их связи. О существовании Игоря в ее жизни не знали ни Беркальцевы, ни родители, ни в редакции, где принято было знать все и про всех. Складывалось впечатление, будто она стыдится своих отношений с этим мальчиком, почти школьником, чересчур беззаботным и инфантильным, и эта тайная сторона ее жизни и радовала, и угнетала Ольгу.
Она ревновала его к институтским друзьям, в первую очередь, конечно, к подругам, которых у него в группе было немного, но две яркие блондинки среди них не давали ей покоя.
Раза два-три Игорь брал ее с собой на вечеринки, где Ольга почти никого не знала, привыкнув на работе к совершенно иному стилю общения и поведения, чувствовала себя очень неловко. В издательстве она была если еще не вполне солидной, но достаточно уважаемой фигурой, ее ценили как ответственного, знающего редактора, к ее мнению прислушивались маститые авторы, ей доверяли сложные работы. А на этих вечеринках, среди юнцов, объяснявшихся на каком-то не всегда понятном ей «птичьем» языке, ей трудно было выйти из привычного имиджа и сыграть роль «девушки Игоря».
Поэтому, когда он шел на очередную встречу с друзьями, она предпочитала оставаться дома, но при этом чувство тревоги и беспокойства весь вечер не покидало ее. И оно было не беспочвенно.
Впечатление невинности и неискушенности, которое он производил в период своего «великого сидения», в свое время ввело в заблуждение всех, даже Светку. Хотя Инга, конечно же, преувеличивала число его возлюбленных и вообще роль секса в его жизни, доля правды несомненно была в ее рассказах о любовных похождениях младшего брата.
Позже он сам, объясняя Ольге свою позицию в этом важном вопросе, признавался, что до встречи с ней действительно считал своим мужским долгом откликаться на любое, направленное на него чувство. А поскольку подобная направленность, в силу его обаяния, практически не иссякала, то у сестры, естественно, сложилось мнение о нем как о «половом гиганте», каковым он, разумеется, не был и сам себя не считал.
Он добавлял при этом, что до нее никого не любил, хотя многие девушки очень нравились ему, и что разницу, границу между любовью и влюбленностью он не только понимает, но и чувствует «всем нутром».
Ей не по душе были излияния такого рода, и смутная тревога, что эта четкая сейчас граница когда-нибудь размоется и станет зыбкой, не оставляла ее. И тем не менее, когда так и случилось, для нее это было как гром среди ясного неба.
С того дня, когда Ольга познакомила его с Ириной и сама попросила проводить ее домой, начались три самые ужасные недели в ее жизни.
Игорь перестал появляться у нее и почти не звонил, а когда звонил, объяснял свое отсутствие тем, что работа над дипломом неожиданно совпала с преддипломной практикой. Ольга понимала, что это неправда, потому что преддипломную практику он уже проходил прошлым летом и еще потому, что радостное возбуждение, которое он не мог от нее скрыть, явно не соответствовало свалившейся якобы на него нагрузке.
Звонить же ему сама она не решалась, так как знала, что Инга не одобряет их отношений, считая Ольгу чуть ли не «совратительницей малолетних».
А уж тот день, когда он пришел объявить ей, что женится на Ирине, она не забудет никогда. Это сообщение, к которому она, казалось бы, исподволь готовила себя в течение трех недель, застало ее врасплох еще и потому, что главной героиней в этой истории оказалась ее сестра.
Ирина относилась к категории жертвенных женских натур, у которых семья, и в первую очередь муж, всегда, при любых обстоятельствах стоят на первом месте, которым вся их жизнь представляется служением мужу и семье, причем служением не только не обременительным, но, напротив, радостным и даже вдохновенным.
Ольга же, почти до тридцати лет не имевшая возможности ощутить себя в роли матери и жены, вынужденная пробавляться порой горьким суррогатом семейного счастья, находила таких женщин чересчур скучными и пресными. Ей искренне казалось, что она не смогла бы замкнуться в лоне семьи и довольствоваться только мелкими домашними радостями и заботами.
Однако как раз это качество Ирины, судя по всему, и привлекло Игоря. Как он объявил Ольге в тот день, Ирина именно из тех девушек, «на которых следует жениться, чтобы обеспечить себе спокойную и счастливую жизнь». Такая рассудительность в двадцатитрехлетнем юноше покоробила ее, но с этим она могла бы еще как-то справиться. Хуже было то, что кроме этого разумного и резонного обоснования своего поступка у него имелся еще один аргумент, тривиальный, но убийственный для нее: он действительно влюбился в Ирину.
Он пугано и туманно пытался объяснить, что любовь его к Ольге неистребима, что женитьба на Ирине ничего не может изменить в его чувстве, говорил даже что-то о «путеводной звезде» и «маяке» и закончил длинную тираду вопросом, казавшимся ему риторическим: «Но ты же сама не согласилась бы выйти за меня замуж, разве не так?»
* * *
Когда Ольга, часа два спустя, подходила к больнице, она увидела в скверике напротив сидевших на скамейке молодоженов. Они о чем-то оживленно беседовали и даже не сразу заметили ее. При виде знакомой до боли улыбки Игоря, обращенной сейчас не к ней, у Ольги защемило сердце.
— Ой, Оля, а мы и не видели, как ты подошла, — весело защебетала Ирина. — Поздравь Игорька, он защитился на «отлично»!
Черные глаза, такие родные, близкие, радостно, как и прежде, засияли ей навстречу.
— Поздравляю! — старательно выдавив улыбку, проговорила Ольга. — Я в этом ни минуты и не сомневалась.
Какое-то время она еще пыталась поддерживать родственное оживление, добродушно отметив, что теперь, поскольку Ирина тоже месяц назад защитила диплом, у них полностью дипломированная семья, учитель и строитель, и что полезнее этих профессий в жизни не бывает, кроме, пожалуй, врача.
— Кстати, о врачах, — вдруг заторопилась она, ухватившись за спасительное слово, так как почувствовала, что переоценила свои силы и разыгрывать дальше роль доброй старшей сестры ей невмоготу. — Вы тут посидите, а я пойду попытаюсь что-нибудь выяснить. Может быть, удастся переговорить с главным врачом.
Понаблюдав больше часа больничную жизнь, Ольга заметила, что в кажущейся суете и неразберихе царил какой-то свой, особый порядок, в котором трудно было разобраться непосвященному. Так, к главному врачу, у чьего кабинета толпились страждущие родственники, нельзя было попасть без бумажки от врача лечащего, к которому проникнуть было еще сложнее.
Наконец, преодолев все эти препятствия, поговорив с обоими врачами, которые оказались очень милыми и симпатичными людьми, Ольга поняла, что ничего нового ей узнать не удалось, кроме разве того, что приступ стенокардии, случившийся у дяди Паши, именуется в народе «грудной жабой» и что, если завтра больного переведут в общую палату, можно будет навестить его.
Узнав об этом, Игорь с Ириной решили переночевать в Александровке, благо оттуда рукой подать до больницы, всего минут двадцать на автобусе.
— Ириша, передай маме и тете Тамаре, что я завтра не смогу приехать, — сказала Ольга. — У меня очень важное дело за городом.
— С Вадимом? — кокетливо спросила та. — Где же это, если не секрет?
«А действительно — где?» — мелькнула внезапная мысль.
— Ну… в Серпухове, — сымпровизировала она. — Может так случиться, что придется там заночевать, так что ты скажи маме, чтобы не волновалась. А в воскресенье я обязательно приеду в больницу.
На чем была основана ее уверенность, что она вообще вернется оттуда, куда завтра собиралась, она и сама не могла бы объяснить.
Дома она поставила в воду поникшие на коврике георгины и пошла в ванную. То, что ее страхи, связанные со звонком Ираклия, на время отошли на задний план, вовсе не означало, что она от них избавилась и забыла, что ей завтра предстоит.
Выйдя из ванной и сварив крепкого кофе, она взяла листок с выписанными вчера телефонами и решительно набрала номер Алика. Тот долго не мог понять, кто это говорит, но при имени Светки оживился, стал судорожно икать и хихикать, наконец сообщил, что сегодня его день рождения, и пригласил Ольгу в гости. На другом конце провода слышалась музыка и чей-то смех. Надежда на помощь Алика рухнула: он был безнадежно пьян.
Оставался только Шурик, так как Ольга поняла, что ни к Андрею, ни к Грише обратиться за помощью она все же не решится. Ей вдруг стало страшно от мысли, что Шурика может почему-либо не оказаться дома или вообще в Москве, что он носится где-нибудь на своей байдарке. Она сильно разволновалась, отчетливо представив, что тогда ей уж точно ни поддержки, ни спасения ждать неоткуда, и долго не решалась набрать его номер.
Слава Богу, Шурик не только оказался дома, но живо откликнулся на ее мольбу о помощи и спустя час сидел у нее на кухне, внимательно выслушивая подробный рассказ о случившемся.
— Вот что, Ольга, — подытожил он, дослушав до конца, — хорошо, что ты не сообщила в милицию, они его только спугнут. Увяжутся за машиной, он сразу же все поймет.
— Но что же делать? — спросила она в надежде, что, отвергнув милицию, Шурик предложит собственный план. — Ты ведь не можешь появиться у памятника вместе со мной.
Он нервно закурил, помолчал, потом решительно заявил:
— Сделаем вот как. Я поеду завтра с тобой, ну не с тобой, а как бы сам по себе. Мне необходимо увидеть этого Ираклия. Дальше… я… я запишу номер его машины и пойду в милицию… или в ГАИ. Они должны определить по номеру имя владельца и его адрес.
— Ну ладно, — согласилась с таким планом Ольга. — Но только ты пойдешь в милицию не раньше, чем мы уедем.
Ночь для Ольги выдалась спокойная, без сновидений, а наутро началась вдруг такая внутренняя паника, что впору было отключить телефон и зарыться головой в подушку. Если бы не присутствие Шурика, вполне возможно, что именно так она и поступила бы.
Шурик заставил ее съесть бутерброд и выпить чашку кофе.
— Путь тебе наверняка предстоит неблизкий, — деловито пояснил он. После этих слов Ольгу буквально затрясло.
— Хорошо бы тебе принять что-нибудь успокаивающее, — посоветовал он, видя ее плачевное состояние, — только без побочного снотворного эффекта.
Ольга нашла в аптечке упаковку элениума и, не помня точно, имеет ли он вообще какой-либо эффект, кроме побочного, тем не менее выпила сразу две таблетки. Она долго не могла сообразить, какие туфли надеть и брать ли с собой зонтик.
— Зонтик — брать, туфли — без каблуков, — безапелляционно произнес Шурик, зная, что командный тон хорошо действует на людей в подобном состоянии, и, улыбнувшись, добавил: — Чтобы легче было убегать, если придется.
Но Ольге было не до шуток. От выпитого кофе внутренняя дрожь только усилилась, и она долго не могла попасть ключом в замочную скважину, чтобы закрыть дверь.
Их встретило прекрасное летнее утро, свежее после ночного дождичка и румяное от нежаркого солнца. Во дворе играли дети, беззаботные птицы распевали свои песенки, а озабоченные пенсионеры на лавочке у подъезда обсуждали очередную денежную реформу.
Все было на своих местах, и ничто не предвещало опасности.
Шурик предложил в целях конспирации ехать на разных видах транспорта, поэтому Ольга вышла на дорогу ловить такси, а он поплелся к метро. Понятно, что она прибыла бы на место гораздо раньше назначенного срока и, что самое главное, раньше его. И если Ираклий вдруг тоже появится раньше, ей придется ехать с ним, не дождавшись Шурика. Таким образом, план их мог рухнуть, поэтому Шурик велел ей доехать, скажем, до Белорусского вокзала, а дальше идти пешком, но ни в коем случае не появляться у памятника раньше одиннадцати.
Таксист оказался очень подозрительным субъектом: его красная шея напомнила Ольге ту, бычью, из ее ночного кошмара. Милиционер, зачем-то остановивший их на перекрестке и проверивший у водителя документы, тоже вызвал у нее подозрение: слишком уж странно, даже как-то игриво посмотрел он на нее.
Ей начало казаться, что таксист и милиционер в каком-то сговоре с Ираклием, что машина вот-вот свернет на шоссе и умчит ее на зловещую заколоченную дачу, а Шурик, так ничего не узнав и не выяснив, не сможет ей ничем помочь.
Не выдержав нервного напряжения, так и не доехав до вокзала, она попросила водителя остановиться и с облегчением вышла из машины.
Времени у нее было достаточно, чтобы идти, не торопясь и не натыкаясь на прохожих, которые невольно разделились для нее на два потока: одним не терпелось поскорее попасть к памятнику Пушкину, другие же сломя голову бежали от него. Ольга охотнее присоединилась бы ко вторым, но мысль о Шурике и, главное, о Светке заставляла ее держаться первых.
Возможно, лекарство начало оказывать свое действие, возможно, эта вынужденная прогулка пошла ей на пользу, но она постепенно пришла в себя, приободрилась и даже смогла улыбнуться своим недавним фантазиям по поводу таксиста и милиционера.
К месту встречи Ольга подходила ровно в одиннадцать, как было условлено не только с Ираклием, но и с Шуриком. Народу около самого памятника было немного, в основном все сидели на скамейках или прогуливались по дорожкам вдоль усохших фонтанов. Стоило ей только приблизиться к толстой цепи, окружавшей памятник, как кто-то сзади мягко взял ее за локоть.
— Доброе утро, Ольга Михайловна! Я Ираклий.
Она увидела перед собой высокого, статного мужчину лет пятидесяти, с открытым взглядом и приятной белозубой улыбкой. Ей сразу пришло в голову, что квартирная хозяйка вполне могла принять его за Светкиного отца: у него были такие же синие глаза и темные волосы, только с проседью на висках, что придавало его облику особую мужественность и импозантность. «Такая внешность должна принадлежать знаменитому артисту или преуспевающему режиссеру», — успела подумать Ольга.
— Здравствуйте, — стараясь не выдать своего волнения, ответила она.
— Давайте отойдем в сторону, — ласково предложил Ираклий, — чтобы не маячить под носом у Александра Сергеевича.
Они прошли несколько шагов по направлению к скамейкам и остановились.
— Ну так как, Ольга Михайловна, — снова бархатно заворковал он, — надеюсь, вы сдержали свое обещание и никого не оповестили о нашем разговоре?
— Никого, — мужественно глядя ему прямо в глаза, ответила она.
— Хорошо, пойдемте к машине. — Он снова взял ее за локоть и, миновав усыпанную гравием дорожку, подвел к припаркованной поблизости светлой «волге».
За рулем сидел лысоватый полный молодой человек в темных очках, который явно нервничал и постоянно смотрел на часы.
— Это Николай Иванович, — представил его Ираклий, — или, по небольшим летам, просто Николаша. Мой друг и, так сказать, помощник в делах. А это, Николаша, Ольга Михайловна. — Обратясь к сидевшему в машине, он жестом указал в сторону Ольги и открыл дверцу. Усевшись рядом с ней на заднее сиденье, он проникновенно произнес:
— Я вам верю, Ольга Михайловна, но обстоятельства заставляют меня подстраховаться. Поэтому если какая-нибудь машина будет чересчур усердно следовать за нами, я буду вынужден высадить вас где придется. — Он вздохнул с сожалением и повторил: — Да, где придется, хоть в чистом поле.
При этих словах Ольга невольно вздрогнула, но нашла в себе силы улыбнуться и успокоила его:
— Не волнуйтесь, Ираклий Данилович, до этого дело не дойдет. Погони не будет.
— Ну, дай Бог, дай Бог, — оживился тот и заговорил почти нараспев: — Поймите меня правильно, Ольга Михайловна, у нас же с вами взаимный, так сказать, договор. Вы выполнили мои условия, а я обязуюсь вас вернуть на это самое место в целости и сохранности. По рукам? — Он действительно протянул ей большую холеную руку, на которой не было ни колец, ни перстней, ни браслетов, что, свидетельствуя о строгом вкусе, говорило, на ее взгляд, в его пользу.
— Ираклий, пора! — коротко проговорил Николаша, опять взглянув на часы.
— Ну, с Богом! — откликнулся тот, и машина тронулась с места.
Замелькало Садовое кольцо: высотка на площади Восстания, больница Склифосовского, Курский вокзал. Ольга лихорадочно пыталась понять, на какое шоссе они могут выехать, но, имея довольно смутное представление об автомобильных трассах, так ничего и не вычислила. «Хорошо, там видно будет», — решила она.
— Позвольте мне открыть окно, — полуобернулся к ней Ираклий. — Что-то душно в машине, а с моей стороны, как на грех, заклинило.
Ольга отклонилась назад и вжалась в сиденье, чтобы не мешать. Вдруг он резко повернулся к ней, в руке его мелькнула какая-то белая тряпка, резко запахло больницей, и последнее, что она запомнила, была толстая шея Николаши, оказавшаяся прямо перед глазами. Тряпка с силой закрыла ей лицо, и все исчезло.
Машина продолжала мчаться в неизвестном для нее направлении.
ЧАСТЬ II
Когда Ольга очнулась и открыла глаза, она долго не могла понять, где она и что вообще происходит. Тяжесть в голове и шум в ушах мешали ей сосредоточиться и вспомнить, как она очутилась на этой широкой кровати с атласным покрывалом, в этой комнате с персиковыми обоями, огромным абажуром и приспущенными кремовыми шторами на окне. Она еще раз обвела глазами комнату, и память постепенно, с трудом начала возвращаться к ней. Как бы сквозь туман проступали отдельные детали: крупная черная цепь вокруг памятника… посыпанные гравием дорожки… чья-то толстая шея перед глазами… красивая большая рука, протянутая к ней… Да, рука… и тряпка, прямо на лицо… И вдруг в голове будто что-то щелкнуло, и ей вспомнилось все, до мельчайших подробностей: и встреча с Ираклием у памятника, и Николаша, который вел машину, и их план с Шуриком. Но главное — где же Светка? Резким движением она попыталась встать, но голова закружилась, и Ольга снова в бессилии опустилась на подушку.
В дверь тихо постучали, на пороге возник Ираклий, успевший сменить свой элегантный костюм на бархатный полухалат-полукуртку, подпоясанный толстым витым шнуром с кистями. Мягкой поступью он подошел к кровати, на которой лежала Ольга, и театрально всплеснул руками:
— Вы уже очнулись, Ольга Михайловна! Вот и прекрасно, я очень рад!
Ольге неприятен был его барственный вид, витиеватость его речи и нарочито слащавый тон. Отчетливо вспомнив весь этот кошмар, который пережила в машине, она негодующе воскликнула:
— Что все это значит, Ираклий Данилович? Где Света?
Ираклий смотрел на нее добрыми, невинными глазами, выражая искреннее непонимание причин ее гнева. Ощущению невинности немало способствовал и цвет глаз: ярко-синие, как васильки в пшеничном поле, они вызывали доверие и притягивали к себе вопреки коварному поведению их владельца.
— Позвольте объяснить вам ситуацию, любезная Ольга Михайловна, — как всегда, вкрадчиво начал он. — Поймите, я вынужден был так поступить ради вашей же безопасности.
Ольга даже задохнулась от возмущения:
— Ради моей безопасности?
Ираклий стоял, расставив ноги и теребя кисти своего полухалата, всем своим видом выражая полное спокойствие человека, у которого что-что, а совесть чиста.
— Успокойтесь, Ольга Михайловна, — как ни в чем не бывало продолжал он, — и выслушайте меня. Обстоятельства, к сожалению, сложились так, что я вынужден до поры до времени скрывать свое местонахождение…
— То есть, попросту говоря, вас разыскивает милиция? — расхрабрившись от отчаяния, спросила она.
Он приветливо улыбнулся.
— Ну, не совсем так, — мягко поправил он, — не совсем милиция… Скажем иначе: кое-кому действительно хотелось бы разыскать нас с Николашей, но это не пошло бы нам на пользу. — Ираклий вдруг опечалился, задумался о чем-то, покрутил кисти халата и решительно повторил: — Ох, не пошло бы…
— Значит, вы считали, что я расскажу кому-нибудь о том, где вы прячетесь, поэтому и прибегли к такому варварскому способу?
Обида и возмущение до такой степени взяли верх над страхом, что сейчас, в незнакомом доме, с незнакомым человеком, скорее всего бандитом, Ольга вела себя гораздо решительнее и чувствовала намного увереннее, чем утром в своей собственной квартире.
При упоминании о «варварском способе» Ираклий почти обиделся или сделал вид, что обиделся.
— Посудите сами, Ольга Михайловна, — слегка даже оправдываясь, сказал он, — что же я еще мог предпринять? Предложить завязать вам глаза? — Он развел руками, как бы демонстрируя всю абсурдность подобного предложения. — Но вы тогда сами не согласились бы ехать, так ведь?
Она промолчала, не желая соглашаться с ним ни в чем, даже в самом второстепенном вопросе.
— Именно эти соображения, — продолжал он, — и вынудили меня, любезная Ольга Михайловна, прибегнуть к такому, как вы изволили выразиться, варварскому способу. — Он снова приободрился и заиграл бархатными кистями. — Однако, уверяю вас, все прошло очень хорошо, только небольшая доза хлороформа, абсолютно безвредная для здоровья, но очень, — он даже подмигнул, — полезная для жизни. Ведь вы не знаете, куда вас привезли и где вы сейчас находитесь?
При этих словах ее недавнюю решительность как ветром сдуло, по спине пробежал легкий холодок.
— И прекрасно! — поспешил успокоить Ираклий, заметив испуг в ее глазах. — Вникните в ситуацию, Ольга Михайловна, и вы поймете, что именно это незнание и является гарантией вашей безопасности. — Он улыбнулся своей ловкой формулировке и добавил: — Помните поговорку: кто меньше знает, тот крепче спит? Вот это и есть ваш случай.
Народная мудрость по поводу крепкого сна не очень утешила Ольгу, потому что в голову пришла неожиданная мысль, что самый крепкий сон называют еще мертвым, поэтому крепче всех, видимо, спит тот, кому уже не дано вообще что-либо узнать.
Ей же не терпелось узнать, где находится Светка, когда она наконец увидит ее, раз уж проделала такой нелегкий путь, и который теперь час, чтобы хоть приблизительно вычислить, сколько времени они были в пути.
Ираклий, казалось, читал ее мысли, и не успела она задать ему эти вопросы, как он живо заговорил:
— Теперь, Ольга Михайловна, о деле, ради которого вы прибыли сюда. Но прежде чем вы увидитесь со Светланой, я хотел бы ввести вас, так сказать, в курс… э-э… событий, имевших место в последние два с половиной месяца. И не только ввести в курс, но и кое от чего предостеречь.
Ольга полусидела на кровати, но после этих слов, произнесенных с особой серьезностью, почти торжественностью, она поднялась и села на стоявший возле стул. Ираклий прошел в противоположный угол, к креслу с наброшенным на него пледом, подвинул его поближе к кровати и тоже сел.
— Ну что ж, Ольга Михайловна, перейдем сразу к самому главному. Светлана рассказывала мне о вас, я знаю, что вы ее ближайшая подруга…
При этом он пытливо и с каким-то сомнением посмотрел на Ольгу, как бы желая услышать подтверждение. Она молча кивнула.
— Допустим, это так и есть, и доказательством тому является ваш приезд сюда, на что не каждая женщина отважилась бы.
Ольга почувствовала, что изменился не только его тон, превратившись из насмешливого и манерного в обычный человеческий, но и сам Ираклий как-то вдруг преобразился. Горькая складка легла возле его рта, глаза печально потемнели, лицо осунулось, и если бы не ситуация, благодаря которой она оказалась в этой чужой комнате, и не способ доставки ее в эту комнату, то человек, сидящий напротив, мог бы вызвать ее искреннюю симпатию.
— А поскольку это так, — продолжал он, — я могу говорить с вами вполне откровенно. Вы позволите?
Не совсем понимая, что от нее требуется, Ольга снова кивнула.
— Так вот, история эта мелодраматическая, — проговорил он с грустной усмешкой, — но, к сожалению, без счастливого конца. Дело в том, Ольга Михайловна, что я, находясь, как вы видите, далеко не в юных летах… ммм… влюбился в Светлану… пылко, без памяти, как, поверьте, и в молодости никого не любил.
Он откинулся на спинку кресла, прикрыл глаза и замолк. Она видела, что ему трудно продолжать и что говорит он действительно искренне и с болью.
Дальнейшее его повествование вызвало у Ольги смешанные и противоречивые чувства: с одной стороны, она готова была понять Светку, увлекшуюся Ираклием и сбежавшую с ним на какой-то хутор в Прибалтике, где они прожили одни, ни с кем не встречаясь, почти два месяца; вторая же половина его рассказа никак не укладывалась в рамки этой пасторали, и от нее попахивало духом гангстерских фильмов о мафиозных разборках, которые в последнее время заполнили не только кинотеатры, но и сознание честных граждан.
Оказалось, что Ираклий, в прошлом действительно актер, но с незадавшейся творческой судьбой, решил года два назад организовать свое акционерное общество, к театру имевшее очень отдаленное отношение. То ли его организаторские способности оказались более мощными, чем актерский талант, то ли просто удачно проявились именно тогда, когда подобные общества, товарищества и кооперативы начали расти как грибы и так же мгновенно исчезать под рукой ловкого грибника, но дело быстро пошло на лад. Помог ему встать на ноги, правда небескорыстно, один знакомый режиссер, который, не понятый публикой и преданный спонсорами, завел свое дело давно, чуть ли не с начала перестройки, и до тонкостей знал ситуацию в непростом мире бизнеса.
О деятельности своей фирмы Ираклий говорил как-то уклончиво, туманно, так что трудно было понять, чем же все-таки занималась она все это время до своего окончательного краха. «Кое-что, связанное с недвижимостью», — сказал он, но это тоже не внесло должной ясности, потому как, скажем, вор-домушник с полным основанием мог бы охарактеризовать свою деятельность точно так же.
В общем, все дело кончилось тем, что, как только фирма Ираклия развернулась и начала расцветать, бывший режиссер неожиданно потребовал свою долю, которая оказывалась львиной, на том основании, что, не будь его, Ираклий до сих пор за гроши выходил бы на сцену своего театра и произносил: «Ну-с, милостивый государь мой…» И когда Ираклий с Николашей, мягко говоря, не согласились с такой постановкой вопроса, бизнесмен от режиссуры принялся действовать. Бывшему режиссеру хватало воображения, и, сними он фильм на подобный сюжет, кассовый успех был бы ему обеспечен. Но он предпочел не переносить жизнь на экран, а поступил с точностью до наоборот, то есть разворачивал сценарий возможного вестерна в жизни, используя при этом не гримированных актеров, а натуральных профессионалов, добывавших себе хлеб насущный, силой отбирая его у других.
Начались ночные звонки, запугивания, а затем, когда это не возымело должного действия, наступил период открытого террора. Так, Николаша был выслежен и зверски избит, после чего полтора месяца провел в больнице, а Ираклия от подобной расправы спасло только то, что его местопребывание на хуторе было хорошо законспирировано. Всем известно, что дальнейшей, и заключительной, частью подобных сценариев является либо физическое истребление непослушных и неразумных героев, либо их бегство на какой-нибудь необитаемый остров, где им сам черт не брат.
Прекрасно понимая, что третьей части не избежать, Ираклий с Николашей остановились, естественно, на варианте «необитаемого острова».
— Кое-что из средств нам удалось отправить в небезызвестный своей надежностью банк в Европе, — вздохнул он, заканчивая свое печальное повествование, и по его горестному вздоху можно было понять, что в его представлении этого было явно недостаточно. — А теперь вот, изволите видеть, сидим буквально на чемоданах и ждем документов, чтобы отплыть, так сказать, в теплые края.
У Ольги складывалось впечатление, что Ираклий просто рассказал ей какой-то приключенческий боевик, изменив только имена действующих лиц, но в то же время у нее не было оснований не верить ему. Она знала, что в жизни порой возникают ситуации, один к одному повторяющие перипетии слезливых мексиканских сериалов, так почему бы Ираклию и в самом деле не попасть в гангстерский переплет? Да и ее собственное положение тоже выглядело вполне кинематографически: женщина в логове у мафии, приехавшая спасать подругу, взятую в заложницы.
Ольга невольно улыбнулась, представив немую сцену из «Ревизора» у них в редакции, если бы сотрудники в подробностях узнали о ее приключении. Наверняка не все поверили бы ей или по крайней мере поверили бы не всему, что она могла рассказать. Да, порой действительность похожа на игру воспаленного воображения даже больше, чем любые фантазии.
Однако во всей этой захватывающей истории ее больше всего, конечно, волновала участь подруги.
— Видите ли, Ольга Михайловна, — произнес Ираклий, с трудом подбирая слова, — у меня только одно желание: чтобы Светлана уехала со мной. — Он тяжело вздохнул. — Сначала она согласилась, и я был безмерно счастлив, но… но потом вдруг наотрез отказалась.
Он встал и в волнении прошелся по комнате.
— А у меня нет выбора, и остаться здесь со Светланой означает для меня верную гибель, и притом очень скорую. Я, конечно, готов пожертвовать ради нее жизнью, но, поверьте, моя жертва не нужна Светлане: это ни в коей мере не облегчит ей существование и даже не решит ее проблем.
Ираклий снова сел в кресло и нервно затеребил кисти пояса.
— К сожалению и моему великому огорчению, Ольга Михайловна, — заговорил он, понизив голос почти до шепота, — Светлана тоже оказалась втянута в эту грязную игру. Ей нельзя сейчас появляться в Москве, это небезопасно. Ее видели со мной, и наверняка им известно не только, где она снимает комнату, но также и адрес ее матери в Курске. Вы не знаете этих людей, Ольга Михайловна, они работают очень ловко, и они способны на все.
— Но… при чем же здесь Света? — Ольга искренне не понимала, какое отношение имеет та к деньгам Ираклия.
— Дело в том, — объяснил он, — что они не постесняются в средствах, чтобы… выяснить у нее, где меня искать. И, поверьте, в данном случае я больше боюсь за нее, чем за себя. — Он внимательно посмотрел на нее и по-доброму улыбнулся. — Ну вот, Ольга Михайловна, и вся моя печальная повесть.
Затем Ираклий добавил, что дня через три-четыре они с Николашей будут уже далеко отсюда, что режиссера известят об их отъезде, поэтому Светлана окажется в полной безопасности. Он сунул руку в карман, извлек оттуда пачку сигарет и закурил.
— А пока, — выпустив дым, сказал он, — пока мы вынуждены держать здесь Светлану даже против ее воли… Да, Ольга Михайловна, против воли, — твердо повторил он, заметив, как та встрепенулась при его словах. — Однако она не понимает всей серьезности ситуации и все рвется в Москву. А на днях пригрозила наложить на себя руки, если я не доставлю вас к ней в ближайшее время. Представляете? — Ираклий затянулся и театральным жестом стряхнул пепел прямо на пол. — Конечно, нам с Николашей негоже появляться сейчас в Москве, но что было делать? Меня до смерти напугала ее истерика…
— А как же вы оставили ее здесь одну? — спросила Ольга, представив себе полный набор из фильма ужасов: Светка, со связанными за спиной руками, прикованная за ногу к кровати и с кляпом во рту.
Но Ираклий остановил полет ее фантазии.
— Не одну, Ольга Михайловна, не одну, — поспешил заверить он. — Нам помогает старший брат Николаши, Георгий Иванович, милейший человек.
Ольга понимала только одно: ее подругу насильно держат в этом доме, не имея на то никаких прав.
— Насильно спасаем от петли, Ольга Михайловна, — возразил Ираклий, — в которую она, по незнанию своему, хочет залезть добровольно. Это разные вещи, согласитесь.
Ей и хотелось верить если не всему, что он рассказал, то хотя бы его искреннему желанию помочь Светке выпутаться из этой истории, тому, что она действительно дорога ему и он хочет, чтобы «ни один волос не упал с ее головы». Но ни уютная обстановка комнаты, ни бархатный голос Ираклия, ни его проникновенный взгляд и добрая улыбка не могли заставить ее забыть пережитый ужас перед свиданием с ним и особенно его поведение в машине. Если он мог рассыпаться перед ней в любезностях и тут же хладнокровно придавить тряпкой с хлороформом, как какую-нибудь мышь, она не поручится, что и в дальнейшем, даже хоть сейчас, он не поступит столь же коварно.
— Да, а который теперь час? — спохватилась Ольга.
— Без семи минут семь, — с готовностью ответил он, отведя рукой широкую бархатную манжету халата и взглянув на часы. — Если учесть, что мы беседуем около часа, то вы очнулись, допустим, в восемнадцать ноль-ноль. Но это ничего не доказывает, Ольга Михайловна. — Ираклий как-то неприятно усмехнулся и, как бы снова прочитав ее мысли, пояснил: — Во-первых, вы не знаете, сколько времени находились под действием лекарства после того, как мы приехали. Во-вторых, ехать мы могли кружными путями, так что время, даже помноженное на скорость, тоже не даст желаемого результата, то есть не поможет определить верное расстояние от Москвы. И мой вам совет, Ольга Михайловна, — он встал с кресла и направился к двери, — не пытайтесь что-либо вычислить, это вам ни к чему. Запомните: кто меньше знает, тот крепче спит. — И, выходя из комнаты, устало добавил: — Сейчас я приведу к вам Светлану.
Оставшись одна, Ольга попыталась сосредоточиться и верно оценить угрозу, нависшую, по словам Ираклия, над подругой. Если все происходило так, как он рассказал, если сам он был чист перед законом и никаких махинаций за его акционерным обществом не числилось, почему бы ему было не обратиться за помощью в милицию? А он тщательно скрывается, и теперь вот удирает за границу, как нашкодивший кот под диван. Хотя глупо было бы ожидать, что он ей, практически незнакомому человеку, раскроет все карты; видимо, он рассказал лишь то, что, по его мнению, ей следовало знать для соблюдения Светкиных интересов, пытаясь донести до нее, что подруга в опасности. Кинематограф цепко держит своими щупальцами сознание современного человека, поэтому Ольга представила себе мощных молодчиков в кожаных куртках, врывающихся к Светке и пытающих ее раскаленным утюгом с целью выяснить местонахождение Ираклия.
Она подошла к окну и подняла штору: перед самым окном росла такая раскидистая ель, что загораживала обзор даже приусадебного участка. Ей удалось увидеть только, что находится она на втором этаже дома, что большая черная туча висит над головой и сквозь зеленые лапы ели мелькают вспышки молний. Послышалось глухое ворчание грома. «А погода соответствует обстоятельствам», — подумала она.
Дверь распахнулась, в комнату влетела Светка в сопровождении Ираклия и Николаши. Светка бросилась ей на шею и залилась слезами, не в силах выговорить ни слова и повторяя только ее имя. При виде подруги, такой беспомощной, такой несчастной, как маленький обиженный ребенок, у Ольги тоже невольно полились слезы, и какое-то время они молча рыдали в объятиях друг друга. Ираклий с Николашей о чем-то тихо переговаривались у порога, из деликатности стараясь не смотреть на столь трогательную сцену.
Когда рыдания подруг постепенно сошли на нет, Ираклий, оставив помощника у двери, прошел к окну и первым заговорил:
— Я предупреждал тебя, Светлана, и думаю, ты все-таки в состоянии оценить серьезность положения, пусть не своего, а хотя бы твоей подруги. — Он опустил штору на окне. — Так вот, я предупреждал тебя, что Ольге Михайловне излишняя информация только повредит. Она в безопасности до тех пор, пока не знает, где она находится и как сюда можно добраться. Поэтому разговор ваш будет происходить в нашем с Николашей присутствии.
Светка взвилась, и ее раздражение, видимо, накопившееся за две недели заточения, вылилось наружу.
— Ах вот как! — закричала она в гневе. — Ты мне не доверяешь? Мне даже с подругой нельзя поговорить спокойно, без ваших физиономий рядом? Да я их уже видеть не могу!
Ираклий повернулся к Ольге и, как-то судорожно, ненатурально улыбаясь, обратился к ней:
— Поверьте, Ольга Михайловна, за последнее время я натерпелся от вашей подруги еще и не таких резкостей, и это, принимая во внимание мои чувства к ней, глубоко ранит меня. Но, — он нервно хохотнул, — чего не стерпишь от любимой женщины, тем более если ей угрожает опасность.
При этих словах Светка фурией налетела на него и схватила за бархатные отвороты халата.
— Опасность? — завопила она. — Это тебе угрожает опасность, а меня ты держишь здесь для перестраховки, из страха, что я выдам тебя! Трус несчастный!
Ольга застыла в изумлении. Она, конечно, знала, что подруга очень эмоциональная и легковозбудимая натура, но такого взлета эмоций на грани рукопашной не ожидала даже от нее.
Николаша, видимо, привыкший к подобным сценам, невозмутимо продолжал стоять у двери, опершись о косяк.
Ираклий отцепил Светкины пальцы от халата, взял ее руки в свои и поочередно поднес к губам, нежно целуя.
— Не нервничай так, детка, смотри, как ты напугала свою подругу, — проговорил он сладким голосом.
Светка сникла, возможно, поняв бесполезность своих обвинений в его адрес, подошла к Ольге, усадила ее на кровать и сама села рядом. Ираклий расположился в кресле напротив.
— Видишь, Олюня, мы даже поговорить с тобой не можем по-человечески, без чужих ушей. Ну ничего! — Она тряхнула головой, две-три шпильки выпали, и копна темных, чуть вьющихся волос пышной волной легла ей на плечи и спину.
Ольга отметила про себя, что подруга мало изменилась с тех пор, как они не виделись, только немного загорела и слегка похудела, но от этого стала еще привлекательней. Она была в каком-то модном льняном сарафане, открывавшем красивые плечи и руки, кожаный ремешок соблазнительно подчеркивал ее тонкую талию. Казалось, такую женщину в этой жизни может опечалить лишь возникновение морщин.
До их встречи Ольга представляла себе подругу изможденной и зачахшей в заточении, потому что при мысли о заточении у нее подспудно возникал образ глухого подземелья, сырого и темного. Но сейчас она видела, что Светкина красота не только не потускнела, а стала еще ярче и неоспоримей. Невольно промелькнула даже парадоксальная мысль, что страдания пошли ей на пользу, потому что в глазах появился какой-то внутренний огонь и они сверкали на загорелом лице неестественно крупными сапфирами.
«Немудрено, что мужчины липнут к ней, как мухи к меду», — подумала Ольга, как думала не раз, когда они, бывало, сидели у нее на кухне за разговорами, а Светка, рассказывая о чем-то, вдруг загоралась, встряхивала головой, и волосы, пышной короной обрамлявшие лицо, падали ей на плечи.
За окном бушевала гроза, ветер стучал еловыми ветками в окно, молнии время от времени освещали полумрак комнаты и склоненные друг к другу головы подруг — темную и рыжевато-каштановую.
Николаша куда-то ушел и вскоре вернулся, неся большой поднос с едой. Поставив поднос на тумбочку возле кровати, он снова занял свой пост у двери. Увидев аппетитные яства, Ольга почувствовала, как она проголодалась. Светка от еды отказалась и выпила только чай.
— Я теперь, Олюня, не ужинаю, берегу фигуру, — насмешливо пояснила она.
— Но ведь Ольга Михайловна с самого утра ничего не ела, — подал голос Ираклий, приняв озабоченный вид.
— Зато хлороформа твоего нанюхалась, — сердито возразила Светка. — Сколько в нем калорий?
Николаша дернул за шнурок у двери, и комната осветилась мягким розовато-кремовым светом, спокойным и в то же время нарядным. Ольге вспомнились посиделки у нее на кухне с таким же ровным, неярким светом, с безумной кукушкой на стене, и тот мир, в кругу близких людей, которые, она была уверена, никогда не стали бы душить ее тряпкой с хлороформом, показался ей далеким и недосягаемым.
Говорили они не меньше часа, но им показалось, что прошло всего десять минут. Ираклий молча сидел в кресле напротив, курил, внимательно прислушивался к их беседе, стараясь не упустить ни слова.
Разговор шел в основном об общих знакомых, о звонке Киры Петровны, об Ольгиных сослуживцах, главным образом о «почитателе», о здоровье дяди Паши и его будущей пасеке, а когда Светка завела речь об Игоре и Ольга сообщила ей о свадьбе, та просто остолбенела и смогла вымолвить только: «Ну и дела!» — и надолго замолкла, пытаясь как-то переварить сенсационную новость. Она была настолько потрясена этим сообщением, что собственное положение показалось ей чуть ли не естественным и нормальным.
Подруги могли бы обсуждать сие волнующее событие всю ночь, Ираклий понял это, поэтому встал и, посмотрев на часы, решительно произнес:
— Ну-с, дорогие мои, пора заканчивать беседу. Уже половина девятого, а в пять утра нам выезжать.
Светка опять заплакала и прижалась к Ольге, Ираклий подошел и осторожно потянул ее за руку.
— Ну же, детка, пойдем, — ласково увещевал он. — Ольге Михайловне надо отдохнуть. Завтра у нас нелегкий путь, да еще по мокрому шоссе. Обещаю тебе, что буквально через несколько дней вы снова будете вместе.
На прощание Светка попросила Ольгу позвонить в Курск и успокоить мать, объяснив, что она действительно в командировке, ну хоть на Алтае, к примеру, и скоро приедет.
Уходя, Ираклий указал Ольге на дверь у окна:
— Это, Ольга Михайловна, туалет и душ, а комнату, с вашего разрешения, я закрою на ключ, чтобы и вам и нам было спокойнее.
Он пошел к выходу, но, как будто вспомнив что-то, обернулся:
— Да, вот еще что. Если вам вдруг придет фантазия воспользоваться, так сказать, окном, то искренне не советую этого делать. Даже если вы удачно приземлитесь, вокруг дома высокий забор, который вам не одолеть, да и собаку Георгий Иванович на ночь с цепи спускает. Так что… — Он развел руками в знак сожаления, что не может помочь ей в осуществлении побега через окно.
Но Ольга и не помышляла о побеге. За окном была уже беспросветная тьма, ливень и тяжелая еловая лапа попеременно стучали по стеклу, и комната, освещенная розовым светом, в которой было тепло и уютно, показалась ей маленьким островком, затерянным в океане событий и перипетий ее в общем-то спокойной и размеренной жизни.
Когда, приняв душ, она погасила свет и легла, то почувствовала, что нервы напряжены до предела и вряд ли она сможет сомкнуть глаза в этом чужом доме, на этой жесткой широкой кровати, в запертой снаружи, как ловушка, комнате.
«Что-то Светка говорила про командировку на Алтай? — подумала она. — Ах да, просила передать Кире Петровне… На Алтай… Почему… Алтай…» Это были последние слова, промелькнувшие у нее в голове, но смысла их она уже не понимала.
Ее разбудил негромкий стук в дверь и голос Ираклия:
— Ольга Михайловна, пора вставать! Через полчаса выезжаем.
Затем — два поворота ключа в замке и его удаляющиеся шаги.
Ольга приподнялась на кровати, потерла глаза.
За окном светало. Первое чувство, которым она встретила начинавшийся день, было недоумение: как, она спокойно проспала всю ночь в этом бандитском логове! Причем заснула мгновенно и спала так сладко, что не видела во сне никаких кошмаров. А снились ей пчелы на дядипашиной пасеке, большие, добрые, мохнатые, размером с комнатную собачку. Она не удивлялась их размеру и тому, что их приходится выгуливать по цветущему лугу на поводке.
Едва она успела умыться и одеться, в дверь снова постучали, и вошел Ираклий.
— Доброго вам утра, Ольга Михайловна, как изволили почивать? — в своей обычной манере начал он и, не дожидаясь ответа, озабоченно произнес: — Хочу вас предуведомить о маленьких неудобствах нашего обратного пути. Поскольку мы с вами сегодня знакомы немного лучше, чем вчера, — не так ли? — то нам незачем прибегать к, так сказать, нецивилизованным мерам, а следует действовать по взаимной договоренности.
Он прошел к окну и, подняв штору, открыл его. Свежий, прохладный воздух быстро наполнил комнату.
— Надеюсь, вы не будете больше усыплять меня, Ираклий Данилович? — Пытаясь говорить насмешливо, Ольга все же не смогла скрыть своего страха.
— Нет-нет, Боже упаси, — воскликнул он и замахал руками, как бы осуждая свои вчерашние действия. — Я только хочу попросить вас, чтобы вы добровольно — заметьте, добровольно! — согласились спуститься к машине с завязанными глазами. А уж в самой машине Георгий Иванович все устроил наилучшим образом. Ну как, вы согласны? — И увидев, что она колеблется в нерешительности, опять не дождавшись ответа, зачастил: — И прекрасно, и прекрасно! Не сомневайтесь, Ольга Михайловна, все пройдет как нельзя лучше. Даю вам десять минут на сборы, и в путь! — Бодрой, пружинистой походкой человека, только что совершившего утренний забег трусцой, он вышел из комнаты.
Когда машина тронулась и Ираклий снял с ее глаз плотную черную повязку, Ольге показалось, что они попали в какой-то бункер, хотя она понимала, что находится в машине, которая, судя по всему, движется.
— Что это? — оглянувшись по сторонам, недоуменно спросила она.
— А это, Ольга Михайловна, творчество нашего бесценного Георгия Ивановича, — радостно сообщил Ираклий. — Ума не приложу, что бы мы без него делали! На все руки мастер.
Мифический Георгий Иванович, которого Ольге так и не довелось увидеть, но имя которого не раз упоминали и Ираклий, и Светка, додумался так искусно вырезать кусок оргалита, что тот вплотную прилегал к крыше и бокам салона, почти наглухо отделяя от них сиденье водителя. А поскольку заднее и боковые стекла были закрыты черными жалюзи, то в первый момент Ольге показалось, что в машине полная темнота. Спустя какое-то время глаза, привыкнув, смогли различить пробивавшиеся кое-где тоненькие полоски неяркого света.
Ираклий достал из сумки термос с кофе и бутерброды.
— Протяните руку, Ольга Михайловна, я вручу вам ваш завтрак, — весело сказал он.
Ольга протянула руку и повернулась к нему, начиная смутно различать неясные контуры сидящего рядом человека.
* * *
— Ну-с, Ольга Михайловна, — заговорил Ираклий по окончании трапезы, — как видите, я, со своей стороны, выполняю наш договор и доставляю вас в Москву в целости и сохранности. Но уж и вы обещайте, что о вашем визите — никому ни слова. — Он поерзал на сиденье, устраиваясь поудобнее, так как в ногах мешала стена из оргалита, и продолжил свою мысль: — Возьмем, к примеру, наши органы, так сказать, охраны правопорядка. Ну, расскажете вы им, что были… а где, собственно? У вас ведь никаких ориентиров. Так что я взываю к вашему благоразумию, Ольга Михайловна, зачем вам эти допросы, очные ставки, повестки из прокуратуры… Тем более что Светлана дня через три уже будет в Москве, жива и невредима.
Мягкий ход машины и бархатное воркование сидевшего рядом Ираклия убаюкали Ольгу, и она задремала. Когда очнулась, его голос продолжал журчать как ни в чем не бывало, он описывал ей красоты местечка, где они отдыхали со Светкой, но что это за местечко, назвать отказался.
— Зачем вам отягощаться лишней информацией, Ольга Михайловна? Вспомните поговорку, которую я не устаю вам повторять: «Кто меньше знает…»
Услышав в очередной раз так полюбившуюся ему народную мудрость, Ольга чуть не застонала, до того утомил ее Ираклий своей болтовней. Неужели он всегда такой? Или, может, это на нервной почве? Ведь для него опасно появляться в Москве, он боится этих молодчиков режиссера, которые, наверно, сбились с ног в поисках намеченной жертвы.
А если их с Шуриком план удался, то эту машину наверняка разыскивает милиция и их могут остановить даже при въезде в город. При этой мысли Ольга разволновалась, она не знала, как в таком случае следует себя вести: признаться и рассказать всю правду или все отрицать, чтобы выгородить Ираклия с Николашей.
С одной стороны, они довольно скользкие личности, скорее всего мошенники и одним миром мазаны с этим режиссером, а с другой — ведь Ираклий действительно не желал ей никакого зла, выполнил свое обещание и везет ее, с риском для себя, в Москву, а кроме того, он влюблен в ее подругу. И Ольга почувствовала, что, несмотря на несмолкаемую, раздражающую болтовню Ираклия, она тоже не желает им зла, не хочет, чтобы они попали в лапы режиссера, который оставит от них мокрое место.
Попасть в лапы милиции, по ее мнению, было не так страшно, но она вспомнила предупреждение Ираклия насчет допросов и повесток в прокуратуру и, как практически каждый советский человек в ее ситуации, с ужасом подумала: «Затаскают!..» Кроме всего прочего, в этом деле была замешана ее подруга, причем Ольга не знала, до какой степени, потому что об этом они, естественно, не могли говорить в присутствии Ираклия. Значит, Светке придется посторонним людям рассказывать о том, что она провела два месяца на хуторе с малознакомым человеком, в которого внезапно влюбилась? А если ей не поверят, что она непричастна к махинациям Ираклия? Нет, в лапы милиции тоже попадать нежелательно… Но как же быть?
После некоторых колебаний Ольга решила, что, если их остановит милиция, она будет все отрицать, скажет, что Шурик — обезумевший от ревности поклонник, который выслеживает ее и, стоит ей сесть в какую-либо машину, не только частную, но даже такси, тут же записывает номер и бежит в милицию сообщать о похищении.
Мысль представить Шурика сумасшедшим любовником немного успокоила ее, но вслед за ней пришла другая, которая по своей очевидности должна была прийти первой: если их остановят, то первым делом заинтересуются нетрадиционным способом перевозки пассажиров в перегороженном оргалитом салоне и со спущенными жалюзи.
Ольга напрягла всю свою фантазию, но дальше какой-нибудь болезни глаз не продвинулась. Причем смогла вспомнить название только одной глазной болезни — куриная слепота, но не знала, в чем она заключается, и была совсем не уверена, надо ли при этой болезни держать человека в темноте. На всякий случай она отыскала на ощупь в сумке темные очки и положила их в карман курточки, чтобы были под рукой.
Поделиться своими сомнениями и переживаниями с Ираклием она, по понятным причинам, не могла, к тому же надеялась, что все обойдется и не надо будет устраивать спектакль.
А тот разливался соловьем, не умолкая рассказывал смешные случаи из своей театральной практики, сам же при этом смеялся, и, казалось, реакция Ольги, сидевшей рядом, его нисколько не интересует, просто он боится замолчать и добавить к темноте еще и тишину. «Так и есть, — подумала она, — нервничает, поэтому и остановиться не может».
Но Ираклий, словно читая ее мысли, неожиданно замолчал, и они ехали минут пять в полной тишине, нарушаемой только свистом или грохотом встречных машин. Когда же он наконец заговорил, Ольгу потрясло, до какой степени сумел он прочитать ее мысли.
— Ольга Михайловна, — начал он, взяв серьезный тон, — не исключено, что нас может остановить любой пост ГАИ… ну, проверить документы или поинтересоваться, что мы везем в замурованном салоне, у них вообще народ крайне любознательный… Так вот, мы с Николашей обсудили эту возможность, и нижайшая просьба к вам, Ольга Михайловна, — он слегка дотронулся до ее руки, желая своим прикосновением донести до нее важность этой просьбы, — сохранять полное спокойствие и, если понадобится, подтвердить, что вам предстоит операция в клинике Федорова и желательно пребывание в темноте во избежание перенапряжения глаз.
Во время его краткой речи Ольга сидела оцепенев, воспринимая совпадение своих мыслей со словами Ираклия как нечто мистическое. Но затем, поразмыслив здраво, она поняла, что это было не случайно и к мистике отношения не имело, просто совпали их цели — ни ей, ни тем более Ираклию с Николашей не хотелось попадать в лапы милиции.
— Какой же у меня диагноз, если не секрет? — стараясь казаться спокойной и даже ироничной, спросила она. — Уж не куриная ли слепота?
— Нет-нет, — засмеялся Ираклий, — просто у вас критическое давление глазного дна, скажем, на фоне глаукомы, которое действительно может привести к слепоте, но отнюдь не куриной.
Ольга, повторив несколько раз название болезни, согласие подтвердить эту версию дала, а про себя подумала, насколько же неисповедимы пути Господни, если честным людям приходится выступать единым фронтом с мошенниками в борьбе против милиции.
Ираклий сразу повеселел, будто сбросил какой-то тяготивший его груз, и стал вполголоса напевать романс «Отцвели уж давно хризантемы в саду». Пел он хорошо, с чувством, слушать его пение было приятнее, чем неумолчную трескотню. Но вдруг он замолчал, то ли забыв слова, то ли задумавшись.
Ехали долго, Ольгу укачивало, она засыпала, просыпалась и снова начинала дремать. То, проснувшись, она ощущала себя заложницей в руках бандитов, маскирующихся под порядочных людей, якобы пострадавших от представителей криминального мира. То, засыпая под несмолкаемый аккомпанемент голоса Ираклия, она чувствовала, что он несчастный человек, вынужденный скрываться и обреченный на муки неразделенной любви.
Она потеряла представление о времени, и, скажи ей Ираклий, что с того момента, как ее посадили в машину, прошло два часа или десять, она поверила бы ему в любом случае.
Но вот наступил момент, видимо, переломный в их путешествии, когда Николаша притормозил машину и постучал в оргалитовую стену. Ираклий встрепенулся и, порывшись в сумке, протянул Ольге массивные очки, стекла которых были почему-то шершавыми.
— Вот, Ольга Михайловна, это тоже дело рук и фантазии нашего Георгия Ивановича, — живо произнес он, видно, не уставая восхищаться этим искусником. — Вам придется надеть их, а стеночку мы уберем. Мы уже подъезжаем.
Надев мотоциклетные очки, стекла которых оказались обшиты темной плотной материей, Ольга улыбнулась, почувствовала себя важной птицей, раз Георгий Иванович не смыкая глаз трудился над изготовлением всевозможных атрибутов для препровождения ее в Москву.
Слышно было, как Николаша вышел из машины, как он убирал оргалит, и это, судя по всему, оказалось делом не простым, потому что возился он довольно долго. Ираклий сидел рядом с ней как привязанный и Николаше не помогал, что, по всей видимости, тоже входило в их тщательно разработанный план.
Ольга поинтересовалась, почему бы ей от самого дома не ехать в очках, это было гораздо проще, чем воздвигать стену.
— А из уважения, Ольга Михайловна, — с готовностью объяснил Ираклий, — исключительно из уважения. Мы думали о варианте с очками, но… как-то, знаете, неловко… то же самое, что повязка.
Ольге тут же вспомнилась тряпка с хлороформом, поэтому она не очень-то поверила в сладкий щебет Ираклия об уважении к ней. Скорее всего, со стеной было просто надежнее, но въезжать с ней в город они, видимо, не решались, боясь привлечь к себе внимание любого постового.
Наконец снова тронулись в путь, и она попросила подъехать, если это возможно, к Ярославскому вокзалу, так как ей хотелось сразу же, не заезжая домой, отправиться в больницу к дяде Паше.
В огромных очках было жарко и неудобно, постоянно возникало желание сорвать их и броситься вон из машины, и она была рада, что, из уважения ли к ней, как говорил Ираклий, или, скорее всего, из страха перед ненадежным прикрытием, ей была предоставлена возможность весь долгий путь до их остановки совершить в относительном комфорте.
Ираклий затих, только нервно ерзал на сиденье, а спустя минут тридцать-сорок торжественно произнес:
— Ну вот и приехали, Ольга Михайловна, можете разоблачаться, — и помог ей снять ненавистное изделие Георгия Ивановича.
Машина остановилась на площади вблизи Ярославского вокзала. Ольга облегченно вздохнула. Только сейчас, в эту минуту, она поняла, что в самом-то деле отнюдь не была уверена в благополучном исходе, просто боялась думать о возможных вариантах.
Прощание получилось теплым и почти трогательным. Выйдя из машины, она пожелала им счастливого пути и благополучия в теплых краях, куда они так стремились, а Ираклий, высунувшись в окошко, с улыбкой кивал головой и повторял:
— Премного вам благодарны, Ольга Михайловна, поверьте, встреча с вами навсегда останется в нашей памяти.
Даже Николаша, за всю дорогу не обронивший ни слова, повернулся в ее сторону, осклабился и пробормотал:
— Счастливо оставаться!
Машина рванула с места, Ираклий сентиментально замахал рукой на прощание. Теперь только Ольга заметила, что это была не светлая «волга», а темно-вишневая иномарка.
Подходя в зданию вокзала, она посмотрела на часы: пять минут одиннадцатого. Значит, ехали он ровно пять часов, а это, даже при скорости, допустим, шестьдесят километров, означает, что она побывала в местах, отдаленных от столицы минимум на триста километров. Слава Богу, никто их так и не остановил. Она позвонила Шурику, чтобы сообщить, что жива-здорова, и договориться о встрече. Шурика дома не оказалось.
На пристанционном рынке в Пушкино Ольга купила фрукты и цветы и направилась в больницу. Она была так переполнена своим приключением, что забыла даже о возможной встрече с Игорем. По дороге в больницу она думала о том, что, будь дядя Паша здоров, она ему обязательно рассказала бы обо всем. Но в последнее время его состояние не позволяло делиться с ним никакими волнующими событиями, которые могли бы только спровоцировать очередной сердечный приступ. Конечно, если бы дядя Паша узнал, он ни за что не отпустил бы ее одну с Ираклием. Ольга невольно улыбнулась, подумав об этом: она знала, что есть человек, который скорее сам погибнет, чем позволит ей рисковать своей жизнью.
Из скверика напротив больницы ее окликнули. Когда она увидела знакомые с детства родные лица матери и тети Тамары, возможные последствия пережитого предстали перед нею не в виде приключения, а в самых мрачных красках. Объявление в газете с ее фотографией под рубрикой «Разыскивается…», расчлененные трупы, отрезанные головы, случайно найденные утопленники — все это мгновенно пронеслось у нее в сознании, ноги подкосились, и на глазах выступили слезы.
Мать с тетей Тамарой, увидев Ольгу в таком состоянии, бледную и едва державшуюся на ногах, поняли это по-своему и наперебой принялись успокаивать ее:
— Все в порядке, Оленька, не волнуйся, ради Бога, Павел уже в общей палате и чувствует себя неплохо, мы только что от него. Все нормально, там сейчас Ирочка с Игорем.
Услышав знакомое сочетание имен, которое стало привычным в их семье, но к которому она еще не научилась относиться спокойно, Ольга присела на скамейку рядом с матерью и, неожиданно для себя положив голову ей на плечо, тихо вздохнула:
— Господи, как же я устала…
Она имела в виду и поездку с Ираклием, и отношения с Игорем, и надоевшего «почитателя», и вообще всю свою неудавшуюся, по ее мнению, жизнь.
Мать, приписав ее усталость и изможденный вид волнению за здоровье дяди Паши, обняла Ольгу и заговорила о том, что скоро отец уйдет в отставку и Павел с Тамарой приглашают их поселиться в Александровке, благо, места там для всех хватит, а им с отцом уже до смерти надоел военный городок и они с радостью примут это предложение, тем более что от Москвы недалеко и можно будет часто видеться. Отец мечтает заняться сельским хозяйством и помогать дяде Паше на его будущей пасеке, поэтому даже взял в библиотеке книгу под названием «Пчеловодство». Ольгу удивило, что мать, приехав уже дней восемь назад, впервые заговорила с ней об этом, да и дядя Паша почему-то не счел нужным поставить ее в известность об их совместных планах.
— А вот и молодые! — воскликнула тетя Тамара, увидев выходящих из больницы Ирину и Игоря. Ольга встала и пошла им навстречу, стараясь смотреть на сестру и не встречаться взглядом с Игорем.
— Ну, как твое дело в Серпухове? — поинтересовалась та. — Все прошло нормально?
Ольга удивилась, но, вспомнив, что сама же позавчера назвала сестре этот первый пришедший на ум населенный пункт, бодро ответила:
— Да-да, все хорошо. Как дядя Паша? Можно мне к нему?
— Врач сказал, что слишком много посетителей в первый же день, — ответила Ирина. — Но ты не говори никому, куда идешь, просто возьми внизу на вешалке халат и беги на второй этаж, палата семнадцать.
Ольге показалось слишком вызывающим полностью игнорировать Игоря, и она заставила себя взглянуть на него. Он радостно улыбался, и непонятно было, в чем причина его радости: во встрече ли с ней или в удовольствии, которое доставляет ему семейная жизнь.
Когда она вошла в семнадцатую палату, то сразу увидела дядю Пашу. Повернув голову на подушке, он о чем-то беседовал с человеком в спортивном костюме, сидевшим на соседней кровати.
— Олюшка пришла! — заулыбался он, заметив ее, и попытался приподняться.
Ольга замахала руками.
— Лежи, лежи, тебе нельзя вставать, — испуганно проговорила она. — Меня и так сейчас выгонят, я без разрешения. — Она наклонилась к нему и поцеловала родную колючую щеку.
— Я буквально на пять минут, только увидеть тебя. Ну, как ты? — Присев на стул возле кровати, она взяла его за руку.
— Все хорошо, Олюшка, врач сказал, через недельку можно забирать меня в Москву, долечиваться, у них тут и так мест не хватает.
За эти дни дядя Паша побледнел и осунулся, но глаза его блестели по-прежнему, так молодо и радостно, что все ее невзгоды и черные мысли отступили, и, наблюдая незамысловатую картинку бытия: солнечные блики на чистом линолеуме пола, астры в банке с водой на тумбочке у окна, — она почувствовала неожиданный прилив бодрости и сил.
— Вот, Олюшка, познакомься, — сказал дядя Паша, указывая на своего соседа, — Кирилл Андреич, тоже москвич и тоже с дачи сюда попал.
Соседом дяди Паши оказался симпатичный бородач лет тридцати пяти, светловолосый и светлоглазый. Он улыбнулся и из вежливости привстал, держась за правый бок.
— Сидите, Кирилл Андреич, сидите, — забеспокоился дядя Паша. — Вы уже сегодня со всем моим семейством познакомились, а это вот Ольга, племянница моя любимая, можно сказать, вторая дочь, — с особым чувством произнес он.
Ольга удивилась, что Кирилл Андреевич, производивший впечатление очень здорового и сильного человека, тоже находится в кардиологическом отделении.
— Так это просто из-за нехватки мест в хирургии, — объяснил тот, улыбаясь приятной, открытой улыбкой. — Здесь все, знаете, как-то по-домашнему.
Оказалось, что неделю назад на даче в Мамонтовке у него случился такой острый приступ аппендицита, что, боясь не довезти до Москвы, его оперировали в пушкинской больнице. Хирургическое отделение было переполнено, а поскольку кардиология находилась в другом конце коридора, то после операции его и поместили к «самым сердечным людям», как шутили между собой врачи. Дня через три его выпишут, и он тоже собирается в Москву на долечивание на домашнем режиме.
В палату вошла медсестра, толкая перед собой стеклянный столик на колесиках, уставленный пузырьками всех размеров и с грудой разноцветных таблеток.
— А вы, девушка, как сюда попали? — удивленно обратилась она к Ольге. — И тоже к Беркальцеву? Василий Егорыч запретил на сегодня посещения.
Ее строгий тон не соответствовал обшей семейственной обстановке, царившей в больнице, где родственники и знакомые, несмотря на установленные часы посещений, приходили и уходили когда вздумается, пили чай (а в других отделениях и кое-что покрепче) вместе с больными, курили прямо в палатах, громко смеялись и вообще как могли поддерживали бодрость духа в своих близких, волею судеб оторванных от домашнего очага.
И хотя Ольга прошла в палату совершенно беспрепятственно, ни от кого не прячась, и никто не задал ей ни одного вопроса, она почувствовала себя школьницей, которую строгий учитель застал за списыванием несделанных уроков.
— Не сердитесь, Галочка, — пришел ей на выручку дядя Паша, — она сейчас уйдет. А Василию Егорычу я объясню, что мне гораздо лучше теперь, когда я всех своих повидал.
Он взял с тумбочки принесенные Ольгой гвоздики и протянул медсестре:
— Это вам, Галочка, поставьте на свой стол, чтоб веселей дежурилось. А то у нас тут просто ботанический сад, жалко, пальм не хватает.
Галочка, только что сурово выговаривавшая Ольге за нарушение режима, захихикав, взяла цветы и положила поверх пузырьков. Обойдя больных и раздав всем положенные лекарства, она оглянулась у двери и предупредила, что если Василий Егорыч заглянет в палату, то ей несдобровать.
— Хорошо-хорошо, Галочка, через две минуты тут никого не будет, — пообещал дядя Паша и, обращаясь к Ольге, улыбнулся: — Знаешь, Олюшка, они здесь все добрейшие люди, как на подбор, а строгость на себя напускают для видимости, вот Кирилл Андреич, как старожил, может подтвердить.
«Старожил», попавший в больницу на четыре дня раньше его, рассмеялся.
— Да здесь достаточно и день провести, чтобы понять это. Только новички, вроде вас, клюют на их строгость, — сказал он Ольге. — Но, если им время от времени не подпускать суровости, тут, пожалуй, через пару дней больных от здоровых уже не отличишь.
Чтобы не подводить строгую только для видимости медсестру, Ольга засобиралась, вымыла у раковины принесенные фрукты, положила на тарелку и поставила на их общую тумбочку.
— Угощайтесь, Кирилл Андреевич, и выздоравливайте, — приветливо сказала она и распрощалась.
Уже на пороге дядя Паша, приподнявшись на кровати, встревоженно окликнул ее:
— Олюшка, постой! Я забыл спросить: ты была в милиции насчет Светы?
Ольга оглянулась:
— Успокойся, дядя Паш, все нормально, вчера мы даже встречались с ней.
«Знал бы он, что это была за встреча! И где!» — подумала она, выходя в коридор.
Мать и тетя Тамара все еще сидели в скверике, они сказали, что молодые уехали, не дождавшись ее, так как торопились на банкет с однокурсниками Игоря по случаю защиты диплома. У Ольги словно гора с плеч свалилась, так тяжела была ей мысль о том, что придется возвращаться в Москву вместе с ними. Она повеселела и, пообещав приехать во вторник, поспешила домой.
С вокзала она снова позвонила Шурику, на этот раз он оказался дома и от радости, что она жива и невредима, стал громко кричать в трубку и сильно заикаться. Они договорились встретиться у нее и во всех деталях обсудить события минувших суток.
Оказавшись в своей квартире, Ольга сразу прошла на кухню, не раздеваясь села на топчан и обвела взглядом родные стены. Господи, какое счастье, что она снова дома! Ей казалось, что она отсутствовала очень долго. Такого чувства она не испытывала даже после длительных командировок или поездок в отпуск, ей хотелось целовать шторы на окне, кружиться по комнате, плакать, петь и смеяться одновременно. Она включила телевизор, радио, выложила в холодильник принесенные продукты и пошла в ванную.
Как только ужин был готов, появился Шурик. Он был весь взъерошенный, долго не мог отдышаться, будто от Новослободской до Сокольников не останавливаясь бежал во всю прыть.
Ольга взяла с него слово, что намеченный разговор они начнут только после ужина, потому что два дня почти ничего не ела, а то, что съела, вряд ли пошло ей впрок, учитывая обстоятельства приема пищи. «Если бы не ремень, с меня брюки уже свалились бы», — пожаловалась она.
За ужином она пыталась поговорить с ним о погоде, рассказать о порядках в пушкинской больнице, но Шурик только кивал головой, что-то мычал и усердно поглощал еду. Складывалось впечатление, что он в эти дни тоже ничего не ел, но он объяснил, что, когда волнуется, ест втрое больше обычного, просто остановиться не может, так уж устроен.
Когда перешли к чаепитию, начали делиться событиями, происшедшими вчера по обе стороны от памятника Пушкину. Сначала свой полный и подробный отчет дала Ольга. Во время ее рассказа Шурик вставал, нервно ходил по кухне, курил, пил чай, снова вставал, задавая при этом странные, на ее взгляд, вопросы, например, деревянный был дом или кирпичный и какой высоты потолок в комнате, могла ли она по слуху определить, во сколько рядов шло движение на шоссе, и т. п. На многие вопросы она не смогла ответить, так как ей просто не приходило в голову то, что интересовало Шурика.
— Когда вы отъехали, меня как током дернуло, — сказал он. — Не надо было тебя отпускать одну! Если бы с тобой что-нибудь случилось, я бы себе никогда не простил. Это же мафия, пойми, мафия, — волновался он, делая круги по кухне, — а мы повели себя как подростки. Будем считать, что нам крупно повезло, хотя… — Он задумался и кисло добавил: — Хотя еще неизвестно, каково будет дальнейшее развитие событий.
Еще полчаса назад Ольга была так счастлива от сознания, что она дома, что все страшное уже позади и что через несколько дней на этом топчане будет сидеть Светка и уж тогда они всласть наговорятся, но волнение Шурика и слово «мафия», произнесенное громким суфлерским шепотом, заставили ее насторожиться и снова почуять опасность.
Приступив к своему отчету, Шурик сказал, что ее вчерашняя утренняя истерика заставляла его держать себя в руках и сохранять относительное спокойствие, но, как только они расстались, ему самому впору было пить успокоительное, так как возможные последствия встречи у памятника, одно страшнее другого, со свистом начали проноситься в его сознании, заставляя содрогаться от ужаса. Он помнит, что в целях конспирации купил у метро цветы, чтобы изображать влюбленного на свидании, помнит, что в панике хотел обратиться к стоявшему поблизости милиционеру, чтобы сорвать все мероприятие, но, увидев Ираклия, солидного и внушительного, передумал, решив, что в такого человека Светка действительно могла влюбиться. Прогулочным шагом он шел за ними, стараясь смотреть по сторонам, как бы в поисках своей опаздывавшей возлюбленной, а когда увидел за рулем человека в темных очках, не столь благообразного вида, как Ираклий, тут его паника переросла в отчаяние, потому что светлая «волга» уже отъезжала и он едва успел запомнить номер.
С этого момента у Шурика начинались провалы в памяти, он помнил только отдельные эпизоды, а остальное шло как в тумане, как бывает при достаточно высокой степени опьянения. Возможно, в отделении милиции, куда он заявился с воплем, размахивая букетом роз, именно так вначале и подумали. Но потом, поняв, что человек трезвый, а просто не в себе, посоветовали написать все на бумаге, потому что заикание, начинавшееся у него в моменты сильного возбуждения, мешало вразумительному устному изложению событий.
Он помнит, что на выданном ему листе бумаги вначале смог написать только злополучный номер и слова: «волга», цвет — светлый, топленого молока». Сейчас он понимает, что вряд ли сумел в таком состоянии толково и последовательно изложить все обстоятельства, но писал долго, покрываясь потом от сознания, что своей рукой послал человека на верную гибель.
Урывками вспоминая пребывание в милиции, Шурик предполагал, что дежурный без должной серьезности отнесся к заявлению о похищении, бумагу его взял, но дело заводить отказался ввиду отсутствия не только состава преступления, но даже элементарных фактов. Ему вручили номер телефона дежурной части и просили позвонить, если появятся дополнительные сведения.
— Наверняка мне не поверили, — удрученно сказал Шурик, — подумали, что я просто сдвинутый, очень уж все на кино похоже: исчезновение, похищение, таинственный звонок, встреча у памятника… К ним, наверное, нередко такие психи приходят с подобными заявлениями.
— Ты зря старался, Шурик, — проговорила Ольга. — Обратно меня везли в совершенно другой машине. Я не разбираюсь в марках, но какая-то иностранная, темно-вишневого цвета.
Он уставился на нее широко раскрытыми глазами, потом хлопнул себя по лбу и простонал:
— Как же я, дурак, сразу об этом не подумал!
Переварив это сообщение и придя в себя, он сел рядом с ней и, снова перейдя на суфлерский шепот, то ли от волнения, то ли из страха, что их могли подслушать, заговорил:
— Вот видишь, как они старательно заметают следы. Это только лишний раз подтверждает мои опасения, что здесь самая настоящая мафия, а вы со Светой оказались случайными свидетелями их разборок.
От ужаса Ольга потеряла дар речи и только беспомощно-вопросительно посмотрела на него.
— Да-да, свидетелями, — безжалостно повторил он. — Ну кто тебе поверит, что тебя усыпляли, а обратно везли с какой-то стеной и ты ничего не видела? Где доказательства? Я согласен, может быть, Ираклий еще не совсем потерял человеческий образ, действительно влюблен в Свету и не хочет подвергать ее опасности. Допустим, он действительно с риском для себя приехал за тобой в Москву и со всевозможными предосторожностями привез обратно. Но все дело в том, — Шурик поднял вверх указательный палец, призывая к особому вниманию, — что он-то со своим помощником нашел себе надежное укрытие за границей, а вот вы — ты и Света — остаетесь здесь, один на один с режиссером и его гангстерами.
Он снова вскочил и нервно забегал по кухне. Панический страх, овладевший Ольгой при словах «гангстеры» и «разборки», знакомых лишь по фильмам, мешал ей увязать предположения Шурика с логикой реальной действительности, но он сам поправил положение и виновато пояснил:
— Ну, свидетели — это я, конечно, погорячился, просто неверно выразился. Хотя, с другой стороны, мы не в курсе, что известно Свете о деятельности Ираклия и его фирмы. Но вот что касается тебя… Допускаем идеальный вариант: они не знают о том, что ты ездила на эту дачу. Но при этом ты была и остаешься лучшей Светиной подругой и тебе могут быть известны секреты ее знакомых и, конечно же, ее местопребывание.
Шурик вдруг подбежал к окну и, осторожно отодвинув занавеску, посмотрел на улицу.
— Подойди-ка сюда, — позвал он шепотом, словно боялся, что тот, кого он там заметил, мог услышать его. — Посмотри на того подозрительного субъекта у булочной… вон, вон, в телефонной будке, делает вид, что звонит, а сам все косится на твои окна.
На ватных ногах Ольга подошла к окну, посмотрела, куда он указывал, и неожиданно затряслась в беззвучном смехе: в будке стоял «почитатель».
— Что с тобой? — удивился Шурик. — Ты его знаешь?
— К сожалению, очень даже хорошо, — сквозь смех ответила она. — Это мой почитатель.
Она рассказала Шурику о Федоре Михайловиче, о цветах на коврике, о походе в ресторан, и образ милого влюбленного чудака помог хоть немного разрядить сгустившуюся было атмосферу страха и беспомощности перед чем-то жутким и неотвратимым.
На прощание Шурик успокоил ее своими соображениями, что, во-первых, режиссер на ее след, судя по всему, не вышел, иначе с Ираклием было бы покончено еще вчера, и, во-вторых, если, как утверждал тот, речь шла действительно только о деньгах, то, скорее всего, с отбытием Ираклия вопрос отпадет сам собой, не станут же они мотаться за границу в надежде рассчитаться с ним. Но на всякий случай все же предупредил, чтобы дверь она никому не открывала, ни почтальону, ни даже работнику милиции, а если что-то вызовет ее подозрение, сразу звонила ему, благо, он сейчас все время дома, делает срочный заказ на своем компьютере.
Ольге очень хотелось, чтобы Шурик остался, но настаивать было неудобно, ведь он и так уже три дня занимается ее проблемами и совершенно выбит из колеи.
— Да, вот еще что, — сказал Шурик уже в прихожей, — когда объявится Света и если сразу позвонит тебе, передай ей, чтобы она не ходила на свою прежнюю квартиру и даже не звонила хозяйке, а первым делом встретилась с тобой, слышишь, встретилась где-нибудь, но не у тебя дома, и ты передашь ей вот этот ключ. — Он порылся в кармане и извлек кусок металла замысловатой формы. — Это от моей квартиры, адрес она знает. Пусть сразу — ты поняла? — сразу же едет ко мне. — Шурик говорил жестко, тоном, не допускающим возражений. — Пойми, Оля, для нее все может оказаться гораздо серьезней, чем для тебя. И пока она не появится у меня, в милицию я звонить не буду.
Проводив Шурика, Ольга закрыла дверь на все имевшиеся запоры, включая цепочку, и вышла на балкон. Телефонная будка через дорогу у булочной была пуста. Она вернулась в комнату, тщательно притворив балконную дверь, села в кресло и взяла со столика папку с рукописью, полистала ее, но, отметив, что театральный абсурд так далек от реального, со вздохом отложила и включила телевизор.
На экране шли нескончаемые политические дебаты, дергались, как под током высокого напряжения, лохматые существа с гитарами, плакали несчастные богатые, снискавшие любовь и сочувствие всей страны, удирали от полиции ловкие мошенники, успевая на ходу убить парочку служителей закона и взорвать оставшихся.
Смотреть на симпатичных мошенников и на перестрелку было выше ее сил, она выключила телевизор и вспомнила, что обещала Светке позвонить в Курск. Трубку сняла Кира Петровна, по счастливой случайности оказавшаяся в гостях у своей подруги. Заставив себя взять непринужденный тон, Ольга весело пощебетала с ней, сообщила, что Светка на Алтае, но в Бийске какая-то поломка телефонной линии и практически невозможно дозвониться, что она обещала быть в Москве не позже чем через неделю, да-да, обязательно позвонит, когда приедет, просила передать привет.
Поверила ли Кира Петровна, что город Бийск три месяца находится в полной изоляции, так как там не работает не только телефонная сеть, но, судя по всему, и почта с телеграфом, сказать трудно, но во всяком случае успокоилась, так что основная цель была все же достигнута.
Ольга с облегчением положила трубку и удивилась, вспомнив, что сказала Кире Петровне «Бийск», хотя Светка говорила просто об Алтае и никакого города не называла. Почему Бийск? Почему у нее непроизвольно вырвалось именно это слово? Откуда она знает, что вообще есть такой город? И почему Кира Петровна вдруг напряженно замолчала, услышав название этого города?
Это настолько заинтересовало ее, что она достала карту и действительно нашла в Алтайском крае этот город, расположенный на реке Бии. Река Бия! Как же она могла забыть! Ольга чуть не вскрикнула от неожиданности, вспомнив внезапно это событие двенадцатилетней давности, которое совершенно стерлось в памяти и удивительным образом не всплыло даже в последние три месяца.
А дело было так. По окончании первого студенческого года, после весенней сессии, их курс направили на месяц в подшефный подмосковный совхоз на сельхозработы. Почти все восприняли это как развлечение, тем более что лето обещало быть жарким, а в деревне, где им предстояло жить, по словам инспектрисы, было отличное озеро и в лесу полно всякой всячины.
Буквально в день отъезда Светка куда-то исчезла, и все решили, что она, убоявшись физического труда и поэтому никому ничего не сообщив, сбежала в Курск. Инспектриса была в страшном гневе, пообещала поставить вопрос о ее поведении на студенческом совете, чтобы приняли меры «вплоть до отчисления», и они отбыли на лоно природы.
Месяц пролетел незаметно. Хотя работать им пришлось немало, но и отдыхали они от всей души, купались в озере, ходили в лес за ягодами, вечером у костра пекли картошку и чуть ли не до рассвета пели под гитару. Все они были молоды, многие были влюблены, кое-кто даже взаимно, и жизнь открывала для них таинственные и радужные перспективы.
Примерно через неделю после возвращения в Москву Ольге позвонила Вика, Светкина соседка по комнате в общежитии, и сообщила, что Светка пропала, что ее мать приехала из Курска и весь деканат «стоит на ушах». Кира Петровна думала, что дочь работает с однокурсниками в совхозе, однокурсники же, напротив, считали, что она сибаритствует под боком у мамы.
Поднялась страшная суматоха, студентов, остававшихся в Москве, по очереди вызывали в деканат, где на месте декана сидел лейтенант милиции и дотошно интересовался самыми мельчайшими подробностями о личности пропавшей. Лейтенант был совсем молодой, вероятно, это было первое порученное ему дело, поэтому старался он изо всех сил. Но достойно проявить себя в этом деле лейтенанту не удалось, так как на второй же день в деканат ворвалась пропавшая собственной персоной и, рыдая, бросилась в объятия матери, которой разрешено было присутствовать при опросе студентов.
Выяснилось, что Светка, влюбившись, как всегда внезапно, в филолога-старшекурсника с Алтая, не раздумывая уехала с ним в его родной город Бийск, где хотела пробыть ровно месяц, но задержалась, ибо, как известно, «счастливые часов не наблюдают».
«Ну честное слово, так получилось, я ничего не могла с собой поделать», — объяснила она свой поступок Ольге, искренне полагая, что этого объяснения достаточно и что на ее месте любой человек поступил бы точно так же. Как она выкручивалась в деканате, Ольга не знает, но, честно говоря, этот ее поступок возмутил только Киру Петровну и преподавателей, им же, восемнадцатилетним, показался очень романтическим и чуть ли не героическим, и они не понимали, почему взрослые так негодуют.
Ольга помнит только, что не отчислили Светку лишь потому, что учли заслуги ее матери на ниве просвещения (она четверть века проработала в школе и была заслуженным учителем), и в особенности тот факт, что она вырастила дочь без мужа.
После встречи с подругой на даче у Ираклия Ольга не переставала мучиться угрызениями совести, как же могла она так спокойно и легкомысленно отнестись к ее внезапному исчезновению и столь долгому отсутствию, и она упрекала себя в черствости и эгоизме. Но сейчас, сидя в кресле с картой на коленях, с улыбкой вспоминая подробности того давнего события, она подивилась интересному устройству человеческой памяти. Это событие ушло с его поверхности, видимо, записавшись где-то на подкорке в виде знания, уверенности, что Светка способна так поступить, то есть исчезнуть надолго, не сказав никому ни слова. Вероятно, эта уверенность, идущая из глубины подсознания, и давала Ольге возможность пребывать эти месяцы в относительном спокойствии и не заявлять в милицию о пропаже, чтобы избежать конфуза, как случилось много лет назад.
Попытка призвать на помощь подсознание и оценить домашними, далекими от науки способами его работу напомнила Ольге Светкины апелляции к Фрейду, но она решила, что для очистки совести все средства хороши, даже далекие от научного подхода.
Телефонный звонок прервал ее глубокую аналитическую работу с собственным подсознанием. Звонил Шурик, чтобы узнать, все ли у нее в порядке. По дороге домой он, видимо, понял, что наговорил много лишнего, до смерти напугав бедную женщину и оставив ее наедине со своими страхами, поэтому решил хоть немного поднять ей настроение, не ослабляя, впрочем, необходимой бдительности. Он принялся рассказывать о походе в прошлом месяце на байдарках, о многочисленных казусах, подстерегавших их на каждом шагу, и смешных случаях, которые происходили ежедневно, и возникало ощущение, что он побывал не в походе, а на сольном концерте известного сатирика и юмориста. Но Ольгу, тоже заядлую байдарочницу, увлекло его описание северных красот, и в конечном итоге сеанс психотерапии удался.
Закончив разговор, она подумала о том, какой Шурик хороший и заботливый и как жаль, что Светка не любит его. Ольга, конечно, понимала, что попала в зону его заботы не сама по себе, а из-за Светки, и он принял в этом деле такое горячее участие только потому, что оно касалось непосредственно Светки. Она представила себя на месте подруги: кто стал бы, не жалея времени и сил, отстаивать ее интересы и пытаться помочь ей? Таким человеком был только дядя Паша, но и тот сейчас в больнице. При этой мысли ей стало так горько и обидно, так сиротливо и одиноко, что она бросилась на диван и зарыдала от жалости к себе.
Ночью Ольга долго не могла заснуть, вставала, принимала снотворное, проверяла, хорошо ли закрыты окна и дверь, ложилась и снова начинала рыдать, не в силах остановиться и успокоиться. Острое чувство одиночества и пустоты приводило ее в отчаяние и заслоняло даже страх, черной стеной нависший над нею после ухода Шурика. Она считала, что никому не нужна и что жизнь ее лишена всякого смысла и интереса, что впереди ее ожидает лишь одинокая старость со всевозможными подаграми и склерозами.
При мысли о болезнях Ольга вдруг вскочила с дивана, подбежала к большому зеркалу в прихожей, включила свет и сняла ночную рубашку. В зеркале отразилась ладная, стройная женщина с красивыми ногами, упругой грудью и матовой кожей. Немного опухшее от слез лицо обрамляла рыжевато-каштановая пена густых волос, из страдальческих зеленых глаз, выражавших безысходную тоску, неостановимо текли слезы. Вдруг лицо ее исказилось, как от боли, она ударила ладонью по зеркалу и громко простонала: «Не-на-вижу!..»
Уснула она только под утро, когда за окном было почти светло и вовсю пели птицы. В половине девятого ее разбудил телефонный звонок. С трудом оторвав голову от подушки, она доплелась до прихожей, сняла трубку и хриплым со сна голосом проговорила:
— Алло… Слушаю вас.
В трубке раздалось свистящее дыхание.
— Федор Михайлович, вы очень кстати, — оживилась она. — Если вас не затруднит, зайдите, пожалуйста, к нам в редакцию и предупредите Искру Анатольевну, что я буду после обеда.
Трубка молчала.
— Федор Михайлович, вы меня слышите?
Напряженное дыхание с присвистом возобновилось.
— Спасибо.
Довольная тем, что «почитатель» позвонил кстати и хоть на что-то сгодился, она снова нырнула под одеяло.
В издательство Ольга заявилась с большой темно-красной розой на длинном стебле, которую она обнаружила в дверной ручке, выходя из квартиры. После тяжелой ночи и снотворного болела голова, но, увидев такую красоту и совершенство природы, она была обезоружена и более или менее примирилась с наступившим днем.
Когда она шла по улице с цветком в руке, никому из прохожих и в голову бы не пришло, что эта изящная молодая женщина одинока и глубоко несчастлива, что ночь она провела в надрывном плаче по своей загубленной жизни и что цветы ей дарит только выживший из ума поклонник средних лет.
В их редакции пир шел горой, столы были сдвинуты на середину комнаты, накрыты белой бумагой и уставлены всевозможными сладостями, в центре одиноко возвышалась бутылка шампанского.
Ольга растерялась от неожиданности, но все присутствующие громко и на все лады выразили удовольствие при ее появлении, к ней подскочил возбужденный Никанорыч, странно помолодевший, в новой светлой рубашке и при галстуке, и, выхватив из ее рук розу, восхищенно произнес:
— Тронут, Ольга Михайловна, тронут до глубины души, что не забыли старика, — и усадил ее рядом с собой.
Искра Анатольевна, не выпуская изо рта папиросы, звеня бубенчиками на браслетах, тут же принялась метать ей на тарелку все, до чего могла дотянуться.
Тут только до Ольги дошло, что у Никанорыча день рождения, эта славная дата совершенно выпала у нее из головы, и она в замешательстве пробормотала что-то похожее на поздравление. Никанорыч пришел в неописуемый восторг от ее эпиталамы, чему способствовал, скорее всего, тот факт, что бутылка шампанского была уже почти пуста и что она была наверняка не первая и далеко не последняя. Было решено, что допить оставшееся должны Ольга с Никанорычем, причем на брудершафт. Выпив, Никанорыч крякнул, по-гусарски расправил несуществующие усы и, обдав ее ароматом «Красного мака», галантно трижды поцеловал ее в обе щеки.
Ольга заметила, что их комната стала напоминать оранжерею или цветочный базар у метро, потому что все подоконники, тумбочки и пол у окна были в букетах цветов, собранных, видимо, по всему издательству.
Как правило, с цветами, подарками и поздравлениями Никанорычу в этот день в их комнату начинали тянуться с утра: сначала редакции, потом корректорская, производственный отдел, машбюро, администрация. После обеда на своем транспорте съезжались авторы, затем появлялись представители из типографии и под вечер завхоз и шофер директора, которые практически на руках выносили ослабевшего Никанорыча, укладывали в директорскую «волгу» и увозили домой, не забывая заботливо сложить в багажник все подарки и цветы.
Поскольку народ шел размеренными группами, то за столом одновременно больше десяти-двенадцати человек не скапливалось, но зато количество это держалось стабильно на протяжении всего дня. Стол делался всегда сладкий, то есть подразумевалось только чаепитие, но за здоровье, как известно, чай пить не принято, поэтому к концу дня Никанорыч ослабевал совершенно.
К приходу Ольги за столом сидели несколько бабулек из корректорской, которым, кроме чая, ничего и не требовалось, и три-четыре редактора, которые, застряв еще с предыдущего потока, ждали появления производственного отдела, чей традиционный подарок — набор винно-водочных изделий в большой фирменной коробке — был им заранее хорошо известен.
Елена Одуванчик, сидевшая на другом конце стола и безуспешно делавшая Ольге какие-то знаки руками и глазами, не выдержала и стала пробираться к нем, по пути прижимая корректорских старушек и грозя опрокинуть бокалы и чашки. Наконец, вся красная от натуги и смущения, она возникла перед Ольгой и, наклонившись к ней, заверещала:
— Оленька Михайловна, как Павел Сергеевич? Я так волновалась, звонила вам в субботу домой, вас не было, вы, наверное, ночевали на даче, я понимаю, чтобы рядом с больницей…
Искра Анатольевна, краем уха уловив, о чем шла речь, вынула папиросу изо рта и затрубила:
— Ах, Боже мой, Ольга Михайловна, голубушка, я же забыла спросить вас про Павла Сергеевича. Как его состояние? Что говорят врачи? Меня Федор Михайлович предупредил, что вы задержитесь. Так вы прямо из больницы?
Услышав трубный глас своей боевой подруги, Никанорыч прекратил шумные дебаты с приятелем из редакции эстетики, повернулся к Ольге и приложил руку к груди:
— Ольга Михайловна, вы должны извинить мне мое бессердечие, я тоже забыл спросить вас о самом главном: как ваш дядюшка? Он ведь моложе меня лет на пять, не так ли? Да, стенокардия — коварная штука.
Дядю Пашу в редакции знали не только по многочисленным Ольгиным рассказам, но имели удовольствие и лично быть с ним знакомы, так как по пятницам по дороге на дачу он нередко заезжал за племянницей на своей «моське», а в понедельник подвозил ее прямо к издательству и, поднявшись в их комнату, самолично одаривал сотрудников всевозможными плодами своего садово-огородного хозяйства. Когда же он поведал о планах насчет пасеки и пообещал через годик-другой регулярно снабжать их самым лучшим и натуральным медом, это сообщение обрадовало всех чрезвычайно. Искра Анатольевна вспомнила статью в журнале «Здоровье», где говорилось, что человека, съедающего в день хотя бы две ложки меда, ни одна хворь не возьмет, а если и возьмет, то ни за что не одолеет. Верочка рассказала о медовых масках на лицо и что ее подруга якобы только ими и спасается. А Никанорыч молча улыбался, потому что просто обожал мед с детства, и ни одно варенье не могло ему заменить его душистую янтарную струю.
Всем Ольгиным сотрудникам нравился дядя Паша: Верочке — за доброту, Никанорычу — за наблюдательность и большой жизненный опыт, Одуванчику — за интеллигентность и мягкость в обращении, а Искра Анатольевна просто считала его очень интересным мужчиной и порой, забывшись, принималась даже кокетничать с ним.
Стараясь перекричать собравшихся, которые громко обсуждали вопрос о предстоящей через неделю переаттестации, Ольга кратко сообщила Никанорычу и Одуванчику о состоянии дяди Паши и, повернувшись к заведующей, проговорила:
— Искра Анатольевна, я бы хотела завтра…
Но та, выпустив густое облако дыма, не дала ей договорить:
— Конечно, голубчик, конечно, поезжайте в больницу. И вообще, знаете что? — Она залихватски махнула рукой, и все ее многочисленные бубенчики встрепенулись и зазвякали. — Берите-ка вы с собой работу и поживите в Александровке, пока Павла Сергеевича не выпишут.
— Искра, я всегда говорил, что ты королева, — расчувствовался Никанорыч и полез к ней целоваться, — и жесты у тебя королевские.
Елена Одуванчик тоже была растрогана ее щедротами.
— Это, Искрочка, ты очень правильно и хорошо решила, — умилялась она. — Ведь каждый день в Пушкино ездить тяжело, а Оленька будет переживать, как он там.
Дверь вдруг распахнулась, и шумной толпой, с возгласами и поздравлениями в комнату вторглись представители производственного отдела, неся огромный букет цветов и вожделенный подарок в большой красивой коробке. Старушки корректорши засобирались, на прощание пожимая Никанорычу руку и желая здоровья и долголетия, а освободившиеся места заняли производственники, чтобы произнести те же слова, но уже в качестве тоста. Веселье закипело вовсю.
Ольга, имея в своей сумке хорошее оправдание в виде ответственной и срочной рукописи, попрощалась со всеми, пожелав Никанорычу оставаться всегда таким же бодрым и красивым, как в этот день. Услышав столь нетрадиционное пожелание, да еще от хорошенькой молодой женщины, именинник даже порозовел от удовольствия, сжал ее руки в своих, поднес к губам и поцеловал. Этот жест напомнил Ольге сцену Ираклия со Светкой на даче, и она усмехнулась этой невольной ассоциации. Договорились, что она будет держать их в курсе и при первой же возможности позвонит, чтобы сообщить о здоровье Павла Сергеевича.
Вечером позвонила Ирина, сказала, что они с Игорем только что вернулись из Пушкино, что отец чувствует себя гораздо лучше и, наверное, в субботу можно будет привезти его в Москву.
— Да, еще папа просил передать, чтобы ты завтра обязательно приехала, он будет ждать, — проговорила она на прощание.
Ольга собиралась завтра в больницу, и тем не менее просьба дяди Паши очень удивила ее, это было совсем не в его духе. Насколько она его знала, он очень не любил нагружать никого, даже близких людей, своими проблемами, поэтому, учитывая неблизкий путь и ее занятость на работе, от него можно было ожидать совсем иной просьбы: чтобы она не беспокоилась и не приезжала, так как возле него Тамара и Лариса.
«Что-то здесь не то», — подумала Ольга. Может быть, у него какое-нибудь срочное дело, с которым он хочет обратиться именно к ней? Она решила не ломать над этим голову, все равно завтра все прояснится, и позвонила Шурику.
Узнав, что ей предоставлена возможность работать на даче, чтобы быть рядом с больницей, Шурик разволновался и закричал:
— Что ты, Оля, этого никак нельзя делать! Тебе вообще нельзя сейчас уезжать из Москвы, ведь в любой день может позвонить Света!
Действительно, как же она сразу об этом не подумала! Видимо, от радости, что ее отпустили «на волю».
— Что же делать, Шурик? — жалобно проговорила она. — Мне ведь завтра обязательно надо в больницу к дяде Паше, он меня будет ждать.
— Ну вот что, — подумав, сказал тот, — завтра вторник, ты еще можешь уехать, ведь Ираклий сказал «дня через три», то есть в среду. Поэтому со среды будь дома неотлучно, даже в магазин не выходи.
Ольга вдруг сообразила: ведь Светка, считая, что она на работе, первым делом, конечно, позвонит в редакцию.
— Тьфу ты черт, а там скажут, что ты в Александровке, — опять заволновался Шурик.
Минуты две они молчали, судорожно обдумывая возможные выходы из этого положения.
— Ладно, — так ничего и не придумав, сказал наконец Шурик, — будь что будет, тут уж ничего не попишешь. Ну, как говорится, Бог не выдаст…
— Свинья не съест, — подхватила она.
* * *
Когда на следующий день Ольга шла по больничному коридору, направляясь к семнадцатой палате, какой-то человек, появившись из ниши с большим окном, выходившим во двор больницы, встал на ее пути.
— Здравствуйте, Ольга! — улыбаясь, сказал он. — А Павел Сергеевич вас уже заждался, боялся, что не приедете.
Она узнала соседа дяди Паши, Кирилла Андреевича, но сейчас, когда он не сидел скрючившись на кровати, а стоял перед нею во весь рост, в спортивных брюках и футболке, он показался ей высоким и подтянутым, она отметила, как хорошо развиты мышцы на его руках и плечах, и подумала: «Спортсмен, наверное».
Он проводил ее до палаты, заглянул в дверь и со словами: «Ну вот, Павел Сергеевич, и ваша гостья», — куда-то ушел. Дядя Паша в очках лежал на кровати и читал журнал. У двух больных уже сидели посетители, остальные развлекались как могли: спали, мерили температуру, переговаривались вполголоса с соседями, подкрепляли ослабленный организм домашней снедью.
— Ириша сказала, что тебе уже намного лучше, — проговорила Ольга, подходя и целуя его.
У него действительно был вид вполне здорового человека, лицо немного округлилось и даже слегка порозовело.
— Я же всегда говорил тебе, Олюшка, что здоров как бык. — Сняв очки и отложив журнал, он посмотрел на нее как-то необычно, с насмешливо-доброй хитринкой, как смотрел, бывало, в детстве, когда предлагал им с Ириной проверить под елкой, что принес Дед Мороз. «Он ведь ваши мечты и желания хорошо знает», — говорил он, и при этом глаза его блестели так же по-доброму лукаво.
— Что это ты, дядя Паша, на меня так хитро смотришь? — улыбнулась она. — Будто сюрприз какой-то приготовил.
— Ну какой уж тут сюрприз… — немного смутился он, поняв, что взгляд невольно выдал его тайные мысли. — Просто чувствую себя хорошо и хочется поскорее домой.
Но Ольга видела, что он что-то не договаривает, и решила спросить напрямик:
— А почему ты просил Ирину передать мне, чтобы я приехала обязательно? Я даже подумала, не случилось ли чего.
— Нет, что ты, Иришка не так поняла, — быстро заговорил он, стараясь не смотреть ей в глаза. — Я сказал: если сможешь, я же понимаю, у тебя работа… Кстати, как там Сергей Никанорыч поживает?
Ольга рассказала ему о дне рождения Никанорыча, о том, что Искра Анатольевна собирается с мужем провести отпуск в Болгарии, что Одуванчик волнуется за него больше всех, что Верочка написала вступительное сочинение, но результат еще неизвестен, а вообще все они передают ему большой привет и желают скорейшего выздоровления.
— Они очень славные люди, — расчувствовался дядя Паша. — Тебе просто повезло, Олюшка, что ты работаешь в таком коллективе.
В ответ на его расспросы о Светке ей пришлось повторить кое-что из описания хутора, которое в устах Ираклия звучало очень живописно, а у нее выходило так вяло и скучно, что становилось непонятно, как там можно было продержаться хотя бы один день.
Пришел Кирилл Андреевич, веселый, возбужденный, с какими-то бумагами под мышкой.
— Ну вот и все, друзья мои, меня отпускают под материнский надзор. Еле уговорил не держать до завтра.
При его появлении дядя Паша оживился.
— Представляешь, Олюшка, — восторженно, как ребенок, заговорил он, — Кирилл Андреевич — летчик, он летает на Ту-154.
— Не летчик, Павел Сергеевич, — с улыбкой поправил тот, — а штурман.
Как и дядя Паша, Ольга тоже не видела разницы между этими профессиями, ей всегда казалось, что обслуживающий персонал на борту самолета делится только на две категории, и все, кто не стюардессы, те летчики. Самолетов она вообще побаивалась, хотя и приходилось, когда работала в газете, летать в командировки.
— Как же вы теперь, после операции, — спросила она его, — надолго вышли из строя?
— Да нет, не думаю, — бодро ответил он. — Хотя недельки две на земле еще пробыть придется. А там — медкомиссия, что врачи скажут. — Он развернул принесенные бумаги, полистал их и изумился: — Надо же так написать, иероглифы какие-то, непонятно даже, от чего спасали.
— Как же вы поедете в Москву? — поинтересовалась Ольга.
— Друг должен на машине подъехать, — объяснил Кирилл Андреевич. — Мы с ним лет пять в одном экипаже летаем. Вот он настоящий летчик.
— А вы, значит, не настоящий? — засмеялась она.
— Да я вообще не летчик, — продолжал упорствовать он и, не выдержав, принялся популярно объяснять разницу в обязанностях летчика и штурмана. Заметно истосковавшись по любимой работе, он увлекся и начал так поэтично описывать свои ощущения от полета, загадочную красоту и гармонию воздушных масс за бортом, фантастические закаты солнца, которых не увидишь на земле, что под конец уже вся палата затаив дыхание, с завистью слушала его.
Ольга тоже позавидовала этому человеку, для которого работа была всем: радостью, вдохновением, светом, просто жизнью. «Наверное, так и должно быть», — подумала она. Но она знала, что случается это, к сожалению, крайне редко, когда человеку удается найти свой путь, свое призвание, то единственное, для чего он родился и ради чего вообще была устроена разумная жизнь на земле. Ей казалось, что такой человек не будет колотиться ночами от бессмысленности своего существования, ему неведомо ощущение, когда, пытаясь за что-то зацепиться в этой жизни и твердо встать на ноги, наталкиваешься на пустоту впереди и чувствуешь бездну под ногами.
* * *
В Москву Ольга возвращалась вместе с Кириллом Андреевичем и его другом, «настоящим летчиком». И по тому, как старался дядя Паша задержать ее возле себя до приезда этого друга, как горячо поддержал Кирилла Андреевича, когда тот предложил ей поехать с ними, она поняла, что разгадала наконец его тайну и причину хитрого блеска в глазах: он хотел, чтобы Ольга поближе познакомилась с симпатичным штурманом, который самому дядя Паше нравился чрезвычайно.
«Ах, дядя Паша, дядя Паша, — усмехнулась она, — старый ты сводник». Но Ольга не сердилась на него, она понимала, что он искренне озабочен ее судьбой, потому что любит ее как дочь, а порой ей казалось, даже больше, чем Ирину. При каждом удобном случае он повторял, что его мечта (кроме, конечно, пасеки) — это выдать их с Ириной замуж и летом в Александровке возиться с внуками. Она с грустной улыбкой отметила про себя, что мечты дяди Паши постепенно сбываются: во-первых, один улей у него уже есть, во-вторых, Ирина замужем, и с внуками, надо полагать, проволочки не будет.
Друг Кирилла Андреевича оказался человеком простым и веселым, из тех, которые незаменимы как попутчики в недолгих путешествиях или как соседи по лестничной площадке. Он представился Борисом и первым делом, услышав, что его штурмана величают «Кирилл Андреевич», все отчества, кроме дядипашиного, отменил и объяснил, обращаясь к Ольге, что они, конечно, недостаточно молоды, чтобы обращаться на «ты», но при этом достаточно молоды, чтобы называть друг друга просто по имени. Кирилл сам был не сторонник излишней чопорности, его очень обрадовало, что Борис сумел найти такую изящную и тактичную форму, чтобы выразить и его собственное желание.
По дороге Борис, докладывая штурману обстановку на работе, рассказал подробности захвата самолета с пассажирами, на борту которого находились их друзья. Ольга читала об этом в газетах, но там речь шла о незнакомых ей людях, просто о членах экипажа, проявивших в экстремальной ситуации мужество и даже отвагу. Но сейчас Борис говорил о них как о живых, конкретных людях, с именами, детьми, родственниками, особенностями характера, и его волнение невольно передалось Ольге, она вспомнила слова Шурика о гангстерах и растущей волне преступности, сметающей на своем пути ни в чем не повинных людей.
Кирилл с Борисом решили на днях навестить в больнице раненую бортпроводницу, которую они ласково называли Аленушкой, и наперебой стали рассказывать Ольге о проделках ее сына Артема.
Ольге нравилось общество этих двух почти незнакомых ей людей, даже показалось, что она давно знает их, особенно Кирилла, который сидел рядом с ней и то закрывал окно с ее стороны, чтобы она не простудилась, то подливал кофе с коньяком из термоса, захваченного из дома заботливым другом.
Ей были приятны эти маленькие знаки внимания с его стороны, хотя она старалась не принимать их на свой счет, понимая, что это просто стиль его поведения и что с той же Аленушкой он наверняка ведет себя точно так же, только с еще большей теплотой и участием.
Друзья стали вспоминать случай пятилетней давности, в пору самого начала их совместных полетов, когда один психически ненормальный террорист пытался захватить их самолет.
— Помнишь, как Полина его напугала зажигалкой в форме пистолета? — смеялся Борис.
— А кто эта Полина? — спросила Ольга. — Стюардесса?
По смолкнувшему вдруг смеху Бориса и наступившему напряженному молчанию она поняла, что, наверное, напрасно задала этот вопрос.
— Полина? — дрогнувшим голосом переспросил Кирилл. — Это моя жена.
* * *
Как только Ольга вышла из лифта, она услышала телефонные звонки, раздававшиеся за дверью ее квартиры. Пока она судорожно искала в сумке ключи и открывала дверь, звонки прекратились. «Вдруг Светка?» — заволновалась она и решила не занимать пока телефон, хотя намеревалась сразу же по приезде позвонить Шурику.
Перекусив и выпив крепкого чаю для поднятия тонуса, она подумала, что пора наконец сосредоточиться и сесть за работу. Толстая рукопись в красивой синей папке немым укором лежала в комнате на столе. Но мысль, что у Кирилла, оказывается, есть жена, и чувство досады на дядю Пашу за его неуклюжее «сватовство» — та мысль и то чувство, в которых она не хотела признаться даже самой себе, — окончательно выбили ее из колеи и испортили настроение. Ольга понимала, что ей не в чем было упрекнуть Бориса, который по-джентльменски подвез ее прямо к дому и тут же умчал Кирилла на его родной Кутузовский проспект. Пытаясь разобраться в причине своего недовольства, того неприятного осадка, который остался у нее после этой поездки, она решила, что всему виной эта внезапность прощания, когда Кирилл не выразил даже желания зайти к ней на чашку чаю или хоть как-то продолжить знакомство.
Но, с другой стороны, рассудила она, зачем ей это продолжение, если он женат? Ей хватало горького опыта общения с Вадимом, который до сих пор заставлял ее невольно вздрагивать при одном только слове «жена».
Вздохнув, Ольга раскрыла папку с рукописью и с головой погрузилась в «Театр абсурда». Часа через два раздался тревожный звонок в дверь. Испугавшись, она заметалась по комнате, хватая то газовый баллончик, принесенный Шуриком, то телефонную трубку, чтобы звонить в милицию, но потом, взяв себя в руки, подошла к двери и робко заглянула в глазок. За дверью стоял Игорь.
Вот уж кого она совсем не ожидала увидеть, во всяком случае меньше, чем какого-нибудь головореза в кожаной куртке или того же бандита, но замаскированного, например, под слесаря-водопроводчика из жэка. Вначале она почувствовала огромное облегчение от того, что за дверью стоит не гангстер, но появление Игоря застало ее врасплох, и она не знала, как себя вести. Правда, Ольга давно уже определила для себя, что ее отношения с новым «родственником» должны строиться таким образом, чтобы ей не стыдно было смотреть в глаза дяде Паше и Ирине.
Она открыла дверь и инстинктивно сделала шаг назад, боясь, что он, как прежде, схватит ее, тут же, на пороге, прижмет к себе и станет покрывать поцелуями ее волосы и лицо. Но опасения эти были напрасны. Игорь спокойно вошел и, остановившись в прихожей, объяснил цель своего визита: когда-то он оставил у нее учебник по сопромату, который необходимо срочно сдать в библиотеку.
Отыскав учебник, они пили на кухне чай с дядипашиным вареньем и вели беседу, как старые, добрые друзья, а точнее, родственники, в статус которых возвели их неожиданные превратности судьбы.
Он рассказал ей о том, что приятель, тоже окончивший в свое время МИСИ, зовет его к себе в фирму, которая занимается строительством коттеджей для состоятельных граждан, и обещает, что, проработав год-другой в качестве прораба, Игорь сам сможет войти в этот привилегированный круг. Еще сказал, что не хочет, чтобы Ирина работала, особенно если он будет содержать семью сам, потому что в его представлении замужняя женщина должна поддерживать огонь в домашнем очаге, а забота мужчины — добывать для этого очага дрова.
Столь образный строй его мысли позволил Ольге сделать вывод, что Игорь не просто серьезно относится к браку, но способен на творческое осмысление своей новой роли главы семейства. Она подумала, что Ирина наверняка согласна с этим домостроевским распределением обязанностей и свой диплом педагога расценивает только как дань цивилизации и современным представлениям о женщине.
Игорь посмотрел на часы, занервничал и собрался уходить. Когда она шла за ним из кухни, чтобы проводить до двери, он вдруг резко повернулся к ней, глаза его засверкали, как прежде, но с какой-то тоской, он привлек ее к себе и почти простонал:
— Как же я скучаю по тебе…
От неожиданности его порыва Ольга онемела, а почувствовав на спине эти родные, сильные руки, которые столько лет ласкали ее и знали каждый изгиб ее тела, совсем ослабла, и на глазах против воли выступили слезы. Она знала, что если бы Игорь, как бывало раньше, взял ее сейчас на руки и отнес в комнату, у нее недостало бы сил противиться его желанию, которое светилось в его взгляде и сияло навстречу ей черным огнем.
Но он оттолкнул ее, отвернулся, сам открыл дверь и пулей выскочил из квартиры. Ольга, как сомнамбула, подошла к двери, постояла возле нее, машинально проверила, на все ли замки она закрыта, набросила цепочку и вернулась на кухню. На топчане лежал учебник по сопромату. Она взяла его, прижала к груди и горько, отчаянно зарыдала.
Когда зазвонил телефон, Ольга заплакала еще громче, она знала, что, подняв трубку, никогда больше не услышит до боли знакомого голоса и слов, ставших за три года их общения с Игорем почти ритуальными: «Салют, это я, соскучился страшно, люблю, целую, бегу к тебе». Но мысль о том, что может позвонить Светка, заставила ее опомниться и прекратить рыдания. Она метнулась в прихожую и взяла трубку.
— Алло!
— Ольга, что с тобой? — раздался встревоженный голос Шурика. — Ты заболела?
— Нет, я плачу, — продолжая всхлипывать, ответила она.
— Что случилось, Оля? — испуганно закричал он.
— Не волнуйся, Шурик, — стараясь взять себя в руки, проговорила Ольга. — Это у меня, так сказать, на личном фронте и к нашему делу отношения не имеет.
— Слава Богу! — вырвалось у него.
«Конечно, — подумала Ольга, — для него главное, чтобы у Светки все было нормально, а на то, что я тут гибну и пропадаю, ему наплевать». И слезы снова неудержимо полились из ее глаз. Она понимала, что несправедлива к Шурику, что с ее стороны глупо требовать от него такого же отношения к себе, как к Светке, но ничего не могла с собой поделать, и детская обида на неправильное устройство этого мира захлестнула ее.
Шурик долго, терпеливо успокаивал ее и, когда всхлипывания наконец затихли, рассказал о последних событиях. Дело в том, что он еще в пятницу решил обязательно сходить к квартирной хозяйке и прозондировать почву на предмет появления там подозрительных личностей, упорно интересовавшихся местонахождением Светланы. Хозяйки, как выяснилось, все эти дни в Москве не было, и только сегодня Шурик смог наконец добиться личной аудиенции.
Это была женщина лет семидесяти, которая по непредвиденному стечению обстоятельств осталась на старости лет одна в большой двухкомнатной квартире, и сдать одну из комнат ее заставили не только материальные трудности, но и желание хоть как-то скрасить свое одинокое существование.
Правда, Светка вряд ли годилась на роль компаньонки: с утра уходила на работу, приходила, как правило, поздно, а иногда вообще отсутствовала по два-три дня кряду, поскольку хозяйка сразу поставила ей единственное, но строгое условие — никого в квартиру не приводить. Условие это Светка неукоснительно соблюдала, и все знакомые знали, что прийти к ней можно только в отсутствие старушки, когда та отъезжала за город к своим дальним родственникам.
Зато уж когда выдавался вечер, который она проводила дома, для хозяйки это был настоящий праздник: Светка варила вкусный борщ, пекла какой-нибудь экзотический пирог по новому рецепту, они допоздна сидели на кухне, и хозяйка вспоминала поэтапно всю свою нелегкую биографию.
Так прожили они почти полтора года, и старушка не могла нахвалиться соседям во дворе, какая у нее славная, веселая и красивая жиличка. Не имея близких родственников, она даже решила прописать Светку, в основном из тех соображений, чтобы ее квартира не досталась дворнику Толяну, потому что считала, что Толян давно положил глаз на ее жилплощадь и только ждет ее смерти, а сам наглый такой, с утра глаза нальет и хоть бы ему что, в то время как весь двор в грязи зарос и зимой у подъезда настоящий каток.
Но для того, чтобы оставить Толяна с носом, необходимо было оформить опекунство, что требовало определенных усилий уже со Светкиной стороны. Светка же, поблагодарив хозяйку, отнеслась к этой затее довольно легкомысленно и на вопрос Ольги, почему она не собирает нужные документы, со смехом ответила:
— И-и, подруга, да эта старуха и нас с тобой, и Толяна переживет! Ее бабки и прабабки, она сама рассказывала, до ста с лишним лет жили. Так что никакой перспективы, если только не использовать вариант «Пиковой дамы».
Хозяйка, видимо, прониклась к Шурику симпатией, угощала его чаем, заваренным с мятой, жаловалась на Толяна и на боли в спине. Беседа их длилась больше часа, и Шурику удалось выяснить, что время от времени Светке звонят разные голоса, и мужские и женские, и интересуются, не вернулась ли она из командировки. А вот с месяц назад прямо в квартиру заявился один парень, ну, не парень, лет уж за тридцать, наверное, в джинсах и светлой куртке, высокий такой, интересный, со шрамом на лбу, я, говорит, работал раньше вместе со Светланой, а теперь она мне до зарезу нужна, дело очень важное.
Ну, хозяйка, конечно, объяснила, что она, мол, в командировке, а где и когда вернется, ей неизвестно. Тогда дайте мне, говорит, телефон или адрес ее родителей, я через них что-нибудь узнаю. И такой он вежливый, обходительный, все «спасибо», да «пожалуйста», да «если вам не трудно».
Старушка, не заметив никакого подвоха, адрес Светкиной матери дала и сказала, что телефона там нет, потому как живет мать в старом деревянном доме. Потом соседи говорили ей, что, когда она была за городом, этот парень еще два раза приходил и все интересовался, не приехала ли ее жиличка.
— Очень, видно, важное дело у него, — заключила хозяйка.
Шурик попросил ее подробнее описать этого парня, но, кроме шрама на лбу и того, что был он совсем коротко острижен, она ничего не могла припомнить. На вопрос о ее ближайших планах ответила, что приехала получить пенсию, а завтра снова уедет к родственникам недели на две.
— Пока погода хорошая, — объяснила она.
Вероятно, настойчивость Шурика и его напор показались ей в конце концов несколько подозрительными, и она вдруг заговорила о том, что квартиру оставлять без присмотра не боится, потому что взять у нее нечего, вот если только до Светкиной комнаты доберутся, у нее и телевизор японский, и какой-то необыкновенный телефон, который сам показывает, кто звонит, наверное, очень дорогой. Да и кто может к ней залезть, кроме Толяна? А его, паразита, слава Богу, участковый Петрович в очередной раз посадил на пятнадцать суток, поэтому две недели она может быть совершенно спокойна.
Когда Шурик распрощался и вышел из квартиры, старушка, спохватившись, приоткрыла вдруг дверь и, заговорщически понизив голос, проговорила:
— Вспомнила! Какие у этого парня глаза, вспомнила!
— Какие? — встрепенулся тот.
— А добрые очень, такие только у хороших людей бывают.
— Цвета-то какого?
— Да вроде как серые…
Из всего рассказанного хозяйкой Шурик заключил, что парень этот наверняка из окружения режиссера и что за Светкой началась уже настоящая слежка.
— Но она же сказала, что у него добрые глаза, — возразила Ольга.
— А ты этому веришь? — взвился он. — Ты Ираклия вспомни, это же волк в овечьей шкуре!
При воспоминании об Ираклии Ольга действительно испытывала очень сложную гамму чувств, начиная со страха и презрения и кончая жалостью и даже неким подобием дружеского расположения, поэтому не признать правоты Шурика не могла.
Шурик боялся пускать это дело на самотек и готов был с завтрашнего дня дежурить у Светкиного дома, чтобы, в случае чего, тут же везти ее к себе, а Ольгу умолял вернуться на работу или хотя бы предупредить сотрудников, что она в Москве.
Ольге очень не хотелось посещать редакцию, если уж появилась редкая возможность поработать дома, но она разделяла беспокойство Шурика и понимала, что с возникновением этого парня дело действительно приняло нешуточный оборот.
Она обещала Шурику, что с работой что-нибудь обязательно придумает, и поделилась тревогой о том, что в руках у бандитов адрес Киры Петровны.
— Вдруг они захотят взять ее в заложницы? — замирая от страха при мысли о такой возможности, спросила Ольга.
— От них всего можно ожидать, — ответил он. — Но сейчас главное — пойми! — не дать им выйти на след Светланы. А до тех пор, пока они не знают, как с ней связаться, зачем им брать кого-то в заложники?
Логика Шурика немного успокоила Ольгу, она сказала, что завтра же позвонит на работу и все уладит, и они закончили этот долгий, затянувшийся на целый час разговор.
Положив трубку, Ольга полистала рукопись, но поняла, что сегодня вряд ли удастся сосредоточиться, да и время уже позднее.
Да, тяжелый выдался сегодня день: сначала Кирилл, потом Игорь, а теперь вот Шурик.
Засыпая, она перебирала в памяти события минувшего дня, и образы этих трех «мушкетеров», вызвавших у нее эмоции разной силы и степени тяжести, как в тумане проплывали в утомленном сознании. Больше всех напугал и встревожил ее, конечно, Шурик, а визит Игоря всколыхнул чувственные воспоминания, оставившие по себе лишь горечь утраты, и заставил ее плакать долго и безутешно.
Снился же ей Кирилл, с бородой, в футболке, с термосом в руках, он сидел в кабине летчика, улыбался как-то особенно ласково и нежно и уговаривал биться об заклад, что не управиться ей к сроку с рукописью «Театр абсурда».
Чтобы не беседовать с Никанорычем или с Искрой Анатольевной, Ольга позвонила в редакцию рано утром, когда там обретается только Одуванчик.
Сообщив о дядипашином здоровье, она таким серьезным и взволнованным тоном заговорила о своей просьбе, что Елена Павловна испугалась и готова была выполнить все что угодно. Просьба была до смешного проста, но от ее выполнения зависела жизнь человека. Доведя подобным вступлением Одуванчика до нервной икоты, Ольга наконец изложила свою просьбу, заключавшуюся в том, что ее подругу по имени Светлана, которая позвонит не сегодня-завтра, надо переориентировать на Ольгин домашний телефон, причем следует убедить, чтобы перезвонила она непременно.
Ольга оказалась в весьма щекотливом положении, но ходить на работу ей хотелось намного меньше, чем говорить неправду и вводить в заблуждение доверчивого Одуванчика, поэтому она наплела с три короба о том, что сама будет в Александровке, но дома у нее находится Ирина, правда, Светлане об этом говорить не стоит и т. п. В общем, Елена Одуванчик пришла в полное недоумение, но просьбу выполнить клятвенно обещала.
Весь день Ольга провела за работой, отвлекаясь только на обед и чаепития. Телефон молчал. Несколько раз она подходила, снимала трубку и, услышав гудок, со вздохом возвращала ее на рычаг. Когда, уже поздним вечером, раздался наконец звонок, она подумала, что это Шурик с отчетом о «дежурстве» у Светкиного дома.
— Олюня, привет, вот и я! — раздался радостный Светкин голос.
— Светка, ты откуда звонишь? — закричала Ольга.
— Как — откуда? — удивилась та. — Из дома, разумеется. Только что приехала, бабули моей нет, решила сразу тебе позвонить.
— А ты Шурика возле дома не встретила? — насторожилась Ольга.
— Какого Шурика? Ах, Шурика… А почему я должна была его здесь встретить? Он что, поменял местожительство? — Она весело щебетала, довольная своим освобождением из плена. — Ой, Олюня, мне столько надо тебе рассказать! Представляешь, эти гаврики сегодня утром улетели, а меня Георгий Иванович на машине чуть не до самого дома довез.
Но Ольга почти не слышала слов подруги, она думала только о том, что надо срочно сообщить все Шурику.
— Послушай, Свет, — осторожно, чтобы не очень напугать ее, сказала она, — тебе нельзя там оставаться, это опасно.
— И ты туда же! — возмутилась Светка. — Тоже, как Ираклий, будешь меня запугивать какими-то мифическими бандитами? Да зачем я им, сама подумай! Им Ираклий нужен, а он уже тю-тю… — Она остановила поток своего красноречия, словно прислушиваясь к каким-то звукам в квартире, и вдруг выпалила: — Он, подожди, кто-то в дверь звонит, я сейчас!
— Светка, не открывай никому!! — что было мочи закричала Ольга, но та ее уже не слышала.
Прижав телефонную трубку к уху в надежде уловить хоть какое-то движение на другом конце провода, Ольга ждала мучительно долго, покрываясь испариной от страха и напряжения. Вдруг послышались короткие гудки: трубку положили. Дрожащими руками она набрала Светкин номер — в ответ раздавались длинные гудки. К телефону никто не подходил.
Борясь с подступающей внутренней истерикой, она позвонила Шурику. Подошла соседка:
— Ох, вы знаете, девушка, беда-то какая, только что из больницы звонили… Да, в больницу он попал… перелом руки и сотрясение мозга… В какую? В пятидесятую городскую, это от Савеловского на автобусе… Сказали, хулиганы какие-то напали на улице и избили. Вот времена-то настали, на порядочных людей нападают ни за что ни про что… А вы, извините, кто будете?
Ольга сидела с телефонной трубкой в руке и остановившимся взглядом смотрела прямо перед собой. «Вот оно, началось!» — цепенея от ужаса, подумала она, и мурашки побежали у нее по спине.
ЧАСТЬ III
В Александрову съезжались гости. Ольга и сама не понимала, почему изменила традиции и решила устроить свой день рождения на даче, но судя по тому, как гости валили валом, видимо, просто из опасения, что в ее квартире не поместится и половины. За огромным столом сидели уже все родственники и даже друзья Ирины и Игоря, которые были на их свадьбе.
Дядя Паша суетился, как всегда, больше всех, предлагая гостям на пробу свой мед, такой жидкий, что отличить его в бокалах от вина было невозможно.
Пришел Кирилл со Светкой и, подведя ее к имениннице, с улыбкой проговорил:
— Вот, познакомьтесь, это моя жена.
Ольга очень обрадовалась, что теперь можно быть спокойной за подругу и той ничто уже не угрожает, если рядом такой надежный человек. С другой стороны, ей было немного не по себе, потому что не хотелось, чтобы у Кирилла вообще была жена, ведь Шурик, например, по надежности ни в чем не уступил бы ему.
Она стала оглядываться в поисках Шурика, чтобы предложить тому занять место Кирилла, и наконец заметила, что он стоит у окна рядом с дворником Толяном и громко ругается с ним, но слов разобрать Ольга не смогла. Она увидела только, что в следующий момент Шурик схватил со стола тарелку, намереваясь запустить ею в Толяна, но почему-то передумал и бросил на пол, и тогда Толян стал хватать со стола все, что подвернется под руку, и тоже бросать на пол.
Стеклянная посуда, разбиваясь вдребезги, издавала такой оглушительный звон, что Ольга, не в силах выдержать больше ни секунды, открыла глаза.
Звонил телефон, и, видимо, уже давно. Моментально вспомнив все события жуткого вечера, она вскочила с постели и одним прыжком очутилась в прихожей.
— Алло!
— Слава Богу, ты дома! Я уж не знал, что и думать.
Услышав голос Шурика, единственного, от кого она ожидала спасения в этой ситуации и на кого могла положиться, Ольга так обрадовалась, что сама ситуация перестала казаться ей безнадежной.
Шурик был возбужден и по-деловому краток.
— Ольга, я звоню из автомата, — сказал он, заикаясь от волнения. — Я вот что предлагаю: сейчас я ловлю машину и еду к тебе, в дверь позвоню три раза, больше никому не открывай.
— Шурик, твоя соседка сказала вчера, что ты в больнице, — удивленно проговорила Ольга. — А который час?
— Все объяснения при встрече, — ответил он. — Сейчас половина седьмого.
Ольга быстро оделась и, вспомнив, что в подобном состоянии Шурик ест за троих, срочно принялась готовить завтрак.
Вскоре примчался Шурик, с большой белой трубой вместо руки, покоившейся на перевязи, похожий на героя известной всем комедии.
Он сразу набросился на еду, приговаривая, что предпочитает во всем находить прежде всего положительные моменты, поэтому доволен, что сломали не правую, а всего лишь левую руку, которая у него и без того была плохо приспособлена для жизни, иначе ему пришлось бы, уподобившись животным, обходиться без вилок и ложек.
Утолив первый мучительный голод, Шурик закурил, ловко управляясь одной рукой, и рассказал Ольге о своем вчерашнем злополучном «дежурстве». Целый день он практически неотлучно торчал возле Светкиного подъезда, сидел на лавочке около детской песочницы с большим деревянным грибом, прохаживался по аллейке с чахлым кустарником по сторонам, ни на минуту не выпуская из поля зрения подъездную дверь.
Кое-кто из жильцов, выходивших с собаками, стал уже подозрительно коситься на него, виной чему был, очевидно, его неотрывный от подъезда взгляд и крайне озабоченный вид.
Уже к вечеру, часов в семь, он заметил какого-то человека, который, оглядываясь по сторонам и закуривая на ходу, приближался к нему. Это был молодой парень лет двадцати, спортивного вида, длинноволосый, в белых кроссовках и зеленой ветровке. Парень как парень, ничего подозрительного в его внешности Шурик не обнаружил. Подойдя почти вплотную к Шурику и оглянувшись еще раз по сторонам, тот тихо произнес:
— Слушай, мужик, ты случайно не Светлану поджидаешь? Она там, в машине, за углом.
И тут бдительность Шурика дала трещину, сказалось, видимо, его томительное ожидание, и магическое имя «Светлана» сработало в качестве магнита, который потащил его за угол дома, где действительно было припарковано несколько машин и беспорядочно росли кусты, скрывавшие все, что возле этих машин происходит. А произошло там следующее: парень вдруг резко схватил Шурика за руку и ловким движением перебросил через себя, после чего тот не смог уже сопротивляться, так как при падении ударился головой обо что-то твердое и дальше ничего не помнил.
Сколько времени он пролежал в кустах и сколько времени прохожие, принимая его за пьяного, равнодушно шли мимо, он не знает. Но нашлась наконец сердобольная бабулька, позвонившая в милицию, которая посчитала, что хоть и пьяный, а не лежать же ему всю ночь на земле, так и простудиться недолго.
В милиции Шурик пришел в себя и громко застонал от боли в сломанной руке. Дежурный выслушал его рассказ о нападении, проверил личность потерпевшего, составил протокол и, поскольку в результате всех этих процедур потерпевшему стало совсем плохо, вызвал «скорую», которая и забрала Шурика в расположенную поблизости пятидесятую больницу.
В больнице его сразу повели на рентген и в операционную, где Шурик, размахивая здоровой рукой, кричал, что отказывается получать медицинскую помощь, пока ему не позволят позвонить. Сжалившись над ним, медсестра записала два номера — Ольгин и домашний, которые он, заикаясь, продиктовал ей, и пошла выполнять просьбу этого молодого, но очень нервного больного. Однако сообщить о случившемся ей удалось только соседке, так как Ольгин телефон был занят.
Перелом оказался со смещением, и, когда хирург вправлял кость на место, Шурик невзвидел белого света и снова потерял сознание. Когда очнулся, рука была уже в гипсе, как у героя той же небезызвестной комедии, но, в отличие от «бриллиантовой», болела страшно, да и тошнота, сопровождавшая сотрясение мозга, мешала сосредоточиться и обдумать положение со всех сторон.
Ему вкололи обезболивающее и сказали, что до утра можно поспать на деревянной кушетке возле ординаторской, а через десять дней необходимо сделать контрольный снимок в районной поликлинике и что с сотрясением мозга следует обратиться туда же. Обезболивающее оказало свое благотворное действие на измученного Шурика, неожиданно для себя он и в самом деле задремал на жесткой неудобной кушетке, а проснувшись, тут же побежал звонить Ольге, несмотря на страшную головную боль и чуть менее страшную боль в руке.
У Шурика не оставалось ни малейших сомнений, что пострадал он от руки режиссера, и это окончательно убедило его в охоте за Светланой и, следовательно, в необходимости дежурств у ее дома.
— Не надо дежурств, Шурик, — подала голос молчавшая все это время Ольга, — Светка уже дома.
От этих слов и, главное, от того, что он, забывшись, захотел по привычке всплеснуть руками, у Шурика глаза полезли на лоб, и он тихо застонал.
— Да-да, — подтвердила Ольга, — она звонила мне вчера из дома.
— И ты до сих пор молчала? — сквозь боль укоризненно выдавил Шурик.
— До сих пор говорил ты, — резонно возразила Ольга и в подробностях рассказала ему о разговоре со Светкой и о своем состоянии после слов соседки.
Сначала она хотела позвонить в милицию, но, вспомнив горький опыт Шурика, поняла, что это бесполезно. Тогда Ольга, отчаявшись, решила взять такси и ехать к Светке домой, чтобы выяснить все на месте, потому что длинные телефонные гудки сводили ее с ума своей монотонностью и полным безразличием к тому, что творилось на другом конце провода.
Страха она не испытывала, не думала о том, что ничем не сумеет помочь подруге, а только навлечет беду и на свою голову. Нет, она испытывала не страх, а отчаянную злость, которая требовала немедленных действий и придавала ей решимости и даже воинственности. Ольга уже оделась и положила в сумку газовый баллончик — единственное ее средство защиты, а при необходимости — и нападения. И тут снова позвонила Светка.
Она сказала, что с телефоном какие-то неполадки, что заходила соседка с третьего этажа, потому что увидела свет в квартире и, зная, что хозяйка в отъезде, подумала, не залез ли кто к старушке. Они договорились встретиться на следующий день, причем Светка предупредила, что позвонит сама, так как ее телефон, судя по всему, не прозванивается.
Ольга почти успокоилась и вскоре заснула. Теперь же, при воспоминании об этом разговоре, ей стали казаться подозрительными и Светкины интонации, и не свойственная ей скованность в эмоциях, и то, что она так быстро закруглила беседу, а это было на нее не похоже, потому что обычно она готова была обмениваться с подругой своими впечатлениями хоть до утра, пока Ольга сама не предлагала перенести этот обмен на следующий день.
Недоумевая теперь, почему же она вчера так быстро успокоилась и уснула, Ольга пустилась в рассуждения о различной защите человеческого организма в стрессовых ситуациях. Так, если Шурик начинает мучиться отчаянным голодом и поглощать все подряд в больших количествах, то на нее нападает непреоборимая сонливость, и именно в подобных ситуациях она засыпает быстро и спит крепко.
Не дослушав ее теоретических обобщений, Шурик метнулся к телефону, набрал Светкин номер и долго ждал, тяжело дыша от волнения. Трубку наконец сняли.
— Света, это я, Шурик! — закричал он, ликуя. Радости его не было предела. — Извини, что разбудил. У тебя все в порядке?.. Я сейчас от Ольги звоню, нам надо встретиться… да, втроем, срочно, и поговорить… Почти восемь часов… Давай так договоримся: ты подъезжай ко мне… Нет, ко мне домой, адрес ты, надеюсь, помнишь… Нет, к Оле не надо… Я тебе потом объясню почему… Нет, я не выдумываю, ты потом поймешь… Мы с Олей просим тебя, умоляем просто, чтобы ты сейчас же оделась и поехала. Мы тоже едем.
Услышав короткие гудки, Шурик шумно выдохнул, будто закончил тяжелую физическую работу, и скомандовал:
— На все сборы даю тебе пять минут!
— Шурик, а почему все-таки нельзя Светке приехать сюда? — спросила Ольга. — Ведь никто из них не знает, где я живу.
— Зато им наверняка известен теперь твой телефон, — мрачно проговорил Шурик, — по которому ничего не стоит узнать адрес. Из слов хозяйки я понял, что у Светы аппарат с определителем номера. — Он задумался и покачал головой. — А в том, что вчера к ней приходила не соседка, я почти не сомневаюсь.
Шурик оказался прав. Когда вчера вечером позвонили в дверь, Светка, окрыленная отъездом Ираклия и своей свободой, сразу открыла. В квартиру ворвались двое. По Светкиному описанию. Ольга с Шуриком поняли, что один из них был «парень с добрыми глазами», а второй — тот самый членовредитель, который коварно заманил Шурика в кусты.
Командовал длинноволосый, тот, что был моложе. В его руках оказался большой пистолет, как выяснилось, с глушителем, поэтому он настоятельно рекомендовал не поднимать шума, иначе ее крик будет последнее, что она услышит в своей жизни. Он повел ее на кухню.
Сначала Светка, будучи вообще не робкого десятка, не очень испугалась, к тому же второй парень, постарше, который сразу прошел в комнату и, предварительно записав номер абонента, положил трубку, совершенно не был похож на бандита. Его внешность настолько располагала к себе, а взгляд был такой честный и открытый, что, окажись Светка в опасности где-нибудь на улице, именно его она не задумываясь выбрала бы из толпы, чтобы обратиться за помощью.
Она сразу поняла, что это люди режиссера и что им нужен Ираклий, поэтому последовавшим вопросам не удивилась, но на главный вопрос — куда именно он уехал — ответить не смогла, так как и в самом деле этого не знала. Тот, что постарше, которого молодой называл Китычем, вел себя очень сдержанно, расспрашивал Светку вежливо и терпеливо и смотрел ей в глаза так проникновенно, будто заранее верил каждому ее слову. Молодой, по кличке Малыш, оказался очень нервным и недоверчивым субъектом, он постоянно вскакивал с табуретки и чуть что хватался за свою «пушку».
Под этой же «пушкой» он повел ее в комнату, по дороге давая указания, что ей следует говорить, и заставил позвонить Ольге.
— Одно лишнее слово — и ты сирота, — предупредил он и в доказательство того, что не шутит, назвал адрес ее матери.
После этих слов у Светки душа ушла в пятки. Но она отлично понимала, что ни она сама, ни ее мать их не интересует, и ей показалось, что если она будет правильно себя вести, то есть расскажет все, что ей известно, их с матерью оставят в покое.
Она со всеми подробностями описала хутор под Каунасом и объяснила, как можно туда добраться. Светка не знала, кому он принадлежит, так как с хозяевами не встречалась, а спросить об этом Ираклия ей и в голову не приходило. Она была тогда в такой эйфории от своего чувства к нему, что сейчас, спустя совсем немного времени, вспоминая пребывание на хуторе, даже предполагала, что находилась под каким-то гипнозом, но было ли то гипнотическим воздействием незаурядной личности Ираклия или чем-то наведенным извне, наподобие порчи, объяснить не взялась бы.
Она поняла, что информацию ее, конечно, тщательным образом проверят и обманывать их не только не имеет смысла, но и просто опасно. Поэтому ей пришлось признаться, что из Прибалтики они уехали почти три недели назад и все это время жили на даче. Она знала, что дом этот принадлежит сводному брату Николаши, но ей совсем не хотелось бы впутывать в эту историю такого доброго, славного человека, как Георгий Иванович, который, она была уверена, вообще не имел отношения к делишкам брата и Ираклия, а просто предоставил им убежище и всячески помогал по своей доброте и человеколюбию.
* * *
Валяясь на больничной койке с многочисленными переломами и прочими травмами после нападения, Николаша судорожно обдумывал, где бы им найти надежное укрытие на ближайший месяц. И вдруг его осенило, что где-то в Тульской области проживает его брат, с которым они всегда не очень ладили, а лет десять уже не виделись и никак не общались между собой.
Выписавшись из больницы, он сразу же отправился к Георгию, где встретил неожиданно теплый и радушный прием. Дня через три Николаша снова поехал в Москву и вернулся оттуда с Ираклием и Светкой, которых привез прямо с вокзала, затолкав их с поезда в машину и не дав им даже опомниться.
Ираклий, отличавшийся отменным красноречием, распушив хвост перед Георгием Ивановичем, рассказал ему ту же печальную повесть, что и Ольге: дескать, за ними с Николашей, честными коммерсантами, охотится мафия, чтобы отобрать их кровно заработанные копейки, а самих убить. Георгий Иванович проискам мафии ужаснулся и пообещал свою помощь и содействие.
Так прожили они у него тайными гостями около трех недель, причем к концу этого срока Светка уже на дух не переносила этих мошенников-бизнесменов, а общаться могла только с Георгием Ивановичем, который остался в ее памяти человеком милым, доверчивым и мастером на все руки.
Она поняла, что следующий круг вопросов будет посвящен даче, и решила имени Георгия Ивановича вообще не упоминать, а, сославшись на Ираклия, сказала, что дача эта принадлежит якобы кому-то из его приятелей.
Когда возник вопрос о местонахождении дачи, Светка объяснила, что Ираклий, заранее предвидя подобную ситуацию, это местонахождение от нее всячески скрывал, и поскольку туда они ехали ночью и она спала в машине, а обратно ее везли с завязанными глазами, то она, естественно, ничего не знает.
После такого заявления Малыш возмущенно вскочил с табурета и схватился за пистолет.
— Я те щас память-то подправлю и мозги прочищу! — злобно зашипел он.
Китыч успокаивающим жестом остановил его.
— Тише, тише, Малыш, — сказал он тем тоном, каким обычно говорят с непослушными детьми, — убери свою «пушку», Светлана сама сейчас все вспомнит и расскажет нам. Ну?
— Да я же вам говорю, — повторила она, стараясь не смотреть в сторону нервного Малыша. — Ираклий боялся, что я, не дай Бог, узнаю, где мы находимся, ведь я же могла сбежать и рассказать кому-нибудь.
— Ну хорошо, пусть так, — быстро согласился Китыч. — Просто вспомните, как вы там жили, заходил ли кто из соседей, где находился магазин и, наконец, почему вы действительно не убежали?
Их интересовало все: когда они выехали в Москву, сколько времени находились в пути, какая была машина и где они высадили Светку. Она путано отвечала, изо всех сил стараясь не произнести случайно имени Георгия Ивановича или названия какого-нибудь ближайшего к ним населенного пункта.
Ее мозг сверлила одна неотвязная мысль, представлявшаяся ей в виде огромных весов, на одной чаше которых покоилась безопасность и благополучие Ираклия и Николаши, а на другой — жизнь ее матери, которая попала в эту историю только по случайному факту родства, и Светка переживала мучительные минуты от сознания, что сполна расплачивается за свою влюбчивость и легкомыслие.
Несмотря на то, что ее чувство к Ираклию не просто исчезло, но переродилось в жгучую неприязнь и она уже не понимала, что вообще могло связывать ее с этим человеком, Светка все же не хотела стать причиной его гибели, наведя на его след режиссера. Но, с другой стороны, если вопрос встал так остро и ей действительно приходится выбирать только одну из чаш на этих смертоносных весах, она безусловно предпочтет жизнь и покой матери, даже если при этом все ираклии и николаши провалятся в тартарары.
Она пыталась донести эту простую мысль до Китыча, который, попивая с Малышом чай из хозяйкиных чашек, невозмутимо продолжал свой допрос, стараясь запутать ее, поймать на мелочах, уличить во лжи и в итоге добиться своего. Но добиться он ничего не смог бы, даже лишив ее жизни. Самое ужасное заключалось в том, что она действительно не знала, куда отправились Ираклий с Николашей.
Еще на хуторе, уговаривая ее ехать с ними, Ираклий то говорил о прелестном городке Парма в штате Огайо, то заговаривал о Филадельфии, а то, забывшись, два-три дня спустя, мечтательно глядя в окно, вдруг произносил:
— О Люксембург, Люксембург… Мы будем так счастливы там, дорогая!
Поначалу эта противоречивая география раздражала и сводила ее с ума, но потом, когда она твердо решила, что никуда не поедет, ей стало абсолютно безразлично, в какой стране и в каком городе они сыщут себе приют. Однако убедить в этом подручных режиссера оказалось делом непростым, если не сказать, невозможным. Они отказывались верить ей: Малыш — явно, Китыч же — засыпая неостановимым градом вопросов.
Ушли они только в шестом часу утра, когда за окном было светло, но все жильцы дома, насмотревшись на ночь фильмов про мафию, еще мирно спали, даже не подозревая о том, что реальные, живые представители криминального мира и члены мафиозной группировки всю ночь провели совсем рядом с ними, в одной из квартир на втором этаже.
На прощание Китыч сказал, что для первого знакомства информации достаточно, и добавил:
— Мы все же надеемся, что к следующей нашей встрече вы вспомните остальное, иначе…
Он развел руками, а Малыш опять вытащил свой пистолет с таким длинным стволом, что напоминал игрушечное ружье, и, помахивая им, строго пригрозил:
— И чтобы никому ни слова, врубилась? Ни-ко-му! Чуть что узнаем — с мамашкой твоей разговор короткий.
После их ухода, несмотря на угрозы, она тут же кинулась звонить Ольге, но, поскольку разговор предполагался не телефонный, а она не в состоянии была вынести весь этот кошмар в одиночку, Светка решила сама поехать к подруге.
При мысли о матери, о том, что режиссерские прихвостни могут сделать с ней, если не узнают, где Ираклий, у нее начинали катиться слезы и она горько сожалела, что не знает местонахождение этого проходимца. В конце концов, измученная этими мыслями и долгим напряженным допросом, она задремала прямо в кресле и проспала часа два, пока звонок Шурика не разбудил ее.
— Ну и что же мне теперь делать? — закончив свой берущий за душу рассказ, спросила Светка, уповая главным образом на Шурика, потому что всегда отдавала должное конструктивности мужского ума и превосходству мужской логики над логикой женской. — А кстати, Шурик, что у тебя с рукой?
Шурик нервно заходил по своей комнате, как загнанный зверь по клетке, и даже издавал порой звуки, напоминавшие звериный рык, что, с одной стороны, свидетельствовало о происходившем в его голове напряженном мыслительном процессе, направленном на поиски выхода из этой ситуации, а с другой — являлось признаком его бессильной злости, так как выхода не было. Он настолько погрузился в сосредоточенную работу мысли, что не слышал уже Светкиных вопросов.
Ольга вкратце рассказала подруге о том, как сразу же после звонка Ираклия связалась с Шуриком, как геройски он вел себя все эти дни, за что, как все герои, и поплатился. Светка подивилась бескорыстному благородству Шурика, которое ни в какое сравнение не шло с поведением Ираклия, клявшегося ей в вечной любви и ее же оставившего на растерзание режиссеру.
Неужели Ираклий и впрямь не предполагал такого поворота дел? Неужели вправду подумал, что режиссер с его отъездом оставит ее в покое? Или он с самого начала знал, что именно так и будет, но главное для него — спасти свою шкуру? Загадка. Но загадкой было и то, что, повинуясь ее капризу, он с большим риском для себя проделал сложную операцию по доставке Ольги на дачу с последующей отправкой обратно в Москву. Думай Ираклий лишь о своей шкуре, он ни за что не пошел бы на это, даже если бы Светка не просто угрожала самоубийством, а и в самом деле повесилась у него на глазах на шнуре от его бархатного халата.
Голова шла кругом, и Светка не только не могла уже понять логику поведения Ираклия, но и вообще хоть что-либо осмыслить.
Шурик наконец остановил свое бесконечное кружение по комнате, сел на тахту и, движением здоровой руки предлагая им сесть рядом, произнес:
— Я все обдумал, и вот мое мнение. — Он наклонился к присевшим на тахту подругам и, понизив голос, сказал: — Во-первых, дело приняло уже такой оборот, что о милиции забудьте, придется выкручиваться самим. Во-вторых, основная задача сейчас — спрятать куда-нибудь Киру Петровну и тебя, Света.
При этих словах Светка нервно заерзала и недовольно проговорила:
— Ну ладно я, а куда ты мою маман спрячешь? Ее же пол-Курска знает, каждый ее шаг, малейшее передвижение сразу всем становится известно.
— У меня есть соображения на этот счет, — возразил Шурик. — Под Архангельском, в одной Богом забытой деревеньке, живет моя тетка, какая-то даже двоюродная, что ли, тетка, но это неважно… Я, правда, давно ее уже не видел, но вот когда мы года три назад ездили на Соловки…
— Короче говоря, ты предлагаешь поселить там маму? — нетерпеливо перебила Светка.
— Да, на время. Я считаю, это самое надежное место, там уж им не придет в голову искать ее. А ты поживешь у меня, — робко, боясь отказа, предложил он, — с тетей Дусей я договорюсь.
С минуту помолчали.
— Ну ладно, допустим, — сказала наконец Светка. — Но как убедить маму в том, что это необходимо?
— Придется все ей рассказать, — вмешалась Ольга. — Другого выхода я не вижу.
Светка в раздумье покачала головой.
— Ох, боюсь, все равно не поедет, — сказала она.
— Что значит — не поедет? — удивился Шурик. — Не поверит, что ли? Не поймет серьезности ситуации?
— Да нет, не то, просто для нее мафия — это пустой звук, — объяснила Светка, — для нее это обычные хулиганы. А все хулиганы и бандиты в Курске — ее бывшие ученики, они ее еще со школьной скамьи привыкли уважать, она и считает, что имеет к ним особый педагогический подход. Боюсь, и среди людей режиссера она захочет провести воспитательную работу, — с мрачным юмором добавила она, — ну, прочесть им, например, лекцию о моральном облике…
— Да-а, тяжелый случай, — вздохнул Шурик, — хотя вполне объяснимый. Вообще людям ее возраста очень трудно отойти от сложившихся представлений и… и увидеть все вокруг в настоящем свете. — Он вскочил с тахты и, закурив сигарету, опять закружил по комнате.
Светка представила себе реакцию матери, если рассказать ей, что произошло, и предложить укрытие в деревне. «Ах, Светик, Светик, мне ли бояться каких-то бандитов, — скажет она. — Уж на что у меня Сидоренко был отпетый… И потом, почему ты сразу не заявила в милицию?» Однако на то, что еще может произойти и с ней самой, и с дочерью, у нее просто недостанет фантазии. Она до сих пор свято верит в стражей порядка, и в голове у нее не укладывается, что ее жизнь в глазах режиссера и его окружения не стоит и ломаного гроша.
Шурик остановился, и подруги, решив, что у него созрел какой-то план, с надеждой посмотрели в его сторону.
— Вот что, — сказал он после недолгого молчания, — как бы там ни было, а времени терять нельзя, потому что время для нас сейчас равнозначно не деньгам, а жизни. — И для убедительности провел рукой по горлу.
— Но что же делать? — в один голос отчаянно вскрикнули они.
— Света, немедленно звони в Курск и вызывай Киру Петровну на переговорный пункт, — скомандовал Шурик. — А мы пока придумаем, что ей сказать.
Ольга со Светкой боялись себе даже представить, что бы они делали без Шурика, который не только взял на себя исполнение задуманного плана, но и принял все меры предосторожности и безопасности. Так, назвав Ольгину квартиру «засвеченной», он велел ей взять работу и необходимые вещи и срочно перебазироваться в Александровку, причем предупредить сотрудников, чтобы никаких координатов ее родственников никому и ни под каким предлогом не давали и чтобы само слово «Александровка» перестало для них существовать.
Соседям же Ольга должна была сообщить, что уезжает в отпуск на юг, но куда именно — пока сама точно не решила. Не исключая в ее отсутствие возможного вторжения в квартиру непрошеных гостей, он рекомендовал забрать с собой все записные книжки с адресами и телефонами и все свои фотографии.
Проинструктировав Ольгу, Шурик попросил ее срочно позаботиться о питании, пока Светка дозванивается в Курск.
— А то я от голода перестану соображать и что-нибудь обязательно забуду, — пригрозил он. — А мы сейчас, как разведчики в тылу врага, должны действовать предельно четко, иначе… — Он не договорил и ушел в соседнюю комнату.
Вторую, маленькую, комнату в этой квартире занимала соседка тетя Дуся, с которой семья Шурика прожила бок о бок более тридцати лет и которая была свидетелем и его рождения, и смерти его родителей. Не имея своих детей, она считала Шурика почти сыном, как могла заботилась о нем, была в курсе всех его дел, всегда стояла за него горой и мечтала, чтобы он наконец женился. Она твердо знала, что из Шурика получится самый лучший муж и отец в мире и что другого такого порядочного и умного человека не найти даже днем с огнем.
К появлению в его жизни Светки тетя Дуся отнеслась очень скептически. «Не по себе дерево рубишь, Сашок, — вздохнув, сказала она. — Больно уж красивая краля, смотри, натерпишься ты с ней…» И Шурик действительно натерпелся, постоянно мучаясь подозрениями и худея от ревности. Тетя Дуся страдала вместе с ним, поэтому, узнав, что они расстались, возликовала. «Не горюй, Сашок, твое дело молодое, — успокаивала она его, — встретишь еще свою судьбу, может, не такую красавицу, да оно и надежней…»
Но проходили недели, месяцы, и тетя Дуся видела, что личная жизнь Шурика не только не налаживается, а приходит в совершенный упадок. Он просил не звать его к телефону на женские голоса, делая исключение лишь для одного голоса, который тете Дусе был хорошо известен.
Наблюдая переживания своего Сашка, видя, что он никак не может забыть эту «кралю» и что, кроме нее, никто ему на всем свете не нужен, тетя Дуся сделала неожиданный для ее преклонных лет вывод. «Вот она, любовь-то, — подумала она и глубоко вздохнула. — Говорят, нет ее, а вот она, полюбуйтесь». Но полюбоваться на чувство Шурика тетя Дуся предлагала всем только в мыслях, потому что ни с кем во дворе его личных проблем не обсуждала, да и вообще была непримиримой противницей сплетен.
Беседа с тетей Дусей заняла не больше десяти минут. Шурик знал, что именно с ней-то у него не будет никаких хлопот. И не ошибся. Тетя Дуся сразу поняла, что от нее требуется только хранить молчание по поводу появления у них в квартире временного жильца в лице Светки. Уж что-что, а молчание хранить она умела, тем более возникала надежда, а вдруг Светка из временного жильца превратится в постоянного и Сашок перестанет так убиваться по ней.
— А что, всяко бывает, милок, — с улыбкой сказала она. — Знаешь пословицу: «Не было бы счастья, да несчастье помогло»?
— Ладно, теть Дусь, там видно будет, — буркнул тот, и ясно было, что сам он втайне тоже надеется на это.
Возможное счастье Сашка занимало сейчас все ее мысли; что же касается мафии, то мафии она не боялась: тетя Дуся была не из пугливых.
* * *
На следующий день в Александровке Ольга сидела в гамаке, подвешенном дядей Пашей в тенистом уголке сада, и усердно читала «Театр абсурда», но работа продвигалась очень медленно. Мешали дядипашины пчелы, облюбовавшие густой клевер у забора, рядом с гамаком, и, конечно, тревожные мысли о том, сколько продлится изгнание и чем вообще все это кончится. Она понимала, что мирно все завершится лишь в том случае, если режиссеру станет известно, где находится Ираклий. Но кто, кто поможет ему получить такие сведения? Надежду вселяла только мысль, что у них имеются другие каналы кроме Светки и рано или поздно они сработают. А если нет?
Во всей этой истории Ольгу успокаивало лишь одно: Светка, живя в квартире у Шурика и тети Дуси, теперь в безопасности, да и Кира Петровна приезжает сегодня в Москву, о чем Ольга узнала, когда, навещая утром в больнице дядю Пашу, позвонила Шурику. Правда, Светка сомневалась, что им удастся уговорить ее поехать в деревню, но радовалась хотя бы тому, что мать не будет находиться по известному режиссеру адресу.
Другая же информация, та, которую получила Ольга от дяди Паши, несколько огорчила ее, если еще можно было огорчаться такими пустяками в подобных обстоятельствах, когда по следу за тобой идут бандиты и ты не сегодня-завтра рискуешь оказаться у них в руках. Но Ольга и сама была приятно удивлена, когда почувствовала, что, несмотря ни на что, способна еще к нормальным человеческим эмоциям.
А узнала она от дяди Паши, что Кирилл действительно был женат, но жена его, стюардесса, полтора года назад погибла в авиакатастрофе. Ольга же была уверена, что у него семья, и смирилась с мыслью, что никогда не увидит больше симпатичного штурмана, хотя до сих пор не могла забыть открытую улыбку, озарявшую все лицо, от которой на душе становилось радостно и тепло. А теперь, узнав, что он вдовец, она горько сожалела о так и не состоявшемся продолжении их мимолетного знакомства.
Дядя Паша, казалось, был огорчен этим не меньше Ольги, до того по сердцу пришелся ему Кирилл Андреевич, такой умный, добрый и мужественный человек.
— А ведь он мне сам говорил, что ты ему покойную жену напомнила, — вздохнул он. — Походка, говорит, у вашей племянницы точь-в-точь как у Полины. Очень он ее любил…
Последние слова дяди Паши неприятно резали слух Ольги, и в следующее мгновение он сам, поняв, что сказал лишнее, попытался исправить положение:
— То есть мне он этого не говорил, что любил, я просто подумал…
Ольга движением руки остановила его.
— Ладно, дядя Паш, что уж теперь об этом… — устало произнесла она. — Ну не могла же я сама просить у него телефон? Да к тому же я не знала, что его жена погибла.
И они, оставив эту болезненную тему, заговорили о том, что дядя Паша настолько поправился и окреп, что разумнее будет из больницы ехать не в Москву, а в Александровку и что Ольге надо поскорее закончить работу и взять отпуск.
Теперь же, сидя в гамаке с синей папкой на коленях, Ольга мечтала поскорее разделаться с работой, отвезти ее в издательство и попросить у Искры Анатольевны пусть даже неоплачиваемый отпуск. Да и о какой оплате, о каких деньгах может идти речь, когда под угрозой собственная жизнь и жизнь близких людей? Шурик что-то верное сказал, сопоставив деньги и жизнь… или время? Мысли путались у нее в голове, жужжание пчел навевало дрему, и Ольга, зная свою особенность засыпать непосредственно после мысли об угрозе жизни, заставила себя подняться, подошла к висевшему на стене сарая рукомойнику и побрызгала в лицо ледяной водой. Почувствовав, что гамак создает нерабочее настроение и действует усыпляюще, она забрала папку с рукописью и отправилась на веранду.
Минут сорок спустя в доме послышались голоса: вернулись из больницы мать с тетей Тамарой.
— Вот ты где, — обрадовалась мать, входя на веранду, — а мы тебя в саду искали. — Она прошла и села напротив Ольги. — Ну все, договорились и с врачом, и с водителем, завтра привозим Павла. Василий Егорыч не возражает, говорит, состояние стабильное, можно и на дачу, тем более жена — медицинский работник.
На пороге появилась тетя Тамара.
— Лара, не мешай Оле работать, — сказала она сестре. — Пойдем, поможешь мне на кухне, а то ребята скоро приедут.
Ольга знала, что вечером должны приехать Ирина и Игорь, так как решено было завтра в кругу семьи торжественно отметить возвращение дяди Паши.
Она боялась, что при появлении Игоря не сможет преодолеть своей неловкости и скованности, потому что до сих пор не понимала его поведения во время последнего визита к ней. Но неловкость ее происходила, скорее всего, оттого, что она не умела понять себя и, несмотря на то что сразу определила свою позицию в отношении их брака с Ириной, удержать эту позицию вряд ли смогла бы, не исчезни он тогда так внезапно. Однако синяя папка с рукописью, раскрытая перед ней, являлась прекрасным поводом для того, чтобы запереться, например, в своей комнатке и свести их совместное времяпрепровождение лишь к встречам за обеденным столом.
Эту комнатку дядя Паша соорудил из старого заброшенного чулана, темного и практически бесполезного, потому что там годами скапливалась такая рухлядь, место которой на свалке, куда прошлым летом он ее и вывез. Дядя Паша прорубил в чулане окно, обшил стены гладко оструганными досками, сам сделал и стол, табурет, и топчан. «Олюшкиной светелкой» назвал эту комнатку дядя Паша, гордившийся своим столярным мастерством, довольный тем, что смог угодить любимой племяннице.
Ольге сразу по душе пришлась светелка, где запах сена в матрасе, смешиваясь с запахом свежеоструганных досок, создавал неповторимый аромат чего-то радостного и праздничного.
Ольга перенесла рукопись в светелку и закрылась на большой крюк, который сама просила дядю Пашу прибить «на всякий случай». Ничего конкретного она тогда в виду не имела, просто всегда, даже дома, ей было как-то спокойнее спать с крепко запертой дверью.
Она села за стол, стоявший у окна, заботливо затянутого марлей от мух и комаров, разложила многострадальную рукопись и погрузилась в чтение.
Пришла тетя Тамара, позвала пить чай, но Ольга ответила, что ей не хочется, да и некогда, работа очень срочная. Она знала, что чаепитие в их семье — это длительный процесс, сродни японской чайной церемонии, и служит прежде всего поводом для долгих разговоров и пространных бесед, когда всплывают воспоминания о прошлом, происходит обмен информацией на сегодняшний день и строятся планы на будущее.
Ольга с уверенностью могла предположить, что тетя Тамара заговорит о молодоженах, о том, как дружно они живут и какой Игорь заботливый муж и зять, а мать любую тему свернет на ядовитую критику своей соседки Надежды, которая три раза уже выходила замуж, и все без толку.
Ничем же своим, тем, что мучило и тяготило ее, поделиться она с ними не могла да и не имела такой нужды. В конце концов она не держала при себе своих секретов: о Кирилле знал дядя Паша, об Игоре — Светка, а Шурик не только был в курсе всех криминальных перипетий, но, к несчастью, даже сам оказался жертвой этих событий.
Наконец прибыли молодожены — на террасе раздался смех Ирины и послышался голос Игоря. Они о чем-то весело наперебой рассказывали матери и тетке, а те смеялись и что-то говорили в ответ. Слов Ольга не слышала, она улавливала только радостную, беззаботную атмосферу, царившую на террасе, которая так не гармонировала сейчас с ее собственным настроением и состоянием духа.
Игорь пришел звать ее к столу. Он тихо постучал в дверь и настойчиво произнес:
— Оля, открой, пожалуйста, мне надо тебе кое-что сказать.
Ольге стало не по себе оттого, что он пришел один, без Ирины, но она все же надеялась, что у него хватит благоразумия не расслабляться в доме своей жены.
Он вошел в светелку и, глубоко вздохнув на пороге, сказал:
— Отличный дух, прямо как в лесу! — Затем прошел к топчану и сел. — Слушай, ты когда сюда приехала? Вчера?
— Да, а что? — взволновалась Ольга, заметив его серьезный, озабоченный взгляд.
Игорь сказал, что поскольку забыл в прошлый раз забрать свой учебник, то решил сделать это сегодня, так как в деканате пригрозили, что задолжники в библиотеку дипломы не получат. Он долго звонил в дверь ее квартиры и, когда понял наконец, что дома ее нет, решил воспользоваться своими ключами, которые в свое время ей не пришло в голову потребовать назад и которые так и оставались у него тайным вещественным доказательством их чувств, канувших, по мнению Ольги, в прошлое, а по заверениям Игоря — перешедших в состояние вечности. Вечность понимать она отказывалась, и тогда он приводил ей примеры из высокой литературы, к которой она сама когда-то пыталась его приобщить. Он называл князя Мышкина и Настасью Филипповну, Митю Карамазова и Грушеньку, доказывая, что рамки обычного земного брака разрушили бы вечное величие их любви. Несмотря на то что, расставшись, они остались каждый при своем мнении и понятие «вечная любовь» ничего не говорила ее сердцу, Ольге поначалу приятно было сознавать, что ключи от квартиры находятся у Игоря, а потом она, честно говоря, просто забыла об этом.
И когда он сказал, что решил сегодня воспользоваться «своими ключами», она поймала себя на том, что ей стало неловко. Ольга понимала, что эта, на первый взгляд, мелочь свидетельствовала о многом. Видимо, Игорь незаметным образом вышел для нее из разряда близких, родных людей, которые могут появиться в любой момент и всегда окажутся кстати, перед которыми и не подумаешь извиняться за свой внешний вид или разруху в квартире. Сейчас же, узнав, что Игорь побывал в квартире в ее отсутствие, Ольгу больше всего встревожила именно мысль о том, что, собираясь в Александровку впопыхах, проще говоря — сбегая, она наверняка оставила там страшный беспорядок.
— Так ты нашел учебник? — спросила Ольга, стараясь преодолеть неловкость и твердо решив при первой же возможности сменить замок.
— Нашел… — нерешительно ответил тот.
— Надеюсь, не забыл закрыть дверь?
— Да я-то закрыл, но дело в том… — Он запнулся. — Дело в том, что ты сама… сама забыла запереть квартиру… Дверь была открыта…
При этих словах сердце у нее подпрыгнуло, застучало громко и неровно, и Ольга побледнела так, что Игорь в испуге побежал за тещей. В следующее мгновение в светелку сбежались все женщины и наперебой стали требовать ответа на вопрос, что случилось: мать и тетя Тамара — у Ольги, ну а Ирина, естественно, у Игоря.
— Что ты сказал Оле? — наступала она на мужа, и без того напуганного тем, что может всплыть факт посещения им квартиры ее сестры.
Игорь был поражен Ольгиной реакцией. Ну, забыла закрыть дверь, велика важность, он ведь все проверил, вроде все на месте, ничего не пропало. Да это и понятно, никому в голову не пришло, что квартира открыта, он и сам сначала долго звонил в дверь, не подозревая, что стоит нажать на ручку, как защелка тут же отойдет и дверь распахнется.
С другой стороны, Ольга ведь даже не спросила его, все ли на месте в квартире, значит, наверное, не вопрос грабежа так взволновал ее. А что? И еще один момент удивил Игоря и показался ему странным: в двери было три замка, одним из которых Ольга пользовалась постоянно, а два других задействовала только в случае своего отъезда дольше чем на день. Не могла же она быть до такой степени рассеянной, чтобы, уезжая в Александровку на несколько дней, не закрыть ни один из них!
Все эти загадки моментально пронеслись в голове у Игоря, вызвав недоумение и оставшись без ответа. Но больше всего его волновало сейчас, что скажет Ольга пристававшим к ней с расспросами родственникам.
Тетя Тамара уже мерила ей давление, мать совала под язык таблетку валидола, а Ирина убежала готовить липовый отвар.
Ольга лежала на топчане и каким-то отсутствующим взглядом наблюдала за их суетой.
— Да что же такое, Оленька? — не унималась мать. — Объясни наконец, что произошло? — В голосе ее чувствовалась неподдельная тревога.
— Ничего не случилось, — тихо произнесла Ольга, постепенно выходя из оцепенения. — И Игорь тут ни при чем. Я ему рассказала о работе, и вдруг мне стало плохо. — Заметив недоверчивый взгляд матери, она упрямо повторила: — Да, вдруг, ни с того ни с сего.
— Переутомление, — констатировала тетя Тамара. — Это бывает. И давление у тебя выше нормы.
— Ты очень много работаешь, доченька, — сказала мать, которую немного успокоил диагноз, поставленный сестрой. — Я помню, ты говорила, у тебя по графику отпуск только в октябре? Так ты возьми сейчас за свой счет.
— Я попробую, — ответила та.
На следующий день Ольгу не хотели отпускать в Пушкино вместе с Игорем и Ириной, но она настояла, объяснив, что необходимо срочно позвонить на работу и выяснить ряд важных вопросов. Ей действительно не терпелось сообщить Шурику со Светкой ошеломляющее известие о посещении ее квартиры незнакомыми лицами. Приехав в Пушкино, Игорь с Ириной направились в больницу, чтобы оформить необходимые бумаги и забрать дядю Пашу, а Ольга, договорившись встретиться с ними в скверике, помчалась на переговорный пункт, находившийся недалеко от станции.
Трубку взяла Светка и сказала, что утром Шурик повез Киру Петровну к своей двоюродной тетке под Архангельск и что та согласилась ехать лишь с условием, что через неделю к ней присоединится сама Светка.
— А вот почему она так сразу согласилась, — добавила подруга, — это отдельная история, расскажу при встрече. Ну, как у тебя там дела? Работу сделала?
Ольга поняла, что не в состоянии подробно рассказывать о случившемся под пристальным взглядом нескольких пар глаз и при таком же количестве ушей тех посетителей, которые терпеливо ждали своей очереди на стульях и стоя возле кабины.
— У меня дела плохи, — только и смогла выговорить она.
— Что такое? — встревожилась Светка. — С дядей Пашей что-нибудь?
— Да нет, мы сейчас увозим его в Александровку, — ответила Ольга. — Он чувствует себя нормально.
— А что же тогда? — допытывалась подруга. — Работа горит?
— Да работу я надеюсь завтра закончить, — слабо отмахнулась Ольга. — Не в этом дело. Просто я не могу тебе по телефону рассказать…
— Я бы к тебе приехала, — с готовностью сказала Светка, — но Шурик считает, что мне вообще нельзя из дома выходить.
— Нет-нет, ни в коем случае, — запротестовала Ольга. — Давай лучше я сама приеду… ну, наверное, послезавтра, когда повезу рукопись в издательство. Заодно хочу попросить у Искры отпуск за свой счет.
— Ну ладно, — поскучнела Светка, которой хотелось немедленно узнать, что же случилось, а не ждать целых два дня. Она предполагала, что это, должно быть, как-то связано с Игорем. — Шурик тоже обещал послезавтра вернуться. Кстати, он просил тебе передать, чтобы ты домой к себе не заходила, мало ли что…
— Даже если бы он умолял меня зайти, — усмехнулась Ольга, — я бы и то отказалась.
До Светки наконец дошло, что случилось у подруги.
— Неужели там у тебя кто-то побывал? — от волнения понизив голос, спросила она.
— Вот именно, — коротко ответила Ольга.
— Как же ты узнала об этом? Когда? — недоумевала Светка.
— Ладно, Свет, об этом при встрече, — ответила та и закруглила разговор.
В скверике ее поджидал Игорь, он сказал, что Ирина с отцом сейчас спустятся и что машина уже стоит у входа в больницу. Ольга поняла, что Игорь не случайно оказался здесь один, он хотел поговорить с ней с глазу на глаз.
— Оля, мне-то ты хоть можешь объяснить, что случилось? — сразу спросил он.
— Ты о чем? — разыграла удивление Ольга.
— Сама знаешь о чем, — нервно проговорил он.
— А-а, ты о квартире, — сказала она. — Ну, забыла закрыть, с кем не бывает. Но ты же сказал, ничего не пропало, значит, ничего и не случилось.
Но Игорь за три года общения с ней слишком хорошо изучил ее повадки и способен был отличить наигранное удивление от искреннего.
— Но ты ведь даже не спросила меня об этом. Значит, тебя что-то другое напугало. Что, Оля? — настаивал он.
Ольга смотрела в непроницаемо черные глаза и видела в них свое отражение. Случись все несколькими месяцами раньше, она, конечно же, в первую очередь поставила бы в известность Игоря и, возможно, ей не пришлось бы обращаться к Шурику. Только теперь уже поздно, у Игоря появились заботы, и совсем ни к чему впутывать его в свои дела.
Но тот был не на шутку встревожен и необычайно настойчив, он чувствовал, что тут что-то не то и над Ольгой нависла какая-то опасность.
— Ну, если ты так настаиваешь, — нехотя протянула она, — я скажу. — Мысль, как отвязаться от его докучливых расспросов, быстро созрела у нее в голове, и она, опустив глаза якобы от смущения, а на самом деле из соображений, как бы ненароком не выдать себя взглядом, произнесла: — Дело в том, что… ну, в общем, в квартире находился один мои знакомый… и я испугалась, что он мог бы встретиться с тобой.
— То есть — твой любовник, — отчасти насмешливо, отчасти неприязненно сказал он. — И как же его зовут, если это, конечно, не секрет?
— Кирилл, — непроизвольно вырвалось у нее.
— Красивое имя… — проговорил он раздумчиво, как бы соизмеряя ее вчерашнюю реакцию со степенью испуга от возможности нежелательной встречи двух возлюбленных — бывшего и настоящего. — Ну что ж, передай Кириллу, чтобы не забывал впредь дверь запирать, когда уходит, — произнес он наконец, и непонятно было, достаточно ли убедительным показалось ему Ольгино объяснение, потому что некоторая настороженность все-таки осталась в его взгляде.
Когда они вместе с дядей Пашей приехали в Александровку, стол на террасе был уже празднично накрыт и ждал лишь их появления. Дружная семья в полном составе уселась обедать, и дядя Паша, как виновник этого небольшого семейного торжества, счастливый от сознания, что наконец-то он дома, со своими близкими, пустился рассказывать всевозможные смешные случаи из больничной жизни.
Ольга понимала, что обеду суждено плавно перейти в ужин и что теперь до самого позднего вечера родственников не оторвать от стола и от нескончаемой беседы. Она встала, извинилась, сказав, что должна непременно заканчивать работу, и ушла в свою светелку. Ольга решила, что не позволит никаким посторонним мыслям отвлечь себя от злополучной рукописи и, пока не прочтет все, не разрешит себе думать о Светке, о Шурике и о вторжении в ее квартиру непрошеных гостей.
Поначалу это казалось делом почти непосильным, так как доносившийся с террасы смех и громкие возгласы постоянно возвращали ее из театрального абсурда в мир житейских перипетий, но понемногу она втянулась, перестала слышать голоса и другие посторонние звуки и потеряла даже счет времени.
— Олюшка, ты же больше четырех часов сидишь не вставая, — укоризненно сказал дядя Паша, входя в светелку и усаживаясь на топчан. — Лариса с Тамарой рассказали уже, как тебе плохо было вчера. — Дядя Паша с тревогой посмотрел на нее. — Конечно, это переутомление. Нельзя же так надрываться, пойдем в саду погуляем.
* * *
Предвечерняя прохлада окутала сад, нежаркое солнце, завершая свой ежедневный обход, зависло над горизонтом, его кроваво-красный цвет казался неестественным и жутковатым. Дядя Паша хозяйским глазом обводил свои угодья и вслух рассуждал о новых посадках, о дополнительной теплице и, конечно, об увеличении пасеки. Ольга, неторопливо шагая рядом с ним мимо яблоневых деревьев, не вникала в подробности планов по реорганизации хозяйства, она отмечала только радостные интонации дядипашиного голоса, в то время как отдельные слова с трудом доходили до ее сознания.
Сад притих, готовясь ко сну: те цветы, которые на ночь уходят в себя, захлопнули свои лепестки, деревья замерли в каком-то дремотном оцепенении, и легкий туман низко застелился по травке, как бы заботливо укрывая землю прозрачным покрывалом. Запахи усилились, и Ольга подошла к небольшой грядке с любимыми флоксами, которые издавали такой знакомый, такой нестерпимо пьянящий аромат, что ей захотелось зарыться лицом в эти душистые соцветья и дышать только им. Она сорвала один стебелек, чтобы поставить в воду у себя в светелке, и оглянулась вокруг.
И внезапно, словно впервые увидев эту картину засыпающего сада, Ольга была потрясена величественной простотой, незыблемостью и бесконечной новизной окружающего. Дыхание вечности почудилось ей вдруг в березе, золотисто-розовой от последних лучей солнца, в клубах пара, идущего, казалось, из самых недр вздыхающей земли, в мудрой вороне на заборе, напряженно косившей одним глазом, и беспричинная радость, какой-то немой восторг охватили ее, и все тревожные события последних месяцев неожиданно показались до смешного ничтожными и не заслуживающими внимания, во всяком случае столь пристального, какое она им уделяла.
От этого ощущения возникло чувство ценности и глубокой осмысленности любой человеческой жизни, и ее в частности, и ценность эта представлялась безусловной, как данность, и в доказательствах не нуждалась, раз существовала эта величественная гармония мира, где береза розовеет от заходящего солнца, где ворона сидит на заборе и дышит земля.
Дядя Паша возился на грядке с кабачками и патиссонами и не заметил ее просветленного состояния.
— Посмотри, Олюшка, какой красавец! — улыбаясь, сказал он, протягивая сорванный круглый овощ, похожий на огромную тарелку. — Вот мы завтра попробуем, каков он на вкус.
Становилось свежо, и они вернулись в дом. Домочадцы сидели на террасе за большим самоваром, весь стол был уставлен вазочками и плошками с вареньем различных сортов. Ольга от чая отказалась, сразу прошла в светелку и поставила флоксы в банку с водой. Она легла на кровать, боясь расплескать, растерять как-нибудь это новое ощущение, полученное в саду.
Проснулась она рано, когда все еще спали и слышалось только пение птиц да озабоченное хриплое кукареканье какого-то запоздавшего петуха.
Выйдя в сад, Ольга радостно вздохнула всей грудью навстречу приветливому солнцу и пошла к рукомойнику. Веселый сад, оживший после ночного покоя, встретил ее разноцветьем раскрывшихся цветов и волнами с детства знакомых запахов.
Умывшись, она вернулась в светелку и села за рукопись, твердо решив одолеть ее вчерашним методом полного погружения в работу. Это ей удалось, она не услыхала матери и тети Тамары, которые, проснувшись, принялись готовить завтрак, не слышала шагов дяди Паши, который отправился прямо с утра к Степанычу, чтобы обсудить с ним вопросы своего пчелиного хозяйства. И только когда дядя Паша громко постучал в дверь ее светелки, Ольга очнулась и оторвала голову от работы.
— Не спишь уже, Олюшка? — спросил он, входя в комнату с крайне озабоченным видом. — Я сейчас от Степаныча… он радио круглые сутки не выключает…
— Что-то случилось, дядя Паш? — заволновалась она.
— Да понимаешь… тут такое дело… — нервно проговорил он. — Непонятное что-то творится… Какая-то комиссия по чрезвычайному положению образовалась… президент отстранен…
Спустя полчаса вся семья сидела на веранде у старого приемника и слушала комментарии радиостанции «Эхо Москвы» по поводу происходящих в столице событий.
Игорь очень расстроился, потому что при таком раскладе мечтам о работе на строительстве коттеджей, скорее всего, не суждено было сбыться и под угрозой оказывалось материальное благополучие его семьи. Ирина плохо понимала связь между отстранением президента и возведением коттеджей, но тем не менее переживала, что у мужа резко испортилось настроение. Тетя Тамара, будучи стреляным воробьем, эту связь, в отличие от дочери, поняла сразу и закручинилась, что, не дай Бог, Ирине придется растить детей на мизерную инженерную зарплату мужа. Мать Ольги, как жена военного, вообще привыкла бояться каких бы то ни было нововведений, она только-только начала было привыкать к перестройке, и вот — на тебе, снова какой-то фокус.
И лишь Ольга с дядей Пашей поняли, что эти события грозят в первую очередь не материальному благополучию людей, а возвратом в прежние времена, когда вместе с цветными телевизорами в кредит всучивалась бесплатная дезинформация обо всем, что творилось вокруг, когда человека, прорвавшегося за границу, считали чуть ли не космическим пришельцем и вся страна дружно штурмовала столичные магазины в поисках мясных изделий и импортного ширпотреба.
«Эхо Москвы» сообщило, что к Белому дому начали стекаться люди, что перекрыто движение по улице Горького и на Манежной площади стоят танки. Дядя Паша засобирался в Москву.
— Это безумие, Павел! — в отчаянии кричала тетя Тамара. — Лара, скажи хоть ты ему, может, он тебя послушает! Оля, ты-то что молчишь?
— Дядя Паш, ну куда ты, в самом деле, поедешь? — пыталась урезонить его Ольга. — Тебе только стрессов после больницы не хватает.
— Павел, уймись! — уговаривала мать Ольги. — Ну какой из тебя защитник демократии, сам подумай!
— Я вот что предлагаю, Павел Сергеевич, — сказал вдруг Игорь, — мы с Ириной сейчас поедем в Москву, посмотрим, что там и как, а вечером вернемся и доложим вам обстановку. Идет?
— Вот речь не мальчика, но мужа, — пошутила Ирина, и все заулыбались ее нечаянному каламбуру.
На том и порешили. Молодые уехали, дядя Паша, как приклеенный, остался сидеть у радиоприемника, сестры захлопотали по хозяйству, а Ольга подумала, что объявленное чрезвычайное положение вряд ли отодвинет сроки сдачи ее рукописи, и поспешила в светелку.
Но метод погружения не срабатывал, так как через каждые десять минут к ней врывался дядя Паша с очередными подробностями событий, переданными по радио. Наконец Ольга не выдержала и предложила ему записывать самое важное, чтобы рассказать ей все сразу часа через три, когда она предполагала закончить работу. Дядя Паша как-то сник, но с предложением ее согласился и поплелся на веранду, прихватив блокнот и ручку.
* * *
Рассчитывая расправиться с рукописью за два-три часа, Ольга ошиблась: ей пришлось просидеть за столом почти до пяти часов вечера. Мать приносила ей еду на подносе, дядя Паша несколько раз робко открывал дверь светелки, но, увидев склоненную над работой голову, со вздохом уходил на веранду. Когда наступила наконец долгожданная минута и последняя страница была прочитана, Ольга встала, с наслаждением потянулась и увидела, что за окном моросит дождик, мельчайшие капельки его переливаются бисером на солнце, а прислушавшись, удивилась, что из дома не доносится ни звука, словно в нем не осталось ни одной живой души.
Почувствовав страшный голод, будто не ела ничего по меньшей мере сутки, Ольга набросилась на остывший обед, принесенный матерью. Ей показалось, что этого недостаточно, и она пошла на кухню в поисках съестного. Проходя мимо открытой двери на веранду, она увидела дядю Пашу, который, сидя к ней спиной, нервно крутил ручку приемника, получая в ответ лишь слабые хрипы и похрюкиванье. Ольга подошла к нему сзади и, как в детстве, закрыла ладонями глаза.
— Олюшка! — обрадовался он. — Ну наконец-то! Закончила?
— Да, дядя Паш, можешь меня поздравить, — весело ответила она.
— Поздравляю, конечно, хотя… — Он печально посмотрел на нее и махнул в сторону приемника. — Что творится, Олюшка, ты бы знала, что творится…
— А почему одни хрипы? — спросила она.
— Последние полчаса глушить стали, слушать невозможно, — сердито ответил он. — Раньше «Голос Америки» легче поймать было.
Мимо прошла на террасу тетя Тамара, неся на блюде большой пирог.
— Пошли чай пить, — сказала она. — Молодых ждать не будем, они, наверное, поздно приедут. Ларочку позовите, она на огороде.
В первые минуты Ольга испытывала такую радость, такое облегчение от того, что работа наконец закончена, словно сама была автором по меньшей мере половины пьес в этой будущей книге. Но радость ее сразу поблекла и исчезла без следа, когда дядя Паша пересказал услышанное по радио, что успел запомнить или записать.
Трудно было вообразить себе танки и бронетранспортеры, которые появились в мирном городе не с целью принять участие в ежегодном параде.
— Завтра с утра поеду в издательство, — сказала Ольга. — Сама все увижу. Вдруг это просто паника и ничего серьезного не произошло? — успокаивала она дядю Пашу и отчасти себя, хотя оба прекрасно понимали, что это наверняка серьезнее, чем они могут себе представить.
На террасу вошла мать Ольги, неся корзину помидоров и другую, побольше, с яблоками. Яблоки, как всегда, высыпали прямо на пол террасы, и они живописно раскатились в дюжину натюрмортов, блестя глянцевыми, мокрыми от дождя боками. Ольга знала, что скоро неповторимый яблочный дух разойдется по всему дому, вызывая воспоминания детства, когда каждый прожитый день казался полным особого смысла, а каждый будущий таил в себе неизвестные чудеса и загадочные открытия.
На столе красовался большой яблочный пирог, кипел самовар, в прозрачных вазочках золотилось варенье, и эта мирная, уютная домашняя обстановка не только успокаивала, но как бы убаюкивала Ольгу, и на какой-то миг она даже забыла о том, что сейчас, судя по словам дяди Паши, должно было происходить в столице.
— По какому поводу пир? — спросил дядя Паша, кивнув в сторону пирога.
— Так сегодня же праздник, Паша, — улыбнулась тетя Тамара. — Забыл? Преображение сегодня…
— Ах да, — встрепенулся он, — мне Степаныч говорил, что старуха в церковь с утра пораньше ушла… А помнишь, — сказал дядя Паша, обращаясь к жене, — мама в этот день тоже в церковь всегда ходила… И яблоки с собой брала… Помнишь?
— Конечно, помню, — ответила тетя Тамара, разрезая пирог, — потому что и Яблочный Спас сегодня.
— Ну что, спасайся кто может? — усмехнулась Ольга и разложила пирог по тарелкам.
Он, как всегда, оказался отменным, и все принялись расхваливать особый талант тети Тамары именно в этой области кулинарии. Дядя Паша, внезапно осознав, что слишком увлекся ублажением своей плоти, в то время как люди, возможно, уже гибнут на баррикадах вокруг Белого дома, отставил от себя тарелку с недоеденным пирогом и грустно произнес:
— Нет, все-таки это пир во время чумы…
Молодые действительно приехали очень поздно, в начале двенадцатого. Все поджидали их на веранде: сестры вязали, дядя Паша с Ольгой с переменным успехом пытались поймать нужную радиостанцию.
Тетя Тамара сразу засуетилась и ушла на кухню разогревать ужин, а Игорь с Ириной, возбужденные увиденным, перебивая друг друга, отвечая попутно на многочисленные вопросы родственников, рассказывали о том, что творится сейчас в самом центре Москвы, об обращении российского президента, расклеенном даже в метро, о толпах народа у Белого дома, о строительстве баррикад и о возникающих то тут, то там стихийных митингах с добровольными ораторами различной окраски. Однако тон их повествования не оставлял сомнений, что и для Игоря, и для Ирины это было своего рода развлечением, бесплатное кино на улицах города с живыми людьми вместо актеров.
— Но ведь по улицам, должно быть, опасно передвигаться? — ужасалась мать Ольги. — Если танки… и военные… могут ведь начать стрелять.
— Нет, тетя Ларис, совсем не опасно, — весело отвечала Ирина. — Все как обычно, и магазины открыты, и рестораны.
— Да если от центра отъехать немного, так вообще тишина и спокойствие, — сказал Игорь, — будто ничего и не случилось.
— Мне дед рассказывал, — бросилась в воспоминания мать Ольги, — ну, ваш прадед, — уточнила она, обращаясь к дочери и племяннице, — он был свидетелем, когда Зимний брали в семнадцатом. Он в трамвае к другу ехал на Выборгскую, видит — толпа небольшая у Зимнего, шум какой-то. В общем, никто из пассажиров и внимания-то особого не обратил. А наутро — здрасьте, оказалось, это революция была.
— И ничего удивительного, — авторитетно заявил дядя Паша, — многие перевороты так происходят, некоторые вообще бескровно, вот, к примеру…
— Эй, защитники демократии, пожалуйста, к столу! — раздался из кухни голос тети Тамары.
Час был поздний, и Ольга решила отправиться спать, потому что понимала, что разговоры эти и споры можно вести всю ночь, а ей с утра предстояла поездка в издательство.
— Скорее всего, к вечеру вернусь, — сказала она, — надо ведь и со Светкой повидаться.
— Если допоздна задержишься, лучше оставайся ночевать в Москве, — посоветовала мать. — И по баррикадам особенно-то не бегай…
— Да уж, — со вздохом поддержал дядя Паша, — помнишь, у Чехова: если висит ружье, то хоть к концу пьесы, да выстрелит.
Улыбнувшись их добрым старческим наставлениям, Ольга пошла в светелку и, закрыв дверь на крюк, легла в постель.
В электричке по пути в Москву Ольга прислушивалась к разговорам вокруг, но ничего необычного не услышала. Говорили о хорошем урожае яблок, о том, что спасу нет от колорадского жука, который, паразит такой, всю картошку попортил, о том, что люди, вышедшие на пенсию двадцать лет назад, получают больше, чем пенсионеры начинающие. Жизнь утреннего вагона ничем не отличалась от повседневной: кто-то читал, кое-кто спал, привалившись головой к окну или к плечу соседа, где-то плакал ребенок, а некоторые домовитые женщины, чтобы не терять времени даром, ухитрялись даже вязать. Вспомнив рассказ прадеда о взятии Зимнего, Ольга подумала, что, наверное, так и должно быть, жизнь продолжается всегда, потому что она, эта жизнь, выше и мудрее всех политических игрищ и переворотов.
* * *
В издательстве царило оживление, сотрудники бегали вверх-вниз по лестнице с озабоченными лицами, собирались стайками в коридорах, а на лестничных площадках, местах обитания курильщиков, не продохнуть было от табачного дыма.
— Ах, Оленька Михайловна, здравствуйте, дорогая, — заверещала Елена Одуванчик, сидевшая в редакции в полном одиночестве. Она очень обрадовалась появлению Ольги. — Вы, конечно, в курсе? Боже мой, что будет? Что будет? К чему это все приведет? — нервно воскликнула она, усаживая Ольгу за стол и наливая ей чай. — Вы, наверное, устали с дороги? А как здоровье Павла Сергеевича?
— Спасибо, все хорошо, — ответила Ольга. — Вчера его выписали, он сейчас в Александровке.
— Ну слава Богу, я очень рада за него, — искренне сказала Елена Павловна и тут же, возведя глаза и всплеснув руками, снова завела: — Чем же все это закончится? Какой кошмар! И в страшном сне не увидишь. А эта пресс-конференция! Чрезвычайное положение!
Она сообщила Ольге, что Никанорыч с Верочкой пошли к Белому дому, Искра же на совещании у директора, а ей велела неотлучно быть у телефона, вдруг позвонит Никанорыч с какими-нибудь неожиданными новостями. Елена Павловна очень переживала по поводу своего вынужденного пребывания в стенах редакции, но ослушаться начальственную подругу не смела. Узнав же, что Ольге непременно нужно дождаться заведующую, чтобы не только сдать работу, но и поговорить об отпуске, обрадовалась как ребенок и, оставив вместо себя у телефона, выпорхнула из комнаты и ракетой понеслась по редакциям.
Ольга набрала номер Шурика и в двух словах обрисовала Светке ситуацию, что сидит в издательстве и ждет Искру с совещания, потом хочет побывать у Белого дома и своими глазами увидеть, что же там происходит, а после этого появится у подруги и они смогут наконец спокойно поговорить.
— Олюнь, ты скажи только, что у тебя с квартирой? — спросила Светка, изнемогая от нетерпения.
— Свет, все при встрече, — ответила та. — Телефон тут занимать нельзя, Никанорыч позвонить может, а он, сама понимаешь, из автомата… Ну ладно, скоро увидимся!
Минут через десять дверь распахнулась, и вслед за клубами дыма в комнату вплыла Искра Анатольевна в одном из своих неизменных балахонов и с монистами на шее.
— Рада вас видеть, Ольга Михайловна, — приветственно забасила она. — Что Павел Сергеевич?
— Вчера выписали, Искра Анатольевна, он на даче, — сказала Ольга, — но так взволнован всеми этими событиями, что я боюсь, как бы…
— Ах, и не говорите, голубчик, — сокрушенно вздохнув, перебила заведующая, — мы все в ужасе от случившегося. И ведь неизвестно, что нас ожидает…
Искра Анатольевна поведала Ольге о том, что по инициативе Никанорыча была составлена бумага в министерство, где недвусмысленно излагалась позиция издательства в отношении организованного комитета по чрезвычайному положению и в отношении самого чрезвычайного положения. Эту бумагу обсуждали сейчас у директора и решили вынести на суд всего трудового коллектива, так как мнения администрации разделились.
— Через полчаса общее собрание в актовом зале, — сказала она, — хотя о каком кворуме может идти речь, если половина сотрудников ушла на баррикады? — Искра Анатольевна опечалилась и яростно запыхтела папиросой.
— Так надо учесть, что большинство пошли туда не из праздного любопытства, — возразила Ольга, — поэтому их голоса автоматически можно присоединить к сторонникам заявления.
— Да, вы правы, голубушка! — воодушевилась заведующая. — Я внесу такое предложение, и вначале мы проголосуем за него.
За оставшееся до собрания время Ольга успела вручить ей прочитанную рукопись и изложить свою просьбу об отпуске. От синей папки Искра Анатольевна отмахнулась, попросив спрятать ее подальше в шкаф.
— Честно говоря, не знаю, уцелеет ли наше издательство в этих передрягах, — шумно завздыхала она. — А пока у нас и своего, родного абсурда выше головы.
С обреченным видом человека, которому будущее рисуется в самых мрачных тонах, она подписала Ольгино заявление об отпуске за свой счет на две недели.
— Может, мы все скоро окажемся в бессрочном отпуске за свой счет, — задумчиво произнесла Искра Анатольевна. — Мы вот с мужем через десять дней в Болгарии должны быть… — Она закурила новую папиросу и отчаянно махнула рукой. — A-а, какая уж теперь Болгария… тут по улице-то ночью не пройдешь: комендантский час.
Страсти на собрании бушевали больше часа, но наконец заявление в адрес министерства, в котором выражался протест сотрудников издательства против сложившейся ситуации в стране, было, с некоторыми поправками, одобрено и принято.
— Встретите Никанорыча, — напутствовала Искра Анатольевна, узнав, куда Ольга отправляется, — расскажите про собрание, пусть порадуется.
Спускаясь зеленой улочкой к Белому дому, Ольга заметила, что очень много людей спешат в том же направлении. Молодежь в кожаных куртках с заклепками и булавками, женщины всех возрастов с детьми и без детей, шли целыми семьями, как ходят на пикник или народное гулянье, но только вид при этом у всех, кроме детей, был далеко не праздничный, а, напротив, крайне встревоженный и озабоченный. Ольгу удивило, что многие мужчины были одеты так, будто они собрались на охоту или рыбалку: с рюкзаками, в каких-то ватниках или старых куртках, в кирзовых сапогах и туристских ботинках. Ясно было, что шли они не с праздной целью пошататься и поглазеть на происходящее. Ольга подумала, что, наверное, с таким же решительным и сосредоточенным видом мужчины всех поколений уходили на войну, когда твердо знали, за что идут воевать.
Подходя к зданию со стороны парка, носившего имя известного пионера-героя, Ольга обнаружила, что постамент от памятника этому пионеру пуст, а сам памятник валяется тут же в кустах, причем без головы. Прямо на траве вокруг постамента расположилась молодежь, кое-кто даже поставил палатки и тенты, устроившись основательно и надолго. Слышались звуки гитары. То тут, то там сновали люди в шинелях, бушлатах, в казачьей форме, прошла девушка, одетая как сестра милосердия времен гражданской войны, и Ольге на миг показалось, что это большая съемочная площадка, где снимается фильм о войне, а за кадром происходит молодежная тусовка членов клуба самодеятельной песни.
Но стоило ей выйти на площадь слева от Белого дома, как ощущение маскарада пропало. Все пространство перед зданием, от ступеней до самого парапета, было заполнено довольно густой массой народа. Со стороны проспекта, перекрывая движение, высились груды каких-то камней и стальных решеток, которые, видимо, и выполняли роль баррикад и должны были преградить путь бронетехнике. В воздухе стоял непрерывный гул сотен голосов, люди тесными группами окружали тех, у кого имелись транзисторные приемники, и тех, кто и сам знал всю подноготную, излагая ее не хуже приемника.
Переходя от одной кучки людей к другой и прислушиваясь, Ольга узнала, что по Можайскому шоссе в направлении Москвы движется колонна танков, что послана секретная группа захвата «Альфа», чтобы атаковать собравшихся в здании с крыши, и что не исключено применение с воздуха какого-то удушающего газа для разгона защитников Белого дома.
Пробравшись к ступеням, ведущим к центральному входу, она обнаружила, что широкие гранитные боковины лестницы завалены продуктами, медикаментами и сигаретами всех марок.
— Для защитников, значит, — объяснил седой старичок с палочкой, заметив ее удивленный взгляд. — Сколько они здесь пробудут — неизвестно, а есть-курить надо.
— А бинты? Лекарства? — спросила Ольга.
— Так ведь кто знает, может, стрелять начнут, — бойко ответил воинственный старичок. — Тогда, натурально, раненые появятся, помощь надо оказать. А ка-ак же? Все предусмотрено…
Люди без конца подходили к лестнице, рылись в сумках и авоськах, и все вносили свой скромный вклад в дело защиты демократии. Недалеко от лестницы, прямо на траве, была поставлена туристская палатка с пришитым сбоку красным крестом.
— А это, значит, навроде полевого госпиталя, — охотно пояснил старичок, указывая на палатку.
Он жил в соседнем доме, второй день проводил исключительно здесь, по части демократии считал себя докой, и ему, стоявшему, так сказать, у истоков, доставляло большое удовольствие рассказывать прибывающим новичкам все с самого начала, или, как он повторял, «с вчерашнего утра». Возле него собиралось порой по пять-семь человек, и он чувствовал себя истинным оратором и борцом за справедливость.
— Ольга Михайловна! — раздался сзади знакомый голос. — Ольга Михайловна!
Она оглянулась и увидела метрах в трех «почитателя», который, работая локтями, пробирался к ней. Федор Михайлович был в какой-то немыслимой телогрейке, подпоясанной широким солдатским ремнем, с рюкзаком за плечами и в солдатской шапке-ушанке старого, верно еще военного, образца.
— Ольга Михайловна! Какая встреча! Какое счастье видеть вас здесь! — восторженно восклицал он, не замечая, что из-за громких возгласов окружающие начинают обращать внимание на его нелепый наряд.
Собственно, в самой-то одежде ничего странного не было, то тут то там на площади мелькали мужчины, одетые подобным образом, но именно в случае с «почитателем» возникало ощущение забавной клоунады, ряжености — так не вязались его поведение и весь его облик с этим обмундированием военных лет.
— Мне сказали, вы на даче, но я знал, знал, что вы не сможете высидеть там, — захлебываясь от восторга, говорил он, — когда такое… когда Родина в опасности.
— Да вы, Федор Михайлович, просто Василий Теркин, — не утерпев, засмеялась Ольга, — вот только гармони не хватает.
— О, не смейтесь, Ольга Михайловна, — ничуть не обидевшись, сказал он. — Ночи очень холодные, вчера жгли костры, а все равно многие замерзли. А телогрейка эта моего отца, фронтовая, и шапка тоже. Вы чувствуете, чувствуете в этом перекличку времен?
— Федор Михайлович, в конце концов, главное, чтобы вам было тепло и удобно, — подбодрила его Ольга, чтобы как-то сгладить свою бестактность.
— Вот и я так же считаю, — обрадовался он. — А мама говорит: «Федор, ты вырядился чучелом, тебя засмеют. Если мерзнешь, надень дубленку». Но вы-то понимаете, Ольга Михайловна…
— Да-да, конечно, Федор Михайлович, вы безусловно правы, связь времен… — быстро перебила Ольга, чтобы не расхохотаться ему в лицо, до того нелеп он был в своем военном бутафорском наряде.
— Я, Ольга Михайловна, хочу записаться в добровольную дружину, — гордо заявил он. — Там даже, знаете, оружие раздают.
— Где же это? — удивилась она.
— А с другого входа, со стороны парка, — ответил он. — Нужно обойти здание. Пойдемте со мной, прошу вас! — Он так умоляюще смотрел на нее, что можно было подумать, без Ольги оружия ему ни за что не выдадут.
Она согласилась и стала продвигаться за ним следом, не выпуская из виду спину в телогрейке. Вдруг толпа зашевелилась, отхлынула, гул увеличился, и все стали указывать на окна здания, где мелькали какие-то фигуры. Ольга тоже невольно взглянула туда, а когда отвела глаза, телогрейка Федора Михайловича исчезла уже из поля ее зрения. Она в нерешительности постояла минут пять на месте, затем выбралась из толпы и побрела в сторону Манежной площади.
Когда Ольга шла по проспекту, она отметила, что город, как и утренняя электричка, жил своей обычной жизнью: у кинотеатра толпился народ, мечтая попасть на фильм эмигрировавшего и ставшего модным режиссера, ювелирный магазин и Дом книги тоже, вероятно, выполняли план по продаже, судя по сновавшим из двери в дверь покупателям.
А на Манежной площади действительно стояли танки. Танкисты, молодые ребята, не покидали своих боевых машин, а сидели на них, свесив ноги, и спокойно беседовали с жителями.
Неплотное кольцо, окружавшее танки, состояло в основном из женщин, которые засовывали букеты цветов в жерла пушек, как бы пытаясь превратить эти грозные машины в кротких голубей мира.
— Сынки! — кричала какая-то пожилая женщина со сбившейся косынкой на голове. — Мы ваши матери и сестры, так неужто вы будете в нас стрелять?
Молоденький парнишка-танкист, понюхав поднесенную розу, с улыбкой успокоил ее:
— Да не собираемся мы стрелять, мамаша. — И шутливо добавил: — Тем более что вы цветами нам все жерла позабивали.
— А если вас пошлют к Белому дому людей разгонять? — робко спросила юная девушка, по виду еще школьница. — Вы же не сможете ослушаться приказа?
— Разгонять, барышня, еще не значит стрелять, — вмешался другой танкист, постарше, который явно не одобрял этих цветочных вакханалий, но понимал, что успокоить людей в подобной ситуации просто необходимо. — А приказа стрелять по мирным жителям никто и никогда не даст, это я вам точно говорю.
Покружив с полчаса возле смертоносных машин, Ольга отправилась на Новослободскую. Светка ждала ее с нетерпением и, открыв дверь, радостно воскликнула:
— Ну наконец-то! Что ж так долго? — И, спохватившись, что подруга наверняка с утра ничего не ела, побежала на кухню. — Иди, Олюнь, мой руки и за стол, — кричала она с кухни, поспешно разогревая приготовленный тетей Дусей борщ.
Вскоре подруги сидели в комнате за столом, Ольга ела, а Светка, глядя на нее во все глаза, без умолку стрекотала.
— Представляешь, меня тетя Дуся даже к плите не подпускает, — со смехом сообщила она. — Говорит, пока жива, сама буду вам с Сашком все готовить, а ты руки не пачкан и в голову не бери, наблюдай, говорит, свою красоту. Ой, сейчас рыбу принесу! — всполошилась вдруг она и снова убежала на кухню.
Когда Ольга отобедала и они перешли к чаепитию, Светка приступила к вопросу, мучившему ее в последние два дня больше всего.
— Ну? — затаив дыхание, тихо спросила она, но Ольге было ясно, что подразумевала подруга под этим междометием.
Она рассказала Светке о том, что хотя и была взволнована, но тем не менее прекрасно помнит свой отъезд в Александровку, как, выполняя наставления Шурика, тщательно закрыла дверь на все три замка и даже для верности подергала и покрутила ручку. И когда Игорь на следующий день сообщил, что квартира стояла открытой, но из нее ничего не пропало, ее охватил такой беспредельный ужас, что она просто впала в оцепенение и долго не могла выговорить ни слова, чем до смерти напугала своих родных. А теперь она не знает, что делать, ей хочется попасть в квартиру и посмотреть, что там и как, но страшно.
— Ну, это уж до приезда Шурика, как он решит, — сказала Светка. — Наверняка те же два хмыря к тебе приходили, ну, со шрамом и этот, нервнобольной. Радуйся, подруга, что вовремя успела смыться.
И, конечно же, второй вопрос — женитьба Игоря на Ирине — тоже не переставал волновать Светку еще со встречи в доме Георгия Ивановича. В присутствии Шурика они не хотели затрагивать эту тему, да и не до того им тогда было, ведь речь шла о спасении Киры Петровны и самой Светки.
И только сейчас, когда они оказались наедине, Ольга смогла наконец удовлетворить любопытство подруги. Она рассказала ей о событиях трехмесячной давности, как сама познакомила Игоря с сестрой, как он скрывал разыгравшийся роман с Ириной и как пытался уверить, что никакая женитьба не сможет поколебать его вечной любви и привязанности к Ольге.
Светка внимательно слушала, порой вставляя свои едкие реплики и замечания и задавая уточняющие вопросы.
— Слушай, Олюнь, а как же Инга на это реагировала? — поинтересовалась она, когда Ольга дошла до описания свадьбы. — Она ведь была там?
К счастью и большому облегчению Ольги, сестра Игоря не смогла присутствовать на свадьбе, так как за два дня до торжества ее направили в срочную командировку, от которой отказаться было невозможно.
— Ингуша очень расстроилась, — говорила мать Игоря, — уж так ей хотелось в этот день быть с нами и с любимым братом. — И она бросала умильные взгляды на молодоженов.
Знала ли Инга о том, что невеста брата находится в тесном родстве с его любовницей, Ольга так до сих пор и не выяснила. Да и у кого ей было выяснять? Игорю задавать подобный вопрос не хотелось, а с родителями его она впервые увиделась лишь на этой свадьбе, потому что ее связь с их сыном на протяжении трех лет являлась тайной не только для семьи Беркальцевых, но и для них.
— Да-а, ну и гусь же этот твой Игорек, — раздумчиво протянула Светка. — Вечная любовь, говоришь? Ну что ж, видимо, с позиций вечности действительно все равно, на ком жениться. Ты-то как? — беспокойно заглянула она в глаза подруги, словно боясь увидеть там слезы. — Все печалишься? Брось, Олюня, мы тебе такого мужика найдем, настоящего, а не молокососа зеленого… Дай мне только из этой темницы выбраться, уж я тогда…
И неунывающая Светка, с присущим ей чувством юмора и жизнелюбием, пустилась в рассуждения о том, что судьба не так благосклонна к ней, как хотелось бы, потому что, продержав ее в течение трех недель где-то у черта на рогах, тут же посылает новое испытание — те же четыре стены, хотя и в столице.
Но, следуя примеру Шурика в любой ситуации отыскивать прежде всего положительные моменты, она призналась, что нынешняя ее «темница» не в пример лучше предыдущей хотя бы потому, что приходится общаться с такими милыми людьми, как тетя Дуся и Шурик, и перед глазами не мелькают опостылевшие физиономии Ираклия с Николашей.
— А кстати, об Ираклии, — вспомнила Ольга. — Что же ты мне про него ничего не рассказываешь? Где вы с ним познакомились… ну и вообще?
— Ох, Олюня, лучше не спрашивай, — отмахнулась Светка. — У меня при одном его имени — веришь ли? — спазмы начинаются… так он мне опротивел.
— А любовь? — изумилась Ольга. — Ты же влюбилась в него, сама говорила, поэтому и поехала на хутор.
— Ну, не знаю… — Светка как-то сникла и закурила сигарету. — Значит, она у меня того… в ненависть перешла. Сама ведь знаешь, от любви до ненависти… Вот я и шагнула.
Ольгу каждый раз озадачивали любовные кульбиты подруги, и она не переставала удивляться, насколько та скора на руку в решении подобных вопросов.
— Ну ладно, — согласилась она, — не хочешь говорить про свои личные отношения с ним — не надо. — Ольга видела, что той действительно неприятно и даже как-то неловко вспоминать об этом. — Но про деятельность этого типа ты хоть можешь рассказать? Ну, что знаешь, конечно. Ведь именно из-за этой деятельности, как я понимаю, ты сидишь безвылазно в четырех стенах, а я не могу попасть в свою квартиру.
— Ах, Олюня, меня Шурик уже достал этим вопросом, — стряхнув пепел прямо в чайное блюдечко, сказала Светка. — Вспомни, говорит, напрягись, ты наверняка что-то забыла, может, всплывет.
— Ну, и ты что-нибудь вспомнила? — спросила Ольга.
— Да ничего я не помню, — раздосадованно ответила та. — Я их разговорами с Николашей не интересовалась, не прислушивалась даже, когда они при мне говорили, но тихо.
Выяснилось, что Светка знала немногим больше Ольги о деятельности фирмы Ираклия, а именно — что занималась фирма продажей и покупкой квартир через каких-то подставных лиц, то есть якобы путем обмена, который на поверку оказывался фиктивным. Валюту, как сейчас понимала Светка, они гребли лопатой, и вряд ли это были честно заработанные, или, как любил повторять Ираклий, «кровные», деньги. Но Шурик считал, что из-за денег, какими бы большими те ни были, режиссер вряд ли стал бы так упорно гоняться за Ираклием, не останавливаясь ни перед чем и сметая все на своем пути.
— Да он за то время, что тратит на поиски Ираклия, настрогал бы этих денег сколько душе угодно, — объяснял он Светке, неотступно требуя вспомнить хоть какие-нибудь обрывки разговоров на хуторе или в доме Георгия Ивановича. — Не-ет, тут другое… скорее, какие-то документы замешаны или что-то сверхценное.
На вопрос, что он разумеет под «сверхценным», Шурик долго чесал в затылке, кряхтел, потом закурил и неуверенно произнес:
— Ну, не знаю… например, бриллиант какой-то редчайший… или что-нибудь в том же духе.
Светка отчаянно напрягалась, но даже случайных намеков Ираклия на какие-нибудь документы или камни вспомнить не могла.
— Что же нам теперь, горемыкам, делать? — опечалилась Ольга.
Светкина жизнерадостность тоже как-то поблекла, она виновато смотрела на подругу, сознавая, что кашу заварила сама, а расхлебывать приходится не только матери, но и друзьям.
— Скоро Шурик должен приехать, он вчера звонил, — сказала она, чтобы хоть как-то ободрить подругу. — Шурик наверняка что-нибудь придумает, вот увидишь.
— Да, Свет, ты хотела рассказать, почему Кира Петровна согласилась ехать с ним, — напомнила Ольга.
— О, это грандиозно! — оживилась та. — Наконец-то мою маман зацепило и проняло, и она стала не понимать, нет, до этого еще не дошло, а просто догадываться, в какое время и в какой стране живет.
Светка рассказала захватывающую историю, случившуюся с лучшей подругой Киры Петровны, той самой, чей телефон она оставляла Ольге. Вернее, даже не с самой подругой, а с ее пятилетним внуком. Дело в том, что зять подруги не так давно занялся бизнесом, и благосостояние семьи стало расти и пухнуть, на зависть всем соседям по дому. Появилась дорогая мебель, японская видеотехника, иностранная машина, жена с тещей расхаживали в шубах из натурального меха, а сам зять — в модной обливной дубленке. Когда же он купил участок за городом и собрался строить дачу, тут и случилось непредвиденное: ребенка похитили. Похитители потребовали по телефону солидный куш и в милицию обращаться не советовали. Но за сутки эта тревожная весть облетела полгорода, и милиция невольно оказалась в курсе, однако помочь ничем не смогла. За эти сутки жена с тещей успели не только за полцены спустить свои шубы, но и возненавидеть всей душой бизнес мужа и зятя, а заодно и его самого, так как именно в нем видели причину своего несчастья.
— Носила я всю жизнь одно платье, а дочь — искусственную шубу, и ничего, — устав от слез, с горечью говорила теща своей подруге, — и спокойно жили, дружно. Тогда в голову никому бы не пришло умыкать ребенка, взять с нас нечего было.
Похитители куражились по телефону, угрожали, повышали цену и наконец придумали такую головокружительную комбинацию передачи выкупа и возврата ребенка, что милиция только руками развела, узнав, что малыш уже в лоне семьи.
Ребенок считал, что просто побывал в гостях у доброго дяди, потому что родители были заняты и не смогли забрать его из сада, а вернувшись домой, действительно обнаружил подтверждение их сильной занятости накануне: мебель из квартиры исчезла, исчез и видик со всеми кассетами, а на улице соседский Вовка, стоя у их гаража и никого близко не подпуская, кричал, что это теперь его гараж и машина в гараже принадлежит теперь его отцу.
Кира Петровна была потрясена до глубины души, во-первых, самим фактом похищения ребенка, причем не вычитанным из газет, которым она не доверяла, а случившимся у нее под носом, и, во-вторых, конечно, беспомощностью милиции, в силу и зоркость которой всегда свято верила.
Поэтому, услышав на переговорном пункте взволнованный голос дочери, умолявшей ее срочно выехать в Москву, Кира Петровна, под впечатлением от этого происшествия, очень испугалась. Когда же Светка сказала, что живет по другому адресу и встретить ее не сможет, потому что из дома выходить опасается, она, не теряя времени на расспросы, бросилась собирать чемодан. Соседям, по совету дочери, сообщила, что уезжает в Евпаторию по горящей путевке, и помчалась на вокзал с такой скоростью, будто горела не путевка, а земля у нее под ногами.
В поезде уснуть она не могла, в голову непрерывно лезли самые ужасные мысли и догадки. То ей казалось, что дочь тоже похитили и заставили позвонить в Курск, но, вспомнив, что рассчитывать на какой-либо выкуп похитители не имели оснований, она ненадолго успокаивалась, однако вскоре вздрагивала от предположения, что дочь, должно быть, преследует какой-то сексуальный маньяк, поэтому та вынуждена скрываться и боится выходить из дома. Ей представлялась то банда наркоманов и мошенников, то сборище фальшивомонетчиков и проституток и что дочь каким-то образом попала к ним в лапы и просит ее помощи.
Прибыв наутро в Москву и разыскав дом Шурика, Кира Петровна была приятно удивлена, что дочь ее находится не в компании каких-нибудь сомнительных личностей, как она боялась, а живет бок о бок с симпатичными и добрыми людьми. Хотя то, что Светка вкратце рассказала об Ираклии и режиссере, и напоминало ей собственные ночные фантазии, но тот факт, что дочь непричастна ни к каким авантюрам и попала в эту ситуацию случайно, по собственной глупости и легкомыслию, несколько успокоил ее, ибо легкомыслие Кира Петровна пороком не считала.
И вообще, после того, как она стала свидетелем торжества беззакония, все смешалось у нее в голове, четкая когда-то грань между добром и злом затуманилась, и ее уже не интересовал, например, вопрос поимки и выдачи правосудию опасных преступников, какими являлись режиссер и его банда, и не приходило в голову советовать дочери обратиться за помощью в милицию. Она, правда с прискорбием, склонялась к выводу, что если и можно на что-то рассчитывать в данной ситуации, то лишь на свой здравый смысл и поддержку Шурика и тети Дуси.
Шурик сразу вызвал в ней симпатию и полное доверие, да и материнское сердце подсказывало, что именно такого человека Кире Петровне хотелось бы видеть своим зятем. Шурику и Светке не пришлось долго убеждать ее в необходимости уехать в деревеньку под Архангельском; к их удивлению и радости, она легко согласилась и не стала даже распаковывать чемодан, только поставила дочери условие ехать вместе с ней. Та резонно возразила, что не может бросить подругу на произвол судьбы и хотя бы какое-то время должна быть в курсе развивающихся событий, но поклялась, что будет соблюдать осторожность и не сделает из квартиры ни шагу.
Решили, что Светка приедет попозже, когда хоть что-то прояснится и, даст Бог, режиссер, поняв, что этот канал в поисках Ираклия для него закрыт, оставит их наконец в покое.
— Ну ладно, — вздохнула Кира Петровна, — значит, примерно через неделю я тебя жду.
Почему она определила именно этот срок для осознания режиссером безнадежности канала в лице Светки, было не ясно, скорее всего, просто оттого, что понимала: больше чем неделю ей не выдержать в томительном беспокойстве за жизнь дочери.
Послышалось хлопанье входной двери.
— А вот и Сашок! — раздался из прихожей радостный голос тети Дуси. — А у нас гости, подруга к Светику приехала. Я щас, щас обед разогрею, — захлопотала она и бодро зашаркала на кухню.
На пороге комнаты возник Шурик. С печальным, даже трагическим выражением лица посмотрел он на подруг и воскликнул:
— Я так и знал! Так и предчувствовал, что случится что-то в этом духе!
— Ты о чем, Шурик? — забеспокоилась Светка. — С мамой что-нибудь?
— Нет-нет, с Кирой Петровной все в порядке, доставили в целости и сохранности, — быстро проговорил он. — Я имею в виду другие события… так сказать, в масштабе страны…
Шурик устало присел на диван, здоровой рукой достал пачку сигарет, закурил и спросил, обращаясь к Ольге:
— Ты уже была там?
— Да.
— И что там происходит? — продолжал интересоваться Шурик. — О чем говорят?
— Ну, как тебе сказать… — замялась Ольга. — Вроде ничего не происходит. Народу очень много, стоят, обсуждают, возмущаются… Будто ожидают чего-то страшного… Слухи всякие…
Она рассказала о группе захвата «Альфа», о танках, направленных якобы на разгром защитников, и о нервно-паралитическом газе, который, по слухам, должен был превратить всех сторонников демократии, собравшихся у здания, в послушных зомби.
— Иди, Сашок, обедать! — закричала с кухни тетя Дуся. — Руки мой!
— Вернее сказать — руку, — уточнил Шурик, посмотрев на свою левую конечность, неподвижно покоившуюся в черном чехле, который из соображений, чтобы не пачкались бинты, смастерила ему заботливая тетя Дуся.
— Что ж ты сразу не сказала ему про квартиру? — набросилась Светка на подругу, как только Шурик вышел из комнаты.
— Пусть поест сначала, — отозвалась та. — Он так нервничает, что все равно ничего не сообразит, пока не подкрепится.
Пообедав, Шурик приободрился и, вбежав в комнату, решительно заявил:
— Я немедленно еду туда! Я не могу стоять в стороне, когда творится такое!
— Светлана, окороти его, не пускай! — завопила ворвавшаяся следом за ним тетя Дуся. — Ему, дураку, там вторую руку сломают! Борька во дворе рассказывал, народу, говорит, там страсть сколько, и все подходют, все подходют…
— Я должен видеть все своими глазами! — не унимался тот.
— Шурик, тетя Дуся права, — сказала Ольга. — Все равно ничем помочь ты не сможешь, в дружину тебя с одной рукой не возьмут…
— Конечно, только гипс в давке сломают, — поддержала Светка. — Ты что, не понимаешь, что такое толпа? Даже если она собралась для благих целей? Вспомни Ходынку!
Однако никакие резоны и уговоры на Шурика не действовали, он был непреклонен и твердо стоял на своем.
— Ну вот что, Шурик, — исчерпав все терпение, сказала наконец Светка, — ты, конечно, можешь поступать как тебе заблагорассудится, но я не намерена поджидать тут очередного звонка из больницы, куда тебя снова госпитализируют. Предупреждаю, как только ты уедешь, я сразу же отправлюсь вслед, я… мне тоже интересно увидеть все своими глазами. И учти, — как-то зловеще добавила она, — тетя Дуся меня не удержит.
При этом Светка, незаметно от Шурика, заговорщически подмигнула тете Дусе, и та с готовностью вступила в игру.
— Так что ж я, Сашок, драться с ней буду, что ли? — Она всплеснула руками, довольно натурально изобразив свою немощь и отчаяние. — Уйдет, как пить дать уйдет!
Шурик растерянно переводил взгляд с тети Дуси на Светку, стараясь понять, насколько серьезна их угроза, и всеми силами надеясь, что это просто не очень удачная шутка. Тетя Дуся стояла перед ним, скорбно поджав губы и покачивая головой, словно заранее обвиняла его в Светкиной погибели. В Светкином же облике детская невинность непостижимым образом сочеталась с твердостью и решительностью, свидетельствуя о том, что эта женщина способна на все, не говоря уж о такой малости, как побег из дома.
— Та-ак… — медленно протянул Шурик и полез в карман за сигаретами. — Шантаж, значит?
Он закурил, сел на диван и, печально опустив голову, затих. Подавленный вид Шурика вызывал сочувствие, но, помня, что речь идет о его же здоровье, ни Светка, ни тетя Дуся угрызениями совести особо не мучились, хоть и понимали, что прибегли к недозволенному приему, воспользовавшись трепетным отношением Шурика, для которого основной заботой сейчас являлась Светкина безопасность.
Тетя Дуся, изображая немой укор, застыла на пороге. Она вошла в эту роль крепко и основательно, и складывалось впечатление, что она не двинется с места, пока не убедится, что Сашок оставил свое намерение бегать по баррикадам. Ольга поняла, что затевать сейчас разговор о квартире крайне неуместно, и, ощутив какую-то неловкость, засобиралась в Александровку.
— Проводи меня до метро, — обратилась она к Шурику. — Мне надо сказать тебе что-то очень важное.
— Не уезжай, Олюнь! — бросилась к ней Светка. — Ты же ведь предупредила своих, что, может, в Москве останешься… У тети Дуси раскладушку возьмем…
Ей явно не хотелось отпускать подругу, казалось, они не виделись уже целую вечность и сегодня, проговорив всего-то часа два, не успели сказать друг другу и сотой доли того, что накопилось. Светка заранее предвкушала, как поздним вечером, когда Шурик и тетя Дуся улягутся спать, они с Ольгой, оставшись вдвоем на кухне, смогут наконец наговориться, что называется, от всей души, спокойно, вдумчиво и никуда не торопясь, как это бывало раньше, когда беседы их в сокольнической квартире затягивались порой до рассвета.
Основной вопрос, который волновал Светку в последнее время, касался ее взаимоотношений с Шуриком. Фрейд, как выяснилось, в данном случае оказался плохим помощником, поэтому ей не терпелось обсудить это с подругой во всех тонкостях и деталях, поделиться с ней своими сомнениями и догадками.
Светка, конечно, понимала, что та ситуация с Ираклием, в которой все они оказались, должно быть, намного важнее ее личных переживаний, но ситуация эта давно была уже со всех сторон обговорена и требовала от нее не душевного напряжения и размышлений, а лишь терпения и осторожности. Поэтому все силы души, все помыслы Светки, томящейся взаперти, направлены были сейчас на Шурика — единственный реальный, живой объект ее нынешней жизни. С чувствами этого «объекта» в Светкин адрес все было ясно и определенно, сомнения же (но при этом какие-то странные, подозрительные сомнения) гнездились в ней самой и, не поддавшиеся анализу, невысказанные, грозили разрушить идиллию в воздушном двухкомнатном замке, зорко охраняемом тетей Дусей.
Светка знала, что только Ольге может доверить свои самые тайные и самые сокровенные мысли, и ей тяжело было смириться с тем, что подруга сейчас уедет и она снова останется один на один со своими опасениями и колебаниями.
За окном заметно потемнело, где-то вдалеке послышалось глухое, утробное ворчание грома.
— Действительно, — очнулся вдруг Шурик, — ну куда ты сейчас поедешь? Того и гляди дождь начнется…
Дождь… Летом в дождливую погоду Ольга любила сидеть в своей квартире возле открытой балконной двери и наблюдать, как упругие струйки весело резвятся по перилам, пускаясь в озорной перепляс на тумбочке, в которой хранились пустые банки из-под дядипашиного варенья. А в закрытое кухонное окно дождь стучал рассыпчато и настойчиво, словно требуя впустить его, и, недовольный поставленной преградой, переходил порой на яростную барабанную дробь.
При воспоминании о своем родном жилище, к которому она, при сложившихся обстоятельствах, даже близко боится подойти, и при мысли о возможности провести ночь в чужом доме, на чужой раскладушке сиротливое чувство бездомности и неприкаянности охватило вдруг Ольгу, какой-то колючий, противный комок подкатил к горлу, и она нервно сглотнула.
— Подумаешь, дождь! У меня зонтик есть…
В результате многолетней дружбы Светка научилась без слов понимать настроение подруги и, зная ее характер, ясно почувствовала, что все уговоры бесполезны.
— Ну что ж, Олюнь, — огорченно вздохнула она, — надеюсь, ты не будешь сидеть в Александровке безвылазно все две недели?
— Да-да, конечно, — забормотала Ольга, обнимая подругу, — денька через три… через два… снова…
— Ты про квартиру-то Шурику обязательно скажи, — шепнула ей на прощание Светка и, повернувшись в сторону дивана, громко заявила: — Значит, так, Шурик, жду тебя ровно полчаса и выхожу. Не вздумай сбежать!
Тот укоризненно посмотрел на нее и, обреченно вздыхая, поплелся за Ольгой.
По дороге к метро, на ходу, Ольга рассказала Шурику о посещении ее квартиры неизвестными, которые, скорее всего, рассчитывали застать не только хозяйку, но и скрывавшуюся, возможно, у нее подругу. Однако уйти им пришлось не солоно хлебавши, ибо Ольга, следуя указаниям Шурика, не оставила в квартире не только адресов и телефонов своих знакомых, но даже ни одной фотографии.
— Молодец! — похвалил он. — Действовала правильно. — И замолчал, так как мысли его были заняты сейчас другими проблемами.
— Но как же мне быть, Шурик? — в отчаянии воскликнула Ольга. — Мне страшно даже к дому подойти.
— Ничего, — успокоил он, — поживешь пока в Александровке, у тебя еще две недели впереди.
— Думаешь, за две недели что-то прояснится? — спросила она с сомнением.
— Уверен, что даже раньше, — твердо произнес Шурик, и Ольга почувствовала, что это не голословное заявление, что он явно руководствовался какими-то соображениями, которыми не хотел пока делиться с ней.
До метро оставалось всего метров двести, когда что-то вверху треснуло, разорвалось, громыхнуло над самыми головами, и неожиданно, без всякого предупреждения, хлынул вдруг такой ливень, будто кто-то невидимый принялся поливать землю мощной струей из брандспойта невероятного диаметра. Со всех сторон раздались вскрики, повизгивание, и застигнутые врасплох люди во всю прыть устремились в сторону метро.
Ольга, едва поспевая, бежала за Шуриком и, беспокоясь, как бы не размок гипс, старалась держать раскрытый зонт над его левой рукой в черном чехле.
При входе на станцию метро, между огромными колоннами, поддерживавшими спасительный навес, скопилось много людей: были здесь и пострадавшие, загнанные сюда чудовищным небесным брандспойтом, и успевшие за минуту-другую вымокнуть до нитки, были и благополучные счастливцы, вышедшие из недр метрополитена сухими и невредимыми и с недоумением взиравшие на неожиданное препятствие, которое возникло на их пути. Никто не решался выйти из-под навеса; даже оснащенные зонтиками и плащами, и те выжидали, растерянно переминаясь с ноги на ногу.
— Оля, тебе надо вернуться, — заявил Шурик, как только они оказались возле входа в метро, — ты посмотри на себя, ну куда ты в таком виде поедешь? Ты же простудишься!
Ольга действительно чувствовала себя очень неуютно, ей было зябко в промокшем насквозь плаще, вода холодными струйками стекала с волос за шиворот, непослушные зубы то и дело принимались выбивать чечетку.
Вдруг дождь, зарядивший, казалось, надолго, прекратился так же резко и неожиданно, как и начался.
— Ну все, — обрадовался Шурик и потянул Ольгу за руку, — можно идти. Пойдем!
Она высвободила свою руку и отчаянно помотала головой.
— Нет, Шурик, я в Александровку!
Он с удивлением посмотрел на Ольгу: она улыбалась как-то виновато, даже беспомощно, но глаза горели такой твердой, даже слегка истерической решимостью, что Шурик сразу понял бессмысленность дальнейших уговоров, сник и поскучнел. «Олюня — упрямица, каких свет не видывал, — вспомнились ему слова Светки, — если что надумает — все, с места ее не сдвинешь, скалой стоит».
— Знаешь что? — Шурик вдруг оживился от внезапно осенившей его мысли. — Давай компромисс. Ты поедешь, ладно, но на машине. Я ловлю машину, договариваюсь с водителем, он довозит тебя до Пушкино, не так уж это и далеко. Лады? — Заметив Ольгины колебания, добавил: — О финансах не беспокойся, я тут на днях за одну программу кучу денег отхватил… Так я иду? — И, не дожидаясь ее согласия, Шурик выскочил из-под навеса и помчался к проезжей части.
Ольга пошла следом за ним. Мысль доехать до Пушкино в теплой машине, а не трястись в мокром плаще на электричке с выбитыми окнами показалась ей настолько заманчивой, что она почувствовала, как трудно ей отказаться от предложенного Шуриком комфорта.
Стоя на краю тротуара, она наблюдала, как метрах в десяти от нее он останавливает одну машину за другой, что-то говорит водителю, размахивая при этом здоровой рукой, потом дверца захлопывается и машина продолжает свой путь.
Внезапно Ольга услышала резкий звук тормозов, красные «жигули», проехав мимо, остановились и, посигналив, попятились назад. Непроизвольно оглянувшись, она увидела серые улыбающиеся глаза и светлую бороду выходящего из машины человека. Человека, которого не надеялась уже встретить и которого ей хотелось увидеть больше всего на свете. Улыбка озаряла его лицо, и Ольге показалось, что оно светится и плывет навстречу ей сквозь влажную пелену наступающих сумерек.
— Кирилл! Вы?! — радостно воскликнула она.
— Я вас в последний момент заметил, — продолжая улыбаться, сказал Кирилл. — А как Павел Сергеевич? Уже дома?
— Да, его выписали, он в Александровке сейчас, — проговорила Ольга, все еще не веря своим глазам и боясь, что Кирилл вдруг растает, как мираж в серебристом туманном воздухе.
Шурик, увидев, что она беседует с водителем красных «жигулей», подскочил к ним и с ходу включился в разговор:
— Не обидим, друг, оплата в два конца! Ну как? Договорились? — И, заметив недоуменный взгляд Кирилла, поспешил добавить: — Ну ладно, в три. Идет?
Ольга звонко расхохоталась.
— Познакомься, Шурик, это Кирилл, — весело произнесла она, и глаза ее заблестели какой-то особенной теплотой.
Шурик растерялся и озадаченно уставился на Ольгиного знакомца.
— Он вместе с дядей Пашей в больнице лежал, — пояснила Ольга, — он летчик… то есть нет, штурман… А это Шурик, — обращаясь к Кириллу, сказала она и тут же поправилась: — то есть Александр… Программист высшего класса и неисправимый походник.
Шурик смущенно пожал протянутую руку.
— Вообще-то тут стоянка запрещена, — напомнил он Кириллу, — так что…
— А поехали ко мне на Кутузовский? — предложил вдруг Кирилл. — Минут за двадцать домчимся. А?.. А то, я смотрю, вы оба совсем промокли.
— Нет-нет, спасибо, — сразу запротестовал Шурик. — Я тут рядом живу… мне домой надо… там волнуются…
— А вы? — обратился Кирилл к Ольге. — Может, поедете? Обсохнете хотя бы. А потом я вас домой отвезу.
У Ольги перехватило дыхание.
— Я… — растерянно выдавила она, не в силах проговорить больше ни слова.
— Вот и отлично! — обрадовался Кирилл, истолковав ее реакцию как согласие. — Садитесь в машину.
Шурик, тронув Ольгу за локоть, отвел ее на шаг в сторону и тихо спросил:
— Постой, Оля, а Светлане-то что передать? Ты ночевать приедешь? Или все-таки в Александровку собираешься?
— Я позвоню, — загадочно улыбнувшись, коротко ответила она.
— Обязательно позвони, — озабоченно проговорил тот, — а то Света волноваться будет, я ее знаю… И вот что… не езди сегодня в Александровку, поздно уже… Если что — к нам приезжай, ладно? Ну все, пока! — Шурик махнул правой рукой, повернулся и быстро зашагал к телефону-автомату, чтобы сообщить Светке, что жив-здоров, по баррикадам не бегает и минут через десять будет дома.
* * *
«Жигули» мчались по Садовому кольцу, ловко и мягко тормозя перед красным глазом светофора. Кирилл сказал, что утром был у Белого дома, а сейчас ездил забирать машину из ремонта.
— У меня знакомый один в «Автосервисе» работает, — пояснил он, — возле Минаевского рынка.
— Неужели мама спокойно отпустила вас? — удивилась Ольга, вспомнив слова дяди Паши о том, что Кирилл живет после гибели жены вдвоем с матерью, которая, судя по всему, до сих пор считает его ребенком и опекает, как малое дитя. — Вам ведь, наверное, еще лежать надо…
— Да я и так уж залежался… — улыбнулся тот.
И сказал, что мать уехала позавчера в Киев на похороны своей сестры, и если бы не это печальное обстоятельство, ему вряд ли удалось побывать на Краснопресненской набережной да и вообще выйти из дома без сцен и скандалов.
— Хотя защитник и боец из меня сейчас, прямо скажем, никакой, — добавил он, — но вот потолкался среди людей, пообщался… знаете, иногда просто необходимо увидеть и осознать, что есть у нас настоящие люди, неравнодушные, и их немало… А то порой закрадывается мысль, что всем все равно, на все наплевать, а в итоге-то — на себя наплевать… В жизни ведь все взаимосвязано… — Он задумчиво покачал головой и рассмеялся: — Что-то я расфилософствовался… опять занесло… Ну вот мы и прибыли.
Въехав во двор большого, солидного дома из серого камня, Кирилл припарковал машину. Они вошли в чистый просторный подъезд и поднялись на лифте на четвертый этаж.
Когда Кирилл открывал дверь, послышались прерывистые трели телефонного звонка.
— Это мама! — воскликнул он, стремительно ворвался в квартиру и схватил трубку.
— Алло!.. Да, мама, это я, кто же еще?.. Нет, не бежал, из ванны выскочил… Да никуда я не ходил, успокойся, говорю тебе, в ванной был, не слышал звонка… Нет-нет, тут все нормально, никто не стреляет… Ну какие еще танки, все вранье… Но ты все-таки побудь там еще пару деньков на всякий случай… Что? На девять дней? Конечно, оставайся. Не волнуйся, Борис мне все привезет, что надо… Ну все, целую, всем привет… то есть я хотел сказать, соболезнования… — Кирилл положил трубку. — Уфф! — отдуваясь, проговорил он и вытер повлажневший лоб. — Тридцать пять лет скоро, а врать так и не научился…
— Напрасно вы так думаете, — улыбнулась Ольга. — У вас очень мило получается… так достоверно…
— Да, но чего мне это стоит! — с шутливым пафосом произнес Кирилл и сразу же захлопотал: — Ну, давайте скорее раздевайтесь, а то простудитесь. Знаете что? Предлагаю вам вообще все снять.
Заметив Ольгин растерянный и недоумевающий взгляд, он от души расхохотался и вдруг, побледнев, схватился за правый бок.
— Что с вами? — встревожилась Ольга. — Болит? Вам надо прилечь.
— Ничего-ничего, сейчас пройдет, — скривившись от боли, проговорил Кирилл. Затем слабо улыбнулся и пояснил: — Как видите, бурные эмоции мне пока противопоказаны… — Он прошел в комнату и сел в кресло, жестом предложив Ольге расположиться напротив. — Я понимаю, мое предложение раздеться прозвучало несколько двусмысленно… — С трудом подавив снова готовый вырваться смех, Кирилл продолжал: — Но, поверьте, я ничего такого не имел в виду… Просто считаю, вам надо принять горячий душ и закутаться во что-то теплое и сухое… Пойдемте покажу, где у нас ванная. — Он попытался встать.
— Сидите, ради Бога! — остановила его Ольга. — А еще лучше — прилягте. Я сама все найду.
Кирилл прилег на диван и оттуда, как командир по рации, руководил ее действиями.
— Возьмите голубое полотенце, оно чистое! — кричал он. — Халат — полосатый, мой, он теплый! И обязательно — шерстяные носки, в тумбочке в прихожей! Шампунь — в зеркальном шкафчике, справа, как войдете!
Закончив приготовления и раздевшись, Ольга с наслаждением встала под горячие, обжигающие струи воды, постепенно согреваясь и приходя в себя от неожиданной встречи. Как удивительно все совпало! Надо же такому случиться, что она оказалась именно у Новослободской и именно в то время, когда там проезжал Кирилл! Но больше всего поражало, что среди такого количества людей он на полном ходу сумел заметить ее. Чудеса, да и только! Словно сама судьба подтолкнула их навстречу друг другу…
Когда Ольга, закутавшись в толстый махровый халат Кирилла, вышла из ванной, хозяин уже хлопотал на кухне, готовя ужин.
— Как вы? — спросила она. — Полегчало?
— Все отлично, — ответил Кирилл, весело посмотрев на нее. — Только прошу вас не рассказывать мне смешных историй, — шутливо предупредил он, — видите, что получается, смеяться по-человечески пока еще нельзя, сразу возникает ощущение, что шов вот-вот расползется.
— А я смешных историй и не знаю, — усмехнулась Ольга, — я только страшные знаю. Такие можно?
— Страшные можно, — согласился Кирилл.
Он проворно сновал по кухне, то доставая продукты из холодильника, то помешивая что-то в кастрюльке на плите. Наконец все было готово, он усадил Ольгу за стол, сам сел напротив и налил по рюмкам водки, настоянной на лимонных корках. Заметив Ольгин протестующий жест, строго заявил:
— В данном случае это не алкоголь, а лекарство… от возможной простуды. А за нашу встречу будем пить глинтвейн, я попозже приготовлю.
Ольга послушно выпила и, сморщившись, понюхала поднесенный Кириллом кусок черного хлеба. Однако она не почувствовала ни легкого опьянения, ни разлившегося внутри тепла. Более того, в следующее же мгновение она увидела вдруг все происходящее в таком беспощадно ярком свете, что невольно прикрыла глаза, как бы зажмуриваясь от слепящей лампы в несколько сот свечей. Она увидела себя со стороны, как сидит она на кухне с малознакомым человеком, в дурацком полосатом халате, с голыми ногами, и воображает, что именно его-то она мечтала встретить чуть ли не всю свою жизнь. Этот человек со светлой бородой, сидящий напротив и аппетитно жующий, внезапно показался ей чужим и ненужным, а сама она — нелепой и жалкой, и Ольга не понимала уже, какой морок нашел на нее там, возле метро, что она так легко рассталась с Шуриком, с другом, которого давно и хорошо знает, который в последнее время вообще стал ей как брат, и потащилась в этот незнакомый дом… зачем? для чего? Боже мой, Боже мой… В Александровку действительно уже поздно. Надо срочно одеваться и ехать к Светке и Шурику. Она выскочила из-за стола и бросилась в ванную.
— Ольга, что случилось? — На пороге ванной с растерянным и удивленным видом стоял Кирилл. — Я вас чем-то обидел?
— Нет-нет, Кирилл, — быстро проговорила она, — все в порядке. Просто мне, понимаете… я вспомнила вдруг… надо срочно ехать… необходимо… — бормотала Ольга, лихорадочно собирая повешенную сушиться одежду.
— Вот как… — расстроился он, — а я думал…
— Где же плащ? — Не слушая его, она продолжала метаться по ванной. — Я его повесила здесь… да… к батарее…
Ольга повернулась спиной к Кириллу и внезапно почувствовала, как его сильные руки обняли ее и крепко прижали к себе. Борода щекотала ей шею и ухо, дыхание его было прерывистым и взволнованным.
— Не уходи! — почудилось ей в его вздохе.
И столько мольбы, столько боли было в этом, что она словно обмякла вдруг в его руках, ноги стали ватными, сердце сладко заныло, и запоздавшее тепло разлилось в груди в слабом предчувствии какой-то небывалой радости и счастья.
Несмотря на странные, причудливые обстоятельства ее теперешней жизни и даже как бы вопреки им, эта неожиданная встреча и эти объятия часто в последнее время виделись Ольге в ее грезах и снах.
Кирилл развернул ее лицом к себе, и взгляд его серо-голубых глаз, которые столько раз снились ей веселыми и смеющимися, пронзил ее своей печалью и какой-то безысходностью.
Чувство жалости к нему и почему-то к себе, желание успокоить его, избавить от этой боли и тоски захлестнуло ее, она прижалась к Кириллу всем телом и хотела сказать ему, объяснить это свое желание, но вместо того, не в силах сдержаться, неожиданно разрыдалась у него на груди.
Пять минут спустя они сидели в комнате на диване, Ольга, уткнувшись в плечо Кирилла, продолжала время от времени всхлипывать, он же, одной рукой обняв ее, а другой ласково гладя по волосам, тихо рассказывал, как мечтал вновь встретиться с ней и даже, в отчаянии от того, что не догадался спросить номер ее телефона, решил на днях поехать в Сокольники. Местоположение Ольгиного дома он помнил довольно смутно, поэтому понимал, что таким образом ему вряд ли удастся выяснить нужный адрес, ведь он не знал даже ее фамилии. Поэтому вторым шагом на пути его поисков должна была стать Александровка, где ему наверняка указали бы дом Павла Сергеевича, так как тот сам рассказывал Кириллу, что не одно поколение Беркальцевых прожило в Александровке именно в этом доме, который неоднократно перестраивался, достраивался, один раз даже горел и выстраивался заново, но упорно, как птица Феникс, возникал на том же самом месте.
И вот теперь, когда Кирилл обдумал свой план поисков Ольги по этапам, — эта случайная встреча! Он думал, что такое бывает только в сказках и в кино.
— Но даже если бы мы не встретились сегодня, — добавил он, крепче прижимая ее к себе, — я все равно нашел бы тебя!
Слезы еще продолжали тихо катиться по ее щекам, но то были слезы радости и умиления. А она-то хотела уйти, сбежать, показавшись вдруг в собственных глазах нелепой и смешной со своими мечтами и мыслями о Кирилле. Она так часто видела его во сне, а засыпая, перебирала в памяти мельчайшие подробности их краткого знакомства, что, оказавшись лицом к лицу с предметом своих снов и грез, испугалась реальности, которая, как ей представилось, заключалась в том, что Кирилл, конечно же, и думать забыл о ней и пригласил к себе просто из вежливости, в силу своего доброжелательного и гостеприимного нрава, а уж она возомнила Бог знает что…
Теперь же, узнав, что он думал о ней все эти дни не переставая и даже собирался пуститься на поиски, Ольга почувствовала, что душа наполняется тихим светом, радостным согласием с собой и со всем миром, как это случилось недавно в саду в Александровке. Недавно ли? Ей казалось, что целая жизнь прошла с того мига, что на самом деле встреча их с Кириллом не была случайностью и сейчас она стояла на пороге чего-то нового, неизведанного, предназначенного ей свыше.
Растратив много душевных сил за годы общения с Вадимом и Игорем, испытав унижение и предательство, Ольга считала, что никогда уже не сможет искренне полюбить кого-то, и с горечью отмечала, что все мужчины постепенно превращаются для нее в «товарищей по работе», а с годами она и сама, наверное, станет для них «средним родом». Смутная надежда на то, что еще не все потеряно, что душа ее не совсем иссохла и заледенела, забрезжила было при знакомстве с Кириллом; но надежда эта увяла, не успев окрепнуть, при одном только слове «жена», произнесенном им с тихой грустью. Истинное же положение дел также не давало Ольге оснований надеяться на встречу, но мысли и мечты о Кирилле против воли захватили ее, образ этого мужественного, милого, доброго человека часто вставал перед глазами, его светло-каштановая борода и ясная улыбка снились ей по ночам.
Ольга протянула руку и нежно провела ладонью по шелковистой бороде, затем подняла голову и встретила взгляд серых ласковых глаз, прямой и открытый. «Эти глаза, наверное, не умеют лгать», — подумала она.
Ей почему-то вспомнился бездонный, сверкающий счастьем взгляд Игоря, и она вздрогнула от этого воспоминания. Темное сияние его глаз всегда притягивало, волновало ее, что-то тревожное, непонятное и опасное таилось в нем. Этот черный огонь околдовывал, завораживал ее, она не могла противостоять его загадочной силе, и, понимая, что связь их, по словам Светки, не имеет будущего, в то время как годы уходят, Ольга в глубине души знала, что не сможет расстаться с Игорем по своей собственной воле.
Сейчас она вдруг почувствовала, что не женитьба Игоря явилась причиной их расставания, что связь их разорвана волею судьбы, которая, судя по всему, решила приготовить ей неожиданный подарок. Судьба представилась в виде волшебницы-крестной из «Золушки», в воздушном, блестящем платье и с хрустальной палочкой в руке. Ольга тихо засмеялась и теснее прижалась к Кириллу.
— Ты обещала рассказать мне страшную историю, — шутя напомнил он.
— Боюсь, моя история слишком страшная, — посерьезнев, откликнулась она.
— Тем более расскажи, — почувствовав ее тон, встревожился Кирилл. — Может, я чем-нибудь смогу помочь.
И Ольга рассказала ему все: и про влюбчивую подругу, и про Ираклия с Николашей, и про свой визит в дом Георгия Ивановича, и про то, что люди режиссера до сих пор преследуют их и не оставляют в покое, хотя Ираклий уехал, и, конечно же, про героическую роль Шурика во всей этой истории.
— Не представляю, что бы мы без него делали, — вздохнула она. — Наверное, нас давно бы уже изловили и…
Кирилл слушал очень внимательно, не перебивал и все больше мрачнел с каждой новой подробностью.
— Так что теперь Светка с Кирой Петровной поменяли местожительство, а я вообще бездомная, — невесело усмехнулась Ольга, закончив рассказ о своих злоключениях.
Несколько минут Кирилл молча сидел, размышляя над услышанным.
— Вот так дела… — наконец пробормотал он и, как бы стряхивая с себя задумчивость, бодро произнес: — Ну ничего, что-нибудь придумаем. — Затем встал с дивана и протянул Ольге руку: — Пойдем все-таки поедим что-нибудь. Я сейчас разогрею.
Видимо, от волнения, которое ей заново пришлось пережить при детальном воспроизведении событий последней недели, Ольга почувствовала, что очень проголодалась. Все оказалось настолько вкусным, что она удивилась кулинарным способностям Кирилла.
— Да нет, это мама, — улыбнулся он. — Она у меня по части стряпни большая мастерица. Наготовила на неделю, мне остается только разогревать и поглощать.
Потом Кирилл принялся варить обещанный глинтвейн, а Ольга пошла в комнату звонить Светке. По первым же словам подруги она поняла, что та сгорала от нетерпения выяснить, кто такой Кирилл, когда и где Ольга с ним познакомилась, на какой стадии их отношения и, главное, почему она, Светка, ничего о нем не знает. На этот град вопросов Ольга ответила только, что расскажет все при личной встрече, заедет, возможно, дня через два-три.
— Ну и скрытная же ты, Олюня, — с укором проговорила Светка. — Это надо же, своей лучшей подруге — и ни звука, ни намека…
— Ладно, не тебе бы говорить… — остудила ее обвинительный пафос Ольга. — По крайней мере если бы я собралась на три месяца на хутор, обязательно тебе сообщила бы.
С одной стороны, Светка успокоилась, поняв, что подруга не собирается тащиться в дождь и на ночь глядя на дачу, с другой же — была явно раздосадована тем, что не может удовлетворить свое любопытство сейчас же, а вынуждена ждать долгих два-три дня. Она мучилась в догадках и донимала Шурика расспросами о внешности Кирилла. Шурик же, удивляясь Светкиному интересу, упорно твердил только одно, что, кажется, тот был с бородой, а может, и нет, и сердито добавлял, что, в конце концов, ходил к метро вовсе не для того, чтобы рассматривать Ольгиных знакомых, и что голова у него сейчас занята совсем другими заботами.
За окном давно стемнело, дождь то прекращался, то припускал с новой силой. Густой пряный запах, разлившийся по кухне, приятно щекотал ноздри. Кирилл, осторожно подняв стакан с горячим ароматным напитком, пристально посмотрел прямо в глаза Ольге и тихо сказал:
— Ну а теперь, Оля, за нашу счастливую встречу! За тебя!
— За нас… — еще тише, почти шепотом, поправила она.
— Все, что ты мне рассказала, — медленно проговорил Кирилл, отпив несколько глотков из стакана, — все это очень опасно… Мне кажется, ты как-то недооцениваешь серьезности ситуации… как-то легкомысленно воспринимаешь…
— Нет, Кирилл, — твердо перебила Ольга, — ты не прав. Просто я устала бояться… трястись от ужаса… — Она поежилась и передернула плечами. — Мне порой кажется, еще немного — и что-то во мне сорвется, лопнет… я не выдерживаю постоянного напряжения, поэтому стараюсь иногда, ну, забыть, что ли… отключиться от своего страха… Иначе я не выживу и дня…
Кирилл с ласковым сочувствием посмотрел на нее и задумчиво произнес:
— Да, Александр прав, здесь наверняка замешаны не только деньги… вернее, не столько деньги, сколько другое… что-то более важное. Ведь, как ни крути, у Ираклия определенно не могло сложиться такой астрономической суммы, за которой режиссеру не скучно было бы так упорно гоняться… Может, какие-нибудь музейные ценности… краденые, конечно… или документы, совершенно убийственные для режиссера.
Он заметил слезы, заблестевшие у Ольги на глазах, и удрученно воскликнул:
— Только умоляю тебя, Оленька, не плачь! Женские слезы для меня — нож острый… сам готов разреветься.
Он подошел к ней, обнял и крепко прижал к себе.
— Все будет хорошо, вот увидишь, — гладя ее по голове, успокаивал он, — ничего не бойся, теперь я с тобой…
Внезапно смысл последних слов во всей их очевидности дошел до нее, Ольга поняла, как давно душа ее не просто ждала, а жаждала этих слов, и она почувствовала, будто светлое, теплое солнышко распускается в груди. Слезы высохли, не успев пролиться, она улыбнулась и, взяв стакан, предложила:
— Давай выпьем за то, чтобы вся эта история поскорее закончилась.
Кирилл с готовностью поддержал ее тост и, отхлебнув из своего стакана, решительно заявил:
— Завтра с утра поедем к тебе в Сокольники, посмотрим, что в квартире творится… ну и вообще… — Заметив испуг в ее глазах, добавил: — Могу взять с собой газовый пистолет… так, на всякий случай… Его от настоящего почти не отличить.
Ольга боялась появляться дома, хотя и понимала необходимость проверить, в каком состоянии ее жилище. Игорь, утверждая, что из квартиры ничего не пропало, имел в виду, конечно, мебель, аппаратуру, то есть то, что на виду. Правда, никаких особых, припрятанных ценностей у Ольги и не было. Ну дубленка… ну хороший проигрыватель… шкатулка с недорогими золотыми побрякушками… Ни денег, ни бриллиантов. В общем, «профессионалам» поживиться практически нечем. Но она чувствовала, что люди, проникшие в ее квартиру, были «профессионалами» другого профиля, которым ее дубленки, проигрыватели и роскошные издания книг по искусству ни к чему, они искали другое. От одной только мысли, что кто-то рылся в ее вещах, прикасался к посуде и белью, Ольгу замутило. Допив глинтвейн, она увидела, как пустой стакан словно поплыл перед глазами, шторы на кухонном окне закачались, и успела только сообщить Кириллу, что ей необходимо прилечь.
* * *
Ольге снилось, что они с Кириллом никак не могут попасть в ее квартиру. Уже все замки открыты, они изо всех сил налегают на дверь, но та не поддается, изнутри кто-то явно подпирает ее, кто-то забаррикадировал вход и не пускает их. И тут Кирилл выхватывает большой пистолет, который оказывается не газовым, а настоящим, и открывает пальбу.
Ольга вздрогнула и проснулась. Она обнаружила, что лежит, укрытая пледом, в комнате на диване, на ней все тот же полосатый махровый халат, под головой — подушка, на ногах — шерстяные носки. Где-то на улице раздался выстрел, затем еще, потом целая автоматная очередь, потом что-то забухало и стихло. «Наверное, там, у Белого дома», — подумала она. Неужели действительно стреляют? Нет, этого не может быть. Видимо, в воздух, для острастки, чтобы запугать и разогнать толпу вокруг здания.
Сквозь неплотно задернутые шторы на темный паркет падал тусклый свет фонарей с улицы. Ольга полусонно обвела взглядом стены комнаты: картины в рамах и рамочках, книги, книги; напольные часы в огромном футляре солидно отстукивали время. «Как там моя кукушка?» — вспомнила она свою кухонную хлопотунью, и ей так вдруг захотелось оказаться дома, на своем любимом диване или, на худой конец, на топчане на кухне, что сжалось сердце.
За окном снова послышались выстрелы. «Где же Кирилл? — запаниковала она. — А вдруг он туда пошел?» Ольге стало страшно. Она вскочила с дивана и, натыкаясь на мебель, пошла в прихожую. Дверь в другую комнату была слегка приоткрыта. Стараясь не шуметь, она тихо вошла и направилась к кровати, стоявшей в глубине комнаты. Глаза уже привыкли к темноте, и, не доходя двух-трех шагов до кровати, она увидела безмятежно спавшего Кирилла. Ей показалось даже, что тот улыбался во сне. Ольга облегченно вздохнула и на цыпочках вернулась к дивану, осторожно прикрыв за собой дверь.
Проснулась она от дразнящего кофейного аромата, волной плывшего из кухни. Часы на полу с достоинством пробили десять раз. Ольга встала и, плотнее запахнув халат, направилась в ванную. Она поймала себя на том, что, несмотря на ностальгию по своему жилищу, чувствует себя в этой квартире так, словно не только бывала здесь много раз, но и подолгу жила, и спала на этом самом диване. «Странно!» — весело подумала она и столкнулась на пороге с Кириллом. Он широко раскинул руки, загораживая путь, и со смехом принял ее в свои объятия. Этот жест тоже показался Ольге на удивление знакомым, будто они прожили вместе не один год и это было их традиционным приветствием по утрам.
— А я уже шел будить тебя, — светясь улыбкой, сказал Кирилл. — Ну и соня! Давай пить кофе, ехать пора.
— Ты сам соня, — улыбнулась в ответ Ольга, — ночью стреляли на улице, а ты даже не проснулся.
— Стреляли? — ужаснулся Кирилл, и улыбка слетела с его лица. — Что же ты меня не разбудила?
— Я испугалась… — призналась она.
— Вот и разбудила бы!
— Испугалась, что ты проснешься и побежишь туда, а там… а тебя… — Ольга опустила голову, Кирилл взял ее рукой за подбородок и твердо посмотрел в глаза.
— Если бы все рассуждали как ты, — усмехнувшись, сказал он, — или как моя мама… не видать бы нам победы ни в одной войне. — Кирилл притянул ее к себе и поцеловал в висок. — Ладно, давай собираться — и в путь!
Его волнение передалось Ольге, она стала поспешно одеваться. Кирилл включил радио. Передавали запись концерта симфонического оркестра.
— Ну что ты будешь делать! — проворчал он. — Как встал, периодически включаю — и все музыкальные заставки! А приемник, как на грех, сломался. Ну да ничего, на улице мы скорее узнаем все новости. Ты готова? Пошли!
На ходу они выпили несколько глотков кофе и вышли из квартиры. На улице было еще свежо после ночного дождя, но солнце почти прорвало неплотную завесу редеющих туч, и день обещал быть теплым.
— Неужели я так сильно опьянела от одного стакана вина? — удивилась Ольга, вспомнив вчерашнее головокружение, туман в голове и то, как Кирилл помог ей добраться до дивана.
— У тебя, наверное, просто нервное истощение от всей этой истории с Ираклием, — предположил Кирилл. Глаза его лукаво заблестели, и он как-то странно ухмыльнулся: — А знаешь, напиток и впрямь получился крепкий, я туда немного рому добавил.
— Ах, вот как! — притворно возмутилась Ольга. — Так ты хотел меня подпоить?
— Конечно, — в тон ей ответил Кирилл, — чтобы потом, так сказать, овладеть. Но — увы! — дозу не рассчитал, и сам свалился и спал как убитый.
* * *
Известие о том, что в двух шагах от них погибли люди, став жертвой этой сумбурной, кровавой ночи, потрясла их до глубины души. До Сокольников ехали молча, и, только подходя уже к подъезду своего дома, Ольга заговорила.
— А я не верила… — тихо сказала она. — Даже когда выстрелы слышала, думала — ничего, обойдется…
— Но тем не менее меня-то разбудить побоялась, — напомнил Кирилл. — Скорее всего, тебе просто хотелось так думать… ну, что все обойдется.
Эта печальная новость настолько овладела всем ее существом, что Ольга забыла даже о своих страхах по поводу квартиры. Она машинально открыла все замки, и, только когда Кирилл, отстранив ее, осторожно вошел первым, держа руку во внутреннем кармане куртки, где лежал пистолет, Ольга вздрогнула и почувствовала участившееся биение сердца. Через несколько секунд Кирилл позвал ее:
— Заходи!
Непослушными ногами она переступила порог своей квартиры и судорожно вздохнула. Раздался телефонный звонок. Звонила тетя Тамара с пушкинского переговорного пункта.
— Оля, Павел у тебя? — задыхаясь от волнения, закричала она.
— Я только что вошла, тетя Тамара, — ответила Ольга. — А что такое? Что случилось?
— Павел… Павел сбежал!
— Как это — сбежал?
Из сбивчивого рассказа тети Тамары Ольге удалось выяснить, что дядя Паша, рано утром узнав о жертвах у Белого дома, страшно разнервничался, сказал, что идет к Степанычу, а сам потихоньку прошел к старому сараю, приспособленному под гараж, вывел машину и, крикнув из окошка: «Я в Москву! Вечером вернусь!» — умчался на своей «моське» под носом у изумленных сестер. Тетя Тамара села на первый же автобус и поехала в Пушкино, чтобы позвонить Ольге.
— Оля, умоляю тебя, — чуть не плача, говорила она, — как только он появится, уговори его ехать в Александровку, а еще лучше — приезжай вместе с ним… Он тебя послушает…
— Конечно, тетя Тамара, обязательно! Не волнуйся, ради Бога, все будет нормально, — успокаивала ее Ольга. — Он когда выехал? Больше часа назад? Ну и отлично! К обеду ждите нас, я тебе обещаю.
— Даже лекарство с собой не взял, представляешь? — продолжала в отчаянии тетя Тамара. — А ведь он так плохо себя чувствует, уж я-то вижу…
Договорились, что она перезвонит минут через сорок, удостоверится, что дядя Паша добрался до Ольги благополучно. Почему они обе решили, что он сразу же поедет в Сокольники, они и сами не могли бы объяснить, но тем не менее оказались правы. Не успела Ольга как следует проверить ящики письменного стола, как позвонил дядя Паша, сказал, что он рядом и сейчас зайдет.
Дверь ему открыл Кирилл. Дядя Паша, бледный, растерянный, застыл на пороге, не веря своим глазам.
— Кирилл Андреич, какая неожиданность! — радостно проговорил он, протягивая руку. — Вы ли это? Какими судьбами?
Кирилл в двух словах рассказал о вчерашней случайной встрече с Ольгой и, обрадованный появлением Павла Сергеевича, заявил, что идет в магазин, так как в Ольгином холодильнике шаром покати, а они еще не завтракали.
— Посидим спокойно за чайком-кофейком, поговорим, все обсудим… — бодро сказал он.
— Может, не надо в магазин? — заколебалась Ольга. — У меня кофе есть, сахар…
— А хлеба нет! — развел руками Кирилл. — Да я мигом, не волнуйся, здесь же все рядом.
Ольга проводила его до входной двери.
— Ключи я беру с собой, — сказал он тихо, чтобы дядя Паша не услышал. — На звонки никому дверь не открывай.
— Да ты ведь знаешь, они и без звонка… — отчаянно зашептала Ольга.
— Ладно, я только в булочную и обратно, — перебил ее Кирилл и, улыбнувшись на прощание, вышел.
Ольга закрыла за ним дверь и вернулась на кухню. Чтобы скрыть волнение, попыталась взять добродушно-шутливый тон:
— Ну что, дядя Паш, поменял статус больного на статус беглеца? Или беженца?
— Тамара звонила? — с виноватым видом спросил он.
Ольга кивнула.
— Ты же понимаешь, они не отпустили бы меня по-хорошему, — как бы оправдываясь, сказал дядя Паша. — Ну и пришлось… того… удрать. Я, Олюшка, так за тебя волновался, ты не приехала вчера… А уж как узнал про этот ночной кошмар… — Дыхание у него перехватило, он немного помолчал и продолжал уже тише и медленнее: — Подумал… вдруг ты ночью там… вдруг с тобой что-нибудь…
Ольга подошла к дяде Паше и обняла его.
— Ну все, все… Ты же видишь, все хорошо… — ласково заговорила она. — Тебе нельзя волноваться.
Послышалось легкое поскрипывание входной двери, затем щелчок.
— Вот и Кирилл вернулся! — радостно воскликнула Ольга. — Ну, все купил? Иди сюда, Кирилл!
Из прихожей не доносилось ни звука. Смутная тревога шевельнулась в ее душе.
— Дядя Паш, поставь, пожалуйста, чайник, — попросила Ольга и вышла из кухни. В прихожей не шевелясь, как изваяния, застыли два незнакомца. От неожиданности крик застрял у нее в горле. Один из них, тот, что повыше и моложе, приставил пистолет к ее груди и злобно прошипел:
— Ни звука! Кто еще в квартире?
— Ро… родственник… — от страха с трудом ворочая языком, пролепетала Ольга.
— Что происходит, Олюшка? — раздался за ее спиной встревоженный голос дяди Паши. — Кто эти люди? Как они здесь…
— Тише, папаша, шуметь не советуем! — развязно перебил его молодой незнакомец.
— Да как вы смеете! — возмущенно вскрикнул дядя Паша, сделал еще шаг и увидел пистолет, приставленный к груди Ольги. — Боже мой, что же это такое? Зачем? — Голос его осекся, задрожал, дядя Паша подскочил, оттолкнул Ольгу и, неловко, но крепко схватившись за длинное дуло пистолета, направил его куда-то себе в живот. — Не трогайте ее!! — вдруг завопил он во всю мощь. — Не позволю! — кричал он, заслоняя собой Ольгу.
Внезапно входная дверь распахнулась. На пороге стоял Кирилл с пистолетом наготове.
— Руки! — коротко скомандовал он. — Пушку на пол! Лицом к стене!
Молодой, стоя спиной к Кириллу, быстро переглянулся со своим напарником, который едва заметно кивнул, и бросил пистолет на пол. Кирилл перевел взгляд на этого напарника, стоявшего чуть в стороне, у зеркала, и рука с пистолетом невольно опустилась.
— Никита! Ты? — В голосе Кирилла было столько неподдельного изумления, даже потрясения, что молодой, мгновенно сориентировавшись, резко оглянулся и схватил с пола свой пистолет.
— Брось пушку, Малыш! — устало, но твердо, с угрозой произнес напарник. — И вообще уйди, я сам тут разберусь.
— Ага, как же, разберешься, — зло проговорил тот, не выпуская пистолет из рук.
— Дядя Паша, что с тобой? — раздался внезапно крик Ольги, и все увидели, как тот, захрипев, очень медленно оседает по стене на пол. — Кирилл, «скорую», срочно!
Она забыла обо всем на свете, даже о том, что в ее квартире находятся вооруженные бандиты. В эту минуту весь мир для нее сосредоточился на бледном лице дяди Паши, которое на глазах принимало какой-то голубоватый оттенок. Судорожно схватив из холодильника нитроглицерин, Ольга села на пол рядом с безжизненным телом, расстегнула дяде Паше ворот рубашки и засунула ему в рот маленький красный шарик лекарства, затем припала ухом к груди.
— Китыч, рвем когти… — сдавленно проговорил молодой и исчез за дверью.
— Я позвоню тебе, Кирилл, — тронув за локоть Кирилла, сказал напарник и последовал за молодым.
Кирилл в отчаянии накручивал диск телефона, почти не обратив внимания на исчезновение этих людей.
— Алло! «Скорая»?.. Человеку плохо… срочно… сердечный приступ… Адрес?.. Оля, адрес, быстро!..
Ольга сидела на полу возле дяди Паши и тупо смотрела прямо перед собой. Она раскачивалась из стороны в сторону, слезы медленно текли из глаз.
— Не надо… — прошептала она. — Ничего не надо… Поздно…
ЧАСТЬ IV
Сентябрь стоял сухой, теплый, солнечный — настоящее «бабье лето», а в октябре задул вдруг холодный ветер, небо наглухо заволоклось серой пеленой, зарядили дожди. И Ольга вздохнула с облегчением: ненастная сырая погода больше соответствовала тому душевному состоянию, в котором пребывала она после смерти дяди Паши. Казалось, какая-то часть ее души, именно та, которая любила яркое солнце, веселье, музыку, смех, с его уходом исчезла, умерла и никогда не воскреснет. От солнечного света глаза начинали слезиться, громкий смех резал слух, от звуков веселой музыки становилось тошно и хотелось выть в голос.
Сейчас, сидя на кухне с вязаньем в руках, Ольга прислушивалась к монотонному дробному стуку дождя о стекло и думала о том, что завтра предстоит выйти на работу после очередного отпуска, который, в связи с тяжелыми семейными обстоятельствами, был предоставлен ей раньше положенного срока. Она представила себе скорбное, сочувственное выражение на лицах сотрудников, слова соболезнования, положенные в подобных случаях, и глухое чувство раздражения, досады заранее зашевелилось в душе.
Ольга и сама не понимала причин этого раздражения, ведь она знала, что все в редакции действительно с любовью, очень тепло относились к дяде Паше, верила, что они искренне сочувствуют ее горю. Одуванчик с Никанорычем даже приезжали на похороны в Александровку. И все же, все же… Сейчас Ольга не ощущала уже боль утраты так пронзительно и остро, как в первые дни, когда она находилась на грани потери рассудка и все происходящее вокруг видела как во сне. Эта острота со временем прошла, исчезла, потому что была, говоря языком медицины, просто несовместима с жизнью, но не наступил еще момент, когда человек начинает ощущать потерю близкого как часть своей судьбы, часть жизни и когда разрушительный протест и сокрушающая боль уступают место светлой, очищающей печали, когда приходит благодать примирения с высшей волей и где-то вдалеке забрезжит вдруг еле видный свет возможной радости и счастья.
Пока же Ольга пребывала в состоянии угрюмой сосредоточенности на ощущении пустоты, образовавшейся в ее жизни с уходом дяди Паши, пытаясь приучить себя к мысли о том, что никогда больше не увидит его ласковой улыбки, не почувствует его любви и заботы, не услышит родного голоса, красивого и мощного, тихо окликающего ее: «Олюшка!..»
Все эти переживания носили настолько личный, сокровенный характер, что Ольге и в голову не приходило поделиться ими с кем-нибудь, и даже разговоры в кругу семьи, то и дело поворачивающие на воспоминания о покойном, были непереносимы для нее. Она знала, что никто не может, подобно ей, в полной мере почувствовать всю бездну горя и отчаяния, и желание пережить свою беду в одиночку полностью овладело Ольгой, ей трудно стало общаться с родственниками и знакомыми, она не хотела никого видеть, скорбь на лицах родителей и Ирины казалась ей порой фальшивой и нарочитой.
Где-то в глубине души она понимала, что несправедлива к своим близким, ведь не виноваты же они в том, что жизнь их продолжается без дяди Паши, а у жизни свои законы и свои резоны.
Ольге вспомнился Кирилл, который в те первые, самые тяжелые для нее дни постоянно был рядом, окружив ее вниманием и заботой. Он привез ее к себе, и дней десять она жила в его квартире с высокими потолками, с картинами и книжными полками на стенах, с солидными, уверенно стоявшими на полу часами в красивом резном футляре. Мелодичный звон часов заставлял Ольгу вздрагивать и пробуждал от тяжелой дремы, в которой пребывала она в те дни почти постоянно. Позже Кирилл объяснил, что она находилась тогда под действием сильного успокоительного лекарства, которое привезла жена Бориса, работавшая врачом в психоневрологическом диспансере.
В Александровке Ольге пришлось побывать за последнее время дважды: на похоронах дяди Паши и спустя девять дней на поминках. Все эти события Ольга воспринимала как сквозь туман, будто это было во сне или вообще не с нею. Кирилл отвозил ее и привозил назад на машине, всегда был под рукой, заботливо заставлял выпить очередную порцию лекарства. Она помнила только, как потрясло ее на девятый день лицо тети Тамары: почерневшее, сморщившееся, изменившееся до неузнаваемости, это было лицо дряхлой старухи.
На следующий день Ольга категорически отказалась принимать какие бы то ни было лекарства, заявив Кириллу, что ей необходимо самой справиться со своим горем, прожить, изжить его по-человечески и что не следует трусливо прятаться за спасительные пилюли, которые, даруя тупое безразличие и спокойствие, превращают человека в растение. Кирилл похвалил ее за мужественное решение, и лекарство исчезло, уступив место черной тоске и отчаянию. А потом…
Ольга поняла, что, задумавшись, продолжала вязать машинально: вместо рисунка у нее образовался уже приличный кусок гладкого полотна. Вздохнув, она распустила несколько рядов, подложила под спину подушку и, устроившись на топчане поудобнее, принялась считать петли. Когда рисунок обозначился, мысли ее вновь обратились к недавнему прошлому, к той злосчастной ночи, вернее, к предшествующему ей вечеру.
Это случилось почти сразу после того, как Ольга отказалась от лекарства. В тот день вечером Кириллу позвонил Никита, как выяснила Ольга, его бывший одноклассник, и предложил встретиться для очень важного разговора. Кирилл боялся оставлять ее одну, но тот настаивал на встрече с глазу на глаз, причем на нейтральной территории, в квартире своего знакомого, и Кириллу ничего не оставалось, как согласиться.
Вернувшись часа три спустя домой, он застал Ольгу в слезах. Она сидела в комнате на диване, с головой накрывшись пледом, и, жалобно поскуливая, как раненое или обиженное животное, раскачивалась из стороны в сторону. Кирилл знал, что в подобной ситуации человека утешить невозможно, и, чтобы хоть на время отвлечь Ольгу от мрачных мыслей, пустился в воспоминания о своем однокласснике, Никите, который жил когда-то на Арбате, прошел Афганистан, потом женился, работал автогонщиком и каскадером и вообще был отличным парнем. Еще в школе он удивлял всех своими способностями, учеба давалась ему на редкость легко, и, несмотря на изнурительные тренировки сразу в двух спортивных секциях, он всегда оставался лучшим учеником класса.
Затем Кирилл с Никитой вместе поступили в МАИ, но через два года Никита неожиданно ушел из института, и Кирилл на какое-то время потерял его из виду, узнавая о судьбе товарища из случайных встреч с одноклассниками.
Метания Никиты поражали друзей и знакомых: то он с геологической партией почти год ездил по Средней Азии, то вдруг, вернувшись, поступил на режиссерское отделение в Институте культуры, но со второго курса ушел и вскоре оказался в Афганистане.
Пройдя афганское пекло и оставшись живым и невредимым, Никита внезапно исчез из Москвы, поговаривали, что он купил себе какую-то избушку-развалюху в Калининской области и живет там в полном одиночестве. Года через два некоторые бывшие одноклассники, и Кирилл в их числе, получили приглашение на банкет в ресторан «Прага». «По случаю бракосочетания…» — каллиграфически было выведено на красивой открытке с изображением розочек и двух переплетенных колец посередине.
Кириллу запомнилась невеста Никиты, кроткая, ангелоподобная девушка в белом воздушном платье, не сводившая влюбленных и преданных глаз с жениха, и он искренне порадовался тогда за друга, который, казалось, нашел наконец свое счастье и свою тихую пристань. Никого из друзей не удивило, что Никита за это время успел выбрать себе опасную профессию автогонщика, — это вполне соответствовало его буйному, неуемному темпераменту. Но Кирилл надеялся, что именно этой хрупкой девушке удастся своей нежностью и любовью удержать Никиту от непредсказуемых поступков и необдуманных решений, удастся хоть немного обуздать его взбалмошный и взрывной характер.
После свадьбы молодожены уехали куда-то путешествовать, кажется, по Крыму. Позже друзья раза два-три созванивались и все собирались встретиться, да как-то не выходило. А потом у Кирилла началась новая полоса в жизни. Полеты, к которым готовился он долгих два года, и знакомство с Полиной, которая стала вскоре его женой, с корнем вырвали его из прежней жизни, появился новый круг друзей, новые интересы и заботы.
Они летали в одном экипаже, но однажды, в феврале прошлого года, Полину попросили подменить заболевшую бортпроводницу на одном из рейсов южного направления. «Полечу в теплые края, погреюсь», — сказала она Кириллу при прощании. Он и представить себе не мог, что видит ее в последний раз. Самолет взорвался в воздухе, едва оторвавшись от земли. Весь экипаж и все пассажиры погибли.
Ольга помнила, как дрогнул его голос, когда он произносил имя погибшей жены, как весь он словно сжался, лицо напряглось, и ей стало ясно, что до сих пор эти воспоминания слишком тяжелы для него. Она, конечно, пони мала, что Кирилл заговорил об этом лишь для того, чтобы объяснить, как же получилось, что они совсем разошлись с Никитой и не виделись последние шесть-семь лет.
Впрочем, случайно до Кирилла доходили порой кое-какие слухи через их общих знакомых. Он знал, например, о том, что живет Никита где-то на окраине Москвы с женой и двумя детьми, по-прежнему участвует в различных авторалли, мотаясь по всему Союзу, и даже снялся в трех приключенческих фильмах в качестве каскадера.
Конечно, Кирилл был потрясен, встретив вдруг своего бывшего одноклассника, да еще в роли бандита, в квартире Ольги. После этой злополучной встречи он пытался разузнать координаты Никиты, но выяснить так ничего и не смог. В квартире на Арбате жила теперь семья преуспевающего дельца, который понятия не имел, куда девались предыдущие хозяева; в адресном столе отвечали, что в их списках такой не значится; никто из бывших друзей ни адреса, ни телефона Никиты не знал. Оставалось только ждать обещанного звонка от самого Никиты. И тот действительно позвонил.
Разговор был трудным для обоих. Это была не радостная встреча одноклассников, которые вспоминают школьные годы, умиляясь юношеским проказам, и делятся своими успехами и достижениями. Никите тяжело было рассказывать о последнем годе своей жизни. Прошлой осенью, на очередных автогонках, его машина неожиданно на полной скорости сошла с трассы и, перевернувшись в воздухе и ударившись о землю, взорвалась. Никиту выбросило из машины до взрыва, и отделался он на первый взгляд легко: сотрясение мозга, перелом ноги, глубокая рана на лбу, но получил при этом серьезную контузию, нечто вроде затяжного психического шока, и с тех пор при попытке сесть за руль его охватывает дикий, панический страх, парализующий конечности и вызывающий слабость и тошноту. Врачи разводят руками, не исключая возможности избавления от этого страха, но и не гарантируя быстрого и полного излечения.
Так Никита лишился любимой работы, без которой жизнь потеряла для него всякий смысл и интерес. Не имея никакой другой специальности, он, чтобы прокормить семью, перебивался случайными заработками, ремонтируя машины, пока не устроился автомехаником в «Автосервис». Но работа эта была ему не по душе, грызла постоянная тоска по любимому делу. Кирилл, как никто, мог понять состояние друга, потому что и сам не представлял жизни без своей работы, поэтому, хорошо зная характер Никиты, не удивился, что, устав бороться с тоской и отчаянием, тот стал крепко выпивать.
Кончилось все тем, что его уволили из «Автосервиса». Тут-то и подвернулся ему Вовчик, с которым он служил в Афганистане. На встречи с «героями Афганской войны» Никита никогда не ходил и вообще не любил вспоминать то время, казалось, он даже старался забыть о своем участии в той войне, чем многие другие, напротив, очень гордились.
С Вовчиком они случайно столкнулись в метро. Тот искренне обрадовался неожиданной встрече и предложил выпить по этому поводу, от чего Никите отказаться было слишком трудно.
Засидевшись у Вовчика до полуночи, вспомнив погибших друзей и кровавые стычки с «духами», выпив две бутылки водки, они заговорили и о насущном. Вовчик внимательно выслушал скупой рассказ Никиты об автокатастрофе, превратившейся в катастрофу всей его жизни, и предложил свою помощь. Сам он работал, по его словам, «на одного барыгу», охранял его офис и выполнял время от времени необременительные поручения по вытряхиванию денег из обнаглевших должников. Шефа своего он, как ни странно, в глаза ни разу не видел, дело имеет только с его помощниками, а так работа не пыльная, и платят дай Бог каждому, нигде сейчас столько не заработаешь. «Я имею в виду честным путем, конечно», — добавил он, выразительно посмотрев на Никиту. Вовчик пообещал похлопотать о Никите, он знал, что шеф очень уважает «афганцев», считая их самыми храбрыми, опытными и неподкупными работниками.
Так Никита оказался на службе у режиссера и тут же получил задание во что бы то ни стало выйти на след Ираклия с Николашей. Чем Ираклий так досадил режиссеру, Никита поначалу не знал, но из отдельных фраз своего напарника по кличке Малыш при его телефонных переговорах с шефом догадался, что у Ираклия находятся какие-то важные бумаги и видеокассеты и, если они попадут в руки определенным людям, это будет равносильно смертному приговору режиссеру и всей его братии. Еще Никита понял, что если шеф кого-то и боится в этой жизни, то, пожалуй, только этих самых людей, кому Ираклий может направить кассеты.
Поначалу Никите казалось, что все это довольно безобидная игра, ведь даже пистолет у Малыша был не настоящий, а газовый, с липовым глушителем. Так, игрушка для детей. Новая работа напоминала ему подчас приключенческий фильм, где он выступал уже не в качестве трюкача-каскадера, а имел свою роль, пусть маленькую, эпизодическую, зато требующую не простого заучивания текста, а максимальной отдачи, смекалки, готовности к любым непредвиденным ситуациям.
Но вскоре погиб в перестрелке Вовчик, и шеф через Малыша передал Никите, чтобы тот «не дергался и не вякал», иначе не видать ему ни жены, ни детей. Вот тут-то до Никиты наконец дошло, что он здорово влип и что фирма по операциям с недвижимостью была лишь прикрытием для крутой мафиозной группировки. Не на шутку испугавшись, не за себя, а в первую очередь за безопасность своей семьи, он повел переговоры с шефом через одного из его помощников. В итоге тот согласился отпустить Никиту, но не раньше, чем получит информацию о местонахождении Ираклия.
И в результате поисков, включавших предположения и расчеты, осторожную слежку, вынюхивание и запугивание, изнурительное сидение в засаде, они с Малышом эту информацию добыли.
От резкого телефонного звонка Ольга вздрогнула и упустила петлю. Отложив вязанье, прошла в прихожую, сняла трубку.
— Олюня, привет! — раздался знакомый голос. — Ну как ты там? Что делаешь?
Светка старалась говорить легко и непринужденно, как прежде, но в интонациях ее голоса и даже в паузах чувствовалась скованность и настороженность, словно она боялась сказать что-то не то.
Ольга вспомнила, как Светка, узнав от Кирилла об обстоятельствах смерти дяди Паши, примчалась на Кутузовский на такси и, войдя в квартиру, не раздеваясь, бухнулась ей в ноги и залилась слезами. Задыхаясь от рыданий и глотая слова, она выкрикивала что-то бессвязное о своей вине и о том, что прощения ей нет и быть не может. Потом вдруг внезапно замолчала, будто какая-то мысль неожиданно осенила ее, резким движением поднялась с колен и, проговорив: «Я знаю, что мне делать!» — выбежала из квартиры.
Это воспоминание тоже было смутным и туманным, как и все, что происходило вокруг в те дни. Потом пришел Кирилл и появился откуда-то страшно взволнованный Шурик, который разыскивал убежавшую из-под надзора тети Дуси Светку. Но Ольга не могла бы поручиться, что все это было на самом деле, а не приснилось ей в беспокойном, тревожном сне.
Позже выяснилось, что Светка обосновалась в своей прежней комнате, чтобы, по ее словам, «встретить опасность лицом к лицу». Когда Шурик обнаружил ее там, она наотрез отказалась вернуться в нему, заявив, что не может прятаться по углам, когда ни в чем не повинные люди погибают, в сущности, из-за ее дури и легкомыслия.
Шурик, призвав на помощь Кирилла, терпеливо втолковывал ей, что ее вины тут нет, что у Павла Сергеевича было очень больное сердце, а события последних дней окончательно подорвали его силы и выбили из колеи, что появление вооруженных бандитов в квартире Ольги действительно сыграло роль, что называется, последней капли, но при таком положении дел последней каплей могло послужить что угодно, хотя бы отсутствие в нужный момент лекарств, которые все остались на даче.
Однако Светка упорно стояла на своем, и у Шурика не было иного выхода, кроме как, воспользовавшись симпатией квартирной хозяйки и пожаловавшись ей на якобы временные трудности с жильем, плюнуть на свою срочную работу и остаться при Светке верным сторожем и защитником. Этому помогло и то обстоятельство, что хозяйка, разругавшись в пух и прах с родственниками и вернувшись поэтому в Москву раньше намеченного срока, все свои старческие надежды возлагала теперь на Светку, а Шурика рассматривала как ее жениха и будущего мужа.
Дня три спустя заявился Никита, один, без своего нервного напарника с пистолетом. Старушка, открыв дверь, сразу признала в нем того самого парня «с добрыми глазами», который так настойчиво разыскивал ее жиличку.
Проговорив минут двадцать с Никитой, Шурик не удивился, что тот совсем не походил на преступника, а, напротив, производил впечатление человека мягкого и интеллигентного. Но незабываемый образ Ираклия постоянно стоял у него перед глазами, напоминая о том, что бандит нынче пошел, не в пример прежнему, до того замаскированный образованностью и хорошими манерами, что, пока он не приставит тебе пистолет к виску, ни за что не отличишь его от порядочного человека.
Однако Никита явился не с угрозами и требованиями, а с конкретным деловым предложением, которое на удивление совпало с расчетами и надеждами Шурика. И предложение Никиты, и расчеты Шурика связаны были со Светкиным чудо-телефоном, подарком Геннадия, вернее, не с самим аппаратом, а с его приставкой — определителем номера абонента.
Все эти события моментально пронеслись в голове, как только Ольга услышала Светкин голос, знакомый и чужой одновременно.
— Что делаю? — вяло переспросила она. — Вяжу… Кофту себе вяжу. — И замолчала.
— Завтра на работу?
— Да.
Светка хотела рассказать подруге о своих перипетиях, связанных с поиском работы, чтобы немного развлечь ее, но, почувствовав, что та явно не расположена к общению, виновато забормотала на прощание:
— Ты извини… я просто так позвонила… подумала, может, тебе нужно что-нибудь…
«Раньше думать надо было, — повесив трубку, разозлилась Ольга, — прежде чем с Ираклием своим на хутор подаваться…»
Странное дело, не сама ли она поддерживала Шурика с Кириллом, когда те убеждали Светку, что в дядипашиной смерти она не повинна? А что же теперь? Теперь она так не считает? Снова и снова задавая себе этот вопрос, Ольга не находила однозначного ответа.
Поначалу она действительно никак не связывала смерть дяди Паши со Светкой, вернее, с той ситуацией, в которой они все из-за Светки оказались. Ольга вспомнила залитое слезами лицо подруги, ее срывающийся голос, раскаяние и детскую беспомощность во взгляде… А потом — эта отчаянная Светкина решимость искупить свою вину, вернувшись в комнату, куда каждую минуту могли ворваться бандиты.
Однако настал день, когда сбылись надежды Шурика и оправдались расчеты Никиты: Светке позвонил Ираклий. Первым делом он спросил, не беспокоил ли ее кто-нибудь с целью выяснить его координаты. Несмотря на то что звонок этот не был неожиданностью, ведь Ираклий твердо обещал позвонить, как только они с Николашей устроятся, Светка в первое мгновение растерялась. Но, подбадриваемая выразительной мимикой и жестикуляцией Шурика, быстро сориентировалась, взяла нужный тон и бодро заверила Ираклия, что никто его не разыскивал и о нем не спрашивал.
После этих слов голос его обрел прежнюю бархатистость, и он проворковал, что страшно скучает без нее и все еще надеется, может, она все-таки решится приехать. Однако на ее нетерпеливый, но естественный вопрос: куда? — Ираклий прямого ответа так и не дал, а просто посоветовал ей подумать над его предложением и пообещал позвонить через неделю-другую.
Ираклий, приняв, как ему казалось, все меры предосторожности, не мог учесть ловушку, расставленную ему чудо-телефоном, поскольку, заезжая в свое время за Светкой, в квартиру к ней никогда не поднимался и о существовании этого телефона просто не знал. А ловушка захлопнулась, как только заветные девять цифр высветились на табло.
Этой информации, переданной через Никиту режиссеру, оказалось достаточно, чтобы Светку оставили наконец в покое и чтобы кошмар последних месяцев ее жизни, в который оказались втянуты и мать, и друзья, вмиг отступил и рассеялся, словно туман под горячими лучами солнца.
Вот с этого-то момента, как заметила Ольга, Светка вдруг переменилась Она напоминала человека, действительно выпущенного из темницы на волю: стала шить себе какие-то наряды, бегать с Шуриком по выставкам и концертам и даже купила абонемент в бассейн.
Но главное заключалось в том, что она будто начисто забыла о своем чувстве вины, которое еще совсем недавно так сильно угнетало ее, что Шурик начал было опасаться за здоровье своей подопечной. Теперь же, общаясь со Светкой, можно было подумать, что ни страхов, ни леденящего душу ужаса, ни сломанной руки Шурика, ни смерти дяди Паши от сердечного приступа, спровоцированного появлением вооруженных бандитов, — ничего этого как бы и не было. Ольге казалось, что Светка, отдав Ираклия на растерзание режиссеру и тем самым избавив от угрозы своих близких и себя лично, поставила на этом крест, словно желая вычеркнуть из памяти эти события и вернуться к веселой и беззаботной жизни.
Ольга старалась быть беспристрастной, поэтому не могла не согласиться с Шуриком и Кириллом, что дядя Паша был в очень плохом состоянии и приступ мог быть спровоцирован чем угодно. Но проснувшийся у Светки вкус к жизни, с ее удовольствиями и развлечениями, явное стремление уйти от прошлого она воспринимала почти как предательство, и глухое раздражение на подругу, стеной вставшее между ними, в корне убивало любые попытки вернуться к прежним доверительным и нежным отношениям.
Она вернулась на кухню, поставила чайник на плиту и тут же с болью вспомнила, как сиживали они здесь с дядей Пашей, пили чай с вареньем и говорили обо всем на свете. Ольга могла рассказать ему все… или почти все. Она не считала нужным делиться с ним, пожалуй, лишь кое-какими сложностями своей личной жизни, исключительно из тех соображений, что помочь он ничем не сможет, а расстроится непременно.
Эти сложности она предпочитала обсуждать со Светкой, которая и поймет ее по-женски верно, и по Фрейду все обоснует, а порой и присоветует что-то из собственной практики.
Ольга невольно улыбнулась забытому уже сочетанию «Светкин кухонный Фрейд», но улыбка тут же слетела с губ: ее снова, уже в который раз, пронзило острое ощущение, что она осталась совсем одна, дяди Паши больше нет, а Светка… Светка…
Она взяла бумажную салфетку и осторожно дотронулась до век. Но даже такое легкое прикосновение оказалось болезненным, и Ольга слегка поморщилась. Вышла в прихожую, остановилась у зеркала и, потоптавшись в нерешительности, все же зажгла яркое бра. По меньшей мере месяц она не рассматривала себя в зеркале, даже причесывалась как-то автоматически, на ощупь, и теперь, когда вспыхнул свет, внезапно вспомнилось почерневшее от горя лицо тети Тамары, ей стало страшно, захотелось зажмуриться, убежать и спрятаться с головой под одеяло. Но, помня о том, что завтра предстоит появиться в издательстве, она мужественно взглянула прямо себе в глаза.
И Ольга честно должна была признать, что ничего ужасного она не увидела. Веки, конечно, припухли и покраснели, легкий естественный румянец исчез с высоких скул, и лицо было бледное, с сероватым оттенком, но все это можно поправить с помощью самой обычной косметики.
А вот глаза… вернее, выражение глаз удивило ее, что-то новое появилось во взгляде, чего раньше не было или, может, она просто никогда не замечала. Нет, это была не печаль, не страдание, не скорбь, не горечь утраты… Что-то гордое, высокомерное, даже надменное почудилось Ольге в этом взгляде. Внимательно осмотрев себя со всех сторон, она объяснила этот эффект тем, что из-за опухших век приходилось слегка как бы запрокидывать лицо, чтобы рассмотреть что-либо вблизи.
На плите засвистел чайник. Ольга выключила свет и вернулась на кухню. Открыла шкафчик над столом и увидела выстроившиеся в ряд банки с дядипашиным вареньем, с аккуратно приклеенными бумажками, где его размашистым почерком был помечен сорт и год приготовления. Взгляд ее упал на маленькую баночку цвета янтаря. Ольга вспомнила, как в свой последний приезд дядя Паша гордо протянул ей эту баночку и с улыбкой сказал:
— Вот, Олюшка, первый, так сказать, урожай. Но — лиха беда начало!
Ольга еще рассердилась на него за то, что, оставив все лекарства на даче, он не забыл, однако, приволочь эту банку с медом.
— Так ведь банка у меня в машине все время стояла, — виновато оправдывался он, — а лекарства-то все у Тамары, она мне по часам выдает. Но она бы меня ни за что не отпустила…
Ольга закрыла шкафчик: чай пить расхотелось. Она села с ногами на топчан, взяла вязанье и подтянула упущенную петлю. Это было, пожалуй, единственное, чем могла она заниматься в последнее время, что не раздражало ее, потому что не требовало никаких усилий и сосредоточенности. Руки проворно орудовали спицами, а мысли свободно и независимо текли в любом направлении. Но если раньше за вязаньем Ольга любила мечтать о будущем, то сейчас это будущее не простиралось для нее дальше завтрашнего дня, да и тот не сулил ей, скорее всего, ничего отрадного.
Память услужливо раскинула перед ней причудливое кружево воспоминаний. Так, Никита… почему Никита? Ах да, Кирилл рассказывал ей о нем в тот вечер, накануне их единственной ночи, которую в романах принято называть «ночью любви».
Рассказ о судьбе Никиты захватил тогда Ольгу и действительно, как Кирилл и надеялся, на время притупил собственную боль. Она прониклась симпатией и сочувствием к этому незаурядному человеку, который, в силу страстного и необузданного темперамента, считал настоящей лишь ту жизнь, где были риск и опасность.
Кирилл был очень расстроен, он чувствовал свою ответственность за то, что произошло с другом, и считал себя виноватым, потому что не пришел на помощь в трудную минуту, не поддержал его вовремя, да и вообще, к своему стыду, не знал ничего о той автокатастрофе.
— Друзья не должны бросать друг друга, понимаешь? — сжав ее руки в своих и глядя ей прямо в глаза, убежденно произнес тогда Кирилл. — Друзей нельзя менять, как мебель, как одежду… Можно заводить новых, да… но менять? А я вот… поменял… — с горечью проговорил он и опустил голову.
Эта сцена не раз уже вставала в памяти Ольги со всей отчетливостью, во всех мельчайших деталях и подробностях. Она помнит, как после этих слов волна нежности и какого-то неведомого, бесконтрольного чувства неожиданно накатила на нее с такой силой, что было почти физическое ощущение этого прилива, толчка, и в следующую секунду Ольга обнимала голову Кирилла и целовала рассыпавшиеся пряди густых светлых волос. Когда он поднял голову и Ольга встретила его благодарный и счастливый взгляд, она забыла обо всем на свете и утонула в бездонных голубых озерах его глаз, смотревших на нее с любовью и обожанием.
Она помнит легкое, приятное головокружение, тягучее томление во всем теле, когда Кирилл, медленно и осторожно раздев ее, начал покрывать поцелуями плечи, грудь, потом снова лицо, глаза, губы…
С трудом оторвавшись от нее, он быстро разделся и встал перед ней — высокий, мускулистый, красивый как бог. Непреодолимое желание вспыхнуло в Ольге с такой небывалой, дикой, какой-то животной силой, что, доходя в своих воспоминаниях до этого момента, она не переставала удивляться себе, ей даже казалось порой, что это происходило не с ней, а с каким-то другим, незнакомым ей человеком.
Кирилл лег рядом и почувствовал, что время тихих любовных ласк уже истекло, тогда он вошел в нее, властно, но осторожно, от напряжения дыхание его стало прерывистым, волосы упали на влажный лоб. Он был ее царь, ее наездник, ее повелитель.
Наслаждение нарастало могучей и грозной стеной, впереди неотвратимо забрезжила зыбкая грань, отделяющая жизнь от смерти. Вот она, все ближе, ближе… еще мгновение… но тут жизнь оповестила о своей победе каким-то утробным, нечеловеческим вскриком. Ольге до сих пор трудно было поверить, что это кричала она.
Она помнит, что, когда шла в ванную, почти не чувствовала своего тела — оно стало легким и невесомым. Наверное, пробыла она там слишком долго, потому что, вернувшись в комнату, обнаружила Кирилла спящим. Он так был измучен сегодняшним днем, и, видимо, ожиданием, что заснул в какой-то странной, неудобной позе: полусидя, свесив одну ногу на пол, словно собрался идти куда-то, да вдруг передумал.
Ольга подошла и, стараясь не разбудить, попыталась положить его поудобнее. Кирилл проснулся сразу, как только она дотронулась до него, схватил ее в свои крепкие объятия и лег на спину, не выпуская из рук добычу. Жгучее желание огненным обручем стиснуло низ живота, и Ольга тихо застонала.
Теперь она была всадницей, а дикий норовистый конь, не разбирая дороги, перелетая через овраги и горы, стрелой нес ее в неизведанную страну грез и наслаждений…
Уже не раз, перебирая в памяти ощущения той ночи, Ольга с недоумением и даже стыдом отмечала, что до самого утра, купаясь, утопая в блаженстве, она ни разу не вспомнила о дяде Паше, о том, что и двух недель не прошло к тому времени со дня его смерти. Неизвестно, как сложились бы их отношения с Кириллом в дальнейшем, если бы не эпизод, воспоминание о котором до сих пор с болью отзывалось в сердце и разжигало чувство тяжкой обиды.
Это случилось под утро, когда, счастливые и утомленные, они засыпали в объятиях друг друга. Кирилл уже мирно посапывал над ее ухом, Ольга тоже почти задремала, но почувствовала, что рука под тяжестью его тела затекла, и осторожно высвободила ее. От этого легкого движения Кирилл внезапно зашевелился, привстал и, наклонившись к ее лицу, вдруг вопросительно-радостно выдохнул:
— Полина?!
Это было для нее как разряд электрического тока. Сразу вспомнились слова дяди Паши о том, что Кирилл как-то отметил большое сходство его племянницы со своей погибшей женой. Так, значит, все это время он был с нею лишь потому, что она напоминала ему ту, любимую женщину, которую он никак не может забыть, а есть вероятность, что и никогда не забудет? А она просто кукла-близнец для него? А дядя Паша… Боже мой, дядя Паша! Как она могла… даже не вспомнила о… Что вообще происходит?..
Ольга вскочила с дивана и, стараясь не смотреть на Кирилла, начала судорожно одеваться.
Кирилл, еще не совсем проснувшись, сонно смотрел на нее.
— Ты куда? Который час?
Ее молчание насторожило Кирилла, а нервные движения, которыми она натягивала на себя одежду, заставили его окончательно проснуться.
— Что случилось? — схватив ее за руку, испуганно спросил он. — Можешь ты мне, наконец, объяснить, в чем дело? Оля!
Ольга понимала, что Кирилл назвал ее Полиной во сне и сам о том не помнил, но из этого следовало, считала она, что образ жены очень прочно овладел всем его существом. Ведь несмотря на то, что он провел всю ночь с Ольгой, любил ее и, казалось, был с нею весь и телом и душой, его память, та глубинная, подсознательная память, которая не поддается контролю и работает как бы сама по себе, независимо от человека, во сне расставила все по своим местам, где Ольге, судя по всему, отводилась роль сверчка, который должен знать свой шесток. Ей вспомнились и Светкины рассуждения на эту тему. «Что у бодрствующего в подсознании, — утверждала она, — то у спящего в снах».
Ольгу трясло как в лихорадке, она твердо решила уйти молча, без всяких сцен и объяснений. Благо, ей можно теперь спокойно жить у себя дома, потому что погоня за Светкой, к счастью для всех, прекращена.
Кирилл с решительным видом встал у двери, заслонив выход спиной.
— Я никуда не отпущу тебя, — дрожащим голосом сказал он, — пока ты мне все не объяснишь. В конце концов, это же просто не по-человечески…
Переборов на миг свою обиду, Ольга подумала, что и впрямь ведет себя жестоко по отношению к Кириллу, которого еще совсем недавно считала самым близким и дорогим человеком на свете. Он ведь ни в чем, в сущности, не виноват перед ней и к тому же действительно имеет право знать причину ее поспешного бегства.
— Ты… — начала она, судорожно сглотнув. Губы не слушались, мелко дрожали, и Ольга никак не могла заставить их произнести хоть слово.
Вспоминая сейчас эту сцену у двери, она подумала, что вид у нее тогда, наверное, был самый нелепый и даже смешной. Но Кириллу было не до смеха. Схватив ее за плечи, он посмотрел ей прямо в глаза, словно там хотел увидеть разгадку этого недоразумения.
— Что — я? Что? Оля! Объясни! — в отчаянии закричал он.
Ольга, с трудом сдерживая слезы, комом стоявшие в горле, пробормотала, что он, видимо, все еще продолжает любить свою жену, потому что во сне назвал ее Полиной.
— Уф, ну и напугала же ты меня, — услышав это, улыбнулся Кирилл. — Я уж думал, действительно что-то случилось… Ну, давай раздевайся! — Он поцеловал Ольгу в щеку, по-хозяйски снял с нее плащ и повесил в прихожей на вешалку.
Ольга была потрясена той легкостью, с какой воспринял он ее слова. Он словно не хотел замечать, насколько это серьезно для нее, в каком она состоянии, и, видимо, считал все это глупой бабьей блажью и истерикой на пустом месте.
«Лучше бы я тогда сразу ушла», — не раз думала Ольга, потому что воспоминание о дальнейшем их разговоре ядовитой отравой засело в душе, вызывая мучительную боль и мучительный стыд. Ей было так стыдно за свои слова, за свои жалкие, нелепые вопросы, что хотелось потерять память и все забыть. Но она снова и снова возвращалась к этому разговору, чтобы насладиться своим унижением и тем самым поддержать в себе крепнувшее день ото дня нежелание жить.
Нет, она не помышляла о том, чтобы как-то лишить себя жизни, у нее вовсе не было стремления умереть, но и желания жить почти не осталось. Подступила мертвящая полоса полного безразличия, равнодушия ко всему, когда человек и сам не замечает, что живет уже автоматически, только по причине появления на свет, не замечает, как душа его постепенно подергивается болотной ряской, а все чувства исчезают в трясине душевной глухоты и слепоты.
Ольга не понимала, почему бы ей не жить, как не понимала и того, для чего же все-таки жить.
Всего месяц прошел с того утреннего разговора с Кириллом, но ей чудилось: утекла целая жизнь. Тогда, в то утро, она подумала, что реакция Кирилла на ее слова — его улыбка, вздох облегчения — может быть, вовсе и не таит в себе равнодушия к ее переживаниям, просто он действительно не видит серьезных причин для этих волнений. Ольге показалось даже, что он и сам сейчас скажет об этом, он поймет, как ей больно, и успокоит ее. Она немного расслабилась и перестала дрожать.
— Пойдем выпьем чаю, — предложил вдруг Кирилл, и они пошли на кухню.
Кирилл поставил чайник на плиту, надел в ванной халат и сел напротив Ольги. Он молчал. Ольга не в силах была выдержать этого давившего молчания и заговорила первой.
— Что же ты молчишь, Кирилл? — тихо спросила она. — Скажи хоть что-нибудь…
Ни тени улыбки не было на его лице, глаза приобрели какой-то стальной оттенок.
— Мне трудно говорить, Оля, — так же тихо ответил он. — Именно потому, что я знаю, что ты хочешь от меня услышать.
Сердце слабо заныло у нее в груди в горестном предчувствии. О, если бы сумела она вовремя оценить этот знак, поданный ей свыше! Но нет, не сумела, не смогла, не захотела остановиться, решила испытать судьбу.
— Я хочу знать только одно, — снова начиная дрожать от волнения, произнесла Ольга, — и прошу тебя… скажи мне правду… Ты действительно все еще любишь… ее?
Кирилл разлил чай, протянул ей чашку, обжигаясь, отпил несколько глотков из своей. Затем придвинулся ближе, взял ее руку и, глядя прямо в глаза, сказал:
— Пойми, Оля, мы прожили с Полиной почти семь лет… Ты хочешь правду? Но правда ведь не всегда бывает черно-белая, не всегда однозначная — «да» или «нет»…
Ольга отдернула руку и упрямо повторила:
— А я хочу, чтобы ты все же сказал мне…
Кирилл устало откинулся на спинку стула.
— Ну хорошо… Да, я любил Полину, очень любил, — задумчиво произнес он. — И знаешь, после ее смерти я не посмотрел ни на одну женщину… то есть смотрел, конечно, но как бы не видел… Перед глазами только она стояла…
Ольга вспомнила большую фотографию красивой молодой смеющейся женщины в легком платье, которая висела в комнате Кирилла над письменным столом.
— И ты обратил на меня внимание только потому, что я похожа на нее? — с вызовом спросила она, словно желая в чем-то уличить его.
— Да, — просто ответил Кирилл и мягко улыбнулся. — Хотя и сам не пойму чем… Чем-то неуловимым… походкой, может быть, движениями…
— Ну знаешь!.. — оскорбленно воскликнула Ольга и встала, чтобы уйти.
Кирилл подскочил, усадил ее на стул и встал перед ней на колени.
— Оленька, не уходи, Оля, я не хотел тебя обидеть, прости, — отрывисто заговорил он, целуя ей руки. — Но ты должна понять… Мне плохо без тебя… Ты мне очень нужна…
Этот внезапный порыв и мольба в его голосе растопили злобный, колючий комок, застрявший у нее в горле, по щекам медленно потекли тихие слезы. Она смотрела сверху на светлые пряди его волос, на миг забыв обо всем. Это снова был ее Кирилл, ее, только ее! Она потянулась к нему, прижалась губами к затылку и прошептала:
— Ты любишь меня?
Как только Ольга доходила в своих воспоминаниях до этого момента, кровь бросалась ей в голову, краска стыда заливала лицо, будто начинался жар от резко подскочившей температуры. Она отложила вязанье, силясь справиться с нахлынувшим волнением, прилегла на топчане и закрыла глаза.
Она помнила все до мельчайших подробностей, словно это происходило вчера, а не месяц назад. Помнила, как Кирилл продолжал молча целовать ее руки, словно не слышал вопроса. Это насторожило Ольгу, она схватила его голову и посмотрела прямо в глаза.
— Ты любишь меня? — дрожащим голосом повторила она, будто вся ее жизнь зависела от его ответа.
Ее поразило, как за несколько секунд лицо его превратилось в застывшую, окостеневшую маску. Ольга оцепенела, со страхом вглядываясь в потускневшие чужие глаза, их серый, стальной цвет пугал ее.
Кирилл молча поднялся с колен и нервно заходил по кухне. У Ольги возникло ощущение, будто ноги и руки ее налились свинцом и нет возможности двинуться с места.
— Оля, выслушай меня… и пойми… — заговорил он наконец, остановившись возле нее и ласково положив руку ей на плечо. — Нам уже не семнадцать лет, когда клятвы и заверения в любви сами собой слетают с губ… Честно говоря, я думал, что не смогу уже быть ни с кем после Полины… Для меня самого это такая неожиданность… ты… ты как подарок судьбы, но… — Ему трудно было говорить, он провел ладонью по лицу, как бы собираясь с мыслями, и продолжал: — Подожди немного, Оля, я умоляю тебя… не торопись… не делай поспешных выводов. Пусть само все уляжется и… дозреет, что ли…
Голова у Ольги шла кругом, из горла неожиданно вырвался какой-то хрипловатый истерический смешок.
— Значит, для того, чтобы спать со мной, ты уже дозрел, — ядовито произнесла она, — а для того, чтобы испытывать какие-то чувства, кроме физиологических потребностей, еще нет?
Она с ужасом понимала, что слова ее злы, циничны и несправедливы, но остановиться уже не могла. В какой-то миг ей стало даже жалко Кирилла, но, заметив, что черты его лица снова как-то застывают и взгляд становится непроницаемым, она вскочила со стула и решительно направилась в прихожую.
— Ну зачем ты так, Оля? — горестно воскликнул Кирилл ей вслед.
Надев плащ, она прошла в комнату за сумкой, а выходя, столкнулась с Кириллом, который опять стоял в дверях, загораживая ей путь.
— Оля, я вечером обязательно позвоню тебе… или приеду, — сказал он. — Нам надо поговорить. Ты успокоишься, выспишься и…
— Нет уж, ни звонить, ни приезжать не надо, — твердо проговорила Ольга. — Нам не о чем говорить, пока ты… не дозреешь. Пусти меня!
Кирилл крепко схватил ее за плечи и больно сжал их.
— Я знаю, ты хочешь, чтобы я отрекся от Полины, от памяти о ней, и поклялся тебе в вечной любви. Ты ведь этого хочешь? — слегка задыхаясь, спросил он, и Ольгу поразило тогда сочетание беспомощности и жесткости в его голосе.
И опять смутное чувство жалости к нему зашевелилось где-то в глубине души, но собственная боль и то унижение, которое, как ей казалось, она испытала в полной мере, овладели ею совершенно, выразившись почти в ненависти, с какой оттолкнула она Кирилла.
— Я хочу только, чтобы ты оставил меня в покое, — холодно сказала она и вышла из квартиры.
Он не удерживал ее.
С тех пор Ольга не видела Кирилла, не знала даже, в Москве ли он или, как советовали врачи, уехал в санаторий в Кисловодск. Может быть, он и звонил ей, но весь этот месяц Ольга включала телефон лишь для того, чтобы поговорить с тетей Тамарой, которая после смерти дяди Паши жила в Москве с Ириной и Игорем.
Говорили они, как правило, о здоровье и о погоде, но где-то подспудно у Ольги возникло ощущение, что тетя Тамара лучше всех понимает ее состояние, потому что и сама с трудом приходит в себя после потери мужа.
И вообще тетя Тамара, женщина добрая, но суровая и немногословная, после смерти дяди Паши стала ей как-то ближе и родней, чем за те десять лет, что прожили они бок о бок. Родителям Ольга звонила редко, в основном передавала им приветы через тетю Тамару, от нее же узнавая, как продвигается их подготовка к переезду в Александровку будущей весной.
Ольгу раздражало веселое щебетание Ирины, когда та брала трубку и начинала в упоении рассказывать об успехах Игоря на работе, о мечтах обзавестись собственной квартирой и купить новую мебель. Слушать эти речи было невмоготу, и не столько куцые мечтания сестры угнетали Ольгу, сколько ее радостный и беззаботный тон, будто жизнь Ирины протекала светло и безоблачно и ничего страшного не случилось. «Ну ладно Светка, — думала она, — в конце концов, дядя Паша для нее посторонний человек, но Ирина…» И, как правило, не дослушав сестру и перебив ее на полуслове, звала к телефону тетю Тамару. Ирина, обиженная, замолкала, подзывала мать, но в следующий раз все повторялось снова.
Часто, ложась в холодную одинокую постель, Ольга вспоминала жаркие объятия Кирилла, его поцелуи и то невероятное наслаждение, которое испытала она той ночью и которое подарил ей он. Но тут же непременно возникала мысль о том, что в любовном чаду она ни разу не вспомнила — даже не вспомнила! — о дяде Паше, и она ужасалась собственному бездушию. Ольга твердо знала, что не будет уже в ее жизни человека, который любил бы ее так преданно и бескорыстно, как он.
И даже самой себе боялась она признаться, что ей хотелось бы вновь увидеть Кирилла, его улыбку, ощутить прикосновение его рук. Он снился ей иногда, веселый, счастливый, и всегда рядом с ним была Полина, тоже радостная и смеющаяся, как на фотографии. Они смотрели друг на друга, о чем-то говорили, и Ольга боялась, что вдруг он заметит ее, и он действительно замечал, но не узнавал, а лишь взглядывал мельком, как на случайного прохожего.
Порой бремя плоти давило ее, тело изнемогало от жажды ощутить в себе сильную, могучую власть животворящего слияния. И странно, что в такие мгновения ни Вадим, ни даже Игорь, с которыми провела она много счастливых часов и дней, совсем не вспоминались ей. Перед внутренним взором неизменно возникал Кирилл, его одухотворенное страстью лицо, красивое, мускулистое тело. В отчаянии кусая подушку, Ольга гнала от себя этот образ, но память плоти избирательна и приказывать ей невозможно.
Поэтому и приходилось время от времени призывать на помощь память сердца, беспощадно, шаг за шагом вспоминая о пережитом унижении и поддерживая тем самым пламя обиды, чтобы оно не уменьшилось или, не приведи Бог, не угасло совсем.
* * *
Как только на следующий день Ольга переступила порог редакции, то сразу поняла, что напрасно боялась скорбных лиц и соболезнований.
— Ольга Михайловна, наконец-то! Рад вас видеть, — подскочил к ней Никанорыч, помогая снять куртку, — и, заметьте, не бескорыстно, — лукаво подмигнув, добавил он.
— Сережа, как не стыдно, дай человеку хоть отдышаться! — воскликнула Елена Одуванчик и выпорхнула из-за стола. — Оленька Михайловна, ну как вы, дорогая? Здоровы? Ну и слава Богу, слава Богу… Выглядите очень, очень хорошо, — ласково улыбаясь, щебетала она. — Сейчас чаек поставим… А как Тамара Ивановна?
Ольга с облегчением окунулась в привычную атмосферу доброжелательности, теплоты и дружеского участия и только сейчас осознала, что ей в последнее время очень не хватало суетливой заботливости Одуванчика, прямодушного, но не злого юмора Никанорыча, даже экстравагантности и резких суждений Искры Анатольевны.
— А где же Искра Анатольевна? — спросила она. — И Верочка?
— Искра скоро прибудет, — сообщил Никанорыч. — А вот Верочка у нас теперь студентка, по понедельникам ей положен нерабочий день под названием «библиотечный». Я ей говорю: «Верочка, дружочек, не вздумай действительно ходить в библиотеку, используй этот день для личной жизни»…
Ольга улыбнулась и прошла к своему столу, заваленному папками с рукописями.
— В чем же ваша корысть по отношению ко мне? — продолжая улыбаться, обратилась она к Никанорычу.
— А вот, извольте взглянуть! — тут же подбежал он, указывая на папки. — Видите, сколько работы, и ведь все несут и несут… Их как прорвало, право! Искра нас с Еленой и взяла в ежовые рукавицы, лишний раз покурить не выйдешь. Я уже две недели не общался ни с одной редакцией! Не знаю, чем живет коллектив! — запальчиво выкрикнул Никанорыч и, закручинившись, замолчал.
Ольге очень хорошо было известно, что он с Одуванчиком чуть ли не по полдня привык проводить в других редакциях, при этом Елена Павловна держала руку на пульсе издательства в основном в отношении семейной и вообще закулисной жизни коллег, а Никанорыч любил обсуждать политические события, новости литературы и театра, попутно выполняя роль народного трибуна и одновременно народного же контроля.
— Говоришь, не знаешь, чем коллектив живет? А ты меня спроси! — раздался громовой голос величественно вплывающей в комнату Искры Анатольевны, которая, видимо, через приоткрытую дверь успела услышать последние слова Никанорыча. — А живет он, любезный Сергей Никанорыч, ударным трудом! Ольга Михайловна, приветствую вас, голубушка, — обратилась она к Ольге. — Ждали с нетерпением. Вы, наверное, уже в курсе, что работы у нас невпроворот. — Она повесила пальто в шкаф, закурила и, подойдя к Ольге, положила руку ей на плечо. — И мой вам совет, Ольга Михайловна: включайтесь сразу, погрузитесь целиком, без остатка. Время, конечно, хороший лекарь, но в вашем положении спасение можно найти только в работе, уж поверьте моему печальному опыту…
Голос ее дрогнул, она дружески сжала плечо Ольги и направилась к двери.
— Я к директору, — на ходу сказала она, — буду минут через десять.
Ольга всегда завидовала мужеству и жизнестойкости этой женщины. Искра Анатольевна похоронила не только двух мужей, которых, по утверждению Одуванчика, очень любила, но и единственного двадцатилетнего сына, погибшего несколько лет назад в Афганистане. Ольгу поражало, что, пройдя эти страшные испытания и стойко преодолев удары судьбы, она не потеряла интереса к жизни во всех ее проявлениях: не пропускала ни одного кинофестиваля, по телевизору смотрела только политические программы, посещала всевозможные музыкальные вечера и до сих пор трепетно относилась к журналам мод.
Со своим нынешним мужем, скромным преподавателем музыкальной школы, она познакомилась в консерватории. Его трогательное старомодное ухаживание длилось не меньше года. Выражалось это в том, что раз в неделю, в конце рабочего дня, он появлялся с цветами в редакции, вежливо приветствовал сотрудников, целуя дамам ручки, и уводил Искру Анатольевну в филармонию, в Большой театр или в консерваторию.
Ольга хорошо помнит тот день, когда заведующая, изменив своей обычной величавой манере вплывать в комнату, вихрем ворвалась в редакцию, неся в одной руке огромную коробку с тортом, в другой — бутылку шампанского, и прямо с порога объявила, что вчера вышла замуж. За восклицаниями последовали поздравления, а затем и дружеские претензии.
— Я, конечно, подозревал что-то в этом роде, — обиженно молвил Никанорыч, полушутя, полусерьезно, — но, Искра, ты могла бы старых друзей поставить в известность заранее… мы бы подготовились… и вообще…
— Ах, Никанорыч, оставь, пожалуйста, — отмахнулась та. — Кой черт заранее, когда я сама еще позавчера не была уверена, решусь ли на такой шаг…
— Искрочка, я так рада за тебя, так рада… — со слезами умиления говорила Елена Павловна, обнимая подругу.
Когда подняли тост за новобрачных, Никанорыч вдруг посерьезнел и раздумчиво произнес:
— Надеюсь, Искра, это не опрометчивый шаг и ты хорошо обдумала свой выбор. Сумей же быть счастлива, дорогая!
Искра Анатольевна, очень хорошо поняв, что хотел сказать этим старый друг, так же серьезно ответила:
— Есть много категорий женщин, и тебе, Сережа, известно, что моим кумиром и идеалом всегда была Эдит Пиаф… Так вот, она сказала как-то, что дом, где не валяются всюду мужские рубашки и носки, — пустой, холодный для нее. И знаешь, я согласна с нею. Видимо, я из того же теста.
При воспоминании об этом Ольге на ум пришли слова дяди Паши о тех счастливицах, которые, как трудолюбивые пчелы, создают свое счастье, казалось бы, из ничего. «Видимо, Искра из их числа», — подумала Ольга, удивляясь ее способности без видимых усилий заново, уже на склоне лет, строить семью и, при ее-то властном характере, приспосабливаться к причудам и странностям мужа, о котором она рассказывала с неизменным добродушным юмором и даже любовью.
Получив от заведующей сразу две рукописи, Ольга, следуя ее совету, тут же углубилась в одну из них, не слыша ни шепота Одуванчика, о чем-то время от времени вопрошавшую Искру Анатольевну, ни телефонных переговоров Никанорыча, старавшегося говорить приглушенным голосом, прикрыв трубку рукой. Она была рада, что ей удалось, как тогда, полностью уйти в работу, не замечая никого и ничего вокруг, и не знала даже, сколько прошло времени, когда раздался наконец трубный глас Никанорыча, сзывающий всех к столу.
— Нас в пятницу еще предупредили, что столовая по каким-то там техническим причинам сегодня работать не будет, — пояснил он Ольге, заметив ее удивленный взгляд. — Так что сегодня мы, так сказать, на домашнем харче. Прошу!
Ольга обнаружила, что на журнальном столике уже дымится кастрюля с картошкой, на тарелке высится гора бутербродов, стоят банки с различными домашними соленьями. При виде соленых огурцов и квашеной капусты какой-то непонятный спазм перехватил ей горло, а обильное слюноотделение не на шутку удивило ее. Ольга в семье слыла сластеной, и домашние, зная это ее свойство, никогда не предлагали ей за столом ни острого, ни соленого. Дядя Паша всегда очень огорчался, что ее оставляли равнодушной все его маринады и соленья, которые он заготавливал на зиму, и привозил ей в Сокольники бесчисленные банки с вареньем, компотами и желе.
Сейчас же, когда она увидела на блюдечке куски селедки, а главное — услышала этот неповторимый, волшебный запах, ее охватила непонятная внутренняя дрожь, захотелось схватить блюдечко и съесть все самой, и одна только мысль о том, что и Одуванчик, и Никанорыч, и Искра Анатольевна тоже наверняка претендуют на эту селедку, на какой-то миг вызвала в ней почти неприязнь к своим коллегам. Ольга в душе подивилась своим желаниям, даже посмеялась над их силой и остротой и решила после работы купить большую банку селедки, чтобы дома расправиться с ней без соперников.
— Ой, Оленька Михайловна, вы ведь соленого не любите, — сокрушалась заботливая Елена Павловна, — так вы на бутерброды налегайте, вот, с колбаской возьмите.
— Ну почему же, — слегка смутившись, возразила Ольга, — с удовольствием съем кусочек селедки.
За обедом Ольга старалась сохранять чувство приличия, но ее неожиданно проснувшийся интерес к соленому не ускользнул от внимательных глаз сотрудников.
— Непременно Мусе передам, что ее заготовки имели у вас большой успех, — обращаясь к Ольге, с улыбкой проговорил Никанорыч и, не удержавшись, лукаво прищурился и добавил: — Как говорили в старые добрые времена, что-то вас, дражайшая Ольга Михайловна, на солененькое потянуло…
При этих словах Ольга поперхнулась, Одуванчик осуждающе покачала головой, а Искра Анатольевна укоризненно протрубила:
— Сергей, неужели нельзя без пошлостей?!
Общую неловкость разрядил робкий стук в дверь.
— Войдите! — хором воскликнули все, немало удивившись этой вежливости, не принятой в стенах издательства, где в любую комнату, кроме кабинета директора, входили как в свою, вовсе не заботясь о планах и желаниях ее обитателей.
На пороге стоял взволнованный «почитатель», прижимая к груди большую коробку конфет. Увидев, что угодил в самый разгар трапезы, он смутился и забормотал извинения.
— Теодор, вы как нельзя вовремя, — ободрил его Никанорыч. — Просим вас великодушно разделить с нами, так сказать, хлеб-соль.
Женщины стали наперебой настойчиво приглашать его, и смущенному «почитателю» ничего не оставалось, как сесть за стол вместе со всеми.
— Я, честно говоря, не знал… не предполагал… думал, к чаю… Вот! — сказал он, протягивая конфеты Никанорычу.
— А это, Теодор, не по адресу, — возразил тот. — Я, да будет вам известно, сладкого вообще не переношу, кроме разве варенья и особенно меда. По сладкому у нас Ольга Михайловна специалист, — мигнул он в сторону Ольги, — хотя, надо вам заметить, в последнее время…
— Никанорыч! Опять за свое?! — грозно прикрикнула на него Искра Анатольевна, и тот с притворно обиженным видом молча развел руками: вот, дескать, слова сказать не дают.
«Почитатель» испуганно передал коробку Ольге.
— Федор Михайлович, голубчик, не слушайте вы этого старого балабона, — бесцеремонно заявила заведующая. — Попробуйте-ка лучше кухню его жены — пальчики оближешь!
После обеда последовало чаепитие, растянувшееся еще минут на сорок и скорее напоминающее митинг, чем мирное дружеское застолье. Спор велся в основном вокруг грядущего развала страны, причем женщины считали отделение республик их законным и естественным правом и всецело были на их стороне, а мужчины, прекрасно понимая неминуемость этого отделения, настаивали на сохранении Союза и предрекали, в противном случае, всевозможные беды и несчастья.
Все разгорячились, даже Одуванчик, раскрасневшись, била себя в грудь сухоньким кулачком и запальчиво восклицала:
— А как же, Сереженька, права человека? Объясни! — И белый пух воинственно топорщился на ее голове.
Первой от митинговых страстей очнулась Искра Анатольевна и, взглянув на часы, громко простонала:
— Друзья мои, если все будут так работать, как мы, страна развалится сама по себе, и, уверяю вас, скорее, чем мы думаем.
* * *
Вечером, войдя в квартиру и сбросив куртку, Ольга сразу устремилась на кухню, вынула из целлофанового пакета одну из больших толстых селедок, купленных по дороге, и, не имея терпения очистить ее, а лишь наскоро промыв под струей воды, с вожделением вонзила зубы в жирный, лоснящийся бок. Когда от рыбы остался один скелет, она, довольно улыбаясь, поставила чайник на плиту и пошла в прихожую снять сапоги. Незнакомая до сей поры, внезапно возникшая тяга к соленому забавляла ее.
Она повесила одежду в шкаф, надела халат, и совершенно неожиданно, когда наливала в чашку чай, ей вспомнились вдруг слова Никанорыча: «Что-то вас, дражайшая Ольга Михайловна, на солененькое потянуло…»
Ольгу как громом поразило: до нее отчетливо дошел наконец коварный смысл этих слов, сказанных Никанорычем в шутку. Рука с чайником зависла в воздухе, сердце часто и испуганно забилось, словно раненый зверь, попавший в капкан. Она заметалась было по квартире в поисках календарика, где отмечала свой женский цикл, но вдруг остановилась, с ужасом припомнив, что последние месячные были у нее в августе, еще до приезда в Александровку.
Боже мой, как же она, дуреха, об этом не подумала и даже не вспомнила? Кирилл… самое начало сентября… первое… нет, второе, точно второе… а сегодня? Господи, уже пять недель почти! Как же так? Он ведь даже ни о чем не спросил ее тогда, а она… она не предупредила… да и сама забыла, не подумала, что дни были «опасные». Значит, ни ему, ни ей в ту ночь и в голову не приходила мысль об опасности такого рода…
Нет, но она-то, она… «Сама виновата, — разозлилась на себя Ольга, — вот и грызи теперь селедку с утра до вечера…» Да, такого промаха с ней еще не случалось… И с Игорем, и с Вадимом, не говоря уже о давних, более или менее случайных возлюбленных, Ольга четко соблюдала свой, как шутила Светка, «девичий график» и не позволяла себе так забываться, как с Кириллом. И ведь с Игорем они были целых три года! А тут всего-то одна ночь — и на тебе, беременна на все сто!
«Да, прав был дядя Паша, — с горечью подумала Ольга. — За все в этой жизни приходится платить…» Вот и ей нужно расплачиваться теперь за ту ночь неземного блаженства, какого-то дьявольского наваждения, а главное, считала она, за то, что совсем забыла тогда о дяде Паше. При мысли о том, что наказана справедливо и страданиями сумеет смыть вину свою перед ним, Ольга ощутила даже некоторое болезненное удовольствие, сродни тому, какое, видимо, испытывает мазохист при воспоминании о порке.
Обессиленная, она сидела на пуфике в прихожей, и в голове, как когда-то, после звонка Ираклия, молоточком билась лишь одна мысль: «Надо… что-то… делать… Надо… что-то… делать…» Вдруг ее осенило, она потянулась к телефону и набрала номер Беркальцевых.
— Тетя Тамара?.. Это я, здравствуй… Как ты себя чувствуешь?.. А бессонница? То средство помогло?.. Ну отлично… Слушай, у меня к тебе важное дело… и срочное… Нужна помощь твоей Капитолины, помнишь, два года назад она Светке помогла?.. Нет, теперь не Светке… Ну кому-кому… мне, вот кому… Да не дурю я… Да, точно… Пять недель почти… Тетя Тамара, умоляю тебя… Ты же знаешь, меня это не остановит, я и в районную больницу могу, и в платную, только не хочется мне с ними связываться. А Капитолина человек надежный, проверенный, утром — у нее, вечером — уже дома… Да не схожу я с ума… Да, решила твердо… Что?.. Который час? Семь. А что?.. Ну все, хватит, пожалуйста, не уговаривай меня, ради Бога… И Иришке не говори ничего, я только тебе, даже Светка не знает… Ну ладно, завтра позвоню. Если ты откажешь, обращусь в платную, в кооператив какой-нибудь. Все. Целую.
Положив трубку, Ольга обнаружила, что от напряжения все тело покрылось испариной. Она сняла халат, пошла в ванную и, стоя под душем, с удивлением подумала о нелегком разговоре с тетей Тамарой. А ведь именно у тети Тамары надеялась она найти понимание и поддержку и, честно говоря, не ожидала такого отпора. А что особенного, собственно, произошло? Ольга взрослая женщина, ей почти тридцать, а тетя Тамара человек здравомыслящий да к тому же медик, уж ей ли не знать про женские беды и непредвиденные случайности любви? Она же сама всегда твердила Ольге: не заводи ребенка без мужа, пусть и в тридцать пять родишь, но чтоб отец у ребенка был.
Да Ольга и не торопилась, ее пугало сочетание «мать-одиночка», вызывая ассоциации с чем-то убогим и неполноценным. Дядя Паша не разделял ее предубеждений, считая, что роль матери для любой женщины почетна, а если она к тому же решается воспитывать ребенка самостоятельно, то она не одиночка, а героиня.
Светка не была сторонницей дяди Пашиного пафоса, но и с мнением Ольги на сей счет не соглашалась. Она утверждала, что убога и неполноценна не «мать-одиночка», а та женщина, которая не родила или хотя бы не воспитала ни одного ребенка. «Ты как хочешь, подруга, — смеялась она, — а я твердо решила: до тридцати двух терплю, а потом уж точно рожу, и не важно, с мужем или без». При этом смех ее был такой странный, неестественный, что Ольга так до сих пор и не поняла, всерьез ли говорила Светка или, как всегда, шутила.
Залпом выпив большую чашку остывшего чая, она включила в комнате телевизор и села в кресле с вязаньем в руках. Не в силах сосредоточиться, Ольга никак не могла уловить смысл происходящего на экране, это раздражало ее, к тому же петли путались и рисунок постоянно сбивался. Ее мучила жажда, и в то же время все неудержимей становилось желание съесть еще одну селедку, а лучше — две. «Ну вот, начинается…» — с досадой подумала она.
По всяким фантастическим слухам, доходившим до нее, и из рассказов рожавших знакомых у Ольги сложилось определенное представление о беременной женщине. Ей казалось, что в этот период разумное начало в женщине как бы отступает и она становится неким неуправляемым существом, слепо подчиняющимся неожиданным капризам и прихотям своего организма. И теперь Ольга с паническим ужасом наблюдала все эти признаки в себе.
Раздался заливистый звонок в дверь. Ольга вздрогнула от неожиданности. «Кто бы это?» — со страхом подумала она. Каждый раз, когда неожиданно звонили в дверь — соседка ли, слесарь ли из жэка, — у Ольги обрывалось сердце, и в первое мгновение ей казалось, что за дверью стоят бандиты. Но тут же она вспомнила, что погоня за Светкой закончена, облегченно вздыхала и шла открывать.
Вот и сейчас она подошла к двери, посмотрела в глазок и открыла. На пороге стояла тетя Тамара.
— Ты? — удивилась Ольга, отступая в сторону и пропуская ее в квартиру. — Что-то случилось? Ирина?
— Да успокойся, Иришка с Игорем в театре, — снимая пальто, сказала тетя Тамара. — А я вот взяла такси и… Нам надо поговорить, Оля, — решительно добавила она, — и не по телефону, а с глазу на глаз.
— Агитировать будешь? — ехидно спросила Ольга. — Живая, так сказать, агитация? Ну давай-давай, только предупреждаю: это бесполезно…
— Да не ершись ты, — примирительно проговорила та и улыбнулась, — а предложи-ка лучше чаю своей любимой тетке.
Они прошли на кухню, Ольга поставила чайник и выпила стакан воды прямо из-под крана.
— Кипяченую пить надо, а не из крана хлестать, — наставительно сказала тетя Тамара.
— Кипятить не успеваю, — усмехнулась Ольга. — Я недавно целую селедку съела, прямо нечищенную. И еще хочется.
— Что ж, это нормально в твоем положении.
Ольга вспыхнула, но заставила себя сдержаться и холодно ответила:
— Конечно, если учесть, что само положение ненормально.
— Ты не права, — спокойно возразила тетя Тамара. — Для любой женщины это положение самое естественное, а для многих — очень желанное, но — увы! — недостижимое… Ты вот с Капитолиной поговори, она уже тридцать лет при этих делах, она расскажет, сколько женщин маются бесплодием, сколько из-за этого разбитых семей и судеб…
— Ах, оставь, пожалуйста, — отмахнулась Ольга. — Все это известно. Лучше вот что скажи: неужели ты хочешь, чтобы я стала матерью-одиночкой? Ты же всегда была категорически против, всегда считала, что ребенку необходим отец…
— А я и сейчас так считаю, — уверенно проговорила та. — Мне непонятно только, почему ты думаешь, что будешь одиночкой? Если не ошибаюсь, это ведь Кирилл отец ребенка?
Ольга снова вспыхнула, краски стыда выступили на лице, будто ее, как школьницу, поймали за каким-то предосудительным занятием. Она отвернулась, отошла к окну и посмотрела на тусклые фонари у булочной напротив, которые, постепенно расплываясь, становились похожими на желтоватые туманные пятна. Тетя Тамара неслышно подошла и обняла ее сзади за плечи.
— Оленька, поверь, я тебе только добра желаю, — тихо проговорила она. — Павел… после больницы рассказывал мне о нем… и знаешь, с таким восторгом, уж очень он ему понравился. Он сказал даже: «Я был бы счастлив, будь у Олюшки такой муж, как Кирилл Андреевич».
— Ага, и все сватал мне его… — всхлипнула Ольга. — Вот и досватался… на мою голову… — Она повернулась к тете Тамаре и, уткнувшись ей в плечо, горько разрыдалась.
— Ну, ну, не надо… — желая успокоить племянницу, сдавленным голосом проговорила та, но глаза у самой тут же покраснели и налились слезами.
Они сели на топчан и, обнявшись, как две подружки, плакали на плече друг у друга, не стесняясь своей слабости.
* * *
Полчаса спустя они, обессилев от рыданий и немного успокоившись, сидели за столом и пили чай с любимым вареньем тети Тамары — из клубники. У Ольги не было любимого сорта, любое варенье казалось ей лучшим только потому, что оно сладкое. Дядя Паша порой посмеивался над этой ее всеядностью, когда дело доходило до сладкого, и шутил, что если бы она была так же неприхотлива в выборе спутника жизни, то давно уже была бы замужем.
— Ты говори, да не заговаривайся, — оса живала его тетя Тамара. — По-твоему, так замуж выйти все равно что чаю выпить?
— А что ж ты думаешь? — приосанивался дядя Паша и подмигивал Ольге. — Если этот процесс слишком уж усложнять, так недолго и того… в старых девах остаться…
Слушая подобные шутливые перепалки, Ольга прекрасно понимала, что дядю Пашу всерьез волнует неустроенность ее личной жизни. Казалось, его даже больше, чем саму Ольгу, пугала мысль о том, что она может остаться без собственной семьи и детей.
— Помнишь, как Павел-то переживал? — словно угадав, о чем она думает, заговорила тетя Тамара. — Говорил, Олюшка, мол, молода еще, не понимает, каково женщине без детей, а потом, дескать, спохватится, да поздно будет.
Отставив чашку, Ольга опустила глаза и стряхнула с халата какие-то невидимые крошки.
— Ну зачем ты опять, тетя Тамара? — тихо сказала она. — Я же все тебе рассказала… Кирилл до сих пор любит свою жену, понимаешь? — Комок застрял у нее в горле, она судорожно сглотнула и продолжала: — Может, он всю жизнь ее любить будет, ведь такое случается, сама знаешь… Ты представь только: он будет спать со мной, а думать… о той… Неужели тебе не ясно?
— Мне ясно только одно, — твердо проговорила тетя Тамара, — ты все преувеличиваешь… и сама же себя накручиваешь…
— Я… накручиваю?! — задохнулась Ольга. — И это после всего, что я тебе рассказала? — Злая улыбка зазмеилась у нее на губах. — Может, ты считаешь, мне следует научиться откликаться на имя «Полина»? Ты этого хочешь?! — распалялась она.
Ольга горько пожалела о том, что в порыве откровенности открыла тете Тамаре свою тайну, потому что та явно не могла или, скорее, не хотела почувствовать, ощутить всю боль унижения, испытанную племянницей. Ольга искала поддержки, сопереживания, а наткнулась на глухую стену непонимания, почти осуждения.
— Оля, прошу тебя, выслушай спокойно, без сердца, — тихо сказала тетя Тамара. — Вот ты думаешь сейчас, тетка старая, бесчувственная, понять тебя не хочет…
Ольга внутренне вздрогнула от того, как легко читала та ее мысли.
— Я вот наблюдаю за тобой после смерти Павла… — продолжала тетя Тамара. — Ты очень изменилась… И, прости мне мою откровенность, не в лучшую сторону…
У Ольги глаза полезли на лоб от такого заявления. Нечего сказать, хорошую же она себе нашла утешительницу!
— Погоди, погоди обижаться, — жестом остановила та Ольгин порыв сказать что-то резкое, — ты выслушай сначала…
Ольге и самой не терпелось узнать, что же имеет в виду тетя Тамара, обвиняя ее так прямо и безапелляционно. Любопытство взяло верх над возбуждением, она сдержалась и промолчала.
Тетя Тамара тоже помолчала немного, как бы собираясь с духом и с мыслями.
— Я вдвое старше тебя, — сказала она наконец, — много людей повидала… и в радости их, и в горе. А ты сама знаешь, работа у меня такая была, где горя и несчастья больше встретишь. И я поняла, что горе — как лакмус для человека… проявляет вдруг те его качества и свойства, о которых ни окружающие, ни он сам даже не подозревали… Знала я одну мать, она сына десятилетнего потеряла… Страшная потеря, ничего не скажешь, только мать лютой ненавистью возненавидела всех детей этого возраста… за то лишь, что они остались жить, а ее сына уже нет. А другая, оказавшись в той же ситуации, только мальчик поменьше был, взяла из детского дома двоих такого же возраста…
Ольга внимательно слушала, пытаясь понять, куда же клонит тетя Тамара, но смысл ее слов оставался пока загадкой.
— Я хочу сказать, — словно опять угадав ее мысли, пояснила та, — что горе — это как проверка… на человеческую прочность, что ли… Смерть близкого — большой урок, его жизнь преподносит нам, живым… От этого можно прозреть, но от этого же можно и ослепнуть навсегда.
— Так ты, значит, считаешь, — медленно проговорила Ольга, до которой дошел наконец смысл услышанного, — что я этой проверки не выдержала и… ослепла? Так, что ли?
— Хочу надеяться, еще нет, — улыбнулась вдруг тетя Тамара, — хотя некоторая подслеповатость намечается.
— Нет, ты не смейся, — рассердилась Ольга. — Раз уж начала, объясни толком, что ты конкретно имеешь в виду.
— Ну хорошо, — решилась та, и улыбка исчезла с ее лица, — возьмем хотя бы Ирину. Вот я вижу, чувствую, что ты в душе осуждаешь ее, считаешь, она, мол, легкомысленно отнеслась к смерти отца, так ведь?
— Ну… в общем… — замялась Ольга.
Ей-то казалось, что эти ее мысли и ощущения достаточно глубоко спрятаны от посторонних глаз, она ведь ни словом не обмолвилась об этом ни с Ириной, ни с тетей Тамарой.
— Значит, в отношении Ирины я все-таки оказалась права, — с сожалением произнесла та. — А ведь тебе, Оля, неизвестно, что Иришка уже на третьем месяце… Тебе неизвестно, что после смерти отца она неделю ничего не ела и билась в истерике, мы с Игорем не знали, что и делать. Мне пришлось колоть ей успокаивающее, хотя при беременности этого делать нельзя, но тут уж… А с другой стороны, — раздумчиво проговорила тетя Тамара, — если бы не забота об Иришке, о будущем ребенке, я бы, может, и сама вслед за Павлом отправилась… так мне было худо…
Ольга с изумлением, во все глаза смотрела на тетку.
— Как? И вы ничего мне не сказали? — с обидой в голосе промолвила наконец она.
— Ну, во-первых, тебе и самой несладко пришлось, — ответила тетя Тамара. — Слава Богу, Кирилл возле тебя был… да, да, не смотри на меня так, не знаю, как ты, а я ему очень благодарна за это… А во-вторых… — Она отвела глаза и продолжила будто нехотя, с трудом подыскивая слова: — Во-вторых, тебя же ничего и не волновало, кроме своего горя, ты… ты ушла в него с головой и ничего не видела… ты даже на поминках не подошла ни разу к Ирине, не обняла ее, не поинтересовалась… ах, да что говорить… — с досадой махнула рукой тетя Тамара. — У тебя даже взгляд какой-то другой стал… Иришка к тебе сама и подойти боялась…
— Что значит — другой? — насторожилась Ольга.
— Ну, не то чтобы презрительный… но будто ты одна только способна переживать по-настоящему, а остальные… так, куклы бездушные, — ответила та.
Ольга хотела было возразить, но, спохватившись, вспомнила вчерашнее отражение в зеркале и свое удивление по поводу собственного взгляда. «Неужели тетя Тамара права?» — тревожно мелькнуло у нее в голове, и она, опустив глаза, промолчала.
— Потом, слава Богу, Капитолина вмешалась, — словно не заметив ее смятения, продолжала тетя Тамара. — Поставила перед Ириной вопрос ребром: или избавляйся от ребенка, или возьми себя в руки. Ну, нарассказала ей всяких страстей про больных новорожденных, чьи матери пережили стресс. В общем, решили ребенка оставить, а Иришка… старается казаться веселой, спокойной… изо всех сил старается, но… — Она вздохнула и понизила голос: — Боюсь я за нее, Оля, и за малыша боюсь… Иногда войду в комнату, а она сидит и в одну точку смотрит… Меня увидит, пытается улыбнуться, а улыбка жалкая такая, виноватая… А то иду недавно мимо ванной: плачет. Воду включила, ну, чтобы не слышно было, и рыдает там, горько так… как, бывало, только в детстве плакала…
— Боже мой, я же ничего не знала… — растерянно проговорила Ольга, и теплое, нежное чувство к сестре забыто зашевелилось в душе.
— О том и речь: не знала, а главное, не хотела знать… Иначе говоря, закрыла глаза и ушла в себя, — добродушно-наставительно сказала тетя Тамара. — Теперь о Кирилле…
— Ну давай-давай, вешай на меня всех собак… — обреченно произнесла Ольга.
Та, словно не слыша, продолжала.
— Я его видела несколько раз: мельком — в больнице, потом — в… Ну что тебе сказать? Я сразу поняла: прав был Павел, это добрый человек, заботливый, а самое главное — надежный, настоящий…
— И когда ты только успела так хорошо его понять? — язвительно спросила Ольга.
— А у меня нюх на людей, никогда еще меня не подводил, — горделиво ответила тетя Тамара. — И знаешь, от Кирилла сила какая-то исходит… сама не пойму… мужественная, что ли… Но именно с такими и бывают жены как за каменной стеной… А это, Оленька, ой как важно! Вот проживешь с мое — поймешь.
— Ах, тетя Тамар, только не надо вот этого: «каменная стена», «муж — всему голова», — поморщилась Ольга. — Ты Ирине это все рассказывай, она оценит.
— Глупа ты еще, Ольга, как я погляжу, — ласково сказала та, — а ведь тебе тридцать скоро. А Ирина, хоть и моложе, намного по-женски тебя мудрее.
— Да? В чем же это, интересно, выражается? — холодно спросила племянница. — Уж не в том ли, что замуж раньше вышла?
— Да нет, дело не в этом… Просто будь Иришка на твоем месте, она бы совсем иначе себя повела… — вздохнула тетя Тамара. — Нет в тебе женского терпения, ты как подросток, ей-богу, — сказала она, повысив голос, — это, дескать, мое, вынь да положь… А в жизни да в человеческих отношениях очень все непросто…
— Да ты общими рассуждениями не отделывайся, — перебила Ольга, — ты конкретно говори, в чем ты здесь видишь сложность?
— Как же в чем, Оля? — удивилась та. — Ведь и Кирилла понять надо. Он с женой много лет прожил, любил ее, и сам этого не скрывает…
— Уж лучше бы скрыл! — раздраженно буркнула Ольга.
— А вот здесь ты не права, — возразила тетя Тамара. — Сразу видно, он очень искренний и честный человек и не хочет, чтобы ваши отношения начинались со лжи.
— И ты, конечно, считаешь, что именно так называемая честность не позволила ему сказать мне «люблю»? — взорвалась Ольга.
Тетя Тамара улыбнулась запальчивости племянницы.
— Я просто думаю, для него это слово слишком много значит, — мягко произнесла она, — и он не может, как другие, разбрасываться им направо и налево. И потом, вы ведь еще так мало знаете друг друга…
— А в любовь с первого взгляда ты, конечно, не веришь? — все больше распалялась Ольга. — Значит, по-твоему, прежде чем полюбить, надо пуд соли или чего-то там еще съесть?
— Ты, Оля, как маленькая, честное слово, — засмеялась тетя Тамара. — Ты лучше на поступки обращай внимание, а то «сказал — не сказал»… Разве в этом дело?
— А в чем же, по-твоему?
— Да в том, что, насколько я помню, Кирилл глаз с тебя не сводил, так вокруг и вился: Оленька то, Оленька се… лекарство не забудь… от окна отойди, простудишься…
— Ну, это особый случай, — возразила Ольга. — Я тогда совсем не в себе была, и он опекал меня просто… просто как слабоумную.
Тетя Тамара сокрушенно покачала головой.
— Ты ведь и сама знаешь, это не так… Знаешь ведь, что ты ему очень и очень небезразлична. — Она внимательно посмотрела на племянницу и робко спросила: — Оля, так неужели же ты ему ничего про ребенка не скажешь?
Ольга резко вскочила с табурета, задев рукавом чашку. Раздался хлопок, и чашка разлетелась на множество осколков.
— Ну вот, дядипашину любимую разбила, — со слезами в голосе сказала она и нагнулась, чтобы собрать осколки.
— Посуда к счастью бьется…
— К какому счастью? — закричала вдруг Ольга раздраженно. — И какой ребенок? Не будет никакого ребенка! И счастья никакого! Думаешь, приехала, наставила меня на путь истинный — и вот у меня уже и женская мудрость прорезалась, и счастье подвалило, и ребенок при отце?!
— Это слепота твоя душит тебя, гордыня в тебе кричит, — поджав губы, изрекла тетя Тамара. — Очнись, Оля, пока не поздно, посмотри вокруг, сколько по-настоящему несчастных женщин, а ты…
— А я, значит, по-твоему, счастливая? — взвилась та.
— По-моему, ты просто не хочешь быть счастливой… а может, и не умеешь… — резко ответила тетя Тамара. — Помнишь, как Павел говорил… ну, у него даже целая теория была… что есть люди-созидатели, которые счастье по крохам собирают, трудятся над ним, как пчелы, а есть разрушители, так те если и получат… ну, пусть не счастье, а только возможность его… так норовят его растоптать, а потом сами же бьют себя в грудь и скорбят, что несчастны…
— Я же, значит, и виновата? — возмутилась Ольга. — Это я-то растоптала?
— Думаю, еще не поздно поправить. Если захочешь, конечно…
Ольга собрала веником осколки, выбросила в мусорное ведро и устало опустилась на топчан.
— Ладно, давай закончим этот разговор, — сказала она. — Вижу, не поймешь ты меня никогда… потому, наверное, что слишком благополучная выпала тебе доля… Дядя Паша не изменял тебе, не предавал, был той самой «каменной стеной». А я… у меня, к несчастью, слишком много отрицательного опыта в этом смысле… всякого хлебнуть пришлось, хоть ты и считаешь меня незрелой женщиной…
— Так дело же не в опыте, Оленька, — с сочувствием проговорила тетя Тамара, — главное — что человек из него выносит… А насчет Павла… — Глаза ее заблестели, легкий румянец проступил на щеках, — в этом ты права!.. Я счастлива, что прожила жизнь с таким человеком… Только ведь и у нас, Оля, не все сладко да гладко было… Ты же многого не знаешь…
— Чего это я не знаю? Ваших ссор, что ли? — снисходительно усмехнулась племянница. — Но это же смешно, честное слово… Всем бы такие «трагедии»!
Вдруг она увидела, что после этих слов лицо тети Тамары перекосилось, губы мелко задрожали, руки пришли в движение, бесцельно переставляя на столе чашки и вазочки с вареньем. Было заметно, каких мучительных усилий стоило ей взять себя в руки и не разрыдаться. Наконец она немного успокоилась и, глядя куда-то в угол кухни, тихо, настойчиво произнесла:
— Оля, умоляю тебя, оставь ребенка!
От этого непонятного напора Ольга просто онемела и почувствовала вдруг смертельную усталость и тяжесть во всем теле. Помолчав несколько секунд, сказала сдержанно и сухо:
— Нет, я все-таки не понимаю, что, в конце концов, происходит… Еще раз прошу тебя: давай закончим этот разговор и прекратим играть друг у друга на нервах.
Тетя Тамара откинулась на спинку стула, губы у нее снова задрожали, взгляд остановился, руки беспомощно блуждали по скатерти.
— Тебе плохо? Сердце? — испугалась Ольга. — Корвалол накапать? Или лучше нитроглицерина?
Та сделала отрицательный жест рукой, слезы тихо потекли по морщинистому лицу, но она словно не чувствовала этого.
— Павел… сам мне разрешил… — как-то странно, с придыханием проговорила она, — еще в больнице… Сказал… если будет, мол, необходимость… момент такой придет… тогда все Олюшке расскажи… Вот момент и пришел…
Ольге показалось, что тетя Тамара заговаривается, она в тревоге метнулась к холодильнику за лекарством.
— Сиди! — остановила ее та. — Думаешь, не сошла ли я с ума? Успокойся. Сейчас все поймешь…
Собравшись с духом, тетя Тамара заговорила. То она, прерывисто и часто дыша, запиналась и путалась от волнения, а то вдруг бледнела, дыхание становилось неслышным и ровным, голос начинал звучать уверенно и спокойно, будто рассказывала она о каких-то посторонних людях. А вспоминала она о событиях давно минувших дней, когда Ольги еще не было на свете.
Ольга не раз слышала эту историю от родителей, как два приятеля, инженер и старший лейтенант, познакомились с сестрами Ларисой и Тамарой, как все удачно влюбились друг в друга и вскоре переженились. В детстве ее умиляла эта трогательная сказка со счастливым концом, где отец с дядей Пашей выступали в роли прекрасных принцев, на белых конях приезжали они за своими невестами в нарядных платьях, а за большим праздничным столом их ожидали уже многочисленные гости, собравшиеся на свадьбу.
Потом, со временем, некоторые детали, которые в детстве кажутся несущественными, слегка разрушили ее представление о той волшебной свадьбе в один день и за одним столом. Так, она узнала, что сначала поженились ее родители, затем у них начались какие-то сложности с жильем, и лишь потом, когда Ольге было уже полтора года, состоялась свадьба дяди Паши с тетей Тамарой.
Вскоре дяде Паше дали двухкомнатную квартиру в заводской пятиэтажке, а Ольга с родителями осталась в большой комнате в коммуналке. Потом родилась Ирина, Ольгин отец, к тому времени майор, вот-вот должен был тоже получить квартиру, но внезапно поступил приказ направить его на работу в Ахтубинск.
Конечно, все эти прозаические события не годились для сюжета волшебной сказки и с годами стали казаться ей неинтересными и скучными.
И только теперь, подходя к тридцатилетнему рубежу, она вновь невольно начала задумываться о том, как же легко и счастливо сложились судьбы матери и тетки, которые всю жизнь не просто любили, а были влюблены в своих мужей, на что те неизменно отвечали им взаимностью. «В чем же тут секрет?» — удивлялась Ольга, наблюдая бесконечные разводы своих знакомых, присутствуя на свадьбах, где жених и невеста имели за спиной богатый семейный опыт даже не одного, а порой нескольких браков.
— А старшее поколение все такое, — уверенно объясняла Светка. — Они самокопанием не занимаются, рефлексировать не привыкли, у них все проще: вперед — и с песней! Раз женился — люблю навек. Чувство долга и прочая чепуха…
Ольга чувствовала, что Светка в чем-то права, но до конца не могла согласиться с ней, ведь это означало бы признать эмоциональную ограниченность, бездуховность, даже примитивность людей старшего поколения. И больше всего ей было обидно за дядю Пашу. Ольга понимала, что он, конечно, не относится к разряду интеллектуалов или людей творческого полета, но назвать бездуховным его образ жизни, его отношение к людям, ко всему окружающему она все же не могла. «Ну не выпало ему на долю никаких страстей, — рассуждала она сама с собой, — что ж поделаешь? Не виноват же он, что так у него все благополучно сложилось…»
И лишь теперь, за этим кухонным столом, уставленным чайной посудой, теперь, когда дядя Паша ушел в иной мир, откуда никто не возвращается, Ольге открылись те стороны его жизни, которые хранились в строжайшей тайне и о которых они с Ириной не имели никакого представления.
Рассказ тети Тамары развеял семейный миф о трогательном соединении сразу всех четырех сердец. Оказалось, что, познакомившись с сестрами, Павел без памяти влюбился в младшую, Ларису, к Тамаре же относился по-дружески ровно и тепло, как и положено относиться к сестре своей возлюбленной. Роман их с Ларисой длился около года, они собирались пожениться, но тут случайно подвернулся Михаил, давний приятель Павла. Павел решил привести его как-нибудь в дом невесты, чтобы познакомить с ее сестрой Тамарой. «Чем черт не шутит! — смеялся он. — Ты парень видный, да еще при погонах, на тебя любая глаз положит. А Тамара — замечательная девушка, просто клад, веришь, сам бы женился, да вот… понимаешь, в другую влюбиться угораздило…»
Так шутил Павел и посмеивался, даже не подозревая, что сам рубит сук под собой и роет себе яму. Не учел он двух моментов, которых, впрочем, учесть и не мог, так как ни один из них просто не укладывался у него в голове.
Первое — что Тамара и не посмотрит в сторону Михаила, потому что давно и мучительно влюблена в жениха своей сестры. А второе… второй момент означал крах всех его надежд и мечтаний: Лариса, закружившись было в вихре страстной любви Павла, считая, что и сама неравнодушна к нему, вдруг, увидев старшего лейтенанта, поняла, что чувство ее к жениху было вторичным, как эхо, а настоящее — вот оно, как солнце сияло с каждой звездочки лейтенантовых погон.
Но не в звездочках и не в погонах было дело, знала Лариса о нелегкой кочевой судьбе семей военнослужащих, однако это не пугало ее: она готова была ехать за Михаилом хоть на край света.
Михаил тоже с первого взгляда почувствовал влечение совсем не к той сестре, на которую указал ему Павел, все сильнее и сильнее влюблялся в невесту приятеля.
Вскоре они признались в своем взаимном чувстве Павлу, тот выслушал их довольно спокойно, пробормотал что-то вроде пожелания счастья и исчез.
Лариса, учитывая взрывной характер бывшего жениха и его страстную любовь к ней, боялась сцен и скандалов, поэтому была рада, что объяснение прошло мирно и тихо. Тамару же скорее удивила, чем обрадовала такая спокойная реакция Павла, а как медику она показалась ей даже подозрительной.
Младшая сестра была всецело поглощена новым для нее чувством и не испытывала ни малейших угрызений совести или хотя бы сострадания к брошенному жениху. А сердце старшей обливалось кровью, когда она представляла себе мучения Павла.
Через неделю Тамара не выдержала и очутилась возле старого деревянного дома в Мансуровском переулке, где Павел снимал комнату. Хозяйка сказала, что квартирант ее взял отпуск на работе и уехал к матери в деревню. Когда Тамара примчалась в Александровку, Павла дома не оказалось: он с утра еще ушел с другом на рыбалку. Узнав, что это родная сестра «той самой вертихвостки», мать сердито, недоброжелательно уставилась на нее и сначала не хотела пускать в дом.
— Зачем приехала? Душу ему теребить? — недовольно и резко сказала она, а затем, вытерев концом косынки набежавшую слезу, обмякшим вдруг, плачущим голосом проговорила: — Уезжай, добром прошу… Он уж и так Бог знает что хотел с собой сотворить… Спасибо батюшке Николе-угоднику: Степаныча, соседа-то нашего, вовремя послал…
Выяснилось, что сразу после объяснения с Ларисой Павел оформил на работе отпуск и приехал в Александровку. Мать обрадовалась, что сын будет гостить у нее целый месяц, но заметила, что он какой-то грустный, чем-то подавлен, словно не в себе. Поинтересовалась, как там Лариса и скоро ли собираются они подавать заявление в загс. Павел ничего не ответил, только лицом посмурнел и сказал, что заночует в сарае на сене. Мать поняла, что они поссорились, и не стала приставать с расспросами. «Их дело молодое, — подумала она. — Дак милые бранятся — только тешатся…»
Часа через два Степаныч, который дотемна бродил в поисках пропавшей козы, проходя мимо соседского сарая, услышал какие-то стоны и хрипы. У Степаныча мелькнула мысль о разбойниках и убийстве, он схватил прислоненную к забору косу, бросился в сарай, но в темноте наткнулся на висевшего Павла, который, извиваясь, протяжно и страшно хрипел, а прочная, но рыхлая веревка никак не могла до конца плотно захлестнуть ему горло. Косой на ощупь отмахнул сосед веревку, Павел тяжело рухнул в сено и затих. Степаныч осторожно высвободил его шею из петли, приложил ухо к груди, а заслышав частые, судорожные толчки сердца, смачно сплюнул в сторону и в сердцах проговорил: «От дурень! Бога моли, что на тебя, паразита, навел…» При этом голос его срывался и дрожал. После чего он потащил Павла к себе, напоил до беспамятства самогоном и всю ночь караулил у двери в страхе, что тот сбежит.
Степаныч не хотел тревожить соседку этим происшествием, но Павел на другой день сам рассказал все матери и поклялся, что многое понял в те минуты, поэтому ничего подобного больше не повторится.
Много лет спустя, вспоминая этот позорный, по его словам, эпизод, Павел говорил жене, что именно в наказание себе решил тогда признаться во всем матери, хотя и было ему невыносимо стыдно. Мать долго плакала, все не могла остановиться, потом, сняв икону Николая-чудотворца и поднеся к самому лицу сына, заставила поцеловать и поклясться всем святым, что впредь он будет гнать от себя даже мысль о подобном грехе.
Поэтому мать и умоляла Тамару уехать, чтобы Павел мог успокоиться, прийти в себя и чтобы никто и ничто не напоминало ему о былом. Но Тамара вдруг разрыдалась и призналась ей в том, о чем не знала ни одна душа: что она давно и безнадежно любит Павла и не представляет без него своей дальнейшей жизни.
Вернувшись с рыбалки, Павел застал их на террасе, они сидели притихшие, с красными от слез глазами, но какие-то радостно-просветленные от внезапно возникшей симпатии друг к другу. Так состоялось знакомство будущей невестки с будущей свекровью, но об этом ни сама Тамара, ни мать Павла тогда еще даже не подозревали.
Затаив дыхание, не перебивая, слушала Ольга рассказ тети Тамары о тех событиях тридцатилетней давности, участниками которых были близкие ей, родные, знакомые с детства люди. Ей вспомнилась мать, в молодости красивая и веселая, а с годами превратившаяся в грузную, неповоротливую ворчунью. Вспомнился отец, грозный командир, полковник, который всегда, переступая порог дома, становился тихим, робким подчиненным, готовым исполнить любую прихоть жены. В детстве у Ольги не раз, смутно, но настойчиво, возникало ощущение, что родители любят друг друга гораздо больше, чем ее, и что вдвоем им всегда лучше, чем с нею. А ей оставался зато дядя Паша, в чьей абсолютной и безоговорочной любви она не сомневалась никогда, — и этого оказалось вполне достаточно, чтобы не чувствовать себя обделенной…
Зазвонил телефон.
— Это Иришка, наверное, — встрепенулась тетя Тамара. — Я им записку оставила…
Ольга нехотя поднялась, направилась в прихожую.
— Сиди, я сама поговорю с ней, — на ходу сказала она и прикрыла за собой дверь.
Когда минут через пять Ольга вернулась на кухню, она застала тетю Тамару все в той же позе: та сидела, поставив локти на стол и задумчиво подперев руками подбородок.
— Все нормально… Я ей сказала, что ты у меня ночуешь, не ехать же тебе в такую погоду… да и поздно уже…
Тетя Тамара вздохнула и промолчала, и непонятно было, совпадали ли ее намерения с решением Ольги или вздох тот выражал лишь вынужденное согласие, так как разговор был еще не окончен.
Ольга, не в силах больше бороться с искушением, открыла холодильник и вынула из пакета еще одну селедку. Тетя Тамара, увидев это, вышла из оцепенения и тут же подскочила к племяннице.
— И не вздумай всю селедку есть! — строго прикрикнула она, выхватывая рыбу из рук Ольги. — Вот тебе хвост, — тетя Тамара отрезала маленький кусочек от хвоста, тщательно помыла под краном и протянула ей, — и соси, как леденец на палочке. А вообще, клюкву надо есть — и полезно, и потребность в соленом снижается…
— Ну вот, — с досадой произнесла Ольга, пососав немного селедочный хвостик, — а теперь пить хочется…
Она подошла к плите и зажгла газ под остывшим чайником.
— А чай надо пить зеленый, — продолжала наставлять тетя Тамара, — он лучше жажду утоляет…
Ольга чувствовала, что весь ее организм словно выходит из-под контроля, подчиняясь теперь какой-то неведомой, загадочной силе, поселившейся внутри. Это и угнетало, и раздражало ее, а тут еще тетя Тамара со своими советами…
Раздражение нарастало, как снежный ком, несущийся с горы. Ольге захотелось сказать что-нибудь резкое, но, заметив глубокую скорбную складку у рта и усталый, потухший взгляд тети Тамары, она попыталась представить себя на месте той молоденькой медсестры в том шестьдесят первом, и сердце ее заныло от боли и тревоги, а раздражение уступило место сочувствию и ласковой печали.
— И что же дальше было, теть Тамар? — тихо спросила Ольга.
— Дальше-то? — задумалась та. — Ну что… Лара с Михаилом вскоре поженились, прямо на ноябрьские, комнату сняли в Вешняках, потом ты родилась…
— Да это понятно, — нетерпеливо перебила Ольга. — Я про тебя с дядей Пашей. У вас-то как все получилось?
Тетя Тамара встала со стула, разлила чай в чашки и вдруг как-то лукаво посмотрела на племянницу.
— А то ты не знаешь, как это бывает? — весело сказала она. — Павел страдал, я утешала… А потом он уж и дня не мог прожить без своей утешительницы…
Эта внезапная веселость несколько озадачила Ольгу.
— И это все? — изумилась она. — И ты могла встречаться с ним, зная, что он любит другую… и даже утешать его?
— Так я, Оленька, любила его очень, — прихлебывая чай, с улыбкой ответила тетя Тамара.
— А как же пресловутая женская гордость? — не унималась племянница. — Ведь насколько я знаю, для вашего поколения это понятие святое?
— А это уж смотря как гордость понимать, — посерьезнела та. — Если б у Павла с Ларой сложилось все тогда… клянусь, никто о моей любви к нему до самой смерти не узнал бы… Это, по-моему, гордость и есть. — Она помолчала и заговорила вдруг так горячо и проникновенно, словно желала донести до Ольги какой-то тайный, скрытый смысл своих слов: — Тяжело мне было, Оля, ох, тяжело сознавать, что он по другой сохнет… Но вот, знаешь, я так думаю теперь, что его я больше любила, чем себя… боль его чувствовала сильнее, чем свою… — Тетя Тамара отставила чашку и испытующе посмотрела Ольге в глаза. — А ты… ты только свою боль ощущаешь и обиду свою лелеешь… Это, по-твоему, любовь? Вот ведь ты на моем месте как бы поступила? Конечно, хвост трубой, ах, не любишь меня — ну и до свидания…
— Естественно! — фыркнула та.
— Ну и кому бы от этого лучше стало? Мне? Ему?
— Ну не знаю… — заколебалась Ольга, а затем, помолчав немного, решительно проговорила: — Не знаю, наверное, всем хуже… Только я бы не смогла так… зная, что меня не любят…
Тетя Тамара посмотрела на нее с ласковым сочувствием, как смотрит мать на любимое, но неразумное дитя.
— Не дойдут никак до тебя мои слова, — покачивая головой, сказала она. — Пойми, можно и по страстной любви сойтись, а через год, глядишь — куда что девалось… а можно до этой самой любви… дожить, выстрадать ее, что ли… — Она засветилась улыбкой, вспоминая что-то свое. — Но знаешь, ведь даже двое не могут любить друг друга одинаково, всегда кто-то больше… Только какие же тут могут быть счеты? Павел вот для меня всю жизнь был единственный свет в окошке… ну, не единственный, но самый яркий уж точно.
— А он? — с замиранием сердца спросила Ольга. — Разве он не любил тебя?
— Конечно, любил по-своему, — ответила тетя Тамара и задумалась. — С годами его чувство к Ларе прошло… совсем исчезло… так бывает. Я стала необходима ему, но… все-таки в его любви ко мне было больше благодарности, привычки… А я вот никогда к нему привыкнуть не могла… все время он для меня какой-то новый был, неожиданный… До последнего времени, веришь, жду его, бывало, с работы, а как услышу — ключ в двери повернется, у меня прямо сердце обрывается от радости: он пришел…
— И ты… была счастлива? — с сомнением спросила Ольга.
— Очень счастлива! — засмеялась та, увидев недоуменное лицо племянницы. — Я твердо знала: нет мне жизни без Павла, или с ним — или одной куковать.
За разговором Ольга налила себе уже третью чашку, тетя Тамара погрозила пальцем:
— Не пей много, поправишься сильно, отеки начнутся…
— Не успею поправиться, — беспечно отозвалась та.
— Ольга! — грозно прикрикнула тетя Тамара. — Ты опять за свое?!
— Это не я, а ты за свое, — стараясь сохранять спокойствие, ответила племянница. — Ты, значит, для того и рассказала мне вашу душещипательную историю, чтобы я растрогалась и оставила ребенка?
— A-а, да что с тобой говорить! — с досадой махнула та рукой и начала подниматься со стула, чтобы уйти, но, видимо, передумала, снова села. — Ты, Оля, будто глухая, честное слово… — подавив внезапный порыв, медленно произнесла она.
— Ну и ну! — сдавленно хихикнула Ольга. — И слепая-то я у тебя, и глухая… прямо инвалид первой группы! Не повезло же тебе с племянницей…
— Зря смеешься, — опечаленно сказала тетя Тамара, — в каком-то смысле ты и есть инвалид… Ты ведь даже не поняла, для чего я все это рассказала… Но все же должна тебя предупредить… знаю, мать тебе наверняка не говорила об этом… — Она снова пришла в волнение, словно что-то камнем висело у нее на душе, чего она никак не могла или не умела выговорить. — Учти, Оля, — продолжала она, слегка задыхаясь, — и у меня, и у Лары за всю жизнь было только по одной беременности… а больше… Бог не дал. А это ведь часто по наследству передается, тебе и Капитолина скажет… то есть не обязательно, но лучше не рисковать. Я-то вот в молодости дура была, не знала этого… Да и кто знал? Нас-то с Ларой двое у матери, да и не говорила с нами мама никогда про эти вещи… — Она вдруг закрыла лицо ладонями и горько заплакала навзрыд.
Это было так неожиданно, что в первый момент Ольга совсем растерялась, потом подошла к ней, обняла за плечи.
— Ну не расстраивайся так, тетя Тамарочка! — ласково проговорила она, но кое-что в словах тетки насторожило ее, и она спросила: — А почему ты сказала: «В молодости дура была»? Что ты имела в виду?
Та в ответ зарыдала еще безутешней. Ольга взяла свой табурет, придвинула к ее стулу, села рядом, обняла и, как в детстве, прижалась к теплому плечу.
— Прошу тебя, тетя Тамарочка, успокойся… перестань, — дрожащим голосом сказала она, нежно поглаживая морщинистую руку с голубыми разводами чуть вздувшихся вен. — Ну не хочешь — и не говори, не надо… дались тебе эти воспоминания, ей-богу…
Постепенно плач тети Тамары перешел в отдельные всхлипывания, затем прекратился, и она затихла, изредка тяжело вздыхая.
— Нет уж, Оля, я все скажу, — вдруг тихо проговорила она. — Об одном только тебя прошу: Иришке ни слова. Ни ей, ни Игорю… Никому. — Тетя Тамара достала платок, промокнула влажные глаза. — Давно это было, задолго до Павла, я еще в медучилище училась… Ну, ухажер у меня там завелся, на танцы ходили, в кино… на лодке в парке катались… Про любовь он красиво говорил, а мне, дуре, всего девятнадцать, я уши и развесила… А потом… — Она вздохнула, помолчала немного, как бы собираясь с духом. — Потом я забеременела, а когда ему сказала, он куда-то исчез…
— Куда? — взволнованно спросила Ольга.
— Не знаю… — ответила та. — Он сам-то из Севастополя был… Наверное, от страха домой подался… Больше я его никогда не видела…
— А ты?
— А что — я? Матери сказать боялась, стыдно, Лара в седьмом классе, ребенок почти… Ну, подружка одна и свела меня с Капитолиной, та постарше была, в роддоме медсестрой работала и на вечернем училась…
— Погоди-погоди… — Ольга схватила тетю Тамару за руку и заглянула в лицо, — я что-то совсем запуталась… ничего не понимаю… Ты сделала аборт?
Та опустила глаза и едва заметно кивнула.
— Но… ты же говорила: только одна беременность… А… Ирина?
— Иришку мы… — Голос тети Тамары осекся, судорожным движением она взяла чашку, отпила несколько глотков. — Мы с Павлом из роддома ее взяли… мать от нее отказалась… Опять Капитолина помогла…
Ольга во все глаза смотрела на нее. Она была так потрясена этим сообщением, что любые слова казались ей сейчас лишними и неуместными. Повисло долгое напряженное молчание, и только ходики на стене привычно отмеряли неумолимый бег времени.
— А до тех пор, пока Иришку-то не взяли… — заговорила наконец тетя Тамара, — как я мучилась, Оля, если б ты знала! По каким только врачам Павел меня не водил! А тут уж и возраст — к тридцати пяти… для родов нежелательный… Как же я переживала… Да разве только я? Лара тоже вся извелась, что у них с Михаилом…
Не успела она договорить, как Ольга вскочила и медленно попятилась к окну.
— Ты… ты хо… чешь ска… зать, — заикаясь, начала она.
Заметив ужас в глазах племянницы, тетя Тамара не смогла сдержать улыбки.
— Да Бог с тобой, Оленька, Лара тебе родная мать, — мягко сказала она. — Я не то имела в виду…
— А… отец? — спросила Ольга, начиная дрожать от волнения.
Лицо тети Тамары вытянулось от удивления.
— Как? Разве ты… я думала, ты все поняла… — смущенно забормотала она. — Я ведь сказала: Лара с Михаилом только в конце сентября познакомились, а ты… ты в апреле уже родилась.
Почувствовав легкое головокружение, Ольга пошатнулась, вцепилась в штору на окне, та затрещала и начала медленно расползаться.
— Оленька, детка, что с тобой? — подскочила тетя Тамара. Она усадила Ольгу на топчан, сама села рядом и, взяв ее запястье, нащупала пульс. — Господи, сердцебиение отчаянное… У тебя валокордин есть?
Ольга видела перепуганное лицо тети Тамары, но не ясно, а будто сквозь легкую дымку тумана, и слова доходили до нее не отчетливо, а как бы по неотлаженной телефонной связи, когда разговор сопровождается каким-то непонятным гулом и помехами. Собрав последние силы, она схватила тетю Тамару за плечи и посмотрела прямо в бледное, расплывающееся перед глазами лицо.
— Это… дядя Паша? Да?..
Лицо окончательно утратило свои очертания и слилось с потолком, который, покружив в воздухе, стал вдруг медленно опускаться все ниже и ниже. Потом все исчезло, и Ольга потеряла сознание.
Очнувшись, она сразу почувствовала запах лекарства, увидела склоненное над ней лицо тети Тамары и поняла, что лежит в кухне на топчане, под головой — подушка, в ногах — одеяло. Холодный бодрящий воздух врывался сквозь открытое настежь окно, дождь мелко стучал по подоконнику.
Ольга с недоумением посмотрела вокруг: резной, бабушкин еще, буфет у окна… чайник на плите… ходики с кукушкой…
— Ну, слава Богу, обошлось! — с радостным облегчением проговорила тетя Тамара. — Я уж «скорую» вызывать хотела…
— Что случилось? А? Теть Тамар, что это было? — испуганно спросила Ольга.
— Да это просто обморок, Оленька, ничего страшного, — успокоила та. — В твоем положении это бывает.
Не склонная, по состоянию здоровья, ни к каким обморокам и припадкам, Ольга даже не представляла себе, что с ней может приключиться нечто подобное, и теперь, пережив это состояние, она не понимала, что же мучает ее больше: страх или удивление перед случившимся.
— Давай, Оленька, поднимайся, я тебе в комнате постелила, — захлопотала тетя Тамара. Она закрыла окно и стала убирать со стола. — А я здесь лягу… вот только посуду помою… Ну как, лучше тебе?
— Да вроде нормально, — ответила Ольга и села на топчане. — Ну и морозильник ты устроила… брр! — передернула она плечами и закрылась одеялом. — Только знаешь что… давай ты тоже в комнате ляжешь, а? — просящим голосом сказала Ольга и как-то жалобно посмотрела на тетю Тамару. — Мы поместимся, у меня диван широкий… — И тихо добавила: — А то мне сегодня что-то страшно одной…
Ольга долго не могла заснуть. Дождь перестал, и в полной тишине слышалось только спокойное, ровное дыхание спящей тети Тамары да урчание холодильника, доносившееся с кухни. Кукушка прокуковала два раза, потом три, а Ольга, ворочаясь с боку на бок, все никак не могла уснуть от мыслей-воспоминаний, окруживших ее пестрым нескончаемым хороводом.
Перед ней проходили события раннего детства, но теперь, после того, что узнала она от тети Тамары, Ольга не могла видеть и оценивать их как прежде, они приобретали для нее новую, иную окраску. Так, она поняла, что отец часто и надолго уезжал в командировку, и тогда мать, работавшая диспетчером на военном заводе, практически переселялась с Ольгой к Беркальцевым, которые, не имея своих детей, всегда рады были понянчить племянницу.
И образ тети Тамары, готовой на все ради счастья и спокойствия любимого мужа, вставал сейчас в неожиданном, каком-то необычайно загадочном свете. «Боже мой, как же ей, наверное, было тяжело, — думала Ольга, лежа рядом с ней и прислушиваясь к ее сонному дыханию, — знать все… все понять и… принять как есть, причем искренне, с радостью принять…»
Ольга знала, что детские воспоминания всегда связывались у нее либо с Александровкой, либо с московской квартирой дяди Паши. Она почти не помнила ту комнату в коммуналке, где жила с родителями. Все, что осталось в памяти, — это огромный сундук в коридоре, высоченные потолки и масса чужих людей, соседей, снующих из ванны в кухню с полотенцами и сковородками. И Ольга понимала, что это не случайно: видимо, и в самом деле большую часть из своих первых десяти лет жизни она провела у Беркальцевых.
Сначала она принимала их любовь к себе как должное, но потом, став постарше и осознав родственные отношения между людьми, не раз задавалась вопросом: ну тетя Тамара понятно, она родная сестра мамы, а вот дядя Паша, он же вроде чужой для Ольги человек, почему же он любит ее, как иногда казалось, больше всех, да и сама она так сильно привязана к нему? Позже, повзрослев, Ольга объяснила это родством душ, которое бывает порой сильнее кровных уз, и вопрос отпал сам собой.
С появлением собственного ребенка тетя Тамара почти полностью переключилась на Ирину, и Ольга почувствовала, как это маленькое, громко кричащее существо начало вытеснять ее из сердца любимой тети. Дядя Паша тоже радовался младенцу, но с его стороны Ольга не видела никакой перемены в отношении к себе.
Как-то раз, когда Ирине исполнился год, дядя Паша подарил ей заводной паровозик. Ольга понимала, что сегодня не ее день рождения, но тем не менее с завистью смотрела на сестру, которая от радости пускала слюни и хлопала в ладоши, когда паровозик бежал по кроватке. Заметив Ольгин угрюмый вид, дядя Паша вдруг спохватился, пошел в прихожую и вернулся оттуда с коробкой.
— Вот, Олюшка, забыл совсем, — виновато сказал он, протягивая ей нарядную зеленую коробку. — Ты у нас большая уже, тебе и игрушки нужны посерьезнее…
Открыв коробку, Ольга увидела куклу, о которой мечтала: в розовом кисейном платьице, с закрывающимися глазами и в настоящих маленьких туфельках. С чувством превосходства посмотрела она на сестру и, счастливая, ушла в другую комнату, бережно неся на вытянутых руках это воздушное создание.
И позже, когда девочки подросли, дядя Паша в день рождения одной из них обязательно делал подарки обеим: так, если он дарил Ирине трехколесный велосипед, Ольга знала, что для нее наверняка уже приготовлен подростковый «Школьник», а когда Ольга получала фотоаппарат, на запястье у Ирины появлялись красивые наручные часы «Заря».
И все десять лет, что прожила она у Беркальцевых, когда родители уехали, Ольга чувствовала себя не только полноправным, но и любимым членом этой семьи. Со своими девичьими секретами она обращалась к тете Тамаре как к матери, все прочие вопросы справедливо, по-отцовски мудро разрешал дядя Паша, а о том, родная ей сестра Ирина или только двоюродная, Ольга никогда и не задумывалась — сестра, и все.
Те роковые тайны их семейного клана, которые взрослые зорко хранили от них с Ириной всю жизнь и которые сегодня вечером тетя Тамара сочла нужным открыть племяннице, до глубины души потрясли Ольгу своей неожиданностью и, как ей сначала показалось, нарушили привычный, устойчивый уклад жизни, подорвали основу основ в ее восприятии прошлого.
Но сейчас, немного успокоившись, перебрав в памяти, как четки, почти три десятилетия своей жизни, она поняла, что на самом-то деле во всей этой истории ее больше всего потрясла сила духа и любви тети Тамары, сумевшей в такой, казалось бы, гибельной ситуации не только сберечь свое счастье, но и одарить теплом и ласковой заботой близких людей.
Что же касается Ирины, то здесь все было проще. В сущности, какая Ольге разница, родила ее тетя Тамара или какая-то девчонка, сбежавшая из роддома и оставившая ребенка на произвол судьбы? Главное — они выросли вместе и Ирина была и всегда останется ее сестрой. «Хотя, конечно, странно все это…» — улыбнулась Ольга, вспомнив, что все называли Ирину «маминой дочкой», имея в виду ее действительно потрясающее внешнее сходство с тетей Тамарой.
Последнее, что Ольга помнила, засыпая, была мысль о дяде Паше. Она понимала, что не факт, сообщенный тетей Тамарой, так поразил ее, а поразило собственное знание этого факта: всю жизнь, сама себе не называя этого словами, именно дядю Пашу чувствовала она своим отцом.
За окном занимался угрюмый осенний рассвет, когда Ольга неожиданно проснулась, как от толчка, и рывком села в постели. Это резкое движение разбудило тетю Тамару, она приоткрыла сонные глаза и, приподнявшись на локте, осипшим со сна голосом спросила:
— Что, Оля? Уже на работу пора?
Ольга посмотрела на светящийся циферблат будильника в изголовье: без десяти семь.
— Да нет, рано еще, — ответила она и, взволнованная, повернулась к тете Тамаре. — Знаешь, мне дядя Паша приснился, в первый раз после… В общем, в первый раз за полтора месяца, понимаешь?
Ее волнение передалось тете Тамаре, та тоже села и испуганно посмотрела на племянницу.
— Расскажи! — коротко потребовала она.
— Будто мы с ним в лесу, — начала Ольга, — но непонятно в каком… не в Александровке… и не в Лосином… Чужой лес, странное место… И вроде мы заблудились… — Она перевела дыхание и напряглась, пытаясь вспомнить детали. — И вот мне не страшно совсем, а дядя Паша, вижу, испугался, что мы не выйдем оттуда. Грустный такой… печальный, но мне не говорит, что боится. И вдруг у меня в руках коробка какая-то оказалась, большая… вроде свертка… Я и сама не знаю, что там, но уверена почему-то, что дядю Пашу это успокоит. Подношу к нему сверток, а там… ребенок… — Ольга замолчала и задумалась.
— Ну и?.. — задохнулась от волнения тетя Тамара. — Дальше-то что?
— А дальше он улыбнулся… хорошо так, как, помнишь, всегда улыбался, когда радовался чему-нибудь. «Ну, говорит, Олюшка, теперь-то я дорогу знаю»… И я проснулась.
— Так и сказал? — ахнула тетя Тамара, всплеснув руками.
Ольга опустила голову на подушку. Оттого, что она снова, пусть хоть на миг, пусть во сне, увидела дядю Пашу живым, какое-то светлое, радостное чувство не покидало ее. Тетя Тамара, продолжая сидеть в постели, вдруг тихо, таинственно проговорила:
— Это ведь, Оля, знак тебе. Поняла ли?
Торжественность в ее голосе удивила и насторожила Ольгу, она приподняла голову с подушки.
— Какой знак?
— А такой! — громко прошептала та. — Меня ты слушать не хочешь, так хоть Павла послушай…
— Ты, тетя Тамар, как древняя жрица, честное слово, — засмеялась Ольга. — Мистику разводишь…
Но та не отреагировала на шутливый тон племянницы и тем же громким напряженным шепотом продолжала:
— Мы с Павлом всю жизнь неверующими были, сама знаешь… ну, то есть не религиозные люди… Но мы всегда — слышишь, всегда! — верили в бессмертие души. Душа не умирает…
Ольга встала с постели, накинула халат и пошла в ванную. На пороге обернулась:
— Ты спи, спи, тетя Тамар, рано еще…
Приняв душ и умывшись, она почувствовала такую бодрость, словно не было тяжелого вечернего разговора и почти бессонной ночи не было тоже.
Когда зажегся свет на кухне и Ольга увидела все ту же клетчатую скатерть, тот же незамысловатый рисунок зеленых обоев на стенах и покрытый пледом неизменный топчан, в душе ее колыхнулось вдруг слабое, еле заметное ощущение устойчивости окружающего мира и своего согласия с ним. Она почувствовала, что готова согласиться и с тетей Тамарой, что душа не умирает, и с суматошной кукушкой, прокричавшей со стены семь сдавленных «ку-ку», и с наполовину порванной шторой, сиротливо свисавшей с окна.
Ольга подошла к окну, потрогала ткань. «Давно пора шторы сменить, — подумала она. — Куплю что-нибудь повеселее». За окном медленно вставало солнце, неяркий свет его лучей пробивал дорогу сквозь редкие серенькие облака и ореолом возвышался над крышами соседних домов.
Дворник, молодой парень, видимо студент, методично сметал с тротуара разноцветную пожухшую красоту и, явно любуясь своей работой, складывал листья вдоль обочины равномерными кучками. Сложит кучку, посмотрит на нее со всех сторон, хороша ли, и метет дальше. Не удержавшись, Ольга тихо засмеялась.
На автобусной остановке царило радостное оживление. Несколько ребят в ожидании автобуса весело играли в давно забытого «жучка»; молодая парочка, наверное молодожены, развлекалась тем, что наперебой вслух придумывала продолжение очередного мексиканского сериала; ребенок лет четырех без устали дергал за руку бабушку и как заведенный повторял: «Не хочу я к родителям… и в сад не хочу… Детей бабушки должны воспитывать…»
Мимо остановки прошли две молодые мамы с детскими колясками. Одна коляска напоминала плетеную корзину, а другая была изящная, низкая, на белых толстых колесах.
«Надо же, какие теперь коляски стали красивые», — удивилась Ольга. Молодожены тоже обратили внимание на этот замечательный вид транспорта.
— Смотри, смотри! — воскликнул муж. — Прямо как «вольво» с «мерседесом»… Ты какую хочешь? — обратился он к жене.
— Что значит — хочешь? — снисходительно фыркнула та и со знанием дела пояснила: — Это смотря кто родится: если мальчик — плетеную, а если девочка — пеструю.
Эта тонкость в выборе коляски показалась Ольге забавной, и она улыбнулась трогательной заботливости будущих родителей.
Когда она подходила к издательству, знакомый голос окликнул:
— Ольга Михайловна, постойте!
Она оглянулась и увидела запыхавшегося «почитателя», который, лавируя между машинами, пробирался к ней, выставив впереди в качестве щита свой огромный пухлый портфель.
— Ай-яй-яй, Федор Михайлович, — покачала головой Ольга, — прямо на красный свет! Так ведь и под машину угодить можно.
— Пусть, Ольга Михайловна, пусть под машину, — захлебываясь от радости, проговорил тот. — Я как вас увидел, у меня в глазах зарябило, все цвета перепутались: красный, зеленый…
— А вы заходите к нам в редакцию, — пригласила Ольга. — Я целый день сегодня на работе.
— Нет-нет, только не это, — испугался он. — У вас там всегда много народу, а я хотел… так сказать, приватно… вчера оробел… Вы уж, Ольга Михайловна, уделите мне сейчас две-три минуты, клянусь, я не задержу надолго…
— Пожалуйста, Федор Михайлович, слушаю вас, — добродушно согласилась Ольга. — Только давайте отойдем немного в сторону, вот сюда, к стене.
«Почитатель» был крайне взволнован и явно не знал, с чего начать.
— Ну? — подбодрила она.
— Мы так давно не виделись, Ольга Михайловна… — дрожащим голосом наконец проговорил он, — но, смею вас уверить… мое чувство к вам неизменно и… и… — Он запнулся, вынул из кармана платок и вытер повлажневший лоб. — Я слышал от ваших сотрудников, вас постигло несчастье… Позвольте… соболезнование…
— Спасибо, Федор Михайлович, — пришла ему на помощь Ольга. — У меня действительно большое горе: умер мой отец.
«Почитатель» оторопел. Глаза его расширились, челюсть слегка отвисла.
— Как — отец? — в недоумении пробормотал он. — А мне сказали — дядя… — И тут же, спохватившись, зачастил: — Боже мой, Ольга Михайловна, простите великодушно, определенно это я все напутал… Боже, какой же я болван!
— Не казнитесь так, Федор Михайлович, — усмехнулась Ольга. — Я и сама этого не знала, — добавила она и, повернувшись, зашагала в сторону издательства.
— То есть чего не знали? — изумился «почитатель» и кинулся следом за ней. — Объяснитесь, Ольга Михайловна, я вконец растерян… А впрочем… — Он обогнал Ольгу, встал перед ней и заглянул прямо в глаза. — Впрочем, какая разница — горе есть горе… Я не об этом, Ольга Михайловна, еще одно слово, умоляю…
Ольга, полагая, что «почитатель» хотел только выразить ей соболезнование и поэтому разговор окончен, в удивлении остановилась.
— Мое чувство к вам, Ольга Михайловна… я уже говорил… — дрожа от волнения, снова завел он. — Но… нет, другое, другое сказать хочу! — перебил «почитатель» сам себя, боясь, что Ольга, не дослушав, уйдет.
Прохожие и сотрудники, спешившие на работу, с интересом посматривали на взъерошенного человека с большим портфелем, который, стоя перед молодой женщиной, взволнованно говорил что-то и при этом бил себя в грудь кулаком. Заметив повышенное внимание со стороны прохожих, Ольга взяла «почитателя» за рукав и вежливо отвела в сторонку. Тот послушно сделал два-три шага и, не видя ничего вокруг, кроме любимых светло-зеленых глаз, в упоении продолжал:
— Ольга Михайловна, поверьте, я от всей души сочувствую… вашему горю и… прошу только одного: если вам что-то понадобится… какая-то помощь — о, любая, любая, Ольга Михайловна! — располагайте мной, знайте, я всегда к вашим услугам и… за счастье почту… за счастье… любую просьбу… — Он задохнулся и снова полез в карман за платком.
Зеленая смешинка лукаво заблестела в глазах Ольги.
— Так уж и любую, Федор Михайлович? — с улыбкой спросила она.
— Уверяю вас, Ольга Михайловна, клянусь всем святым! — прижав руку к груди, отчаянно воскликнул тот.
— А у меня действительно есть к вам просьба, — вдруг посерьезнела Ольга.
— Весь внимание, Ольга Михайловна! — с готовностью откликнулся «почитатель».
— Видите ли, Федор Михайлович, — медленно начала она, — поскольку я выхожу замуж… и, вероятно, скоро… Мне бы не хотелось… — Испытывая неловкость, Ольга вдруг замялась. — Ваши звонки… цветы… ну, сами понимаете…
Проговорив все это, она поняла, что напрасно затеяла такую невинную, на ее взгляд, шутку. Ей вдруг стало безумно жаль этого чудака, как-то нелепо, но по-своему сильно и трогательно влюбленного в нее.
Он стоял перед ней белый как мел, убитый, уничтоженный, с трясущимися губами, ветер трепал его поредевшую шевелюру. Так и не сумев выговорить ни слова, он молча повернулся и побрел в сторону метро.
Напряженную предобеденную тишину в редакции нарушил резкий телефонный звонок.
— Оленька Михайловна, вас, — коротко сказала Елена Одуванчик, протягивая трубку, и, не удержавшись, добавила: — Приятный мужской голос…
С отчаянно бьющимся сердцем Ольга взяла трубку. Она и боялась этого звонка, и, сама себе не признаваясь, ждала его.
— А не пора ли нам, друзья мои, подкрепиться? — переглянувшись с Одуванчиком, бодро сказал Никанорыч, и, возглавляемые Искрой Анатольевной, сотрудники тактично отправились в столовую.
— Слушаю вас… — тихо проговорила Ольга.
— Оля! Оленька, наконец-то! — Приятный мужской голос в трубке искрился радостным возбуждением, восторгом, так и звенел от ликования, хотя, возможно, это была просто иллюзия, создаваемая помехами на линии. — В общем, я из автомата, слышно плохо, поэтому говорю коротко! — продолжал так же радостно выкрикивать Кирилл. — Мы должны увидеться сегодня же! Обязательно! Заехать за тобой в издательство? Или лучше сразу в Сокольники? Ты когда будешь дома?
Ольга была застигнута врасплох этим оглушительным напором, а непонятное веселье на другом конце провода смущало и настораживало ее.
— Около семи… — растерянно проговорила она.
— Решено! В семь я у тебя! — бодро крикнул Кирилл и повесил трубку.
Ольга посмотрела на часы: до конца рабочего дня оставалось четыре часа. Она отошла от телефона и бросила взгляд в зеркало над столом заведующей: пепельно-серый нездоровый цвет лица, темные круги под глазами, уголки бескровных губ скорбно опущены, в зеленых глазах — паника.
Ольга схватила свою сумку и вытряхнула содержимое прямо на стол. Ага, вот французская тушь для ресниц, Светкин подарок на день рождения… вот тени для век… еще тени… помада… а пудра? где же пудра?..
Когда сотрудники веселой стайкой вернулись из столовой, Никанорыч застыл на пороге, а Одуванчик, подбежав к Ольге, всплеснула руками:
— Ой, Оленька Михайловна, вы такая хорошенькая! Прелесть!
— Молодец! Так держать, голубчик! — раздался бас Искры Анатольевны из густого облака папиросного дыма. — Нельзя распускаться! Женщина всегда должна быть в форме.
— Волшебное, волшебное преображение! — выйдя наконец из столбняка, нараспев заговорил Никанорыч. — А просто девушка спешит на свидание… Нет, каково! Что делает с человеком зов природы!
При этих словах Ольга даже подскочила на стуле, кровь бросилась ей в голову, но естественную краску стыда на лице удачно скрыл толстый слой грима. Она пулей вылетела из комнаты, сопровождаемая недоуменными взглядами сотрудников.
Стоя над раковиной в конце коридора, Ольга судорожно, с ожесточением смывала наведенную красоту, словно хотела содрать заодно и бледную кожу с сероватым оттенком и темными кругами возле глаз. Подняв наконец голову и увидев в зеркале свое мокрое, взлохмаченное отражение, способное если не напугать, то уж определенно вызвать лишь жалость, она осталась довольна. «Зов природы…» — с издевкой подумала Ольга, и бескровные губы раздвинулись в ядовитой ухмылке.
На кухонном столе Ольгу ждала записка от тети Тамары: «Оля! Морс и фрукты в холодильнике, клюква в морозилке, котлеты на плите. Целую, т. Т.» Внизу — торопливая при писка: «Привет Кириллу. Не забывай о своем вещем сне!»
Тронутая заботливостью тети Тамары, Ольга улыбнулась необычному словечку «вещий», которое всегда вызывало у нее ассоциации только с незадачливым князем и его конем. Да, но почему тетя Тамара передает привет Кириллу? Значит, знает, что они сегодня вечером встретятся? Откуда? И потом… как же она выходила в магазин и на рынок, если у нее нет ключей от квартиры?
Решив немедленно выяснить все эти загадки, Ольга подошла к телефону, но не успела она набрать номер, как раздался звонок в дверь. «Кирилл!» Она заметалась по прихожей в поисках расчески, но, заметив в зеркале свое насмерть перепуганное лицо с каким-то жалким, словно виноватым, выражением, вдруг разозлилась на себя, отшвырнула найденную расческу и, призвав на помощь все самообладание, открыла дверь с таким суровым, как ей казалось, и неприступным видом, что гость должен был бы замереть на пороге от страха и почтения.
Но этого почему-то не произошло. Наверное, вид у нее оказался недостаточно внушительным, а скорее всего, Кирилл просто не заметил старательно разыгранной неприступности, поэтому вихрем ворвался он в квартиру, почти сбив с ног хозяйку, тут же подхватил ее на руки и закружился с ней, роняя принесенные белые розы по всей прихожей. Затем бережно усадил на пуфик, собрал розы и, встав перед ней на колени, протягивая цветы, дурашливо-торжественным тоном произнес:
— Вот! Руку и сердце! — Он стукнул себя кулаком в грудь. — Прошу и предлагаю!
Его веселое, смешливое настроение, заразительное и прилипчивое, как зевота, чуть было не передалось и Ольге, но, словно вовремя опомнившись, она снова очутилась во власти своих сомнении и переживаний, и та радостная, праздничная атмосфера, которую принес с собой Кирилл, вдруг показалась ей ненужной и неуместной.
— Тебе, я вижу, весело? — ледяным тоном проговорила она. — Что ж, очень рада за тебя.
Этот тон и эти слова, по мнению Ольги, как ушат холодной воды, должны были бы остудить восторженную эйфорию Кирилла, которая так не соответствовала ее собственному настроению и состоянию. Ей хотелось, чтобы он хоть немного ощутил ту боль и страдания, что вынесла она в этот месяц с их последней встречи. Ольга казалась себе равнодушным, загадочным сфинксом, который, восседая неприступной скалой, снисходительно наблюдает щенячий восторг окруживших его пигмеев.
Кирилл же видел сидевшую на пуфике в прихожей маленькую обиженную девочку с припухшим ртом и со слезами в глазах, которую просто надо приласкать, и успокоить, и объяснить ей, что она самая лучшая и самая любимая на свете. Продолжая стоять перед ней на коленях, он взял ее руки, бессознательно перебиравшие цветы, сжал в своих крепких, сильных ладонях и, радостно глядя ей прямо в глаза, твердо произнес:
— Да, Оля, я очень счастлив, потому что… потому что я люблю тебя.
У Ольги перехватило дыхание.
— И целый месяц ты раздумывал над этим сообщением? — спросила она, все еще пытаясь сохранить величие сфинкса, но при этом всхлипнула так по-детски обиженно, что еще больше напомнила Кириллу беззащитного ребенка.
— Я тебе все сейчас объясню, — сказал он, поднимаясь с колен и увлекая ее в комнату.
Он усадил ее на диван, сам сел рядом и обнял ее. Ольга почувствовала, как безумно устала она за последнее время, устала прежде всего от себя, от своих мыслей и сомнений, от воспоминаний и обид. Она и не заметила, как нелепый образ сфинкса исчез, а на его месте появилась молодая женщина, которая, тесно прижавшись к любимому упругому плечу, наслаждалась ощущением своей слабости и беспомощности.
Они сидели, как месяц назад в квартире Кирилла, когда тот, не зная, чем утешить Ольгу, рассказывал ей о Никите. Ей показалось на миг, что они так и продолжают сидеть с тех пор, что не было этих тридцати злополучных дней, каждый из которых был наполнен вереницей нескончаемых обид, отравой оскорбленного самолюбия и безутешной гордыни.
В голове стоял сладкий туман, все тело обволакивала ласковая нега, и, ощущая рядом могучее плечо Кирилла, руки, нежно и властно обнимавшие ее, словно защищая от всех бед и несчастий, Ольга почувствовала, что какая-то злая пружина внутри ослабевает и распрямляется. Тихие радостные слезы, как слезы маленького Кая из детской сказки, незаметно сбегали по щекам, освобождая ее душу от бремени вымышленных страданий и тревог. Пребывая в состоянии счастливой расслабленности, мешавшем сосредоточиться, Ольга понимала далеко не все из того, что говорил ей Кирилл, она слышала только переливы любимого голоса, чувствовала плотное кольцо его рук, и странная, загадочная улыбка блуждала на порозовевших губах. И эта улыбка, и эти слезы могли принадлежать лишь женщине, которая любит и которая в ответ любима.
А говорил Кирилл о том, как трудно ему было все это время без Ольги, как он мучился и боялся, что она никогда уже не захочет видеть его. Вечером того дня, когда Ольга ушла из его квартиры, унося с собой свои обиды и разочарования, ему пришлось срочно вылететь в Киев, так как мать была госпитализирована с обострением язвы желудка, представлявшим угрозу для жизни. Там пробыл он, бессменно находясь в больнице, почти три недели, после чего повез ее в Ессентуки по путевкам, которые успел за это время выхлопотать для них Борис.
Поначалу Кирилл упорно, но безрезультатно звонил Ольге домой, пока не догадался наконец позвонить в редакцию. Там ему любезно сообщили, что Ольга Михайловна в отпуске, и поскольку они тоже со своей стороны, желая справиться о здоровье, неоднократно пытались дозвониться ей, а телефон не отвечал, то все сделали вывод, что она, скорее всего, живет на даче в Александровке.
Как только матери стало лучше и она пошла на поправку, пребывание в санатории сделалось для Кирилла непереносимым. Оставив ее долечиваться в Ессентуках, он взял билет на самолет и вчера поздним вечером прилетел в Москву, но позвонить Ольге в такое время не решился.
Почти всю ночь провел он без сна, в муках и сомнениях, то зарываясь с головой в одеяло, то вскакивая и начиная нервно вышагивать по квартире. Только себя обвинял он во всем, собственной черствостью и нечуткостью объяснял поведение Ольги; казнился, что не смог, не сумел понять ее состояние, вовремя найти нужные слова, остановить ее; покрывался испариной от страха, что она за этот месяц, возможно, и думать забыла о нем и что — не приведи Бог! — у нее появился кто-то другой.
На рассвете он забылся тяжелым, беспокойным сном, а проснувшись, кинулся звонить Ольге. К его удивлению, трубку взяла Тамара Ивановна, которая почему-то звонку его страшно обрадовалась. Она сказала, что Ольга ушла на работу, но это даже к лучшему, потому что им надо срочно встретиться и поговорить. Предложив Кириллу приехать в Сокольники, она дала ему поручение по пути забежать на рынок и купить фрукты и клюкву.
— Какие фрукты? — ничего не понимая, удивился тот.
— Ну, яблоки, лимоны… неважно, — ответила Тамара Ивановна и многозначительно добавила: — А вот клюкву… клюкву обязательно.
Кирилл был озадачен этой таинственной многозначительностью, но, с другой стороны, рассудил он, если Тамара Ивановна просит его хоть о какой-то услуге для Ольги, появилась смутная надежда, что еще не все потеряно.
Минут через сорок он стоял у двери Ольгиной квартиры, растерянный, нагруженный всевозможными пакетами и свертками.
— О, да вы, я гляжу, весь рынок скупили! — открыв дверь, засмеялась Тамара Ивановна.
А час спустя Кирилл вылетел из этой квартиры как на крыльях и помчался на свой аэродром, чтобы договориться о медкомиссии. По дороге, вспомнив, что даже не позвонил Ольге, остановил машину и направился к ближайшему автомату.
Еще вчера Ольгу крайне возмутил бы поступок тети Тамары, вздумай она так бесцеремонно вмешаться в личную жизнь племянницы, но сейчас ей с улыбкой припомнились только слова из записки: «Не забывай о своем вещем сне»…
Внезапно Кирилл разжал объятия, встал и прошел к окну.
— Знаешь, сейчас я больше всего в жизни боюсь двух вещей, — стоя спиной к Ольге, медленно проговорил он. — Медкомиссии и… тебя.
— Ну медкомиссии понятно, ее бояться положено, — улыбнулась она. — А меня-то почему?
— Нет, не тебя, конечно… — смешался Кирилл, — не тебя, а… вдруг ты меня разлюбишь…
— И чего же ты боишься больше? — вкрадчиво спросила Ольга.
— Даже не знаю, — честно признался он и, подумав немного, решительно сказал: — Все-таки тебя больше…
Значит, этот широкоплечий, рослый, красивый мужчина у окна не настолько бесстрашен, как могло показаться на первый взгляд, и Ольга понимала, что только ее любовь способна защитить и избавить Кирилла от главного страха его жизни. Ей захотелось приласкать его, тихо и нежно, как мать ласкает свое дитя, чтобы улыбка никогда не покидала его лица, а глаза всегда светились навстречу ей радостью и счастьем.
— Иди ко мне… — тихо сказала Ольга.
Она опустилась на подушку, Кирилл подошел, сел рядом. Она взяла его голову, приблизила к себе и поцеловала в лоб. Дыхание его участилось, глаза потемнели, а сильные горячие руки, лаская, и сквозь одежду находили самые потаенные и отзывчивые уголки ее тела. И вот она уже всем телом, всем существом своим потянулась к нему, сама срывая с себя ненужную одежду и помогая раздеться ему, чтобы каждой клеточкой, каждой порой почувствовать его, понять, и ощутить, и вобрать в себя, и раствориться в нем.
Кирилл перевернул ее на живот, целуя сзади в шею и нежно покусывая мочку уха. Прикосновение его мягкой шелковистой бороды возбуждало, напоминая страстный любовный шепот, когда бессмысленные слова сливаются в единый поток, все набирающий силу, который несется с ревом, сметая все на своем пути. Стоя на коленях, опершись локтями на подушку, Ольга спиной ощущала невесомую, сладкую тяжесть его тела, которое билось в страстном желании остаться в ней навсегда.
Вдруг время остановилось, исчезло, его просто не стало, перед глазами замелькали блестящие разноцветные вспышки, пространство раскололось, сузилось до маленькой точки где-то внутри, которая, постепенно вновь разрастаясь, грозила опрокинуть и уничтожить тех, кто вздумал тягаться с ним.
Не в силах выдержать этого запредельного, нечеловеческого наслаждения, Ольга почувствовала, что вот-вот потеряет сознание, и тут же, как бы со стороны, услышала свой громкий протяжный стон, который взамен блаженных игр на краю бездны возвращал ей ощущение реальности, где царил покой, побеждал здравый смысл и правила всем любовь.
Потом, покачиваясь на волнах сладостного изнеможения, они долго лежали в оглушительной тишине, нарушаемой лишь отчетливым биением их сердец. Кирилл крепко прижал ее к себе, словно боялся, что это мираж или сон и что, разомкнув объятия, не обнаружит рядом ничего, кроме холодного мерцания пустоты.
Постепенно приходя в себя, Ольга медленно обвела глазами комнату; все вещи, безмолвные свидетели их любви, оставались на своих местах, но ей показалось, они как-то изменились и, невольно соучаствуя в ее радости, стали немного иными: книжный шкаф, всегда угрюмый и задумчивый, выглядел приветливо и добродушно; кресло, заботливо вытянув подлокотники, как бы приглашало в свои объятия; стол утратил озабоченную деловитость и весело поблескивал лаковой поверхностью от мягкого света горящего возле него торшера; разбросанная второпях на полу одежда смотрелась очень живописно.
Зазвонил телефон. Нехотя высвободившись из плотного кольца любимых рук, Ольга легко вспорхнула с дивана и побежала в прихожую, прикрыв за собой дверь.
— Алло! Свет, это ты?.. Нет-нет, еще не сплю… А который час?.. Ну, время детское… Да, в издательстве все в порядке, только работы невпроворот. А у тебя как?.. Да что ты! А Шурик?.. Ну и отлично, я очень рада за него, передавай ему привет… Хорошо, что ты позвонила… А знаешь что, Свет? Давай в субботу в Александровку съездим, а? Если, конечно, дождя не будет. Кирилл на машине нас отвезет… Шурика обязательно возьми… Ну, в лесу погуляем, к дяде Паше на могилу сходим… Закрома дядипашины разорим немного… Что?.. Да там весь погреб набит разносолами и маринадами… А?.. Да вот что-то, как сказал Никанорыч, на солененькое потянуло… Ну ладно, ладно, Свет, не кричи так, тетю Дусю напугаешь… Кстати, как она? Нормально?.. Ну, потом созвонимся… Все при встрече… Целую! Пока!
Ольга повесила трубку. Из входной двери дуло, и стоять в прихожей в обнаженном виде было не очень уютно, все тело покрылось мурашками. Но молодая женщина, отражавшаяся в зеркале напротив, казалось, не замечала этих неудобств: ее зеленые глаза с темными маслинами зрачков лучились предчувствием счастья, на высоких скулах играл ровный неяркий румянец, а чуть вздернутый нос придавал всему лицу очень задорный, даже игривый вид. Ольга с удовольствием смотрела на эту женщину, отметив про себя, до чего же обольстительна таинственная, загадочная линия, которая, минуя тонкую крепкую талию, плавно переходит в упругие, налитые жизнью бедра. Она тихо засмеялась, приблизила лицо к зеркалу и поцеловала женщину прямо в румяные, застывшие в улыбке губы. Потом, будто вспомнив о чем-то, встала боком и озабоченно посмотрела на живот, но никаких изменений не заметила.
Из комнаты вышел Кирилл, в джинсах и футболке, с халатом в руках. Набросив халат ей на плечи, он вместе с нею взглянул на счастливую женщину в зеркале и, наклонившись к самому уху, с любовью произнес:
— Олюшка моя!
Ольга повернулась к нему, обвила руками шею и прильнула к его губам, ощущая горячее мускулистое тело под тонкой футболкой.
— Ты поставь чайник, — сказала она, поднимая с пола соскользнувший халат, — а я пока приму душ.
Когда она, минут десять спустя, вошла в кухню, Кирилл вовсю хлопотал по хозяйству: в сковородке, разогреваясь, шипели котлеты, на столе стояла ваза с фруктами и тарелка с аккуратно нарезанным хлебом.
— Кушать подано! — с легким шутливым поклоном проговорил он, делая широкий жест рукой в сторону стола. — Осталось только чай заварить. — Заметив перемену в ее настроении, встревоженно спросил: — Что с тобой?
— Ничего, просто легкая слабость, — тихо ответила Ольга. — Сейчас пройдет.
В действительности же она расстроилась, вспомнив в ванной о том, что Кирилл ничего не спросил о ребенке, даже не намекнул, что знает об этом.
«Неужели тетя Тамара не сказала?» — забеспокоилась Ольга. Но, с другой стороны, становилось совсем уж непонятно, для чего она тогда вызывала Кирилла и о чем они вообще говорили.
Пока он заваривал чай, Ольга сидела на топчане, не зная, с чего начать и как подступиться к этой деликатной теме, но так и не придумала ничего лучшего, чем просто спросить:
— Скажи, Кирилл, а тетя Тамара… в общем, тебе все известно?
Накрыв заварной чайник полотенцем, Кирилл подошел, сел возле нее на корточки и, взяв ее руки в свои, с улыбкой посмотрел снизу вверх.
— Конечно, не все, — весело проговорил он и лукаво подмигнул. — Далеко не все… Мне, например, неизвестно, любишь ли ты меня… Ты ведь мне этого так и не сказала…
Ольга заерзала на топчане, но Кирилл, не дав ей возразить, шутливо продолжал:
— Ну, положим, насчет этого у меня еще кое-какие догадки имеются… А вот что уж мне совсем неизвестно, так это кто же у нас все-таки будет: сын или дочь. — С этими словами он потянулся к Ольге, положил голову ей на колени, ухом к животу, словно в надежде услышать какой-то магический знак, который избавил бы его от этой неизвестности.
Прождав несколько секунд в такой неудобной позе, он вскочил на ноги, присел рядом с Ольгой, одной рукой притягивая ее к себе, а другую бережно кладя ей на живот.
— Знаешь, на самом-то деле и сын и дочь — это одинаково здорово! — щекоча ей щеку бородой, тихо проговорил он.
Увидев его загоревшиеся радостью глаза, услышав эти слова — «сын» и «дочь», произнесенные им с какой-то особой, трогательной ласковостью в голосе, Ольга только сейчас поняла, что это невидимое, требовательное существо, живущее в ней, в действительности не существо, а именно — мальчик или девочка, какими были когда-то и она, и Кирилл, и дядя Паша, и все остальные, но только до того, как переступили порог этого мира.
И от этой простой мысли ее охватил вдруг необъяснимый восторг, смешанный с легкой, светлой печалью, будто тихий ангел пролетел мимо, слегка коснувшись ее невидимым воздушным крылом. Она сидела с закрытыми глазами и блаженно улыбалась, как бы вслушиваясь в неземную музыку где-то внутри, доступную лишь ей одной.
Кирилл разлил чай по чашкам, подвинул к Ольге тарелку с едой, затем, вспомнив о чем-то, вынул из холодильника большую банку с клюквенным морсом.
— Вот, Тамара Ивановна строго наказала поить тебя этим напитком. — Он налил морс в стакан и разбавил горячей водой.
— Знаешь что… — все еще пребывая в особом просветленном состоянии, проговорила Ольга, — если родится мальчик, давай назовем его Павлом, в честь дяди Паши, ладно?
Кирилл молча закивал в знак согласия, а прожевав котлету, твердо произнес:
— Обязательно! Я и сам хотел тебе это предложить. А если… не мальчик? — робко спросил он, отставил тарелку в сторону и, в волнении схватив стакан с морсом, сделал несколько глотков.
— А если девочка… — медленно, с улыбкой начала Ольга. — Девочку мы назовем Полиной.
Она увидела, как глаза Кирилла вспыхнули и засветились любовью и благодарностью, он потянулся к ней через стол, накрыл ее руку своей и, ласково сжав, тихо промолвил:
— Кто бы у нас ни родился, я уже люблю его… или ее…
Увидев, что на столе не хватает дядипашиного варенья, Ольга встала и открыла шкафчик на стене.
— Ты какое хочешь? — спросила она Кирилла. — Малиновое? Клубничное? Может, яблочное?
— Да я вообще-то сладкое не очень, — признался тот, доедая котлету. — Давай любое, какое тебе нравится.
Перебирая банки, Ольга наткнулась на маленькую баночку в углу. На бумажке, стянутой черной резинкой вокруг крышки, крупными буквами было написано: МЕД, и помельче: 1991. Поставив баночку на стол и сняв крышку, она вздохнула:
— Дядипашин первый урожай… Я думала, никогда не смогу съесть ни ложки отсюда… ну просто рука не поднимается…
— А теперь?
— Теперь… — Ольга взяла чайную ложку и зачерпнула густую янтарную жидкость. — Вчера тетя Тамара говорила о бессмертии души… ну, что душа человека никогда не умирает… И теперь мне кажется, она права. Я не знаю, где сейчас дядя Паша, но душа его здесь, с нами… и в этой ложке меда тоже… я это чувствую… ну просто ощущаю. — Она поднесла ложку ко рту и ощутила запах клевера, и ромашки, и цветущей липы. — Ой, как вкусно! Хочешь?
Кирилл замотал головой:
— Только не это! С детства мед терпеть не могу!
— Да это и не мед, неужели не понимаешь? — укоризненно посмотрела на него Ольга. — Это же… ну не знаю… как причастие, что ли…
Кирилл растерянно взял у нее из рук ложку с остатками меда и облизал ее.
— А действительно, ничего! — обрадовался он. — Может, меня в детстве просто не таким кормили?
Со стены бойко и хрипло закричала кукушка.
— Ого, уже одиннадцать! — воскликнул Кирилл. — Ну-ка быстренько ешь, пей морс и спать. — Он напустил на себя строгость и погрозил пальцем. — Теперь-то я возьмусь за тебя, за твой режим и прочее… Тамара Ивановна меня проинструктировала: самое главное, сказала она, сон и прогулки… В общем, хочешь не хочешь, а придется начинать новую жизнь…
— И с чего же, по-твоему, мы начнем нашу новую жизнь? — с улыбкой спросила Ольга.
Кирилл помедлил с ответом, обвел глазами кухню. Его взгляд остановился на куске порванной ткани, болтавшемся у окна.
— Да хотя бы с того, — засмеялся он, — что завтра же купим новые шторы. Идет?
Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.


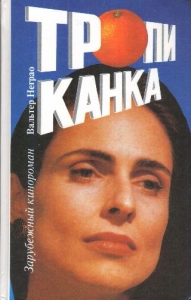





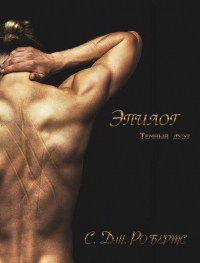
Комментарии к книге «Горький мед», Мария Леонидовна Лебедева
Всего 0 комментариев