Мучения члена
ОТ ИЗДАТЕЛЯ
Франсуа-Поль Алибер родился 18 марта 1873 года в Kapкассоне, где и прожил до самой смерти 23 июня 1953 года. Он работал конторским служащим в мэрии, а позже занял должность генерального секретаря и в 1930 году возглавил Городской театр, для которого написал несколько адаптаций Еврипида и пьесу «Навзикая», вдохновленную Гомером. Как это ни парадоксально, всю жизнь Алибер открыто придерживался консервативных и даже реакционных взглядов, а в литературе явственно тяготел к классическим формам.
Его подчеркнуто классическая поэзия имела определенный успех. Алибер — автор 42‑х сборников стихов, публиковавшихся с 1907 года. По выражению Жана-Жозе Маршана, «его поэзия застыла на полпути между Валери и Моррасом». Робер Сабатье уделил ему немало внимания в 8-м томе своей монументальной «Истории французской поэзии» (1982), сравнивая с Андре Шенье и Альфредом де Виньи, с одной стороны, и с Жаном Мореасом и Полем Валери, с другой. Однако ныне поэт Франсуа-Поль Алибер прочно забыт.
Решающей стала для него встреча с Андре Жидом, которая произошла в 1907 году в Баньоль-де-Гренад. Об их тесной дружбе свидетельствует длительная переписка. Алибер начал публиковаться с 1909 года в «Нувель ревю франсез», а также писал для «Шантье» и «Кайе дю Сюд».
В наши дни имя Франсуа-Поля Алибера известно благодаря его тайным эротическим произведениям.
Его гомосексуальный роман «Мучения члена» был подпольно опубликован в 1931 году Рене Боннелем тиражом 95 экземпляров. Андре Жид выступил посредником между Алибером и Роланом Сосье, в ту пору ответственным директором книжного магазина «Галлимар» на бульваре Распай, который сам связался с издателем. Об этом нам известно из нескольких писем, которыми обменялись Жид и Алибер. Книга была издана анонимно, а в выходных данных указывалось вымышленное издательство «Остров Бартеласс» (остров под таким названием действительно существует на реке Рона, недалеко от Авиньона, но там никогда не было издательской фирмы и даже типографии). На титульной странице книги помещалось лишь ее название, напечатанное черной и зеленой краской. Анонимный офорт на фронтисписе принадлежал перу каталанского живописца и гравера Рене Крешамса. Книга, продававшаяся из-под полы, раскупалась очень медленно и долгое время была практически неизвестной.
Кроме того, Франсуа-Поль Алибер написал еще два эротических романа, оставшихся неизданными. Правда, «Терновый венец» был напечатан незадолго до войны, в 1939 году, другим издательством, с которым также связался Ролан Сосье, но весь тираж изъяла полиция на бельгийской таможне. Даже гранки книги, которые Алибер держал в руках, до сих пор не найдены…
Третий и наиболее дерзкий роман, «Сын Лота», издан не был.
Скудные сведения об этом подпольном произведении можно почерпнуть лишь из нескольких неопубликованных писем Жана Полана к Роберу Шатте, букинисту, торговавшему в том числе и эротическими сочинениями.
Рукопись «Сына Лота» была найдена и впервые напечатана в 2002 году Эмманюэлем Пьерра. Поиски рукописи или уцелевших экземпляров «Тернового венца» продолжаются.
«Мучения члена» и «Сын Лота» издаются по-русски впервые.
МУЧЕНИЯ ЧЛЕНА
— Сегодня комаров поменьше.
Сколько раз Альбер слышал подобные фразы! Или, например:
— Вроде бы дождь собирается.
Или:
— Как пахнет свежее сено! Сразу хочется прилечь…
Ну, или:
— Луна в ореоле — к перемене погоды.
Косвенный намек, приглашение к путешествию, словно подразумевающее: «Неужели ты не понимаешь, что я прошу уже перейти к делу? Мы, возможно, подадим».
Хотя Альбер редко произносил такие слова, он всегда дрожал в сильном волнении. Ожидание под деревьями, незнакомый красавец, проходящий мимо, желание, возникающее помимо воли, тайная прелесть — чем запретнее‚ тем дороже и чем презреннее, тем ценнее: обо всем этом заранее напоминал ему голос, который повторял с неуверенной дерзостью и застенчивой интонацией, упражняясь в цинизме:
— Сегодня комаров поменьше.
Хотя на самом-то деле они кишели кишмя. Но другой мог бы сказать, что он еще никогда их столько не видел: потребность завязать разговор была бы не менее очевидна. К тому же он мог произнести что угодно, лишь бы подчеркнуть, что спешит воспользоваться неясной возможностью, неожиданной, внезапной добычей, предлагающей себя, которой тоже не терпелось (Альбер догадывался по дрожи в голосе) принести себя в жертву.
Тягостным, теплым, почти удушливым вечером конца сентября небо становилось все тяжелее, а сумрак сгущался. По ту сторону дороги еще более темные тамариски шпалерами спускались к пруду, окаймленному цвелью и мусором. Вдалеке едва зыбилось море, будто не в силах вздохнуть. Все смешалось в темноте, напоенной ароматами хвои, где Альбер с трудом различал, больше не видя лица, стройную и хрупкую фигуру мужчины, который только что прошептал:
— Сегодня комаров поменьше…
Не проронив ни слова, Альбер пошел за незнакомцем. Он не любил долгих разговоров и опасался пошлости, особенно в подобных вещах. К тому же зачем говорить, если и так все ясно? Мало-помалу он обнял мужчину за талию, тот снисходительно заупрямился, но затем все же уступил этому робком нажиму. Альбер провел ладонью по худощавому, жилистому торсу, почти прямым бокам, затвердевшим от обжигающей страсти, наконец, по натянутым худым ягодицам и внезапно опустил ее на огромную округлость — уже набухшую и жесткую.
— Ну и ну, — сказал он вслух и усмехнулся про себя, чтобы не обидеть незнакомца. Впрочем, даже к самому отъявленному распутству Альбер всегда относился серьезно и уступал бесу иронии лишь перед несоразмерностями, которые поневоле пробуждали в нем неудержимое чувство комического.
Однако любопытство всегда пересиливало, и Природа вдобавок наградила его пристрастием к излишествам, хоть он и предавался им лишь изредка. Словом, он пошел до конца и, пока мужчина, еще плотнее прижимаясь к нему, трепетал от радости и надежды, приступил с той медлительностью, что лишь усиливала удовольствие, отсрочивая его, к частичному раздеванию, благодаря которому незнакомец, если можно так выразиться, попался к нему на крючок. И тут вдруг наружу неожиданно выскочил член, превосходивший своими размерами все, что Альбер видел раньше, но изумлявший еще и тем, что снизу покачивались, словно чернильные орешки на главном суке каменного дуба, крошечные яички, которые, казалось, и сами не понимали, какую бесполезную функцию выполняют при этом чудовищном органе, воплощавшем всю славу земли и небес.
Тем не менее, Альберово чувство пропорции было слегка задето. «Многие уверяют, — подумал он, — что идеальная женская грудь должна умещаться в ладони. То же самое я мог бы сказать и о вас, парные порождающие яички: вы прелестнее всего, если точно соответствуете по размерам члену, который вас увенчивает, и если целиком заполняете ласкающую вас ладонь. Плохо, если вы проскальзываете между пальцами, как. вода, или, наоборот, переливаетесь через край, будто невероятно раздувшийся бурдюк, на котором распластался, отдыхая от трудов, смехотворно микроскопический членик, напоминающий земляного червя, оставленного на топинамбуре. То же самое мог бы я сказать и о тебе, священный член: ты достигаешь полного совершенства, лишь когда все мои десять пальцев способны идеально тебя обхватить. Но раз уж приходится выбирать, я предпочитаю громадные размеры, исполинский член, которому позавидовал бы даже Кентавр, ведь если яички — один из самых благородных органов мужчины, то лишь от тебя, святой член, исходит непреодолимое и невыразимое сладострастие, хоть ты и являешься только его передатчиком».
Впрочем, во время этих мысленных разглагольстовований, грозивших скатиться в лирику дурного тона, Альбер не стал слишком увлекаться предварительными тайными ласками и обрадовался, когда звонок к ужину вернул ему чувство реальности. На этом маленьком курорте, где останавливались лишь редкие купальщики, за стол садились очень поздно.
— Ты вернешься? — спросил мужчина с некоторым беспокойством.
— Сию же минуту, — ответил Альбер, — даю слово.
— Постарайся быстрее, — сказал незнакомец, — мне скоро нужно будет возвращаться.
Альбер ушел, решив больше не приходить и рассудив, что насмотрелся вполне достаточно. Наверное, именно поэтому двадцать минут спустя он уже был на месте и нашел мужчину там же, где оставил его. Но теперь Альбер превратился в собственную тень, почти незримую форму желания, которое стало еще настойчивее оттого, что пару минут назад он поклялся не поддаваться ему.
Они дошли до развилки и повернули направо — к пруду. Альбер вновь обнял своего спутника за талию. Тот был голый под тонкой, износившейся рабочей блузой из черной кисеи — весь такой холодный и вместе с тем обжигающий, натянутый, словно лук из живого дерева, который порой изгибался почти до разлома. Песок заглушал их шаги. Они брели промеж виноградников, откуда доносился слабый аромат высохших гроздьев. Человек хорошо знал эти места: несмотря на густую темень, он уверенно вел Альбера, а тот следовал по пятам. «Наверняка, ему это не в новинку, да и я не первый, кого он сюда ведет, — подумал Альбер, — но не все ли равно?»
Незнакомец снова повернул и направился через другой виноградник.
— Давай остановимся здесь, — сказал он, и они развалились на песке, укрывшись от ветра за шпалерой еще зеленого тростника. Альбер был необычайно взволнован. Тихий и словно жалобный голос незнакомца, его долгие паузы, кротость, не переходившая, впрочем, в самоуничижение, его желание угодить, страх показаться навязчивым из-за чрезмерной услужливости либо цинизма — все это тронуло сердце Альбера, и он вдруг ощутил тайную нежность к этому случайному бродяге, склонному от природы вкладывать всю душу и какую-то неведомую безмерность в любые мимолетные объятия. Едва они легли, Альбер почувствовал, как толстые горячие губы в страстном порыве припали к его губам. Он ответил на поцелуй и вдруг почувствовал, что грудь мужчины раздалась в глубоком и горестном вздохе.
— Что с тобой, друг мой? — спросил Альбер. — Отчего ты так несчастен?
— Несчастным я был всегда, — ответил незнакомец, причем с каждым днем все больше. Но сейчас я счастлив, потому что обнимаю друга.
Альбер был вынужден мысленно признать, что этот мужчина, так бедно одетый и, похоже, весьма скромного происхождения, выражался, тем не менее, с непринужденностью и даже порой изяществом, противоречившими его неприметной внешности. Однако, привыкнув ничему не удивляться, Альбер проникся удвоенной симпатией и вновь, еще искреннее, чем в первый раз, поцеловал эти незнакомые губы, подставляемые с таким услужливым пылом. Поцелуй затянулся, а руки мало-помалу разъединились. И тогда каждый, с умышленной медлительностью, колеблясь, ощупывая, запаздывая, начиная снова, сердясь и впадая в сладострастную грубость, — каждый стал раздевать другого, придвигаясь все плотнее. Альбер почувствовал, как на его член наседает огромный, роскошный, неохватный орган, прямой и закругленный, точно колонна, по которому уже пробегали неощутимые вибрации, словно по языку начинающего раскачиваться колокола, и который дрожал напротив его живота, почти на уровне груди, глухо, прерывисто пульсируя.
Как только Альбер начинал задыхаться от давления, он слегка отодвигался и переводил дух. В конце концов, это потрясающее приключение ему даже нравилось. На мгновение он размечтался о сексе с чудовищами, припомнив легенды античного бестиария. «Перестань, — усмехнулся он над собой, — ты же не литературой здесь занимаешься!» И придвинулся вновь. Оба они были голые от пояса до колен. Песок еще хранил остатки послеполуденного тепла, хотя его уже пронизывала подземная свежесть, связанная со временем года и суток, а со стороны очень близкого моря медленно просачивалась сырость, но их разгоряченные бока находили в ней приятное успокоение. Мало-помалу незнакомец, схвативший Альбера в охапку, переворачивал его, по-прежнему прижимая к себе с подчиняющей, убедительной силой. Мужчина прилип к нему всем телом, и тогда Альбер, лежавший на согнутой руке, почувствовал, как между его раздвинутыми ляжками проскользнула вздутая, знойная, властная фасция: он насладился ее прикосновением и нежным теплом, но был уверен, что дальше она не пройдет.
В самом деле, незнакомец никогда бы не достиг своей цели, поскольку Альберу не нравилась эта игра: все-таки он предпочитал менее грубых и более утонченных любовников. Если же порой и отдавался по доброй воле, то получал от этого не ахти какое удовлетворение. Комический бес вновь одержал верх, и Альбер усмехнулся исподтишка, прекрасно зная, что его партнер не двинется дальше, чем будет позволено. Он вспомнил юного кучера из А***, к которому пару дней назад воспылал столь безудержной страстью и который ночью, когда они лежали в импровизированной постели, вдруг сказал ему трогательно-умоляющим и повелительно-ласковым тоном (с примесью изысканного южного выговора):
— Повернись, я тебя трахну.
— Спасибо, — со смехом ответил Альбер, — нет ни малейшего желания.
И славный мальчик больше не приставал.
Он также припомнил роскошного русского солдата, которого повстречал на войне в Македонии одним душным летним днем, на склоне Б***. Его грудные мышцы и ягодицы были усеяны крупными каплями пота, так что он напоминал навьюченного осла. Альбер насильно повел его в полуразваленную комнату, где квартировал, и всю ночь напролет, можно сказать, пожирал великолепную белоснежную плоть. В какой-то момент русскому захотелось сделать то же самое, что и юному кучеру. Шутки ради Альбер согласился, и он никогда не забудет, с каким комичным отчаянием, после нескольких бесплодных попыток, русский повалился набок, ощетинившись золотистыми волосами, и вздохнул:
— Не можу.
Но этот был еще больше тех двоих вместе взятых. Пристреливаясь к мишени, мужчина снова и снова повторял свои атаки — то яростные, то осторожные. Если перевернуть уравнение, он с таким же успехом мог бы попытаться проткнуть перьевой ручкой многослойный железобетон. Альбер повеселился на славу и даже получил некоторое удовольствие от этого бесполезного упорства и остервенения. Затем, словно осознав тщетность своих усилий, мужчина отчаялся и присмирел, но, тотчас же притянув Альбера к себе еще раз неистово поцеловал его и разрыдался.
— Не горюй, — сказал Альбер, — с кем-нибудь другим у тебя, наверняка, тоже ничего бы не вышло.
Он медленно погладил эту обнаженную плоть с бесконечной жалостью, к которой примешивалось новое желание. Вдруг незнакомец наклонился и предался долгим, извивистым ласкам: он огибал грудь и скользил под мышками головкой влюбленного ужа, вжимался в пупок, словно пытаясь вдавить его до самого дна живота, прогнувшегося под всасывающим ртом, а затем, поднимаясь, опускаясь, поворачиваясь по кругу и по спирали, гибкий и вместе с тем жесткий, стал блуждать по ляжкам Альбера и еще ниже, после чего тотчас взбирался обратно вдоль жезла, раздувшегося и уже готового лопнуть. Потихоньку раскачиваясь, мужчина окончательно сосредоточился на едва заметной точке, и Альберу почудилось, будто все его тело расходится оттуда лучами до самых границ вселенной. Незнакомец остановился и начал настойчиво проникать все дальше и дальше, а затем, в постепенно сужающемся водовороте наматывая нескончаемые круги, добрался до самой потаенной кости стонущего и умоляющего Альбера. Тогда опять вскочил колющий огненный бурав, увенчанный брызжущей пеной, которую мужчина выжимал и пил большими глотками. Едва извергнув ее, Альбер сник и обмяк, бессловесный и неподвижный, а все его члены растворились в ночной теплоте, под воркование моря, при свете звезд, от коих он не мог оторвать остолбеневшего взгляда, и они спускались к нему, словно желая коснуться лба.
«Все-таки надо его отблагодарить, — подумал Альбер, слегка встряхнувшись, — ну хотя бы попробовать».
Словом, он делал все, что мог. Но как всосать, хотя бы частично, такую громадную округлость? Он подступал к ней помаленьку, передвигаясь с одного места на другое, и на ограниченной поверхности, по его мнению, вовсе недостаточной, начал совершать чередующиеся движения: упираясь языком в конкретную точку, заглатывал стоячий орган, дабы поступательно подвести его к тому ошеломительному взрыву, который единым махом выжимает из тебя все соки.
Незнакомец был уже на грани оргазма, но минуту спустя его отбрасывало на пару саженей назад, и он втихомолку сердился, правда, больше на себя, нежели на Альбера, переживая резкую смену надежды и отчаяния, а затем снова падал духом. Обессилевший Альбер решил удовлетворить его руками, действуя то грубо, то с бесконечной нежностью, и вдруг ему почудилось, будто он вступил в схватку с неким Meta sudans[1], покрытым беспрестанно струящейся водой, вокруг которого его руки без устали двигались вверх-вниз, сдавливая над заглотанными яичками, чтобы из них забил тот источник силы и жизни, к коему, потеряв голову и неожиданно возлюбив уродство, он припадал, затыкая, откупоривая и вновь закрывая его. Фонтан щедро изливался из самого нутра опрокинутого навзничь мужчины и, стиснув зубы, он гортанно стонал «еще!», то ли прося пощады, то ли умоляя о большем: Альбер перестал понимать.
Потом они долго лежали в смущении, после чего кое-как приведя себя в порядок, обогнули виноградник и вернулись по песчаной тропе к развилке. Перед тем как расстаться, Альбер замешкался: у мужчины был такой нищенский вид! Но в подобных случаях он всегда немного смущался.
— Ты не против? — наконец сказал он. В темноте Альбер, скорее, догадался, чем увидел, что незнакомец улыбается.
— Нет, — ответил он, — я не тот, за кого ты меня принимаешь. Если хочешь, давай встретимся завтра — на том же месте, в тот же час. Сейчас уже поздно и мне пора возвращаться к жене. Скоро она уедет на два-три дня, и мы сможем подольше побеседовать.
Остолбеневший Альбер сумел лишь кивнуть, а на обратном пути ломал себе голову: «Какого черта жениться, если у тебя подобные наклонности?.. Да еще и такому пропащему!»
— Друг мой, — сказал Альбер на следующий день, — поверь, это вовсе не бестактность с моей стороны. Конечно, я бы предпочел, чтобы ты остался в моих воспоминаниях лишь маской без лица, как это со мной часто случается. Но ты не похож на других: что-то притягивает меня к тебе, и я предчувствую что в моей жизни ты займешь важное место. Больше всего на свете я не выношу, когда нельзя обозначить каким-нибудь именем черты тех, к кому влечет меня зарождающаяся привязанность.
— Не извиняйся, — возразил незнакомец. — Лично я никогда не задам тебе такого же вопроса, ведь я сам сделал первый шаг, привычный в подобных случаях.
— Меня зовут Альбер Ф***, — с готовностью представился Альбер, дабы опередить собеседника.
— Хотя твое имя кое о чем говорит мне, — продолжил незнакомец, — мое наверняка не скажет тебе ничего. Если хочешь, называй меня Арманом P*** — это мое настоящее имя. Ночь теплая, мы немного прогуляемся, а потом, если ты не против и если тебя не ждут в другом месте, проведем остаток ночи у меня: жена уехала.
Альбера поразил контраст между уверенной, почти изящной речью Армана и слегка униженной кротостью, которой отличались его слова накануне, а он поневоле испытал некоторое смущение и даже неловкость. Но любопытство вновь пересилило, и он пошел вслед за Арманом.
Понимаю твое удивление, — сказал он, — но в жизни всякое случается. Я не стану тебе рассказывать о событиях, в результате которых я, промотав состояние, превышавшее самый щедрый достаток, был вынужден устроиться на работу на маленькой станции Л***, расположенной, как тебе известно, в двух шагах отсюда. Какой интерес — по крайней мере, сейчас — могут представлять для тебя все эти подробности? Наверное, тебя еще больше изумляет то, что, отмеченный с рождения уродством, которое ты вчера наблюдал, я сумел найти себе жену, и ты ломаешь себе голову, какая мне от этого польза. Заходи, — продолжил он, когда они добрались до низенького домишка, спрятанного поодаль от дороги за купой диких миндальных деревьев. — Вот мое жилище. Мне сделали одолжение, и я живу здесь а не в казарме за станцией, куда компания селила своих служащих. Кроме всего прочего, так мне проще принимать проезжих друзей во время частых отлучек жены. Она вернется лишь послезавтра, а завтра у меня выходной. Так что у нас впереди целая ночь.
Он толкнул дверь и впустил Альбера в кухню, где зажегши небольшую лампу, развел огонь в камине.
— В сентябре под утро бывает свежо, — пояснил он, — а мне не хочется, чтобы у тебя остались дурные воспоминания о моем гостеприимстве. Прости, но я могу предложить лишь немного вина.
Альбер отмахнулся, мол, все это пустяки, но тот час осмотрелся. В жилище царила крайняя бедность, но вместе с тем порядок: как ни странно, нужда очаровала Альбера. Он вспомнил другую кухню, в городке, где недавно провел несколько месяцев. Там он пил такое же терпкое и прозрачное вино при неярком свете угасающего очага, а роскошный зверь отдавался ему всеми способами — на выстроенных в ряд стульях, на столе, где какой-то рулон служил им неудобной подушкой, и на полу, прямо на скверном пальто, сквозь которое проникал холод от стертого красного кафеля, вызывая не меньшую дрожь, чем сама похоть. На том же этаже спали жена с ребенком, вынуждая ходить крадучись, на цыпочках, и вдруг резко умолкать, пытаясь унять малейшую дрожь — не столько из страха перед опасностью (впрочем, всегда реальной), сколько для того, чтобы нарочно соткать вокруг себя атмосферу повышенного риска, обострявшего наслаждение.
При зажженной лампе Альбер смог спокойнее рассмотреть Армана. Хотя ему уже, вероятно, перевалило за тридцать, худое юношеское тело поигрывало под одеждой, которая казалась истрепанной специально для того, чтобы руке было проще нащупать под чуть ли не просвечивающей тканью тощую, мускулистую наготу — бесплотную, но жилистую. Еще больше поражало пылающее лицо: высокий лоб восхитительной формы, увенчанный копной рыжих волос, кроваво-красные губы, глубокие серо-зеленые глаза и, прежде всего, выражение — умоляющее и вместе с тем напряженное, как у некоторых женщин, которые даже в спокойном состоянии таят у себя в промежности нечто такое, что их закупоривает, заполняет, душит и постоянно одаривает вечно близким, вечно утоленным и вечно неутолимым наслаждением. Это лицо, пораженное трагическим безобразием, вовсе не отталкивало, а наоборот, притягивало Альбера. Оно обнажало отчаявшуюся душу, которая за улыбкой, полной очарования, замыкалась в неприступном одиночестве, безбрежной пустоте, где, как можно было догадаться, человеческая речь не пробудила бы ни малейшего отклика.
Наполнив два бокала, Арман заговорил медленно тихо:
— Наверное, тебя удивляет, что я женат, хотя разделяю твои наклонности, да к тому же устроен таким образом, что неспособен получить полное удовлетворение ни с женщиной, ни с мужчиной естественным путем. Сейчас я объясню, в чем тут дело. На самом деле, я никогда не испытывал к женщинам ни влечения, ни отвращения — скорее, безразличие. Проще говоря, женщины никогда не вызывали у меня какого-либо желания — будь то в воображении или в реальности. Рядом с ними, так же, как и вдали от них, я всегда оставался холодным, точно мрамор… Мои романы в коллеже — зачем тебе о них рассказывать? У кого их не было? К тому же ты знаешь не хуже меня как все происходит. Беглое свидание в дортуаре, пока наставник спит, на занятиях в классе, во время урока или в перерыве между письменными работами — вот, пожалуй, и все. Но уже тогда я вкладывал в эти отношения больше искренности, чем другие, и эта искренность так никуда и не исчезла… Признаюсь с самого юного возраста я прославился среди товарищей огромными размерами своего члена, который многие, в том числе ребята постарше, едва могли обхватить ладонью. Так или иначе, два моих ровесника помогали мне добиться своего, погружая в состояние благодарного экстаза. Я прекрасно понимал: что бы ни случилось, сексуальное наслаждение сможет доставить мне лишь рука представителя моего же пола. Возможно, существовали и другие способы, но я едва о них догадывался, хотя они, несомненно появились задолго до моих желаний. Ведь мы всегда обретаем для себя лишь то, что неосознанно носим в себе, не правда ли? Я докажу на примере… Однажды, за два-три года до этого, когда я был еще совсем юным мальчонкой и жил в деревне у дедушки, я забрел на конюшню. Какой-то мужчина чинил там кормушку для лошадей. Этот неудачник был невзрачен: крив или косоглаз — уж не припомню, и ему шел четвертый десяток: по моим тогдашним мерка почти старик. Но для юноши, которого терзает один главный бес, нет такого понятия, как возраст. Примерно в это же время мой дядя, навещая больного, взял меня с собой, и я остался ждать его на берегу небольшого пруда, окаймленного деревьями, вместе с седым шестидесятилетним кучером. Неожиданно для себя я мысленно обратился с истовой молитвой к Господу, чтобы кучер положил мне ладонь на ширинку. Я бы никогда не отважился сделать то же самое по отношению к нему, хотя мужчине и было все равно…
— Зато у меня к тебе куча подобных просьб, — сказал Альбер, попивая вино‚ — продолжай, пожалуйста.
— Так вот, я забрел на конюшню, ни о чем таком не думая, тотчас же подошел к мужчине и заговорил с ним. Несмотря на юный возраст, я был полон разнообразных предчувствий! Почему мы всегда выбираем что-то одно, а не другое? Он даже не успел повернуться ко мне лицом и стоял спиной, но, как я уже сказал, у него был убогий вид, сутулые плечи и скверная фуражка, низко опущенная на лоб: словом, крайняя степень заурядности и пошлости, если только не отвращения. Но спустя годы я понимаю, что мы признали друг друга с первого взгляда. Он чем-то спрашивал, и я односложно отвечал. Затем он вернулся к работе, а я встал сзади и, прижимаясь все плотнее, начал обнимать его за бока, мало-помалу соединяя ладони у него на животе. Я весь трепетал оттого, что он позволяет мне это, но был почему-то уверен, что он и не мог поступить иначе. С уверенностью, по-прежнему изумляющей меня, я принялся медленно расстегивать ему ширинку, а затем схватил детскими ручонками ту загадочную массу, то средоточие мужской плоти, которое больше не было для меня такой уж диковинкой, но теперь я погрузился в нее с головой, поскольку она была не детской, а взрослой. Я мял и массировал ее, а она перекатывалась и колыхалась в моих руках, раздуваясь настолько, что я уже не мог ее обхватить, и у меня самого тоже начинал вставать в каком-то свирепом восторге, побуждавшем к новым ласкам… Изредка, обернувшись наполовину, он задавал мне вопросы, которые я не совсем понимал. Я почти ничего не отвечал и лишь продолжал ласкать, даже не представляя, несмотря на смутное предчувствие, чем это может закончиться. Вскоре желая, видимо, разделить со мной удовольствие которое он уже начинал испытывать, мужчина решил ответить мне взаимностью. Не знаю почему, но я отказался с диким упрямством. Затем, услыхав, что меня зовут, и поддавшись внезапному порыву, я резко развернулся, взял его член в рот и так сильно укусил на прощание, что кучер вскрикнул. Я тотчас убежал и, когда вернулся к родителям, никто из них ничего не заподозрил и даже не догадался по выражению моего лица о том открытии, которое я только что совершил, и о переполнявшей меня радости… Если я так подробно распространяюсь на эту тему, которая одним покажется несущественной, тогда как другие усмотрят в ней лишь отклонение, обычное для многих детей, я делаю это вовсе не ради самолюбования. Наверняка, ты так же, как и я, убежден, что в подобных вопросах нет ничего несущественного и не бывает никаких отклонений, а есть лишь конкретные случаи. Я хочу, чтобы ты уяснил: вопреки видимости, мое любовное желание всегда, с детства и доныне устремлялось исключительно к представителям моего же пола. Я воображал и получал удовольствие только с ними, и хотя позднее заинтересовался женщинами, этот интерес носил столь обманчивый характер, что его объяснение станет, возможно, самой странной и непонятной частью моего рассказа.
Арман на минуту умолк, словно разбередив свои воспоминания, а затем продолжил:
— Когда мне исполнилось семнадцать, я уже выглядел почти так же, как сейчас. Тайный орган, казалось, вытягивал все мои жизненные соки и бесконечно разрастался в ущерб остальному организму. Возможно, для многих такой член стал бы причиной гордости, да я и сам не уверен, что в те времена не радовался своей особости. Однако для моих юных товарищей член мой с давних пор был предметом изумления, порой насмешек, но в основном — страха. Я уже осознал всю тщетность собственных усилий, с тех пор как попытался получить удовлетворение с ровесниками, решившими пойти мне навстречу, и мог испытывать оргазм лишь благодаря кропотливыми поверхностным ласкам, причем добрую их половину я брал на себя. Я упорно стремился к более глубокому проникновению, что так ни к чему и не приводило, несмотря на любезность и щедрые подготовительные средства. Не подумай, будто я когда-либо злоупотреблял такими видами совокупления или, более того, искал некое иллюзорное подобие женщины, как большинство тех, кто им предается. Я упорствовал потому, что, возможно, заранее был убежден в невозможности довести дело до конца и пытался обрести со своими товарищами некую замену духовного сладострастия, которого затем требовал от женского пола. Но не будем забегать вперед… Однажды, когда мне уже пошел восемнадцатый год, я постучал в дверь борделя. Уверяю тебя, это не было ни любопытством, ни желанием поступать, как все, над которым я всегда смеялся, ни пробуждением нового чувства. Зачем же меня туда потянуло? Так или иначе, я вошел хладнокровно и сознательно, хорошо понимая, какое непреодолимое отвращение меня ожидает, хотя никогда в жизни там не бывал. Хозяйку звали Марта. Вышла высокая русская — накрашенная, уже немолодая, если только не старая с оголенными руками и в платье кричащего голубого цвета. Я поднялся вслед за ней по лестнице в ее комнату. Она быстро разделась: я никогда не видел ничего столь же отвратительного — особенно эти обвисшие, складчатые груди, завивавшиеся штопором и похожие на свиные мочевые пузыри, откуда удалили весь жир. Тоже раздевшись, я заметил как у нее на лице отобразился ужас: она никогда не видела и не принимала в себя ничего подобного. А между тем ее, извини, манда, которую я ощупал рукой, была так широка и глубока, что в нее без труда бы пролезла бутылка шампанского, причем донышком вперед… Женщина сделала все возможное, однако мой таран намного превосходил размеры ее бреши. Да, знаю, о чем ты думаешь и собираешься мне сказать. Если проявить настойчивость и, главное, грубость, можно справиться с любой задачей. Но могу заверить, что насилие — это не мой конек, я не садист. Вид, запах, вкус и осязание крови во время секса вызывают у меня отвращение. Я не из тех, кто испытывает оргазм благодаря жестокости — быть может, за исключением чисто головной жестокости, которая, конечно, является разновидностью садизма, но, в конечном счете, я всегда направляю ее против себя самого, так что у нее другое название. Наверное ты удивишься, что, несмотря на мою совершенную холодность к женщинам, мне удалось при соприкосновении с этой страхолюдиной добиться такой эрекции, которая возникала только в присутствии самца. Но хоть у меня и встал на эту старую Парку, в своем воображении я, несомненно, призывал на помощь иные прелести, и в душе моей уже вырисовывалось то смутное предчувствие, о котором я буду говорить вскоре и которое воплотилось пред моим мысленным взором лишь пару лет спустя… Наконец-то я осознал, что в силу своего уродства стою особняком от прочих представителей человечества, к какому бы полу те ни принадлежали. Меня переполняла горькая радость, и я повсюду носил с собой некое отравленное счастье. Я много путешествовал — по Франции и за рубежом, упорствуя вопреки очевидности и повторяя эксперимент, который всегда заканчивался разочарованием. Однажды я повстречал Жака. То было потрясающее создание — одновременно добродушное и глупое, пронырливое и доверчивое. С бычьей шеей и сплюснутым профилем безобидного тигра, он своим взглядом, лицом и осанкой показывал, что живет лишь ради того, чтобы наслаждаться каждым миллиметром собственного тела. Когда Жак обнажался, своей героической мускулатурой он напоминал юношу из Сикстинской капеллы, стоящего слева от пророка Иеремии и с необузданным бесстыдством демонстрирующего свои ляжки и исполинский торс, словно предлагая их для жадного поцелуя, которым невозможно пресытиться. Как только Жак выпрямлялся, раскинув руки и ноги (причем четыре страны света пересекались в великолепной точке его причинного органа, как на всяком каноническом изображении человеческого тела), он высился предо мной, а я алчно пробегал по нему глазами, проводил ладонью и губами, не в силах вычерпать сей неистощимый фиал удовольствия, который опьянял мои чувства одно за другим и все вместе. Я любовался восхитительными контурами рук и плеч, боков и коленей; слегка выдающейся грудью со вздутыми мышцами, столь твердыми, что они не прогибались под любым нажимом; пушком, который, начинаясь нежной порослью подмышек и заканчиваясь идеальным треугольником возле пупка, пышным и курчавым, окутывал член и опоясывал высокие ляжки: под моими губами дрожала эта шелковистая звериная шерстка, моховой покров с едким ароматом, теплое и хищное руно, куда я погружался, точно в самую темную чащобу первозданных джунглей… А какой вид открывался, когда он разворачивался и распрямлял великолепно прогнувшуюся спину, которая расширялась и раздувалась, постепенно переходя в бедра! Тогда я снова сгибал его, и он повиновался с безумной покорностью: мой язык приникал и ввинчивался в него, становясь с ним одним целым, а моя ладонь гладила поочередно его задницу, член и яички, которые я то притягивал, то отталкивал до тех пор, пока он еще мог терпеть это жгучее, почти болезненное покалывание. Затем я упирался языком в одну точку и водил ладонями повсюду — по бокам, в тех местах, где кожа на животе столь тонкая, что возбуждается от малейшего прикосновения; под мышками, по груди, сжимая соски, и, наконец, по напряженному половому органу, вновь оттягивая его назад вместе с роскошными яичками, которые заглатывал оба одновременно. Когда я уже начинал задыхаться, а Жак еле сдерживался, чтобы не кончить, он тоже разворачивал меня и обнимал руками и всем своим огромным телом, дабы подавить исступленное желание задушить меня, которое я сам мало-помалу вызывал у него… Признаюсь, я не получал от этого слишком уж большого удовольствия, точнее, получал его лишь «рикошетом», если можно так выразиться. Иными словами, то было удовольствие, которое испытывал он сам, и по сравнению с другим удовольствием, которое Жак получал бы на моем месте с кем-нибудь другим, оно не заслуживало внимания. Ведь, несмотря на все мои уловки, он оставался непреклонен. У меня даже не хватало сил отказаться самому, и ему точно так же, как тебе вчера, всегда приходилось отказываться от того, чтобы довести меня до оргазма. Тем временем он вволю возбуждал меня своими яростными атаками или обхватывал шершавыми руками землекопа мой член, который по своим размерам равнялся трем ослиным и в тот момент, когда Жак выбивался из сил, затапливал его до самых кистей бурным потоком спермы, гейзером молофьи — брызжущей колонной. Он размазывал ее повсюду — от основания до головки и обратно, с горячностью, вскоре вынуждавшей меня молить о пощаде… Но, почти тотчас же вырываясь из его объятий, пока он еще стонал в едва достигнутом наслаждении, я тоже припадал к этому роднику бьющей через край влаги, которая учащенными рывками поднималась из тайных глубин, словно от самого истока, и вскоре устремлялась вновь наружу из этого прекрасного трепещущего тела, изрекающего слова благодарности и проклятия: впрямь казалось, будто их произносят не только смущенные уста, но и все тело Жака одновременно.
— Я знал парней, — сказал Альбер задумчиво и вместе с тем насмешливо, — которые в такие минуты поминали мать. Похоже, это широко распространено у женщин, но у мужчины выглядит, скорее, смешно, нежели трогательно, поскольку он всегда вкладывает в свои слова больше искренности.
— Вот именно, — ответил Арман с мимолетной улыбкой, придававшей столько очарования его меланхоличному лицу, — а этот порой даже призывал на помощь Господа. Я вижу, от тебя тоже не ускользнула комичная сторона разврата, да и секса вообще. Может, мне лучше продолжить свой рассказ в другой раз? Я боюсь наскучить, объясняя вещи, которые тебе и так хорошо известны.
— Напротив, — возразил Альбер, — твоя история вызывает у меня громадный интерес, и судя по тому, что я уже знаю, меня ожидает гораздо большее. У нас впереди целая ночь, и она еще только началась.
Арман поблагодарил жестом, раздул огонь и продолжил:
— Мой роман с Жаком оказался долгим… Обычно я быстро отдалялся — еще быстрее, чем отдалялись от меня. Наверное, во мне был избыток гордыни, но я не мог оставаться лишь предметом отвращения, омерзения или просто любопытства — в большинстве, если не во всех случаях. При этом я лучился любовью, весь сотканный из нее. Сколько очаровательных существ, которые бросили меня и которых бросил я сам, все равно оставались привязанными ко мне душой и телом! Порой мы бываем чересчур суровы к себе и другим. Мы приписываем им замыслы и намерения, тогда как в своей душевной простоте они не придают никакого значения тому, что доставляет нам самые ужасные муки. Я почти всегда уходил первым, дабы случайно не уловить во взгляде, гримасе или малейшем жесте хотя бы тень скуки либо равнодушия. Правда, сначала я обеспечивал своих бывших всем необходимым на два-три года вперед, если только это было в моих силах. Я вовсе не стремился добиться признательности, в девяти из десяти случаев небескорыстной. Возможно, я лишь хотел еще глубже поселиться в их воспоминаниях и верил, что когда-нибудь, в минуту уныния или тоски, один из них откликнется на мой призыв и принесет мне временное утешение… Я так устал от множества перелетных пташек и бесчисленных незнакомцев, случайно встреченных в общественном туалете или на лавочке в безлюдном сквере — во всех омерзительных местах, куда мы заходим иногда по вечерам, словно одержимые, дабы получить удовлетворение любой ценой. Например, тот канализационный коллектор, куда я залез ночью уж не помню с кем. Мы спотыкались посреди невообразимых отбросов, под грохот тошнотворной воды, принимая его за лавину крыс из-за громкого, гулкого эха. Или тот заплесневевший подвал, куда я однажды спустился с невыразимо уродливым существом, которое встретил незадолго до этого: доведенное до последней степени нищеты, оно сидело прямо в поле, под солнцем, и давило на себе вшей. Или другие, не столь вызывающе безобразные, но зато более банальные, что внушали мне лишь отвращение. Наконец, тот шестидесятилетний старик, в отрепье и вонявший бельем трехмесячной давности, которому я исступленно дрочил на грязной марсельской улочке — отнюдь не по доброте душевной или ради его благодарного взгляда, а для того, чтобы разглядеть в его гнусности нечто безысходное, ущербное и ужасное — сродни моей собственной патологии… Впрочем, не все эти почти ежедневные связи были такими уж пошлыми и низменными, однако они лишь усугубляли мое горе. Помнится, как-то вечером в конце февраля, когда моросил дождь, размягчая и вместе с тем раздражая нервы предчувствием набухающей весны, я повстречал в общественном саду городка К*** молодого человека и по его наигранно праздной походке догадался, что он ищет приключений. Проходя в очередной раз мимо, он небрежно обронил какую-то фразу, точь-в-точь как я вчера, чтобы затем перейти к делу. Ты же знаешь, когда человек обращается к незнакомцу ни с того ни с сего, это явный признак. Я сел рядом с ним на сырую скамейку. Из-под его фуражки выбивались тяжелые золотисто-каштановые пряди — такого же рыжеватого оттенка, как и его щеки. В полумраке, слегка озаренном мглистым светом соседнего фонаря, я рассмотрел жестокий, чувственный рот с шелковистым следом от усов поверху и дивные голубые глаза: блестящие, неподвижные, упрямые и порой растерянные, они смотрели невидящим взором. Почему бы мне его тоже не полюбить, как и множество прочих? Я не решался завязать разговор, хоть и не боялся никого не свете: в подобных обстоятельствах мы порой вынуждены прибегать к банальностям, тогда как высшая звериная сущность секса, какой бы личиной она ни прикрывалась, всегда требует благоговейного молчания… К тому же, хотя незнакомец и сделал первый шаг, это не располагало меня к непринужденной беседе. В конце концов, его упорное молчание, неподвижность и сосредоточенный вид, подразумевавший какие-то постыдные мысли, начали всерьез меня беспокоить. Тем более что я замечал время от времени, как он медленно и осторожно шарил у себя под одеждой, потом замирал и продолжал снова. «Мне попался маньяк либо сумасшедший? — раздумывал я. — Что если он выхватит револьвер или нож и нанесет мне смертельный удар, когда я этого меньше всего ожидаю?» Однако любопытство, как и в твоем случае, пересилило. Я по-прежнему молчал и не шевелился. Но я оказался далек от истины: внезапно мужчина вскочил и, резко спустив брюки до средины ляжек и задрав остальную одежду выше поясницы, продемонстрировал восхитительный зад такого же светло-бронзового оттенка, как его щеки, и такой же гладкий, нежный и пухлый на ощупь. Так вот чего он ждал и чего я, видимо, первый не мог ему подарить! Я нервно засмеялся и грустно всхлипнул. Не успел он опомниться, как я уже бросился наутек, оставив его со спущенными штанами, наедине со своим разочарованием и напрасным позором… Совсем другого незнакомца (не переживай, я скоро закончу) повстречал я ночью в том же году, почти на том же месте, правда, весна была уже в самом разгаре. Я повел его вдоль небольшого уединенного канала, протекавшего неподалеку. Там, на береговом склоне, сплошь усеянном цветущим барвинком, под низкими платанами, делавшими ночь еще темнее, я завладел прекрасным молодым телом, хоть даже и не мечтал, что оно когда-нибудь окажется в моих руках. Я мысленно окрестил его юношей с перебитым носом. Он действительно сломал себе хрящ во время какой-то ожесточенной спортивной игры. Несмотря на этот легкий изъян, он обладал великолепным лицом юного государя эпохи Возрождения, с низким, почти нероновским лбом и выгоревшими вихрами: как ты, наверняка, замечал, это вернейший признак бурного темперамента. «Нет, — подумал я, — ни за что не поверю, что эта молодость и мужская красота, эта стройная походка, эта гибкая и крепкая стать и, особенно, надменное, безучастное, презрительное и отстраненное выражение столь гордого лица, будто созданного для того, чтобы внушать женщинам всевозможные желания и одним только женщинам угождать, буквально растают при моем приближении, а сей рот со столь безупречным изгибом внезапно предастся самым низменным мольбам!» Трепетная упругость его бедер услаждала губы и ладони, не говоря уж о гармоничном, пропорциональном члене, который выступал из густого руна — по моим догадкам, такого же пышного и непослушного, как его шевелюра! В страсти своей я метался между белокурыми, округлыми яичками, заглатывая их целиком, и нежным, но вместе с тем твердым членом: поцелуй длился, и я разнообразил его со знанием дела, все более вдохновляясь и присасываясь с такой силой, будто хотел выпить через вену всю кровь сей роскошной жертвы… Однако, несмотря на оргазм, от которого юноша затрепетал в изнеможении, я предчувствовал, что он ожидает чего-то другого. К счастью, вопреки своей непринужденности, незнакомец был сдержан и стыдлив, в отличие от предыдущего — похабного и разнузданного, из чего мне хотелось заключить, что я обознался или что меня ждут несколько дней передышки, а затем я снова смогу увидеться с ним и пережить подлинный экстаз! Две-три недели спустя мы действительно встретились. Мои ласки были, если такое возможно, еще настойчивее, а его дрожь — еще пронзительнее. Наверняка, тебе тоже знаком тот внутренний демон, который так часто и беспричинно, исключительно из злорадства и вредности, подталкивает нас поистине дьявольским жалом к нашей погибели, тогда как мы могли бы надолго отстрочить собственный приговор. Неожиданно прервавшись, я не смог удержаться и тихо спросил: «Это все, чего ты желаешь?» Неправильно меня поняв (поскольку его ладони все еще оставались непорочными) и решив, что я собираюсь исполнить самое заветное его желание, юноша ответил, запрокинув голову так, словно счастье, которого он с нетерпением ждал, наконец-то сбывается, — ответил хриплым, умоляющим голосом: «Делай со мной, что хочешь!»… Я знаю, что означает сей ответ, я ждал и чуял его приближение, однако ни за что на свете не смог бы этому помешать. Тогда я вновь услышал в душе своей тот горький, отчаянный смех, что молчаливо поднимался комом к горлу всякий раз, когда я осознавал всю глубину своей обездоленности. Но мне хватило ума для того, чтобы не предаться ожесточению и не выжать из незнакомца все соки, погрузив его в нескончаемое безумие. Я не утратил рассудок, хотя в ушах звучало одно-единственное слово, тихо повторяемое умоляющим, душераздирающим тоном: «Вставь, вставь…» И что же я мог вставить, позволь тебя спросить? Ведь всем своим распаленным телом он желал этого коварного проскальзывания, этого последовательного проникновения, которое начинается со жгучего прободения и заканчивается триумфальным расширением. Этого тотального заполнения, вызывающего такое чувство, словно ты сам стал той колонной из плоти, камня и огня, что трясет, качает и расшатывает самые сокровенные основы твоего естества. Этого ржания кобылицы, продырявленной жеребцом. Этого давления и почти засасывания ягодиц, прижатых животом партнера, который, сложив руки на поясе, разминает твой напряженный член. И двойного удара молнии в самом конце, когда два сумасшедших тела превращаются в одну звериную массу, сведенную судорогой и внезапно опадающую: при этом один испытывает оргазм — безликий, а стало быть, не искаженный кривлянием, а другой, в еще более безумном экстазе, любуется бескрайней пустотой, объятой невесомым блаженством, что исходит отовсюду… В общем, я снова сбежал. Впоследствии я еще не раз встречал юношу с перебитым носом. Порой он бросал на меня печальный взгляд, но чаще отворачивался и делал вид, будто мы не знакомы. Да и что мы, в сущности, могли бы друг другу сказать? Но его разочарование, злопамятность и, возможно, ненависть не шли ни в какое сравнение с моим отчаянием!.. Я так подробно рассказываю тебе о личных впечатлениях и воспоминаниях, не обладающих какой-либо особой ценностью, вовсе не потому, что надеюсь раскрыть тебе нечто невиданное, а, скорее, для того, чтобы между этими вполне заурядными приключениями и теми, что последуют далее, ты не обнаружил ни малейшего зазора или разрыва. Я хочу, чтобы ты, наоборот, уловил непрерывную последовательность, несмотря на любые извивы или повороты судьбы.
— Я сказал тебе, что роман с Жаком был у меня самым долгим, но продолжительность его зависела только от меня. Впрочем, мне достаточно было знать, где найти его (и еще нескольких других) и что он прибежит по первому же зову. Однако я могу с уверенностью заявить, что не любил его: я имею в виду, что вовсе не ревновал и всегда чувствовал к нему лишь спокойную нежность, плотское влечение, которое объяснялось его простодушием и, можно сказать, почти наивностью. Прежде всего я был признателен ему за то, что он никогда, даже в самом начале, не подвергал меня унижению, которое заставляли испытывать многие другие. Мой устрашающий калибр вызывал у него некоторое восхищение, а порой и добродушный смех. Наверняка, именно поэтому я крепко привязался к нему. Возможно также, что, не сговариваясь, мы оба обнаружили некое соответствие между его исполинскими формами и странной несоразмерностью, которой жестокий каприз природы наградил меня самого… Сила и щедрое физическое здоровье Жака были столь же неистощимы, как и его доброта. Только представь: он был женат, имел любовницу и удовлетворял обеих. Это не мешало ему крутить романы с мужчинами и женщинами (не считая меня — мы встречались каждые два-три дня). Когда я говорил ему: побереги себя, не переусердствуй, а не то выбьешься из сил, он самоуверенно ухмылялся и, тотчас обнажая великолепную мускулатуру, возбуждал себя рукой. Вскоре я доводил его до самого изнурительного оргазма, который почти тотчас же сменялся другим, либо Жак немедля пронзал меня, не чувствуя при этом ни тяжести, ни усталости… Однажды мне взбрело в голову сводить Жака к женщинам: он любезно согласился, поскольку ничто не могло его удивить. Конечно, мы частенько устраивали с ним так называемую «любовь втроем», хоть я и не имел к этому склонности. Помнится, как-то раз он привел ко мне одного своего товарища, еще моложе, чем он (Жаку шел третий десяток), тоже рабочего, который щеголял наготой молодого Давида с великолепным органом по центру. Жак называл его самой прекрасной из своих побед, хотя на моем фоне она, конечно, уменьшалась до весьма скромных, почти жалких размеров. Можешь себе представить, какую гремучую, многократную смесь мы втроем составляли: во время случайных встреч я вел свою партию на этом импровизированном концерте, не выказывая, однако, страстей, бушевавших во мне, либо удовольствия, которое я получал, хотя оно всегда оставалось неполным вплоть до самой развязки; или же того наслаждения, что сполна испытывали двое других, — оно всегда передавалось мне и усиливало мое собственное. Еще раз повторю, что ту бесконечность, вечно незавершенную и тотчас возвращающуюся в небытие, которую едва позволял мне объять оргазм, я способен обрести лишь при использовании, обладании и созерцании мужского органа. Так зачем же, в каком внезапном порыве, повел я Жака в бордель? На самом деле, я не знал об этом или, точнее, смутно догадывался лишь в крайнем смятении мыслей и чувств… Я уже говорил, что не ревновал Жака. В противном случае мое устройство принуждало бы меня таить ревность в себе, ведь она возможна, так сказать, лишь между равноценными людьми. Мы приехали в Марсель, куда я пригласил Жака провести со мной пару дней. С ребяческой радостью он наслаждался всем подряд — видом на море, лодочными прогулками, моллюсками на обед и городской толчеей, посреди которой цветут и благоухают все виды распутства. Безо всякого умысла, практически наобум забрели мы в злачный район, дабы пополнить список смертных грехов, которые этот единственный на свете город расстилает под ногами, точно волшебный ковер из «Тысячи и одной ночи»… Тебе хорошо знакомы эти улицы, пахнущие Неаполем, Востоком, женщиной, спермой и ударами кинжала: улицы, где проститутки удовлетворяют себя, развалившись прямо на мостовой; куда стекается, скапливается и колобродит, дабы затем снова отхлынуть, пена со всего Средиземноморья; эти душераздирающие звуки мандолин, шарманок и негритянских оркестров; эти канавы, переполненные потом сутенеров и путан, чьи комнаты расположены почти под открытым небом; эти улочки, соединяющие и смешивающие в едином содрогании все пространства, эпохи и расы; улочки, где можно мгновенно испустить дух, заливаясь кровью от удара «пером» в спину, и это кажется таким же естественным, как биться в судорогах, наслаждаясь всеми порами и слизистыми… Двери приоткрываются, и ты мельком видишь за ними кровать с висящим на стене распятием или образком Богоматери под маленькой лампой, которая коптит по-черному, силясь разогнать тьму. А на пороге стоят женщины, «ночные бабочки», завлекая, окликая, обзывая тебя, предлагая отсосать за десять су или даже дешевле, срывая с тебя шляпу, чтобы тебе пришлось зайти за ней, и как только ты входишь, они запирают дверь и принуждают, с твоего же согласия, к самому грязному разврату, награждая вдобавок сифилисом. Тем не менее, одна все же привлекла мое внимание. Не слишком высокая, тусклая брюнетка молча стояла на пороге, не такая бесстыдно раздетая, как другие, и манила, скорее, своей сдержанностью, нежели красотой: тогда я еще не заметил, что она и впрямь красавица… Женщина подала знак, мы вошли вслед за ней, и она закрыла дверь. Все втроем мы мигом разделись. У нее был девичий торс с едва выступающими твердыми небольшими грудями, широкие бедра и округлые ляжки, которые, минуя коленные узлы, переходили в икры — словом, мальчишеская внешность. К тому же она благоухала, как едва созревший плод. Кожа ее была ослепительно-бледной и казалась почти бескровной на фоне иссиня-черных волос и густого руна на лобке. На вопрос Жака она ответила, что ее зовут Андре. Но какое это имело значение? В ту минуту я предпочел бы, чтобы она осталась анонимной. Впрочем, задним числом я насилу опомнился. «Что ты здесь забыл?» — спрашивал я самого себя, недоумевая лишь по поводу собственной персоны, ведь Жаку было хорошо повсюду, а Андре давно привыкла к различным фантазиям, в которых уже не видела ничего диковинного… Кроме того, я убежден, что она все-таки поняла, какие узы связывают меня с Жаком. Она была серьезна и молчалива, но это было не напускное, а врожденное свойство. С небрежностью, лишенной пассивности, она первой растянулась на кровати, и я поневоле залюбовался этим хрупким и вместе с тем полноватым телом. С другой стороны, я признался себе, что откликнулся именно на ее зов, а не на зов какой-нибудь из тех проституток, которые устраивают на марсельских улицах самые страстные оргии во вселенной, потому что даже в одежде она отличалась чем-то неуловимо мужским. Но какое желание могла она во мне пробудить?.. Улегшись рядом, я приобнял ее, но она тотчас догадалась, что ей придется раскрыться не предо мной, а перед моим товарищем, которого, впрочем, не пришлось долго упрашивать. облокотившись на подушку и свесив одну ляжку с кровати, я почувствовал на себе спину, бока и ноги этого юного Ганимеда, мгновенно забыв о его поле, и признал в нем женщину, лишь когда Жак, тоже улегшись и блаженно потянувшись своим полубожественным торсом Пана, медленно вошел в нее, и она стала все дальше раздвигать ноги, дабы впустить в самую глубину влагалища сей властный орган, предложенный с триумфальной беспечностью… Жак оплел руками поясницу девушки. Он подождал минуту, смакуя с немым упоением свой неумолимый ввод, а затем начал умело и равномерно раскачиваться, тогда как Андре поддерживала тот же ритм, стараясь не ускорять его, дабы как можно дольше удерживать внутри себя великолепную мужскую булаву, к которой она приникала всеми фибрами. Они оба наваливались на меня двойным весом, но, невзирая на сей тяжкий груз, я не испытывал никаких неудобств. Обхватив Жака за бедра и мало-помалу протискиваясь между раздвинутыми ягодицами Андре, я просунул свой член таким «образом, что его конец при каждом толчке ударялся в основание Жаковых яичек… Словом, я сохранял и дополнял общий темп их взаимных колебаний, который быстро довел меня до оргазма, но, поскольку я противодействовал Жаку и подчинялся, напротив, движениям девушки, возникала иллюзия, словно это я поддерживаю и управляю по своей воле их наслаждением, а они способны получить его только от меня или благодаря мне… Я был заранее убежден, что Андре, даже пресыщенная любовными утехами, действительно испытывает это наслаждение, — столь искренней она мне казалась. Хотя, честно говоря, Андре волновала меня гораздо меньше, чем Жак, которому я смотрел в лицо со страстным вниманием. Он был выше своей партнерши на целую голову и время от времени склонялся ко мне — молчаливый и сосредоточенный, несмотря на неуловимую тень улыбки, пробегавшую по чертам. Его губы искали мои, и наши языки стремительно переплетались, а затем, вновь отвернувшись, он прижимал к своей могучей шее голову девушки и вновь начинал медленно раскачиваться, словно маятник… Я почти никогда не видел, какое выражение сообщал его лицу поступательный подъем, не говоря уж о заключительном взрыве сладострастия. Жаку нечасто доводилось получать удовлетворение со мной посредством «запретного сосуда», как изъясняются богословы. Он знал, что у меня нет к этому слишком большой склонности, если не считать тех случаев, когда я потакал его минутным прихотям. Он предпочитал, чтобы я сосал ему член, и признаюсь, мне больше нравилось доставлять ему то же удовольствие. Порой я прерывался на полдороге и поднимал взор к Жаку: тогда я видел томный, отрешенный лик с закрытыми глазами, словно растопленный той одухотворенностью, какую с приближением оргазма обретают даже самые зверские физиономии. Затем я вновь брался за дело и опять чувствовал, как наслаждение поднимается лишь до его ладоней, которые все сильнее сжимали мои плечи, а Лаокооновы ляжки перехватывали мне бока с такой силой, что я начинал задыхаться. Но в тот миг, когда с надсадным выдохом стеклодува, сгорбленного над наковальней, это большое тело полностью опорожнялось в мой рот, я остервенело глотал, впитывал бурный поток семени и осушал его до последней капли, а затем вновь созерцал черты Жака, уже расправленные утоленным желанием… Однако на сей раз, благодаря свету лампы, я мог наблюдать за всеми колебаниями, изгибами, восходящими волнами и пиками на его лице. Я никогда не забуду этого натянутого выражения — порой экстатического, но всегда сурового, время от времени горестного и умоляющего, но постоянно властного. И когда мы втроем провалились в бездну, у меня все же хватило присутствия духа, чтобы полюбоваться чем-то потусторонним в резком расслаблении Жаковых черт, и это показалось мне самым совершенным образом того, что столь точно именуется «маленькой смертью» и не имеет ничего общего с беспечным согласием, которое эти черты выражали, когда, обхватив Жака одной рукой за крепкий бок и лаская другой, я увидел, как после нескольких легких прикосновений наслаждение добралось до них и распустилось настолько отрешенно, что о большем я и не мечтал. Между тем я наблюдал, как от той же ласки другие лица искривлялись и судорожно искажались, будто в леденящем ужасе. Теперь это было новое откровение, но его природу я пока не мог в точности определить… «Хотел бы ты оказаться на месте Жака?» — спросил я себя немного спустя, когда мы лежали порознь на кровати, раскидав руки и переплетя ноги. Поразмыслив, я пришел к отрицательному выводу. Мои наклонности не могли измениться за столь краткий срок: они всегда были обращены лишь в одну сторону. «Хотя внезапная мысль о совокуплении втроем пришла в голову именно мне, — думал я, — но делал я это ради Жака, а не ради себя». Как уже говорилось, я не испытывал к нему никакой любви, а иначе бы терпел адские муки, видя, как он получает удовольствие с кем-то другим, не говоря уж о том, чтобы способствовать этому. С моей стороны в том приключении не было никакой извращенности или потребности разбудить новыми впечатлениями чувства — обостренные, как никогда. К тому же я бы никогда не вздумал явиться в бордель один, а тем более с женщиной. Мне хотелось доставить Жаку удовольствие иного порядка? Но это же удовольствие он получал и наедине со множеством других женщин: он был слишком простодушен для того, чтобы мое присутствие и участие могли тут что-либо прибавить. Любовь, стыд, ревность и всякие чувственные тонкости никогда не овладевали его душой: он был великолепным животным — добродушным искателем приключений, вот и все. Чем больше их, тем лучше, и не окажись в тот вечер рядом меня, он был бы точно так же счастлив и доволен… Словом, любуясь виртуозностью, с какой он умел играть на альтернативной струне, я еще больше поражался тому, что сам впал в такое беспокойство и растерянность. «Неужто ты ненароком почувствовал влечение к женщинам?» — спрашивал я себя. Но одного взгляда, брошенного на нашу случайную подружку, оказалось достаточно для того, чтобы это опровергнуть. Хотя среди всех женщин в мире лишь эта могла внушить мне желание, я все же был убежден, что даже если бы мое физическое строение позволило мне хоть на миг превратиться в ее любовника, я бы не только не стал им, но даже не захотел им быть. Конечно, я только что пережил мощный оргазм, но обворожительная Андре была тут, разумеется, ни при чем. Причина — в Жаке и в том наслаждении, что я испытывал, глядя, как его плоть набухает, расширяется и переполняется счастьем, которое, конечно, не превосходило того, что я доставлял ему наедине, но качественно отличалось от него… Я никак не мог собраться с мыслями. Неужели я изменю самому себе и после единичного переживания особой природы отрекусь не только от себя, но и от всех, кто, подобно нам с тобой, превыше всего ставит сексуальный культ мужской красоты — не из принципа, а в силу наклонности? Неужели я признаю, что Жак, всегда на словах предпочитавший мужчин, на моих глазах испытал с женщиной всю полноту наслаждения, и что я до сих пор этим потрясен? Хоть я говорил себе, что, в отличие от меня и многих других, женщина является для него лишь инструментом, из которого он в любой момент способен извлечь понравившийся аккорд, я все же чувствовал унижение, а еще больше — раздражение от невозможности прояснить собственные чувства… Только не подумай, будто меня унижало то, что я попадал с ними в тон лишь косвенно. Если б я даже диссонировал, это бы меня не смущало. Я всегда предпочитал оргазм, который доставляю, тому, что могу испытать сам: уж его-то я добивался всегда — с грехом пополам. Разве Жак не вызывал у меня одно из самых острых удовольствий, когда, скрещивая и сжимая с геркулесовой силой свои гомерические ляжки на моем громадном члене, он словно создавал искусственную вульву, где я получал такое же удовлетворение, какого другие добиваются с женщиной? Да, но то было с Жаком, иными словами, с мужчиной. И если бы даже мое телосложение позволяло мне вести себя, как все, я знал, что останусь холодным, словно лед… Минуту спустя, колеблясь между материалистическими объяснениями и моральными доводами, я решил, что Жак поднялся сейчас на вершину блаженства по одной простой причине: при каждом возвратном движении его маятника «третья ляжка», доставшаяся мне в печальный удел, упиралась в его яички, вызывая иллюзию, будто он совокупляется с представителями обоих полов одновременно. Разве он многократно не оборачивался, дабы с грубой нежностью соединить свои губы с моими, в то же время проникая в самую глубину женщины, распростершейся в моих объятиях? Но ведь тем самым я приписывал Жаку слишком сложные намерения, к которым его натура никоим образом не располагала и которые он, безусловно, не мог разгадать или, скорее уж, запутать в той же степени, что и я. Наверное, здесь было всего понемножку, и правда тесно переплеталась с ложью. Я понимал причину наслаждения, полученного Жаком, поскольку знал о его двойственной натуре, но никак не мог объяснить для себя своего удовольствия, признавая, что Андре тоже была не чужда его… Умолчу о нескольких маловажных интермедиях: к примеру, Андре распростерта поперек кровати с раздвинутыми ногами, Жак, сгорбившись над ней, шарит и буравит умелым языком, а сам я лежу на ковре, повернувшись в три четверти, спиной к кровати, и, просунув голову между ляжками Жака, беру, вытягиваю и заглатываю его неутолимый член, одновременно стимулируя свой: его конец время от времени задевает Жаковы ягодицы, тычется в ложбинку и, вызывая сладостную дрожь, заставляет его еще неистовее терзать вагину напряженной и натянутой, как струна, женщины. Марсельская улица беспрестанно рокочет за дверью шумом прибоя — то резким, то приглушенным, убаюкивая нас, словно любовная зыбь. Нескончаемый гул усиливает наше одиночество, оставляя во вселенной лишь эту теплую, душную комнату, где три чудовища, касаясь друг друга бесконечно малыми, однако самыми нежными точками своего существа, испытывают новый, еще более ошеломительный оргазм, умноженный двумя другими, взрываясь и извергаясь одновременно, и все трое вновь падают в изнеможении, но уже минуту спустя готовы начать снова… Недолго думая, мы и впрямь начали все сначала, ненасытные и неутомимые, однако на сей раз я и Андре — лицом к лицу, а Жак взял ее с тыла, так что я мог по очереди, а иногда и одновременно видеть их лица. Жак не любил содомить женщин, ну разве что его нарочно об этом попросить. «Если дырка всего одна, — добродушно говорил он, — это еще куда ни шло: только бы кончить! Но если их две, зачем себе голову ломать?» (Разумеется, я перевожу на благопристойный язык.) Поэтому, решив получить от Андре больше, чем она непосредственно ему предлагала, Жак вошел в нее, несмотря на явное неудобство их взаимного расположения, каковое, впрочем, облегчала, благодаря длине моего члена, круговая дуга, описанная телом Андре: главное ответвление, на которое опиралась девушка, напротив, упрощало великое приношение ее органа Жаку. Я снова почувствовал на себе сокрушительное бремя, которое еще больше, чем в первый раз (если такое возможно), угрожало меня раздавить. Я собрался с духом, дабы не лишиться чувств и, совершенно равнодушный на сей раз к оргазму, который мог бы получить и которым к тому же пресытился, я изо всех сил стремился сохранить трезвый ум и почти сверхъестественную ясность сознания и, глядя на лицо Андре внимательнее, чем на Жаково, начинал прозревать, зачем же все-таки сюда явился… Я всегда отмечал необычное поведение Андре даже при самом сильном оргазме. Я хочу сказать, что она не извивалась, не кричала и не плакала: при моей-то антипатии к женщинам это внушало бы особенное отвращение, поскольку низменная, звериная природа их пола чувствуется при этом слишком хорошо, и вдобавок их кривлянья соответствуют неискренности, потребности в симуляции и преувеличении, благодаря которым их натура предстает в своем истинном свете. Я сужу не по личному опыту, а по множеству откровенных признаний. Ты ведь знаешь, в некоторых гостиничных номерах перегородки очень тонкие, да к тому же в них проделаны удобные отверстия… Словом, в те минуты, когда самая искренняя женщина, умеющая держать себя в руках, следит за собой меньше всего, Андре даже не вздыхала. Я лишь чувствовал, как она становилась вдруг ледяной, словно вся кровь отливала из вен, чуть-чуть вздрагивала и с молниеносной быстротой застывала почти в столбнячной судороге, до боли сплетая свои руки с моими на пояснице Жака, а затем падала и растягивалась, неподвижная, точно покойница. Теперь я смотрел на нее в упор. У нее был странный, отрешенный, почти отсутствующий вид, однако ее широко открытые, отчаянно расширенные глаза пристально глядели на меня, все сильнее смущая. Она сцепила руки у меня на поясе и прижималась ко мне всем телом, словно утопающая. Я все меньше и меньше занимался Жаком, который продолжал бодро и триумфально над ней трудиться. Я видел только ее — страшную бледность ее лица, по бокам которого беспорядочно ниспадали черные как смоль локоны. Ее губы, не подкрашенные и все больше бледневшие, сначала робко, а затем с безудержной силой начинали искать мои, не заходя, впрочем, слишком далеко, будто она догадывалась, что было бы нескромно перейти к ласкам, к которым я не привык и которые оказались бы для меня довольно неприятными… Меня потрясла дерзость и в то же время застенчивость этого поцелуя. Дослушай меня. Говорят, будто многие гомосексуалисты смиряются с тем, что зовется идиотским и позорным словом «порок», лишь из робости перед противоположным полом или из страха обомлеть, если их вдруг припрут к стенке. Я абсолютно в это не верю, к тому же я был настолько уверен в своей природе, что поцелуй Андре, а также ее прикосновения не смогли пробудить во мне какой-либо инстинкт, дотоле схороненный и дремлющий в глубине моей души, который только и ждал этого момента, дабы проснуться… В глазах Андре я не читал никакого сочувствия к моей патологии, которая, как она прекрасно понимала, не позволяла мне получать удовлетворение с какой бы то ни было женщиной: в противном случае я бы тотчас оттолкнул Андре в отвращении. О нет, в этом почти одержимом взгляде и объятиях я распознавал лишь ненависть к ее собственной природе и отчаянное желание принадлежать к противоположному полу. Это чудесно объясняет основное отличие между мужчиной и женщиной. Я не сомневался, что Андре, как и большинство ей подобных, знакомилась и занималась любовью с другими женщинами: все в ней — лицо и почти мужские формы — несомненно указывало на это. Но ты же знаешь, сколь убогими средствами располагают женщины. Я догадывался, что в ту минуту Андре отдала бы лучшие годы жизни за возможность самой доставить такое же удовольствие, какое она получала благодаря противоположному полу. Любой ценой купила бы она счастье быть мужчиной, дабы рассекать, терзать, пронзать бесчисленные создания, находящиеся в ее власти, пока они не начнут молить о пощаде, и навязывать им свой победоносный орган, не заботясь о собственном оргазме!.. О, как отдалился от меня теперь Жак! Говорят, даже самые долгие и запутанные наши сновидения длятся считанные секунды. Точно так же пред моим мысленным взором мгновенно пронесся иной, волнующий мир. Я забыл обо всем, прежде всего, о своем уродстве, и думал лишь о том, что в эту минуту мог бы стать обычным мужчиной — простым скотом, Жаком-простаком, однако был устроен так, что не подходил ни единой женщине. Я творил нового мужчину по своему подобию, предполагая у него собственные наклонности. Ведь это разумное существо, в которое я перевоплощался, было всего лишь моей выдумкой. Да, он любил мужчин, и только, но мог ли он, наряду с мужчинами, любившими мужчин, мужчинами, любившими женщин, и женщинами, любившими женщин, когда-либо постичь Абсолют, к которому стремился и который тщетно искал во всех телах, падавших в объятия ему и раскрывавших ему объятия? На самом деле, все эти тела были в каком-то смысле похожи, и ни одно из тех, что он так зверски пожирал, его не разочаровывало. Поэтому иногда, в непреодолимом отвращении к себе и тому акту, что он принуждал себя совершать, мужчина искал женщину и с закрытыми глазами, благодаря напряжению, воображению, воле и самозабвению, доходил до того, что разделял с ней удовольствие. Как же так получалось, что он тоже наслаждался? Дело в том, что, несмотря на его антипатию, обе их натуры на краткий молниеносный миг смешивались. Смешивались полностью? Вынужден признать, что нет. Из-за своего врожденного животного начала женщина была не способна на подобную утонченность. Ее сущность заключается в наслаждении, и мы знаем, что, наслаждаясь полностью, совершенно, в отличие от тех, кто не способен пережить божественную смерть-оргазм, она наслаждается в десять раз сильнее мужчины, именно потому, что женщина — лишь зверь, не обремененный интеллектом… Но если мужчина хотя бы на пару секунд растаял в обжигающем огне, исходящем из женской вульвы, если он усомнился в собственной природе и дошел до точки, где его инстинкт и склонность развернулись в диаметрально противоположную сторону, все дело в том, что с самого начала он мысленно ставил себя на место вздыхающего и стонущего животного, которое металось под его весом. Он хотел бы стать ею, да он и был ею — этим выставленным напоказ, глубоким, бездонным влагалищем. Он говорил себе, стиснув зубы и содрогаясь в преступной ярости: если сказано и доказано, что ты наслаждаешься в десять, в двадцать раз сильнее того из нас, кто наслаждается сильнее всего, почему же я сам не могу стать этой пропастью, не имеющей ни формы, ни дна, ни пределов? Почему я не могу, лежа на спине, звать, вызывать, провоцировать самца и ощущать, как его член скользит вдоль моих ляжек; хватать его и вставлять, дабы облегчить вход в мой зияющий и все расширяющийся выход; поглощать эту жесткую массу, что погружается сначала медленно, а затем грубо, словно пронзая меня насквозь; затем резко отталкивать ее, чтобы она проникла еще глубже; идти навстречу этой мужской тяжести, сокрушающей мою слабую плоть; и наконец принимать поток спермы, который наполняет, затапливает, затыкает, закупоривает меня и заливает струями, извергнутыми тупой скотиной, что падает на меня, воображая, будто ее удовольствие не сравнится ни с чем, тогда как она, наоборот, служит лишь слепым орудием наслаждения, превосходящего в сотни раз!
— Ты прав, — задумчиво сказал Альбер, — все мы — неудавшиеся женщины, и нам не дано утешиться. Я бился над этой проблемой неоднократно, но не сумел бы не то что разрешить, а даже сформулировать ее с подобным красноречием.
— Увы, — ответил Арман с такой же слабой улыбкой, как прежде, — красноречие тут не поможет: самое ужасное в том, что ничего нельзя изменить. Думаю, это наиболее вероятное объяснение природы всех, кто питает склонность исключительно к мужской любви. Я не буду отступать от темы, рассуждая о нашей природе: о ней спорили на все лады, но никто так и не привел удовлетворительного толкования. Однако свое я считаю вполне приемлемым. Неоднократно потакая прихотям Жака, желавшего отплатить мне тем же, я позволял ему вставлять свой член между моими скрещенными ляжками и время от времени дарил ему удовольствие, которого сам требовал от него. Когда я обращался с ним так, мое удовольствие обострялось в разы. Тогда я принимал его орган в том же месте, где его принимала бы женщина, и, без сомнения, счастье, переполнявшее меня в миг, когда он лучился радостью, позволяло мне теперь, в объятиях Андре, яснее понимать глубинные и почти невыразимые истоки того, что множество глупцов, или добродетельных мужчин (ведь это одно и то же), именуют нашим «извращением»… Обрати внимание, что даже тогда Андре не внушала мне ни малейшего желания, и я уверен, что сам тоже ей его не внушал. Я просто был благодарен Андре за то, что она помогла мне яснее осознать собственную сущность, а главное — за то совершенно бескорыстное чувство, которое она проявила, ведь хотя Андре никоим образом не могла добиться от меня удовольствия, она все же показала одним лишь взглядом и безмолвным поцелуем, что угадала во мне родственную натуру и тем самым предоставила немое свидетельство сообщнической нежности, которая могла исходить лишь из самой глубины ее души… Мы еще не раз приходили к ней с Жаком, и неясная ласка притягивала наши взоры другу к другу поверх его головы. Нет, я не любил ее — никогда не любил. Нас влекло лишь обоюдное желание переменить пол или мечта о невозможной любви, которая становилась еще нереальнее из-за моего телесного строения. Если б я был создан таким же, как обычные смертные, пришло бы мне в голову соединить наши судьбы? Немного спустя я и впрямь бросил Жака, хотя, впрочем, никогда не терял его из виду, и спросил Андре, не Хотела бы она жить со мной. Как всегда, молчаливая и серьезная, она согласилась — равнодушная ко всему, помимо своей химеры. Я не скрывал от нее ничего (да разве она чего-нибудь не знала?) и, разумеется, не утаил, что промотал почти все свое имущество и впредь вынужден искать работу поскромнее и понезаметнее, дабы обеспечивать наше существование: о деньгах она заботилась еще меньше, чем я. Поженившись, мы поселились в этой глухомани, где нам хватает тех крох, что я зарабатываю.
— Но твоя жена знает?.. — спросил Альбер.
— Что порой у меня бывают такие фантазии, в которых она лишняя? Конечно, знает, но не придает этому значения. Еще никогда женщина не была столь снисходительной и преданной мужчине, который не является и никогда не станет ее настоящим мужем. Ведь если я сам признателен ей за то, что благодаря какой-то ослепительной вспышке она пролила свет на самые темные стороны моей сексуальности, взамен я помогаю ей культивировать и питать неутолимое желание, которое терзает ее. Каждую ночь мы по старинке возобновляем прежнюю попытку, хотя, несмотря на все ее и мои старания, это никогда ни к чему не приводит, поскольку мы оба знаем, что это ни к чему и не может привести. Так мы и живем в ужасной нежности и обостренном, почти инфернальном целомудрии, в пароксизме любовной муки, которую ты даже не можешь себе представить. При этом каждый ищет в другом тот пол, что хотел бы считать своим. Порой Андре отлучается на два-три дня, как и в этот раз. Ищет на стороне выход нашему двойному горю? Возможно. Она никогда ничего не рассказывает, а я не расспрашиваю. Она всегда приезжает такая же молчаливая и кроткая, словно вышла лишь на минуту, и тотчас возвращается к своим привычным заботам. Порой меня тоже преследуют давние соблазны, как, например, вчера вечером. В сезон на этом маленьком пляже довольно много удобных возможностей, однако наутро я остаюсь таким же разочарованным, униженным и обычно чувствую еще большее отвращение к себе, чем накануне… Но я не могу выразить, как счастлив, что повстречал тебя, и благословляю небеса за то, что это произошло в темноте, где тебя было плохо видно: из-за твоего неряшливого вида я принял тебя за другого. В противном случае я бы никогда не посмел к тебе подступить. Ведь я говорил тебе, что всегда испытывал склонность лишь к скотам и больше всего страшусь ироничного или неестественного обхождения светских людей — подлинного либо напускного. Хотя лед между нами растаял, впредь не может быть и речи о повторении нашего вчерашнего приключения, ибо мы заслуживаем большего. Как только две души соприкоснулись столь болезненными местами, они больше не смогут снисходить до телесного уровня. Теперь нас связывает исключительно дружба: пока я изливал перед тобой душу, ты слушал меня так любезно и с глубоким пониманием. Кому еще мог бы я раскрыть свое горе и перед кем облегчил бы себя? На самом деле, я хотел лишь исповедоваться, поделившись слишком тяжкими воспоминаниями, и осмеливаюсь теперь назвать тебя своим другом совсем по иным причинам, нежели вчера.
Угасающий огонь дымил, а лампа трещала. Арман приоткрыл ставни, и в комнату пробился слабый свет. Влажный рассветный ветер шевелил кроны сосен, а море, уже начинавшее голубеть, тихо вздыхало.
— Скоро мне уже пора возвращаться на службу‚— сказал Арман, — до твоего отъезда мы больше не увидимся. Но я не хочу прощаться навеки и буду всегда вспоминать прошедшую ночь — гораздо чаще, чем предыдущую. Послушай, пока мы не расстались, не оставишь ли ты мне свой адрес? Я всегда мечтаю увидеться когда-нибудь с теми, кого люблю и с кем дружу. Если бы мне представилась возможность снова встретиться с тобой, не хотелось бы ее упускать… Лучше иди через сад. В твоих, а не в моих интересах, чтобы никто не видел, как ты выходил. Если случайно встретишь кого-нибудь по пути, тебя примут за раннего купальщика, которому взбрело в голову полюбоваться восходом солнца на море. Дай пожать тебе на прощание руку, и — быть может — до скорой встречи!
По возвращении в отель Альбер был настолько взволнован услышанным, что даже не решался себе в этом признаться. Да, Арман прав: ни откровения, ни изумления. Разве сам он не испытывал подобное уже давно и разве не пришел к аналогичным выводам? Альбер никак не мог забыть ту страстную интонацию, душераздирающую искренность, загадочное стремление показать себя без прикрас, наконец, холодную ясность ума, которые сообщали речам Армана столько твердости и одновременно изысканности. Именно это поражало и беспокоило Альбера. Все же он был немного ошеломлен и решил больше об этом не думать.
Когда он добрался домой, едва пробило шесть: самое время. Почти каждое утро, с бесконечными предосторожностями, стремясь не разбудить родителей, спавших в смежной комнате, он приходил к прекрасному мальчику Рамиру, с которым познакомился в прошлом году и который за этот год успел превратиться в самого совершенного юношу на свете. Альбера переполняла извечная радость, усиливаемая опасностью, когда он толкал, словно тать, дверь, которую Рамир нарочно не запирал накануне, и минуту смотрел на спящего молодого человека в неярком свете, пробивавшемся сквозь жалюзи, подкрадывался к нему и обхватывал руками, а Рамир, томно приоткрывая прекрасные заспанные глаза, узнавал своего дружка и прижимался к его шее. В то утро все было, как обычно. Альберу необходимо было освежить душу этим юным прикосновением: ему казалось, будто он прожил на земле сотню лет. Он чувствовал, как его обвивает нежное, теплое, гибкое тело, вскоре становясь жестким. Он медленно и сладострастно касался сутулых плеч, длинной выгнутой спины, пухлых бедер, мускулистых ляжек, покрытых темным пушком, и твердого органа, который, равномерно пульсируя, уже требовал своей ежедневной ласки, хотя юноша еще до конца не проснулся.
Тем не менее, рука Альбера становилась отнюдь не увереннее, а, напротив, все легче и бесплотнее: сегодня он удовлетворился этими целомудренными объятиями, беспечным весом этой хрупкой груди, в которой сердце билось уже слабее; этим твердым и гладким животом, мало-помалу расслаблявшимся; и этим органом, который все еще торчал, но уже успокаивался. Молодежь быстро засыпает снова, и минуту спустя Альбер заметил, что Рамир вновь уронил голову и задремал. Рука Альбера стала еще неосязамее и вскоре замерла. Глядя на спящего ребенка и слушая его дыхание, он беспрестанно думал о другом, как ни пытался о нем забыть, и душа его наполнялась самым нежным состраданием.
СЫН ЛОТА
«Я знаю, что мы движемся вперед, лишь отталкивая назад прошлое. Согласно легенде, за то, что Лотова жена оглянулась, она превратилась в соляной столп, иными словами, в застывшие слезы. Обращенный в будущее Лот переспал со своими дочерьми. Да будет так».
А. Жид, «Новые яства»Возможно, уместно будет задать по этому поводу несколько вопросов.
Например:
Из какого греховного города (учитывая, что их было пять) выходил Лот, когда обрушился небесный пожар? Не был ли это именно Содом?
Позволил бы Лот себе такие же вольности, если бы на месте дочерей оказались сыновья?
К тому же, раз не было необходимости заселять землю вновь, акт Лота, в сущности, еще более предосудителен с точки зрения общепринятой Морали, озабоченной лишь продолжением рода. Состояние опьянения, в котором, как утверждается, он и совершил это так называемое злодеяние, не является оправданием, а совсем напротив: некоторые поступки обретают полное и исчерпывающее значение, лишь когда они совершаются в полном сознании.
Правда, как на смягчающее обстоятельство ссылаются на то, что это были дочери, а значит, женщины. Однако позволительно требовать того же, если бы это были сыновья, а значит, мужчины. Вдобавок, смягчающее обстоятельство здесь — всего лишь иносказание: речь идет просто о независимости.
Не считая этого, дочери Лота были, возможно, мальчиками.
Рассвет, сменивший одну из самых прекрасных ночей чудесного позднего лета, едва пробивался сквозь полуоткрытые жалюзи, и Ролан, облокотившись на подушку, вновь залюбовался Андре, растянувшимся рядом и все еще глубоко погруженным в тот лимб, что предшествует пробуждению. Андре вдруг провалился в сон с той восхитительной беспорядочностью, которая увековечивает в спящих телах юношей самые тайные любовные движения. Подчиняясь очаровательному эгоизму этого возраста, он разлегся прямо на груди у Ролана, подложив одну его руку под голову и Ролан, несмотря на неудобства, старался не потревожить ребенка. Время от времени впадая в смутную дремоту, он старался не заснуть, дабы соединить свою любовную усталость с той истомой, которой так жадно предавался Андре. В конце концов, что еще оставалось делать, кроме как рассматривать до потери зрения волнистое, нагое юное чудо, чьи изгибы повторяли излучины его собственного тела, тем более что он в очередной раз насладился самыми упоительными его прелестями?
Андре приехал недавно, и Ролан увидел его впервые. Беззаботно, будто на свете существует лишь он один, но без всякой напускной гордыни, мальчик ступал по пенной тропке, которую откатывающая волна беспрестанно оставляет между морем и пляжем. Его ноги беспечно запечатлевали там следы, словно, гнушаясь заходить в море или, наоборот, увязать в песке, он отыскал лишь эту идеальную пограничную стежку для великолепной поступи полубога, которой она единственно достойна. Он был туго затянут в черный купальный костюм, с ленивым бесстыдством облегавший пышную гроздь его органа, а открытые места торса, рук и ляжек блистали ослепительной плотью, и можно было легко, без риска ошибиться, представить себе тело столь идеальной белизны, что, будь оно обнаженным, затмило бы отблеск небес на морской глади. Его волосы — буйная копна волнистого, потемневшего местами золота, раздуваемая морским бризом, — падали на все стороны. Изредка юноша откидывал их обеими ладонями назад, и тогда его высоко поднятые руки обнажали под мышками золото чуть бледнее — цвета початков молодой кукурузы с нежной мякотью, в которую так приятно вгрызаться, и с пушистым хохолком, похожим на тонкое руно молодого члена.
Разумеется, Ролан вполне осознавал собственную красоту, однако не переоценивал и не умалял ее. Обычно самый красивый юноша на свете — довольно плохой ценитель собственной внешности. Но, хотя Ролан и не кичился своими чарами, он слишком часто и слишком глубоко распознавал их, будто на просвет, сквозь немые мужские экстазы, для того чтобы усомниться в собственной силе обольщения. Несмотря на эту уверенность, он, тем не менее, был слегка оскорблен ослепительной красотой того, кто шел ему навстречу по самой кромке моря. При этом он вовсе не понимал, что в ту же минуту производил такое же впечатление на другого. Два восхитительных молодых человека несхожего, но равноценного великолепия при загадочном стечении обстоятельств оказались в той самой точке, где смогли обменяться громовыми разрядами зарождающейся страсти и где каждый испытал надменное желание повелевать другим лишь для того, чтобы мгновенно ему подчиниться. Разве это не самые благоприятные условия для зарождения любви? Те части тела цвета гранатной корки, что открывал взору тесный пурпурный купальный костюм: мускулистые ляжки, покрытые едва заметным темным пушком, широкие, прямые плечи и торс, гармонично сужающийся к талии, подобно перевернутой амфоре, которая стоит на горлышке в своей избыточной округлости, — все это буйство царило под роскошными черными волосами и матово-бледным лицом, куда волнами приливала изобильная и горячая кровь. Ролан ни в чем не уступал потрясающему ребенку, который, со своей стороны, подумал, что никогда не видел такого же красавца, как Ролан.
Они столкнулись лицом к лицу и не обменялись ни словом. К чему говорить, если они и так узнали друг друга? Другие разминулись бы, а затем повернули обратно, гадая, кто же решится сделать первый шаг. А они в едином порыве, с обоюдного согласия, молча ринулись в море, словно в тот миг не было иного средства померяться своими юными силами и, бросая друг другу вызов, все-таки оказаться в одной точке. Они двигались бок о бок, постепенно увеличивая промежуток, но так хорошо рассчитывая его, что это не требовало усилий. Море кренилось к пляжу и одновременно скользило, словно река, между берегами бухты. Юноши то присоединялись к одному из этих движений, то противились ему, следуя различным колебаниям волны, которая, возвращая их к побережью, затем вновь уносила на простор. Наконец, они рассекали ее в обратном направлении, дабы снова приблизиться к берегу и начать отдаляться от него полукругами, вскоре замыкая их и плывя параллельно горизонту морской шири, которую легко увлекали вслед за собой. То ли в них молчало самолюбие, то ли они обладали одинаковой силой, но ни один, невзирая на соревнование в скорости, в которое они вступали с морским течением, не опережал другого, словно им важно было подчеркнуть, что они вовсе не стремятся бороться между собой за дистанцию. Изредка, с невообразимой ловкостью, огибали они большие сети, натянутые рыбаками под водой, и еще старательнее уклонялись от дельфинов, которые набрасывались на пленную добычу, заставая порой врасплох. Затем юноши со смехом начинали все сначала, а под конец, выбившись из сил, выбегали на берег и растягивались в теплом песке, слегка запыхавшиеся и окончательно убежденные в терзающем обоих желании.
Они вернулись еще раз с наступлением темноты и купались уже голыми. Божественная невинность диктовала все их движения. Воздух позднего сентября становился прохладнее, но море окутывало приятной теплотой. Они не заплывали слишком далеко, но вовсе не из страха. Для счастья им достаточно было оставаться вместе, ни на миг не разлучаясь, томно ощущать взаимные касания боков, которым маслянистое спокойствие моря придавало бархатистую мягкость: грести одной рукой, разделяющей толщу воды, другой обхватывая шею, и напряженным органом раздвигать волну, мягко взламывая ее перед собой. Порой они поворачивались друг к другу спиной и, гребя едва заметно, лишь бы удерживаться на поверхности, бесстыдно и будто ненароком демонстрировали свои тела, пока вновь не разворачивались противоположной стороной и поднимались по светлой ложбине, которую луна вычерпывала в морской глади. Внезапно их губы соединились: страсть была настолько сильна, что они чуть не потеряли сознание. Пора было возвращаться на берег. Но им так не терпелось, что, едва коснувшись ногами дна, хотя вода еще доходила до пояса, они не смогли больше сдерживать себя и, не добираясь до берега, стоя удовлетворили желание, которое столь долго отсрочивали: близнец Эндимион обратил лицо к ночному Фебу, истекающему влагой над волнами, и положил начало их любви.
Опьяневшие друг от друга, выйдя из моря, они даже не почувствовали ночной свежести и коварной сырости песка, где сплелись уже теснее, дабы утолить ненасытный жар своих чресл. Темное великолепие неба, тишина, шуршание смятого шелка под ногами, соленый аромат, иссушавший губы, — все это усиливало их желание, дополняло их красоту, умножало восторги. Они заночевали в комнате Ролана, где с тех пор поселился и Андре, возвращаясь в свою лишь под утро, а затем отказавшись и от этой меры предосторожности. Поскольку теперь они были в Т… почти одни, а погода оставалась не по сезону теплой, они решили продлить, насколько возможно, свое пребывание в этих прекрасных местах, ставших свидетелями их каждодневного исступления.
До сих пор они почти не откровенничали, хотя это так естественно между любовниками. Наверное, они не ощущали в этом необходимости или поддавались застенчивости, вынуждающей медлить с некоторыми признаниями, если те кажутся хоть немного важными, словно, сняв с души тончайшую вуаль, можно нанести смертельный удар по хрупкой любви. Тем не менее, Ролан порой ощущал в Андре какую-то тайну, возбуждавшую его любопытство. Конечно, с самого начала знакомства Андре ни словом, ни делом не позволял Ролану догадаться о чем-либо предосудительном. Все, что ни говорил и ни делал этот ребенок, лучилось такой искренностью, что Ролан был уверен: стоит лишь завести разговор, и он выдаст свой секрет, если только ему есть что скрывать. Вот почему, не считая врожденной скромности, Ролан со дня на день откладывал беседу с другом — так важно было для него разгадать редкостные извивы души, которая была ему еще дороже, чем тело, ее вмещавшее. «Я заблуждаюсь», — думал он. А затем какое-нибудь слово, ударение, интонация, невнимательность или внезапная рассеянность, за коими следовало не менее резкое возобновление разговора либо развлечения, убеждали Ролана, что нечто в юноше превосходит обычную человеческую природу и тайну эту еще предстоит раскрыть. Он любил Андре ничуть не меньше, однако это была уже не просто любовь, и Ролан спешил внести ясность.
Как-то ночью, одной из тех непроглядных ночей второй половины сентября, когда собирается гроза, их плоть, почти одухотворенная страстью, мешала им отдаться сну, и Ролан привлек Андре к себе, хотя они только что отпустили друг друга, и прошептал:
— Кто научил тебя любить, Андре?
Тогда Андре, обратив к Ролану прекрасные аквамариновые глаза, в которых не читалось никакой гордыни либо иронии, а тем более стыда или извращенности, ответил, будто он говорил о самой простой вещи на свете:
— Отец!
Хотя Ролан хранил молчание, он, наверное, все же выказал некоторое изумление, поскольку Андре продолжил:
— Ты удивлен, Ролан, и без малейшего самолюбования добавлю, что нечасто можно услышать подобные признания. Я догадывался, что наступит день, и ты меня спросишь. Я также знал, что не стану ничего скрывать, как бы ты ни воспринял мой ответ. Согласись, ты перестал скрытничать, но беспокойство, сгущавшееся вокруг тебя, казалось тенью обращенной в прошлое ревности, которую я, возможно, и сам питаю к тебе. Первый шаг как более молодому следует сделать мне, и стало быть, еще не настало время задать тебе тот же вопрос. К тому же ты должен знать, сам я ни за что на свете не рассеял бы твои сомнения, поддавшись порыву. Помимо того, что я легко храню секреты, мне не хочется, чтобы тебе показалось, будто я похваляюсь или даже пытаюсь вызвать тебя первого на откровенность, хотя для этого нет никаких причин. Но я пообещал себе, что, как только возникнет необходимость, я открою тебе правду без обиняков и недомолвок. И вот теперь, когда это случилось, я выложил в самом начале то, что другой, возможно, приберег бы напоследок. Зачем, с каким тайным умыслом держать свои признания про запас? Уверяю тебя, в том приключении, о котором я подробно расскажу, не было ничего даже отдаленно напоминающего внезапное нападение либо насилие. Напротив: лишь обоюдное согласие, дорога, наполовину пройденная с той и другой стороны вплоть до финальной встречи; наконец, столь редкостное стечение обстоятельств и совпадение наклонностей, что вряд ли подобное когда-либо еще повторится. Я люблю тебя, Ролан, и должен рассказать всю правду, но если хочешь, я не произнесу больше ни слова.
Вместо ответа Ролан лишь крепче сжал его в объятьях, вдохнул свежий плодовый аромат из приоткрытого юного рта и страстно заглянул в самую глубину прекрасных аквамариновых глаз — широко раскрытых, как никогда. Андре прочитал во взгляде друга величайшую нежность и живейшую веру, и тогда его собственные глаза исполнились восторга. Он упал рядом с Роланом и погрузился в молчание, которое другой юноша не решался нарушить: счастье, свалившееся на обоих, мешало им говорить. Однако вскоре, тихим, глухим, слегка отстраненным голосом, по-прежнему томно упираясь затылком в согнутую руку Ролана и заодно с ним не наблюдая часов, Андре начал:
— Мои дела не всегда обстояли так хорошо, как сейчас. Еще три года назад у меня не было никаких шансов встретиться с тобой, и даже если бы мы встретились, ты не обратил бы на меня внимания: моя семья была бедной, и порой мы нищенствовали. Тем не менее, благодаря упорству и мужеству, мои родители, у которых я был единственным сыном, одолели невзгоды. Уже тогда я был диким зверьком, упрямым и настойчивым, который, соглашаясь со всеми, несмотря на кажущуюся кротость, всегда поступал по-своему. Обрати внимание: хотя мои товарищи только и думали что о ровесницах, сам я, несмотря на безмолвное преклонение перед девочками, с упрямой бравадой их избегал: наверное, уже в ту пору они не вызывали у меня никакого желания… Заранее хочу предупредить тебя, Ролан, что для пущей искренности и ясности изредка буду называть вещи своими именами, причем самыми грубыми. Не считая нашего плотского обмена, я до сих пор проявлял чрезвычайную скромность, поскольку целомудрие всегда мне казалось необходимым в речи любовников, к какому бы полу те ни принадлежали, тем более что они крайне редко вынуждены описывать свою любовь словами, а не посредством непринужденной страсти. В этом покрове, сквозь который они отчетливо видят себя, нет ни капли лицемерия, и обусловлен он, скорее, некой убежденностью, что сдержанность в словах выражает, наравне с полнейшим молчанием, величайшее достоинство и высочайшее осознание их любви. Другое дело, если нужно пролить больше света на такие неясные психологические состояния, для описания которых не помешает даже чрезмерная точность. Так что нелепо от этого краснеть, во всяком случае, перед тобой, Ролан, ведь ты должен узнать, какими путями я прошел, прежде чем мы встретились. Отныне речь поведу не я, а тот, с кем ты еще не знаком, но кто заключен во мне и теперь сбрасывает все прежние одежды, дабы явиться тебе нагим…
— Итак, я ни о ком другом не помышлял, кроме мальчиков. Хотя мне порой и нравились девчонки из пригородов, их игры и общество, я не позволял себе с ними таких же вольностей, как мои товарищи. Между нами говоря, девочки считали меня растяпой, а я так плохо знал себя самого, да и их тоже, что считал их созданиями, не способными доставить удовольствие и, стало быть, лишенными того органа, который я начинал замечать у себя, пока даже не догадываясь, есть ли у них такой же. Когда я повстречал молодую пару, которая по сравнению со мной казалась уже сформировавшейся (то есть лет одиннадцати-двенадцати, тогда как я был года на три-четыре младше), моя грусть и зависть от невозможности оказаться на месте парня была неописуема! Оглядываясь назад, я теперь понимаю, что ревность моя была вызвана лишь неосуществимым желанием оказаться на месте девушки и быть спутником юноши. Тем не менее, если кто-то из мальчиков, как это часто случается, позволял себе со мной малейшую вольность, я тотчас же отталкивал его, пусть даже потом и мучился бесконечными угрызениями. Однако в этом нелюдимом поведении была некая искренность, поскольку не раз, натыкаясь на мальчика, достающего член, я брезгливо отворачивался, несмотря на то, что он приглашал меня разделить удовольствие, в котором я мало что смыслил, а затем представлял в сторонке, как обнимаюсь с ним, хоть и не заходил дальше простых ласок или поцелуев. При этом девочек я искренне считал чуждыми тем неясным искушениям, что бродили украдкой у меня под кожей. Как описать тебе мое разочарование и отвращение, когда однажды я играл в темном закоулке дома со своей юной подругой, не думая ни о чем плохом, а она вдруг выгнула передо мной зад и, взяв меня за руку, засунула ее себе между ляжками? Прости, но у меня было такое чувство, будто меня живьем запекли в рубец из слоеного теста. В тот день я постиг всю низменную животную сущность женской природы и понял, что мужчины, несмотря на их несовершенства и излишества, гораздо большие идеалисты, чем женщины. Только не подумай, что именно тот опыт отвратил меня от них: еще раньше я начал все сильнее подчиняться односторонней склонности, которая влекла меня к моему собственному полу и которая, как бывает со многими из нас, досталась мне от рождения…
— Я уже говорил, что мы были очень бедны и нам удавалось выживать лишь благодаря суровым лишениям. Я жил с родителями в крохотной комнатушке большого рабочего барака. Как и у всех бедных семей, у нас, разумеется, была одна комната на троих. Из двух родителей я гораздо больше любил отца. Мать была женщиной доброй, но шумной, бранчливой‚ увядшей раньше времени из-за непосильного труда, да к тому же озлобленной частыми шалостями отца, который порой даже сбегал из дома: словом, хоть я очень ее любил, однако никакой нежности не питал. При этом отец воплощал для меня все самое прекрасное и лучшее в мире. То был роскошный колосс, которого не сломило бы ни одно испытание, ни один, пусть даже самый жестокий удар судьбы. Его безграничная доброта была также его слабостью: несмотря на свою несгибаемость, он отличался, как я позднее осознал, неистощимо требовательным темпераментом, не позволявшим никогда застать его врасплох. Думаю, меня притягивал именно этот сексуальный ореол, который я не мог, разумеется, точно описать, но вскоре получил его ошеломляющее подтверждение…
— Мать уехала на два-три дня, уж не знаю, по какой надобности, и в первую же ночь отец уложил меня с собой в их кровать. Помимо того, что он испытывал ко мне беспредельную нежность, мне кажется, он нуждался, словно в еде, питье, воздухе и всем остальном, в непрерывном плотском присутствии, человеческом дыхании, соприкосновении с чьим-нибудь телом — даже во сне. Ни он, ни я вовсе не догадывались о странных последствиях, которые будет иметь для нас обоих эта проведенная вместе ночь. Было начало лета, но уже стояла жара. Меня необычайно взволновала мысль о том, что я буду спать с отцом но, тем не менее, я старательно замедлял все свои движения по сравнению с его жестами, как мне подсказывал непогрешимый инстинкт. Я чрезвычайно медленно снимал с себя одежду, а отец раздевался стремительно, слоняясь по комнате, и со своей привычной беззаботностью скрывал лишь то, что было необходимо, по его нехитрым представлениям для сохранения его и моего целомудрия…
— Когда он переодевал сорочку, ему поневоле пришлось обнажиться, и я увидел во всей красе великолепно выгнутую спину, высокие, мускулистые, ровные ляжки, закругленные и гладкие, точно колонны, вздувшиеся бедра, казавшиеся на вид твердыми, словно мрамор, и раздвинутые в сторону руки, под которыми виднелась густая чернота подмышек. Все, что я успел бегло рассмотреть, лишь усилило мое беспокойство, но у меня хватило присутствия духа, для того чтобы снять носки, которые отец тотчас перекинул через край кровати. Я присел на корточки и заглянул под короткую летнюю сорочку, едва его прикрывавшую: на долю секунды я устремил взор в эту кустистую бездну, откуда свисал орган, чьи размеры, открывшиеся мне впервые, показались исполинскими. Забравшись вслед за отцом в кровать, я застучал зубами. Ничего не понимая и решив, что я заболел, он обнял меня, чтоб согреть. Но я задрожал еще сильнее, прижимаясь к нему, и, в конце концов, забылся в припадке нестерпимого жара, который продолжался всю ночь, пока я спал, терзаясь разнообразным бессвязным бредом, как рассказал мне отец на следующий день. Помнится, в ту ночь у меня случился первый «выкидыш»: мне было ровно семь лет — возможно, чуть меньше. Снилось, что я за городом, сижу на земле жарким летним днем рядом с девочкой-брюнеткой, которая, несмотря на свою женственность, воплощала в своей пышной красоте смягченный вариант богатырской силы отца. Ты наверняка узнал беззаботность, с какой дух, бодрствующий в спящем теле, превращает один пол в другой, возвращая его к первичным функциям — объединению с первоначальным существом, которое он вновь обретает в золотисто-черной пропасти сна. Девочка вдруг резво вскочила, точно за ней гнались, и, привстав на колени, с судорожной поспешностью надела свои сережки — вижу все, как сейчас. Это немедленно вызвало в моем члене, а затем и во всем теле настолько мучительную и в то же время сладостную вспышку, что я тотчас проснулся с громким вскриком. Уже рассвело. Развалившись на кровати, такой же скомканной, как и его сорочка, задравшаяся до самых подмышек за время моего беспокойного сна, отец все еще спал, ничуть не стесненный моим весом. На самом деле, я лежал поперек его тела, а орган мой пересекался крест-накрест с его членом, который в тот утренний час, когда после ночного отдыха собираются и поднимаются все мужские силы, торчал огромным бушпритом, уносившим меня в неведомый, внезапно открывшийся рай. Этого я уже вынести не мог. Я лишился чувств и очнулся на руках взволнованного отца, который, даже не удосужившись привести себя в порядок и не понимая причины моего обморока, разумеется, прошедшего бесследно, стискивал и обнимал меня, вконец растерявшись. А я мог лишь безумно прижиматься к этой олимпийской груди, целовать эти щеки, подбородок и шею, припадать к этим грудным мышцам, твердым и в то же время выпуклым, и, не подавая виду, рыться коленями и ступнями внизу его живота, где под слоем мха по-прежнему торчал член. Я лишь спрашивал себя, до чего мне больше хочется дотронуться: до него или до пышных, округлых, бархатистых яиц, располагавшихся снизу, и без конца лепетал: «Не уходи, не бросай меня, оставайся всегда со мной, я люблю тебя больше всего на свете».
Голос Андре утих и замер, словно воспоминания, нахлынувшие в душу, настолько переполнили ее, что больше невозможно было расчистить путь. А затем он вдруг забылся глубоким сном, подобно маленьким детям, которые роняют голову на стол, не дождавшись конца еды.
Подобное доверие и простодушие невыразимо умилили Ролана, который долго смотрел на Андре, спящего у него на груди, едва вздымаемой равномерным дыханием, — спящего в той же позе, в какой он делился самым сокровенным со своим другом, тогда как другой на его месте, пренебрегая правдивостью и тактом, мог бы принизить либо преувеличить свои признания. Ролан без устали любовался этим телом, чьи пропорции были настолько совершенны, что ускользали от любых определений; этими бесчисленными прелестями, сводившимися в конечном счете к одной-единственной, которую он не мог точно описать и которая перераспределяла их на новых уровнях, беспрестанно перемещаемых и все более гармоничных; этими опаловыми веками, прикрывавшими интимный взор из глубины плоти, что вновь проявлялась во всей полноте сквозь собственную прозрачность. Сердце Ролана переполняли благодушие и любовь. Несмотря на то, что тело Андре стесняло его, как и каждую ночь, он пуще смерти боялся нарушить покой юноши: времени еще оставалось много. Так текли часы для Ролана, разбитого страстью, усталостью и волнением, но под утро он тоже заснул и вместе с Андре пробудился только днем. Они посмотрели друг на друга, не проронив ни слова: помимо юности, любви и красоты, каждый видел, как в глазах другого брезжит обещание нового дня — еще прекраснее, чем накануне, если такое возможно.
Однако Андре, то ли из-за причуды, то ли от неохоты, не спешил вернуться к своему рассказу. Ролан даже не пытался его уговаривать. Плавая, греясь на солнышке, глядя на море, синеющее между соснами, обсуждая разные пустяки, приобретающие ценность лишь благодаря тому, чьи уста их произносят, они и не мечтали ни о чем другом, кроме этого простого счастья. Впрочем, хотя Ролан и довольствовался им, ему не терпелось возобновить разговор с того места, где Андре остановился. Однако ему меньше всего хотелось бы обидеть Андре, тем более что он вовсе не кокетничал и всем своим видом демонстрировал, что сказал вполне достаточно. Лишь на третью ночь, обвив всем телом Ролана, словно для того, чтобы слова звучали убедительнее, он продолжил:
— Понял ли отец? Во всяком случае, мы никогда об этом не говорили. Он жил только инстинктом, но инстинкт его, наверное, не обманул, поскольку на следующий день и до самого возвращения матери я больше не спал в его постели. Позднее я избавился от последних сомнений, что сцена, о которой я рассказал тебе позавчера ночью, оставила неизгладимый след в его воображении. Ну а я теперь знал, что такое мужской орган во всей его красе, а также в какой и, главное, в чьей форме я пылко желал всей силой молодой страсти с ним соединиться. Еще явственнее ощущал я, что если два человека, будь то двое мужчин или две женщины, будь то мужчина и женщина (до двух женщин я тогда еще не додумался, с улыбкой добавил Андре), проводят ночь в одной постели, они делают это лишь с той целью, о которой я получил загадочное откровение, хотя, впрочем, не мог представить себе всех различных способов. Тогда-то началась пытка иного рода… Как я уже говорил, у нас была одна комната на троих, к тому же небольшая. И хотя моя кровать стояла далеко от родительской, должен был наступить момент, когда я обязательно заметил бы некие движения или звуки, доносившиеся оттуда, и попытался бы истолковать их природу. Пока я был еще мал, это не имело, по мнению родителей, большого значения, тем более что они вели себя довольно осторожно, ложась всегда после меня и дожидаясь, пока я не засну. На сей счет они не ошибались, однако я рос, и слух мой обострялся, а у них ничего не менялось. Хоть я и не участвовал в развлечениях своих юных товарищей, старшие из которых уже познали женщин, они выведали достаточно для того, чтобы с грехом пополам объяснить мне, даже если я слушал их с кажущимся безразличием, в чем заключается встреча и обмен между противоположными полами. Однако я нуждался в прямом откровении: мне бы и в голову не пришло, что такое может произойти когда-либо со мной самим, но одна только мысль об отце с матерью волновала меня до глубины души…
— Я получил откровение во всей его грубости однажды ночью, когда, полагая, что я уже сплю, родители ослабили меры предосторожности и даже не погасили свет. Тогда я задним числом постиг в полном объеме множество вещей, которые никогда и не пытался себе объяснить — так мало они для меня тогда значили. В мгновение ока я увидели понял столько, что проникся ужасом. То было совокупление, стыковка, движение туда-сюда, при котором один торжествовал над другим со звериной гнусностью, и сие зрелище позволило мне постичь животную сущность человека. Я зарылся под одеяла, лишь бы не видеть этого кошмара, и заткнул уши, дабы не слышать. Силясь не закричать от горя, я закусил губы до крови с такой жестокостью, что, наверное, мог бы разорвать обоих родителей одними зубами. Заметили ли они? Возможно. Во всяком случае, ничего больше не было, но хватило и одного раза: отрава, которую они влили в меня, высушила мои жилы…
— Другой ребенок на моем месте начал бы ненавидеть отца за то, что он совершил у него на глазах это преступление против матери, и в дальнейшем мысленно перенес бы его на всех женщин, которыми впредь желал бы обладать, не в силах себе представить, чтобы им вспарывал живот кто-либо еще. А я не мог простить мать за то, что она узурпировала акт с моим отцом, предназначавшийся, как мне казалось, для меня одного. Какой-нибудь другой ребенок выжидал бы удобной возможности, дабы удовлетворить свое нездоровое любопытство и завершить собственное обучение или, в моем случае, еще сильнее разжечь свою манию и ненависть. Я же, напротив, избегал этой возможности, придумывая различные предлоги и отговорки, и, вопреки увещаниям, каждый вечер возвращался домой попозже. «Чтобы они успели закончить свое грязное дело», — ворчал я про себя. Ведь та омерзительная сцена преследовала и терзала меня, и образы, словно выжженные каленым железом, беспрестанно меня мучили…
— Когда мне исполнилось тринадцать, отец… (Я говорил тебе, что его звали Эдуар и что я буду называть его этим именем? Если я до сих пор этого не сказал, то вовсе не из недоверия, а лишь потому, что просто не подумал об этом. И все же меня удивляет эта задержка, ведь я с такой нежностью припадал к его губам — точь-в-точь как к твоим…)… Итак, в тринадцать лет отец отдал меня в обучение, дабы хоть немного увеличить наши скудные доходы. На самом деле, несмотря на любовь к учебе, мне не терпелось бросить школу и завести новых приятелей, не говоря уж о дополнительном предлоге возвращаться домой еще позже. Почти сразу большинство моих товарищей, включая даже рабочих, стали докучать мне своими приставаниями, и я начал вести себя еще нелюдимее, хорошо понимая, для кого берегу себя. Я лишь изредка доставал член, тогда как другие выставляли свой срам перед каждым встречным, как молодые мартышки…
— В то же время я становился дерзким, беспокойным, даже заносчивым и приводил в отчаяние мать, которая постоянно меня отчитывала, меж тем как отец проявлял непостижимую слабость. Однако по странному противоречию, которое тебя не удивит, с матерью я был крайне предупредителен, а с отцом вел себя скверно и возмутительно. Хотел ли я обмануть свою натуру и, убедившись в том, что ошибся, скрыть от себя страстное чувство, которое он мне внушал? Или же, наоборот, то была месть за мои мучения — точнее, неясная потребность заставить страдать человека, которого любишь больше всего на свете, ведь эту пылкую любовь можно уменьшить, лишь причиняя ему страдания? Там было всего понемножку, и мы оба плохо различали нюансы. Но когда я оскорблял его прямо в лицо за какую-то мелочь, а у него лопалось терпение (что случалось крайне редко), и он отвешивал мне оплеуху, от которой голова развернулась бы задом наперед, если бы он ударил со всего размаха, я сносил ее, не моргнув глазом, и вел себя еще заносчивее. Однако ничто не могло сравниться с моим отчаянием, когда он молча провожал меня несчастным безутешным взглядом. Дабы положить этому конец, я забивался в первый попавшийся уголок и дрочил с его именем на устах, которое беспрерывно призывал шепотом, пока весь не обращался в оргазм, а огорчение, доставленное ему, уподоблялось ножевому удару, и я не мог себя простить…
— Проходили месяцы, но моя неистовая любовь-ненависть не знала границ. Да и как ее можно было утолить? Разве я не делал все для того, чтобы вызвать у отца отвращение? А ведь я охотно отдал бы за него жизнь, хоть и говорят, будто сыновняя любовь не вселяет мужества. Я задаюсь вопросом, что сталось бы с нами обоими, если бы в ту минуту, когда я ожидал этого меньше всего, перед нами вдруг открылась изнанка вещей? Воскресным утром мы с отцом отдыхали после тяжелой недели, продлевая каждый в своей постели первые утренние часы. Мать, ушедшая из дома спозаранку, задержалась на рынке дольше обычного. Дело было тоже летом. Я притворялся, будто сплю, и, благо стояла жара, воспользовался этим, дабы увеличить беспорядок: мои руки свисали с кровати, сорочка задралась, и я лежал почти голый. Добавь к этому бесстыдно раздвинутые ляжки и член, который я пытался унять из последних сил, чтобы он встал лишь на три четверти — для пущего правдоподобия. Мне исполнилось четырнадцать, и я уже был почти таким же развитым, как сейчас. Вскоре я смутно осознал, что в моих сладострастных формах, выставленных напоказ, мой отец, тоже не спавший, но, по крайней мере, не притворявшийся, узнавал самого себя, и гордость, зарождавшаяся в нем при этом, быстрее любого стимула могла перерасти в то ответное желание, о котором я так отчаянно мечтал…
— Надо полагать, для достижения цели достаточно сконцентрировать свою волю — по крайней мере, отец как раз достиг того момента, когда из его сокровенных глубин поднялось что-то неведомое, но так долго втайне зревшее, что, когда оно обнаружилось, оставалось лишь удивляться столь запоздалому узнаванию. Да разве я сам, взрослея, не замечал, как отец поглядывал на меня украдкой со странной настойчивостью? Ну и ну, значит, я не ошибся! Повернувшись набок, я наблюдал, опустив ресницы, как он буквально упивался моим видом — не нахожу более подходящего слова. Его лицо становилось неподвижным, упрямым, умоляющим, минуту спустя властным и, наконец, почти растерянным: он больше не владел собой. Медленно, словно вор, мягкими движениями раздвинул он постельное белье и чуть не обнажился полностью. Но я увидел достаточно, для того чтобы опьянеть от мужской силы, впервые обозревая ее многочисленные красоты, сводившиеся для меня к их средоточию — несравненному члену, натянутому, как струна. Рука моего возлюбленного опустилась к нему, когда Эдуар, все еще не решаясь овладеть мною (хоть я был уверен, что он вскоре уступит соблазну), гладил свои грудные мышцы, проводил рукой вдоль боков и теребил густое руно, завивавшееся внизу его живота, словно рог изобилия. Изредка, с воздушной нежностью, ласкал он подтягивавшиеся яички, а затем принимался дергать их вверх-вниз, пытаясь довести себя до оргазма…
— Порой его рука, со следами от моих зубов и царапинами от моих ногтей, которая набивала мне синяки на лице, а теперь подстраивала свой ритм под меня, рука эта останавливалась, и то был знак приближающегося оргазма, который она хотела продлить, приостановив, а затем снова продолжив. Потом она все начинала сначала, мое сердце вновь билось учащенно, и я покрывал ее на расстоянии страстными поцелуями, словно держал отца в объятиях. Мало-помалу лицо его разглаживалось: глаза то закрывались, то снова открывались — всякий раз более безучастные и погруженные в себя. Его живот колыхался и выгибался, будто море под килем корабля, поясница приподнималась, а левая ляжка все больше отодвигалась в сторону, дабы облегчить сброс блаженного бремени, от которого он всячески стремился избавиться…
— Я впервые наблюдал перед собой величественное зрелище: мужчина в полном расцвете сил занимался любовью с самим собой. Эдуар лежал навзничь, судорожно комкая рукой простыню, а другой возбуждая себя — на первый взгляд, он терзался самой острой и изощренной пыткой. Ты видишь хоть какую-то разницу между мужчиной в этой позе и роженицей? Но здесь, вместо вспарывания живота изнутри, всех этих ужасных мук и отбросов, которые, допускаю, необходимы для продолжения жизни (но какой ценой — ценою каких мерзостей!), вершилась его собственная гекатомба и в то же время величайшее счастье, его собственное страдание, но вместе с тем и несказанная радость, которую он порождал не чужими, а собственными руками. Какое заблуждение полагать, будто мужчина любит себя в одиночестве! Конечно, это верно в том случае, если он хочет лишь облегчиться, или снять напряжение, и у него нет под рукой иного средства для самоудовлетворения, кроме собственного члена. А как же тот, в ком он нуждается, кто объединяет два пола в одном, являясь одновременно тем и другим, и за единый миг обозревает все царства Природы? Он воплощает в себе всю Природу — звериную и духовную, поскольку подступает к самому средоточию своей жизни и своего духа с помощью собственной руки, активной и мыслящей, преступной и благодетельной, творящей и пожирающей. Он опускается на самое дно своего естества, дабы извлечь из глубинных его истоков человеческий образ, незримый и вечно присутствующий, и обратиться в него духовно и физически…
— Отец все меньше сдерживал удовольствие, а плоть его раздувалась все сильнее. Голова запрокинулась, и мысленный взор устремился к тому воображаемому любовнику, которым, несомненно, был я. Черты Эдуара подернулись невыразимой волной блаженства. Его грудь непрерывно, почти безмолвно вздыхала, и слишком долго сдерживаемые вздохи еще больше обостряли удовольствие — так происходит со всем, что мы стремимся обуздать. Его рука все яростнее трепала член, исчезавший в ней по самые яйца, которые другая рука без устали поднимала и мяла. Так что в конце, опираясь лишь на затылок и пятки, он выпустил сперму, словно струю воды, и в блаженном изнеможении повалился во весь рост. Дрожь пробежала по его телу до самого рта, и, хотя он безмолвствовал, я все же прочитал по движениям губ: «Андре, Андре, малыш Андре…»
— Почему же я не бросился в его объятия? Почему не присоединился к этому наслаждению, которое вызвал на расстоянии как его единственный объект? Быть может, я подумал, что выступлю в роли непрошеного гостя, нарушающего покой после столь безоблачного счастья? Или мои муки ревности были так дорого вознаграждены, что впредь мне достаточно протянуть руку, для того чтобы мы могли подарить друг другу оргазм, до которого он только что довел себя с моим именем на устах? Возможно также, я просто не осмелился или, сраженный ужасной радостью, свалившейся на меня, чувствовал себя неспособным сделать малейшее движение, грозившее уменьшить ее! Пару минут спустя отец оделся и вышел. Как только на лестнице утихли шаги, я бросился на его место, зарылся в углубление, оставленное его телом, и тепло постели обожгло даже мои пылавшие бока, трепетавшие от неистового наслаждения. Там, на этом ложе, опьянев от густого запаха мужского пота, которым одержимая плоть его пропитала, я два раза подряд превратился в отца, вслух призывая, окликая его, равнодушный к тому, что меня могли услышать, застать врасплох, не говоря уж о следах, которые я нарочно оставлял, зная, кому их припишут. Что если бы он вдруг вернулся? Мало ли что могло бы случиться. Но я был полон решимости, поскольку у меня больше не осталось никаких сомнений. Кровать стояла совсем рядом, и если бы он, неожиданно возвратившись, толкнул дверь, я притянул бы его к себе, он подчинился бы и доставил мне наслаждение… точь-в-точь как теперь, Ролан… Ролан…
Оба юноши никогда не забудут тех предрассветных часов, той зарождающейся зари, когда они вышли за пределы самих себя и собственного счастья. У них еще будут другие — столь же прекрасные и жаркие, возможно, еще жарче и прекраснее, но никогда не будет этих или таких же. Комнату озаряли только потоки лунного света. Ароматы звкалиптов и сосен, смешанные с запахом моря, были столь сильными и резкими, что проникали даже сквозь закрытые окна, и порой юноши слабели от них, как от сладострастия. Вдвоем они превратились в единое тело, чья ослепительная белизна с буйными вкраплениями освещала самую непроглядную тьму. Они расплетались лишь для того, чтобы соединиться вновь, постоянно соприкасаясь друг с другом своей кожей, пахучим потом, своим наслаждением и неисчерпаемым юношеским семенем, которое размазывали по себе и оставляли сохнуть. Они вырывались из объятий — порой мучительно, дабы начать все сначала из новых исходных точек, всегда соединяясь в одной: удовольствии, повторяемом до бесконечности…
После обеда они вновь окунулись в море, где обычно проводили почти весь день, лишь изредка выбираясь на теплый песок. Там они боролись и кувыркались, словно юные морские божества, а затем вновь ныряли в приятную соленую горечь той первой волны, из которой родилась Афродита и которая выковывает у юношей крепкие конечности и грудную клетку, дышащую в такт водному простору. Однако сегодня приветливая и спокойная, теплая и сверкающая волна не приглашала их к продолжению забав. Истома, наступающая после сладострастных ночей, побуждала к блаженному отдыху, после которого они становились проворными и в то же время умиротворенными, такими же прозрачными телом и душой, как лазурный свет, пронизывавший со всех сторон, отражая в своей призме их незримые мысли. Прислонившись к рыбацкой лодке, выброшенной на берег, они растворялись в созерцании моря, в непроницаемом и вместе с тем пронзительном зное, что напирал отовсюду и незаметно опалял кожу в густом, душистом аромате смолы, качавшем их над воображаемыми черными, рискованными безднами, не столь, впрочем, глубокими, как их души, куда они погружались все дальше, дабы обрести на дне лишь безмятежность своей безмерной любви.
— С тех пор, — продолжил Андре, — в наших ежедневных отношениях с отцом произошли такие перемены, что мать, ни о чем не подозревавшая, сначала удивилась, а затем обрадовалась, рассыпавшись в славословиях благодетельному богу, разогнавшему грозовые тучи, из-за которых в доме еще недавно была столь тяжелая атмосфера. Хоть я и возвращался с каждым разом все позже, мои приступы ярости исчезли, как по волшебству: родители не могли нарадоваться моей кротости… Тем не менее, мы с отцом не продвинулись ни на йоту. Я прекрасно знал о его чувствах ко мне, но догадывался ли он о моих? Сколько раз меня подмывало сделать первый шаг! На самом деле, он дается труднее всего: казалось бы, сущий пустяк, но решиться нелегко. Как я жалею теперь обо всех этих отсрочках, компромиссах, потерянном времени! Но мы сильны лишь задним умом, и я признаю, что все эти недели вел себя трусливо. «Начать должен ты», — говорил я себе. Но как взяться за дело? В любом случае, мы бы могли так и не сдвинуться с мертвой точки, если бы огромная перемена, произошедшая в моей жизни (мне скоро исполнялось пятнадцать), не ускорила ход событий…
— Немного спустя отец познакомился со своим ровесником по имени Мишель. К тому времени я уже стал весьма искушенным и быстренько разобрался в природе их отношений, которую они скрывали, особенно отец, изо всех сил, но, поскольку их часто, хоть и нерегулярно видели вместе, все, в конце концов, вышло наружу. Мишеля не особо волновало общественное мнение, что же касается отца, никто бы не смог безнаказанно оскорбить его — прямо либо косвенно. Поэтому чернь злословила у них за спиной. До меня доходило немало красноречивых слухов, а я упирался руками и ногами, только бы не познать нового вида ревности — конечно, не столь мучительной, как та, что не давала мне покоя прежде, но способной, если бы дело затянулось, вызвать у меня непримиримую вражду с Мишелем. Именно тогда, как я тебе уже намекал, чувства мои приняли неожиданный поворот…
— Я встречал Мишеля несколько раз — вместе с отцом и одного. Он относился ко мне с очаровательной фамильярностью, лишенной всякой двусмысленности. Нужно добавить, что Мишель — один из самых обольстительных мужчин, которых я знал. Его по праву можно ненавидеть, но с еще большим основанием — любить. Знаю, он доставил множество страданий отцу, который, общаясь ранее лишь с грубыми повесами да балагурами, отдался ему телом и душой с преданностью раба своему хозяину, что отпускает его на волю в ту минуту когда он меньше всего ожидает. Я уверен, что Мишель тоже очень сильно привязался к отцу, но его чувство не могло сравниться с суеверным обожанием отца. Сколько раз бедный мой Эдуар возвращался домой подавленным, считая себя презираемым, опозоренным и брошенным всего-навсего из-за какого-то выпада или одного превратно истолкованного словца, рассеянного, холодного либо равнодушного взгляда! «Я — жертва, а ты — палач», — написал он однажды в письме, которое поручил мне отправить Мишелю, не догадываясь, что я знаю почти все. Это письмо я отважился вскрыть, а затем снова запечатал. Обнаружив в нашем ящике записку от Мишеля, я ничтоже сумняшеся прочитал ее на просвет с помощью лампы: строчки накладывались одна на другую, но я восстанавливал их с тем талантом, каковой выявляет в нас любовная ревность. Вдобавок, Мишель с невероятной беспечностью относился к тому, что его секреты могут быть раскрыты. Отец же прибегал по первому зову и вновь просовывал голову под ярмо, еще больше гордясь и расцветая от собственного рабства, если только оно способствовало его удовольствию, нежели от свободы, с которой он не знал что делать, ибо от природы был склонен отвращать от себя людей и находил в этом большую радость…
— Я любил его еще сильнее, хоть и не мог пожалеть вслух, но при этом был не способен ненавидеть Мишеля. Ну а Мишеля, конечно, вполне удовлетворяло, что я оставался холодным и замкнутым. На самом же деле, то была робость, внушенная различием в нашем общественном положении, не говоря уж об их отношениях с отцом: Мишель подозревал, что я догадываюсь, но не знал, до какой степени. Я лишь немного остановился на характере Мишеля, хотя мог бы описывать его бесконечно, и на сложившейся нравственной ситуации, в которой мы втроем оказались. Просто мне хотелось лучше объяснить тебе последующие события, показав, что все вытекало одного из другого и, несмотря на кажущуюся невероятность, было вполне естественным. В очередной раз все могло бы закончиться удвоенной путаницей и игрой в прятки, причем никто бы ни в чем не признавался, если бы в один прекрасный день Мишель, форсируя события, не забрал нас троих к себе: мать — вести хозяйство, отца — шофером, а меня — под предлогом возобновления учебы, на что я охотно согласился, пусть бы для перемены обстановки. Этот шаг казался вполне оправданным, поскольку Мишель был богатым холостяком и ни перед кем не отчитывался. Мы поселились у него. Я трудился под его руководством: он обладал большой и разносторонней культурой, но я пока еще не осознавал полного ее объема и тайных господствующих наклонностей. Честно говоря, несмотря на упорное стремление к знаниям, я вернулся к учебе лишь после долгого перерыва и, вопреки искреннему желанию, столкнулся с немалыми трудностями, хотя после периодов вялости проявлял огромное усердие. Что же касается Мишеля и отца, они скрывались все более неумело: казалось, будто любой их жест не соответствует внутреннему содержанию и даже прямо противоречит намерению — подлинное диво, что мать ничего не замечала…
— Итак, мы трое чувствовали нервное напряжение, которое ты можешь легко себе представить, и я не знаю, чем бы все разрешилось, кабы мать не уехала на пару дней к своему больному отцу, а я и мой отец не остались с Мишелем, который на следующий день пригласил нас в приморский городок М…, в нескольких лье от итальянской границы, куда мы и прибыли самым прекрасным вечером на свете. Я предчувствовал, что именно там решится наша судьба. В городе был большой наплыв народа и царило всеобщее веселье, уж не припомню, по случаю какого праздника. Хозяин первой же гостиницы, куда мы обратились (я всегда подозревал, что он заранее сговорился с Мишелем), сказал, что мест нигде нет, однако по счастливой случайности у него остался один свободный номер, правда, с единственной кроватью, но такой широкой, что мы без труда поместимся втроем. Впрочем, никакого сговора тут не было: разве кто-нибудь из нас стал бы возражать или искать другое место, если случаем повелевали наши самые сокровенные желания?..
— Как я уже сказал, городок был преисполнен веселья, но сладострастие, в котором он купался, служило для нас лишь предзнаменованием и предвестием другого: у нас уже пересыхало во рту, и мы молчали, а затем вдруг разражались речами и смущенным смехом, шедшим в разрез с нашей постоянной озабоченностью. Мы вернулись в гостиницу, и я как никогда был уверен, что верховодит Мишель, а отец заранее на все соглашается, даже если между ними нет никакой предварительной договоренности. «Положим Андре посредине, — сказал Мишель. — Так он не упадет с кровати, — дерзко прибавил он, обращаясь к отцу. — Вы ведь говорили, что он ворочается во сне». Такое размещение привело меня в восторг: я побаивался, что Мишель займет место между нами, чтобы лежать поближе к отцу. Если вдуматься, это, конечно, было маловероятно, поскольку противоречило всем моим фантазиям, но какие могут быть страхи, когда так тесно соприкасаешься с величайшим счастьем в своей жизни! Я подтянулся, только бы не задрожать от радости, но затем меня бросило в жар, и я почувствовал в висках шум морского прибоя, который обрушивался почти под самыми нашими окнами…
— «Ну и духота, — сказал Мишель, как только мы улеглись и погасили свет. — Я не буду никого стесняться, и вы тоже не стесняйтесь меня, если хотите». Сказано — сделано: нас не пришлось долго упрашивать. Я лежал голый рядом с голым отцом, и мы были оба напряжены — уж теперь-то я знал — от восторга, страха и желания. К моему боку и моей ляжке прикасалась та ляжка и тот бок, к коим мне не терпелось прижаться сильнее. Словно по обоюдному согласию, жестом, который мог сойти за дружескую защиту, Мишель и Эдуар подложили мне руки под голову, и она покоилась там, будто в мягком и теплом гамаке. Хотя Мишель лежал совсем близко, я был уверен, что его желание направлено не на меня, а на отца, однако он заранее наслаждается нашим взаимным желанием. Для него мы были всего лишь двумя существами, которые необходимо соединить в одно по его собственному, весьма деликатному порыву, после чего останется лишь пустить все на самотек. И действительно, вскоре рука Мишеля осторожно и бесшумно начала искать руку отца, лежавшую справа от меня, и мало-помалу притянула ее к себе. Никто из нас не поддался на обман: Мишель любил ломать комедию и, отваживаясь на решительный поступок, создавал между нами некую двусмысленность или, если хочешь, алиби, которое не вводило в заблуждение никого, но благодаря которому никто не имел оснований назвать кого-либо из двух других инициатором вскоре наступившей развязки…
— В этом была одна из слабостей Мишеля или, в конечном счете, просто обратная сторона его высокой добродетели. С властной мягкостью, способной сравниться лишь с покорностью отца, он притянул правую руку Эдуара и, наконец, положил ее на мой член. Свершилось: я ощущал сверхъестественное спокойствие. Я стал счастливой жертвой этой горячо любимой руки, мозолистой и растрескавшейся от тяжелого труда, но ее шершавость была мне необычайно приятна, а осторожность, с какой эта рука старалась меня не обидеть, вдвойне подготавливала меня к наслаждению. Кто бы мог подумать, что она так легка и способна на столь нежные прикосновения? Я сдерживался из последних сил, только бы не разрыдаться от счастья! Теперь я приникал всем телом к этому великолепному телу, которое волнообразно отталкивало меня, дабы уравновесить то любовное давление, что я оказывал на него. Голова моя доходила лишь до его подмышки, но этого было достаточно, для того чтобы зарыться туда ртом и с безмолвной жадностью поглощать сей терпкий аромат. Я торжествовал — теперь я мог отважиться на что угодно. В свою очередь я завладел членом отца, и он даже не попытался отстраниться. Наконец-то я держал эту славную колонну из плоти, которую едва мог обхватить пятерней, хотя не мечтал овладеть ею даже в самых смелых своих фантазиях. Это уже было выше моих сил. Дабы подавить крик, подступивший к горлу, я резко передвинул рот и так глубоко укусил отца за левый сосок, что тотчас же почувствовал на губах восхитительный вкус крови. Отец не вздрогнул и даже не вздохнул, но под воздействием боли ускорил свою невыразимую муку, нисколько не волнуясь о грубости собственной руки, тогда как я еще сильнее стиснул зубы. До чего бы я только не дошел в своей жестокости, если бы вдруг не обмяк в изнеможении от оргазма, заставившего меня разжать рот и покрыть торопливыми, бархатными поцелуями то место, что я так зверски изранил! И с каким нежным, безмолвным прошением прижал он меня единственной свободной рукой еще крепче к своей широкой груди!..
— Рука моя не отпускала его член, и теперь я возвращал ему ту радость, которой он меня только что пресытил. Из-за неудобной позы мои жесты были неловкими: я двигался рывками, но эта неумелость, то замедлявшая, то ускорявшая утоление столь страстного желания, поочередно закрывала и открывала большие шлюзы сладострастия, которое совсем скоро излилось горячим и бурным потоком, затопившим меня полностью и сделавшим нас обоих равнодушными ко всему на свете, однако сквозь это блаженное исчезновение я слышал, как тайком блуждает по наполовину сомкнутым губам ироничный и сладострастный, дружеский и демонический смех Мишеля, любовавшегося собственным шедевром…
— Когда я проснулся на следующее утро, в номере никого не было. Я восхитился тактом Мишеля, который, возможно, опасаясь, что мы с отцом слегка смутимся, подумал, что будет лучше, если в сей щекотливый для многих момент пробуждения я останусь один. Я восхитился Мишелем вновь, когда после обеда он сообщил нам, как ни в чем не бывало, что ему нужно срочно уехать на пару дней, и в это время мы можем быть свободны. Что в переводе означало: «Я дал вам первый толчок, и теперь вы вольны продолжить. Лучшее, что я могу сделать, это оставить вас наедине. Я не люблю быть третьим лишним — посмотрим, как вы из этого выкрутитесь». Оглядываясь назад, я, конечно, вкладываю в его слова небольшую долю юмора, но я уже начинал хорошо понимать Мишеля! К тому же я несказанно обрадовался, что нам с отцом больше никто не будет мешать. Однако вчерашнее испытание не могло сравниться с тем, что предстояло нам теперь. Ведь мы впервые окажемся наедине! Не знаю, как отец на это отреагировал — он очень мало говорил. Ну а я был полон уверенности и решимости, изумлявших меня самого. Когда мы вернулись домой, я сказал отцу: «Хочешь лечь первым? Я бы проветрился немного на берегу». И это не было лицемерием: я больше не боялся банального и всегда слегка комичного раздевания вдвоем, и мне даже не требовалось время, чтобы успокоиться, поскольку сердце мое больше не билось учащенно. Хотелось лишь заранее предвкусить то великолепие и красоту, что ожидали меня, стоило только отворить дверь…
— На самом деле, войдя в номер, залитый светом, я увидел одну лишь кровать, а на этой кровати — моего голого отца, непристойного, неподвижного и роскошного, развалившегося, выставив себя напоказ, и готового отдаться. Он тоже ждал, причем ждал неустанно и, не глядя на меня, все-таки видел, как я приближаюсь к нему, словно тот, кого он, конечно, признал, но по-настоящему заметил впервые в жизни. Я еще больше полюбил его, когда благодаря своему изумительному чутью он прекрасно понял, что я не позволил ему подняться первым лишь затем, чтобы он показал себя таким, каким я желал его видеть и каким он сам желал предстать моему взору! Разве эта обоюдная проницательность не была еще одним доказательством того, что мы читали самые сокровенные мысли друг друга? К чему теперь стыдливость? Если бы мы попытались ее сымитировать, это было бы сплошным бесстыдством. Поэтому я решил не подавлять своих чувств, а наоборот, искупать его в них. Тоже раздевшись донага в мгновение ока, я бросился в объятия, раскрытые для меня. Тут-то, возлюбленный мой Ролан, и начинается воистину невыразимое. Мы были одни — я и он, он и я. Впервые я не просто ласкал нечаянным взглядом или касался украдкой, а действительно обнимал богатырские формы, возникшие, казалось, в самом начале мира. В этих руках, способных задушить льва, я казался себе маленькой Андромедой, дремлющей, будто новорожденный младенец, на груди исполинского героя, только что вырвавшего ее из лап чудища: мой восторг возрастал в десятки раз из-за этой несоразмерности с отцом. Я погружался, проваливался в него, мы перекатывались друг в друге, точно морские валы, и я вновь рождался на свет лишь для того, чтобы провести по нему руками, губами, всем телом, которое растворялось в нем и хотело ценой тяжелейших мук пройти насквозь и слиться, дабы из двух наших веществ образовалось одно существо, каким нам и хотелось быть, тем более что мы и так уже им были, являясь единой субстанцией…
— Иногда, с наивозможной легкостью, он ложился во весь рост на меня, и я задыхался от счастья под его весом. Огромное его тело повторяло то же движение, а затем, почти сразу, то же порождающее излияние, что извлекло меня из небытия. Казалось, будто, воспроизводя этот звериный, но возвышенный акт, он отчаянно пытался вновь зачать жизнь, которую подарил мне раз и навсегда, однако на сей раз без посредницы и в чистейшем виде, придавая акту простого наслаждения совершенную духовную форму. Я очень плохо выражаю свои мысли, Ролан, да к тому же могу лишь приблизиться к сути путем беспрестанных размышлений о природе разделенной страсти, которую простые смертные считают чудовищной и которая, несмотря на ее неясность, представлялась мне с тех пор самой возвышенной степенью интеллекта и любви, а следовательно, и добродетели, до какой способен подняться мужчина. Любовь, подобная той, что соединяет нас с тобой, превосходит все другие виды любви хотя бы потому, что заключает в себе свое начало и свою конечную цель. Я не говорю уж о той, что основывается на кровных узах, ведь она питается и обновляется нашим собственным семенем и костным мозгом, и ей никогда не грозит истощение…
— Развалившись на его необъятной груди, я напоминал невесомый клочок пены, плавающий на волнах после шторма. Я покрывал отчаянными поцелуями левый сосок, под которым билось столь великодушное и сострадательное сердце: я так жестоко пометил его накануне, что он болел при малейшем прикосновении. Но отец, взяв меня за голову, приставил мои губы к другому соску, дабы заранее наметить местечко для моих зубов, и сказал: «Теперь его очередь — он ревнует к первому»…
— Чего еще мне было желать, кроме как переносить губы и руку с одного соска на другой? Эта парная грудь, такая же выпуклая, как женская железа, но тверже, чем самый прочный бронзовый щит, заключала в себе мою судьбу. Я клал на нее голову и щеки, сжимал в горсти, сколько мог удержать, мял изо всех сил, тщетно пытаясь соединить обе половинки, а затем видел недоверчивую улыбку отца, когда безуспешно пытался пробить его грудь членом насквозь, тогда как его орган прошел бы через мою навылет. Затем, потеряв терпение, я снова припал к ней ртом. Говорят, у каждой женщины мужчина ищет ту грудь, что впервые накормила его досыта, я же высасывал из отцовских грудных мышц ядреное молоко мужского знания, отрываясь лишь для того, чтобы простонать голосом умирающего, когда его ненасытная рука в очередной раз доводила меня до изнеможения: «Отец, отец, я — твой до самой смерти».
Андре замолчал, и Ролан последовал его примеру: что мог он возразить на слова юного друга? Ведь он тоже переживал восторг, когда бытие пульсирует высоко за пределами тебя самого и сила его измеряется лишь молчанием, в котором оно упорно ищет свою возвышеннейшую музыку. Юноши не смели пошевелиться также из страха, что малейшее движение исказит либо извратит чем-нибудь вульгарным то высокое, чем обменивались их души.
Прекраснейший вечер, заливая все вокруг сапфировыми красками, опускался над морем, отражавшим их с божественным безразличием. Все располагало к тишине и покою: волнам не хватало сил замереть на песке, воздух больше не освежал, а пляж лучился золотом — лучились им и вершины утесов, до половины покрытых прозрачной темно-изумрудной краской. Что могло выйти из этого вселенского хора, который был лишь своим собственным продолжением, где двое молодых людей, по-прежнему безмолвных и неподвижных, омывал, охватывал и одухотворял, скорее, их сокровенный восходящий свет, нежели ослепительный блеск, отражаемый землей и морем до самой вершины небосвода? Какое дело этим юношам, что мало-помалу спускается ночь? Ведь внутри у них сияет вечный день. Они касаются друг друга лишь кончиками едва переплетенных пальцев, и им достаточно этого почти бесплотного соприкосновения, для того чтобы их души взаимно прониклись общим языком своей главнейшей истины.
— Даже не знаю, — сказал, тем не менее, Андре на следующий день, — как описать тебе последующие ночи. Не то чтобы я совестился или стеснялся: просто мне не хватает слов для объяснения невыразимого. Подводным камнем было то, что после высшего наслаждения, которое, казалось, нельзя превзойти, быстро могло наступить пресыщение, вызванное повторением. Да, возможно, так и произошло бы с другими людьми, но я ни во что их не ставлю, ведь они ничего из себя не представляют. Нужно хорошо знать нас обоих: вечное обновление отца и мою собственную жажду открытий. Несмотря на столь бурный взрыв, нашему долго сдерживаемому желанию было еще весьма далеко до истощения. Наконец, осознание того, что мы вынуждены держаться в стороне от других людей, ковало для нашей любви безупречную броню, плотно прилегающую со всех сторон, под которую ничто постороннее не могло проникнуть. Как же мне утомиться, исследуя во всех направлениях и всеми способами это инфернально-сакральное тело, всячески пытавшееся меня удовлетворить, хоть я и выходил из него всегда неудовлетворенным? И как мог он сам устать от моей исступленной любви, отвечая на нее всеми видами самопожертвования? Порой он руководил мною с нежной снисходительностью, и я мгновенно догадывался о пути и направлении, если только он не опережал меня. Иной раз я тоже ненадолго предупреждал и удивлял его своей смелостью, на которую он тотчас же отзывался, заходя еще дальше…
— Почему же он уступил мне радость открытия, впрочем, не заставившего себя долго ждать: из нерешительности, совестливости или ради удовольствия? В любом случае, именно я первым отсосал у него. Я не в силах передать восторг, охвативший меня, когда моим ртом завладел тот орган, который, прежде чем выдавить из меня мой первый зачаток, осенил теплой и темной чащей благодатных яичек. Я выбивался из сил, стремясь заглотнуть великолепную округлость, умудрялся всосать ее до самого основания и вновь выпустить на поверхность, легко и неощутимо касаясь языком, который останавливался в той точке, где разделяется вздутие головки, полной сил и здоровья (неспроста прозванной «желудем»), а затем вновь опускался всей своей сладострастной массой, увлекаемой ртом, к основанию члена. Двигаясь вдоль него, я опять возвращался к верхушке, настойчиво засасывая или отпуская его, дабы затем вернуться снова, всласть играясь наслаждением, которое собирал отовсюду, готовый в любую минуту прервать его либо довести до кульминации. Запыхавшийся и стонущий отец порой хватал мой затылок, чтобы опустить меня на самое дно своей восхитительной муки и позволить выразить себя с ее помощью, подобно ловцу жемчуга, поднимающему сокровище со дна моря. А затем он снова отдавался, беспрестанно стеная и безудержно раздвигая ляжки перед моим сосущим ртом, который рылся, терзал, впивался в самое средоточие его тела, будто орел Прометея — в свою жертву, распятую в горах Кавказа…
— Вскоре он приподнялся, взревев, точно вулканический остров, извергнутый со дна моря, и я принял в рот, глотку, легкие бурный поток обжигающего семени со вкусом серы и горького миндаля. Мои руки судорожно вцепились в его источник посреди податливой плоти, больше не различая ни формы, ни направления: они выжимали, торопили и выдавливали все в меня, ведь я ни за что на свете не хотел потерять ни капли сей священной пищи и, утолив жажду до полного изнеможения, подтянулся к обожаемому, все еще умоляющему рту и, словно желая вобрать его в себя до последнего вздоха, выдохнул вместе с поцелуем: «Отец, я выпил тебя, а значит — себя! Настал твой черед выпить меня дó смерти»…
— Теперь я лежал навзничь, словно бессознательный обломок, наслаждаясь качкой этой огромной кровати, что выбилась и баюкала, расширяясь за пределы земли. Кем было божественное чудище, свернувшееся, подобно большому змею, у меня между ляжками, которыми я отчаянно сжимал его шею и которые вновь бессильно опадали, раздвигаясь до хруста, чтобы оно могло свободно красоваться меж ними? Он осаждал, обкладывал меня со всех сторон, кусая за то место, откуда лучится мое естество. Время от времени, стремясь подчеркнуть свою любовную власть, словно я мог о ней забыть, он надавливал на мой живот своим лбом, покрытым холодной испариной. Затем он с удвоенным остервенением открывал темный родник и большими глотками высасывал своего сына, который с закрытыми глазами и стиснутыми зубами проваливался в отца капля за каплей, умоляя, чтобы последняя совпала с блаженной вспышкой смерти… Так, час за часом, из ночи в ночь, предавался я всем видам сладострастия, позволявшим мне превратиться в отца. А он, всячески желая мне угодить, опережал при случае собственное воображение и раскрывал мне все новые секреты…
— Вижу, как сейчас: он в смущении, полном очарования, граничащего с нежнейшим цинизмом, переворачивается и показывает мне свои бедра фавна, между которыми пролегала тенистая заросшая тропа, и беспечно раздвигает их, дабы приоткрыть темную пещеру в глубине, куда он приглашал меня столь простым жестом войти. Честно говоря, я почти не получал от этого удовольствия. Ведь при подобном исследовании требуется некое равновесие пропорций и форм, иными словами, одно тело не должно слишком уж превосходить по размерам другое. По сравнению с отцом я казался крохотной пчелкой, так что он даже не чувствовал ее жала. Возможно, покопавшись в своей душе, я понял, что нисколько не интересуюсь этим лишь потому, что не причиняю отцу достаточных страданий. И тогда, собравшись со своими молодыми силами, я перевернул его на спину и, сев верхом, заставил изнасиловать себя. Просто я был совершенно не готов к животной позе, если, конечно, он сам не отдавал ей предпочтения, которое я разделил бы ему в угоду, но для отца это было не важно: он приспосабливался ко всему и мгновенно находил в любом положении источник острейшего удовольствия. Мне же больше всего нравилось, что мои страдания обращались в радость при созерцании его радости, когда он чувствовал, как сей кол сладострастия поднимается внутри меня. А главное — при этой новой муке предо мной раскрывались те звездные области смерти, куда я улетал, сидя на оси головокружительного члена. будто на метловище, некогда перевозившем колдуний на свидание с Сатаной. Отец вновь выказывал свою предрасположенность, принося в жертву себе собственного сына…
— Так или иначе, то были своего рода интермедии. Мы с ним вспоминали о своей истинной природе, лишь когда садились вдвоем за пиршественный стол, и каждый по очереди или одновременно, изображая из себя отца и сына, восстанавливал изначальное единство, из которого вышел и куда возвращался вместе с тем, кто произвел его на свет, либо с тем, кому обязан жизнью. Какое разнузданное было у него воображение! И какого любовного апогея достигал я сам, исторгая из него глухие жалобы, хоть он и подчинялся с той умышленной мученической улыбкой, что усиливала мое исступление, а порой резко вырывался, дабы заставить уже меня самого молить о пощаде. И, наверное, высшее и чистейшее наслаждение испытывал я в те минуты, когда, лежа рядом с ним щека к щеке и с ребячьей лаской подложив свою руку под эту львиную голову, мягко мне уступавшую, одной рукой доводил его до оргазма. Быть может, он предпочитал другие способы, но его доброта простиралась столь далеко, что он всегда подчинялся и позволял мне делать все, чего бы я ни потребовал…
— Я дрочил ему с умелой медлительностью, с первого же раза выбрав самый удачный ритм, но не только затем, чтоб оживить воспоминания первой ночи, которую мы провели вместе подле Мишеля, а еще и потому, что различные стесняющие причины принуждали нас любить друг друга лишь этим способом… Мое желание невероятно обострял вечно живой образ моего первого большого счастья в то воскресное утро, когда он так яростно дрочил предо мной, считая меня спящим; и в равной, если не в большей степени — стремление к усмиряющему оргазму, потребность обуздать страстными жестами это большое тело, удерживая его в недвижном экстазе одним лишь ритмичным движением руки, пока эта рука не выпустит на волю целую бурю страстей. Быть может, когда его увлечет внутренний ураган, он выгнется, как встарь, дугой, которая кажется на первый взгляд нерушимой, но вдруг ломается посредине под натиском восходящей спермы, пред коим ничто не в силах устоять? О нет, теперь ты уже плывешь не по бушующему морю, вздымающему волны со всех сторон, а по красивой спокойной реке, лениво уносящей тебя тихим течением, которое эта детская рука направляет и укрощает на свой вкус и которое медленно поднимается при благотворных разливах, нарастающих произвольно, и вскоре после этого, возвращаясь в собственное русло, продолжает свой сладострастно-извилистый путь…
— Говорят, что человек — по натуре животное и что во всем, даже в любви, он склонен без конца возвращаться на ту же колею, которую проложил для себя вначале. Я согласен с этим, но насколько теперь все изменилось! Между нами больше не осталось ни свидетелей, ни дистанции. Хоть я и наблюдал, как он извивается от удовольствия, которое доставляет себе сам, эти ощущения вызывал у него именно я, причем уже не опосредованно. Как бы ни упивался я радостью, направляя в себя бурный поток из его члена, ничто не могло сравниться с тем счастьем, что вытягивало меня всего от головы до пят, когда я собственными руками удовлетворял отца и следил за нарастанием оргазма по его глазам. Я устремлял в них свой взор, проникая до самого дна. Временами, не в силах этого вынести, он отворачивался или опускал ресницы, но тотчас поднимал их вновь, неспособный избегнуть очарования, выворачивавшего его душу наизнанку. Как страшно и сладко доставлять столь смертельное наслаждение существу, любимому всем сердцем, причем доставлять рукой и глазами — самыми умными и благородными органами человека! От одного моего прикосновения обожаемое тело целиком заполняло мое: меня всего захватывал, физически и даже духовно, этот набухший член — сама сила и нежность, обвитый спиралью изнуряющих ласк. И когда его скольжение в моей руке обращалось в струящуюся влагу, от которой он становился еще нежнее и которую я без конца размазывал, дабы продлить стонущий обморок отца, он притягивал меня, стремясь растворить свои губы в моих, а я изо всех сил отодвигался, чтобы лучше видеть сей умоляющий взор, что блуждал, затем возвращался ко мне и наконец выпускал стрелу. Он словно говорил: «Ты — мой повелитель и теперь приказываешь мне умереть, как еще совсем недавно приказывал страдать. Я покоряюсь тебе, ты — повелитель моей любви, а я — раб твоей воли»…
— В конце концов, исчерпав великое множество утех, мы переживали высшее счастье в тот миг, когда пресыщались друг другом и я сворачивался клубочком у него на руках, не покидая его даже во сне, а он вновь нежно заключал меня в объятьях. Изредка я продолжал легко, едва уловимо ласкать его плечи, бок, живот, успокоившиеся яички, осторожно вызывая у него почти нестерпимую дрожь наслаждения, которую он, тем не менее, терпел, хотя порой, из-за бесконечных повторений, оказывался на грани обморока, поскольку смирялся с этим только из любви ко мне. Но чаще всего я прижимался к кустистым подмышкам, к мягкой, шелковистой звериной шерсти, спускавшейся до самого его живота, расцветая и распускаясь там волнистым, неукротимым руном, и порой у меня в зубах застревал локон, жестоко вырванный, пока он услужливо переносил боль… С бесконечной, все замедляющейся нежностью отец баюкал у себя на груди своего милого палача, а я расслаблялся, отдаваясь, наконец, экстазу сна, слыша при этом, как он шепчет на ушко, точь-в-точь как я в первый раз: «Я тоже твой навсегда — до самой смерти».
— И чем же все кончилось? — спросил Ролан, прервав молчание.
— Тяжелейшим менингитом, — с улыбкой ответил Андре. — Умышленно или нет, Мишель затянул свою отлучку намного дольше срока, который сам установил для своего возвращения, а моя мать, сестра милосердия по натуре, буквально не отходила от изголовья своего выздоравливающего отца. Мы потеряли счет дням, но этого режима я больше не мог вынести. Одним прекрасным утром я сдался и очнулся лишь пару недель спустя — с пустой головой, ломотой в конечностях и такой тяжестью и одновременно легкостью в теле, словно я плыл сквозь туманный лимб. Я находился между жизнью и смертью — ближе к смерти, чем к жизни. К счастью, я пошел в отца, и моя крепкая конституция взяла верх. Я поразил родителей своим быстрым выздоровлением — выкарабкавшись из беды, я стал в десять раз сильнее и здоровее. Однако с того времени между мной и отцом все было кончено. Неужели он предположил, что излишества всякого рода, как телесные, так и духовные, да к тому же столь исключительного характера, которым мы предавались, и обусловили такое тяжелое потрясение, что родители уже не надеялись на мое спасение? Или, опасаясь брать на себя полную ответственность, отец поклялся, что если я поправлюсь, в будущем он останется мне лишь самым целомудренным другом? Вполне возможно, но я бы не дал руку на отсечение. Помимо того, что в вопросах любви отец никогда не терзался сомнениями (если бы даже они возникли, я бы непременно постарался их развеять), он был не в силах устоять перед соблазном, откуда бы ни приходило удовольствие. Просто я полагаю, что он инстинктивно почуял то, до чего сам я дошел путем рассуждений: постигшая меня болезнь была знаком Природы, предостерегавшей, что нам не следует идти дальше. Не то чтобы мы хоть сколько-нибудь раскаивались в переходе границ, которые Природа якобы устанавливает единственно дозволенным чувствам. Она достаточно велика и высока для того, чтобы приспособиться ко всевозможным вариантам и включить их все в свое лоно — даже те, что, по мнению толпы, нарушают ее законы, которые чернь путает с так называемыми моральными правилами и которые, если вдуматься, напротив, являются тем фундаментальнее и истиннее, чем сильнее отклоняются, на первый взгляд, от заурядного человеческого уровня…
— Хотя иные самолюбивые гордецы считают Природу слепой и умывают руки, она дала нам предупреждение, продиктованное глубочайшей мудростью: в самом деле, Она прошептала нам на ушко, что в любой области, особенно — в области любви и счастья, ею приносимого, существуют некие степени совершенства, которые невозможно превзойти и где нельзя удерживаться слишком долго, не рискуя погибнуть или вновь опуститься, то есть умалиться. Обнимая друг друга, мы так часто призывали смерть, хотя подспудно боялись вовсе не умереть от нашей любви, а просто лишиться ее, бесконечно продлевая. С нашей стороны в этом не было ни благоразумия, ни расчета, а лишь безошибочное предчувствие, что наша любовь погибнет от собственного пресыщения и что благодаря повторениям она грозит впасть в анормальность, от которой спасалась лишь путем возвышенной чрезмерности…
— Я окунулся в учебу с горячностью, испугавшей родителей настолько, что они даже стали меня увещевать, а я этим непрерывным воодушевлением пытался заглушить свои чувственные порывы. Как раз в это время умерла мать, познав в свои последние годы то благополучие, которое, боюсь, и ускорило ее кончину, поскольку она не привыкла к нему, да и переход был слишком резок. Для нас обоих ее смерть стала большим ударом, ведь отец, несмотря на свои выходки и поводы для жалоб и уныния, которые он предоставлял ей в избытке, все-таки нежно любил жену. Я оставил его у Мишеля, уверенный, что тот никогда его не бросит, и отправился путешествовать. Изредка я заезжаю к ним. В конце концов, я повстречал тебя, Ролан, хотя с тех самых пор ни на кого не обращал малейшего внимания.
Пока он говорил, лицо Ролана прояснялось от радости.
— Разве ты не понимаешь, — сказал он, когда Андре закончил свой рассказ, — что мы просто обязаны были встретиться, выйдя из самых крайних точек времени и пространства, которые соединились только в нас, несмотря на разделяющее расстояние, дабы показать на твоем и моем примере вечное предопределение любви и все то поистине предопределенное и от природы необходимое, что заключает в себе любовь, подобная нашей? Но это еще и наиболее редкостное и сокровенное в любви, что порой проявляется с полнейшей очевидностью, делая зрячими даже самые слепые глаза, если еще остались глаза, способные прозреть.
Так двое прелестных юношей легко доводили до грандиозности и непомерности любые речи, внушенные любовью и ее постижением. Уже вполне освоившись, Ролан все же порой слегка оступался — настолько Андре смущал его своим напористым талантом, с которым проникал в самую суть вещей. Но кто в мире, помимо Андре, мог похвастаться столь редкостным опытом? Наверное, именно за это ему и пришлось поплатиться: года через два бесподобной жизни, когда ни днем ни ночью они не расставались даже на час, Ролан едва успел довезти Андре, уже без сознания и временами бредившего (по всей видимости, к нему вернулся прежний недуг) до загородного домика, где жили Мишель с Эдуаром. Там этот прелестный ребенок, слишком ярко отмеченный судьбой, для того чтобы жить долго, почти тотчас же, не приходя в чувство, испустил последний вздох. Там-то, на соседнем кладбище, его и похоронили.
Эдуар долго пребывал в оцепенении, ошалев от горя. А Мишель и Ролан самозабвенно пытались развеять его наваждение, но так и не преуспели. Он смотрел на них сурово и растерянно, хотя и без ненависти, но словно призывая их в свидетели той роли, которую они тоже сыграли в смерти его ребенка.
Проходили дни, и время медленно, терпеливо делало свое дело. Осень уж достигла средины своего пути. Однажды после обеда, когда теплый закат разливал повсюду атмосферу счастья, Мишель и Ролан бродили взад и вперед по ясеневой аллее, ведущей к дому. Деревья, уже начинавшие ронять тронутые первыми заморозками листья с перекрещенными пурпурными, янтарными и золотистыми прожилками, внушали им ту сладкую грусть, что нашептывает нам: все умирает лишь для того, чтобы возродиться. Но каждый думал в душе: «За исключением любви, когда ей наносят смертельную рану».
Однако наутро, впервые за долгие недели, они заметили, как по лицу Эдуара пробежала мимолетная тень улыбки. И снова-таки впервые заговорили они об Андре «с открытым сердцем, без недомолвок и задних мыслей: то, что Ролан поверял Мишелю только отрывочно и словно обиняками, сегодня он рассказывал во всех подробностях, радуясь, что изливает чувства человеку, который стал ему столь дорог и предан.
— Да, — откликнулся Мишель, пиная перед собой опавшую листву, шелестевшую под ногами, — я обо всем догадался, хотел этого и сам привел в исполнение. Не стану утверждать, что ничего не случилось бы, не приложи я к этому руку. Андре подавал большие надежды: кто знает, возможно, в отличие о многих других, они бы не увяли в зародыше. Эдуару не хватало смелости, ведь хотя по своей натуре он далек от всякой морали, родительские предрассудки, вероятно, сдерживали бы его еще долго. Тем не менее, думаю, в конце концов, он бы их переборол, но сколько времени они потеряли бы, если б я не вмешался? В самом деле, я вскоре убедился, что он фанатически одержим Андре. Излишне напоминать тебе, Ролан, сколько возможностей он упустил, прежде чем исполнить свое желание. Просто восхитись, с какой неуклонностью, с какой неумолимой физической и моральной точностью следовали они одна за другой…
— Ты сказал, что Андре вспоминал, как я втихомолку смеялся, пока это происходило между ним и его отцом. Я тоже ничего не забыл. Только не подумай, что это был ироничный смех Мефистофеля — демона разрушения, духа противоречия. Наверное, я все же должен признаться в легкой гордости оттого, что сумел так точно предсказать и довести до конца дело столь благовидного свойства, и вполне простительно себя с этим поздравить. Со всеми необходимыми поправками, то был, скорее уж, безмятежный и добрый смех демиурга, который, окидывая взором свое творение, находит его хорошим, ибо оно необходимо, и созерцает себя в зеркале своей глубочайшей радости. Ведь сущность творца — не в том, чтобы лепить других по своему подобию, а в том, чтобы раскрывать и развивать в них, даже если они не догадываются об этом, их главный талант, дабы он распускался самым изысканным цветом…
— Надо ли говорить, что наиболее живой интерес вызывал у меня Эдуар? Мы не можем стать лучше, чем мы есть. Хотя Андре был сыном Эдуара, это не помешало бы мне, несмотря на отсутствие влечения, привязаться к нему и даже крутить два романа одновременно. Но, ведя эту двойную игру, я бы погряз во лжи, а стало быть, в разврате, поскольку не любил Андре. Помимо того, что я безоговорочно предпочитал Эдуара, я слышал, как во всем его существе гремит хаос страстей, высвобожденных любовью, которую он питал к собственному сыну. В конце концов, что я знал об Андре? Вряд ли у меня были дурные предчувствия, но как же я колебался! Порой я замечал, что сын Эдуара унаследовал от отца щедрую натуру, но как проверить свои догадки? В то же время на Эдуара я мог целиком положиться, ведь достаточно было одного слова, и в нем уже ускорялось то любовное бурление, которое только и ждало малейшего толчка! Каково бы ни было половое созревание Андре, думал я, разве он уже не достиг переходного возраста, когда его сексуальность можно направить в любую из сторон? Все зависит от тайной наклонности, главного демона, а также от первого наставника. Следует признать, что, вопреки видимости, Эдуар, именно потому, что был отцом, вел с судьбой весьма рискованную игру — пострашнее бури, бушевавшей в душе Андре. Конечно, Эдуар, несмотря на то, что часть его наклонностей (правда, наименьшая) влекла его к женщинам, с давних пор перестал колебаться перед скрещением этих противоположных путей, и ты прекрасно знаешь, что самое полное удовлетворение он получал от представителей своего пола. Поэтому новый герой, вышедший на сцену, его сын, угрожал полным пересмотром его внутренней драмы вплоть до самого пролога: Эдуар ставил под сомнение всю свою сексуальную жизнь. Андре бросал на чашу весов силу своей страсти — у него не было иного выбора, тогда как Эдуар стоял перед вдвойне опасной дилеммой: отречься от самого себя или сознательно преодолеть препятствие. В том и другом случае он мог погибнуть. Начиная именно с этого момента, сексуальная проблема становится подлинной трагедией. Конечно, я поспособствовал выбору Эдуара, но погиб из-за этого Андре. И вот теперь твой рассказ необычайно укрепил мою уверенность в том, что Эдуар и Андре были достойны друг друга И что в силу великого закона компенсации, управляющего всеми явлениями, не имело никакого значения, кто из них умрет, поскольку они представляли собой единое, взаимопроникающее существо…
— Мне чуть-чуть досадно, Ролан, что я так спокойно рассуждаю, хотя на душе у меня очень тяжело, бремя всей жизни оттягивает мои плечи и нередко хочется лишь рыдать. Однако именно мне, несмотря на мою боль, надлежит утешать вас обоих — тебя и Эдуара…
Как говорил тебе Андре с его поразительным чутьем, Природа указывает нам точную меру, которую мы не можем превысить. Остался бы он в живых, если бы внял тому первому предупреждению? Откуда нам знать? И как бы он мог изменить судьбу, уготованную от рождения? А ты сам взял бы на себя свою долю ответственности, подобно бедняге Эдуару? Нет, Ролан, и я тоже. Конечно, слишком просто прикрываться роком. Но если ты задумаешься над ходом этих необыкновенных событий, то признаешь, что в жизни нет места случайностям, всякая случайность неизбежна, и мы, являясь ее средоточием и местом действия, оказываем на нее не больше влияния, нежели на движение звезд, кружащихся на предвечной сфере небес…
— Тем не менее, Ролан, если ты — венец и воплощение столь удивительного богатства, то вправе считать, что все на свете неизбежно подчиняется закону Необходимости. Ты можешь уверенно, хоть и без гордыни полагать, что унаследовал одно из самых прекрасных приключений, когда-либо сваливавшихся на голову человека: твоя жизнь только начинается, но она уже стала величайшей суммой красоты, горя и сладострастия. Так неси же это бремя непреклонно и шагай вперед, ведомый собственным светом. Я никогда не брошу тебя, Эдуар, и мы вместе, поддерживая друг друга, отправимся навстречу нашей старости. А ты, Ролан, поскорее уезжай. Хотя осень меланхолична и дышит ущербом, она приберегла для нас еще не один ясный денек. Те, что остались до зимы, покажутся нам не столь тяжелыми без тебя, если ты оставишь нас перед наступлением холодов. Ступай и, если только хватит сил, не возвращайся.
СЫНОВНЯЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ
Книга Франсуа-Поля Алибера «Сын Лота» начинается настолько шаблонно, что хочется сразу ее закрыть: двое юношей занимаются любовью на морском берегу. Разумеется, они очень красивы, и лиричное, но вместе с тем выспреннее описание мгновенно увязает в образных клише, которые достойны худших современных гей-фильмов, даже если в начале 1930‑х годов это, вероятно, было весьма смело. Однако довольно слащавое вступление становится лишь прелюдией или поводом к поистине дестабилизирующему развитию романтического сюжета. Из сексуального и любовного общения молодых людей вскоре всплывает другая история. И хотя ее форма тоже подчиняется сугубо классическим правилам «исповеди» одного персонажа перед другим‚ ее содержание не перестает изумлять и даже тревожить наиболее искушенных и пресыщенных читателей, которые, начиная с романов Жана Жене и заканчивая книгами Эрве Гибера и Гийома Дюстана, получили немало возможностей ознакомиться со всеми аспектами того, что в недавнем прошлом считалось чистой воды порнографией (и на этом основании нередко осуждалось и запрещалось).
Алибер вовсе не был ниспровергателем. При жизни он прославился своей поэзией в классической и даже консервативной манере, пробуждающей, подобно стихам Морраса или Мореаса, отзвуки греко-латинской древности. К тому же этот культурный академизм соответствовал его реакционным политическим взглядам. Однако писатель, живший изолированно в небольшом городке Каркассон, вдали от парижской литературной среды с ее передовыми воззрениями, буквально преобразился после встречи с Андре Жидом в 1907 году. Не то чтобы это повлияло на его поэзию, которую Жид ценил очень высоко, но, возможно, поддержка маститого писателя придала Апиберу смелости и позволила выйти за общепринятые рамки, как до него сам Жид сделал это в «Имморалисте». Если, конечно, это любовь Алибера к античной культуре не вдохнула желание продолжить традицию, в которой можно говорить обо всем — ну, почти обо всем. Хотя, вероятнее всего, здесь сыграли свою роль оба фактора. В конце концов, разве Жид не прикрывался благородным прошлым Древней Греции для обоснования своих идей в «Коридоне»?
Так или иначе, наряду со сборниками стихов, когда-то сравнивавшихся с поэзией Валери, однако ныне прочно забытых, Алибер написал три эротических романа, лишь один из которых был опубликован. Именно Жид взялся издать его в 1930 году при посредничестве Ролана Сосье, в ту пору директора книжного магазина «Галлимар» на бульваре Распай. Роман «Мучения члена» стал прекрасной иллюстрированной книгой, напечатанной тиражом не менее сотни экземпляров. В подобных же обстоятельствах (книжные магазины, библиофилы, издания с ограниченным тиражом, продаваемые в узких кругах) в 1940‑х годах увидят свет первые книги Жене.
В самом деле, наряду с видимой лицевой стороной, всегда существует тайная изнанка литературы, даже если первая афиширует свое новаторство, которое и становится главным предметом толков. Есть поистине инфернальный «закрытый фонд», состоящий из сочинений, выносимый на читательский суд лишь с величайшими предосторожностями, если до этого вообще доходит дело, и распространяемых под таким секретом, что зачастую невозможно отыскать их следы даже в спецхранах крупнейших библиотек. Оскар Уайльд опубликовал скандальный «Портрет Дориана Грея», но «Телени», который ему порой приписывают и который, в любом случае, был сочинен кем-то из его окружения, распространялся лишь подпольно. Жид издал «Имморалиста», а затем «Фальшивомонетчиков» и «Если зерно не умрет», где зашел очень далеко — даже слишком далеко, с точки зрения современников. Однако он смог опубликовать первую эротическую книгу Алибера только тайно. Что же касается второго романа каркассонского поэта, «Терновый венец», весь ее тираж (около сотни экземпляров) был конфискован полицией во время облавы, так и не поступив в продажу.
Если одной из главных задач такого писателя, как Жид (или Пруст), являлось видоизменение того, что можно выразить посредством литературы, а его литературный проект заключался (как и у Пруста), по большей части, в попытке обновления европейского романа путем введения дотоле исключенных реалий, в частности, гомосексуальности, неудивительно, что в беседах Жида с близкими и его переписке неоднократно поднимается вопрос о границах и возможности их нарушения с целью последующего отодвигания. Например, в 1909 году, когда Жид читал первый вариант «Коридона» Руару и Алиберу, первый советовал ни в коем случае не публиковать его, тогда как второй призывал лишь действовать осторожно. Оставалась одна проблема, которой нельзя пренебречь: как отреагирует жена Жида и какая судьба постигнет их брак? Защитительная речь Жида выдержала два ограниченных издания без указания имени автора. Однако в 1920 году, когда Жид подумывал, не опубликовать ли книгу под своим именем, Алибер уговаривал не делать этого, волнуясь о возможных последствиях. Если распространение книги ограничено и она предназначена лишь для «некой среды», писал он, тогда не возникнет «никаких возражений». Но стоит ей выйти за пределы этой среды, и она «может навредить тому, что ты защищаешь, вместо того чтобы помочь». Ведь это грозит, предостерегал Алибер, привлечь внимание карательных органов к тем «нравам», что ныне «молчаливо допускаются».
Но в подобном чередовании мер предосторожности, колебаний и крутых поворотов функционирование в группе, в кружке — даже если их границы были подвижны и неопределенны — должно было также санкционировать любое соперничество и все виды нарушений. Как отмечает Франсуа Порше в своем значительном труде 1927 года «Любовь, не смеющая назвать свое имя», если Пруст и Жид предоставили гомосексуальности законное место в литературе, их произведения, полученный резонанс и вызванный скандал, несомненно, должны были произвести так называемый эффект санкционирования, или «воздушную тягу». Подобно творчеству Ницше в конце XIX века, Фрейда — в 1920–30‑х или Жене — в 1950‑х годах, книги Жида и Пруста посеяли немало семян литературной отваги.
В рамках этой статьи невозможно дать полное представление о влиянии Жида или хотя бы упомянуть всех тех французов и иностранцев, что вращались вокруг него либо им вдохновлялись. Ему писали и наносили визиты. Некоторые поклонники посвящали ему статьи и книги: Пьер Эрбар, Клаус Манн… Другие делали его персонажем своих романов, как например, Анри Геон в «Юноше», к сожалению, так и не увидевшем свет. Даже бунтарь Жене в 1933 году пришел к мэтру домой на улицу Вано!.. А через пару месяцев написал ему, чтобы попросить денег…
Алибер тоже посвятил своему знаменитому другу сочинение «Андре Жид: заметки на полях». В сущности, его эротические тексты можно также назвать заметками на полях произведений Жида, ведь на этих «полях» выросла целая литература, пытавшаяся раздвинуть границы того, о чем дозволено говорить.
Из авторов, пустившихся в такого рода авантюру, Алибер, вероятно, зашел дальше всего. B самом деле, о чем рассказывается в «Сыне Лота»? В чем признается юный герой романа своему любовнику, когда тот спрашивает, кто научил его сексу? В ответ звучит прекрасный и будоражащий рассказ, содержащий постыдное признание и взволнованно восхваляющий то, что почитается высшим запретом: в пятнадцать лет юноша провел целую неделю, занимаясь любовью со своим отцом. Причем, в самом буквальном смысле слова — нас посвящают во все подробности. Но речь идет в равной мере и о романтических отношениях.
Гораздо позже Жорж Батай посвятит кровосмесительной любви роман «Моя мать», опубликованный посмертно и служащий продолжением «Мадам Эдварды». Рассказчик повествует, как мать, напоив и толкнув его в объятия своей лучшей подруги, вовлекает сына в «разврат» и «непристойность». Батай настойчиво повторяет оба эти слова, словно стараясь жирно подчеркнуть «позорный» характер происходящего (например, тот факт, что мать любит женщин), ярче выявить «трансгрессивный» характер событий и постепенно подойти на последней странице к тому Апофеозу Зла, коим и является инцест, — хотя о нем-то, в конечном счете, так ничего и не будет сказано.
В то же время у Алибера отец и сын исполняют обоюдное желание, причем автор ни разу не обращается к высокопарным или бутафорским эффектам для инсценировки своей смелой идеи. Алиберу не нужно прибегать к полному списку смертных грехов: ясная манера письма вкупе с прекрасным классическим языком наделяют его роман той силой, которую не удается обрести тяжеловесной демонстрации Батая. Правда, у Алибера сексуальные отношения отца и сына длятся всего одну неделю, и впоследствии молодой человек затрудняется их пересказать. Но как только он все вспомнил и описал, они больше не воспринимаются негативно. K тому же отец, хоть и женатый, любит мужчин, что, конечно же, не подается Алибером как признак его «вырождения», между тем как весь текст Батая пропитан представлением о лесбиянстве, вытекающим из тривиальных сексистских фантазмов. На самом деле, Алибер (от лица своего персонажа) излагает странную теорию иерархии форм любви. Подобно многим гомосексуальным мужчинам, он утверждает, что любовь между мужчинами выше любви между мужчиной и женщиной. Во время этого возрожденного классического «диспута» античности и Ренессанса (чьи отголоски встречаются и в «Работе в черном» Маргерит Юрсенар) Алибер вовсе не стремится приводить изощренные доводы, как могли бы поступить его прославленные предшественники. Его персонаж только афиширует грубую мизогинию и поверхностное отвращение к женскому телу и половому органу. Пока что ничего оригинального. Однако затем это женоненавистничество смягчается метафизикой, основанной главным образом на связи между различными формами любви и внешними обоснованиями, в частности, продолжением рода (точная инверсия истории о Лоте и его дочерях, изложенная в прологе к роману). Превосходство гомосексуализма в том, говорит юноша своему собеседнику, что любовные отношения являются при нем самоцелью: «Любовь, подобная той, что соединяет нас с тобой, превосходит все другие виды любви хотя бы потому, что заключает в себе свое начало и свою конечную цель». И доводя эту мысль до логического завершения, еще выше ставит он отношения между отцом и сыном: «Я не говорю уж о той, что основывается на кровных узах, ведь она питается и обновляется нашим собственным семенем и костным мозгом, и ей никогда не грозит истощение».
Молодой человек приводит и другой аргумент, поднимая кровосмесительную любовь на высшее место в иерархии. В самом деле, рассказывая о том, что пережил вместе с отцом, он говорит о «разделенной страсти, которую простые смертные считают чудовищной и которая, несмотря на ее неясность, представлялась мне с тех пор самой возвышенной степенью интеллекта и любви, а следовательно, и добродетели, до какой способен подняться мужчина». Слова «с тех пор» подсказывают, что именно бремя общественного осуждения делает инцест самой прекрасной формой любви, а стало быть, добродетели. Для того чтобы жить так, как нельзя, как не дóлжно жить, следует быть весьма добродетельным. Здесь Алибер вновь присоединяется к наследию классической культуры: добродетель как синоним доблести.
Не будем придавать слишком большого значения этим «теориям» Алибера (или его персонажа). Они представляют относительную ценность, и напрасно искать в них железную логику. «Сын Лота» не претендует на звание морального трактата либо эротического руководства для молодых людей (или их отцов). Это литературный эксперимент — попытка продвинуться как можно дальше в исследовании фантазмов или скрытых реалий желания.
Действительно, эту книгу, скорее, можно воспринимать как антитеорию — профилактический заслон от психоанализа. Читал ли Алибер Фрейда? Вряд ли. Даже сам Жид, несмотря на свою интеллектуальную открытость, весьма настороженно относился к тому, кого называл «гениальным дураком». Но роман Алибера так явно и безоговорочно подыгрывает психоаналитическому толкованию, что нам остается лишь предположить, что он выполняет функцию ловушки, из которой мы в конце концов выбираемся. Альбер будто нарочно задумал посмеяться над психоаналитической Вульгатой, стремящейся объяснить гомосексуальность «инвертированным Эдиповым комплексом». В данном случае ребенок мужского пола мечтает переспать с отцом, а своей соперницей считает мать. Но для Алибера это само собой разумеется, так что нет нужды кропотливо копаться в тайнах бессознательного, облекая все эти псевдооткрытия в псевдонаучные понятия: если ребенка привлекает мужской орган, тело и мышцы, словом, маскулинность, то первый свой эротический взгляд он, так сказать, естественно направляет на личность отца и его случайно подсмотренную наготу. Значит, отцу достаточно уступить желаниям сына, для того чтобы произошло немыслимое событие (ведь Альбер настаивает, что никого к этому не принуждают: «не было ничего даже отдаленно напоминающего внезапное нападение либо насилие. Напротив: лишь обоюдное согласие, дорога, наполовину пройденная с той и другой стороны вплоть до финальной встречи».) Но это, конечно, подразумевает несомненное существование «детей-геев», заранее осознавших свои желания и мечтающих их утолить. Следовательно, гомосексуальное влечение не нужно объяснять, поскольку оно естественно. Причем естественно в такой степени, что идеально сбывается в самых непосредственных отношениях, какие способно предложить естество: между порождающим и порожденным. Таким образом, эта притча о кровосмесительной страсти, возможно, является лишь бесстрашным обходным маневром, призванным узаконить гомосексуальность, доведя до крайности попытку «Коридона», вызвавшего незадолго до этого всеобщее негодование. То был неслыханный, невероятно радикальный жест, на фоне которого меркнут исследования сексуальности у животных, проводившиеся Жидом, и его робкая фантазматическая греза о восстановлении в обществе педагогической педерастии, вдохновленной античностью, но, разумеется, лишенной всякой сексуальности.
Книга Алибера в очередной раз поднимает извечный вопрос: все ли разрешено в литературе? Как далеко мы вправе зайти? Ответ всегда исторически обусловлен: если вспомнить, что Флоберу и Бодлеру пришлось столкнуться с гневом правосудия, тогда как сегодня их изучают в школе, и что еще совсем недавно, в 1956 году, Жан-Жак Повер был осужден за публикацию Сада, которого сейчас спокойно можно прочесть в «Библиотеке Плеяды», мы видим, что границы, установленные правосудием и, шире, обществом, беспрестанно видоизменяются. Алибер принадлежит к числу тех, кто поставил перед собой задачу расширить область возможного — максимально раздвинуть рамки высказывания. Для него и таких, как он, это означало выход за пределы того, что допускалось эпохой, даже если приходилось жертвовать возможностью публикации. Но когда Эрве Гибер рассказывает в своем дневнике «Мавзолей любовников» о приснившейся сексуальной сцене между ним и его отцом[2]‚ полезно напомнить, что это идеально вписывается в ряд эротико-литературной преемственности, пусть даже не признаваемой, и что собственным правом писать свободно он во многом обязан своим предшественникам.
Примечания
1
Meta sudans (лат. «потеющий конус») — фонтан в Риме у амфитеатра Флавиев. Построен в виде конуса, на который сверху падала вода. — Прим. пер.
(обратно)2
«Мне хочется, чтобы он меня трахнул. Он подходит сзади и, проникая в меня, говорит: «Тот, кто подставляет зад, становится прóклятым». При этом он смеется, словно пытаясь меня возбудить». — Hervé Guibert, Le Mausolée des amants. Journal, 1975–1979, Paris, Gallimard, 2001, p. 150.
(обратно)


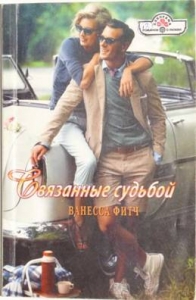




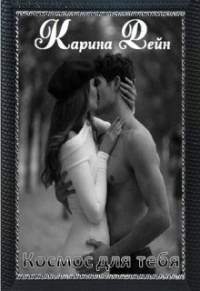
Комментарии к книге «Мучения члена», Франсуа-Поль Алибер
Всего 0 комментариев