Олег Руднев Долгая дорога в дюнах Кинороман
За телевизионный художественный фильм «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» авторам сценария Олегу Рудневу и Дмитрию Василиу, а также группе создателей фильма в 1983 году присуждена Государственная премия СССР
ГЛАВА 1
Море…
Сегодня оно несло к берегу мутно-прозрачные зыбкие горы. Кружило их, сталкивало и с грохотом обрушивало на мелководье. Широкие пенные языки с жадным шипением вылизывали отмель, подбирались к остову старого, изглоданного временем карбаса. В поселке уже никто не помнил, как и когда очутилась здесь эта дырявая посудина — брошенная за ветхостью или вынесенная невесть откуда шалой волной.
Печальный символ утлой рыбацкой судьбы.
Набухшие клочкастые облака нависли над землей так низко, что трудно было представить: где-то там, за ними, могут быть покой и солнце.
Зента сидела на сером холодном песке, бессильно привалившись к борту. Закутанная в черное, с выбившимися из-под платка прядями седых волос, она казалась старухой.
Увертываясь от ветра, к карбасу подошла Айна.
— На-ка, поешь, — протянула Зенте завернутую в полотенце миску.
Зента не шевельнулась.
— Господи! — с отчаянием выдохнула Айна. — Проглоти хоть кусок!
Но Зента не слышала. Айна заплакала, опустилась на песок рядом с подругой.
— Околеешь ты здесь… Кому от этого польза?
Так и не дождавшись ответа, отряхнула подол, сказала хмуро:
— Ладно. Мне доить пора. Миску, когда пойдешь, не забудь.
Она уже отошла на порядочное расстояние, когда Зента вдруг позвала каким-то странным, сдавленным голосом:
— Айна, смотри!.. — и медленно поднялась.
Женщина обернулась, вглядываясь в кипящий волнами простор.
— Господи!.. — и бросилась вверх по дюнам, к поселку. — Люди! На помощь! Люди!
В поселке ударил колокол. Из домов стали выбегать рыбаки, на ходу запахивая брезентовые куртки, нахлобучивая зюйдвестки. За ними тянулись на берег женщины, ребятишки. Столпившись на отмели возле карбаса, все они недоверчиво вглядывались в ревущее море. Кажется, там, за кромкой прибоя, и в самом деле что-то плясало на волнах. Но что? Обломок? Мачта? Человек, намертво вцепившийся в нее?
Андрис Калниньш — кряжистый, крепкий, с короткой бородкой на медно-красном лице задумчиво сунул в рот незажженную трубку. Если б хоть точно знать, что там — человек.
— Ну, что же вы? — гневно метнулась к рыбакам Зента. — Трусы! Ждете, пока его разобьет у берега? Это он, он! Я вижу! — Она подбежала к самому краю отмели, закричала, захлебываясь ветром: — Янка-а!
Черная стена воды выросла перед ней. Зента даже не успела испугаться. Калниньш выхватил ее из прибоя — мокрую, оглушенную.
— Иди к женщинам, Зента. — Он сунул трубку в карман. — Мы сейчас… — Кивнул рыбакам, и четверо самых дюжих мужиков поволокли с дюн лодку.
— Отец, гляди-ка! — Лаймон, плечистый парень с такой же, как у Калниньша, только еще мягкой бородкой, рывком сбросил с себя куртку — глаза его светились надеждой. — Вроде не зря стараемся.
— Цыц ты! — резко обернулся к нему Андрис. — Плюнь три раза.
— Всыпать бы тебе три раза, — добавил юркий, похожий на гнома Фрицис Спуре. — Знал бы тогда, как под руку каркать.
Но теперь и он ясно видел: волны подтаскивали свой загадочный груз все ближе. Конечно — мачта. И человек на ней. Похоже, даже рукой машет, зовет. Может, и кричит, да разве разберешь в таком грохоте?
— Раз, два! Навались! — рыбаки сунули лодку в приглубину за отбежавшей волной.
Но тут же встречный вал выбросил их на отмель. Чудовищной силы волна, вынырнув из свинцовой глубины, как щепку перевернула посудину, разметала бегущих людей. И выкинула, наконец, свой непонятный груз на берег: в песке, будто чудовище, корячилось огромное, вырванное где-то с корнями дерево. Мокро лоснился толстый, дочерна обглоданный морем ствол. С кривых, завитых в тугие узлы ветвей стекала вода. Издали их можно было принять за что угодно.
Калниньш молча сплюнул, повернулся и тяжело зашагал к дюнам. Рыбаки торопливо оттаскивали лодку — от греха подальше. Зента больше не упиралась. Послушно, безвольно, как больной ребенок, брела рядом с Айной. Торопилась уйти, чтобы не слышать этот злобный, торжествующий рев.
Ночью она лежала без сна, без дум. Так лежат покойники, которым забыли закрыть глаза. Неутихающий грохот шторма глухо доносился сквозь толстые бревна стен. От мерных ударов чуть заметно вздрагивало пламя свечи, оплывавшей в медном шандале.
Со стены, с фотографий, на нее смотрел Янис — молодой, чуть старше, чем теперь Артур. И так они похожи, отец и сын, — одно лицо. Рядом с мужем она — двадцатилетняя, в праздничном платье, со щекастым крепышом на руках.
Над берегом, по дюнам, на печальный звон колокола тянулась молчаливая цепочка людей, одетых в черное. Впереди шел священник. Лошадь с трудом тянула по песчаной дороге телегу с простым струганым гробом. И такими же простыми, будто вырубленными из дерева, казались лица людей — жителей рыбацкого поселка. Колокол, возвещавший о похоронах рыбака — море все же отдало свою жертву, — раскачивался на растрескавшейся от времени и ветров сосновой колоде у кладбищенских ворот. Однорукий печальный старик уныло дергал веревку.
Это маленькое сельское кладбище, приютившееся за дюнами, среди сосен, — последняя пристань рыбака. На аккуратных, заботливо убранных могилках, рядом с белыми крестами, можно было увидеть и маленький якорь — символ надежды и спасения в лучшем мире. Когда гроб опустили на песок у края свежевыкопанной могилы, пастор скорбным взглядом обвел прихожан и качал:
— Простимся, братие, с почившим в твердой и праведной вере рабом божием Янисом.
Опустив, головы, слушали пастора Андрис Калниньш и его сын Лаймон, Фрицис Спуре с дочкой Вирутой, рыжебородый Марцис, Друкис, Петерис с толстухой Эрной, другие односельчане. Арна, жена Калниньша, поддерживала под руку тихо плачущую Зенту — вдову погибшего.
— Возлюбленный брат наш, твой муж, Зента, — продолжал пастор, — Янис Банга — да упокоится душа его на небеси — был добрым христианином и добрым рыбаком… Вспомним же, что и любимейший ученик господа нашего, Иисуса Христа, апостол Петр был тоже рыбак. В опасных трудах неводом в пучине вод добывал свое пропитание… Вознесем же смиренную молитву нашу в великой надежде… Ибо каждого, почившего в твердой и праведной вере, господь, возлюбивший нас, приведет в царствие свое.
Пастор кивнул рыбакам, и они, подхватив концы длинных полотенец, начали опускать гроб в яму. Забилась в рыданиях 3ента, Айна крепче прижала ее к себе. Пастор подошел к краю могилы и, взяв горсть земли, произнес простые, как эта земля, и такие же вечные слова:
— Из праха восстал — в прах и отыдешь. Аминь!
С глухим стуком упала на гроб первая горсть земли. Потом и лопаты подхватили сырой песок.
Артур — в распахнутом форменном кителе, с зажатой в руке морской фуражкой — вбежал, запыхавшись, в ворота кладбища. И хотя он едва не опоздал, теперь невольно задержал шаг, медленно пошел к могиле. Встретившись с ним глазами, Зента только всхлипнула громче и спрятала лицо на груди сына. Так они и стояли — молча, неподвижно, пораженные жестокой правдой. Потом Артур осторожно отстранился и, нагнувшись, тоже взял горсть земли. Смутный шум моря и сосен баюкал грустную кладбищенскую тишину.
Свадебная фотография в полированной рамке — Янис Банга в подпирающем подбородок крахмальном воротничке, в галстуке, рядом с ним Зента в подвенечном платье, с миртовым венком. Этот трогательно-наивный снимок — непременная принадлежность любого рыбацкого дома — сейчас, на поминках, щемил сердце всем, кто пришел к Бангам. Во главе стола, где обычно сидел хозяин, стояли глиняная кружка, перевернутая тарелка и одинокая свеча.
Айна помогала Зенте хозяйничать. Они ставили на стол все новые миски е картошкой, рыбой, подливами, наполняли пивом кувшины. Но рыбаки к еде почти не прикасались. Молча сидели над кружками. В тягостную тишину глухо падали звуки — поскрипывание половиц под ногами, звяканье посуды, далекий собачий лай. Андрис Калниньш глянул на Артура, сидевшего рядом с пустым стулом отца, и сдавленно пробубнил:
— Ну, помянем твоего отца.
Рыбаки подняли кружки.
Аболтиньш, трактирщик, ввалился в комнату задом, разводя пухлыми локтями.
— Под низ, под низ подхватывай! — шептал он кому-то в сенях. Да нет, так не пройдет, на попа ставь, на попа!
Следом за Аболтиньшем в комнату протиснулись бочка и трое тащивших ее парней в форме айзсаргов[1]. Трактирщик обернулся, наконец, к сидящим, кивнул Лаймону:
— Помоги-ка!
Тот встал, помог парням взгромоздить тяжелую дубовую бочку на скамью. Аболтиньш подошел к Артуру, положил руку на его плечо:
— Крепись, парень, — и обернулся к Зенте: — Ты уж извини, Зента, на кладбище не успели, — он кивнул на одного из айзсаргов, — с сыном ездили за товаром в уезд.
Хозяйка засуетилась, подставляя пришедшим чистые приборы. К столу, рядом с Зигисом — щуплым отпрыском трактирщика, — присели и братья Петерсоны — Бруно и Волдис — сыновья лавочника из соседнего поселка. Оба крепкие, рослые, знающие себе цену парни. Аболтиньш постучал вилкой по кружке.
— Draugi! Я хочу сказать… — он оглянулся на сына и вдруг спросил: — Зигис, в чем дело? Для чего мы тащили свежее пиво?
Отпрыск бросился к бочке — тугая струя ударила в кувшин.
— Друзья! — повторил Аболтиньш, подняв пенящуюся кружку. — От нас ушел замечательный человек, наш друг Янис Банга… Такая уж доля рыбацкая. Сегодня он, завтра еще кто-то… Но Янка… Да что там говорить!.. Какой был рыбак! Какой дом поставил! Какого сына вырастил! Помянем его душу светлую.
Все молча выпили. Андрис, поднявшись из-за стола, угрюмо буркнул:
— Пойти покурить…
За ним поднялись Марцис, Лаймон, Фридис Спуре, другие рыбаки. Столпились во дворе возле опрокинутой лодки.
— Благодетель! На пиво расщедрился, — зло сплюнул Спуре, набивая трубку. — Рыбак трактирный.
К Улдису Аболтиньшу отношение в поселке было одинаковым: его не любили и боялись. Уж больно хищной оказалась эта рыбина для доверчивых и простодушных рыбаков. Рыжий, худой, угодливый, он каким-то непостижимым образом быстрее всех умудрялся оказаться там, где случалась беда. Одалживал, ссужал, перекупал, посредничал… Уже через полгода жизни на побережье — Аболтиньш обосновал здесь трактир в тридцать втором году — в поселке не осталось ни одного человека, не обласканного им. Даже Озолс, и тот частенько оказывался после выпивки в должниках у трактирщика.
Аболтиньш никогда не торопил клиентов. Он даже не любил, когда рыбаки расплачивались сразу. Что, мол, за мелочные счеты со своими — успеется. А потом Озолс не раз ловил себя на мысли, что не может вспомнить, сколько же в действительности выпил рюмок. Надо бы, конечно, заплатить сразу, тогда и голова не пухла бы от сомнений, но у кого хватит духу так сразу взять и расстаться с деньгами. Тем более, если тебя не торопят.
Труд у рыбака тяжелый, как волна в штормовую пору. Терпит рыбак, терпит, гнется на веслах, гнется, а потом как расправит плечи, как полыхнет жаркой удалью. Эх! И пойдет гулять.
Сколько выпито, сколько съедено один господь знает, да не скажет, Аболтиньш тем более.
Жена под стать мужу-трактирщику. Посоветовать, погадать, принять роды, дать зелье от простуды, сшить, раскроить, сварить, посолить, накоптить, высушить она тут как тут. Сын Зигис — вылитый отец. И всегда при родителе. Встретит, проводит, подаст, нальет, подогреет, остудит, улыбнется, музыку вкрутит… Радуйтесь, горемыки. А на утро… Черт его знает, как оно случилось. Ты уж, Улдис, не гневайся, обожди. Вот сходим в море… Да что вы, друзья, о чем разговор? Нам ли считаться? Идите с миром. Вот и все. До следующей попойки. Страшный человек Аболтиньш. Без него трудно, а с ним еще труднее. Протяни палец — всю руку отхватит.
Думая о своем, вздохнул Марцис:
— Эх, Янка, Явка, отчаянная башка! Ну кто его гнал одного в море?
Рыбаки покачали головами, толковали невесело: «Думал, ему вместо салаки золото в сети попрет», «Дом-то новый, денежку тянет», «Да-а… Туго им теперь придется. На одной страховке из долгов не выплывут». Молчавший до сих пор Калниньш выбил трубку:
— Надо бы им как-то помочь.
— Может, правление? — неуверенно подал голос кто-то из рыбаков.
Калниньш насмешливо прищурился:
— Держи карман шире. Скажи спасибо, если похороны оплатят. Помнишь, как было с Эриком? — Он замолчал, увидел вышедшего на крыльцо Артура.
— Что же вы тут? — глухо спросил тот. — Мать к столу просит.
Рыбаки пошли в дом. Калниньш на секунду задержался, положил ему руку на плечо:
— Я уж думал, отца без тебя похороним.
— В рейсе были.
— Ну а как дальше с твоим училищем будет?
Артур пожал плечами. Что он мог ответить? Неужели Калниньш не понимает, какое у него положение? Плата за учебу, кредит, взятый на постройку дома, долги по мелочам, долги покрупнее… А мать? Кто станет ее кормить, заботиться о ней?
Вспомнился отец. Неугомонный, отчаянный, никогда не терявший надежды неудачник-оптимист, он так и не смог смириться с нуждой, опутавшей их по рукам и ногам. Такой уж он был человек, отец: верил в свою планиду, рвал жилы, недоедал, недосыпал, а сняться с мели никак не мог. Видно, счастье ему попалось особое: вот-вот, казалось, забрезжил просвет на горизонте — дом новый поставил, лодку купил, сына определил на капитана учиться — и вдруг, на тебе, все прахом пошло. Начинай сначала, молодой хозяин.
Кто не сталкивался с рыбацким трудом, тому трудно представить жизнь на побережье. В стужу и зной, днем и ночью, в дождь и туман, с напарником и в одиночку, здоровый ты или больной, молодой или старый, паши и паши это проклятое море, таящее в своих глубинах самые неожиданные и коварные сюрпризы. До кровавых чертиков в глазах, до хруста костей, до треска лопающихся жил. Язык прилипает к гортани, сердце вот-вот готово вырваться из груди, а волна все бросает тебя вверх-вниз, вверх-вниз. Глотай соленый воздух и лови, черпай обессилевшими руками свое счастье. Сто раз забросишь, один раз поймаешь. Изо дня в день, из жизни в жизнь, от отца к сыну, от сына к внуку.
Земля у рыбака не в счет — так, самая малость — клочок у дома. Скота — и того меньше. Море — единственный кормилец. Оно давало жизнь, но оно же и отбирало силы, каплю за каплей. Ни на что другое их уже не оставалось. На доходы не разгуляешься. Рыба — товар нежный, скоропортящийся: вовремя не продал — считай пустую сеть вытащил. Скупщики, перекупщики — хитрый народец — прекрасно знали это и диктовали свою цену. Не нравится, поступай как знаешь. А куда денешься? Потащишь улов на рынок? Пробовали. Себе дороже получалось. Построить ледник, коптильню? Пороху не хватит. К тому же с утлыми лодчонками, рваными сетями да пустыми карманами далеко не уплывешь. Кто-то наживался, а кто-то, как был, так и оставался у разбитого корыта.
В середине тридцатых додумались, правда, до акционерного общества «Рыбак» с центральным правлением в Риге и местными отделениями по всему побережью. Организаторы на посулы не скупились. Они обязывались обеспечивать рыбаков кредитами, сетями, моторами, горючим, но, само собой, не безвозмездно: те, в свою очередь, должны были сдавать уловы только представителям общества. С этого времени многое вроде бы изменилось в поселке: появились моторные лодки, добротные сети, стали богаче уловы, не надо было ломать голову, как и куда сдать рыбу. Но нужда почему-то осталась прежней. Кредиты приходилось возвращать. Кое-кто залезал в такие долги, из которых выпутаться собственными силами уже был не в состоянии. И тогда оставалось одно: отрабатывать их своим горбом.
Впрочем, были на побережье и довольные. Управляющий отделением в поселке Якоб Озолс не мог пожаловаться на судьбу. Твердый оклад, регулярные добавки от прибылей за реализованный товар изо дня в день увеличивали его и без того завидное состояние. Однако здесь, пожалуй, следует рассказать кое-что поподробнее.
Всю жизнь Озолсы и Банги были соседями. Притом не просто соседями, а друзьями. В прежние времена их объединяло многое: и нужда, и общность взглядов, и страстная жажда разбогатеть. Даже внешне Якоб Озолс и Янис Банга были похожи. Их часто принимали за братьев и в этом не было ничего удивительного. Они всегда вместе рыбачили в море, вместе уходили зимой на озера, батрачили, слонялись по Риге, не гнушаясь никакой работой — лишь бы деньги платили. Никогда не считались между собой и готовы были отдать друг за друга душу. Впрочем, имелась у них одна несхожесть: Банга делал все весело, как бы играючи, с деньгами расставался легко и просто, Озолс, напротив, к работе относился с угрюмой сосредоточенностью, а заработанное тратил неохотно. В остальном же они действительно были как братья. Правда, до поры до времени — пока оба не влюбились в одну девушку. Ухаживали за ней честно, не подставляя друг другу ножку, не используя хитрых уловок и не применяя недозволенных приемов. Но что поделаешь — любовь есть любовь. И порождает она не только добрые чувства. Ей сопутствуют и зависть, и восторг, и ревность, и боль, надежда и отчаяние. Побеждает всегда один. По-другому еще никогда не получалось.
Так вышло и здесь. Зента, молодая красавица-рыбачка из соседнего поселка, постепенно стала отдавать предпочтение Банге. Это и дало первую, едва заметную трещину в их взаимоотношениях. Нет, внешне они по-прежнему оставались друзьями — верными и преданными. Подумаешь, предпочтение… Это дело такое, думалось Озолсу, сегодня повезло Янке, а завтра, глядишь, подфартит и мне. О том, чтобы отступиться, не могло быть и речи. Но тут случилось одно обстоятельство: Якоб потерял ногу. Произошло это глубокой осенью во время сильного урагана, налетевшего на побережье. Надо было спасать карбасы — их уже захлестывали волны, Озолс одним из первых, бросился в воду и, не задумываясь, подставил плечо, чтобы оттащить лодку к берегу. Однако, не сделав й двух шагов, не смог удержаться на ногах, поскользнулся. Налетевшая волна ударила в спину и завершила дело: Якоб упал, товарищи не сумели удержать карбас и он, рухнув всей тяжестью вниз, раздробил парню ногу.
Врачи были бессильны. Через полгода Озолс, осунувшийся и посеревший, с поблекшими от боли и отчаяния глазами, появился в поселке и, как немой укор, проковылял на костылях к своему дому. Он ни с кем не хотел общаться. Даже с лучшим другом Янкой обменялся несколькими скупыми, ничего не значащими словами. И надолго замкнулся в своем одиночестве и горе. Рыбаки решили помочь товарищу — сбросились, заказали протез в Риге. Якоб протез принял как должное, поблагодарил, но помрачнел после этого еще больше. Видно, воспринял поддержку как милостыню, брошенную несчастному калеке. Милостыню жалкую и унизительную. Деревяшкой, мол, откупились.
Настроение Якоба усугублялось еще и тем, что за время его отсутствия лучший друг Банга женился на Зенте. И хотя здравый смысл должен был бы подсказать, что ничего сверхъестественного не произошло — симпатии девушки так или иначе еще и до несчастья склонялись в пользу Янки, — Озолс без устали терзал свое воображение: это случилось, думал он, только потому, что Янка нечестно воспользовался его бедой. Теперь трещина между ними разошлась настолько, что перешагнуть через нее становилось все труднее и труднее. Встречались все реже. При этом, как правило, по необходимости или случайно. Озолс к Бангам не заходил. Ему было невмоготу видеть чужое семейное счастье, ловить на себе сочувствующие взгляды, выслушивать утешения. Он все больше ожесточался и замыкался. Мать Якоба, робкая, безответная старуха, — отца Озолса шесть лет назад задавило на лесоповале — обливалась горючими слезами, но ничем помочь сыну не могла. Якоб озлился на весь мир. Особенно на тех, кто находился рядом. Им он не прощал ни здоровья, ни успехов, ничего не прощал. Когда забывали о его существовании мало ли у людей своих забот и хлопот, — Якоб переполнялся желчью и обидой. Когда друзья вспоминали о нем и приходили на помощь или просто с добрым словом, Озолс раздражался еще пуще прежнего. Он не хотел принимать подачек, никому не верил, и продолжал страдать от своего бессилия и обездоленности. Даже слезы матери принимал не с теплой сыновней благодарностью, а с холодным недоверием. Ему всюду что-то мерещилось, в каждом слове он находил другой, скрытый смысл, а самое главное — ему становилось невмоготу ежедневно встречаться с Янкой и его молодой женой.
Потом Озолс неожиданно исчез. Ушел, чтобы никому не мозолить глаза и себе не надрывать душу. Он ни с кем не советовался, ни с кем не прощался. Даже дома не сказал, куда и зачем уходит. Потом мать стала получать от сына короткие, скупые записки, небольшие денежные переводы, но где он находится и чем занимается, Озолс не сообщал. Так длилось около двух лет. И вдруг он объявился в поселке. Даже один, а с молодой женой — тихой, болезненной на вид женщиной, примостившейся рядом с ним на добротной повозке, которую бойко тащила довольно приличная лошаденка. Сзади за телегой плелась корова. Появление блудного сына, да еще с женой, да к тому же на собственной лошади и с коровой, вызвало у рыбаков много толков и пересудов. Кто такая, откуда? Сам Озолс по этому поводу не распространялся. Зажил своим миром, с жадной ненасытностью набросился на работу. Поправил дом, прикупил земли, обзавелся лодкой. Сам в море — куда ему на деревяшке — не пошел, нанял двух работников. Рыбаки дивились: откуда что взялось? Кто-то пустил слух, что Якоб женился на деньгах. Как потом выяснилось, это было правдой. От людского глаза не скроешься.
В поисках пристанища судьба занесла молодого рыбака далеко от дома, на хутор к богатому хозяину. Здесь ему повезло — сказалась прирожденная способность парня к различным ремеслам: он неплохо шорничал, столярил, ловко управлялся в кузнице. Хозяин быстро смекнул, какую выгоду может принести новый работник, и уже через несколько дней они ударили по рукам. Сговорились на год. Для начала — на половинном жаловании. Хитрый хуторянин отлично понимал, что одноногому деваться некуда. Если б он тогда знал, во что обойдется ему собственная жадность!
Затаив в душе обиду, новый работник не без корысти присмотрел одну из трех хозяйских дочерей, Дзидру, — неприметную и хилую девушку, Она была настолько невзрачна, что отец, несмотря на солидное приданое, не надеялся выдать ее замуж. Озолс рассчитал точно: сестры помоложе и покрасивее могут и не клюнуть на работника-калеку. Да и отец, случись что, наверняка заартачится. А с этой… Чем черт не шутит — дело могло н выгореть.
Прицел оказался верным. Что предпринимал Якоб, какие говорил слова, как ухаживал — все это осталось скрытым от людских глаз. Никто ничего не замечал до той поры, пока «Золушка» сама не бросилась со слезами на глазах в ноги к отцу, и, заламывая от отчаяния руки, не объявила, что она на сносях. Озолс тоже был здесь. Он стоял поодаль, хмуро, из-подо лба наблюдая за происходящим. Вначале все шло именно так, как он и предполагал: хозяин без долгих колебаний выгнал вон неблагодарную дочь и коварного обольстителя. Выгнал, как вышвыривают нашкодившую собаку. Без жалости и без всяких средств к существованию. Молодая безутешно рыдала, Озолс загадочно усмехался. Он знал — должно пройти время. Знал и дождался. Разгневанный родитель постепенно успокоился, поразмыслил и пришел все-таки к выводу, что дело складывается не так уж и плохо: с помощью этого хромого кобеля можно и обузу с плеч сбросить, и на приданом сэкономить. Поартачившись для виду денек-другой, он сам разыскал негодников, отчитал для порядка, о чем-то переговорил с соблазнителем и, наконец, простил. Даже кое-что выделил для начала: лошадь, корову, немного денег. Но Якоб остался доволен и этим. Теперь можно было начать задуманное.
Словом, когда закончилась первая мировая война и Янка вернулся в поселок — Бангу призвали в девятьсот четырнадцатом и он, как говорится, оттрубил от звонка до звонка, — солдат не узнал бывшего друга. Озолс раздобрел, залоснился, его движения и речь стали неторопливо значительными, во взгляде заледенела сытая барская снисходительность. Ну что, мол, выкусили?
Работал он, правда, как одержимый. Не давал покоя ни себе ни близким. С толком использовал каждый сантим — здесь у него тоже прорезался особый талант — и вскоре стал самым солидным человеком в поселке. Теперь уже к нему потянулись за помощью. Яков не отказывал. Ссужал, одалживал, благодетельствовал… Конечно, не безвозмездно. Он как бы возвращал долги — со сладостным, мстительным упоением. Богатство Озолса росло, разбухало на глазах. Как по мановению волшебной палочки возникали новый дом, очередной надел земли, кусок леса, мельница, лодки… Теперь он давал работу, диктовал условия жизни в этом крохотном мирке на берегу Балтийского моря.
Жену Озолс не замечал настолько, что даже удивился, когда она, вдруг отчаянно вскрикнув, упала посреди двора прямо на землю. С чего бы это? Удивился и тут же забыл. О том, чтобы дать жене передышку, позволить отдохнуть или хотя бы поваляться лишний часок в постели, об этом не могло, быть и речи. От зари до зари, не покладая рук, не разгибая спины, не надеясь на участие или снисхождение, она работала, работала и работала. До тех пор, пока страшная боль не парализовала ее тело и волю. Кричала она недолго, словно боялась нарушить покой мужа, и родила девочку.
Озолс, узнав об этом, досадливо крякнул: судьба и здесь хлестнула по его самолюбию. Всего год назад Зента подарила Янке прекрасного мальчишку, наследника. Якоб равнодушно согласился назвать дочь Мартой и вновь забыл о существовании жены. На сей раз не надолго. Когда сообщили, что Дзидра умирает, его охватило не столько чувство жалости, сколько досады: нашла время, в самую страду.
Возвращаясь с кладбища, он вдруг поймал себя на мысли, что совсем не помнит, каким было лицо у жены, И тут же успокоился — нет так нет. Что уж теперь заниматься покойниками, когда своих дел невпроворот. Надо решать, кто присмотрит за ребенком, кто возьмет на себя хозяйство? Мать ослабела настолько, что уже не вставала с постели. Одному не под силу, а кому попало не доверишься. Была бы родня как родня… Неподалеку от Цесиса на собственном хуторе жила сестра Якоба с мужем и тремя детишками. Женщина алчная, властная — такую только подпусти к добру. Где-то существовали еще родственники. Но к ним у Озолса с годами выработалось особое отношение: не знал он их раньше, не хотел признавать и теперь. Это были мухи, готовые слететься ка сладкий пирог. Нет уж, лучше иметь дело с чужими людьми. И договориться проще, и расстаться, в случае чего, не так сложно. А что касается дела, так это зависит не от родственных чувств, а от самого человека, которого нанимаешь. Печется о хозяйском добре, не отлынивает от работы — милости просим, лодырничает, норовит урвать лишний кусок от чужого пирога скатертью дорога.
У Озолса с некоторых пор зрела одна мыслишка. На краю поселка, в маленьком, подслеповатом, скорее похожем на сарай домишке, жила молодая семья Петериса Зариньша — огромного меланхоличного мужика с вечно сонливым и придурковатым выражением лица. Это был самый бедный и самый неудачливый человек в поселке. Его давно не величали по фамилии, да он и сам ее, наверное, не очень-то и помнил — Петерис и Петерис. Зариньшу всегда доставалась самая черная работа, перепадали мизерные заработки и вообще его никто не принимал всерьез. У Петериса даже долгов не было, потому что ему не одалживали — все равно пропьет. Единственное, чем мог похвастать незадачливый рыбак, так это молодой женой. Как она ему досталась, эта развеселая вдовушка, для всех оставалось загадкой.
Эрна была предметом тайного вожделения многих, особенно — женатых мужиков на побережье. Ее имя произносилось с плутовской ухмылкой, всякое упоминание о ней доставляло бдительным женам немалые страдания. Стоило Эрне пройтись по поселку — двигалась она эдакой небрежной, слегка покачивающейся походкой, как бы давая возможность получше разглядеть и оценить ее прелести, — как лица женщин наливались болезненной зеленью, в глазах зажигался злой блеск, а губы кривились, словно их омочили в уксусе.
Вдова-солдатка не скрывала своих притязаний на семейное счастье. Действительно, зачем притворяться? Не имея средств к существованию, с больной старухой-матерью и пятилетним ребенком на руках, могла ли она на что-то рассчитывать? Сегодня еще заглядываются, а завтра? Что будет завтра, когда она постареет и подурнеет? Эрна со злым торжеством наблюдала, как суетились подле своих благоверных ее недавние подруги, какими взглядами провожали ее — лакомый для поселковых мужиков кусочек. Гордо вскинув голову, она проходила мимо, оставляя за собой тревожный след неудовлетворенных желаний и страхов. А по ночам плакала. Потому что ничего путного не намечалось — так, баловство одно. Рыбаки поначалу шли на приманку, заплывали в ее конуру, не скупились на посулы, но, добившись своего, тут же выныривали на поверхность и поспешно швартовались в привычной семейной гавани.
Попытал было судьбу и Озолс, но безуспешно. Тут уж сама вдова заартачилась: кому-кому, а одноногому мешку с деньгами она и вовсе не верила. Якоб был не на шутку озадачен и раздосадован. И хотя эта женщина, к его приятному удивлению, оказалась не такой ветреной, как о ней болтали в поселке, самолюбие Озолса все же было уязвлено: ему, да от ворот поворот?
Но именно в этот момент и случилось неожиданное: Эрна вышла замуж за Петериса, приютив его у себя в доме. Чего только ни плели досужие языки, каких только предположений ни высказывали. Но разгадки происшедшему не находили. В том числе и сам Петерис. Просто после очередной попойки Зариньш проснулся однажды рядом с Эрной у нее в постели, протер от изумления глаза, а спустя недолгое время узнал, что он — отец будущего ребенка. Может, кто другой и усомнился бы в этом, тем более, что Петерис ничего не помнил, но незадачливый любовник поверил. Он даже улыбнулся, что бывало с ним крайне редко. Вот, собственно, и все. А истинную правду мог рассказать только один человек — сама Эрна. Почувствовав, что она беременна — в последнее время к вдовушке похаживал Андрис Суна, рыбак из соседнего поселка, — и понимая, что у нее осталось только два пути: или веревку на шею, или затащить мертвецки пьяного Петериса к себе в постель, Эрна после долгих и мучительных колебаний остановилась на Зариньше. Никого другого околпачить все равно не удалось бы.
Озолс, узнав эту новость, так расстроился, что напился до беспамятства. У него было такое ощущение, будто его нагло обворовали. Однако, поразмыслив, он быстрей других сообразил, что свадьба эта не случайна и что у бабенки, по всей видимости, не было другого выхода. А если так, то дело могло принять весьма неожиданный и интересный для Якоба оборот. В голове завертелась назойливая, соблазнительная мыслишка. Но он решил не спешить, приглядеться.
Эрна родила. Родила как-то подозрительно скоро, и в поселке снова заговорили о странном замужестве. Выходило, что Петерис соблазнил свою будущую жену по крайней мере за два месяца до свадьбы. Этому никто не верил, потому что связь Эрны с Андрисом Суной в особом секрете не держалась. Поползли сплетни, одна другой чернее и ядовитей. Поселковые кумушки с нетерпением ждали, что сделает Петерис, А тот, как ни в чем не бывало, утром уходил в море, вечером возвращался домой, помогал жене по хозяйству, нянчил ребенка. Если подворачивалась возможность, напивался. В общем, вел себя так, будто ничего вокруг себя не видел и не слышал. Рыбаки глядели ему вслед и озадаченно пожимали плечами: то ли блаженный, то ли прикидывается. Так или иначе, сплетни постепенно поутихли, страсти улеглись. Эрна ходила по поселку кроткая, тихая, вся какая-то просветлевшая и умиротворенная.
К тому времени у Озолса как раз умерла жена, встал вопрос о хозяйке. Вернее, о человеке, который мог бы позаботиться и о нем самом, и о его добре, и о сильно сдавшей матери. Якоб прикинул: тут как нельзя лучше подходят Петерис и Эрна. Она молодая, работящая. Такую подкормить, приодеть, приласкать — Озолс не оставил своих прежних намерений — по гроб жизни будет привязана и благодарна. А Петерис не помеха. Якоба вполне устраивал этот медлительный битюг. Почаще его запрягать да побольше наваливать в телегу. И пользу принесет, и ни черта не заметит.
Вскоре молодожены обосновались в доме Озолса. Обязанности Петериса определились сразу: коровник, конюшня, мельница — словом все, что потяжелее и погрязнее. Что же касалось Эрны, то здесь не все было понятно. То ли кухарка, то ли экономка, то ли… В поселке уже судачили: Якоб, одним махом приобрел себе и батрачку, и любовницу. По общему мнению, должен был вот-вот разразиться скандал. Но убегало время, а ничего не происходило.
Напротив, все в этом странном треугольнике, казалось, были вполне довольны. Эрна на глазах захватывала в доме все большую власть, покрикивала на работников, а иногда и на самого хозяина, раздавалась в плечах и бедрах. Заплывал жирком и Озолс. Один Петерис, как и прежде, тащил свой воз. Тяжело, угрюмо, ни к чему не приглядываясь, ни во что не вмешиваясь. Единственное, что для него изменилось, так это то, что он мог теперь чаще прикладываться к рюмке. Днем работал, а вечером напивался. И хозяин этому не препятствовал, а даже способствовал. Все шло своим чередом. Именно так, как и предполагал Якоб. Размеренно, удобно, выгодно.
Мать умерла, Марта подрастала. Дочери Озолс почти не замечал. Копошится в доме какое-то существо, ну и пусть себе копошится. Одета, накормлена, чего еще? Марта росла тихой, замкнутой, малообщительной девочкой. Рано лишившись матери и почти не зная отцовской ласки, она чуть ли не с пеленок привыкла к самостоятельности, редко кого о чем-то просила, добросовестно и послушно помогала по хозяйству. Была неказиста: худенькая, бледненькая, с большими, вечно испуганными глазами. Какая-то вся нескладная и угловатая, она покорно склоняла голову, выслушивала замечания взрослых, никому не перечила. Озолс с жалостью и досадой поглядывал на дочь: справедливо, видать, говорится, что яблоко от яблони недалеко падает. Якоб с неприязнью вспоминал о своей покойной жене: вот уж наградила, так наградила.
Училась Марта хорошо, очень любила читать, но с детьми сходилась неохотно. Только в третьем классе подружилась с Бирутой Спуре, дочерью местного рыбака Фрициса. Впрочем, если говорить о привязанностях Марты, то, справедливости ради, следует заметить, что первый и настоящий друг у нее появился значительно раньше. Это был Артур, сын Яниса Банги. То ли потому, что соседи, то ли потому, что почти одногодки, то ли еще почему, но их всегда видели вместе. Они с одинаковым интересом строили на берегу песчаные крепости, лазали по деревьям, укладывали спать кукол и занимались вышивкой. Дивились поселковые женщины, крякали досадливо мужики: что за странный мальчишка, что за ненормальная девчонка?
Озолс поначалу не обращал внимания на их дружбу. Мало ли чем занимаются дети. Не хватало ему еще и этой ерунды. Но один маленький, казалось бы совсем незначительный случай заставил его насторожиться, посеял в душе смутную тревогу. Как-то невзначай, без всякой задней мысли он беззлобно пошутил над Артуром. Что-то вроде того, что у капитана два кармана, в одном пусто, в другом не густо — Артур сам в порыве откровенности признался соседу, что мечтает стать капитаном. Пошутил и удивился, как изменилось лицо дочери. Оно словно окаменело, в сузившихся глазах-щелочках вспыхнули недобрые огоньки. Ого! Вот ты, значит, какая! За внешней материнской безропотной покорностью скрывалась его, отцовская натура. Решив удостовериться в своем предположении, Якоб велел дочери не якшаться с соседским мальчишкой. Не потому, что и впрямь хотел прервать их дружбу — нет, ему просто хотелось проверить, исполнит ли Марта волю отца. Вышло, как он и предполагал: девочка не перечила, но сразу же после этого разговора убежала к своему дружку. Это и обрадовало Озолса, и огорчило. Он стал внимательней приглядывать за дочерью, постоянно открывая в ней что-то новое.
А потом случилось и вовсе невероятное: годам к двенадцати Марта на глазах удивленного поселка стала преображаться. Исчезли нескладность и угловатость, зарумянились щеки, неожиданной синью полыхнули глаза, набухли вишневой спелостью губы. Озолс дивился вместе со всеми. А потом стал проявлять к дочери непривычное внимание: запретил делать тяжелую работу, заново обставил, ее комнату, закупил нарядов.
Теперь он как бы восполнял недоданное. Но ответного расположения добиться не мог. Марта принимала подарки, благодарила, однако по-прежнему оставалась замкнутой и малообщительной. Озолс подъезжал по-всякому: и с лаской, и со строгостью, но Марта замыкалась еще больше. Отец встревожился не на шутку. То, чему он не придавал значения, теперь оборачивалось против него большой неприятностью. Дружба его дочери с соседским мальчишкой принимала все более недвусмысленный и угрожающий оборот.
Если бы Якоба спросили, чего он пуще всего боится, тот, пожалуй, и не ответил бы. Не хочет отдавать дочь за бедняка? Конечно, было бы куда лучше заполучить зятя посостоятельней. Но разве это главное? Руки да голова на плечах — вот что нужно. Якоб не мог сказать об Артуре ничего худого. Скромный, работящий, не дурак. Следовало бы добавить: красивый, но это качество для Озолса существенного значения не имело. Он всегда оценивал человека не по шевелюре, а по мозолям. Что же тогда не устраивало привередливого родителя?
Озолс ни за что не хотел признаться даже самому себе, что дело не в Артуре, а в нем самом, в его незажившей и мучительной ревности. Когда-то Янис Банга увел у него Зенту — Якоб упрямо считал, что его бывший друг поступил нечестно. Теперь сын того же Яниса Банги намеревался увести дочь. Нет уж, дудки! Только не это. Был момент, когда Озолсу показалось, что судьба сжалилась над ним: Артура, наконец, приняли в морское училище, о котором тот мечтал с пеленок. «Ну и слава богу, — облегченно вздохнул Якоб, — с глаз долой, из сердца вон. Глядишь, и одумается девка». Но каково же было его отчаяние, когда через год, закончив гимназию, Марта объявила, что хочет поступить в университет, уехать в Ригу. Боже, как всполошился отец! Отговаривал, доказывал, что это занятие вовсе не для девушки, но Марта стояла на своем. Пугал Якоба, конечно, не университет, а то, что дочь окажется с Артуром в одном городе. Попробовал приструнить девушку, намекнув на недостаток средств для большой учебы. Она спокойно возразила, что найдет в городе работу, сколотит необходимую сумму и все-таки будет учиться. Словом, никакие доводы и увещевания не помогли. Марта уехала в Ригу, поступила в университет. Отец с ненавистью поглядывал на соседское подворье: неужели придется еще и породниться?
Взаимоотношения Озолса и Банги складывались весьма своеобразно: после возвращения с войны Янке и в голову не приходило, что он когда-нибудь станет просить помощи у своего бывшего товарища — очень уж чужим предстал новый Якоб. Мстительный, алчный и завистливый. С худой славой и нечистой совестью. Он попытался было вызвать Озолса па откровенность, поговорить с ним по душам — как-никак друзья, хоть и бывшие. Куда там! Якоб так высокомерно посмотрел на него, словно плевком смазал. Больше к этому не возвращались. Да и вообще встречались и разговаривали все реже. Не было такой необходимости.
Трудно пришлось Янке на первых порах. Хозяйство, и без того немудреное, окончательно развалилось. Единственная коровенка, и та околела. Как ни старались отец с матерью и невесткой, нужда обкладывала их все сильнее и сильнее. Спасибо еще старшему брату Модрису. Наезжал из Латгалии, помогал. Да много ли оторвешь от себя, когда у самого пять ртов? А родители Зенты — у нее единственный брат уже долгие годы скитался где-то на чужбине, — были настолько немощны, что им самим требовалась забота.
Янка брался за любую работу, соглашался на самые кабальные условия, пытался и так и эдак поправить дело, но ничего путного не выходило. Особенно туго скрутило в тридцатые годы. Порой доходило до того, что в доме не оставалось крошки хлеба. Зента несколько раз намекала насчет Озолса, но муж делал вид, что не понимает. Тогда она рубанула прямо, без обиняков: мол, без помощи соседа не продержаться. Янка сверкнул на нее бешеными глазами и в сердцах выскочил из дома. Он все еще надеялся удержаться на поверхности. Но беда, как известно, не приходит одна: вначале отошли в мир иной родители Зенты — умерли они почти одновременно. Затем с разрывом в полгода Янка похоронил своего отца, а за ним и мать. Расходы, связанные с похоронами, окончательно подкосили рыбака. Когда он, весь почерневший от пережитого, не зная, куда деться от стыда и унижения, пришел к Озолсу — это произошло девять лет назад, — тот глазам своим не поверил. Кого-кого, а Яниса Бангу в роли просителя он никак не представлял. Видно, крепко допекло мужика.
Надо отдать должное Якобу — он не стал чваниться перед бывшим другом. Ему было довольно и того, что Банга сам пришел на поклон. Одолжил бедняку денег. Предложил было по старой дружбе без отдачи, но рыбак наотрез отказался. Не захотел Янка принять и льготных условий расчета: обычно Озолс забирал себе половину улова, здесь же соглашался и на треть. Этим он как бы ставил последнюю точку в их дальнейших взаимоотношениях. Рыбак убеждал себя, что вся эта затея надолго не затянется. Месячишко-другой поработает, вынырнет из пучины, а там…
Но судьбе было угодно распорядиться иначе. Безработица в городах в те кризисные годы становилась угрожающей. Тысячи крепких молодых людей не знали, к чему приложить силы, хватались за любое дело. Поток безработных устремился в деревню, в том числе и на побережье. Любой хозяин отныне, особенно весной, мог отбирать из этой толпы кого угодно и сколько угодно. И, разумеется, мог диктовать любые условия.
Янис Банга работал не покладая рук. Один, без напарника, в хорошую погоду и в ненастье. Он, казалось, и ночевал в лодке. Тем не менее заветная цель оставалась по-прежнему такой же далекой и недосягаемой, словно бы рыбак греб против сильного течения. То, что когда-то представлялось временным, постепенно растянулось на долгие мучительные годы. Было невыносимо сознавать собственную беспомощность. Все при тебе: и руки, и ноги, голова на месте, а сделать ничего не можешь. Будто опелёнутый ребенок. Хотя умом Банга, конечно, понимал, что с ним судьба обошлась еще более или менее милостиво — и крыша над головой есть, и кусок хлеба на столе. Зента умудрялась даже кое-что откладывать на черный день. И все равно на душе было мерзко. Особенно, когда пришлось поклониться Озолсу. Янка стыдился жены, конфузился соседей, даже перед маленьким сыном испытывал неловкость, А потом смирился. Вернее, не смирился, а заставил себя взглянуть на вещи иными глазами. Какого черта переживать? Разве он не собственным горбом зарабатывал себе на кусок хлеба? Не нравился Озолс? А не все ли равно, на кого шею гнуть? Не Озолс, так другой.
Потом организовалось акционерное общество «Рыбак». И хотя Якоб с самого начала стал бессменным управляющим его отделения в поселке, выглядело все это уже по-иному: более благопристойно и не так унизительно. Отныне Банга числился не батраком у хозяина, а равноправным членом-пайщиком кооператива. Таким же, как Озолс и другие. Работы добавилось, но заработки почти не изменились. Однако теперь Бангу волновали другие заботы: подрастал сын, смышленый и удачливый помощник: за что бы ни брался Артур — отец, вопреки запретам матери, таскал его в море с пяти лет, — у него все выходило толково и споро. Даже видавшие виды рыбаки удивленно покачивали головами — надо же уродиться такому! Банга втайне гордился сыном, хотя внешне сохранял обычную суровость. Он связывал с Артуром самые светлые свои надежды. Чем черт не шутит, глядишь, и выйдет в люди. Хочет стать моряком? Надо сделать все, чтобы он поднялся на капитанский мостик.
Тревожило другое: у них с Озолсом опять начинались какие-то странные и непонятные взаимоотношения. И виной этому теперь уже были не они сами, а их дети. Янка так же, как и Якоб, вначале не обращал внимания на привязанность Артура к Марте. Затем, не без помощи жены, присмотрелся внимательней и, к своему удивлению, обнаружил, что сын, действительно, неравнодушен к соседской девчонке. Это не вызвало столь болезненной, как у Озолса, реакции, хотя невольная мысль о возможном родстве неприятно кольнула душу. Только этого не хватало.
Трудно сказать, как сложились бы их отношения в дальнейшем, попридержи Озолс свое недовольство. Но Якоб был так раздосадован и обескуражен, что едва владел собой. При встречах говорил резко, отрывисто, на Артура старался или вовсе не смотреть, или награждал такими взглядами, от которых невольно пробирал озноб. Якоб даже не догадывался, каким союзником в этом деле был для него Янис Банга. Многое мог снести рыбак: холод и нужду, обиду и несправедливость, но простить пренебрежение к сыну… Он потребовал, чтобы Артур не приставал к девчонке и не морочил ей голову. Потребовал и обескураженно отступил: сын посуровел и замкнулся. Никакие угрозы не помогали. Напротив, невинная детская дружба у всех на глазах перерастала в настоящую любовь.
По поселку снова поползли слухи. Конечно, никто не верил, что Озолс когда-нибудь согласится выдать дочь за сына Яниса Банги — слишком глубокая расщелина пролегала между их домами. Но людям доставляло большое удовольствие наблюдать, как поведет себя их одноногий управляющий. Властный и всегда уверенный в себе, Якоб в этой истории предстал перед всеми обычным человеком — отцом, который не может справиться со строптивой дочерью.
На другом краю расщелины кипели не меньшие страсти. Там тоже не могли отвадить Артура от Марты. Призвали на помощь Калниньша — самого близкого и давнего друга семьи. Когда-то Янка и Андрис служили в одном полку, вместе кормили вшей на германском фронте, потом помогали русским большевикам устанавливать в Питере и Москве народную власть. В девятнадцатом вернулись в Латвию — устанавливать Советы, однако продержаться долго не сумели. С тех пор осели на побережье и жили между собой душа в душу, ожидая лучших перемен. Подружились жены, а сыновья — Артур с Лаймоном — росли точно братья.
Андрис Калниньш человек суровый, обстоятельный. Из тех, кто попусту слов на ветер не бросает. Сказал — сделает, пообещал — выполнит. Но и с другого спросит той же мерой, никому не побоится сказать правду. Его уважали и боялись. Уважали за доброту и честность, рассудительность и смелость, боялись меткого языка и прямоты. Даже те, кто были у власти и при силе, предпочитали без особой на то нужды не задевать своенравного рыбака. В отличие от Яниса Банги, который все же свыкался с обстоятельствами и наивно верил в посулы, Калниньш никогда попусту не обольщался. Он всегда точно знал, кто виноват в их бедах и с кем надо бороться. Терпеливо разъяснял, убеждал и отчаянно страдал от того, что люди не замечали и не понимали очевидных вещей. А если и понимали и даже соглашались с ним, то все равно больше, чем на разговоры, их не хватало. Чаще всего Андрис спорил с Янкой. Его бесило, что у Банги после девятнадцатого года будто хребет надломился — стал он каким-то покорным, пассивным, а в последнее время откровенно мечтал и поговаривал о личном благополучии. Видно, стремительный взлет Озолса не прошел бесследно мимо души бывшего дружка — вырубил-таки свою щербинку.
— Много ты наловишь в одиночку? — сердито допытывался Калниньш.
— Сколько ни наловлю, зато вся моя.
— Твоя? — взрывался приятель. — Или Озолса?
— Ну… лодка его. Сети тоже. Чего же ты хочешь?
— Я хочу, чтобы ты получал по справедливости. То, что заработал.
Янис не спорил, только грустно вздыхал:
— Так не бывает.
— А как же там? — задавал неизменный вопрос Андрис, кивая головой на восток.
— Так это же там, — невозмутимо парировал Янис. — А мы с тобой здесь.
И с Артуром Андрис начал решительный разговор в своей манере — прямо и откровенно:
— Понимаешь, сынок… Любовь, конечно, дело сугубо личное, и я бы ни за что не сунулся со своими советами, если бы не одно обстоятельство.
Артур, захваченный врасплох, густо покраснел, смущенно потупился. Одно дело, когда тебя по-свойски отчитывают мать с отцом, и совсем другое, когда с тобой говорят на равных, как мужчина с мужчиной. Калниньш продолжал:
— Уж больно отец у твоей зазнобы сволочной.
Молодого Бангу неприятно покоробило слово «зазноба», тем более, что в сочетании с ним Калниньш беспардонно припечатал «сволочной». Не поднимая глаз, парень спросил:
— А при чем тут ее отец?
— Отец? Да при том, что если Озолс когда-нибудь и согласится отдать за тебя Марту, так только в обмен на твою совесть. Такого же, как сам, сквалыгу из тебя сделает, понял?
— Почему же сквалыгу?
— Да потому, что другой ты ему не нужен.
— Так я же не на нем собираюсь жениться, — сгорая от стыда, через силу выдавил Артур.
— Э-э, парень, — криво усмехнулся Калниньш. — Не ты первый, не ты последний. Коготок увязнет, а там и всей птичке пропасть.
— У меня свой дом есть, — запальчиво вскинул голову Банга.
— Свой? Андрис сочувственно посмотрел на него: мол, глупыш ты глупыш. — Уж прости за откровенность, но с твоей наивностью только под венец и идти. Да вы же одинаковые и разные, пока собираете в лесу цветочки или домики из песка на берегу строите. А разбежитесь по домам, так у тебя вон треска с черным хлебом да мать в мозолях, а у нее — лососина да Эрна не знает, с какого бока подойти. Неужели Марта согласится променять свою сытую жизнь на твою бедняцкую любовь? Ну, может, на месяц-другой ее и хватит. А потом?
— Я буду работать.
— Вот именно, работать. С твоих доходов она быстренько сбежит обратно к отцу, или вы вдвоем на карачках поползете кланяться господину Озолсу, как твой отец когда-то. Голод — не тетка. А в нем и тот самый коготок спрятан.
Артур подавленно молчал. Калниньш сочувственно положил ему руку на плечо:
— Тут ведь дело какое, парень… Не случайно же говорят: сытый голодному не товарищ. От худого к хорошему идти проще, а вот наоборот…
— Значит, для того, чтобы… — Артур замялся, подыскивая подходящее слово, но так и не нашел. — …Мне тоже надо стать богатым?
— Во всяком случае, такой ты им, конечно, не нужен. Ни отцу, ни дочери.
— Вы не знаете Марту, — снова запальчиво выкрикнул Артур.
Калниньш снисходительно усмехнулся:
— Я знаю жизнь, сынок.
Молодой Банга долго молчал, о чем-то думал, затем произнес:
— Значит, я стану богатым.
Андрис огорченно посмотрел на парня — он и представить себе не мог, что Артур сделает такой неожиданный вывод из их разговора. Надо было заходить с другой стороны.
— Богатым, как Озолс? — спросил он внешне безучастно.
— Какая разница? Таким, не таким… Главное — богатым.
— Твой отец всю жизнь не разгибает спину…
— Я буду еще больше работать.
— Думаешь, дело только в этой?
— А в чем же еще? Кто не боится мозолей и у кого есть голова на плечах…
— Ты хочешь сказать, что у нас с твоим отцом не хватает ума и мы лодыри?
Артур смутился:
— Нет, зачем же… Но иначе не разбогатеешь.
Калниньш достал трубку, набил ее табаком, жадно затянулся. С едва заметной хитринкой посмотрел на парня:
— Скажи… Вот я взял у тебя взаймы десять латов. Сколько надо будет вернуть?
— Что значит, сколько? Сколько взяли, столько и вернете.
— Правильно. Это тебе. А как в таком случае поступают Озолс или Аболтиньш? Если бы они раздавали деньги без процентов, откуда их богатству взяться? Ну а ты так сможешь? Дальше: ты считаешь справедливым, что Озолс забирает себе половину улова?
— Но ведь он дает лодки… И снасти.
— А сколько он имеет с этой половины, ты никогда не вдумывался? Вы с отцом из моря не вылезаете, жизнью каждый день рискуете, а он сидит себе на берегу и набивает карманы. Неужели паршивая лодка и кусок дырявой сети весят столько же, сколько две ваши жизни?
— Не знаю.
— То-то. Ты бы мог жениться, как Озолс? Не на Дзидре, а на корове и лошади? Или Аболтиньша возьми. Неужели тебе хочется стать таким же?
— По-вашему, выходит, быть богатым и оставаться порядочным нельзя. Тогда почему все хотят разбогатеть?
— Эх, Артур. Посмотри на меня или своего отца. Что мы, глупее всяких там Озолсов и Аболтиньшей? Думаешь, мы не сумели бы добыть богатство, как они? Нет, дружище, сумели бы. Только совесть не позволяет. Как бы честно ни выглядел богач, какие бы ни совершал благодеяния, все равно в каждом грамме его золота есть капельки твоей и моей крови. Когда одному принадлежит все, а другому ничего, это значит, что один сгреб в свою кучу и твое, и мое.
Больше на эту тему Андрис Калниньш не заговаривал. Зато его сын Лаймон, внешностью и характером удивительно похожий на отца, не упускал случая вставить язвительную шпильку и пройтись по поводу влюбленных. Он тоже не терпел Озолса и, наверное, поэтому переносил свою неприязнь на Марту. Молодой Калниньш ни за что не признался бы даже самому себе, что для неприязни есть и другая причина: самая обычная, банальная ревность. Было невыносимо видеть, как эта тихоня с голубыми глазами все настойчивей уводила от него товарища. Даже намерение Артура поступить в мореходное училище Лаймон расценивал не иначе как следствие ненормальной любви друга. Просто-напросто Артур лезет вон из кожи, чтобы хоть таким путем — с помощью золотых нашивок — добиться благосклонности будущего тестя.
Чем больше проходило времени, чем быстрей взрослели Артур и Марта, тем сильней росла их взаимная привязанность. И хотя теперь они все реже показывались вдвоем на людях — пора детской беззаботности уходила безвозвратно, — значение и смысл новых, скупых встреч становились совсем иными.
Артур и Марта могли часами молча бродить по лесу, сидеть где-нибудь на заброшенной мельнице или на берегу моря у старого карбаса и не испытывать при этом ни малейшей скуки. Каждый раз, прибегая на свидание, Артур открывал в девушке что-то новое, доселе неизвестное и, конечно, всегда прекрасное. То же самое происходило и с Мартой. Они никогда не ссорились и не лгали друг другу. Впрочем, до поры до времени. Один эпизод темной тучкой проплывший по их безоблачным отношениям, заставил обоих кое о чем призадуматься. Это случилось как раз после разговора молодого Банги с Андрисом Калниньшем. Тогда Артур впервые пришел на встречу непривычно мрачный, и подавленный. Марта не стала приставать с расспросами, хотя чисто по-женски почувствовала неладное. Парень долго молчал, на слова девушки откликался неохотно и невпопад и, наконец, собравшись с духом, выпалил то, что не давало ему покоя:
— Вот жизнь… Один спины не разгибает, в лодке днюет и ночует, а ни черта, кроме мозолей, ее имеет. Другой сидит себе на берегу, поплевывает в воду и сундуки набивает.
Марта вспыхнула, посмотрела ему прямо в глаза:
— Ты имеешь в виду моего отца?
Артур смутился, промычал в ответ что-то невнятное. А девушка, гордо вскинув голову, сухо сказала:
— Не знаю. Сколько помню отца, всегда за работой. Затемно встает, затемно ложится. И вообще в нашем доме белоручек не было.
Марта говорила правду. Тем не менее Банга угрюмо спросил:
— Откуда же тогда берутся бедные?
Она упрямо поджала губы:
— Чужое считать проще.
Вот так. Не слукавил, значит, Андрис Калниньш. Только песок на берегу общий, а деньги врозь. К горлу комом подступили недоверие и обида. Нет, Артур и раньше кое о чем догадывался — не настолько он был наивным, чтобы не понимать разницы между ними, — но остро и откровенно он почувствовал это впервые после того вечера. Они, конечно, помирились и словно бы забыли о неприятном инциденте, но каждый сделал для себя вывод. Марта поняла, что впредь надо быть осторожней и не задевать его самолюбия; Артур… Засевшая в нем идея собственного богатства еще больше укрепилась — он уверял себя, что путь к руке любимой лежит для него через капитанский мостик.
Банга добился своего и поступил в училище. На это ушли почти все сбережения, но отец денег для сына не жалел. Янис верил, что затраты на учебу рано или поздно окупятся. А через год в Ригу, в университет, уехала и Марта.
Именно в это время Банга-старший затеял единственную и отчаянную авантюру в своей жизни. Он решил построить дом и купить новую лодку. Трудно сказать, что побудило рыбака на этот крайне необдуманный поступок. То ли отчаяние от несбывшихся надежд, то ли фанатичная вера в успехи сына, то ли задетое самолюбие — в последнее время, в поселке только и судачили о Янисе и Якобе, вернее об их детях. Во всяком случае, рыбак решил одним махом выбиться в люди и закрепиться на поверхности. Он попросил у акционерного общества кредит. Там поскрипели, поскрипели — запрошенная сумма была велика — но просьбу все же удовлетворили: отказывать такому рыбаку, как Янис Банга, было неблагоразумно. Тем более, что общество ничем не рисковало. Всегда, в случае чего, можно было через суд потребовать возмещения убытков. Не погнушался Янис призанять денег даже у Озолса.
И вот когда, казалось, все пошло, наконец, нужным курсом: поставил дом, купил лодку, не сегодня-завтра сын станет капитаном, судьба преподнесла рыбаку свой последний, безжалостный сюрприз.
Артур едва успел на похороны.
…Калниньш спрашивает, что Артур будет делать с мореходным училищем. Неужели дяде Андрису не ясно — оно пошло ко дну вместе с отцом.
ГЛАВА 2
Озолс вернулся в воскресенье. В добротной коляске, запряженной рослой кобылой, которой правил Петерис, не спеша катил по поселку, слегка касаясь ладонью полей шляпы в ответ на почтительные приветствия. На улице было по-праздничному людно, и тем торжественнее выглядел его приезд. Крупный, гладкий, с мужицки простым, но холеным лицом, он восседал в своей коляске, гордо выпрямившись. Густые, кустистые брови придавали ему выражение властное и значительное. Что ж, полагал хозяин коляски, у него были все основания рассчитывать на особое уважение и признательность. Сам он уже давно позабыл, когда просил в последний раз взаймы. Как сейчас, пожалуй, ни за что не припомнил бы, кому он в поселке чего-нибудь не одалживал. Разумеется, не в ущерб своему добру, но все-таки… А с тех пор как стал председателем поселкового правления общества «Рыбак», власть и вес Якоба поднялись на недосягаемую высоту.
Аболтиньш, трактирщик, еще издали заметил коляску и как был в переднике, так и выскочил на крыльцо.
— С приездом, господин Озолс! Наконец-то вы дома. Как съездилось? Что нового в Риге?
Якоб небрежно махнул рукой:
— А-а! Сумасшедший дом. Шум и толкотня. А тут… Как с поезда сошел, будто в рай попал.
— Не желаете ли стаканчик с дороги?
При слове «стаканчик» Петерис жадно сглотнул, с надеждой посмотрел на хозяина. Тот понимающе усмехнулся, проговорил полушутя, полусерьезно:
— Стаканчик да рюмочка доведут до сумочки.
Я понимаю, в Риге у господина Штейнберга наклеечки поаппетитнее, — уязвленно проговорил трактирщик.
— Катился бы он в свою Германию, господин Штейнберг. Вот полюбуйтесь, самое свежее, — Озолс протянул Аболтиньшу газету.
Тот развернул сложенный по размеру кармана лист, негромко прочел:
— Вчера по приглашению министра иностранных дел Латвии господина Мунтерса город Лиепаю с дружественным визитом посетила немецкая военная эскадра. Как заявил на пресс-конференции командующий эскадрой адмирал Бернгард…
Глаза Озолса полыхнули гневом.
— Три дня назад потопили наш пароход с лесом, а теперь хватает наглости…
— Но ведь Гитлер всюду заявляет, что он наш друг.
— Он и Литве друг. А как ловко у нее Клайпеду отхватил? Я уж не говорю об Австрии, о Чехословакии. Тут не нахальством, чем-то похуже пахнет.
— Неужели вы думаете?..
— Не знаю. Умные люди на всякий случай запасают кое-что. Сахар, крупу, спички…
— Не дай, господи, — у меня в доме парень подрос.
Озолс молча достал пачку «Трафф», угостил Аболтиньша.
— А как у дочки успехи? — с удовольствием затягиваясь папироской, полюбопытствовал тот. — Поди, лучшая студентка в университете?
— Ну, может, и не лучшая… Вообще-то молодцом!
— Дай вам бог… А у нас в поселке несчастье.
— Знаю. Петерис рассказал.
Аболтиньш с беспокойством посмотрел в сторону церкви, что была неподалеку; из нее выходили прихожане. Усмехнулся:
— Старые грехи отмолили, сейчас ко мне за новыми придут.
— Хозяин, может, и нам заглянуть в храм божий? — не выдержал Петерис.
Озолс осклабился:
— У тебя что, грехов много?
— У меня?!
— Давай трогай, святой! Тебя жена ждет.
— Кого?! Меня?! — Глаза у кучера потемнели, злая судорога пробежала по лицу. Он так яростно хлестнул лошадь, что Озолс едва не вывалился из коляски. В поселке уже давно было известно, что если Эрна кого-то н ждет, то только не своего Петериса.
Артур сидел на кухне, чинил сеть.
— Поешь! — Мать поставила рядом кружку с молоком, придвинула кусок хлеба, намазанный медом. Банга отложил моток, взял кружку, задумался. Луч солнца, падавший из окна, зажег радужный узор на фаянсе. Эту кружку Артур помнил с детства: та самая, что стояла потом на поминках перед пустым стулом. Как все-таки странно и жестоко устроена жизнь: еще вчера все было по-иному — был отец, была надежда… Артур чуть не застонал от боли. Мать, словно бы прочитав его мысли, отвернулась, пошла к плите. И остановилась на полпути, увидев входившего Озолса.
— Бог в помощь, Зента! Прими мои соболезнования.
Она опустила голову, заплакала.
— Господь дает, господь забирает, — скорбно продолжал Озолс. — Хороший был у тебя муж, по такому не грех и поплакать. И отец был хороший. — Он заметил Артура.
— Проходи, Якоб.
Озолс заковылял в комнату, волоча непослушный протез. Сейчас — не на людях, не в коляске — он не казался таким бравым. Инвалид, сутуловатый, оплывший, он грузно опустился на стул подле стола, положил на скатерть руки, большие и натруженные, сумрачно огляделся. Негромко спросил:
— Слышал, ты дом продаешь.
Зента потупилась. Ее пальцы нервно теребили передник.
— Что поделаешь, Якоб… Долги… — хотела еще что-то добавить, но в дверном проеме показался Артур.
— Погоди, мать, — хрипло проговорил он. — Насчет отцова долга не беспокойтесь, за нами не пропадет.
Озолс предостерегающе поднял руку:
— Постой, сынок, не горячись. Скажи, Зента, сколько у вас осталось невыплаченной ссуды за дом?
— Около семисот латов. И тебе триста. Вот и получается…
Ну, между собой мы пока считаться не будем… А ссуда… Неважно у меня, правда, с наличными, да ничего… Ссуду вашу я погашу. С банком лучше не тянуть. Проценты…
До Зенты трудно доходил смысл его слов.
— Как, ты сам… наши долги?
— А ты что думала? Пришел рубашку последнюю с вас снимать? Мы же люди… Всю жизнь прожили рядом. Янка, почитай, братом был мне…
— За доброту вашу спасибо. Но мы так не можем, — самолюбиво перебил его Артур.
Озолс опять предостерегающе поднял руку:
— Я не милостыню вам предлагаю. Заработаешь — отдашь. Промысловый участок отцовский правление тебе оставит. Может, еще и прибавим немного.
— А ловить на чем?
— Лодку пока возьмешь у меня. Моторная, пятнадцатисильная. К тебе любой напарником пойдет. А зимой на озера, за карпом. Он теперь в хорошей цене. Я думаю, если каждый третий улов мой — не так уж много получится. Глядишь, постепенно и отдашь отцовский долг. Ну что, по рукам?
Артур в нерешительности помялся, но упираться не стал:
— Согласен.
— Выбирай, что лучше — расписка или вексель?
— Вексель.
Утром вдоль всего берега шла работа — рыбаки волокли к морю карбасы, загружали снасти, готовились к путине. Озолс, с погасшей трубкой в зубах, приглядывал за своей артелью. Мимо него то и дело пробегали люди — кто с веслами, кто со связкой балберов — поплавков.
— Невод куда грузить? — согнувшись под тяжестью сложенной сети, остановился рядом с ним Артур.
— Во-он в тот карбас, к Фрицису, — Озолс неодобрительно посмотрел на парня: Чего один надрываешься? Помочь некому?
— Да мне — раз плюнуть! — молодецки крякнул Банга и, стараясь держаться прямо, пошел к лодкам.
— Заботу показываешь? — желчно бросил подошедший Калниньш. — Теперь можно — вексель-то выхватил!
Озолс обернулся, раздраженно бросил:
— Все ты мечешься, как ужаленный. Суешься в каждую дырку… Нехорошо.
— Нехорошо? — сузил глаза Калниньш. — А людей одурачивать, с голого последнюю рубаху снимать — хорошо?
— Послал бы я тебя… Надоело, понимаешь? Давай хоть раз потолкуем по-человечески.
— С тобой толковать!..
— Нет уж — давай! — Озолс ухватил Калниньша за рукав. — Сядь-ка. — Первым опустился на борт дырявого карбаса, достал портсигар — там было пусто. Калниньш, не глядя, протянул свои папиросы. Задымили.
— Ты вот векселем меня попрекнул, — пыхнул дымком Озолс. — А я, между прочим, его не тянул, они сами…
— Ясно — сами, — перебил Калниньш. — Ты знал, на какую наживку ловить. Как же — гордые, честные…
— Правильно, честные. А ты хотел, чтобы сын отцов долг замотал? С обмана жизнь свою начал?
— Да какой долг? Какой? Янка на тебя девять лет горбатился. Да он втрое свой долг отработал. — Калниньш уперся в Озолса требовательным взглядом.
— Ну, знаешь, так рассуждать… Может, по-твоему, еще я ему должен? Они не то что вексель — дом хотели продать, чтобы рассчитаться. Другой — тот же Аболтиньш, к примеру, — стал бы церемониться? Ну-ка, скажи?
Калниньш промолчал.
— То-то! А я и парня к делу пристроил, и кусок хлеба в руки дал. Да еще с банком за них рассчитался, Мало?
— Благодетель… Из отца душу мотал, теперь на сыне покатаешься.
— Да что ты все к той бумажке цепляешься? Бумажка, бумажка… Может, я про нее и вовсе забуду.
— Ты-то? — Калниньш скривился в злой усмешке. — Пожалуй, забудешь.
— А тебе хотелось, чтобы у меня память к вовсе отшибло? — тихо, с придыханием спросил Озолс. — Ну а мои долги кто вернет?! Вот эту самую… — Он зло хлопнул себя по протезу. Много мне потом помогли? На чурбак этот скинулись? Так-то, сосед, — чужое легко считать. А как оно досталось — слезами ли, кровью… А! — Озолс махнул рукой и заковылял по песку.
Лодки, одна за другой, отходили от берега. Море, по-утреннему тихое, стелилось зеркальной гладью. Далеко над заливом разносились веселые, зычные голоса рыбаков — те перекликались, перекидывались нехитрыми шуточками:
— Эй, Друкис, невод забыл!
— Где?
— У бабы под кроватью. Греби обратно, а то, глядишь, кто другой утащит, — дружно орали с соседней посудины.
Артур заметно нервничал: то схватится за плицу[2], то слани[3] поправит…
— Что ты мечешься, как Аболтиньш по трактиру? — не выдержал сидевший на руле Фрицис Спуре.
— Я? — вспыхнул Артур. — Так я же… это…
— Он же… это… — передразнил Лаймон. — Службу показывает. Думает, Озолс зятька будущего с берега увидит.
— Помолчи, Лаймон, — оборвал Фрицис. — А ты, сынок, спину-то побереги. Хоть она у тебя, видать, крепкая, да не таких здесь обламывали. Работаешь — и работай!
Артур поймал насмешливый взгляд Лаймона, недовольно насупился.
Летним солнечным днем по дороге, обсаженной высокими вязами, катила добротная озолсова коляска. Она только что отъехала от станции — паровозный свисток и шум отходящего поезда ненадолго заглушил цокот копыт. В повозке, среди груды коробок и лакированных чемоданов сидела девушка. В свои девятнадцать Марта Озола была удивительно хороша и, что случается нечасто, почти лишена кокетства. Но именно эта серьезность и придавала облику девушки особую, благородную прелесть. Серый, элегантно простой английский дорожный костюм очень шел ей.
— А пруд? За мельницей, где ивы? — расспрашивала она Петериса. — Не построили еще там новую купальню?
— За мельницей? — задумчиво переспросил возница. — Туда как раз на прошлую пасху мельник свалился. От Круминьшей шел.
— Утонул?
— Как же, утонет! Теща с женой откачали. А он, как очнулся, — таких фонарей им навешал. Неделю синяки мукой присыпали.
Марта, отвыкшая от грубых деревенских нравов, только пожала плечами. Но, помолчав секунду, снова спросила:
— Петерис, а где сейчас танцуют? Как и раньше, у Аболтиньша?
— Во-во, там его шурин после и подстерег, в трактире. И, значит, бутылкой… По башке.
— Кого?
— Да мельника же! За сестру, значит. Все так и ахнули — бутылка вдребезги, а башка хоть бы что. Только шишка вскочила.
— Какой ты странный, Петерис, — городишь всякую чепуху.
Впрочем, будь она повнимательней, ход рассуждений кучера не так удивил бы ее — время от времени Петерис доставал из-за пазухи фляжку и понемногу прикладывался.
— А как Бирута? Замуж еще не вышла за Лаймона?
— Бирута? Это Фрицисова дочка, что ли? — Зариньш захихикал. — Тут, я вам доложу, барышня, такая история вышла. У них — аккурат, под рождество — свинья опоросилась. Заходят, значит, в сараюшку, а там…
Финал истории со свиньей остался неизвестным. Лошадь вдруг шарахнулась — мимо них, громко сигналя, промчался ярко-красный автомобиль с откинутым верхом. Водитель, молодой человек в спортивном кепи, мельком взглянул на Марту и, не то извиняясь, не то приветствуя, слегка наклонил голову. На его продолговатом, с тонкими чертами лице аристократа, резко выделялись хищный нос и сочные, чувственные губы.
— Кто это? — спросила Марта, удивленно разглядывая удаляющийся автомобиль.
Петерис, раздраженно шваркнув вожжами по крупу лошади, ответил почти трезвым голосом:
— Катаются. А чего не кататься, когда денег куры не клюют? Лосберг это, молодой. Приехал давеча из Германии.
— Они по-прежнему на своей даче?
— А где же еще?..
К ее приезду пеклись пироги. Ядреная краснощекая кухарка ловко таскала их из духовки, месила тесто для новых. Озолс, приодетый, толкался на кухне, поглядывая на прислугу.
— Ох, Эрна, гляди, прогонит тебя Петерис, такую растяпу, — шутливо попрекнул он за упавшее на пол яйцо. — Дома, поди, яички-то бережешь. Мужнее добро…
— Мужнее… — Кухарка брала яйца из огромной корзины, небрежно разбивала их в тесто. — На мужнем разживешься…
— Однако разжилась. Или не на одном мужнем? Свет-то не без добрых людей? — Якоб следил, как Эрна сажала пироги в духовку и, нагнувшись, белела толстыми икрами.
— А тебе жалко, что разжилась? Говорят, мужики сдобных-то лучше уважают.
— У тебя уж не сдоба… — прищурился Озолс, алчно созерцая мощную корму. — Целый каравай!
— Озорник ты… — Эрна кокетливо одернула юбку. — Седина-то, говорят, в бороду…
Лицо Озолса вдруг изменилось — будто и не лоснилось только что похотливо. Словно душа — любящая, тревожная — проглянула сквозь щелки глаз.
— Марта, доченька… — бросился он из кухни, впопыхах опрокинув корзину с яйцами.
— Ну и ну! Яичком попрекнул, — сокрушалась кухарка над глазуньей, расплывшейся на полу.
Весело возвращалась артель с удачного лова. Карбасы чуть не доверху серебрились трепещущей рыбой.
— Давай, Друкис, жми, пока Аболтиньш замок не повесил.
— Не повесит. Он свое за пять верст чует, — Марцис подкинул на ладони увесистую рыбину.
— Артур, что притих? С новенького, учти, двойной спрос.
— Тоже мне — гуляка. Да он сроду в трактире не был. Все за книжками. Капитан!
— Нашел, чем попрекнуть, — обрезал Марциса Спуре. — Сам-то хоть расписаться умеешь?
Артур хотел было ответить насмешнику, но вдруг замер, глядя на берег: там мимо развешенных сетей — он узнал ее сразу — медленно шла Марта. С детства ей помнился их терпкий запах — отдавало водорослями, морем, рыбой. Ветер раскачивал сети, теребил застрявшие в ячейках травинки. Она остановилась на краешке песчаной косы, с ожиданием глядя в море.
Карбасы один за другим подходили к берегу. Над ними с пронзительными криками сновали чайки. Не утерпев, Артур выскочил из лодки — благо, сапоги чуть не до пояса — и в тучах брызг бросился по мелководью к берегу. Она — навстречу. Остановились, не добежав шага. Короткие, кажущиеся незначительными, фразы обрубало волнение.
— Марта! Ты когда приехала?
— Утром еще. Не ждал?
Он не ответил, только радостно смотрел девушке в глаза.
— А я давно здесь жду… Была у твоей мамы… Я же ничего не знала…
Артур молча опустил голову. Она осторожно взяла его большую, твердую ладонь, еле заметно сжала. Почувствовав нежное тепло ее пальцев, парень словно оттаял.
— Надолго?
— Думаю, на все лето.
С лодок уже сгружали рыбу. Огромными деревянными совками черпали живую, шевелящуюся массу, ссыпали в плетеные двуручные корзины. Женщины грузили их на стоящую прямо в воде телегу. И над всем этим — над карбасами, над лошадью, над людьми — белой тучей носились чайки, выхватывая рыбу чуть ли не из рук. Кто-то не выдержал, укорил парня:
— Артур, лодырь чертов! Хоть бы подсобил.
— Оставь. Все равно не слышит, — усмехнулся Калниньш.
— Очумел, что ли?
— Они оба очумели. С пеленок еще.
Озолс все слышал и видел. Он недовольно поморщился, шагнул к молодым людям.
— Слушай, там Марцис карбас разгружает. Один.
— Да, иду, — виновато ответил Артур и заспешил к лодке, на ходу еще раз обернувшись к Марте.
Якоб посмотрел на босые ноги дочери, брошенные на песок туфли, покачал головой:
— Море еще холодное, дочка. И песок тоже.
Марта не ответила. Подняла туфли, пошла. А отец заковылял навстречу телеге. Достав из корзины мелкую рыбешку, швырнул ее обратно:
— Где такой мелочи набрали? Учти, по двадцать сантимов — дороже не протолкну.
— Вчера по тридцать за ящик давали, — рассердился Калниньш.
— Цены устанавливает Рига. Центральное правление. Я ими не командую.
— Ты нам зубы не заговаривай. Центральное правление… Знаем мы твое правление. Дай вам волю…
— Ну что ты за человек, Калниньш? Да кому нужна эта дохлятина? Рынок переполнен. Скажи спасибо, если на рыбзавод протолкнуть удастся.
Калниньш от неожиданности остановился, смерил Озолса ненавидящим взглядом:
— Мы тебе такое спасибо скажем… Ты у нас еще допрыгаешься… Пригрелся на берегу ни холодно, ни мокро.
— А ты забыл, почему я на берегу?
— Пошел-ка ты…
— Нет, ты все-таки ответь.
— Да пошел же, я тебе говорю! — Калниньш настолько недвусмысленно замахнулся, что Якоб невольно отступил в сторону.
— Будь ты проклят! — в сердцах проговорил он и торопливо заковылял к складу, подле которого стоял грузовик с надписью на борту «Акц. об-во «Рыбак»». С него сгружали пустые ящики, кто-то возился с весами.
Стройный корвет, сверкающий белизной парусов, казалось, парил над волнами. Артур задумчиво, с грустью смотрел на маленький кораблик. Рядом стояло еще несколько моделей — его скромная коллекция. Полка с книгами по навигации, старинный секстант, морская карта — атрибуты несбывшейся мечты. Он поправил на модели бизань, снял с вешалки свой форменный китель, смахнул с него пылинку и, надев фуражку, шагнул было к выходу. Но в этот момент в комнату вошел Лаймон.
— Хорошо, что застал тебя дома. Пошли!
— Куда?
— Наши собираются, разговор есть. Как ты считаешь — это честная торговля, если у нас салаку берут по двадцать сантимов за ящик, а продают, знаешь, за сколько? Почему Озолс на это закрывает глаза?
— А что он может сделать? — пожал плечами Артур. — Цены устанавливает центральное правление.
— Тогда зачем мы его выбирали, если он ничего не может? Или не хочет? Держится за свое местечко, с Ригой ссориться не желает. Значит, своя выгода есть.
— Не знаю.
— Вот и я не знаю. Никто его фокусов не может понять. Об этом и разговор. Пошли!
Артур задумчиво вертел на пальце фуражку.
— Не пойду, — смущенно сказал он.
— Та-ак, — протянул Лаймон. — Значит, всю жизнь будешь отплясывать перед ним за свой долг. А может, еще причина есть?
— Думай, что говоришь, — нахмурился Артур.
— А ты-то думаешь, что Озолс мечтает с тобой породниться? — Лаймон хмыкнул, круто повернулся и с треском захлопнул за собою дверь.
Две цепочки следов протянулись по пустынной полосе влажного песка у моря. Большие и маленькие — у самой кромки прибоя. Волны, накатываясь на отмель, постепенно смывали их, Следы вдруг свернули в сторону.
Мужская рука опустилась в воду, отмывая кусок янтаря. Артур поднялся и протянул влажный камень Марте. Положив на ладонь, она смотрела сквозь него на уходящее за горизонт солнце: в причудливо ограненном природой куске застывшей смолы горел и плавился солнечный луч, открывая диковинный мир внутри самородка.
— Как ты его нашел? — не отрывая восхищенных глаз от янтаря, спросила Марта.
— Так же, как тебя. Искал — и нашел.
— Как светится! Я таких еще не встречала.
— И я не встречал. Ты одна такая.
— Да ну тебя, — смутилась Марта. — Давай лучше что-нибудь загадаем. Ты первый.
— Но я не умею. Надо какое-нибудь волшебное слово, наверное…
— Нет — просто загадай. Подумай о том, что тебе больше всего хочется, и загадай.
Артур нагнулся к лежащему в ее раскрытой ладони янтарю и осторожно подышал на него — лицо парня стало необыкновенно серьезным.
— Не хочу загадывать, — грустно проговорил он.
— Почему? — одними губами спросила Марта.
— Потому что, кроме тебя, мне никого не надо. — Артур осторожно обнял девушку, хотел поцеловать, но вдруг отстранился, прислушиваясь, — издалека донесся крик. Казалось, звали на помощь.
По пляжу, крича и размахивая руками, кто-то бежал. Это был Зигис, сын Аболтиньша, — в мокрой рубахе, босой.
— Артур! Эй, Артур!.. На помощь!..
Банга рванулся ему навстречу.
— Там Рихард! Яхту опрокинуло, он тонет, — подбегая, бессвязно выкрикивал Зигис. — Нас перевернуло. Я поплыл, а он… черт побери, не умеет.
— Ты что, бросил человека в море? — оттолкнув Аболтиньша и срывая с себя одежду, гневно крикнул Артур.
Подбежала Марта:
— Что случилось?
— Там Лосберг, тонет…
Судорожно вцепившись в борт опрокинутой яхты, Рихард из последних сил держался на воде. Волны захлестывали его, сбивали дыхание. Он отчаянно хватал воздух, то скрываясь под водой, то снова выныривая.
Артур все еще бежал навстречу волне, торопясь добраться до глубины. Ему показалось, что неподалеку мелькнуло что-то темнее — может быть, борт опрокинутой яхты.
— Эй, там, держись! — Он поплыл, рассекая воду мощными взмахами рук.
Марта тревожно наблюдала за ним с берега, но скоро потеряла из виду — теперь она видела только пляшущие на волнах солнечные блики. Вдруг опомнилась, обернулась к дрожащему от холода молодому трактирщику, яростно крикнула:
— Что ты стоишь? Беги за лодкой… Людей зови…
Спохватившись, Зигис бросился к поселку.
Рихард изнемогал. Ол все чаще погружался в воду, захлебывался, едва не терял сознание. Наконец, настолько ослабел, что руки разжались и волна безжалостно отбросила его от яхты. Безумным усилием, отчаянно барахтаясь, он попытался вновь подгрести к посудине, ухватиться за спасительную твердь, но вдруг почувствовал: судорога свела ноги. Не выдержав, закричал дико, хрипло… И в этот момент увидел Бангу, плывущего в толчее волн.
— Держись! — Артур подплыл к яхте. Несколько секунд он яростно боролся с волнами, нащупывая что-то под пляшущим бортом.
— Круг! — крикнул он Рихарду. — Где круг?
Но Лосберг не слышал. Он только мотал головой, отплевывая воду. Банге удалось нащупать круг. Он лихорадочно дергал, выдирая его из гнезда. Выдернул, наконец. Держась за борт, с трудом успокоил дыхание.
— Хватайся! — подгреб с кругом к Рихарду, но заметил его бессмысленный, обезумевший взгляд и гневно прикрикнул: — Держись! Хоть зубами, чем хочешь, только держись!
Они поплыли. Волна подхватила их, кинула в сторону берега.
Зента поставила перед Артуром миску с едой и уселась в углу с вязаньем.
— Ты бы поосторожнее с Мартой, сынок, — мягко заметила она. — Все-таки, не дети уже.
Артур на секунду оторвал взгляд от книги, из которой выписывал что-то в тетрадь.
— А что я? — смущенно пробормотал он. — Мы же занимаемся. Она мне вон книжки дает. Не могу же я каждый раз учителю надоедать.
— Книжки-то — книжки, — вздохнула мать. — Только все же поосторожней бы надо. Не забывай, что Озолс для нас сделал.
— А он-то при чем тут? Разве я Марту обидеть хочу?
— Вот и не обижай. Уж послушай меня, сынок, — не вбивай лишнего в голову ни себе, ни ей.
— Да с чего ты взяла!
— Ладно тебе… Разве я была бы против. Только люди-то верно говорят: руби дерево по себе, чересчур не замахивайся. Не забывай, кто мы, кто они.
— А кто мы? — запальчиво крикнул Артур, — Кто мы? Не люди, что ли?
В доме у Озолса Эрна накрывала стел к обеду на четверых. Вошел хозяин — хмурый, озабоченный. Хотел было пройти к своему месту, но вдруг ухмыльнулся, аппетитно хлопнул кухарку по обширному заду. Та испуганно оглянулась:
— Ты что, Якоб? Мой и так косится…
— С чего бы это?
— Вот именно, — лукаво откликнулась она.
Эта улыбка, словно магнит, притянула его к женщине. Забывшись, Озолс облапил кухарку, с силой привлек к себе, неуклюже зашарил рукой по талии, явно намереваясь расстегнуть юбку.
— Якоб! — испуганно озираясь на дверь, Эрна уперлась ему локтями в грудь. — Якоб, опомнись! Якоб… — попыталась было оттолкнуть, но вдруг поняла, что из этого ничего не выйдет — уж слишком неравными были их силы, — заговорила ласковым, медовым голосом: — Вечером, миленький, вечером.
Смысл ее слов медленно, с трудом дошел до сознания Озолса: он нехотя отпустил женщину, багровый и потный сел на стул, какое-то время разглядывал ее исподлобья затуманенными глазами.
— Смотри же, вечером! Не забудь.
— Не забуду, — Эрна дрожащими руками расставляла на столе тарелки.
— Не забудешь? — И вдруг расхохотался, словно сказал что-то необыкновенно остроумнее.
Вошла Марта. Отец пугливо покосился в сторону девушки и, стараясь скрыть смущение, пробурчал:
— Моя дочь вечно опаздывает. Как и твой муж, Эрна. Где хлеб?
Кухарка торопливо протянула ему темно-коричневый каравай, раздраженно крикнула в распахнутую дверь:
— Петерис, ну что ты там копаешься? — Подождала, пока тот займет свое место, разлила суп, присела рядом с супругом. Некоторое время слышались лишь стук ложек да аппетитное чавканье мужчин.
— Ты, Петерис, к жене своей претензий не имеешь? — неожиданно спросил Озолс.
Петерис так и застыл с ложкой у рта, испуганно обмерла и Эрна. А Озолс продолжал:
— А я имею. Опять суп недосоленный.
Эрна облегченно вздохнула, подала солонку:
— На всех не угодишь, хозяин.
Озолс высыпал в тарелку щепоть соли. Марта заметила:
— Я читала, папа, что в твоем возрасте солью злоупотреблять не надо.
Озолс набычился:
— В моем возрасте… Дай бог всем быть такими в моем возрасте.
Снова наступила пауза, которую теперь уже нарушил Петерис:
— А твой парень-то — хват, — обратился он к Марте. — В поселке только и разговоров про него.
Девушка невольно улыбнулась, а Петерис продолжал:
— Гляди, еще медаль получит.
Озолс окинул толстяка ненавидящим взглядом, бросил Эрне:
— Мясо давай! Заснула, что ли?
Кухарка бросилась к плите, подала блюдо с жарким, Она делала мужу какие-то предостерегающие знаки, но тот, словно ничего не замечая, продолжал:
— Говорят, молодой Лосберг хочет в газете напечатать про твоего Артура.
Хозяин с грохотом отшвырнул тарелку:
— Что ты заладил, как попугай, — твой Артур, твой Артур! В сваты, что ли, нанялся?
Петерис пожал плечами:
— Да я что? Люди говорят.
— Люди, — зло передразнил Озолс. — Поменьше сплетен таскай.
— Кто, я?
— Ты, именно ты. Дурак!
Петерис изменился в лице, отодвинул тарелку, медленно поднялся:
— Ну, спасибо, хозяин, накормил.
— Дурак и есть дурак, — уже не владея собой, повторил Озолс.
Петерис хотел что-то ответить, открыл было рот, но решительно вмешалась Эрна: подошла к мужу вплотную, едва слышно проговорила:
— Убирайся!
Тот побагровел, посмотрел на жену налитыми кровью глазами, грубо оттолкнул в сторону.
Муж уже давно был за порогом, а Эрна все стояла, охваченная предчувствием беды — гнетущая тишина воцарилась в комнате. Наконец, ни на кого не глядя, глухо проговорила:
— Ладно, мне коровник чистить.
— Иди, — так же глухо согласился Озолс. Он подождал, пока захлопнется дверь, раздраженно повернулся к дочери: — Ну вот что, дочь… мне все это надоело!
— Что именно, отец? — Марта побледнела, но говорила спокойно и с достоинством.
— Пора бы за ум взяться — не девчонка уже. Ладно, детьми бегали…
— А что изменилось?
— Соображать надо. Даже глупая птица, и та свою пару знает. Не сватается ворон к голубке.
— Артур не ворон, отец. Он человек, и ты напрасно…
— Да делай что хочешь! Ты уже взрослая. Только сердце кровью обливается. Думаешь, мне добра жалко? Мне тебя, дурочку, жалко. Да и не простит он тебе ни ума твоего, ни богатства. Сам же первый когда-нибудь и попрекнет.
— Не меряй всех на свою мерку, отец. — Девушка порывисто поднялась из-за стола и бросилась вон из комнаты. Озолс испуганно крикнул вслед:
— Марта, вернись!
Она выбежала на крыльцо и едва не столкнулась с Рихардом.
— А, спасительница. Здравствуйте! — приветливо кивнул он, — Я теперь в молитвах поминаю вас вместе с Артуром. — Заметил ее расстроенное лицо, смущенно умолк. — Простите…
Марта молча прошла мимо, направилась в сад. Рихард растерянно топтался на крыльце.
— Вы ко мне, господин Лосберг? — спросил вышедший вслед за Мартой Озолс.
— Да, но… я, кажется, некстати?
— Ничего, проходите.
Они вошли в кабинет Озолса.
— Нелегко растить девочку без матери, — вздохнул хозяин. — Так чем могу быть полезен?
Да все история с этой яхтой. Вытащить мы ее вытащили, а идти на ней нельзя, мачта сломана. Отбуксировать надо в яхт-клуб. Не дадите на пару дней моторку?
— О чем разговор? Мы же соседи. Как здоровье вашего отца?
— Спасибо, немного лучше. Все-таки морской воздух ему на пользу. Так когда можно взять лодку?
— Хоть сейчас.
— Вы очень любезны. — Заметил на столе фотографию Марты, потянулся к ней. — Вы позволите? У вас очень красивая дочь, господин Озолс.
Якоб взял фотографию из рук гостя, вгляделся, растроганно ответил:
— Молодые все красивые, — самодовольно улыбнулся. — А ведь похожа на меня, а?
Тишину и теплынь подарила в тот год рыбакам ночь праздника Лиго. По берегу реки пылали костры, озаряя воду багряной рябью, вокруг них веселились кто как мог. Пели, пили, плясали, с визгом и хохотом гонялись за девчатами, чтобы по обычаю похлестать их стеблями осоки по голым ядреным икрам.
Старики кучками стояли поодаль, качали головами, похмыкивали завистливо, сожалели о своей ушедшей поре. Возле одного костра затеяли хоровод, заталкивая в круг парочки, обрученные поселковой молвой. Там сейчас выплясывал Лаймон со своей Бирутой — быстроглазой, бедовой дочкой Фрициса Спуре. Бирута незаметно подмигнула ему, он ей — оба кинулись в стороны, втащили в круг Марту и Артура. И еще неистовей заскакал, загорланил хоровод, проча жениху с невестой совет да любовь, да еще дюжину детей впридачу.
— Вот Озолс везучий, черт! — посмеивались старики. — Какую красавицу вырастил.
— Да уж… На женихе не прогадает. Будьте уверены, такого отхватит…
— Так вон же он, жених. Гляди, как выплясывает.
— Выплясывает-то лихо. А вот выпляшет ли — вопрос. Плесни-ка лучше пивка.
С тихой, задумчивой улыбкой любовалась сыном Зента и печалилась, наверное, что не видит его отец. А там, у костра, уж новая затея: парни с гиканьем прыгали через огонь. Красивая эта забава — удалая, широкая. Будто на крыльях взлетают над пламенем парни, а в награду им — восторженный визг, восхищенные девичьи взгляды, а кому и поцелуй в двух шагах от костра, где ночь надежно спрячет этот маленький грешок.
— Эй, Марцис, чего стоишь? Бороду опалить боишься?
— Отяжелел после свадьбы. Бывало, перед своей Элгой орлом летал.
— Да разве это костер! — презрительно сплюнул Марцис. — Мальчишкам прыгать.
— Ах, тебе мало? Ладно, уважим.
В костер полетели сучья, обломки досок, плавник — в минуту пламя взметнулось до неба.
— Заставь дураков богу молиться, — насмешливо заметил Марцис. — Теперь на этом огне только грешников жарить.
— Все вы такие, — засмеялись девчата. — До свадьбы — хоть в огонь, а уж после…
— А ты? — азартно шепнула Лаймону Бирута. — Мог бы?
— Конечно, — серьезно ответил он. — Только как бы к ангелам не угодить: — И обернулся тревожно, заметив, что Артур отошел в сторону, напружинился для разбега. — Эй, ты! — Лаймон загородил дорогу. — Жить надоело? Иди утопись — не так жарко будет.
— Да я пошутил, — отмахнулся Артур.
Он пошел обратно — расслабленно, медленно, и Лаймон успокоенно отвернулся. Но тут Банга сорвался с места и в сумасшедшем разбеге понесся к пылавшему костру.
Марта не вскрикнула, только губу закусила. Все замерли, будто оцепенели, Артур взлетел и, даже казалось, на мгновение завис над бушующим огнем. В следующую секунду раздался дружный восторженный вопль — все бросились к герою. Кто-то хлопал его по дымившей рубахе, кто-то совал кружку.
— Награду ему! Награду!
— Да ну вас, — со смехом отталкивал кружку парень. — Еще загорюсь от такой награды, пожар будет.
А сам искал взглядом Марту.
— Да он не за ту награду старался. Только получить боится.
Марта смотрела на Артура — и такое восхищение светилось в ее взгляде, такой призыв, что Бирута не выдержала, с усмешкой шепнула:
— Прикрути фитиль. Сама сейчас вспыхнешь, — незаметно показала глазами на стоявшего неподалеку Озолса. Марта нехотя потупилась.
И все же Артур получил свою награду, когда все разбежались по лесу искать загадочно неуловимый цветок папоротника. Вздрагивая от каждого шороха, озираясь на перекликающихся в темноте парней и девчат, они с Мартой прижались к сосне, замерли в пугливом, трепетном поцелуе.
Может, потому и не отыскивается никогда этот удивительный цветок, что вместо него люди видят только глаза любимых.
ГЛАВА 3
Красное авто промчалось по аллее и остановилось возле дачи Лосбергов. Это был солидный, внушительный двухэтажный особняк с просторной верандой, выстроенный в суровом вкусе Курземского побережья: необработанный булыжник, черепица, дерево крутого янтарного цвета.
Из большого окна, раскрытого в кабинете на втором этаже, было видно, как Рихард прощался с тремя вышедшими из машины айзсаргами — теми, что были на поминках в доме Банги. Старик Лосберг недовольно поморщился, глядя на них, и отъехал в кресле-каталке от окна.
— Что у тебя может быть общего с тем субъектом, который тебя чуть не утопил? — сердито встретил старик вошедшего Рихарда. — Он же позорит форму айзсарга. Ничего себе, защитник порядка! — Несмотря на болезнь, лицо Карла Лосберга светилось насмешливым умом и властной силой.
Рихард ласково коснулся отцовского плеча:
— Они помогут мне перегнать яхту в клуб.
— Слава богу, что ты ее сломал. Лезть в море, не умея плавать! Легкомыслие, достойное желторотого юнца. А ты… Пять лет провел в Мюнхенском университете. Чему ты там учился? Дай мне сигару!
— Твой врач взял с меня слово…
— Лучше бы он взял слово, что ты не будешь волновать отца. Сигару!
Рихард достал из ящика сигару, протянул отцу.
— И объясни, наконец, почему ты до сих пор околачиваешься здесь, когда в Риге столько дел? — спросил раздраженно отец.
— Не волнуйся, с продажей прядильной фабрики я все уладил. Хотя и считаю, что это очередная ошибка.
Карл Лосберг переменился в лице:
— Ты еще молод судить о моих ошибках.
Но Рихард досадливо перебил:
— Это хуже, чем ошибка. Сворачивать производство, вывозить капитал за границу — прости, папа, но… сегодня это предательство.
Впервые старик с интересом и в то же время сочувственно посмотрел на сына:
— Оставим громкие слова, сынок. Я хорошо помню девятнадцатый год, когда эти оборванцы захватили власть. Не хочу еще раз остаться нищим.
— И я не хочу. Но не собираюсь и бежать. Готов драться, если понадобится.
— Боюсь, уже поздно, сынок. Когда корабль тонет — бессмысленно тонуть вместе с ним, хотя жест может получиться красивым.
— Вот тут ты, пожалуй, прав. Если капитан — растяпа, недолго и угодить на дно. У нашего уважаемого президента Ульманиса замашки маленького фюрера, но, увы… только замашки. Сейчас Латвии, как никогда, нужна крепкая власть. Железный кулак.
— Понятно, — кивнул старик. — Курс корабля тебя устраивает, но не нравится капитан.
— А кому он нравится? Я имею в виду людей мыслящих…
— Ты ошибаешься, мой мальчик, И очень. Доктор Ульманис далеко не так прост, как кажется тебе и… — Карл Лосберг выдержал паузу, закончил: —…и некоторым твоим «мыслящим» друзьям, с которыми ты встречаешься в доме адвоката Крейзиса.
Рихард изумленно взглянул на отца, с усмешкой покачал головой:
— Ты неплохо информирован, папа…
— Приходится приглядывать за ребенком. Так вот, о капитане… Не так он прост, наш уважаемый господин Ульманис, если сумел затронуть самую звучную струну у латышей — их национальные чувства.
— Ну, затронуть каждый дурак сумеет, дело нехитрое.
— Не скажи… — Старик, наконец, раскурил сигару. — Он не только затронул — он играет. Дешево, балаганно, но многим эта музыка ласкает слух. Как же — президент в гостях у крестьян, пьет у них на свадьбе. Любой латыш может позвонить президенту по телефону домой. Театральная, конечно, роль, но достаточно эффектная. Под аплодисменты.
Рихард брезгливо скривился:
— А если попросить этого актера со сцены?
— Боюсь, не получится. Те, кто мог бы это сделать, за вами не пойдут. Они ведь тоже «мыслящие», им не нужен второй Ульманис. Остальные… Мне очень жаль, сынок, что ты снова оказался в компании этого прохвоста, адвоката Крейзиса. Будь осторожен, Рихард. Их «Гром и Крест»[4]
— опасная политическая авантюра. Держись подальше! — старик начинал заметно волноваться.
— Поговорить с умными людьми всегда интересно. Тем более, что…
— Держись подальше! — все более раздражался отец. — Твое, призвание — честная коммерция. И — все!
— А мне этого мало, отец. Понимаешь? Набивать деньгами мешки… и потом ломать голову, куда их запрятать… Прости, но я убежден, что способен не только на это.
Отец гневно стукнул кулаком по подлокотнику кресла:
— Какие мешки? Сопляк! Да ты хоть один лат заработал? Сам, без моей помощи? Как ты смеешь!..
Он вдруг задохнулся, схватился за грудь. Рихард испуганно кинулся к нему:
— Папа! Что с тобой? Папа…
Лицо Карла Лосберга все наливалось и наливалось мертвенной бледностью, пальцы рук, что вцепились было в подлокотники, — Рихарду почему-то вдруг припомнилось, как он хватался за борт тонувшей яхты, — все слабели и слабели пока, наконец, не отпустили свою последнюю опору, голова безвольно откинулась набок.
Стычки с отцом повторялись все чаще, становились с каждым разом все круче и нетерпимей. Старый Лосберг упрямо не желал прислушиваться к новомодным разглагольствованиям сына о будущем латышского народа и его личной исторической роли в судьбе нации. С самых ранних лет Карлу Лосбергу вдалбливали понятные и простые истины: лучше быть волком, нежели беззащитной овцой; лишний кусок никогда не мешает; в споре слабого с сильным не принимай сторону слабого. Особенно остро он это почувствовал в девятнадцатом, когда на какое-то время сделался нищим. С тех пор люто возненавидел слово «демократия», которое у него ассоциировалось с понятием «грабеж».
Вернув утраченное состояние, Лосберг вначале удвоил капитал, а затем и утроил. У него появилась новая прядильная фабрика, несколько доходных домов, вклады в швейцарских банках. Он был в ладу с правительством, поддерживал добрые отношения со всеми политическими партиями, за исключением, разумеется, тех, что кричали о демократии и свободе. Рисковал Лосберг только в крайних случаях и всегда держал нос по ветру. Не промахнуться бы, не стать ка сторону слабого.
В этом же духе воспитывал он и Рихарда, единственного сына и наследника. Когда назрела пора дать ему фундаментальное образование — к тому времени Рихард уже учился на первом курсе Рижского университета, — решил, что это лучше всего будет сделать в Германии. Среди людей его круга преобладала пронемецкая ориентация. Собственно, к немцам у Карла Лосберга почтительное отношение было всегда. Деловиты, расчетливы, организованны… Еще бы силы побольше. Теперь все как будто склонялось именно к этому. Не случайно некоторые из его знакомых Озолиньшей вдруг преобразились в Озолингов, а Берзиньши стали именоваться Берзингами. Сам Карл Лосберг не спешил с ответом, когда его спрашивали, нет ли в нем немецкой крови. Загадочно улыбался, предоставляя думать о себе, что угодно. Мали ли как потом могло обернуться дело.
Итак, Рихарду было сказано: он поедет к дяде Генриху, продолжать учебу в Мюнхенском университете. Так уж случилось, что младший брат Карла Лосберга, сбежав от революции в девятнадцатом, навсегда поселился в Германии. С одной стороны, сказалось сильное нервное потрясение, которое пережил Генрих, — его чуть не убили на собственном заводе, с другой, вмешалась любовь, Генрих женился на немке, дочери состоятельного баварского пивовара. Не бескорыстно, конечно, но и не так, чтобы только на деньгах. Чувства были. Постепенно, с помощью жены, при участии старшего брата, Лосберг довольно быстро наладил собственное пивное производство, которое со временем стало приносить немалые дивиденды.
Братья резко разнились: Карл был немногословный, худой, аскетичный; Генрих — говорливый, кругленький, жизнерадостный. Но деловой хваткой, способностью учуять добычу и подобраться к ней они как бы дополняли друг друга. Тщательно анализировали обстановку, обменивались информацией, не упускали из поля зрения ни малейшего нюанса. Пришел фашизм и посулил выгоды. Братьев нисколько не смутило, что от него за версту несло кровью. Главное — не просчитаться, не упустить своего.
Рихард был принят в Мюнхене с распростертыми объятиями. И не столь дядей, сколько его супругой. Дородная, похожая на дюжего фельдфебеля, с редкими рыжими усиками и маленькими добрыми глазками на ярко-красном круглом лице, она всю свою любовь и нежность бездетной женщины выплеснула на племянника.
Германия и Мюнхен поразили молодого Лосберга, впервые выехавшего за пределы Латвии. Многое выглядело именно таким, каким рисовалось в его юношеском воображении. Он словно бы попал на другую планету, в иной мир, где было и радостно, и тревожно. Новые впечатления, новые друзья, студенческие пирушки, споры до утра… Данте, Кант, Гегель, Фейербах… Рихарда подавляла безграничность человеческого гения, блеск мысли и глубина разума. Ламброзо, Ницше… С этими было проще, с этими он разговаривал как бы на равных. Во всяком случае, здесь не было ничего заумного и непонятного. Неожиданно, откровенно, захватывающе и… все жизненно. Без фокусов и выкрутасов. Наследственность? Конечно. Добродетель так же, как и пороки, передаются от матери к дочери, от отца к сыну. У вора рождается вор, у проститутки проститутка. Рихард мог привести сколько угодно примеров из жизни. Неравенство среди людей? Чистота расы? Господи, даже у животных существует своя извечная и непреложная иерархия. Стадом повелевает вожак, выживает и побеждает сильный. Естественный отбор. За миллиарды лет сама природа выработала и утвердила свои законы. Они имеют отношение ко всему живому на земле, в том числе и к человеку, который постоянно борется за свое существование.
Но если богу было угодно благословить именно такой порядок бытия в подлунном мире, то почему бы не попробовать направить развитие естественных и крайне важных законов природы по более разумному и организованному пути? Не приспела ли пора подумать о породе самого человека? Потрясенный, Рихард не утерпел, обратился к одному из своих новых приятелей, Манфреду Зингруберу.
— Но это же нереально.
— Почему? — снисходительно усмехнулся тот. — Любая операция кажется нереальной до тех пор, пока нет достойного хирурга. Ничего сложного. Так же, как выводят скот. Селекция и селекция. Какая-нибудь сотня лет — и на земле будут жить люди, достойные этого звания, а не двуногие млекопитающие.
Рихард учился не то чтобы очень прилежно, но вполне сносно, хотя особого рвения не проявлял. Германия бурлила. Национал-социализм принес с собой не только новую мораль, но и новую философию — более увлекательную, динамичную и более заманчивую для некоторой части молодого поколения немцев. Они пьянели от сознания своего расового, национального превосходства. Сидеть в аудитории и корпеть над избитыми книжными истинами в то время, когда рядом, за стенами, вершилась новая история человечества, было, по крайней мере, глупо. Вместе со студентами, из которых Рихард больше всего сдружился с Манфредом Зингрубером — стройным голубоглазым красавцем, сыном известного фабриканта, — он участвовал в манифестациях, маршировал по улицам, кидал в костры книги Гейне и Маркса, зачитывался Ницше и Адольфом Гитлером. Лосберг был бы вполне счастлив, если бы не одно щекотливое обстоятельство. Как только кому-то из его новых знакомых становилось известно, что он не немец, что-то сразу же менялось в их отношениях. Рихард, пожалуй, и не сказал бы сразу, что именно. С ним по-прежнему были вежливы и предупредительны, его не обделяли ни куском, ни бокалом на студенческих пирушках, но его как-то очень деликатно сторонились, когда речь заходила о политических акциях. Ему словно бы давали понять, что существует грань, за которую переходить не рекомендуется.
Рихард не подавал виду, что чувствует себя чужаком, бодрился, но обида от этого не проходила. Отныне он, беседуя с товарищами, пристально вглядывался в их глаза, настороженно прислушивался к каждому слову, отыскивал во всем второй, скрытый от него смысл. И часто находил этот смысл там, где его вовсе не было. Страдал еще и оттого, что, действительно, ощущал себя неполноценным. Как ни старался изображать из себя молодца не хуже Зингрубера, многое у него не получалось. Во-первых, не было той убежденной озлобленности, которая все больше отличала его некоторых приятелей, во-вторых, ему было попросту страшно.
Однажды — это случилось в тридцать третьем, то есть сразу же после его приезда в Германию — они с Манфредом надумали избить одного парня. Вернее, решил Манфред, а Рихард постеснялся отказаться. За что избить? А так. За то, что он — еврей — добровольно не уходит из университета. К ним присоединилась целая компания — в желающих поучаствовать в развлечении недостатка не было. Тогда Рихард впервые увидел, что значит стая хищников, обезумевших от крови. Били тяжело, методично, со смаком. Рихард тоже ударил. Раз или два. Его поразило, что избиваемый не кричал, даже не стонал. Он шарил по земле руками, пытаясь отыскать очки. Это только подхлестывало компанию.
Потом пьянствовали в пивной, поздравляли друг друга с крещением и первой победой. Рихард пил вместе со всеми, чувствуя, как тошнота подступает к горлу, как липнут ладони, как колотится сердце. Перед глазами неотступно стояло лицо парня. Дома его вывернуло наизнанку, и так продолжалось до утра. Тетка ухаживала за племянником, журила баловника, не подозревая об истинной причине его недуга. Потом были еще драки, еще кровь и бессмысленная жестокость, и каждый раз он переживал это не менее мучительно. А когда понял, что Манфред догадывается о его состоянии, то и вовсе почувствовал себя безобидным пуделем, затесавшимся в свору гончих псов.
Международное положение усложнялось. Гитлер и его компания перешли от слов к делу: земля Европы обагрилась кровью, в воздухе запахло порохом и гарью. Многие из бывших знакомых Рихарда добровольно надевали военные мундиры. Немцы преображались на глазах. Даже милая, сентиментальная тетушка, и та постоянно ходила на какие-то собрания, приносила оттуда новые мысли, незнакомые слова, строго покрикивала на прислугу — при этом зло надувала губы и топорщила усы. Всем своим видом тетка как бы подчеркивала, что она немка и судьба Германии ей не безразлична. Дядя Генрих уныло наблюдал за этой переменой, но не вмешивался, не делал жене замечаний. Все ходили словно в тумане, настороженно и опасливо наблюдая друг за другом. Во всем надо было соблюдать крайнюю осторожность: с инакомыслящими не деликатничали. Тем более с иностранцами.
Вокруг Рихарда все ощутимей образовывалась пустота. Он невольно напоминал себе человека, некстати пожаловавшего в гости: только отнимает время да морочит хозяевам голову. Единственный, кто не изменил к нему своего доброго расположения, был Манфред. Лосберг не мог упрекнуть друга в неискренности. Но даже тот вынужден был в конце концов покинуть приезжего друга-латыша. Зингрубер тоже надел военную форму. Случилось это на четвертом курсе. Манфред был отчислен из университета. Вернее, он сам себя исключил из списка студентов, уже больше года вообще не появляясь в аудиториях. Лосберг понял, что настала пора убираться восвояси.
Кое-как домучив последний курс и получив диплом, он возвратился в Латвию, увозя в душе странное и противоречивое отношение к немцам. Рихард им завидовал и ненавидел их. И хотя в Риге все было не так, как в Мюнхене: и пожиже, и провинциальнее, в нем вдруг с неожиданной силой вспыхнула любовь к родине. Потому что только здесь он снова почувствовал себя человеком, уважаемым и достойным.
Но огорчило другое: дома происходило что-то несуразное, совсем противоположное тому, что он видел в Германии. Президент Ульманис актерствовал, произносил речи, поучал, напутствовал, заверял, успокаивал, заигрывал с немцами, флиртовал с русскими, пожимал руки хуторянам, а государственный корабль у всех на виду, медленно и неотвратимо, опускался на дно.
Убрались из Латвии немцы, за ними кое-кто из латышей, предприниматели спешили избавиться от частной собственности и, несмотря па большие сложности и всякие ограничения, переправляли капитал за границу. Другие в надежде глядели на восток, робко исповедуя «красные» настроения. Правда, находились и такие — их было значительно меньше, — которые страстно желали национальной самостоятельности. И хотя Рихард сразу же примкнул к их числу, эти люди были ему не симпатичны, потому что не представляли убедительной и серьезной силы. Так, общие разглагольствования, амбиции и обиды. Даже мало-мальски конкретной программы у них не было. Не смог бы ее предложить и Лосберг. Он присутствовал на встречах — легальных и полулегальных, выслушивал соотечественников, спорил, бранился, но не более. Как правило, словопрения на поверку оказывались чистейшей схоластикой и демагогией. Вроде того: почему это Швеция и Швейцария могут существовать самостоятельно, а Латвия не может? Даешь свободу и независимость! Конечно, они чувствовали, как почва ускользает из-под ног, а это означало новые неприятности и унижения.
Может, прав все-таки Освальд Крейзис, его давний университетский приятель? Химеры никогда не приносили пользы. В реальной жизни из всех зол всегда следует выбрать меньшее, иначе тебя постигнет катастрофа. Или Латвия воспользуется покровительством Германии и внесет свою лепту в шествие фашизма по Европе, или ее захватят коммунисты. О них даже думать было страшно. Впрочем, фашизм тоже был не по вкусу Рихарду. Память невольно возвращала его в Мюнхен, к тому, что он так и не сумел принять. Поэтому, наверное, и не получалось откровенного разговора с Крензисом. Так, светские беседы — вокруг да около.
Рихарда с Освальдом связывала давняя дружба. Они познакомились случайно на одной из студенческих вечеринок, куда Лосберга, тогда еще гимназиста, затащил один из его более взрослых приятелей. Крейзис к тому времени был уже студентом университета, притом студентом-переростком. Молодые люди пришлись друг другу по душе и, несмотря на значительную разницу в возрасте, подружились.
В тот год, когда Рихард уезжал в Германию, Освальд начал свою самостоятельную адвокатскую практику. Они переписывались, информировали друг друга не только о личных делах, но и о том, что происходило вокруг них. Вначале Лосберг с восторгом писал о Мюнхене, о новых друзьях, об их шалостях и забавах, естественно, не в открытую, а иносказательно. Крейзис, в свою очередь, рассказывал о собственных успехах — дела у молодого адвоката пошли на удивление блестяще, с каждым днем он становился все более известным юристом. Освальд намекал на свою причастность к каким-то событиям особой важности.
Затем тональность писем и с той, и с другой стороны заметно изменилась, в них стали проскальзывать раздражение и разочарование. Правда, как потом выяснилось, основа для этого у друзей была разная. На Рихарда повлияло понимание собственной малоценности и обиды, у Освальда настроение переменилось от отчаяния и досады.
Оказалось, что Крейзис был активным участником крайне правой профашистской организации «Рērkonkrusts», программа которой предусматривала создание активных боевых отрядов наподобие немецких штурмовиков, захват власти и провозглашение абсолютной фашистской диктатуры. В программе проповедовались расовая чистота, восстановление национальных традиций, антисемитизм и прочее.
Для страны с хуторским крестьянским укладом это было уже чересчур. Ульманис решил одним махом разделаться с конкурирующей фирмой: в январе тридцать седьмого года состоялся скандальный процесс по делу организации «Гром и Крест». Перконкрустовцев обвиняли в том, что они хотели с оружием в руках свергнуть национальное правительство. И для этого создали свои боевые отряды. Руководитель организации Густав Целминьш отправился в Италию, поближе к своему духовному отцу Муссолини.
Крейзису каким-то чудом удалось избежать огласки и скандала, но злость и неудовлетворенность от провала не давали покоя. Целминьш — из Италии он перебрался в Финляндию — пытался из-за границы руководить перконкрустовцами, однако не надо было обладать особым политическим чутьем, чтобы не понять, насколько это бесперспективно. Заработать себе на жизнь, подпортить кому-то настроение было еще можно, добиться же чего-то более серьезного, конечно, нельзя. И Крейзис решил повести дело самостоятельно, послав заграничных руководителей к чертовой матери.
Дело оказалось не простым: требовались осторожность и выдержка, тщательный отбор единомышленников. Желающих прибрать власть к своим рукам к тому времени уже было сколько угодно. С одной стороны, это вроде бы сулило выгоды — легче стало вербовать сторонников. С другой, такой энтузиазм создавал и особые трудности. Объяснялось это тем, что общей платформы и единой точки зрения у энтузиастов не было. Всякий норовил изречь собственную истину, и далеко не каждый принимал программу перконкрустовцев. Стало быть, новый провал неминуем? Допустить его было смерти подобно. Вот почему даже в отношениях с Рихардом Крейзис проявлял особое терпение и сдержанность. Пусть поглядит, осмотрится — сам поймет, что другого пути у латышей нет.
С отцом Рихард схватился сразу же после возвращения из Мюнхена — он нелестно отозвался о немцах. Лосберг-младший попытался было сформулировать свои мысли, поговорить с отцом по душам, но тот решительно не принял ни его доводов, ни его откровения.
— А что тебя, собственно, не устраивает в немцах? — холодно спросил Лосберг-старший. — То, что ты сам не немец?
Отец безжалостно ударил в самое больное. Рихард сцепил зубы, ответил не сразу.
— Меня не устраивает их беспардонное чванство. Их уверенность, что им все дозволено и доступно.
— Не устраивает или тебе завидно?
Кровь бросилась Рихарду в лицо. Он хотел ответить дерзостью, но отец не дал ему раскрыть рта:
— Не мы определяем свое происхождение, сынок. Кому быть волком, кому — овцой. Если не можешь стать таким, как они, лучше думай о том, чтобы тебя самого не сожрали. Это разумней, чем строить из себя оскорбленную невинность.
Спор коснулся и дяди Генриха: правильно ли тот поступает, оторвав себя от родины. Но главное началось тогда, когда Карл Лосберг объявил, что сворачивает производство и тоже уезжает в Германию. И хотя Рихард, сам не видевший другого выхода, был в душе согласен с родителем, решение отца и сознание собственной беспомощности вызвало новый приступ горечи и обиды. Неужели им всю жизнь суждено унижаться и вымаливать снисхождение?
Попытался было поговорить откровенно с Крейзисом и тут же испугался.
— Развешать бы их всех ка уличных фонарях, — отрезал тот.
Рихарду в какой-то миг показалось, что перед ним сидит не Освальд, а один из тех, кто избивал еврейского парня в Мюнхене. Господи, да что ж это такое? Адвокат, сам почуяв, что зашел слишком далеко, решил все превратить в шутку. Он деланно рассмеялся и похлопал Лосберга по плечу: ты что, мол, всерьез принял?
Нет, Освальд не шутил, и Рихард это безошибочно понял.
Стало еще страшнее. Но его удивило, что отец, который, казалось, должен был бы приветствовать пронемецкую организацию, пришел в неистовую ярость, когда узнал о связи сына с адвокатом Крейзисом. Не впутываться ни в какие политические авантюры — вот что было вечным и непреложным принципом Карла Лосберга. Коммерция и только коммерция. Флаг над головой, рассуждения о национальном достоинстве и долге — все это труха, не более. Реальной властью никогда не располагали болтуны, она принадлежала только тем, кто мог заплатить за нее чистой монетой.
Рихард и хотел бы верить в это, но ему вспоминался дядя Генрих, всегда чуточку виноватый и затравленный. Неужели и сам он станет таким же? Надо было что-то предпринимать, что-то делать. Но что именно, он не знал.
Домашний кабинет учителя Акменьлаукса был похож на библиотеку и одновременно на лабораторию. На полках и на столах громоздились книги, приборы, карты, барометр. Артур сосредоточенно решал какое-то сложное математическое уравнение. Работал уверенно, быстро, от нетерпения еле дописывал хвостики знаков и цифр. Учитель Акменьлаукс — прямой, костистый, с чеканным профилем (за что получил прозвище Архимед) — расхаживал по комнате, заложив руки за спину, изредка поглядывал через плечо своего великовозрастного ученика и удовлетворенно хмыкал:
— Резонно… резонно. — Вдруг насторожился, нахмурил брови: — Что, что? Ну нет, дружище, это не резонно.
Артур не ответил, только еще быстрее заскрипел пером по бумаге. Акменьлаукс напряженно следил за ходом доказательства. И когда Артур уверенно подчеркнул равенство, одобрительно кивнул:
— Ну что ж, так тоже можно. И тоже — резонно. — Он оглядел парня и улыбнулся. — Молодец, ничего не скажешь, — наморщил лоб, проговорил твердо и уверенно: — Ты должен поехать и официально оформить перерыв в учебе. Предъявить свидетельство о смерти отца, остался-то всего один курс.
— Но за этот год я все забуду…
— Будешь заниматься со мной. Возьмешь книги. Отец хотел, чтобы ты стал капитаном.
Артур молчал, задумавшись. Акменьлаукс посмотрел на него, улыбнулся, потрепал по плечу:
— Я понимаю, что тебя гложет. Но ведь это зависит только от вас обоих. За счастье нужно бороться. Тогда и Озолс ничего не сможет с вами сделать.
Артура передернуло:
— Неужели люди не могут быть просто людьми? Дружить, любить, не спрашивая, сколько у кого в сундуке?
Акменьлаукс помолчал, похрустывая, сцепленными за спиной пальцами, потом сказал:
— Я понимаю, о чем ты спрашиваешь. Но… это гораздо серьезнее, чем ты думаешь.
Артур захлопнул тетрадь, резко поднялся, отошел к окну, проговорил с болью:
— Ничего не понимаю. Тот же отец… Были же друзьями с Озолсом, оба с нуля начинали. А потом? Один стал хозяином, другой у него работником. Артель, организовали — тут уж вроде бы все равны. Ничего подобного: один из лодки не вылезает, а ничего, кроме долгов, не прибавляется, другой сидит себе на берегу и жирок нагуливает. Умнее они нас, способнее, что ли?
Акменьлаукс криво усмехнулся:
— Это, Артур, и сложнее, и проще. Брать — не отдавать. Всю жизнь грести только под себя… Дай Аболтиньшу возможность, он бы собственные кишки сожрал. Умнее? Их ум — это совесть наизнанку. Лощеные, благородные, щедрые. А чуть что, за свое барахлишко глотку перервут. Неважно кому — женщине, старику, ребенку. Нагляделся я…
Учитель пристально посмотрел в глаза парню.
— Ты когда едешь в Ригу?
— Завтра. Нас с Лаймоном за сетями посылают.
— Тогда вот что… — Акменьлаукс достал из ящика стола запечатанный конверт:
— Возьмешь это письмо.
— Хорошо, я опущу.
— Нет, на этот раз опускать не надо. Видишь, здесь даже адреса нет. Нужно передать из рук в руки. Понял?
— Да.
Но учти, дело опасное. Если боишься, лучше откажись. Ладно, ладно, — заметив возмущенный жест Артура, улыбнулся учитель. — Тогда запомни. У входа в Верманский парк есть газетный киоск…
По шоссе мчался красный автомобиль Рихарда. Рядом с ним в машине сидели трое айзсаргов с винтовками. Они были навеселе, больше других шумел Зигис:
— Ну что? — он вертел в руках серебряный кубок. — Приз-то я получил не зря? Выбить девяносто шесть из ста возможных!
— Жалко, что там не было парусной регаты, — язвительно перебил его Бруно, — вот где ты бы себя показал.
— Ладно, Бруно, — вступился за Зигиса Рихард. — В конце концов, он же не морской айзсарг. Зато на земле стоит твердо. Верно, Зигис?
— Я думаю, — вмешался в разговор старший сын лавочника Волдис, — что этот наш экстренный слет неспроста. Заметили? И полковник в своей речи намекнул — мол, должны быть готовыми ко всему и держать порох сухим.
— Главное, не передержать, — усмехнулся Рихард. — Чтоб из него дух не вышел.
— Как, как вы сказали? — переспросил, не дослышав, Зигис.
— Говорю, что красные наглеют с каждым днем.
— Боитесь переворота?
— А ты не боишься, что у твоего отца отнимут трактир, а тебя заставят петь «Интернационал»? — съехидничал Бруно.
— Пусть только сунутся.
— Когда сунутся, будет поздно, — жестко отрезал Рихард. — Бить надо всегда первым.
Машина, остановилась на площади возле трактира.
— Ну как? — обратился к компании Зигис. — Предлагаю всем выпить из этого кубка. Омыть мой трофей.
— Гуляйте, друзья! — Рихард приятельски хлопнул его по плечу. У меня, к сожалению, дела. И, высадив айзсаргов, круто развернул машину.
К стене дома Озолса была прикреплена большая металлическая табличка с надписью: «Управляющий отделением Акционерного общества «Рыбак»». Озолс с заброшенным за спину ранцем опрыскивал в саду яблони.
— Ты куда собралась? — спросил он вышедшую на крыльцо Марту, заметив у нее перекинутое через плечо полотенце.
— Не волнуйся, не на свидание, — с вызовом ответила та, широко распахивая калитку.
Отец сокрушенно посмотрел вслед дочери, тяжело вздохнул. Уже на самом берегу ее догнала Бирута и быстро затараторила:
— Один человек просил тебе передать… — она чмокнула Марту в щеку.
— Что передать?
— Да вот это самое, — Бирута поцеловала ее еще раз. — Догадалась, от кого? Они с Лаймоном в Ригу поехали, за сетями. Артур — еще насчет училища похлопотать.
— Надолго они, не знаешь?
— Ну если Лаймон не затеет на фабрике какой-нибудь митинг… Ему же всегда больше всех надо. Ох и жарища!
— Я окунусь. — Скинув платье, она побежала к воде.
Марта невольно залюбовалась стройной, бронзовой от загара фигурой девушки в сверкающих на солнце брызгах.
— А вода холодная! — крикнула Бирута.
Пока Марта скинула туфли, расстегнула халат, подруга успела вернуться.
— Тебя не дождешься, — растираясь полотенцем, сказала она.
— Да я сейчас, погоди!
— Нет, побегу. Отец сердиться будет, в огороде работы полно. — Бирута подхватила платье и, помахав на прощанье рукой, бросилась к дому.
Марта уронила халат на песок рядом с полотенцем, подобрала узлом волосы, но в воду идти не спешила, разморенная жарой. Опустилась в тень у старого карбаса, подперла голову руками, задумалась. Все складывалось неважно: отец продолжал вести себя круто и неумолимо — Артур это чувствовал и ершился. Резко изменила к ней отношение мать Артура. Порой Марта ловила на себе неприветливые взгляды Зенты, и… вообще теперь ей все чаще казалось, что все вокруг настроены к ним враждебно и неискренне. Нет, она нисколько не сомневалась в своей самостоятельности, но неприятности, по всей видимости, только начинались. Девушка так ушла в свои думы, что не обратила внимания, как сзади кто-то подошел. Обернулась лишь тогда, когда почувствовала на себе чей-то пытливый взгляд — перед ней стоял Рихард. Пряча под неловкой улыбкой смущение, он восхищенно смотрел на Марту. Она поспешно поднялась.
— Адская жарища, — осипшим голосом сказал Лосберг.
— Купайтесь, — улыбнулась девушка.
— Только вместе с вами.
— Нет, я передумала. Вода слишком холодная.
— Странно. Казалось бы, по законам логики…
— Вероятно, здесь свои законы. И своя логика. — Она набросила ка плечи халат. — А я считала, что вы уехали. В поселке говорили, будто вы продаете дачу.
— Отец болен, отъезд откладывается, — помолчал, хмуро добавил: — И потом, откровенно говоря, лично я вообще не собираюсь уезжать.
— Да, я тоже не представляю себе, как можно жить вдали от родины. Но как вы отпустите отца одного? У вас, наверное, есть для этого серьезные причины?
— Да, серьезные, — коротко ответил Рихард и переменил тему: — Я заходил к Артуру. Мне сказали, он в Риге. Хотите, поедем к нему? Поищем. А не найдем — тоже не беда. Погуляем.
Марта отрицательно качнула головой:
— Спасибо.
— Боитесь, Артур приревнует? — улыбнулся Лосберг, отшвыривая носком туфли обглоданный морем сучок. — Ну и напрасно. Вы же знаете, как я к нему отношусь. Я перед ним в большом долгу.
— В долгу-то, к сожалению, он, — грустно, как бы про себя заметила Марта.
— Да слыхал. Мне очень хотелось бы ему помочь, но не знаю как. Такой самолюбивый парень…
— Нет, он гордый и очень честный.
— Ему нелегко будет жить, — убежденно сказал Рихард, подходя к машине. — Все-таки садитесь. Прокатимся, поговорим, подумаем, нельзя ли ему как-то помочь, — Видя, что она колеблется, решительно взял за локоть. — Садитесь! Хотя бы до дому вас довезу.
— Ну разве что…
Артур с Лаймоном вернулись под вечер. Усталые брели по берегу. Легкий ветерок отдельными незлобивыми порывами налетал на зеркальную гладь моря. Огромное, основательно потускневшее солнце, опускаясь в его пучину, окрасило горизонт синевой и багрянцем.
— Кажется, кого-то встречают, — пристально посмотрев вперед, проговорил с улыбкой Лаймон.
Артур покраснел, опустил глаза — он еще давно, еще с моря заметил поджидавшую на берегу Марту. Не добежав десятка метров, девушка замедлила шаг, явно смущаясь присутствия Лаймона, степенно проговорила:
— С приездом!
— Спасибо, — за обоих ответил Лаймон и, искоса взглянув на счастливую физиономию друга, поспешно ретировался.
— Артур! — положив руки ему на плечи, Марта поцеловала парня в щеку.
— И не боишься? — полный смятения и счастья, спросил он.
— Не-е.
— А если отцу скажут?
— Пусть. — Она еще раз поцеловала Артура.
— Тут явно что-то произошло, — лукаво улыбнулся он. — Ну-ка, выкладывай!
— Нет, сначала расскажи, как съездил. Уладил с училищем?
— Да как будто в порядке. Обещают оформить отпуск на год.
— Тогда — вот! — она, словно фокусник, выдернула из рукава бумагу.
— Что это?
— Да вексель же твой! Рихард выкупил у моего отца. Велел передать тебе.
— Рихард? С какой стати?
— Ну… вероятно, он как-то хочет отблагодарить. Все-таки ты спас ему жизнь.
Артур пристально посмотрел на Марту:
— А при чем здесь ты? Ты что, говорила с ним обо мне? Просила?
— Я так и знала, — обескураженно проговорила она. — Вместо того, чтобы радоваться…
— Чему?
Девушка не нашлась, что ответить.
— Странно как-то… Я должен сейчас же поговорить с Рихардом.
Возле подъезда дачи Лосбергов Артур с удивлением увидел несколько запыленных, судя по всему, приехавших издалека автомобилей. Входная дверь была открыта, Банга вошел внутрь. Поднимаясь по лестнице на второй этаж, он встретил молчаливых, одетых в черное людей. Наверху, из-за неплотно прикрытой двери, слышались сдавленные рыдания. Артур растерянно огляделся, прислушался. Рыдания смолкли. Теперь оттуда доносилась приглушенная молитва. Нетрудно было догадаться, что в доме несчастье. Он уже повернулся, чтобы уйти, но тут распахнулась дверь кабинета и Банга увидел Рихарда. Молодой Лосберг сидел точно так, как во время последнего разговора с отцом. Только кресло-каталка напротив него было пустым. Остановившимся, безжизненным взглядом Рихард смотрел на гостя.
— У тебя несчастье, — подходя к нему, смущенно пробормотал Артур.
— Отец, — хрипло выдавил Рихард. — Ты поймешь меня. Ты знаешь, что такое потерять отца.
Банга молча сжал ему локоть.
— Как мы бываем жестоки к ним при жизни! — Рихард едва сдерживал рыдания. — Никогда себе не прощу…
Артур стоял рядом, молчал, уважая чужое горе. И вдруг Лосберг заметил в его руке вексель.
— Марта передала тебе?
— Да. Я как раз шел… Хотел сказать, но…
— Говори, — Рихард смотрел на него тяжелым взглядом.
— Не сочти меня неблагодарным, но я так не могу. Я не хочу, чтобы ты оплачивал мои долги.
Нервная судорога пробежала по губам Лосберга. Он взял у рыбака вексель, задумчиво повертел в пальцах.
— О чем ты говоришь? Чего вообще стоит наша жизнь? Суетимся, хлопочем, вечно спешим куда-то, а потом…
Он достал из кармана зажигалку и, щелкнув ею, поднес вексель к огню. — Нет у тебя никаких долгов. — Бумажка вспыхнула, заглушая горьким запахом дыма приторно-сладкие ароматы стоявших повсюду цветов.
— Пусть не теперь — через год, через два… Через пять лет! Мы согласны ждать, сколько скажешь. Только дай нам надежду, хоть какую-нибудь. Хоть самую малую!
Какая жгучая, неистребимая жажда сорвала Марту среди ночи с постели… Сколько она перестрадала, если еще раз решилась докричаться, достучаться до отцовой, наглухо запертой души. В длинной белой рубашке, простоволосая, с измученным от бессонницы и слез лицом, она пришла не убеждать, не уговаривать… Молить, ждать чуда.
— Ты видишь, Артур делает все, чтобы ничем не унизить тебя. Работает, учится. Ради меня готов на все. Чужие люди сочувствуют, помогают ему. Даже Лосберг. Кто ему Лосберг? — Она опустилась перед отцом на колени. — Умоляю тебя… Ради мамы… Вспомни ее, отец!
И будто от ее слов колыхнулось пламя свечи. Погасла в глазах Озолса жесткая, властная сила. Сгорбившись в кресле, с библией на коленях, в сдвинутых по-стариковски на лоб очках, он с нежностью, с бесконечной любовью смотрел на приникшую к его коленям голову дочери. Рука Якоба потянулась к теплому золоту рассыпанных по плечам волос. Потянулась и замерла, повисла в воздухе.
— Ступай спать, Марта, — непримиримо произнес он. — И выкинь глупости из головы. Ты вольна поступать как знаешь. Но я тоже слов на ветер не бросаю.
Девушка встала, не поднимая глаз. Непроницаемой, каменной, как у отца, маской застыло ее лицо.
Ветер гнал с моря рваные, клочковатые тучи. В просветах мелькала луна. В ее призрачных лучах темнела над запрудой громада старой водяной мельницы, едва различимая в густых зарослях кустарника и травы. Монотонно журчала вода. Ее серебряный перезвон глухо доносился наверх, где на дощатом настиле под самой крышей, на ворохе сухого сена, сидели Артур и Марта. Через проем выбитого окна на них струился лунный свет. Они сидели, тесно прижавшись, взявшись за руки, слушали мелодичный говор воды.
— Знала бы ты, как мы, мальчишки, завидовали рыбакам, когда они возвращались с острова Роню. Нам казалось, будто это какая-то сказочная земля. Отец обещал меня взять туда, да так и не успел. А теперь…
— Вы надолго уходите? — спросила Марта.
— Море есть море. Лососю не прикажешь, когда в мережу лезть. Думаю, на неделю.
— Значит, не проводишь меня?
Артур не ответил. Только зло стеганул веточкой по соломе.
— А может, все-таки вместе уедем в Ригу? Тебе же всего год остался…
Он пожал плечами:
— А мать? — Помолчал, прислушиваясь к звону воды. — Ты больше не пробовала говорить с отцом?
Она ответила не сразу.
— Думаю, пока не окончу университет, бесполезно.
— Четыре года, — горько усмехнулся Артур.
— Ну и пусть четыре! — Марта порывисто прижалась к нему, прошептала жарко и трепетно: — Все равно я твоя. — Понимаешь, твоя. На всю жизнь.
Он бережно целовал ее тревожно распахнутые глаза. Серебряным звоном журчала в призрачном сумраке вода, плыли над старой мельницей просвеченные луной тучи. Марта и Артур лежали, обнявшись, в мягком, душистом сене.
— Марта… Любимая… Ты не пожалеешь потом? Не будешь меня проклинать?
Слезы и улыбка, чистая, как весенний луч, осветили ее лицо.
— Молчи-молчи! О чем мне жалеть? Я — твоя жена.
На рассвете, еще затемно, рыбаки собирались выходить в море. Грузили снасти, ровно постукивал на малых оборотах двигатель.
— Все тяп-ляп… Черт их знает, — бурчал не проспавшийся после вчерашней попойки Марцис. — Лишь бы побыстрее.
Лаймон несколько раз искоса взглянул на Артура — тот был, что называется, сам не свой. Уронил канистру с горючим, поднял, снова упустил из рук.
— Ты что такой смурной? — скрывая за улыбкой тревогу, спросил Лаймон. — Новые долги завел?
— Считай, что так, — путаясь в сетях, ответил Артур.
Они уже отошли на порядочное, расстояние от берега, когда небо над поселком окрасил непонятный багровый отсвет. Легкий ветерок принес оттуда тоскливый звон колокола.
— Пожар! Ей-богу… — тревожно выдохнул Марцис.
Теперь все, не отрываясь, смотрели в одну сторону — зарево над дюнами становилось все ярче и ярче.
— Разворачивай! — приказал Спуре.
— А как же?.. — попытался было возразить кто-то из артельных, но на него негодующе зашумели.
— Не слышишь, что ли? Даже сюда горелым тянет. Давайте, братцы, давайте!
Горел дом Озолса.
Пожар охватил подворье, над пылающими постройками взрывались снопы искр, летели раскаленные головни. Ревели, рвались из горящего хлева осатаневшие коровы. В дыму, в багровых сполохах, метались по двору люди. Кто тащил узлы, стулья, вороха какого-то тряпья, кто плескал ведрами воду. Несколько парней, упираясь плечами, выкатили из сарая телегу. Калниньш, заслоняясь полой от жара, яростно рубил топором заклинившую дверь конюшни. Оттуда неслось дикое ржание испуганных лошадей.
Озолс — всклокоченный, страшный бестолково путался под ногами, бросаясь то к одному, то к другому.
— Помогите! Родненькие, не оставьте… Воду… Скорее воду! О господи…
Марта оцепенело смотрела на гибнущий дом. Бирута с Зентой что-то говорили ей, неразличимое в этой сутолоке и шуме. Пытались увести подальше от пожарища, но она не трогалась с места.
Калниньш, наконец, прорвался в конюшню, сорвав тяжелую дверь и тут же выскочил обратно, с трудом удерживая за повод двух лошадей. Они дико скалились, норовя вырваться. Тут-то на него и наскочил совсем потерявший голову Озолс.
— Сейф!.. сдавленно прохрипел он, — Там…
— Какой сейф? — недоуменно переспросил Калниньш. Ему показалось, что Озолс свихнулся.
— Маленький такой, как сундучок… Деньги, бумаги векселя… Все!
Калниньш хмуро уставился на пылающий дом:
— И что? Ты хочешь, чтобы я лез туда?
— Пятьсот латов дам!
— На том свете мне твои латы ни к чему.
— Тысячу дам, слышишь? Тысячу!
Калниньш, казалось, на секунду заколебался.
— Сам лезь! — метнулась к ним Айна, отталкивая мужа. — Совсем одурел.
Озолс постоял секунду, тупо глядя им вслед, потом как-то странно дернулся, набросил на голову рядно, сорвался с места и запрыгал на своем протезе в самую ярость пожара.
— Куда? — кинулся на перехват Калниньш. — Сгоришь со своим сейфом.
— Пусти! — отчаянно заорал старик. — Пусти! — и с неожиданной силой отшвырнув Андриса, он проворно добежал до дома, рванул дверь и скрылся в огненном, гудящем аду.
— Отец! — пронзительно вскрикнула Марта, силясь вырваться из рук женщин.
И вдруг все замерли… Над домом взвился гигантский сноп искр, раздался треск — толпа ахнула. Пылающая кровля дрогнула, начала медленно оседать.
Как раз в этот момент к пожарищу подкатил красный автомобиль Лосберга. Не открывая дверцы, Рихард перемахнул через борт машины, пробился сквозь толпу к бьющейся в руках женщин Марте:
— Что? Что такое?!
Она смотрела на него помутневшими от ужаса глазами:
— Отец!
Рихард оглянулся на гудящий пламенем дом и все понял. Лишь одно мгновение владели им отчаяние и нерешительность.
— Какого же черта!.. — хрипло выкрикнул он. И вдруг бросился к Калниньшу, сорвал с него брезентовую куртку, выхватил у Зенты платок, обмотал голову. Воды!
На молодого Лосберга выплеснули несколько ведер воды, и он ринулся в огонь. Все происходящее было настолько фантастичным, разворачивалось в таком стремительном темпе, что Марта невольно переключила свое внимание на Рихарда. Схватив Бируту за руку, она с силой потащила ее к огню.
Еще раз подалась и хрустнула крыша. Продержалась несколько томительных секунд и, заглушая крики ужаса, с обвальным грохотом рухнула вниз. Огненные круги поплыли перед глазами Марты. Она покачнулась, подняла руки, словно пытаясь за что-то ухватиться.
Калниньш вздохнул, потянул с головы шапку, да так и застыл: из густых, заволокших подворье клубов дыма показался Рихард. Обхватив бесчувственного, тяжелого, как мешок, Озолса, он упорно, шаг за шагом, волок его за собой. Опомнившись, рыбаки бросились к ним, сбивая шапками пламя с горящей одежды, плеская ведрами воду. Рихард каким-то чудом еще держался на ногах, жадно хватал ртом воздух. Его хотели подхватить, но он отстранился и только показал обгорелой, вздувшейся волдырями рукой на лежащего Озолса:
— В машину… быстро, — и побрел, шатаясь, сквозь почтительно расступившуюся толпу.
Калниньш присел над стариком. Тот, хоть и без сознания, крепко прижимал к животу маленький, окованный железом сундучок. Андрис попробовал забрать — не вышло. Обожженные пальцы вцепились намертво.
— Выживет, — уверенно заключил Калниньш и кивнул рыбакам.
Подняв Озолса, они так и понесли его к машине — вместе с сундучком. О Рихарде на какое-то мгновение забыли. Лосберг попытался было самостоятельно взобраться на подножку автомобиля, но покачнулся, и, теряя сознание, рухнул наземь. За руль сел Бруно.
Машина уже тронулась с места, когда рыбаки прибежали на пожарище. Артур с удивлением и тревогой проводил взглядом удалявшийся автомобиль. Успел заметить там Марту. Дом догорал. На подворье еще слонялись люди, таскали какие-то вещи.
— Живи-наживай… — вздыхали старики. — Все под богом ходим. Сегодня хозяин, а завтра по миру с сумой.
— Ну, положим, Озолс-то не с сумой, а с сундучком. Не на один дом хватит.
— Вот-вот! — въедливо подхватил Аболтиньш. — Чужой достаток всегда бельмом на глазу. Неспроста этот пожар, не-ет… Уж помяните мое слово — неспроста!
— Ладно болтать-то…
— А что? — не сдавался Аболтиньш. — Видно, крепко допек кого-то.
— Недаром говорят: как пришло, так и ушло.
Увидев мать, Артур подбежал к ней:
— Мама, что с Мартой? Она… Почему увезли?
Зента с грустью посмотрела на посеревшее от тревоги лицо сына, ласково коснулась его плеча:
— Бог миловал, сынок. Все живы.
Артур оглянулся на пепелище и неожиданно заметил Петериса. Единственный из всей толпы он сохранял полное спокойствие и невозмутимость. Даже больше того, Петерис с аппетитом что-то жевал. Его маленькие глазки-щелочки светились неприкрытым торжеством и злорадством.
ГЛАВА 4
Марта проснулась от скользнувшего по лицу солнечного луча. Открыла глаза и удивленно огляделась, не сразу вспомнив спросонок, где она. Обвела взглядом обтянутые дорогими гобеленами стены, белую, с позолотой, старинную мебель, пушистый ковер на полу. Возле нее, в китайской фарфоровой вазе, алел огромный букет роз. Цветы были только что срезаны, на лепестках еще дрожали капли росы. Марта невольно улыбнулась им, коснулась ладонью, словно желая приласкать. И тут же согнала улыбку, убрала руку, услышав приближающиеся шаги. Вошла молоденькая горничная, поставила на столик возле кровати поднос с завтраком:
— Доброе утро, барышня!
— Доброе утро, Илзе! Вы по-прежнему считаете меня нездоровой? — в голосе Марты слышались нотки раздражения.
Горничная смутилась, виновато пролепетала:
— Я… Но так велел господин Лосберг. Он очень обеспокоен вашим здоровьем.
Марта невольно улыбнулась, спросила значительно мягче:
— Отец уже встал?
Господин Озолс еще затемно уехали.
— Как, уехал? Куда?
— В поселок. Надо, говорит, до зимы дом поднять. — Илзе засмеялась. — Крепкий у вас отец — и в огне не горит.
Девушка встала с постели, принялась одеваться.
— Разрешите, я вам помогу, — подошла к ней горничная.
— Благодарю, но я привыкла сама. — Как назло, она никак не могла справиться с крючками и пуговицами. — Это отнесите в столовую, — показала она на подкос с едой. — Я сейчас спущусь.
Горничная подхватила поднос и уже с порога спросила:
— Завтрак господину Лосбергу отнесете вы?
Марта отвернулась к зеркалу, начала расчесываться.
— Да, я.
С подносом в руке она вошла в комнату Рихарда:
— Доброе утро! Ваш завтрак. Как вы себя чувствуете?
Лосберг лежал в постели с забинтованными руками и головой. Глаза, воспаленные и больные, смотрели на гостью с нескрываемым восхищением.
— Спасибо. В настоящую минуту прекрасно.
Она смутилась, поспешно перевела разговор на другое:
— Вы что, специально не принимаете лекарство? — Марта внимательно оглядела пузырьки. Послушайте, господин Лосберг…
— Рихард, — тихо попросил он. — Вы же обещали…
— Ну хорошо — Рихард! Девушка взяла с подкоса тарелку с манной кашей, стала кормить его, как ребенка. — Так вот, поймите, Рихард — вы ставите меня в крайне неловкое положение. Разве ваша горничная не может ухаживать за вами?
— Если вы… уйдете из Лосбери… я объявлю политическую голодовку. Никто не втолкнет в меня ни одной таблетки! Ни одной ложка этой омерзительной манной жижи.
Она невольно рассмеялась:
— Нет, я серьезно. Нам больше нельзя оставаться здесь — понимаете? Буду приходить, навещать… Но жить мне здесь больше нельзя. И так уже сплетни, пересуды… Вы же знаете, как у нас умеют…
— Какие сплетни? Как вам не стыдно! Будто люди не знают, при каких обстоятельствах вы оказались здесь. Люди… — он скептически усмехнулся.
— Успокойтесь, — положила руку ему на плечо Марта. Вам нельзя шевелиться.
— В самом деле, из каприза, что ли, я держу вас здесь? У вас дома нет — понятно? Нет дома. Сгорел! Куда вам с отцом деваться?
— Успокойтесь, или я сейчас же уйду.
Лосберг притих.
— Ну что вы все — уйду, уйду… Неужели вам так плохо здесь?
Марта долго молчала.
— Нам здесь хорошо, Рихард, — наконец выдавила она. — Даже… чересчур… Вы обо мне слишком заботитесь. Я и без того многим вам обязана.
— Считайте, что это сделал кто-нибудь другой.
— Но сделали вы! — тихо возразила девушка.
— Ну, не знаю. Тогда считайте, что я слазил в то пекло с низменными, корыстными целями. Со злостным умыслом затащить вас сюда.
Она рассмеялась.
— Что вы смеетесь? Это и есть настоящая, чистейшая правда. Хотите — давайте устроим тут небольшой пожар, и я повторю тот же номер на бис. Специально для вас. Чтобы вы остались здесь, в Лосбери. — Рихард выдержал паузу и закончил шутовским фальцетом: — Подольше!
Марта, нахмурившись, поднялась:
— Вы нарушаете уговор, Рихард.
— Почему нарушаю? — попытался отшутиться он. — Я же не сказал «навсегда», а только «подольше». По всем законам гостеприимства.
— Знаете, на кого вы сейчас похожи? В этих своих белых доспехах? — задумчиво перебила его Марта. — На рыцаря… Из легенды. Белый рыцарь! Так будьте же им до конца. И не смотрите на меня так. Пожалуйста…
— «Мой глаз и сердце издавна в борьбе… — вздохнул Лосберг. — Они тебя не могут поделить».
— Рихард! — запротестовала она. — Вы опять…
— Да не Рихард — Вильям… Шекспир… Ему-то можно, надеюсь? «Мой глаз твой образ требует себе, а сердце в сердце хочет утаить, рудами изнурен, хочу уснуть… Блаженный отдых обрести в постели… Но только лягу — вновь пускаюсь в путь… в своих мечтах — к одной и той же цели…»
Марта отошла к распахнутому окну, зачарованно вслушиваясь в музыку бессмертных строф, — они плыли над вершинами сосен, над медленными стаями облаков, над сияющей вдали полоской моря и будто вдыхали горячую, трепетную душу в этот необъятный простор…
— Любовь — недуг, моя душа больна Томительной, неутолимой жаждой, Того же яда требует она, Который отравил ее однажды. Мой разум — врач, любовь мою лечил, Она отвергла травы и коренья. И бедный лекарь выбился из сил И нас покинул, потеряв терпенье.Стихи текли и текли… Одурманивали, завораживали тонкой, лукавой, таинственной прелестью. Стряхнув оцепенение. Марта тихенько, неслышно ступая, вышла из комнаты.
Под вечер Озолс подкатил в своей повозке к подъезду Лосбери и, махнув Петерису, заковылял по дорожке к дому. Еще весь в бинтах и наклейках, с палочкой в руке, он все же возвращался бодро, хорошо потрудившись за день. Как бы там ни было, а худа без добра не бывает. Может, и неспроста судьба привела его с дочерью в этот шикарный господский дом? Он остановился было перевести дух и полюбоваться розами — они росли здесь повсюду, — как вдруг заметил вышедшую на крыльцо Марту. У дочери в руках был небольшой чемоданчик.
— Ты что это? — удивленно спросил он. — Куда собралась на ночь глядя?
— В поселок. Ты Петериса отпустил?
— Отпустил. Ну а все-таки? Разве завтра нельзя съездить?
— Нет, я пойду сейчас, — тихо сказала она.
— Да что случилось? — заволновался Озолс. — Объясни толком.
— Так… Ничего… Просто я не могу здесь больше оставаться.
— Тебя обидел кто-то? — понизил голос отец. Ты скажи — я должен знать.
— Нет-нет, — поспешно возразила она. — Пожалуйста, не волнуйся. Никто и не думал меня обижать. Наоборот, только я пока поживу у Бируты.
— Ничего не понимаю, — нахмурился Озолс. — Никто не обижал, а уходишь. Ты хоть подумала — хорошо ли это? По отношению к господину Лосбергу.
— Подумала, папа. Потому и ухожу. Не хочу, чтобы о нас с ним болтали разное…
— Не хочешь! — укорил отец. — Болтовни боишься? А человек огня не испугался. Эх ты! — Он забрал у дочери чемоданчик. — Пошли!
Но Марта не двинулась с места.
— Я и без вещей уйду.
— Уходи! — Озолс бросил чемоданчик на траву. — Ты сбежишь, а мне куда? Тоже бежать? Христа ради к людям проситься? Обо мне ты хоть подумала?
Марта в нерешительности молчала.
— Дождись, по крайней мере, пока он на ноги встанет, — испуганно оглядываясь на окна, торопливо добавил Озолс. А я тем временем, глядишь, под крышу заберусь.
— Хорошо, — согласилась Марта. — Я останусь. Пока не снимут бинты. Но больше — ни дня!
Дверь в комнату Рихарда была открыта, Озолс заглянул. Лосберг, выпростав из-под одеяла забинтованные руки, медленно разгибал и сгибал пальцы.
— О, господин Лосберг, вы уже совсем молодцом!
Стараясь не стучать протезом, Озолс вошел в комнату, почтительно присел на краешек стула рядом с кроватью.
— У меня нынче тоже удачный день, — похвалился он. — С плотниками поладил, обещают до зимы под крышу подвести.
— Что-то вы рано расхрабрились. Побереглись бы, — заботливо заметил Рихард.
— Я-то что… Вот вам досталось. Беда… — А мне — только трубку пришлось выкинуть. Дыму наглотался на всю жизнь. Надо спешить. И так стесняем вас — неудобно.
— О чем вы говорите? Ваша дочь лечит меня лучше всяких врачей.
Озолс удовлетворенно хмыкнул, не спеша извлек из кармана лист бумаги.
— Вот, была страховая комиссия. Так ничего и не установила. А в поселке думают, что это поджог.
Рихард удивленно посмотрел на старика.
— А что, разве сложно? Подкинул паклю на чердак — и все. Тлеет себе помаленьку, а сам уже далеко. И концы в воду.
Лосберг задумчиво прищурился, словно не решаясь разгадать намек.
— Кому вы помешали?
— Да, видно, уж помешал. Рассчитался кто-то сполна.
Рихард долго молчал, затем многозначительно проговорил:
— Может, вы и правы. В душе человеческой есть очень глубокие тайники.
Поздно вечером Зента, управившись с делами, сидела ка кухне. В очках, в наброшенном на плечи теплом платке, она склонилась над библией, шепотом повторяя сотни раз читаные строки. В окно стучал дождь, шумел, гулял, неистовствовал ветер. В доме было тепло, потрескивал огонь в плите. Зента так увлеклась, что не слышала, как открылась дверь. Остановившись на пороге, Артур — в мокром брезентовом дождевике, с чемоданчиком — улыбаясь, смотрел на мать. На лучики морщин вокруг глаз, на рано побелевшие волосы, на загрубевшие в работе пальцы, бережно листающие пожелтевшие страницы. Подошел, осторожно обнял ее за плечи.
— Сынок! Наконец-то… — Она вскочила, радостно захлопотала. — Раздевайся, ты же совсем мокрый. А я как знала: картошки наварила, рыбы нажарила.
— Хорошо! — Артур блаженно потер над огнем руки. — Хорошо все-таки дома.
— Конечно, хорошо, — согласилась мать. — Пивца свежего выпьешь?
— Да уж налей. — Жестом фокусника он достал из чемоданчика новенькие пивные кружки — расписанные, сверкающие глазурью, — поставил их на стол.
— Ой, какие славные! — обрадовалась Зента. — Заработок-то не весь потратил?
Парень не ответил, вновь склонился над чемоданчикам.
— А это тебе, — в руках у Артура была добротная шерстяная кофта.
— Ну зачем ты?.. — укоризненно проговорила мать. А руки невольно потянулись к подарку, глаза засветились радостью.
— Носи на здоровье, теплая. — Скрывая смущение, он бодро принялся за еду. — Ну, какие новости? Ты не болела тут?
— Некогда болеть, сынок. Я ведь теперь в коптильне работаю.
Артур удивленно опустил ложку:
— Ну? Открыли все-таки?
— Там и Айна, и Магда… Да чуть ли не все наши женщины.
— Как платят?
— Очень даже неплохо.
— Я видел, Озолс уже дом налаживает? — как бы невзначай поинтересовался сын.
— Кремень — человек, — уважительно ответила Зента. — Из такой передряги вышел — и на ногах.
— А где они живут?
— Все там же, в Лосбери, — помедлив, ответила мать.
Артур отодвинул тарелку. Спросил, стараясь казаться спокойным:
— Что… и Марта? До сих пор там?
— Ну а где же им еще быть? — мягко возразила она. — Господин Лосберг, говорят, еще в постели. Как же ей за ним не поухаживать? Сам подумай. Нищими остались бы, если бы не он.
Артур поднялся из-за стола, походил по комнате, взял фуражку.
— Я пойду, мама.
— Куда?
— К Рихарду.
— К Рихарду?
— Надо пойти навестить, — отводя глаза, пробормотал он. — Все же неудобно.
Зента недовольно качнула головой, стала собирать посуду.
— Что я могу? — с горечью сказала она. — Был бы отец — не пустил бы. А я… — и вдруг попросила: — Не ходил бы ты, сынок, не унижался…
Он думал долго, тяжело. Все же упрямо сказал:
— Пойду!
Выйдя из дома, Артур решительно двинулся было в сторону Лосбери, но, не пройдя и сотни метров, неожиданно сбавил темп — сомнения, по всей видимости, тревожили его душу. Он низко опустил голову, вглядываясь себе под ноги, словно там была не твердая земля, а зыбкое болото и каждый неосторожный шаг мог оказаться гибельным. Именно в этот момент его заприметила Бирута.
— Артур! — окликнула она. Девушка возвращалась, видать, откуда-то издалека — ее туфли были основательно покрыты пылью. — Вы когда вернулись? Только что? А где же мой? Небось, в трактир завалился?
Артур невольно залюбовался ею: в простой крестьянской одежде, с ярким румянцем на тугих щеках, Бирута была мила и женственна. И еще подумалось, что Лаймону с такой девушкой, наверное, значительно проще.
— Как же — в трактире… Прямо из лодки, в обнимку с будущим тестем…
Румянец на щеках девушки стал еще ярче.
— А ты туда? — показала она взглядом в сторону Лосбери. — Ох, и скучала она здесь без тебя — все уши мне прожужжала.
— И все обо мне? — с горькой усмешкой спросил он. — А, может, еще о ком?
— Не глупи! — рассердилась Бирута. — Поменьше сплетни слушай. У нас тут наболтают с три короба…
— Уже болтают? — насторожился Артур. — О чем?
— Вот — мужики! — фыркнула Бирута. — И Лаймон такой же вредный. Попробуй станцуй с другим хоть разок — башку нагнет, что твой бык, глазищи выпучит — и в драку. — Девушка сменила тон и назидательно заключила: — Ты не суши голову дурью. Иди к ней разберись, не маленькие.
Море было по-осеннему хмурым. Дул резкий ветер, грозно шумел вершинами сосен. Над дюнами с криками носились чайки, Марта и Артур медленно, молча шли по берегу. Потом он сказал, видимо, продолжая начатый разговор:
— Скажи отцу, что я помогу с домом… Если, конечно, он захочет.
— Спасибо, Артур.
Они прошли еще несколько шагов молча.
— Как теперь с университетом будет? — спросил он. — Тоже погорел?
— Вот именно, погорел, — невесело усмехнулась Марта. — Не брошу же я отца.
— Значит, так и будете у Рихарда жить?
— А где же еще? Ему сейчас тоже помочь надо.
— Да, конечно… — как-то сдавленно сказал Артур. И вдруг остановился, порывисто обнял ее. — Я люблю тебя! Слышишь? Ты моя жена! Ты сама захотела ею стать. И я не могу… понимаешь? Не хочу, чтобы ты жила в чужом доме. Рядом с ним.
— Артур, глупенький… Пойми — я не могу сейчас уйти. Это крайне непорядочно. Я должна остаться, пока не снимут бинты. Это мой долг.
— А если их еще год не снимут? — невольно вырвалось у него.
— Я останусь, пока не снимут бинты, — твердо повторила Марта. — Если ты считаешь меня женой, зачем же обижаешь ревностью? Почему требуешь, чтобы я платила неблагодарностью человеку, который спас моего отца? И для тебя сделал не так уж мало.
— Конечно… — неуверенно протянул он.
Девушка сочувственно посмотрела на него, быстро наклонилась, звонко чмокнула в щеку:
— Ладно, мне пора.
— Уже уходишь? — Артур взял ее руку, сжал в ладонях.
— Надо.
— Вечером встретимся?
— Конечно.
Артур обнял ее, с пытливой тревогой долго смотрел прямо в глаза. И, не поцеловав, отпустил.
Марта читала в своей комнате, когда раздался негромкий стук в дверь.
— Разрешите?
Она подняла голову и, к своему удивлению, увидела на пороге Рихарда. Он был в элегантном, сшитом по последней моде костюме, который все же не слишком украшал его бледного, осунувшегося, с лицом, покрытым едва затянувшимися шрамами.
— Ну, как я вам нравлюсь? — нарочито бодро спросил он.
— Зачем вы встали?
Лосберг криво усмехнулся:
— Вероятно, чтобы освободить вас от добровольного заключения.
— Рихард, ну зачем вы так…
— Бросьте… Я же вижу — вы рветесь отсюда, как птица из клетки. И даже ухитряюсь не обижаться. Но вы не ответили на мой вопрос — как я вам нравлюсь?
Она отложила книгу, натянуто улыбнулась:
— По-моему, все в порядке. Вам даже к лицу эти шрамы.
— Ну разумеется. — Он подошел к зеркалу, с отвращением разглядывая себя. — Шрамы украшают мужчину. Посуда бьется к счастью… Какой только ереси не напридумывали себе люди в утешение! Заметив лежавший на подзеркальнике большой кусок янтаря, взял его и восхищенно сказал: — Какой редкой красоты камень. Откуда он у вас?
— Подарок.
Рихард взглянул на нее, потом снова поднес янтарь к глазам, рассматривая мошек, замерших навеки в прозрачном заточении. И сказал задумчиво:
— Да, все мы, как эти мошки в янтаре… Замурованы — каждый в своей судьбе. А что если попробовать вырваться? Взять и сломать эту красивую прозрачную гробницу.
Марта внимательно взглянула на него:
— Не надо ничего ломать, — и отобрала у Рихарда камень.
Он понимающе усмехнулся:
— Вы всегда как будто насторожены со мной. И холодны, как айсберг. А я, кажется, придумал, как вас слегка растопить. У вас есть немного времени?
Марта замялась, взглянула на часы:
— Откровенно говоря, совсем немного.
— Подарите мне это «немного».
Красное авто промчалось по живописной лесной дороге, и вскоре они сидели на веранде уютного, пустынного в этот час загородного ресторанчика. Веранда висела над гладью озера, над самой водой. К перилам подплывали лебеди, Марта просовывала им сквозь решетку кусочки хлеба.
— Видит бог, меня так и подмывает прыгнуть туда, чтобы получить свой кусочек счастья. — Лосберг налил в свою рюмку коньяку.
— Рихард! — укоризненно сказала она. — Вы же обещали…
— Умоляю, не портите нашу последнюю встречу, — полушутя-полусерьезно ответил он.
— Вы просто сумасшедший. Для чего я вас лечила?
— А для чего лечат осужденного на смерть? Для того, чтобы привести приговор в исполнение. Я поднимаю этот бокал за вас, Марта! За мою чудесную исцелительницу. Кстати, почему бы вам не перевестись на медицинский факультет? Пока не поздно. У вас определенно талант…
— Рихард, а какой факультет закончили вы?
— Философский, — почему-то ожесточаясь, буркнул он и выпил коньяк. От нее не ускользнула перемена в его настроении.
— И какую же наивысшую истину вы постигли на своем философском?
Он на секунду задумался, вновь наполнил рюмку.
— Рихард!
— Вы напрасно беспокоитесь, я не рассыплюсь из-за этой капли. Истину? Пожалуй, самую важную. Каждое утро напоминай себе: перед тобой вся жизнь — целый день. Проведи его как следует, — он перехватил ее насмешливый взгляд, насупившись, добавил: — И еще: в этом мире справедлив не тот, кто прав, а тот, кто может утвердить свою правоту.
— То есть сила — это и есть наивысшая истина?
— А вы видели когда-нибудь, чтобы побеждал слабый? Впрочем, есть одна слабость, перед которой беспомощна любая сила. — Рихард многозначительно усмехнулся. — Но это уже из другой области. За вас, Марта!
Она зябко повела плечами, откровенно посмотрела на часы.
— Боитесь опоздать? — Лосберг заметно пьянел. Его лицо побледнело, лоб покрыла легкая испарина.
— Ну вот, — досадливо проговорила девушка. — Я так и знала. И вы еще собираетесь вести машину?
Он попытался отшутиться:
— «Джигиту лишь бы ногу в стремя…»
— Ай, бросьте! — Марта решительно поднялась. — Предупреждала же…
— Да, кажется, я немножечко того… — виновато забубнил он, — Слишком много впечатлений сразу.
Марта немного смягчилась, проговорила миролюбивей:
— Что же нам делать?
— Что? — озорная искра промелькнула в его глазах. — А почему бы вам самой не сесть за руль?
— Вы с ума сошли!
— Ничуть. Через десять минут будете водить машину, как заправский шофер.
… — Еду! — в азарте крикнула Марта, намертво вцепившись пальцами в рулевое колесо.
— Конечно, едете, — улыбнулся Рихард, придерживая баранку правой рукой.
Другую руку он положил на спинку водительского сиденья и слегка придерживал девушку за плечи. Но Марта ничего не замечала — устремив перед собой безумный от счастья взгляд автомобильного неофита, она восторженно крутила руль. Машина медленно виляла по проселочной дороге, надсадно ревя двигателем.
— А теперь попробуйте выжать сцепление и переключить на вторую скорость… Вот сюда рычаг.
— Страшно…
— Ничего, решайтесь, — он положил свою руку на ее кисть. — Ну!..
Марта попробовала.
— Ага, получилось!
— Вы прирожденный шофер, — поморщившись, как от зубной боли, похвалил Лосберг. — Теперь газу добавьте.
Машина прыгнула, как лягушка, и покатила быстрее. Это вызвало новую бурю восторга. И вдруг девушка взвизгнула от страха — на дорогу, прямо перед машиной, выскочила корова.
— Тормоз! — крикнул Лосберг, перехватывая у Марты руль. — Жмите на тормоз! Отпустите руль!
Но Марта совсем растерялась и еще крепче вцепилась в баранку, мешая Рихарду объехать бестолково мечущееся животное. Потом их тряхнуло — в последний момент Лосбергу все же удалось резко вывернуть руль вправо — машина нырнула в кювет и с силой ткнулась в стоящее на обочине дерево. Мотор заглох. В наступившей тишине откуда-то сзади донеслось насмешливо-недоуменное мычание коровы.
Уже стемнело, когда Рихард, перемазанный до бровей, с безнадежным видом захлопнул капот.
— Вы очень на меня сердитесь? — виновато спросила Марта.
— Очень. Только не на вас, а на ту рогатую скотину. По-моему, это все-таки был черт. — Рихард обтер руки платком. — Побудьте здесь, а я сбегаю на шоссе, попробую поймать какую-нибудь машину.
— Может… нам пешком? — неуверенно предложила она.
— Двадцать километров? Как раз к утру будем дома. Ждите меня здесь, а если нападут разбойники или корова, сигнальте.
Марта вяло улыбнулась, и осталась ждать. Вдруг ей на руку упала капля — начинал накрапывать дождь.
Артур ждал ее возле Старой мельницы. Уже совсем стемнело. Но он все еще не хотел верить в то, что она не придет. Мерил и мерил шагами пустырь, заросший травой.
Дождь остервенело барабанил по крыше машины, хлестал по стеклам.
— Ну вот… Теперь вы меня проклинаете, — удрученно пробормотал Рихард. — Я вас втравил…
— За что мне вас проклинать… Сама виновата.
— Ладно уж, не казнитесь. Кто знал, что так все обернется? Как назло — ни машины, ни подводы…
Она тоскливо прислушивалась к шуму ночного ливня — он хлестал все сильнее.
— У вас, наверное, свидание? — сочувственно спросил Рихард. — Я вас здорово подвел. Но действительно — ни одной живой души.
Марта промолчала.
— Холодно, — поежился он и достал откуда-то плоскую флягу. — Не хотите глоток? Это ром.
— Нет, спасибо.
Лосберг отвинтил пробку, глотнул и тут же спохватился.
— Господи, какой же я осел! — он стянул с себя пиджак, накинул его на Марту. — Надевайте в рукава.
— Да не нужно… — ее начинала раздражать нелепость положения.
— Надевайте, надевайте, у вас уже зубы стучат. Или вы нервничаете?
Она снова не ответила.
— Слушайте, а что вы, собственно, так переживаете? Я понимаю, конечно, неприятно, по… В общем-то — ничего ужасного. Не встретились сегодня — встретитесь завтра. Или послезавтра. Может, все-таки глотнете капельку? — Он снова достал фляжку.
— По-моему, и вам достаточно, — сухо заметила она.
— А кто знает… — на этот раз он влил в себя порядочную порцию. — Кто знает, может, это сама судьба распорядилась? А? Увела вас с одного свидания и… привела на другое. Чертовский холод! Откуда таким льдом веет? — А-а, понимаю — айсберг! Послушайте, айсберг, а вы не схватите воспаления легких? Давайте хоть как-нибудь греться.
— Отодвиньтесь сейчас же! — рассердилась Марта. — Вы что, совсем ошалели от своего рома?
— Я давно ошалел, Марта… — теряя голову от ее близости, глухо заговорил он.
— Отодвинетесь или я выйду!
— Марта!.. — не в силах больше сдержаться, Рихард обнял ее за плечи, рывком притянул к себе. Несколько секунд шла молчаливая борьба. Наконец, девушка вырвалась и, влепив ему пощечину, распахнула дверцу, выскочила из машины. Лосберг бросился следом. Но пока обегал автомобиль, споткнулся, упал, потерял ее из виду.
— Марта! — кричал он в отчаянии, шлепая по грязи и лужам. — Ма-арта! Остановитесь!
Она стояла, прижавшись к дереву, затравленно дрожа. И когда он, крича и размахивая руками, тяжело протопал мимо, рванулась с места и изо всех сил бросилась бежать в противоположную сторону. Сквозь лес, сквозь ливень, сквозь тьму…
Озолс спозаранку хозяйничал на своем подворье. Ночной дождь наполнил воздух сочной влагой и терпким запахом разнотравья. Блестели в лучах раннего солнца лужи. Мимо прошло стадо, подгоняемое пастухом. В ожидании плотников Якоб тесал топором бревнышко. Дом потихоньку отстраивался — плотники собрали сруб, над стенами уже поднялись свежетесанные стропила.
Эрна молча поставила на верстак перед хозяином кружку с молоком, положила рядом кусок хлеба с жареным салом. Отложив топор, хозяин принялся за еду. Спросил как бы между прочим:
— На сеновале ночуешь? Не холодно одной?
— Тебе-то что? — нервно встрепенулась она. — Петериса нарочно в город услал?
Озолс неловко усмехнулся:
— Почему нарочно? Гвоздей же нет. А без гвоздя какая работа?
Эрна забрала пустую кружку:
— Хватит, Якоб. Побаловались, и довольно! Как бы беды не накликать. Коту забава — мышам слезы.
Она пошла. Озолс озадаченно посмотрел ей вслед, снова принялся было тесать бревно, но в это время за его спиной хлопнула калитка. Он обернулся, да так и замер с топором в руках. Перед ним стояла Марта. Насквозь промокшая, в изодранном, заляпанном грязью платье, изнемогающая от усталости.
— Ты? — изумленно пробормотал отец. — Где ты была?'
— Потом, папа. Я очень устала.
Он заметил пиджак Лосберга, и страшная догадка промелькнула в его глазах.
— Ты была с Рихардом?
Девушка только сейчас вспомнила об этом проклятом пиджаке. Брезгливо оглядела себя и крикнула, выплескивая накопившуюся ярость и отчаяние:
— Да! С Рихардом! Всю ночь!.. Теперь доволен? Ты же мечтал об этом. Не так ли?
И вдруг замолчала на полуслове, испуганно отшатнулась — в трех шагах от нее стоял Артур. Почерневший, измученный ожиданием, снедаемый ревностью, он стоял посреди двора, ошеломленный ее растерзанным видом, ее чудовищным признанием. Сплетни, подозрения, догадки — все это вдруг приобрело реальные очертания. Дохнуло на него зловещим смыслом. Он медленно повернулся и, тяжело ступая в своих рыбацких сапожищах, пошел обратно к калитке.
— Артур! — Марта бросилась к нему наперерез, загородив дорогу. Сказала неожиданно тихо: — Я тебе все объясню.
Только мгновение он смотрел в ее полные отчаяния и мольбы глаза. Кровь прихлынула к голове, и он не сдержался — ударил ее по щеке. Ударил хлестко, наотмашь, вложив в эту пощечину всю свою боль и презрение.
— Ты что делаешь, сволочь? — подскочил к нему Озолс. — На кого руку поднял, бандит? — и в бешенстве замахнулся топором.
Артур успел перехватить руку, вырвал топор и с силой отшвырнул Озолса. Тот мешком отлетел к верстаку, неуклюже повалился на спину. На ободранной щеке выступила кровь. Артур постоял секунду, потом, стряхнув оторопь, бросил топор и, круто повернувшись, зашагал прочь со двора.
— Ну спасибо, доченька… Уважила родителя, — Якоб с трудом поднялся на ноги, прижал к щеке ладонь, пытаясь унять кровь.
Марта, потрясенная, молчала, глядя на плачущего отца. Всхлипывая и сморкаясь в фартук, выскочила на шум Эрна. В этот момент у калитки затормозил автомобиль, во двор вбежал взволнованный Рихард.
— Марта, господи! Слава богу, вы целы. Я чуть с ума не сошел, все побережье объездил. — Он замолчал, заметив окровавленного Якоба. — Что с вами, господин Озолс? Что произошло?
— Нет уж, господин Лосберг, — гневно ответил старик. — Это вы должны объяснить, что произошло.
— Ничего особенного, — смущенно пробормотал Рихард. — Ездили прогуляться, застряли в лесу…
— Прогуляться… Застряли… — Озолса потрясла невиданная наглость Лосберга. — Почему же Марта прибежала одна, словно за ней гнались? И этот пиджак… Вы мне голову не морочьте. Знаем мы эти ночные прогулки…
— Уверяю вас, ничего дурного. Нелепый случай… Мы сейчас поедем домой, и я вам все объясню.
— К вам в дом? — взорвался Озолс. В качестве кого, позвольте узнать?
Рихард побледнел, прижал обожженную руку к груди:
— Ваша дочь, — хрипло проговорил он, — может войти в мой дом, кем захочет. Даже хозяйкой. Я готов повторить это, где угодно, и официально просить ее руки.
Артур и Лаймон в брезентовых робах и свитерах сидели в дальнем углу трактира. У грубых дощатых столов этот ранний час никого не было. За оцинкованной стойкой под литографией, изображавшей застигнутый бурей корабль, дремал Аболтиньш.
— Да выпей ты! — уговаривал Лаймон. Артур молча крутнул головой — перед ним стояли нетронутые кружка пива и стаканчик водки.
— На тебя посмотришь — будто конец света настал. Подумаешь, сегодня поссорились — завтра помирились…
— Нет, Лаймон, это все.
— Что все, что все? Будь же ты мужчиной в конце концов! Встряхнись, и пойдем домой.
— Никуда я не пойду.
— Не дури, — Лаймон поднял приятеля со стула.
Банга качнулся, словно пьяный, посмотрел перед собой пустым, ничего не выражающим взглядом, потянулся было за водкой, но в последний момент передумал, безнадежно махнул рукой:
— Ладно, пошли…
У самого входа они едва не столкнулись с торопливо вбежавшей Бирутой.
— Весь поселок обыскала, — бросилась она к Артуру. — Давай быстрее!
— Что случилось? насторожился Лаймон.
— Марта сидит у меня.
Короткая судорога пробежала по лицу Банги, бешенство плеснулось в его глазах.
— Передай своей подруге… — Он не договорил, схватил со стола фуражку и стремительно выскочил на крыльцо.
Именно здесь, словно из-под земли, перед ним вырос Бруно. Двое других айзсаргов стояли поодаль.
— Что там у вас с Озолсом вышло? Ты можешь мне объяснить?
— Тебе-то какое дело? — тон не предвещал ничего хорошего. — Ты что, полицейский?
— Я айзсарг. Порядок в поселке мне не безразличен.
— Слушай, Бруно, — угрюмо вмешался Лаймон. — А нельзя ли потом? Ты же видишь, что он не в себе.
— Отстань, — надменно возразил Бруно. — Еще раз повторяю — порядок в поселке…
— А не пошел бы ты со своим порядком? Вырядился, как индюк… — зло выплюнул Артур.
— Ах, вот как? Оскорбление мундира! Теперь ты пойдешь со мной, — он схватил Бангу за руку, тот вырвался, свирепея:
— Убери лапу!
На помощь Бруно подскочили Зигис и Волдис.
— Да оставьте вы его, чего привязалась? — Лаймон преградил им путь. — А ну, полегче!
Айзсарги с двух сторон навалились на Артура. Тот, рванувшись, стряхнул их, но это лишь раззадорило парней — они, словно бульдоги, вцепились в свою жертву, Бруно попытался ударить рыбака сапогом в живот, но тот вовремя увернулся, затем, изловчившись, тяжким, как молот, кулаком сбил айзсарга с ног. Лаймон кинулся в гущу драки. Но Бирута намертво вцепилась в его робу, повисла на ней.
— Пусти! Да пусти же! — Калниньш с силой оттолкнул девушку, бросаясь на помощь другу.
На крыльцо выскочил испуганный Аболтиньш:
— Зигис, отойди! Зигис, не лезь!
Трактирщика никто не слушал — возле крыльца надсадно сопел, плевался бранью и кровью яростный клубок человеческих тел. Артур в бешенстве молотил кулаками наседавших на него айзсаргов, давая выход ярости и отчаянию, накопившимся в его душе. Не уступал ему и Лаймон — он бросался от одного к другому и бил, бил, бил, словно задался целью размолоть противников в порошок.
— Господи, горе мое! — всхлипывала Зента, бинтуя Артура. Тот сидел посреди комнаты на табуретке. — Как еще голову не снесли твою глупую? Куда ты теперь такой? Как на люди покажешься?
Вид у парня был плачевный — глаз заплыл синяком, на скуле кровь, вокруг разбросаны окровавленные полотенца, вата. Заметила, что Артур скривился, проговорила испуганно:
— Больно, сынок? Потерпи. Сейчас кровь обмою — и все…
Мать схватила таз, выскочила на кухню, плеснула воды из ведра и застыла в гневном изумлении, увидев в дверях Марту.
— Что вам здесь нужно? — холодно спросила Зента,
— Что с ним?
— Насмерть пока не убили, — съязвила Зента. — Поучили для начала, чтоб к чужим невестам не лез.
— Что за глупости! — возмутилась Марта. — Вы же ничего не знаете.
— А что тут знать?.. — Зента возмущенно тряхнула головой. — Сколько же бесстыдства в людях! Делайте себе что хотите. Но зачем мальчику голову морочите? Если совести нет, хотя бы жалость какую поимели. Да как вы только порог переступили?
— Я смею… — с трудом решившись на признание, начала Марта, потому что я… — она запнулась, подняла голову — в дверях стоял Артур. — Боже! — в отчаянии подняла руку. — Что они с тобой сделали?
Ни один мускул не дрогнул на лице парня. Марта рванулась было в его сторону, но, встретив пустой, безразличный взгляд, подавленно остановилась.
— Скажи матери, Артур… — едва слышно проговорила она. — Скажи ей все. Она должна знать.
Он угрюмо молчал.
— Не хочешь? Ну тогда я скажу. — Марта обернулась к Зенте. — Я… жена вашего сына.
Женщине, по всей видимости, показалось, что она ослышалась.
— Что? — Мать беспомощно посмотрела на Артура. — Да что ж это такое, сынок?
Марта со страхом и надеждой ждала ответа.
Любовь, ненависть, ревность — все кипело, боролось в нем, рвалось наружу едкими, прожигающими до самого сердца упреками, но сказал он только одно:
— Не жена ты мне, уходи.
— Артур! — в отчаянии метнулась к нему Марта. Что ты делаешь? Опомнись! — девушка с мольбой заглянула ему в глаза.
Но он повторил упрямо:
— Иди, откуда пришла. Обойдемся без барских объедков. — И захлопнул за нею дверь.
Банга стоял, прижавшись лбом к стеклу и смотрел, как уходила Марта. Был момент, когда, казалось, что он бросится ей вслед, остановит, но проходили секунды, а Артур все не двигался с места.
Девушка шла медленно, с трудом ступая по колеблющейся под ногами земле, ничего не видя, нечего не слыша. Зябли в вечернем сумраке голые ветви деревьев. Пусто, по-осеннему неприютно глядело подворье Озолса. Сквозь незакрытые стропила крыши холодно поблескивало небо — такое же зловещее и бескрайнее, как море за серой грядою дюн. Именно туда шла Марта. К старому, доброму карбасу, единственному существу на свете которому она могла сейчас доверить свою душу и сердце.
В кабинете Рихарда горел свет. Он сидел у стола, разбирая бумаги. Услышав стремительные шаги, вскинул голову и замер — перед ним стояла Марта. Лицо ее было безжизненно бледным, словно гипсовая маска.
— Я согласна, — не разжимая губ, мертвым голосом произнесла она и замолчала, будто забыв, зачем пришла сюда.
Рихард поднялся, шагнул к ней, взял за руку:
— Что с вами? Вам нездоровится?
Слышите, Рихард? — упрямо, почти зло повторила она. — Я согласна… стать вашей женой. Или, может быть, вы передумали?
Кровь бросилась Лосбергу в лицо. Он ответил, едва сдерживая волнение:
— Вы так противоречивы и стремительны в своих решениях, Марта… Позвольте, я вам отвечу тем же. Мы обвенчаемся сегодня же.
Он в упор взглянул на нее, увидел, как расширились, дрогнули ее зрачки, и повторил жестко:
— Или сегодня — или никогда.
…Темная, громада церкви наполнялась светом. Служка проворно зажигал свечи. Из-за алтаря торопливо вышел пастор и с ходу начал читать молитву. Сзади шушукались свидетели — Аболтиньш с женой, горничная Лосберга, Эрна, рядом с нею, как всегда пьяненький, Петерис, несколько гостей из Риги, личные друзья Лосберга, рыбаки, среди которых был и Лаймон.
Сам Озолс испуганно озирался по сторонам, то и дело поправляя на своей бычьей шее мешавший галстук.
— К чему такая спешка? — недоуменно вполголоса проговорил он. — Пожар, что ли?
Аболтиньш сочувственно посмотрел на обескураженного отца невесты, неопределенно пожал плечами что, мол, поделаешь, барские причуды.
Лосберг, торжественно держа под руку бледную, обряженную в подвенечное платье Марту, нетерпеливо вслушивался в бормотание пастора, ожидая, когда тот доберется до сути дела. Наконец, служка подал на подносике кольца.
— Венчается раб божий Рихард… венчается раба божия Марта… — возвестил пастор.
Марта, как во сне, протянула руку, пальцы ее дрожали, и Рихард долго не мог надеть ей кольцо.
— Поцелуйтесь, дети мои, и да благословит вас господь! — услышала она голос пастора и совсем близко увидела расплывающееся лицо Рихарда, его вытянутые для поцелуя губы.
Все вдруг поплыло перед нею — лицо жениха, пастор, темные лики святых, мерцание свечей… Закружилось — сначала медленно, потом все быстрее… И превратилось в бешеную круговерть.
Артур взволнованно шагал из угла в угол. Мать, перетирая посуду, с состраданием наблюдала за сыном.
— Чего теперь казниться? Выплеснутую воду не зачерпнешь.
Резко распахнув дверь, в комнату вбежал Лаймон:
— Ну и заварил ты кашу! Всякое видел, но такое…
Артур замер, с волнением вглядываясь в лицо друга.
— Представляете, тетя Зента, только им пастор кольца надел, только благословил, она — хлоп в обморок. Вообще-то, я вам скажу, молодой Лосберг похлеще папаши будет. У этого между пальцев не проскочит. Приволок пастора, обвенчался…
— Что с Мартой? — собрался с духом Артур.
— А бог ее знает. Шум, паника… Унесли без чувств.
Артур метнулся к вешалке, схватил фуражку:
— Где? Где она?
Лаймон решительно загородил ему дорогу:
— Ты что? Совсем спятил?
— Пусти!
— Мало ты дров наломал? Еще хочешь? Не пущу!..
К ним поспешила Зента:
— Сынок, одумайся! К чужой жене-то…
Артура словно ударили. Только сейчас до него дошел смысл материнских слов — он безучастно опустился на стул.
Банга сидел отрешенный и не догадывался, что судьба предначертала воздать ему в этот день полной мерой. Бывает с нею такое — расщедрится, так уж расщедрится. Ему было невдомек, что по улице поселка к их дому уже ехала полицейская машина. Машина остановилась подле ворот. Двое дюжих парней в форме поднялись на крыльцо. Старший полицейский постучал, однако его не услышали. Постучал громче. Наконец, дверь распахнулась — на пороге появился высокий худощавый парень с удивительно синими, ярко-васильковыми глазами.
— Вам кого? — удивленно спросил Лаймон.
Полицейский смерил его оценивающим взглядом.
— Вы Артур Банга?
— Нет, а что?
— Кто из вас Артур Банга? — негромко, но весьма многозначительно спросил полицейский, входя в комнату.
Артур, не поднимаясь со стула, вяло ответил:
— Ну я.
— Вам придется поехать с нами.
Происходящее с трудом доходило до сознания Артура.
— Куда? — вяло и безразлично спросил он.
— В Ригу, Одевайтесь!
— А в чем дело? Можно узнать? — поспешил вмешаться Лаймон.
Полицейский сухо ответил:
— Там объяснят. Наше дело доставить. Одевайтесь!
Возле дома уже толпился народ. Ворота были распахнуты настежь, посреди двора стояла полицейская машина, вокруг нее судачили, галдели люди.
— За что парня берете? — напирал на полицейского Калниньш.
Ему никто не ответил.
— Господин офицер, давайте по-хорошему, — рядом с Калниньшем вырос, словно из-под земли, Фрицис Спура.
— Что? — взгляд полицейского беспокойно прошелся по толпе, брови устрашающе сбежались к переносице. — Угрожать?
— Никто вам не угрожает, — пояснил Калниньш. — Просто мы хотим знать, за что берете парня. Если из-за этих подонков… — он презрительно ткнул пальцем в сторону стоявших неподалеку айзсаргов.
— Что-что? — насупился офицер. — Ты на что намекаешь? Тоже прокатиться захотелось? Можем и тебя за компанию прихватить.
— Можете, — буркнул Андрис. — Пока все можете.
— То-то. А ну отойди от машины! — неожиданно гаркнул полицейский и, воспользовавшись секундным замешательством рыбаков, с силой втолкнул Артура в кабину. Машина тронулась.
— Стойте! — вбегая во двор, бросился ей наперерез учитель Акменьлаукс. — Покажете ордер на арест.
— Извольте отойти! — не выходя из машины, приказал офицер.
Но Акменьлаукс не тронулся с места:
— У вас даже ордера нет! Это бесчинство, это нарушение закона. Кому-то понадобилось убрать парня… Мы требуем!..
Толпа недвусмысленно придвинулась к машине.
— Пошел! — встревоженно крикнул шоферу полицейский, и машина, рявкнув двигателем, рванулась вперед. Едва не сбив учителя с ног, она выскочила из ворот на улицу и помчалась в сторону Риги.
ГЛАВА 5
Длинный, богато убранный свадебный стол в доме Лосберга стоял нетронутым. Рихард, в торжественной черной паре, с белоснежной бабочкой, грустно оглядел шпалеры сверкающего хрусталя, серебра, фарфора, цветов в вазах и устало опустился на стул.
В мокрых плащах, ступая на цыпочках, в гостиную вошли Озолс и адвокат Крейзис. Озолс тяжело опустился в кресло, провел ладонью по лицу. Крейзис подошел к Рихарду, тихо спросил:
— Врач еще там?
Лосберг молча кивнул. Адвокат продолжал вполголоса:
— Не волнуйся… Гостей проводили… Ну люди же понимают…
Якоб пробормотал:
— Какое несчастье… Боже! Спасибо вам, господин Крейзис… Вы так ловко обошлись с гостями…
Тот усмехнулся:
— Нам, адвокатам, за ловкость и платят.
Налил бокал, поднял.
— Извини, Рихард, может, я не совсем кстати, но все-таки… Горько! И прошу тебя: не хмурься. Ты же знаешь — после ночи приходит утро, после грозы обязательно светит солнце, — хотел еще что-то сказать, но в это время из комнаты Марты вышел врач. Осторожно прикрыв за собой дверь, заговорил вполголоса:
— К сожалению, ничего ободряющего. Тяжелейшее воспаление легких, осложненное нервной горячкой. Букет не из приятных. Что с ней произошло накануне? Нервничала? Переживала?
Лосберг переглянулся с Озолсом, ответил неохотно:
— Да нет. Ничего особенного.
Доктор искоса взглянул на него:
— Ну — нет, так нет. Мы могли бы поговорить отдельно?
Крейзис предупредительно заторопился:
— Прости, Рихард, мне пора. Не раскисай, крепись — завтра обязательно загляну.
Врач и Рихард прошли в кабинет. Доктор взял со стола сигару, закурил.
— То, что я скажу, может быть, не совсем приятно, но как врач я обязан вам объяснить: подобным заболеваниям предшествуют сильные душевные потрясения. Здесь мы имеем дело с критической вспышкой на грани невменяемости.
— Невменяемости? — ужаснулся Лосберг, — Значит, она вроде как не в себе?
— Не будем преувеличивать. Я сказал — на грани, — и, сглаживая резкость диагноза, пошутил: — В наш беспокойный век, знаете, мы все живем на грани.
Такое объяснение мало утешило хозяина дома. Он сосредоточенно думал о чем-то своем:
— Значит, она еще до того…
Врач сочувственно посмотрел на несчастного:
— Вас все-таки что-то тревожит?
Лосберг скривился как от боли, подошел вплотную к врачу, сказал горячечным шепотом:
— Я бы вас очень просил… этот диагноз… — он на секунду замялся, мучительно подыскивая слова, но врач сам пришел ему на помощь:
— Вы хотите, чтобы все это осталось между нами?
— Да! — выдохнул Рихард. — Я был бы вам очень признателен. Понимаете?..
— Понимаю, — предупреждающе поднял руку доктор. — Ничего не надо объяснять. Вы друг господина Крейзиса, и этого достаточно. Обещаю, что все останется между нами. Но, вместе с тем, настоятельно рекомендую пригласить профессора Блюменталя. Необходима его консультация. И распорядитесь, чтобы в доме была абсолютная тишина. Полнейший покой.
— Блюменталь, Блюменталь… — что-то сосредоточенно вспоминал Рихард. — Позвольте, но ведь это, насколько мне известно, женский доктор?
— Да, — усмехнулся врач. — Это так же точно, как и то, что ваша жена — женщина. Видите ли… возможно, я ошибаюсь, но мне кажется — ваша жена беременна.
Лосберг побледнел:
— Что?
— Вот именно. Поэтому и надо посоветоваться со специалистом.
Рихард смотрел на доктора, с трудом воспринимая смысл его слов.
— Я, конечно, понимаю, но… — Сигара погасла, и врач обернулся в поисках спичек. Лосберг машинально достал коробок из кармана, чиркнул. Опомнился он лишь тогда, когда пламя обожгло пальцы.
— А, черт!.. — Рихард отдал коробок врачу. — Что же вы предлагаете?
— Прежде всего оградить ее от всякого рода волнений. — Он прикурил, выпустил клуб дыма, многозначительно посмотрел на Лосберга. — Я твердо обещаю, что и это останется между нами. Профессора Блюменталя я беру на себя.
Лосберг едва выдавил:
— Благодарю, вы очень любезны.
…Снова и снова бежала Марта по лесу — сквозь ливень, сквозь тьму. За ней гнался, ее настигал Рихард. Бросалась в сторону — навстречу выскакивал пастор. Озолс, Эрна, Петерис — все с воплями и гиканьем носились за ней, протягивали руки. Лица их странно искажались, глумливо скалились.
— Артур!.. Артур!.. — шептала она, разметавшись на подушках.
Потом вдруг вскрикнула отчаянно, вытянулась, затихла. Рихард отпрянул от постели, грубо схватил доктора за плечо:
— Что с ней?
— Господин Лосберг, вы мне мешаете, — врач нетерпеливо стряхнул его руку, взял шприц, опалил пламенем спиртовки иглу. — Я просил вас не входить…
Настольная лампа тускло освещала неприбранный кабинет, неподвижно сидящего за столом Рихарда, его мрачное, заросшее щетиной лицо. Вошла горничная, поставила поднос с кофе:
— Ваш завтрак, господин Лосберг.
— Завтрак? — Он с недоумением поднял воспаленные бессонницей глаза. — Почему завтрак?
Горничная подошла к окну, раскрыла плотные шторы. В комнату хлынул такой яркий свет, что Рихард невольно зажмурился. За окном было белым-бело — деревья, трава сверкали серебристо-снежным покровом.
— Снег? — удивился Лосберг.
— Это иней, он скоро растает, — ответила горничная. — На дворе еще тепло.
Рихард заметил, что прислуга смотрит на него как-то странно.
— Что-то случилось?
— Ваши волосы…
Он шагнул к зеркалу и отшатнулся — в его волосах, таким же, как за окном инеем, пролегла седая прядь.
— Идите! — не оборачиваясь, приказал хозяин.
Едва горничная удалилась, как в кабинет вошел доктор:
— Прошу простить меня за недавнюю резкость, но, знаете, уж очень мы не любим, когда у нас мешаются под руками. Да еще в такие моменты.
Рихард молча, вопросительно смотрел на него.
— Кризис, слава богу, миновал. Вы разрешите? — доктор взял со стола сигару, закурил. — Да, миновал… но положение еще весьма сложное. Тем более, что профессор Блюменталь подтвердил мои опасения. Но не будем отчаиваться — все мы в божьих руках. Так что наберитесь терпения.
Врач вышел. Рихард в тяжелой задумчивости походил по кабинету, остановился у зеркала, еще раз взглянул на свое заросшее, почерневшее лицо, криво усмехнулся:
— Значит, говоришь, миновал? — и вдруг с такой яростью хватил кулаком по зеркалу, что стекло разлетелось вдребезги.
Следователь полистал лежавшую перед ним папку, устало провел ладонью по глазам, спросил сидевшего по другую сторону огромного стола Акменьлаукса:
— Так вы говорите очень даровитый юноша?
— Удивительные способности, господин следователь, — горячо подтвердил учитель. — В физике, математике — особенно. Первым учеником закончил нашу школу. Блестяще занимался в морском училище.
— Похвально, похвально, — одобрил следователь, продолжая листать дело.
— Очень любознателен, много читает, трудолюбив. До этого печального инцидента ни в чем дурном не был замешан. Конечно, я его не оправдываю, он вел себя неразумно, но… если учесть его состояние, молодость, горячность… — Акменьлаукс достал бумагу, протянул следователю. — Вот тут прошение, подписанное почти всем поселком. За правдивость изложенных фактов ручаюсь честью.
Следователь бегло посмотрел прошение:
— Это весьма похвально, господин учитель, что вы принимаете близко к сердцу дела своих земляков. — Он откинулся на стуле, внимательно поглядел на Акменьлаукса. — Непохвально другое. Непохвально, что вы, человек, призванный воспитывать и наставлять добру и разуму, сами подаете своим ученикам дурные примеры.
— То есть? — нахмурился Акменьлаукс. — Я вас не понимаю…
— Очень жаль, — вздохнул следователь. — Во время ареста этого «даровитого» юноши вы попытались воспрепятствовать действиям полиции, подстрекали людей… Полицейские указывают на это в донесении.
— Но, позвольте, у них не было даже ордера на арест.
А вы всегда справедливы по отношению к своим ученикам? Вы никогда не допускаете отдельных отклонений? — жестко перебил его следователь. — Но это еще не все. Затем в тот же день после отъезда полицейских вы устроили в поселке настоящий митинг.
— А, вон что, — усмехнулся Акменьлаукс. — У вас уже и на меня заведено досье. Только за то, что попросил своих же земляков написать это прошение.
Следователь насмешливо посмотрел в его сторону:
— Я понимаю, вам хотелось бы именно так истолковать дело. Но, по счастливой случайности, мы немножко в курсе и ваших поступков, и ваших взглядов. Вы довольно смело отклоняетесь от учебной программы, утвержденной министром. Допускаете любопытное толкование известных исторических событий.
— Я до сих пор наивно полагал, что вопросы преподавания находятся в компетенции министерства просвещения, а не полиции. Извините, если я ошибся.
— И очень жестоко ошиблись. Если министерство не может уследить за такими, как вы, то, поверьте, мы своих детей в обиду не дадим. Нам вовсе не безразлично, какими идеями вы их потчуете. Вам ли затевать хлопоты о «даровитых» юношах? Ступайте, господин учитель! И мой вам добрый совет: будьте благоразумнее. А то как бы за вас самого не пришлось кому-нибудь хлопотать.
Он вошел к Марте — подтянутый, выбритый, улыбающийся. Но она этого не заметила. Обложенная со всех сторон подушками, Марта пристально разглядывала потолок.
— Доброе утро! — бодро сказал Рихард. — Ну, как самочувствие?
— Благодарю, мне лучше, — безучастно ответила Марта, продолжая изучать лепной плафон вокруг люстры. Голос у нее был слабый, чуть слышный. Лицо — как у восковой куклы. — Мы, кажется, поменялись ролями? Впрочем, я и тогда доставляла вам хлопоты…
Лосберг. болезненно передернулся и обернулся, будто за ним стоял еще кто-то.
— Пустяки. Стоит ли говорить о таких мелочах?
— Ну как же? — вяло улыбнулась она. — А вдруг умерла бы под вашей крышей. Хороша гостья!
Рихарду стало не по себе при этом «вы», но он сдержался.
— Мы злоупотребляем вашим гостеприимством, господин Лосберг, — с виноватой улыбкой продолжала Марта. — Но я надеюсь, отец скоро закончит дом и тогда…
— Вам никуда не надо переезжать, — мягко сказал Рихард и взял ее руку. — Вы дома.
— Правда? Мы уже дома? — она слегка приподняла голову, оглядываясь вокруг. И вдруг сдвинула брови, что-то с трудом припоминая. — Да, да, конечно… Я, кажется, перепутала… — Марта жестом попросила Лосберга нагнуться и едва слышным шепотом спросила: — Это правда, что я ваша жена?
— Да, Марта, — изо всех сил стараясь казаться спокойным, подтвердил он, — ты моя жена.
— Я твоя жена… — Она вдруг рванулась и села на постели — губы закушены до крови, в глазах отчаяние, схожее с безумием.
— Марта! — Рихард попытался уложить ее на место, но было поздно — она билась у него в руках, рыдания душили ее. — Доктор!
Врач вбежал в комнату.
— Я же просил вас!.. — Он бесцеремонно оттолкнул Лосберга и склонился над больной.
По железной, похожей на корабельный трап лестнице медленно спускался Артур, сзади гремел подковами конвоир. Он вел Бангу со второго этажа четвертого корпуса Центральной тюрьмы на допрос. Доставив арестованного в кабинет следователя, конвоир вышел — щелкнул замком запираемой двери.
— Садитесь, Банга! — мягким, усталым голосом пригласил следователь, перелистывая страницы в разложенной перед ним папке с делом.
Был он по-домашнему прост, грузен и совсем не страшен. Лысый, усталый, замороченный службой и семейными делами человек. Артур опустился на привинченный к полу табурет, ожидая вопросов. Он выглядел постаревшим на несколько лет. Но следователь будто забыл о нем, молча листал бумаги.
— Итак, Банга, вопрос все тот же, — наконец заговорил он. — Что вы передали в Риге продавцу газет в киоске у входа в Верманский парк двадцать третьего июля сего года?
— Я никому ничего не передавал. Только купил газету. «Спорт», кажется.
— Глупо, Банга. У нас же в руках факты. Продавец арестован, взят с поличным. Установлено, что он служил почтовым ящиком для нелегальщины.
— Но при чем тут я?
— Не торопитесь. Так когда вы покупали газету? Двадцать третьего? Прекрасно.
Следователь полистал папку, вынул из нее номер «Цини» со статьей, отчеркнутой красным карандашом.
— Ну вот… А тридцатого числа того же месяца в подпольной газете «Циня» появилась эта статья… Видите? — следователь протянул Артуру газету.
Тот взял ее, но смог прочесть только заголовок — от волнения строчки прыгали перед глазами.
— Обычная красная демагогия об эксплуатации наших несчастных рыбаков, — продолжал следователь, забирая у него газету. — Но самое интересное — почти все факты взяты из жизни вашего поселка. Ну, что вы на это скажете?
— Откуда мне знать? Я ее не писал.
— Правильно, Банга. Это ваше первое правдивое слово. Писал-то другой, а вы… вы, может, и не знали, что он вам подсунул. Какую свинью подложил. И вы еще выгораживаете этого мерзавца.
— Уверяю вас, господин следователь, вы ошибаетесь. Никто мне…
— Мы здесь не для того, чтобы ошибаться. В конце концов и без вас найдем анонимного автора. Но жаль, что вы так и не захотели нам помочь. — Следователь закрыл папку, аккуратно завязал тесемку. — Итак, Банга, мы с вами расстаемся.
Артур внимательно посмотрел на него.
— Да, да. Мне вы больше не нужны. Но должен вас огорчить — домой вы попадете не скоро. Вами заинтересовалась уголовная полиция.
Артур напрягся, предчувствуя новую ловушку.
— Довольно неприятный сюрприз. Понимаете, они подозревают вас в поджоге дома некоего Озолса.
— Это подлость, — невольно вырвалось у Артура. — Применять такие методы…
— Подлость, Банга, скрывать государственного преступника от заслуженной кары.
Артур подавленно молчал.
— А насчет методов я вам скажу так… Знаете, в уголовной полиции большие тугодумы. Допустим даже, что вы не виноваты. Впрочем, это тоже надо доказать. А пока они разберутся — ох, сколько времени пройдет за решеткой. Подумайте, с какой репутацией оттуда выйдете? Вы это хорошо понимаете?
Артур молчал.
— Ну, так будете нам помогать?
— Нет.
— Что ж. Тогда пеняйте на себя.
Рихард снова зашел в комнату Марты. Она была еще бледна, но выглядела уже лучше. Во всяком случае спокойнее. Рядом с ней стоял столик, уставленный лекарствами. Стрельнув в ее сторону коротким настороженным взглядом, Лосберг преувеличенно бодро сказал:
— Я вижу, тебе сегодня значительно лучше.
Она не ответила. Рихард продолжал:
— Доктор говорит — еще немного, и ты сможешь встать с постели. — Он улыбнулся, стараясь казаться беспечным. — Не забудь — мы в долгу перед нашими гостями. Они так и не посидели за свадебным столом.
Ее глаза медленно наполнились слезами.
— Не надо, Рихард. Мне врач все рассказал сегодня. Клянусь тебе… Я ничего не знала. Глупо, конечно, но… не знала…
Лосберг попытался прервать ее объяснение:
— Марта!
Но она, не слушая, продолжала взволнованно:
— Я уйду… Уйду из твоей жизни! Никто никогда не узнает… Прости… — она не сдержавшись, зарыдала. — Да, я любила. И ты знаешь кого. Но обещаю тебе…
Он проглотил комок, сам, еле сдерживаясь, заговорил глухо:
— Марта, родная, поверь… Ты пришла ко мне такая, как есть. Я тебя никогда ни о чем не спрашивал и никогда не спрошу — клянусь! Все твое стало теперь моим — отныне и навсегда. Ты слышишь?
За окнами домашнего кабинета адвоката Крейзиса, задрапированными шелковыми портьерами, маячили в ноябрьском тумане шпили рижских соборов. Крейзис сидел в глубоком, покойном кожаном кресле с рюмкой ликера в руке.
— Одного не пойму. На кой черт тебе сдались хлопоты об этом рыбаке.
— А как бы ты поступил на моем месте? Он мне жизнь спас. И потом — Марта… Сам понимаешь…
— Ох уж эти сантименты… Между прочим, твой Банга попал в довольно неприятный переплет.
— Уверяю тебя — к поджогу дома он не мог иметь никакого отношения.
Крейзис поморщился:
— При чем тут поджог? Он просто обозлил политохранку. И, по-моему, не без основания.
— Исключено, Освальд. Артур — простой парень…
— Они все выглядят простыми, — с неожиданной злобой сказал Крейзис. — Я бы таких на фонарях вешал. Чему ты ухмыляешься?
— Я? — рассеянно отозвался Рихард, разглядывая пузырьки в бокале шампанского. — Я, понимаешь, думаю… какое же мы все-таки дерьмо…
— Ого!
— Да, да, Освальд. Дерьмо. Со всеми нашими деньгами, связями, приличными манерами, образованием… С идеями, наконец.
— Рецидив студенческого фрондерства? — усмехнулся Крейзис. — Или флирт с социалистами?
— Нет, Робеспьер из меня не получится. Я добропорядочный современный буржуа до мозга костей… Но вот этот самый Банга… Это — латыш. Упрется — буйволом не свернешь. На таких и держится нация. А мы… можем только болтать о своих принципах, убеждениях, национальном достоинстве. Да и то… пока не коснется шкуры.
— Ты сегодня не в духе, Рихард.
— Нет, я просто размышляю вслух. Возьми себя: модный адвокат. Успех за успехом, спасаешь от каторги сановных казнокрадов, взяточников, высокопоставленных развратников, убийц. Пригоршнями швыряешь эту человеческую мерзость обратно в котел общества. А потом натыкаешься на такого парня, как Банга… И ты бы его на фонарном столбе…
— Почему же — саркастически усмехнулся хозяин дома. — Именно я, модный адвокат Крейзис, вынужден спасать опору нации. Ты не улавливаешь парадокса нашего с тобой положения? — И, заметив, что Рихард сердится, миролюбиво махнул рукой. — Ладно, оставим. Ну, что тебе сказать? Зацепиться там есть за что. Не играть в покер одновременно с политохранкой и с этими дубами из уголовной полиции… Посмотрим. Ты когда уезжаешь в Германию?
— Чем скорее, тем лучше. Как только немцы вошли в Польшу, прекратились поставки вискозы — хоть фабрику закрывай. Ты представляешь, в каком я положении?
— Очень хорошо.
— То есть что хорошо?
— Услуга за услугу. Понимаешь, нашим людям неудобно сейчас самим ехать в Германию. Афишировать связи с немцами…
— Значит, это все-таки правда?
— Слушай, ты на каком свете? Если возникнет опасность красного переворота, где реальный союзник против этой чумы?
— Ваш «Гром к Крест» хочет взять на себя историческую миссию?
— Можешь язвить сколько хочешь, не мы не намерены сидеть сложа руки.
— Ну вот видишь… О чем я и говорю. Гори они огнем все эти принципы, розовые планы национального процветания, независимости. Все эти речи, которыми мы тут сотрясали воздух…
— Ты напрасно иронизируешь, Рихард, — спокойно возразил Крейзис. — Можно, действительно, сколько угодно сотрясать воздух болтовней о национальной независимости, но если делать что-то всерьез — какими-то принципами придется поступиться. Можно сколько угодно поносить немцев, но сбрасывать их со счетов как единственно реальную опору — глупо!
— Ах, вот оно как, — саркастически усмехнулся Лосберг. — Поступиться одними принципами ради других? Ладно, тогда давай выпьем. Есть дивный тост. За свободу!.. От принципов.
Крейзис не поддержал его шутки, озабоченно посмотрел на часы.
— Через две-три минуты ты увидишь настоящих людей.
— Скажи прямо, чего ты хочешь от меня? Вербуешь в соратники?
— Зачем? Просто ты со своими связями в Германии можешь быть нам очень полезен.
Раздался звонок у входной двери, Крейзис поспешил в переднюю. Через минуту в комнату вошли сразу несколько человек — высокий, массивный директор банка Фрицкаус, промышленник Карлсонс, майор Янсонс, министр без портфеля Эглитис, морской офицер Берзиньш.
— Входите, друзья! — радушно пригласил Крейзис. И упрекнул: — Что же вы все так — скопом? Не думаю, чтобы полиция интересовалась моим домом, но и устраивать марш-парад вряд ли разумно.
— Прохладный прием, — потирая озябшие руки, усмехнулся Фрицкаус. — Мы надеялись на что-нибудь погорячее.
— Найдется и погорячее. Все знакомы с моим другом, Рихардом Лосбергом?
— Здравствуйте, наследник, — первым подошел к нему Фрицкаус. Как ваши дела? Не тяжела ноша?
— Говорят, своя ноша не тянет, — пожимая протянутую ему руку, улыбнулся Рихард. — Хотя, признаюсь, со стороны все казалось проще.
— Господа! — громко и торжественно проговорил Крейзис. — Нам повезло — на днях господин Лосберг по своим коммерческим делам отправляется в Германию.
Крейзис беседовал с Артуром:
— М-да, дело о пожаре… Точнее, о поджоге. Состряпано оно волостными пинкертонами довольно неловко. Все было бы значительно проще, если бы не один казус — на всех допросах вы упорно отказываетесь отвечать, где были в ночь перед пожаром? — Он выдержал паузу, потом спросил доверительно: — Может, хоть мне скажете?
— Нет. Этого сказать я не могу.
Адвокат с явным любопытством посмотрел на рыбака:
— Послушайте, Банга, вы осознаете свое положение? Вам предъявлено обвинение в поджоге. Дело пахнет тюрьмой. Каторгой! Вы можете понять?
— Но это же чепуха. Я не сумасшедший, зачем мне поджигать дом?
— Тяжело с вами, — вздохнул Крейзис. — Зачем поджигать? Да мало ли зачем? Обвинительная версия как раз и строится на мотивах мести, ревности… Фактов-то у них нет. Свидетели — липа! Врут вразнобой. И вот вы собственной рукой подсовываете им один-единственный, но вполне веский аргумент. Как мне вас защищать? Из чего прикажете кроить алиби? — Он поднялся, прошелся по тесной каморке, пробормотал сердито: — Черт вас за язык тянул! Могли бы вообще сказать, что спали у себя дома.
— А что бы это изменило? — пожал плечами Артур.
— Тогда выкладывайте начистоту. Есть кто-нибудь, кто может подтвердить, что вас в это время действительно не было в поселке?
Артур не ответил.
— Куда вы так поздно уходили из дому? Где были почти до утра? Почему явились в артель перед самым выходом в море?
Артур молчал. Может быть, даже не слышал. Он снова был там, на старой мельнице, в мягкой копне пахучего сена.
…Молчи, молчи… — тревожно и радостно шептала, прижимаясь к нему Марта. — О чем мне жалеть? Я твоя жена… Твоя… На всю жизнь.
— Марта, любимая… он бережно касался губами ее широко распахнутых глаз.
Летели над ними рваные облака, трепетным призраком, обманчивым маяком их недолгого счастья мелькала, в просветах луна…
— Благородство проявляете? — услышал он откуда-то издалека голос адвоката. — Какую-нибудь девчонку выгораживаете? Смотрите — дорого оно вам обойдется. — Крейзис пронзительным взглядом впился в лицо подследственного.
— Что вы меня пугаете? — угрюмо огрызнулся Артур. Должны же в самом деле разобраться? Если человек не виноват…
— Разберутся! — усмехнулся Крейзис. — Упекут за милую душу годков на десять. А то и на двенадцать. Судебная машина, молодой человек, штука громоздкая — ее запустить легко, а остановить — не подступишься. Сомнет кого хочешь! Пока я могу помочь — торопитесь, цепляйтесь… Потом сам президент вас не вызволит.
Артур невольно поежился. Может быть, и в самом деле до его сознания впервые дошла вся безнадежность положения. Несколько секунд сидел он молча, добела сцепив пальцы, потом проговорил хрипло и категорично:
— Я не могу… отвечать…
Крейзис как-то странно посмотрел на своего подзащитного, закрыл папку, поднялся из-за стола.
На улице, неподалеку от входа, его поджидал Рихард. Заметив Крейзиса, нетерпеливо бросился навстречу, без всяких предисловий спросил:
— Ну как?
— Можешь не беспокоиться, ничего лишнего. Во всяком случае, ничего из того, чего ты боишься, он не сболтнет.
— Откуда ты взял, будто я чего-то боюсь? — покраснел Лосберг.
— Брось, Рихард. Я же не только твой приятель, но еще немного и психолог. В подробности не лезу, но суть схватываю намертво. Так вот, запомни — этот… Не то что на каторгу — на костер пойдет. Молча. Так что — спи спокойно.
Рихард судорожно сглотнул слюну, отвернулся:
— Что же все-таки можно сделать? — глухо спросил он.
— Во всяком случае, до суда доводить нельзя — обратного хода не будет. Попробуем подключить Рудольфа. Не волнуйся, сделаю все, что могу. — Прищурился иронически: — А в принципе… вот таких… он кивнул в сторону тюрьмы, — я бы не только на фонарях вешал — я бы их топил… не подпуская к берегу!
С печальным криком тянулся в небе запоздалый журавлиный клин. Марта, запрокинув голову, провожала взглядом улетающих птиц. Коляска медленно катила по той же, обсаженной вязами, дороге. Так же дремал на козлах, пьяный Петерис. Только вязы теперь стояли голые, осенние, почерневшие.
— Знаешь, я тоже становлюсь приверженцем деревенской идиллии, — сказал Рихард, заботливо поправляя плед на коленях Марты. — Куда приятнее вот так, не спеша, прокатиться на лошадке.
Она чуть заметно поморщилась — быть может, его голос мешал ей слушать затихающие вдали журавлиные крики.
— А главное, для тебя эти прогулки — просто чудодейственны, — бодро продолжал Лосберг. — С каждым днем ты как будто рождаешься заново. Тебе не холодно?
— Нет, — тихо ответила она.
— Кстати, как ты думаешь: а не отправиться ли нам куда-нибудь в путешествие? Мне кажется, тебе это было бы полезно. И доктор советует. Так как?
— Да, я бы с удовольствием, — задумчиво отозвалась Марта.
— Вот и отлично! — Я уже написал в Мюнхен. Ты не возражаешь? Мне кажется, этот город тебе понравится — в нем есть что-то общее с Ригой.
— Можно и туда, — вяло согласилась она. Низко, почти к коленям, опустила голову, через силу выдавила из себя: — Но ты должен выполнить одну мою просьбу, последнюю.
Он весь напрягся в ожидании.
— Ты должен помочь Артуру. Иначе я не смогу уехать.
Рихард проглотил комок, отвернулся.
— Меня незачем просить, — сухо отрезал он. — Я и так делаю все, что в моих силах.
ГЛАВА 6
— Вы никогда прежде не бывали в Германии? — обернулся дядюшка Генрих, добродушный толстяк, к Марте, сидевшей на сафьяновых подушках его роскошного лимузина. — Вам чрезвычайно повезло, что вы начинаете именно с Мюнхена.
— Держись, Марта, сейчас тебе придется выслушать целую поэму о Мюнхене, — насмешливо вставил Рихард.
— Да, Мюнхен — это и есть настоящая Германия. Добрая, старая… Мы еще тут побродим с вами. Здесь найдется на что взглянуть… Какая архитектура! Семнадцатый век, пятнадцатый. А наша глиптотека — уникальнейшее собрание скульптур! А театр?..
— Кстати, тут недалеко — Коричневый дом, — сообщила фрау Эльза, супруга дядюшки Генриха, особа еще более дородная, — бывшая резиденция фюрера. Он и теперь здесь бывает.
— А вон в той пивной я впервые услышал речь фюрера! — подхватил возбужденно дядюшка. — Погодите, я еще напишу трактат о благотворном влиянии нашего баварского пива на политику. Недаром же именно в Мюнхене фюрер стал фюрером.
— Учти, Марта, если хочешь завоевать сердце дяди Генриха, пей пиво только с золотым петухом на этикетке, — посоветовал Рихард. — Это марка его заводов.
— Марточка, дорогая, — вы позволите вас так называть? — не слушайте этого шалопая! — галантно засуетился дядюшка Генрих. — Мое сердце уже безраздельно принадлежит вам — с того самого момента, как вы ступили на перрон. — И, покосившись на монументальную тушу жены, томно добавил: — Красивые женщины всегда были моей слабостью.
Рихард поспешил отвернуться, чтобы не прыснуть, и подмигнул Марте. Но она этого не заметила — сжавшись в углу машины, рассеянно смотрела в окно. Автомобиль катил теперь мимо роскошных особняков Богенхаузена.
— Дядюшка, ты забыл о своих обязанностях гида…
— Почему — забыл? Марточка, вот Богенхаузен. В этой части города живут… э-м-м… уважаемые люди.
Машина остановилась возле дома с колоннами из серого камня.
— А вот и наша лачужка! — с лукавым торжеством воскликнул дядя Генрих. — Прошу!
«Лачужка» пивного фабриканта была отделана с тяжелой, несколько старомодной роскошью: дубовая мебель, старинная бронза, потемневшие от времени картины со сценами из немецкой мифологии. В столовой пылал камин.
— Кушайте, дорогая, кушайте, — опекала Марту фрау Эльза за столом, сверкающим дорогим фарфором и оправленным в серебро хрусталем. — В вашем положении очень важно регулярно получать достаточное количество хорошей пищи, овощей и фруктов. Рихард, это никуда не годится: ты совершенно не заботишься о жене! Смотри, какая она у тебя бледненькая. Ну ничего, дорогая, теперь я за вас примусь. Ручаюсь, через неделю на ваших щечках расцветут розочки.
— Тетя Эльза, а куда делся ваш Ганс? — оглянувшись на горничную, внесшую очередное блюдо, спросил Рихард. — Неужели вы все-таки решили расстаться с таким величественным монументом?
— Мы вообще отказались от мужской прислуги, — пояснил дядя Генрих. — Это инициатива моей жены.
— Да! — властно тряхнула двойным подбородком фрау Эльза. — Я горжусь, что все наши люди — швейцар, лакеи, повар, словом все, кроме шофера, — теперь несут службу в рядах вермахта. И что самое главное — совершенно добровольно. Ведь у Генриха есть специальное разрешение на слуг…
— Ну, положим, не совсем добровольно, — с кислой миной возразил дядя Генрих. — Ты приложила немало усилий, чтобы заставить Ганса сменить ливрею на солдатский мундир…
— Нет, добровольно! — повысила голос фрау Эльза. — Я настаиваю на этом. Мы, мюнхенцы, лучше других понимаем, как нужны сейчас нашему фюреру солдаты.
— Стало быть, у нас с Мартой есть шанс снова встретиться с вашим Гансом? — усмехнулся Рихард. Где-нибудь в Риге… Кстати, тетушка, разъясните мне один политический казус — если Германия все же надумает прибрать к рукам Прибалтику; где будет проходить демаркационная линия в этом доме? В гостиной? В столовой? Надеюсь, не в спальне? Дядюшка, хоть и патриот Мюнхена, однако все же — латыш.
— Ты чепуху городишь, милый, — отрезала тетушка Эльза. — Во-первых, если фюрер решит ввести войска в эту вашу… Латвию, то лишь для того, чтобы защитить вас от красных…
— Ну разумеется!..
— А, во-вторых, тебе бы следовало знать — твой дядя уже год, как принял германское подданство.
— Что я слышу! — всплеснул руками Рихард. — Дядюшка, возможно ли? А как же твои национальные убеждения, которые ты так лелеял?
— Видишь ли, мой мальчик… — дядя Генрих смущенно закашлялся. — Тут иначе просто невозможно вести дела. — Да и вообще… — он пугливо посмотрел на жену.
— А ты как думал, мой милый? — решительно вмешалась та. — Наживать здесь капиталы и оставаться в стороне от священной судьбы немецкого народа? Нет уж, прости… Я как честная немка ни за что не согласилась бы иметь мужа, который…
— Контрольная инспекция! Всем построиться на поверку! — раздался от двери чей-то зычный голос.
Марта удивленно обернулась и увидела стройного красавца в щегольской офицерской форме.
— Манфред! — радостно вскрикнул Рихард, выбираясь из-за стола. Мужчины обнялись. — Марта, позволь представить тебе моего лучшего друга и однокашника…
Но офицер уже сам приблизился к Марте, щелкнул каблуками, церемонно поклонился:
— Манфред Зингрубер! — Он протянул роскошный букет белых хризантем. — С приездом и счастливым рождеством!
Поцеловал руку гостье, затем хозяйке дома, вновь обернулся к Марте и театрально покачнулся. Схватился за спинку стула, как бы удерживаясь от обморока:
— Закрой мне глаза, Рихард! Лучше сразу, чтобы не гибнуть мучительной смертью завистника.
— Марта, это тот самый Манфред, о котором я тебе все уши прожужжал. Знаменитый сердцеед!
— Да, да… — как бы очнувшись, кивнула Марта. — Рихард мне говорил… Вы, кажется, вместе заканчивали университет?
— Вот именно — заканчивали! Лично меня выперли с четвертого курса, — захохотал Зингрубер.
— Зато ты преуспел в другом, — заметил Лосберг.
— Да. К своему счастью, я быстро понял: в жизни есть кое-что поважнее сонетов Шекспира.
— У тебя семья?
— Армия моя семья.
— Господин Зингрубер, могу ли я пригласить вас пообедать с нами? — обратилась к нему фрау Эльза.
— О, как это мило с вашей стороны.
— Я бы с удовольствием попотчевала вас чем-нибудь более изысканным, но вы сами знаете, как сейчас с продуктами…
— Что вы хотите… располагаясь за столом, ответил Зингрубер, — война. Вот возьмем Париж — будем глотать устриц и запивать бургундским.
Марта остро посмотрела на него, спросила холодно:
— Вам Париж нужен только для этого?
Манфред рассмеялся:
— Я вижу, латыши не лишены чувства юмора.
— Господин Зингрубер не только военный, — заминая неловкость, поспешно вмешался дядюшка Генрих. — Он еще и компаньон своего отца. Старейшая в Европе фирма по производству хрусталя.
Манфред с аппетитом прикончил жаркое, жестом отклонил следующее блюдо и, выбрав бутылку, сам налил себе вина:
— Сейчас я вам объясню, фрау Марта, что значит состоять компаньоном у своего отца. Помните школьную задачку о бассейне? По одной трубе втекает, а по другой вытекает… Так вот, я та самая, по которой вытекает.
— Легкомысленные молодые люди, — укоризненно покачала головой фрау Эльза. — Вы не знаете, что такое черствый кусок хлеба.
— Почему не знаю? — живо возразил Манфред. — Мой родитель всегда заставлял меня по утрам пить кофе именно с черствым хлебом — даже без масла. Воспитывал во мне истинно немецкое воздержание.
— Какой ужас! — поежился Рихард.
— Очень разумно с его стороны, — одобрила фрау Эльза. — Чревоугодие порочно.
— Совершенно с вами согласен, — смерив ее коротким, насмешливым взглядом, согласился Манфред.
— Кстати, о воздержании. — Гость отставил стакан и поднялся из-за стола. — Фрау Марта, вы позволите нам с Рихардом выкурить по сигаре? Не сердитесь, я верну вам вашего супруга целым и невредимым.
Лосберг отошел с ним к камину. Они сели в кресла, закурили.
— Ей-богу, если надумаю жениться, приеду к тебе в Латвию. — Зингрубер покосился в сторону Марты.
— Не очень-то заглядывайся, старый повеса, — добродушно проворчал Рихард.
— Хороша. Кстати, каковы ваши планы? Где вы намерены обосноваться?
— Пока, наверное, погостим у дядюшки.
— Пока — это пока. А потом? Как я понял из твоих посланий, ты хочешь пробыть здесь как можно дольше? Не так ли?
— Допустим.
— Свадебное путешествие только предлог?
— Ну почему же…
— Ладно, оставим. Скажу прямо — идеи, которые развивают твои друзья, довольно интересны.
— Они мне не друзья. Просто я взялся выполнить их поручение.
— Вот как! У тебя самого есть другие, более интересные предложения?
Рихард смутился:
— Да нет. Просто я никогда всерьез об этом не думал.
— Сам-то как живешь?
Рихард взял щипцы, задумчиво помешал дрова в камине.
— Как тебе сказать. Иногда мне кажется, что я в поезде, который идет совсем в другом направлении, — честно признался он. — Вот-вот заявится проводник и попросит убраться. Все прогнило, все трещит…
Манфред положил свою ладонь Рихарду на руку:
— Насчет вискозы для твоей фабрики я сделаю все возможное. А что касается поручения твоих… знакомых — об этом поговорим в другом месте. Мне кажется, я знаю, что тебе сейчас надо. У меня есть вилла. Райский уголок на Боденском озере. Кругом лес, Альпы… Один берег немецкий, другой — швейцарский — плыви куда хочешь! — Манфред понизил голос. — Настоящие идеи должны вызревать в тишине, вдали от праздных глаз.
— Заманчиво. Ты так все продумал… — Рихард искоса взглянул на приятеля, — будто уже согласовал со своим начальством.
— А если и так? Тебя что, это не устраивает? Ты же деловой человек, Рихард. Допустим, я помогу тебе с вискозой. Раз, два… А потом? — он посмотрел ему прямо в глаза. — То-то!
Рихард поднялся:
— Марточка, Манфред приглашает нас погостить на его вилле. Место превосходное — озеро, лес. Что ты скажешь?
— Я очень рада, — тихо отозвалась Марта. — Но мы, вероятно, доставим господину Зингруберу массу беспокойств.
— О чем вы говорите? — Манфред подошел, склонился к ее руке. — Что может быть приятнее, чем доставить вам хотя бы маленькую радость?
— То есть вы хотите похитить у нас Марточку с Рихардом? — дошло наконец до фрау Эльзы.
— Надеюсь, вы не станете возражать, что свежий лесной воздух будет для нее сейчас полезнее мюнхенских туманов?
— Да… но… Знаете, Манфред, вы всегда неожиданны, как вулкан.
— Вы мне делаете комплимент.
— А ну вас! — недовольно отмахнулась фрау Эльза. — Генрих, почему ты молчишь?
— Я думаю, Рихард вполне самостоятельный человек, чтобы принимать нужные ему решения, — философски заметил дядя Генрих, но по его лицу было видно, что он тоже недоволен предложением гостя.
Приютившаяся среди лесистых заснеженных гор вилла Зингрубера выглядела так, будто ее перенесли сюда прямо с глянцевой страницы рекламного проспекта. Интерьер здесь был стилизован под охотничий домик: со смолистых бревенчатых стен свирепо скалились клыкастые и рогатые головы. На полу и на стенах были распластаны волчьи, медвежьи и кабаньи шкуры, над очагом, сложенным из грубых, нетесанных глыб, — дубовая полка с тяжелой медной утварью. Богатая коллекция оружия подчеркивала изысканную простоту убранства.
Марта бродила по вилле, с опасливым любопытством трогая то оскаленный волчий клык, то хищно загнутый клюв беркута — его чучело тоже оказалось в этой диковинной коллекции. Ей было и жутковато и интересно. Под деревянной лестницей, ведущей на антресоли, заметила маленькую резную дверку. Неслышно ступая по шкурам, подошла, распахнула ее и вздрогнула от неожиданности. За дверью стоял человек. Весь в черном — высокий, костистый, с длинным лошадиным лицом, он в упор смотрел на нее водянистым немигающим глазом. Другой глаз был закрыт черной повязкой. Неподвижный и странный человек казался частью этого царства мертвых зверей. Марта слабо вскрикнула и отступила прочь.
Но тут в комнату, громко разговаривая, вошли Рихард и Манфред.
— А-а, вы уже познакомились с господином Фуксом? — улыбнулся Зингрубер, не заметив испуга гостьи. — Он будет исполнять все ваши желания. — Хозяин обернулся к одноглазому и строго подчеркнул: — Я надеюсь, Фукс, мои друзья будут довольны.
— Так точно, господин Зингрубер! — Фукс любезно осклабился.
— Можете нанять еще одну горничную.
— Мне думается, в этом нет необходимости, господин Зингрубер.
— Смотрите — фрау Лосберг нуждается в уходе.
— Не извольте сомневаться, господин Зингрубер, — Фукс поклонился и молча исчез за дверью.
— Ну, как вам моя берлога? — обернулся Манфред к молодоженам.
— Знатная обитель, — усмехнулся Рихард. — Как ты думаешь, Марта, нам не будут по ночам сниться эти страшилища?
Она покосилась на дверцу под лестницей, тихо ответила:
— Я не боюсь зверей.
Манфред посмотрел на нее с интересом:
— Умница! Люди куда опаснее. Вы еще не видели, какая тут вокруг прелесть. Я вам искренне советую, Марта, одевайтесь потеплее и осмотрите парк. Вы получите огромное удовольствие.
Яркий, искристый свет ударил Марте в глаза, как только она — в белой шубке и пушистой шапочке — сошла с крыльца. День сверкал снегом и солнцем. Недвижные, зачарованные, серебрились мохнатые ели. Неподалеку от дома крепкий, румяный старик деревянной лопатой расчищал дорожку. Посторонившись, он склонился в вежливом поклоне. Марта прошла было мимо, но вдруг остановилась, пораженная: подле старика топтались две косули. Одна беспардонно вытаскивала хлеб из его кармана, другая умильно заглядывала в глаза, выпрашивая свою долю.
— Они вас совсем не боятся, — удивилась Марта.
— Вот это меня как раз и беспокоит — излишняя доверчивость не приводит к добру. Тут и собаки бегают, и охотники бродят.
Марта осторожно наклонилась, погладила косулю по голове — та даже не шелохнулась.
— Господи, какая прелесть!
Старик вытащил из кармана краюху хлеба, протянул женщине.
Они будут и вас узнавать, фрау…
— Меня зовут Марта.
— Шольце. Иоганн Шольце, — с достоинством поклонился старик. — Мы с женой живем во-он в том домике. Если когда-нибудь заглянете, Луизхен угостит вас своим особенным кофе.
— Благодарю, господин Шольце. Я обязательно воспользуюсь вашим приглашением.
Марта зашагала по дорожке. Она шла и улыбалась — этому яркому дню, забавной встрече. Улыбалась, может быть, впервые после болезни.
Манфред колдовал у камина — там над углями шипел, зарумяниваясь, увесистый кусок мяса.
— Преимущества пещерного быта, — приговаривал он, поворачивая чугунный вертел. — Взял свежатину, сунул в огонь — и готов тебе ужин… Да какой! Щекочет ноздри?
Рихард с бокалом в руке сидел в кресле и, прихлебывая вино, наблюдал за приятелем. Зингрубер хозяйничал умело, со вкусом. На столе, покрытом крестьянской домотканой скатертью, мерцали граненые штофы с настойками, поблескивали серебряные, старинной чеканки охотничьи кубки, в глиняных блюдах громоздилась свежая зелень, крупно нарезанный хлеб. В плоской корзинке радугой искрились бутылочки с приправами.
Взяв длинный охотничий нож, Манфред сбросил мясо с вертела и стал напластывать на деревянной доске розовые, дымящиеся ломти.
— Простые радости жизни, — подмигнул он Лосбергу. — Мясо, вино, хлеб… Еще кое-что… Помнишь наши славные студенческие загулы? Да, тогда мы умели ценить простые радости…
Рихард прищурился:
— Что-то ты сегодня все напираешь на эти «простые радости»… Кстати, я смотрю, тебя война не очень обделила. — Он взглядом указал на богато уставленный стол.
— Естественно. Я ведь солдат. Имею право хотя бы на эту привилегию… — Манфред плеснул в кубки, крепко потер руки. — Ну что, начнем? За что выпьем?
— Наверное, за старую дружбу?
— Подходит, — Зингрубер чокнулся, сочно хрустнул свежим огурцом и мельком посмотрел на Рихарда. — Все забываю спросить… Откуда это?.. — он показал на шрам от ожога.
— Да так. Было дело…
— Шалости или что-то серьезное?
— Ни то, ни другое.
— Женщина?
— Во всяком случае не то, что ты думаешь.
— Думаю? — Манфред озорно сверкнул глазами. — Нет, это не по моей части. Видеть, слышать, осязать — с превеликим удовольствием. А сжигать нервные клетки, напрягать извилины… Увольте! Это ты у нас мыслитель. А я обычный немецкий бюргер. Порцию сосисок, кружку пива…
— За что крест получил?
— Да так. Было дело, — в тон Рихарду ответил Манфред, — немножко Австрии, немножко Чехословакии…
— Что-то особенное или героическое?
— Ни то, ни другое.
Зингрубер был как всегда весел, шутлив, беспечен. И все же Лосберг не мог избавиться от мысли, что сегодня он как-то по-новому, более пристально, что ли, приглядывается к нему. Острое, напряженное внимание угадывалось во всем. Да и вообще Рихард все больше подмечал изменения в старом приятеле. Хочет казаться простым, компанейским парнем, а сам — весь собранность и напряжение. Говорит одно, а в глазах читаешь совсем другое.
— Кстати, о дружбе… Как насчет моей просьбы? — спросил Лосберг.
— С вискозой пока неважно. Почти все поставки идут для армии. Но я постараюсь… — Манфред отложил нож, придвинул мясо. — Ешь, пока горячее… А что, ваши промышленники брезгуют восточным сырьем? По торговому соглашению с Россией вам обещано все, начиная от хлопка и кончая табаком и солью.
— Наши верхушки еще поперхнутся этой солью. То ли они не понимают, что любые контакты с Советами играют на руку коммунистам, то ли ведут глупую и опасную двойную игру… Да я скорее закрою фабрику, чем возьму у русских хоть грамм сырья.
— Понимаю твои эмоции, но поверь… Германия вовсе не равнодушна к тому, что происходит в Прибалтике.
— Не равнодушна? Тогда почему немцы так поспешно уезжают из Латвии? Почуяли, что корабль тонет?
— Время сложное, Рихард. Во всяком случае, мои соотечественники переселяются из Прибалтики в Германию не за тем, чтобы покинуть вас навсегда.
Лосберг хотел возразить, но хозяин не дал ему и рта раскрыть:
— Погоди! Меня сейчас волнует другое. Ты отдаешь себе отчет, с какой миссией прибыл к нам?
Вот теперь-то уж Манфред не рисовался. Перед Рихардом сидел совсем иной человек — пытливый, напористый, жесткий.
— Ты имеешь в виду вискозу?
— При чем здесь вискоза? Тем более, что ты избрал для себя весьма сомнительную роль — что-то вроде почтальона.
— Тебя это обескураживает или раздражает?
— Я хочу понять, для чего ты приехал в Германию.
— По-моему, я все объяснил. Моих друзей в Латвии интересует, могут ли они рассчитывать на вашу помощь в нужный момент. Только и всего.
Зингрубер желчно скривился:
— Это все слова, Рихард. Как много их стало! Кругом все говорят… Как с морального похмелья — блюют словами, куда ни попадя. В микрофоны, в кинокамеры, газеты, прямо на головы — с высоких трибун. Какое-то вселенское, тотальное словоблудие! Вот я и спрашиваю тебя на правах старого друга: тебя прислали поговорить или за чем-то более определенным?
Лосберг поднялся, поставил кубок.
— Странно…
— Что странно? Называть вещи своими именами?
— Слушай, Манфред… Зачем ты, собственно, затащил нас сюда, в эту глушь? Любоваться природой?
— А разве это вредно? — усмехнулся хозяин, подцепив острием ножа кусок мяса. — Подышать свежим воздухом, пообщаться с умными людьми…
— Ты уже договорился о моей встрече?
— Погоди. Прежде я хочу усвоить: ты понимаешь, во что впутываешься? Это ведь не студенческие забавы — сегодня сыграл за одну команду, завтра за другую. Тут или сыграл за своих, или… Третьего не дано.
Рихард вспылил:
— Конечно, для тебя судьба Германии не безразлична. Ты немец, и ты уйти из своей команды не можешь, а мне из моей команды вывалиться — что пьяному из телеги. Разве что ушибешься.
— Да ты уверен ли, что у тебя есть команда? Сам же говорил: не разделяешь мнения тех, кто прислал тебя сюда.
— У меня есть родина.
— Слова, Рихард, слова… Думаю, твоей родине от них так же тепло на морозе, как от коробка спичек. Пойми меня правильно — мне не сложно свести тебя с некоторыми особами, подпирающими власть. Но я не хочу, чтобы ты обольщался. Думаешь, мало тут сейчас отирается вашего брата, которые рвутся то ли спасать отечество, то ли погреть на этом руки? Я имею в виду не только латышей. Литовцы, эстонцы, русские, украинцы… Если тебя примут за одного из них…
Рихард усмехнулся.
— Ты что? — насторожился Манфред.
— Ничего. Вспомнил одну картежную поговорку: узнать бы, что в прикупе лежит.
— Что ж… сравнение не блещет оригинальностью, но если продолжать придерживаться картежных терминов, то, по-моему, значительно важнее выбрать себе партнеров. Ставка-то — жизнь!
— Что ты хочешь этим сказать?
— Только одно. Прежде хорошо подумай и наберись терпения — не случайно я поместил тебя на этой вилле.
Марте показалось, что она заблудилась. Оглядевшись, свернула с расчищенной в лесу дорожки на боковую тропинку, проложенную в глубоком снегу. Дорога показалась знакомой, она зашагала быстрее и увереннее. Но тропинка внезапно оборвалась, уперлась в снежную целину. Марта забеспокоилась, повернула обратно. Собственно, успокаивала она себя, тревожиться было не из-за чего. Еще светло, где-то невдалеке слышались голоса, стучал топор.
И вдруг ее словно парализовало от страха: на дорогу, почти рядом, темной тенью выметнулся волк. Это было так неожиданно и невероятно, что Марта даже не вскрикнула. Просто замерла, окаменев. Огромный, черно-серый, он с глухим злобным урчанием уставился на нее. Женщина беспомощно оглянулась и едва не опустилась на снег. Позади, на дороге, сидели еще два громадных, лобастых зверя. Сидели и скалились, не сводя с нее желтых горящих глаз. Стало трудно дышать. Марта подняла руку, чтобы рвануть ворот. Но так и осталась стоять с поднятой рукой. Волк, находившийся перед нею, недвусмысленно приготовился к прыжку. Вплотную приблизились и остальные. Расположившись вокруг, хищники все тесней и тесней сжимали кольцо. Малейшее движение — и произойдет вспышка безумной ярости. Оскаленные, красно-белые пасти. Не смея шелохнуться, Марта всем телом, всей заледеневшей от страха душой чувствовала: звери все ближе, они смыкают круг.
Но какую-то незримую черту волки пока не переходили. То приблизятся, то отойдут назад. Страшный круг и в центре — она, Марта. Все сильнее кружилась голова, туманом заволакивало глаза. Казалось, еще секунда и она рухнет без чувств. Но в последний момент, боковым зрением, заметила под горлом ближнего зверя белый ремень. Ошейник! И еще, еще ошейники. Собаки… Неожиданное открытие немного успокоило, в душе шевельнулась робкая надежда. Сама того не замечая, Марта опустила руку и в тот же миг увидела рядом со своим лицом оскаленную пасть зверя, услышала его разгоряченное дыхание. Женщина дико закричала…
И как раз в этот момент из-за деревьев вышел человек — высокий, плотный, в охотничьей куртке, опушенной мехом. Не будь Марта так испугана, она давно заприметила бы этого незнакомца — с отменным хладнокровием он наблюдал сцену с самого начала. Человек что-то коротко приказал собакам, одним окриком превратив их в милые и добродушные существа, и подошел к Марте.
— Надеюсь, мадам, вы не очень испугались? — вежливо, с едва заметной усмешкой осведомился он. Взгляд был холодный и пронзительный.
Женщина не могла ответить — губы предательски дрожали, слезы застилали глаза. Незнакомец снисходительно выдержал паузу, строго спросил:
— Как вы сюда попали, мадам?
Марта по-прежнему безмолвствовала, и он повторил уже с открытой угрозой в голосе:
— Я еще раз спрашиваю, как вы сюда попали?
Ей, наконец, удалось разлепить губы:
— Я заблудилась.
Мужчина подозрительно оглядел ее с головы до ног, недоверчиво протянул:
— Любопытно. Прошу вас следовать за мной!
Рихард с Манфредом стояли на крыльце в наброшенных на плечи куртках.
— Не волнуйся, старина, здесь она никуда не денется.
— Но уже темнеет! — воскликнул Рихард.
Из-за неплотно прикрытой двери послышался телефонный звонок.
— Уже звонят, — Зингрубер поспешил в дом, торопливо снял трубку. — Да, да… Что? Но каким образом? — Прикрыв трубку ладонью, крикнул: — Рихард, иди сюда, она нашлась!
Лосберг вбежал в комнату, взволнованно прислушиваясь к телефонному разговору, но Манфред уже заканчивал:
— Да, да, конечно… Я сейчас сам приду.
— Ну, что там? Где она?
— Не волнуйся, сейчас приведу. Видишь ли, тут, на нашем курорте, не совсем обычные порядки… Следовало вас сразу предупредить. — Зингрубер загадочно улыбнулся. — Кстати, знаешь куда ее занесло? На ту самую виллу, где тебе завтра предстоит встреча.
Фон Биллинг принял Лосберга в своем огромном кабинете, украшенном большим портретом фюрера во весь рост. Сухопарый, вылощенный, в черном мундире, он грозной птицей взглянул на гостя, изобразил на лице подобие улыбки и, как бы подчеркивая неофициальность встречи, пригласил к камину, у которого на низеньком столике выстроилась батарея бутылок.
— Виски, коньяк? Я, знаете, старомоден, предпочитаю наш старый немецкий шнапс.
— С удовольствием составлю компанию, — Рихард старался непринужденностью скрыть волнение. — Я, как ни странно, с почтением отношусь к этому напитку.
— Почему — странно? Вы же немец. Генрих Лосберг — ваш родственник?
— Да, родственник. Брат отца. Но я, простите, латыш.
Фон Биллинг с интересом посмотрел на гостя, наполнил рюмки.
— Вот как… Любопытно… Мне нравится ваша непосредственность. О чем же мы будем с вами беседовать, господин Лосберг? — На его лице снова мелькнуло подобие улыбки.
Рихард ответил такой же улыбкой.
— Мне бы хотелось узнать ваше мнение о некоторых событиях на моей родине.
— Что вы имеете в виду? — насторожился фон Биллинг.
— Прежде всего я имею в виду появление двух русских баз — в Вентспилсе и в Лиепае. Как расценивают этот факт в ваших компетентных кругах?
— Как мы можем расценивать… — на лицо хозяина дома вернулась полная бесстрастность. — Видимо, как следствие вашего договора с русскими. Там ведь был пункт об этих базах.
— Но это противоречит договору с вами, который мы заключили четырьмя месяцами раньше. Разве вас не беспокоит такая двойственная позиция Латвии?
— По-моему, это должно больше беспокоить господина Ульманиса. Если ему нравится иметь под окнами русскую эскадру…
— Хорошо, попробуем поставить вопрос по-другому, упрямо продолжал Лосберг. — Если бы этот разговор происходил до подписания договора с красными… вы бы так же спокойно относились к появлению у нас этих русских баз? Простите мою назойливость, господин фон Биллинг, я ведь не дипломат… Я хочу понять — являются ли базы следствием вашего внезапного договора с большевиками? Следствием того, что Германия отступает от принятых на себя обязательств и не мешает русским рубить очередное окно в Европу?
Фон Биллинг долго молчал, глядя в камин.
— Вы хотите беседовать со мной как частное лицо? — наконец спросил он. Или как представитель оппозиции нынешнему правительству Латвии?
— Это имеет значение? — Рихард решил не спешить с ответом, он понял, что перед ним хитрый и опытный собеседник.
— Значение? Самое принципиальное. Частному лицу я могу уделить полчаса для беседы, тем более, что об этом меня очень просил господин Зингрубер. С представителем же оппозиции иностранного правительства я не имею права обсуждать какие бы то ни было вопросы без согласия моих товарищей по партии.
— Хорошо, считайте меня частным лицом.
— Считать, или вы действительно частное лицо?
— Пожалуй, действительно, — после недолгого колебания согласился Рихард.
Фон Биллинг посмотрел на него из-под полуопущенных век, поднял рюмку:
— Я хочу выпить за вас, господин Лосберг! В наше время быть просто частным лицом, это такая роскошь…
— Непозволительная, хотите вы сказать?
— Ну… Что позволительно, что непозволительно нам ли, старикам, судить? Так вот, в отношении нашего договора с русскими… Для тех, кого он касается, этот договор вовсе не является неожиданным. Сегодня у Германии первейший враг — Великобритания. Вы знаете, что русские неоднократно предлагали англичанам — так же, как и французам, — объединиться против держав оси? Англичане не согласились. Французы тоже. Тогда шаг им навстречу сделали мы. И если русские пошли на договор с нами, считайте это крупнейшей победой германского оружия, Мы имеем дружественного соседа на Востоке, и теперь у нас развязаны руки для действий на Западе.
— Дружба национал-социалистов с большевиками… Неужели ее можно принимать всерьез? Ваша партия даже и теперь не скрывает своей главной цели — овладеть жизненными пространствами на Востоке.
— А почему мы должны это скрывать? — Хозяин, едва коснувшись горячей темы, утратил ледяную бесстрастность. — Переустройство мира, господин Лосберг, создание на земле должного равновесия и порядка — это вопрос жизни и смерти человечества. Разве справедливо, когда подлинно великие цивилизации вынуждены прозябать из-за нехватки плодородных земель, запасов в недрах и тому подобного? К восьмидесятому году Германию будет населять больше четверти миллиарда немцев. Что им прикажете делать влачить голодное существование?
— Прошу простить…
— Мир погряз в жадности, разврате и цинизме, — не обращая внимания на Лосберга, продолжал фон Биллинг. — Евреи, словно ржавчина, разъедают общество, проникая во все его поры, заражая бациллами торгашества, коррупции и стяжательства. Черномазая, желтая и прочая саранча съедает чуть ли не три четверти продовольственных запасов планеты. С катастрофической быстротой плодится получеловечье, полуобезьянье племя поляков, русских, югославов и подобных им выродков.
Фон Биллинг на секунду задумался, и Рихард решил воспользоваться паузой:
— Прошу простить — я хорошо знаком с основными положениями национал-социализма и целиком с ними согласен. Но меня сейчас волнует не теоретическая концепция вашей партии, а конкретная судьба моего народа. Назвав поляков, русских, югославов и прочих, как вы выразились, полуобезьяньим племенем, вы ничего не сказали о прибалтах. Это акт вежливости гостеприимного хозяина или?..
— Странно, что вы задаете такой вопрос, господин Лосберг. Отношение к Прибалтике, и, в частности, к латышам, сформулировано фюрером с предельной ясностью и точностью. Судьба этих государств навеки и неразрывно связана с судьбой германского народа.
— Тогда как же все-таки объяснить появление в Латвии двух военных баз Кремля? — не сдержался Лосберг. — И вашу индифферентность в этом вопросе?
— Скажите, господин Лосберг, чего вы ждете от нашей встречи? — прищурился фон Биллинг. — Каких практических результатов хотели бы добиться? Допустим, отважусь на некоторые откровения. Можно ли рассчитывать на вашу ответную любезность? Не согласитесь ли вы более ясно изложить цель своего визита?
Рихард ждал этого вопроса — он не застал его врасплох.
— Видите ли… Вы очень точно сказали, господин фон Биллинг: бациллы торгашества, коррупции и стяжательства… Они разъедают и мою родину. Мы с горечью наблюдаем, как нынешнее правительство Латвии толкает страну в пропасть. Господин Ульманис или пропьет ее в скором будущем, или продаст русским на вынос и в розницу.
— Что же вы предлагаете сами или хотите от нас? Кстати, что значит «мы»? Вы все-таки представляете какую-то организацию?
— Мы условились, что я — частное лицо, — уклонился от прямого ответа Рихард. — В данный момент я выражаю точку зрения наиболее прогрессивной части моих соотечественников.
— Мнение или намерения?
— А разве это не одно и то же?
— Далеко нет. Если эта ваша… прогрессивная часть имеет какие-то возможности, средства для реализации своих намерений — это одно. Но тогда при чем тут мы, немцы? Если же это только мнение, или, простите, благое пожелание, не подкрепленное ничем конкретным, тогда невольно напрашивается вопрос — чего хочет представляемая вами «прогрессивная часть» ваших соотечественников?
— Может, я покажусь вам примитивным или хуже того, но, думается, нам не следует играть друг с другом в прятки. Предполагаю, что, соглашаясь на встречу со мной, вы догадывались, о чем пойдет речь. Значит, эта беседа вам так же важна, как и мне. — Рихард взял сигару, раскурил ее, мысленно собираясь для решительной части разговора. — У меня на родине есть люди, которые располагают решимостью принять на себя всю полноту власти. Думаю, вам небезразлично, если в Латвии, а затем и во всей Прибалтике установится настоящий порядок. Но все это, разумеется, возможно лишь при одном условии…
— При каком же? — Хозяин смотрел на собеседника с едва заметкой иронией.
— Безусловно, русские попытаются воспрепятствовать перевороту. Более того, найдутся и силы, которые сделают попытку сформировать красное правительство… И чтобы не допустить этого, должны будем вмешаться мы, немцы? Не так ли?
— А разве такой поворот событий не отвечает нашим общим интересам?
— То есть порвать с русскими договор, вышвырнуть их военные базы, чтобы посадить в президентское кресло кого-то из ваших «прогрессивных друзей»?
— Господин фон Биллинг, по-моему, я не давал повода… — кровь бросилась Лосбергу в лицо.
— Вы напрасно обижаетесь, мой молодой друг. Мне импонируют и ваша страстность, и ваш порыв. Но вам как начинающему политику не хватает, простите за откровенность, спокойствия и расчета. Что значит — принять на себя власть? Насколько я располагаю информацией, господин Ульманис сидит в своем кресле довольно крепко. Нет, господин Лосберг, мудрость политика не в том, чтобы каждый раз бросаться в драку, а в том, чтобы, проявляя выдержку, копить силы, выжидать удобный момент. И уж тогда бить наверняка! Более того, скажу вам как частное лицо в частной беседе. Мне весьма симпатична ваша организация. Даже ее название «Гром и Крест».
— Видите ли, собственно, я… — попытался было вставить Рихард, но хозяин, не слушая его, продолжал:
— И самое главное, у вас много общего с программой нашей партии. Расовая чистота, политическая бескомпромиссность… И эмблема — та же свастика… Правда, — он усмехнулся, — перевернутая в другую сторону. Я считаю большой ошибкой вашего президента Ульманиса, что он оттолкнул от себя «Гром и Крест» вместо того, чтобы сделать его своей боевой опорой.
— К сожалению, это не единственная его ошибка. Заключить договор с русскими и кокетничать с Западом…
— Да, да… Наивное желание усидеть сразу на двух стульях. Надеюсь, ваши соотечественники понимают пагубность такой политики? — Фон Биллинг тяжело вздохнул. — Беда в том, что мы с вами живем почти рядом, а информация из Латвии, скажу откровенно, далеко не достаточна. Особенно сейчас, когда бушует война и настоящие патриоты Латвии могли бы восполнить этот пробел.
Рихарда покоробила прямолинейность немца, но он ответил сдержанно:
— Мои друзья в Риге готовы пойти на самые тесные контакты. Но прежде всего мне поручено узнать. В случае критического положения у нас насколько реальна ваша поддержка?
— Мой друг, — снисходительно улыбнулся фон Биллинг — ему явно начинала надоедать назойливость гостя, — говорят, хорошие всходы бывают там, где зерно бросают в подготовленную почву.
— Вы хотите сказать?..
— Я хочу сказать, господин Лосберг, — голос Биллинга прозвучал сухо, с металлическим оттенком, — что ваша судьба находится в ваших собственных руках. Да, мы сегодня сильны, как никогда. Но даже нам приходится рассчитывать свои силы. Разумеется, Германия не останется равнодушной к судьбе Латвии. Но для начала важнее всего наладить контакты и… информацию. Информация и взаимопонимание — это ключ ко всему.
— Но все-таки конкретно… — Рихард из последних сил попытался вернуть разговор в желаемое русло. — Что я могу передать людям, которые поручили мне связаться с вами?
Фок Биллинг встал, давая понять, что аудиенция окончена.
— Конкретно? Конкретно, я был очень рад познакомиться с вами лично. Если у вас есть настоящее желание сотрудничать с нами, то практическую сторону всех вопросов вы уладите со штандартенфюрером Дитрихом. Это большой специалист по вопросам Прибалтики.
— То есть вы предлагаете мне?.. — Лосберг подавленно топтался на месте.
Я предлагаю вам дружбу, — сурово и высокомерно отрезал фон Биллинг. — Настоящую солдатскую дружбу. Которая не знает корысти и не задает лишних вопросов. Подумайте хорошенько об этом на досуге. Вы ведь деловой человек, господин Лосберг. Да, чуть было не забыл… Завтра первая партия вискозы отправляется в Ригу.
— О-о! — Рихард никак не ожидал этого сообщения от хозяина кабинета. — Благодарю вас, господин фон Биллинг!
— Пустяки! Просто мне было приятно оказать вам маленькую услугу. Всего доброго. Я всегда был убежден, что мы обязательно найдем общий язык.
Тускло отсвечивая медью, в высоком узком футляр мерно раскачивался маятник старинных часов известной фирмы Густава Беккера. В тишине спальни их четкий звук раздавался с однообразной настойчивостью, Марта лежала неподвижно, с плотно закрытыми глазами, и, хотя дышала глубоко и ровно, Рихард знал: жена не спит.
— Марта!
Она не шевельнулась.
— Ты же не спишь… Я знаю.
Она опять не ответила. Они лежали рядом, близко, почти соприкасаясь, но Рихард мучительно ощущал разделяющую их черту отчуждения.
— У тебя был сегодня доктор Хаггер? Что он сказал?
— Ничего. Посоветовал больше гулять. Прописал новое лекарство.
— И все? Больше ничего? — Не выдержал, проговорил с досадой: — Ну что ты все молчишь? Думаешь всю жизнь так отмолчаться?
Стучал маятник. В неплотно прикрытой форточке посвистывал вьюжный ветер. Рихард встал, включил ночник, заметил на столе стакан с водой, отхлебнул глоток.
— Со мной Хаггер беседовал обстоятельней. Дал ясно понять, что тянуть больше нельзя. Надо решать, Марта.
Она безучастно спросила:
— Что решать?
— Хаггер считает, что рожать тебе опасно.
— Не надо об этом, я не хочу.
— Ты думаешь, мне приятно об этом говорить? Но ведь и с тобой, и с ребенком может случиться что угодно.
— Странно, что Хаггер говорит твоими словами. Даже твой тон я слышу в его голосе.
Рихард нервно прошелся но комнате.
— Ты не веришь Хаггеру, не веришь мне. Думаешь, мы сговорились. Тогда поезжай в Мюнхен, в Берлин, куда хочешь! К лучшим специалистам. Клянусь, я думаю только о тебе, о твоем здоровье.
Она ответила тихо, но непреклонно:
— Не надо никуда ехать. Я буду рожать.
Лицо Рихарда помрачнело. Он стиснул зубы, отвернулся к морозному окну, долго молчал. Потом грустно произнес:
— Если бы ты относилась ко мне хоть наполовину так, как я… Сегодня разговаривал с Ригой. Твоего Артура освободили. Его призвали в армию. Крейзис все-таки выполнил мою просьбу.
Лосберг набросил на плечи халат и, не оборачиваясь, вышел из комнаты. Марта лежала, не шелохнувшись, в той же позе — и лишь две капли-слезинки медленно поползли по ее щекам. Мерно, монотонно стучал маятник, безрадостно отмеряя время…
Так же безрадостно стучало ее сердце. Мысли сплетались в плотный клубок, затем стремительно разбегались в разные стороны, то уводя ее в далекое детство, то возвращая в эту чужую и ненавистную для нее комнату. Зачем она здесь? Какая страшная и непонятная сила затащила ее сюда? После разрыва с Артуром Марта жила, словно в тумане. Все происходящее в ней и вокруг нее отныне преломлялось в сознании будто в кривом зеркале, приобретало иной смысл, другую окраску. Это был взгляд нездорового человека, для которого весь мир неожиданно сделался больничной палатой. И теперь, когда самое страшное миновало и было уже позади, она с удивлением оглядывала себя в зеркале — странную, незнакомую и ничего не понимала. Что же все-таки произошло? Неужели такая незначительная нелепость, как та злосчастная автомобильная прогулка с Рихардом, могла так круто изменить ее судьбу, растоптать самое дорогое и заветное, что она хранила в своей душе? Память тревожно воскрешала искаженное гримасой ненависти лицо Артура, его отчужденные глаза, его холодный и незнакомый голос. Будто между ними прежде ничего и не было: ни томительного ожидания встреч, ни той старой мельницы, ни ласковых слов, ни заверений в любви. Так — случайно встретились, поссорились, разошлись.
Марта в отчаянии сцепляла пальцы, до крови закусывала губы, чтобы не унизиться до крика, не признаться в своем бессилии и отчаянии. Мозг неотступно сверлила назойливая мысль: неужели он поверил, действительно подумал, что она изменила ему с Лосбергом? Значит, не любил, если не верил? А, может, наоборот, оттого и вскипел, что любил до беспамятства, до безрассудства?
Она закрывала глаза, словно ей было стыдно смотреть на себя со стороны. Истеричка! Разве она сама поступила лучше Артура? Бросилась в объятия к первому попавшемуся. Оскорбилась, видите ли. Подумаешь ударили по лицу! Только теперь она по настоящему поняла, что значили в прошлом вспышки Артура, его уязвленное самолюбие, ревность и недоверие. Надо было это чувствовать и понимать раньше. А то сама разожгла костер, а укрыть от дождя и ветра не сумела.
Марте было мучительно стыдно и перед Рихардом. Когда она узнала о беременности, то ни секунды не сомневалась, что жизнь окончена. Во всяком случае, ей и в голову не приходило, что все может обернуться именно таким образом. Но Лосбергу как-то удалось переубедить ее, успокоить, подчинить своей воле, вдохнуть веру в будущее. Был даже момент, когда она почувствовала к Рихарду что-то похожее на нежность. Это случилось уже здесь, в Германии, Правда, чувство вспыхнуло и тут же угасло, не дав ни тепла, ни света.
Нет, Марта не могла быть в претензии к мужу: он и сейчас оставался неизменно внимательным, предупредительным, всеми силами пытался завоевать ее расположение. Но что она могла поделать с собой, если это-то как раз и вызывало обратную реакцию: чем больше супруг проявлял заботы, тем отчетливее она ощущала назойливость и даже корысть. Ей всюду мерещились его козни, она во всем усматривала другой, скрытый, доходящий до абсурда смысл. Взять хотя бы тот случай с абортом, на котором настойчиво настаивали врачи. Она и сама прекрасно понимала, что рожать небезопасно, что беременность протекает ненормально, но стоило об этом заговорить Рихарду, как Марта тут же приняла безоговорочное решение — она будет рожать. Ей вдруг показалось, что, отказавшись от ребенка, она еще раз предаст Артура.
Холодным умом Марта понимала, что поступает неразумно, рискованно, несправедливо, наконец, что никто в ее судьбе, кроме нее самой, в конце концов не повинен, но ничего поделать не могла. Страдала сама и доставляла страдания другим. Марта почти не замечала происходящего вокруг — жизнь как-то сфокусировалась на личных заботах и переживаниях — совсем не интересовалась делами мужа, смутно представляла, что творится в мире. Здесь, на этой уединенной вилле, в окружении живописного пейзажа, горного воздуха, безмятежности и покоя, она была занята лишь собой. Вернее, своими воспоминаниями, угрызениями совести и слабой, почти неосознанной надеждой когда-то вырваться из этого добровольного и красивого плена. Марта все понимала, и, сама того не сознавая, хотела бы облегчить свою участь, отказаться от бесплодных надежд смириться со своим положением, но разум и сердце все больше приходили в противоречие друг с другом. Разум слушал доводы, сердце их не принимало. Она не могла убить в себе любовь к Артуру, оставляя за собой право хотя бы мечтать, хотя бы надеяться.
ГЛАВА 7
Мерно, безрадостно топали солдатские сапоги. Чей-то пронзительно-въедливый фальцет выкрикивал слова команды:
— Раз-два! Раз-два! Шире шаг! Тяни носок, носок тяни!..
В сером солдатском строю Артур маршировал по пустырю за казармами, тянул носок, печатал шаг. По сути — тот же арестант, только в солдатской шинели.
С бессмысленно выпученными глазами, разодрав в хриплом крике рот, бегали солдаты с винтовками наперевес, втыкали штыки в болтавшиеся на перекладинах чучела.
Длинным коли — р-раз! Коротким коли — два! — истошно надрывался фальцет.
И те же ночи, полные бессонной тоски, — по родному дому, по всему, что потеряно навсегда. В камере ли, в казарме — не все ли равно? Ночи на жестком тюфяке, среди храпа и вони портянок, когда чудится, что ты один во всем мире и тупое отчаяние сжимает виски.
…Артур лежал на койке, заложив руки за голову — глаза широко раскрыты. Ему все чудился голос матери:
— Здравствуй, сынок! Ты бы знал, родной, как обрадовал меня своим письмом. Даже поверить боязно — неужто тебя насовсем выпустили? Вот и не верь снам — мне накануне рыба привиделась, да вся такая крупная одна в одну. Калниня мне так и сказала: жди вестей. И назавтра — письмо! Я от радости целый день проплакала. Конечно, лучше, если бы тебя домой, а не в солдаты… Ну да уж и то счастье, что не за решеткой. Ты пишешь, что у тебя все в порядке. Догадываюсь, что тебе и там не сладко, да только прошу, не гневи больше господа бога, смири свою гордость. Она, эта гордость проклятая, и отца твоего сгубила, и тебя до беды довела. Ну да слава богу, господь все же смилостивился над нами, вернешься — все будет хорошо. Мне Озолс рассказал, кто тебя вызволил. Я было кинулась в Лосбери, хотела руки-ноги твоему спасителю целовать… Да жаль, опоздала — укатили они куда-то. В Германию, что ли?..
Артур застонал, крутнулся на койке так, что она жалобно заскрипела. Даже сосед перестал храпеть. А голос матери звучал неотступно, отгоняя сон:
— Ну да и бог с ними — уехали и уехали. У них своя дорога, у нас — своя. Не мы ее выбирали, не нам с нее и сворачивать. Сынок, родненький, заклинаю тебя каждой своей слезинкой — выбрось гордыню и непокорство, слушайся начальников, молись больше. Живи, как все люди…
Так и прокрутился Артур на койке, пока за окном не начало сереть и тот же настырный фальцет не проорал:
— Па-а-адъем!
Как ужаленные, вскакивали новобранцы, ошалело спеша на этот зов. Спешил вместе с ними и Артур.
— Рота-а! Равняйсь… Смирно! Шагом-ом!..
Команда раскатилась над пустырем и оборвалась. Задрав кверху подбородки, замерли солдаты, напряженно ожидая, когда же последует: «Арш!» Но вместо него:
— Ат-ставить!
Не успели расслабиться — новая команда:
— Равняйсь… Смирно! Нале-е…
Приготовились — не прозевать бы, четко крутнуться…
— Ат-ставить! Рота-а!.. Круу-у!..
И вдруг все смешалось. Солдаты нелепо толклись на месте, натыкались друг на друга, сбив строй. У капрала Брандиса — плюгавого, конопатого коротышки — был свой метод обучения новобранцев. Обиженный природой или просто небрежно сработанный родителями, он весь комплекс своей мужской неполноценности свирепо вымещал на солдатах.
— Смирна-а! — надрывался он, семеня вдоль строя. — Чертова деревенщина! Я вам живо вобью в башку, где право, где лево. Как стоите? Брюхатые, что ли? А ну подтянуть животы! Голову налево! Налево, дубина! Налево башку!
И тут капрал заметил, что направо почему-то пялится вся рота. Он взбешенно оглянулся. Возле забора, подбоченясь, стояла крутобокая рыжая деваха с ясными, как небесная синь, нахальными глазищами. Достала из висевшей на локте корзины пирожок, куснула крепкими белыми зубами и рассмеялась раскатисто — будто кобылка молодая заржала. Капрал, увидев ее, тоже было поплыл в мясляной улыбке, но тут же спохватился, начальственно нахмурился:
— Посторонних прошу отойти!
Расма Лукстиня — ее больше знали по кличке «Добрая» — кусала пирожок, смеялась, стреляла бедовыми очами по всему строю.
— Ой, как страшно! Сами ж пирожков хотели горяченьких, а теперь шумите.
— Сюда, что ли? — возмутился капрал.
— А куда? На квартиру? Вам одному же не сладить… С полной-то корзиной. — И так выразительно подмигнула, что строй не выдержал, грохнул хохотом.
— Ма-алчать! — рассвирепел капрал. — Кто тут ржет, жеребцы стоялые? Я вам покажу, с-сукины дети! Вы где находитесь? В армии? Или возле бабьих юбок?
Он пошел вдоль строя, пыжась от важности и выискивая, на ком бы сорвать злость. Наконец, нашел. Артур Банга. Тот всегда приводил капрала в ярость своей непокорностью — упрямой и презрительной.
— Как стоишь? Куда задницу отставил?
Артур терпел молча, стиснув зубы.
— Ремень, как мотня! Портки обвисли! Наклал в них, что ли, с перепугу? Раз-зява! А ну подтянуться! — Он вдруг с силой рванул солдата за брюки так, что отлетели застежки.
Окаменев от стыда, Артур схватился за пояс, покраснел до испарины на лбу.
— Руки! — завизжал капрал. — Руки по швам! Смирно!
Артур замер, стоял ни жив ни мертв, но рук не опустил.
— Ты что? — зашипел но змеиному капрал. — Не подчиняешься приказу?
Артур покосился на притихших солдат, на деваху, переставшую жевать пирожок, спокойно ответил:
— Не трудись, коротышка, спектакля не будет.
— Что? — задохнулся от ярости капрал. — Это ты меня, своего командира? Ну погоди… Я тебе покажу, арестантская морда!
Брандис явно намеревался съездить обидчика по физиономии, По виду Банги было не сложно догадаться, что тот вряд ли стерпит оскорбление. И когда, казалось, стычка была неминуема, словно с небес раздался зычный, властный голое:
— Отставить!
Никто из солдат не заметил, как сзади подошел командир роты, майор Берзиньш.
— Капрал, ко мне!
Брандис сник, вобрал голову в плечи, рысцой бросился выполнять команду.
— Вы что? — понизил голос майор, чтобы не слышали солдаты. — За старое принялись? — по всей видимости, он наблюдал всю сцену.
— Господин майор, но ведь я…
— Молчать! Если я когда-нибудь еще услышу или увижу… Вы меня хорошо понимаете, капрал?
— Так точно, господин майор!
— Идите, капрал! И не вздумайте сводить счеты с этим солдатом! Сегодня он съездит вас по физиономии, а завтра… из-за таких, как вы, они будут бить нас всех.
Архитектура была несложная: длинный дощатый помост под навесом. Через равные промежутки прорезаны круглые дырки — тридцать очков. Орудуя шваброй, Артур драил ротный сортир.
— Ну, как работенка? Выгодная? — услышал он за спиной насмешливый голос и яростно обернулся.
Подтягивая штаны, к нему подошел солдат из их роты Юрис Грикис — высокий стройный брюнет с красивой вьющейся шевелюрой и со смешливыми карими глазами.
— Попробуешь — сам узнаешь, — угрюмо огрызнулся Артур.
— Как же, за тобой угонишься! Небось до конца службы не поделишься. А как насобачился — любо-дорого смотреть. Профессор.
Артур отмолчался. Свирепо тер доски. Служба для него складывалась невыносимо: игнорируя приказы командира роты, Брандис при малейшей возможности вымещал свою обиду. Жаловаться было бессмысленно. Банга прекрасно понимал — это ничего не даст. Наоборот, такие, как Брандис, станут еще злее. Взывать к совести коротышки было еще бессмысленней.
— У тебя именины скоро? — не унимался Грикис. — Скинуться хотим — духи подарить. Жалуются, понимаешь, ребята — спать рядом невозможно. Сны — кошмарные!
— Шел бы ты отсюда… — Артур замахнулся грязной шваброй, но Грикис ловко увернулся — из его глаз будто сыпались веселые искорки.
— А то еще выход — койку сюда перетащить. И на работу ходить недалеко, и воздух для тебя привычный.
Артур не выдержал, рассмеялся, отбросил швабру. Грикис хлопнул его но плечу:
— Пойдем покурим.
Они вышли, сели на просохший от снега бугорок. Закурили. Юрис затянулся разок-другой, да вдруг расхохотался и повалился на спину.
— Ты чего?
Коротышка… — давился солдат, утирая слезы. — Ловко ты ему приляпал. Главное, при этой… Кобыле.
— Она что… гуляет с этим подонком?
— Добрая? Она со всеми гуляет. А ему только мозги полощет. Вот он и лезет из кожи. — Грикис отбросил сигарету, проговорил неожиданно серьезно: — Напрасно ты с ним заводишься. Тоже нашел, на что силу тратить. Вроде бы и парень умный. Я тебе так скажу…
Но продолжить Грикису не пришлось — из-за угла сортира показался Брандис.
— Ладно, потом, — вскочил Юрис. — Иди упражняйся дальше.
…Высоко подняв трубу, горнист играл отбой. Трепещущий в вечернем небе трехцветный флаг медленно полз вниз по флагштоку. И сразу же по всей территории военного городка и в казармах наступила настороженная, чуткая тишина. Отдыхала техника, на ровных рядах железных коек под серыми одеялами тяжелым, усталым сном спали солдаты. Лишь у дверей возле столика дневального тускло светила лампа.
Юрис Грикис, а сегодня дневальным был именно он, оторвался от книжки, внимательно оглядел казарму. Заметил: кто-то в углу не спит, сидит на кровати. Грикис закрыл книгу, поднялся и, неслышно ступая, пошел между рядами коек.
Артур — в кальсонах, в рубахе, — сидя на койке, держал в руке уже не раз читанное письмо.
— Ну что, друг? — Грикис опустился рядом, — Из дому вести плохие?
Банга молча кивнул.
— Что-нибудь с матерью?
— Нет, мать здорова.
— Уже хорошо. Остальное можно пережить.
— Можно, конечно.
Грикис искоса посмотрел на него.
— Два года назад вот так же ночами не спал. Моя ушла к другому. Думал, покончу с собой. Но, как видишь, жив и даже на других девчат поглядываю. И ты забудь. Похоже, она-то тебя забыла. Или я не о том?
Артур по-прежнему сидел молча, сжав письмо в руке.
— Давай-ка ложись спать. Завтра увольнительную получим. Сходим куда-нибудь, развеемся. — Дневальный вдруг насторожился — откуда-то снизу приближались шаги. — Капрал! — Юрис метнулся к своему столику.
Банга забрался под одеяло. На тумбочке у его изголовья остался лежать конверт с адресом, написанным рукой матери: «Айзпуте. 10-й полк. Рядовому Артуру Банге».
На экране маленького кинотеатра Эдди Нельсон и Жаннет Макдональд распевали свой коронный любовный дуэт. Крутили картину «Розмари». Притихший зал внимал звукам сентиментальной мелодии. Девушка, сидевшая рядом с Грикисом, совсем разомлела от блаженства, приникла к его плечу. Солдат осторожно повел взглядом в сторону Артура — тот был так же мрачен, как накануне ночью.
— Пошли! — негромко, но решительно скомандовал Грикис. — Потанцуем лучше!
— Но почему? — капризно запротестовала девушка. — Сейчас Эдди Нельсон будет целовать ее в вигваме.
— Сколько можно пялиться на одно и то же?
На них возмущенно зашикали.
— Пошли, пошли! — Юрис хлопнул приятеля по плечу, и они втроем, пригнувшись, заспешили к выходу.
А Эдди Нельсон, пробравшись в индейский вигвам, действительно, страстно целовал свою возлюбленную.
В душном, шумком танцзале Грикису тоже не удалось развеселить Бангу. Тот угрюмо сидел за круглым столиком возле буфета. Джаз-банд наяривал «Ламбетвок», среди танцующих там и сям мелькали солдатские мундиры.
— Хочешь, я познакомлю твоего дружка с Дзидрой? — спросила девушка Грикиса, лихо выделывая фокстротные па. — Вон та, беленькая.
— Можешь и сама с ним потанцевать.
— А что? И потанцую. Только ты, небось, заревнуешь?
Музыка смолкла.
— Ну что, познакомить его с Дзидрой? Пошли!
Миловидная блондинка, с пухленькими губками, голубоглазая, с чуть вздернутым носиком, жеманно протянула Юрису пальчики и, грассируя, представилась:
— Дзидра.
— Грикис.
Девушка удивленно моргнула.
— Так официально?
Солдат торопливо поправился:
— Юрис. — И как бы заминая неловкость, предложил: — Пойдемте в буфет.
Они поднялись по широкой лестнице наверх. Артур по-прежнему сидел в самом дальнем углу. Перед ним стояла бутылка лимонада.
— Вот он, наш мрачный рыбак! — девушка Грикиса бесцеремонно провела ладонью по волосам Артура. — Знакомься, это моя подруга Дзидра. Садись, садись, не бойся, он тебя не укусит. — Вместе с Юрисом она расположилась напротив.
— А вы, действительно, рыбак? — с любопытством разглядывая парня, поинтересовалась Дзидра.
— Сейчас, как видите, я солдат. А в общем…
— Как интересно! Недавно я смотрела фильм «Сын рыбака»[5]. Там еще есть такая песенка… — Дзидра кокетливо поморгала ресницами, припоминая мелодию, и запела: — Ля-ла… Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля…
Грикис и его девушка подхватили. Пели с удовольствием, прикрыв глаза и раскачиваясь в такт.
— Приглашаю на следующий танец, — резко оборвав песню, бойко предложила Артуру Дзидра.
Тот окончательно смутился:
— Спасибо, но я не умею.
— Ничего, я вас сразу научу. Это очень просто.
— Хочу мороженого, — шутливо капризничая, надула губы подружка Грикиса.
— Один момент! — предупредительно вскочил Юрис. — Только пойдем вместе. — Он многозначительно показал взглядом на Артура и Дзидру.
В это время зазвучала музыка — джаз-банд заиграл известное «Танго-натурно».
— Ну что, идем? — первой поднялась Дзидра.
— Но я и вправду не умею…
— Иди, иди! — с силой подтолкнул Грикис.
Как ни странно, но Артур довольно быстро освоился на танцплощадке. Вначале дело шло туго, но потом он вполне прилично стал передвигать ногами в такт музыке.
— Я же говорила, — принимая его удачу на свой счет, ворковала без умолку Дзидра. — Скажите, а жизнь рыбаков действительно такая мрачная, как показано в кино?
Он подумал, пожал плечами:
— Как вам сказать? В кино всегда все красивее…
— И у вас такая же судьба?..
— Что вы имеет в виду?
— Ну… Вы богатый — она бедная. Или наоборот: вы бедный — она богатая!
— А-а! — облегченно рассмеялся Артур. Как вам сказать… Наверное, я был очень богатым…
— И все проиграли?
— И все проиграл.
— Ну, это уже, как в фильме с Гарри Купером…
Грикис расплатился за мороженое, протянул две вазочки подружке, две взял сам, хотел было отойти от стойки, но тут вдруг заметил мужчину в сером пиджаке. Тот бесцельно слонялся по буфету, его маленькие рысьи глазки на изъеденном оспой лице пытливо ощупывали каждого сидящего за столиками. Юрис торопливо отвернулся, бросив девушке:
— Мороженое заберешь сама. — Заметив входящих в буфет Дзидру с Артуром, поспешил им навстречу. При этом он все время старался быть спиной к «серому пиджаку».
— Вот номерок, — торопливо сказал Грикис. — Захватишь мою шинель. Встретимся в парке, у памятника.
Удивленный Артур хотел о чем-то спросить, но Грикис будто растворился в толпе танцующих. Банга повел взглядом по залу, стараясь угадать причину столь поспешного бегства, и вдруг увидел неподалеку от себя мужчину в сером клетчатом пиджаке. На секунду их взгляды встретились… Артуру почему-то самому захотелось побыстрее выбраться из этого душного помещения.
Грикис ждал в глухом углу городского парка на скамейке, дрожа от холода.
— Здесь я… — негромко позвал он, увидев вынырнувшего из темноты Артура. — Давай шинель скорее! Продрог как собака. Папиросы есть? Может, хоть немного согреюсь.
Артур достал пачку. Закурили.
— Ты что, от этого, в сером пиджаке?..
— Догадливый.
— И, думаешь, убежал? А в казарме он тебя не найдет?
— Вряд ли. Он меня под другой фамилией знает.
Артур с испугом и удивлением смотрел на приятеля.
— Ты бы поостерегся. Юрис! Они там не шутят.
Грикис внимательно посмотрел на Бангу:
— Это из собственного опыта?
Артур резко обернулся:
— Ты… Откуда знаешь?
— Сорока на хвосте принесла. Из канцелярии полка, например, куда твои бумаги пришли в запечатанном конверте. А на нем штамп одного небезызвестного тебе заведения.
— Ну знаешь!.. — У вас тут, я вижу, дело поставлено.
— А ты как думал? Ты один такой шустрый? Так что, брат, не откалывайся.
— От чего или от кого? — полюбопытствовал Артур. — Хочешь, чтобы и я от этого в сером пиджаке бегал?
— Тебя, я вижу, больше устраивает сортиры Брандису чистить? Ты что, не понимаешь, куда все клонится? Здесь Брандисы, там немцы…
— При чем тут немцы? Каждый латыш сумеет постоять за свою родину.
— Родину? Я думаю, что понятия родины у тебя и у нашего полковника не совсем одинаковые.
— Чего ты хочешь? — обескураженно спросил Артур.
— Я? — Грикис долго молчал, жадно затягиваясь папиросой. — Я хочу, чтобы ты и я никогда не стреляли друг в друга.
«Чтобы ты и я никогда не стреляли друг в друга…» Впервые за последнее время Артур почувствовал себя пробуждающимся от долгого и тяжелого сна. Он словно трезвел после сильного похмелья. Действительно, что происходит вокруг? С того момента, как он ударил Марту по лицу и земля качнулась под ногами, Банга будто попал в полосу отчаянных штормов. Хотел устоять на палубе — безжалостно смыло за борт; только вынырнул на поверхность — захлестнуло волной; вроде бы и выбрался на берег, да все равно идти некуда — дорога закрыта. Во имя чего он сидит в этой вонючей казарме, трамбует плац и тянется перед всякими коротышками? Командиры убеждали, что все это во имя Латвии и народа, Грикис говорит, что понятие «родина» у него, рядового солдата, и у командира полка разное. Что значит разное? Юрис разъяснил: разное бывает отношение к родине.
— Ты посмотри, кто нами командует, — говорил Грикис, — и подумай, кому ты служишь. Для чего этому коротышке Брандису нужна винтовка в твоих руках? Защищать родину? Как бы не так. Чтобы мы заслоняли его от таких же, как ты и я, рыбаков и рабочего люда. Понял?
— А ты кому служишь? — не удержавшись, уколол Банга.
— Я? — переспросил Грикис. — Тебе. Когда ты это поймешь и ответишь мне тем же, вот это и станет службой родине, а не Брандисам.
Артур присматривался, прислушивался и все больше склонялся к тому, что Грикис прав. Действительно, кому он служит? Матери, что осталась совсем одна, Калниньшу, Акменьлауксу, Лаймону или Лосбергу? При этом имени у Банги кровь вскипала в жилах, в висках начинали стучать молоточки. О Марте он старался не думать. Вернее, убеждал себя в том, что не думает. На самом же деле только тем и занимался, что вспоминал все до мельчайших подробностей, тысячу раз заново переживал каждый ее жест и каждый вздох. И чем больше вспоминал, тем настойчивей задавал себе вопрос: а не слишком ли он погорячился тогда? Теперь, по прошествии времени, все случившееся представлялось по-другому. Но Артур упрямо отбрасывал здравую мысль в сторону. Обида жгутом давила горло, не давала трезво взглянуть на вещи. Ведь он чувствовал, он предупреждал Марту, он просил ее уйти из этого проклятого дома.
Банга закрывал глаза и видел Марту — бледную поникшую, в сером клетчатом пиджаке Рихарда… И разум отказывался повиноваться ему.
А на родном берегу все было точно так, как и год, как тысячу лет назад. Неслись вереницы мутно-зеленых волн, кружились, сталкивались, распластывались по песку. Прибой шел напористый, крепкий. Холодный апрельский ветер гнал по небу косматые, грязные тучи. У причала покачивались рыбацкие лодки и большой моторный бот Озолса.
За дюнами возле склада стоял нагруженный ящиками грузовик. Возле него в теплых, непромокаемых робах толпились рыбаки, только что пришедшие с лова. Они возбужденно шумели, загораживая путь машине. Озолс яростно кричал:
— Отойдите, вам говорят! С дороги!
Но рыбаки не трогались с места.
— Поезжай! — набросился на шофера Озолс.
— Как ехать-то? — возразил тот. — Людей давить?
— Все вы одна компашка-брашка! — Озолс заковылял вокруг машины, придвинулся вплотную к Калниньшу. — Что ты уперся? Что тебе надо?
— Это обман! — в тон Озолсу крикнул Калниньш. — Вчера еще обещали по тридцать сантимов за ящик, а сегодня уже двадцать даете. Что за дела?
— А я тут при чем? Вы слышали, я при вас в Ригу звонил. Цены устанавливает центральное правление.
— Центральное правление… Слыхали мы эту песню, — язвительно крикнул Лаймон, — А если центральное правление по сантиму за ящик даст? Так и будем кланяться?
Рыбаки хмуро ворчали:
— Мы на горючее больше тратим. В конце концов, ты должен как-то защищать наши интересы.
— Да поймите вы, олухи, — не на шутку разозлился Озолс, — Идти на конфликт с правлением, это же идиотизм. Не получите ни сетей, ни горючего, И рыбу у вас брать не будут…
— Лучше в море выбросить, чем за гроши отдавать, — непримиримо сказал Калниньш.
— Ах вон оно что! Ну выбрасывай, раз ты такой богач. Снимай свои ящики к чертовой матери!
— Там, между прочим, не только мои…
Шофер не выдержал, вышел из кабины:
— Давайте решайте, мне еще два рейса делать.
— А что нам решать? — вмешался Лаймон. — Пусть он решает, ему за это деньги платят.
— Тогда сбрасывай ящики и убирайся отсюда! — приказал Озолс шоферу. — Я доложу в правление.
— А я грузчиком не нанимался.
— Заодно с ними? Последний раз спрашиваю — поедешь или нет?
— Никуда он не поедет, пока сами не разберемся, — твердо заключил Калниньш.
— Учителя наслушались? Я знаю — это он… Да и ты со своим сынком давно тут воду мутите. Ну смотрите!.. — Озолс повернулся и зашагал к правлению.
Шофер чуть заметно подмигнул Калниньшу.
— Может, зря мы так круто? — с сомнением сказал Марцис, глядя вслед Озолсу.
— Ничего, пусть попрыгает, — закуривая, ответил Фрицис Спуре. — А то совсем на шею сели. Если с первого улова так жмут, чего ждать дальше?
— Да-а, — задумчиво протянул кто-то из рыбаков, — все они одним миром мазаны.
— Это уж точно, — согласился Калниньш. — Протяни палец, так и руку отхватят.
В своем кабинете, не сняв еще плаща, Озолс взволнованно говорил по телефону:
— Я в затруднении, господин Варпа! Они просто сошли с ума — не выпускают машину, и все. Никогда еще такого не было.
— Что значит, не выпускают? — растерянно переспросил на другом конце провода председатель общества «Рыбак» Варпа. — Вы должны объяснить им, что цена установлена…
— Да я говорил, убеждал… Поймите мое положение…
— Вы обязаны обеспечить доставку рыбы. У нас обязательства перед владельцами магазинов, консервным заводом… Вы же в курсе дел.
— Но, может быть, на этот раз пойти на уступки? Все-таки первый улов.
— На уступки? Чтобы подать пример другим? Ни в коем случае. Не уступать! И как следует проучить.
— Но как мне быть сейчас? Не знаю.
— Ничего пока не предпринимайте. Я посоветуюсь и позвоню через несколько минут.
Озолс положил трубку и начал стягивать с себя плащ. Повесил на крючок, присел было поправить ремень протеза, но тут раздался телефонный звонок. Якоб рывком поднялся:
— Да-да, я слушаю, господин Варпа!
В трубке послышался добродушный смешок:
— Нет, это не господин Варпа. Это господин Лосберг, ваш зять.
— Господи! Рихард!.. Откуда вы?
— Из Риги. Только сегодня прибыл.
— А Марта? Она с вами?
— Нет, конечно. Но она шлет вам привет. Думаю, скоро вы сможете поздравить себя с внуком… или с внучкой.
Крупная слеза скатилась по щеке старика.
— Господи! Рихард! Вы долго пробудете в Риге? Только пару дней? Я немедленно выезжаю к вам. Вы мне должны все рассказать. — Он положил трубку. — Хоть одна приятная новость.
Подошел к шкафу, достал бутылку водки, налил полную рюмку и залпом опрокинул.
Дюжие атланты добросовестно поддерживали порвал дома на улице Шкюню, где жил Лосберг. Окна его квартиры на третьем этаже были плотно зашторены. В большом кабинете собралось человек шесть. Среди них директор банка Фрицкаус, промышленник Карлсонс, полковник Граузе.
— Если мы вас правильно поняли, — обратился Граузе к Рихарду, — то все эти туманные разговоры о контактах сводятся, по существу, к информации. А проще говоря — к работе на их разведку?
— Туманных разговоров было много, — усмехнулся Рихард. — Но инструкции получены вполне конкретные. Прежде всего, их интересуют русские базы в Вентспилсе и Лиепае.
— Легко сказать, интересуют! — нервно воскликнул Граузе. — Красные сидят там по договору с нашим правительством. Не высовывают носа и сами ни во что не вмешиваются. Соблюдают договор буква в букву. Попробуй к ним пролезть!
— А что обещают немцы взамен? — спросил Карлсонс.
— Вот тут-то и начинались туманные разговоры, — пожал плечами Рихард.
— Лично меня это вовсе не смущает, — вмешался, наконец, Крейзис. — Ясно, что Гитлер не хочет преждевременно дразнить русских. Он ведет очень тонкую и хитрую политику…
— Как бы его хитрая политика не вышла нам боком! — перебил полковник Граузе.
— Не знаю, — задумчиво проговорил Рихард. — Единственное, что я там понял со всей ясностью: мы им нужны только как маленькие пешки в очень большой игре.
Крейзис снисходительно усмехнулся, мягко прошелся по кабинету:
— Пусть даже так. Но если немцы сознают, что наша организация «Гром и Крест» все-таки существует, что она наиболее реальная их опора в Латвии — это уже много!
— Да, да! — поддержал Фрицкаус. — И за это мы должны сказать большое спасибо нашему эмиссару в Германии — господину Лосбергу.
Рихард встал:
— Простите, но я хотел бы сразу внести ясность. Во-первых, я не ваш… и тем более, не эмиссар. Я просто выполнил просьбу своего старого друга. — Во-вторых…
Крейзис дотронулся кончиками пальцев до его плеча.
— Не скромничай, Рихард. Во-первых, если бы тебе претила моя просьба, ты бы никогда не взялся ее выполнять. А, во-вторых… Во-вторых, время покажет, наш ты или не наш. За твое здоровье!
— Господа, я думаю, нам пора. Сейчас начнут собираться гости. — Рихард жестом хлебосольного хозяина распахнул дверь.
Крейзис покидал кабинет последним. На секунду задержался, тихо спросил Лосберга:
— Этот немец, что приехал с тобой… как его? Зингрубер?.. Он действительно коммерсант или… — и так выразительно посмотрел Рихарду в глаза, что тот не решился солгать.
— Вот именно. Но, надеюсь, ты понимаешь?..
— Если бы не понимал, не спрашивал. Он будет сегодня на ужине?
— Конечно.
Среди гостей не было ни одной дамы — прием был деловой, строго официальный. Но Рихард позаботился придать этой встрече дружеский, непринужденный тон. В большой гостиной интимную обстановку создавали мягкий свет, негромкая музыка, искрящийся хрусталем фуршетный стол. Для доверительных бесед были устроены уютные уголки, отгороженные шпалерами цветочных ваз. Все выглядело вполне благопристойно и респектабельно: солидные, деловые люди собирались вместе поужинать, перекинуться словцом. Тем более, что человек их круга вернулся из Германии и ему, вероятно, есть о чем рассказать. Именно так думало большинство гостей и только сам Лосберг да Зингрубер, по заданию которого был организован этот ужин, знали истинную цель встречи. Впрочем, догадывались о ней и друзья Крейзиса. Это была встреча-смотрины, где предполагалось знакомство и прощупывание друг друга.
Рихард представлял гостей Зингруберу:
— Освальд Крейзис, мой друг. Адвокат и отчаянный полемист, чтобы не сказать софист…
— Чтобы не сказать демагог? — с усмешкой ввернул Крейзис.
— Спорить с вами — особенно на политические темы — истинное наслаждение. Но дело нелегкое.
Манфред — он был в сером щегольском костюме — ослепительно улыбнулся адвокату:
— Моя мечта, господин Крейзис, услышать хоть одну из ваших защитительных речей.
— Надеюсь, вы получите такую возможность не в качестве моего клиента.
— Готов даже на это. Говорят, вы можете оправдать самого дьявола.
— Ну, это дело нехитрое, когда на твоей стороне вся бесовская сила…
— Вы хотите сказать, что ангелов защищать сложнее?
— Сложнее? Просто невозможно. Люди уже давно не верят в ангелов. Чем сильнее вы их убеждаете в своей святости, тем больше они распознают в вас искушенного черта.
Зингрубер раскатисто захохотал:
— Любопытно, любопытно, господин Крейзис. Был бы рад побеседовать с вами отдельно.
— Весьма польщен! В любое, удобное для вас, время.
Рихард на мгновение задержал Крейзиса, вполголоса сказал по-латышски:
— Все забываю тебя поблагодарить…
— За что?
— Ну… За нашего общего знакомого рыбака…
— А-а!.. Да, пришлось нам с Рудольфом попотеть…
— Считай, что я твой должник.
— Пустяки! Веру сырым и вареным.
— Все на столах.
— Полковник Граузе! — возвращаясь к своим обязанностям, продолжал представлять гостей Рихард.
Зингрубер окинул полковника коротким взглядом, доброжелательно поклонился.
— Всегда завидовал военным. Мужчина, это прежде всего — сила и мужество. Не так ли, господин полковник?
Граузе пришелся по душе комплимент немца. Он еще выше поднял подбородок:
— Совершенно с вами согласен. Я всегда считал мужчиной только солдата.
Рихарда покоробила казарменная философия полковника, он брезгливо поморщился. Граузе, видно, и сам сообразил, что сморозил глупость. Попытался неуклюже выпутаться из щекотливого положения.
— О присутствующих, естественно, не говорят. Что касается вас, господин Зингрубер, для меня каждый немец солдат. В какой бы он ни был одежде.
— О-о! Я весьма признателен вам за столь высокую оценку. Сразу чувствуется, что вы знаток своего дела.
Граузе хотел продолжить беседу, но Рихард оттеснил его промышленником Карлсонсом.
— Карлсонс. Пиво, лес, рыба, — представился тот своей дежурной шуткой.
— Зингрубер. Шнапс, закуска, девочки, — в тон ему отрекомендовался Манфред.
Толстяк рассмеялся:
— Шнапс, закуска, девочки!.. Совсем неплохо, покупаю пакет акций. Или это только вывеска фирмы? — и он отодвинулся в сторону, уступая место громадному медлительному человеку с ярко-огненной, почти красной шевелюрой.
— Господин Лоре, — отрекомендовал Рихард. — Судовладелец и золотой человек. В прямом и переносном смысле этого слова.
— К счастью, мое лучшее золото всегда при мне, — тряхнул шевелюрой Лоре. — Его может прибрать только один банк на свете.
— Но и он над вами не властен, — Манфред одарил судовладельца одной из самых лучезарных своих улыбок.
— Кто знает, кто знает… — уклончиво качнул головой Лоре и повернулся к Рихарду. — Мне поручено передать вам приглашение от Регины.
— Какая-нибудь из ее фантастических выдумок?
— Почти угадали — свадьба! Свою вы замотали, ну а мы — не таковские.
— Примите мои поздравления! — смущенно улыбнулся Лосберг. — Кто же избранник вашей дочери? Морган? Рокфеллер?
— И опять угадали, — захохотал Лоре. — Американец. Но без гроша. Ба-альшой прохвост! Далеко пойдет. Послушайте, я вам расскажу…
Он обнял Рихарда за плечи, бесцеремонно оттащил в сторону и громким шепотом спросил:
— Что за гусь? Он каждого так… обнюхивает?
— Манфред? Мой старый друг. Вместе учились в университете.
— М-да… — выпятил губу Лоре. — Тоже — ба-альшой прохвост! Все-таки, если честно, — терпеть не могу немцев!
— Русские вам симпатичнее? — усмехнулся Лосберг.
— Представьте — да. Именно русские, даже — большевики! Нет, ей-богу! Мне нравится их чувство государственного достоинства, фанатизм… Только если бы не их паталогическая ненависть к частной собственности! Понимаете, я не хочу быть бедным. Я просто не умею этого делать. Я никогда не понимал людей, которые не в состоянии заработать гроша на кусок хлеба. В наше время… Поверьте, если б не это — я с удовольствием поддал бы вашему другу… коленом под зад. — Он заметил приближающегося к ним Зингрубера, перешел на немецкий и заговорил громче: — Знаете о чем я говорю, господин Зингрубер? Что мне очень импонирует немецкая деловитость. Я бы с удовольствием ходил под немецким флагом, если бы не ваша страсть больше плавать под водой чем по воде. — Он зычно расхохотался своей шутке.
Манфред тоже рассмеялся, но внимательный Рихард заметил в уголках его глаз злые искорки. И вообще за веселой непринужденностью Манфреда он чувствовал острое, напряженное внимание к каждому из присутствующих на этом деловом ужине.
Прекрасно сервированный стол, вышколенные, специально приглашенные для этого из ресторана официанты, богатый набор вин и закусок — все это создавало и хорошее настроение, и как бы подчеркивало значительность самой встречи. Вниманием компании с самого начала завладел Манфред — он был просто в ударе: сыпал остротами, рассказывал анекдоты, пил сам, потчевал соседей. Тосты, тосты, тосты…
Все шло по задуманному плану, Единственное, о чем жалел Рихард, это то, что приехал тесть. Своим нытьем и плебейским видом он портил всю изысканность встречи.
— Никакого сладу, — взволнованно жаловался он. — Чуть чего — орут, требуют… Совсем от рук отбились.
— Ну орать-то всегда орали, — невозмутимо заметил Граузе. — Не надо распускать.
— В том-то и дело, что не только орут. Действуют — и не так уж глупо. Грамотные стали. Профсоюз помаленьку к рукам прибирают, газетки какие-то появились, листовки. Разговоры такие… Того и гляди, башку оторвут.
— О чем он говорит? — спросил Манфред у Лосберга.
— Да так, жалуется на рыбаков. Плохо работают.
— Их, видите ли, не устраивают наши порядки, — вмешался Граузе. — Стадо почувствовало себя без хозяина.
— О-о! Без хозяина, это плохо. А в принципе… Если люди мечтают о новом порядке, им обязательно надо в этом помочь.
— С вами поможешь… — переходя на латышский, пробурчал себе под нос Граузе и наклонился к Рихарду: — Вы уверены, что он не понимает по-латышски?
— Черт его знает, — неожиданно откровенно признался тот. — Разве можно сейчас быть в чем-то уверенным?
ГЛАВА 8
Яркие лучи автомобильных фар вынырнули из-за поворота и заплясали в темноте. Полицейская машина промчалась по ночной дороге. Как и в прошлый раз, она свернула с шоссе к рыбацкому поселку, проскочила крайние домики, резко затормозила у школы. Трое полицейских вышли из автомобиля, быстро поднялись на крыльцо, с силой застучали в дверь:
— Откройте! Полиция!
Лаймон, возвращавшийся от Бируты, чуть не наскочил на полицейских. Заметив их, он на секунду замер, затем бесшумно отступил в тень и, что было мочи, бросился к своему дому — рыбак знал, что Акменьлаукс сейчас находится у них.
Учитель, действительно, был у Калниньша. При свете настольной лампы они вместе с хозяином склонились над какой-то бумагой — рядом стояли забытые стаканы с чаем. Калниньш рассеянно потянулся за своим стаканом, но отхлебнуть не успел: в комнату ворвался Лаймон.
— Полиция! — задыхаясь, выкрикнул он. — Скорее!
— Где? — в один голос спросили оба.
— У школы. Случайно наткнулся… Бегите!
Учитель замер на секунду, жестким усилием воли подавляя растерянность, затем метнулся к столу, начал собирать бумаги.
— Скорее же!
Калниньш накинул на плечи куртку, коротко бросил от порога:
— Жду у лодок.
Акменьлаукс завернул бумаги, протянул Лаймону:
— Это сохранишь, во что бы то ни стало. Передашь в Риге… знаешь кому.
Где-то совсем близко послышался звук автомобильного мотора. Акменьлаукс кинулся к окну, распахнул его. Лаймон помог учителю выбраться наружу, спрыгнул следом. Совсем близко раздались голоса, залаяли потревоженные собаки. Беглецы затаились. Выждали. Затем Акменьлаукс едва слышно прошептал:
— Ну все, разбегаемся!
Калниньш стоял, чутко вслушиваясь в тишину. В нескольких шагах от него покачивалась лодка.
— Сюда! — громким шепотом позвал он, услышав шаги.
Учитель подбежал к берегу, тяжело дыша. Рыбак бросился ему навстречу, подхватил под руку. Хлюпая по мелководью, они добежали до лодки. Калниньш торопливо дернул за шнур — мотор взревел, но тут же заглох.
— А, черт! — Рванул еще раз, еще…
— Не суетись, спокойно!..
И вдруг по воде загуляли отблески света — до них не сразу дошло, что это автомобильные фары. И только когда раздался шум мотора, а в лучах света замелькали тени людей, стало ясно: их настигли. Тишину ночи прорезал грозный оклик:
— Стой! — потом еще: — Стой, стрелять буду!
Калниньш схватил весло, изо всех сил оттолкнулся, но полицейские уже бухали сапогами по воде.
— Стой! Не шевелись! Стрелять буду! Вы Акменьлаукс? Попрошу вас следовать за мной. Вас тоже.
…Конвойные провели его по тюремному коридору и втолкнули в комнату следователя.
— А, господин учитель! — усмехнулся тот. — Все дороги ведут в Рим? Совсем недавно в этой самой комнате я беседовал с одним из ваших учеников. Да и вам, кажется, давал добрые советы. Видите, как заразительны дурные примеры.
— За что я арестован? — угрюмо спросил Акменьлаукс.
— Какая наивность! — язвительно заметил следователь. — В вашем возрасте, с вашим опытом… Хотите ознакомиться с этой папкой или мне самому кое-что процитировать, товарищ командир особой роты латышских красных стрелков?
Учитель искоса, с опаской посмотрел на следователя.
— Надеялись утаить этот факт вашей биографии? Вам никогда не приходило в голову, что рано или поздно вас заложат собственные единомышленники?
— Стандартные приемы, господин следователь, я никогда не скрывал своего прошлого.
Полицейский извлек из папки номер «Цини», выдержал паузу:
— Бог с ним, с прошлым. Мы даже позволили вам учительствовать. Но вам, оказывается, все неймется.
— Не понимаю.
— Пришлось основательно поработать, чтобы сегодня предъявить вам обвинение в антигосударственной деятельности. Теперь мы достоверно знаем, что вы — член нелегальной коммунистической партии.
Арестованный молчал. Следователь развернул газету с отчеркнутой статьей, протянул учителю:
— Что вы скажете об этом?
— Ничего не могу сказать. Я эту статью не читал.
— Разумеется. Для чего же читать, если вы ее сами писали.
— Чем вы это докажете?
— У вас очень бойкое перо, господин учитель, — следователь с сарказмом прочел: — «…Близится час! Народ сорвет оковы рабства и вновь завоюет отнятые у него свободы!..» Но должен вам заметить как постоянный ваш читатель — у автора довольно однообразная манера изложения. — Он достал еще несколько газет и положил на стол, — мы вас расшифровали! — следователь придвинул к Акменьлауксу бумагу и перо. — Так что придется вам, господин учитель, еще раз поработать пером. Но на сей раз для нашей конторы. Пишите, отмалчиваться не имеет смысла.
Арестованный решительно оттолкнул лист:
— Если вам так хорошо все известно, зачем же писать?
— Слушайте, Акменьлаукс, на что вы рассчитываете? На тот самый «час, который близится»?
— Мне не хотелось бы углубляться в политическую дискуссию. Тем более, человек вы неглупый и обстановку, видимо, понимаете.
Следователь долго ее сводил с учителя ледяного взгляда, затем медленно процедил сквозь зубы:
— Что ж, я предупредил. Завтра вы будете сами просить перо и бумагу, но… как бы не оказалось поздно. — Он нажал кнопку звонка, вошел конвойный. — Увести!
Как только за Акменьлауксом захлопнулась дверь, в кабинет вошел начальник тюрьмы — пожилой мужчина с брезгливым выражением на одутловатом, нездоровом лице. Было очевидно, что здесь ему все надоело и опротивело. Особенно досаждали запахи — он то и дело вынимал из нагрудного кармана надушенный носовой платок и прикладывал его к носу.
— Ну как?
Следователь устало вздохнул, нехотя поднялся:
— Не знаю. Боюсь, будет непросто. Конечно, попробуем и гимнастику, и душ… ну… Словом, будем работать.
Вечером перед отбоем вся часть была выстроена на плацу перед казармами. Офицеры стояли в некотором отдалении от полковника. Тот держал в руке пачку каких-то листков и обращался с речью к солдатам:
— Этот возмутительный, позорящий честь нашего полка инцидент будет тщательно расследован и все виновные понесут суровое наказание. В тот момент, когда воинский долг призывает нас с особым рвением охранять спокойствие нашей матери-родины Латвии от внешних и внутренних врагов, нашелся мерзавец, который распространяет среди вас эти гнусные листовки, призывающие к бунту и нарушению священной присяги!
Угрюмые, хмурые, слушали солдаты речь полковника. В глазах Артура застыла тревога.
— Я не верю, — продолжал полковник, — что эта грязная агитация могла поколебать высокие патриотические чувства, которые хранит в сердце каждый латышский солдат. Но если кто-то из вас по неопытности или глупости был втянут бывшим рядовым Грикисом в его преступные дела, он должен собрать все мужество и по-солдатски честно признаться в своих ошибках. Только в этом случае можно рассчитывать на снисхождение. Что же касается самого предателя и шпиона, большевистского агента Грикиса… Завтра утром он будет отправлен в Ригу, где предстанет перед военным судом. Я надеюсь, что ему воздастся по заслугам. Вольно! — полковник резко повернулся и пошел.
— Разойдись! По казармам! — раздались команды офицеров.
Горнист поднял свою трубу — прозвучал вечерний отбой, сегодня этот звук показался Артуру особенно тоскливым. Так же медленно и тоскливо уходил с флагштока флаг.
Артур лежал на койке, не смыкая глаз. Где-то вдали церковные часы отбили третий час ночи. Казарма была объята тяжелым предутренним сном. Лишь рядом с Артуром пустовала койка Грикиса. Банга поднял голову, огляделся. Дневальный дремал за своим столиком над раскрытой книгой. Помедлив, Артур тихо поднялся, сел на кровати. Взял со стула одежду, свернул ее в тугой ком и, подхватив сапоги, неслышно двинулся к выходу. Вдруг он замер, пригнулся. Дневальный с кряхтеньем расправил спину, протер глаза, мельком оглядел казарму и, поднявшись, вышел в коридор. По шагам было слышно, как он удаляется. Потом где-то хлопнула дверь, щелкнула задвижка.
Прислушавшись, Банга быстро выскользнул из спальни, побежал по коридору, осторожно ступая босыми ногами. И снова остановился. Послышался звук спускаемой воды в клозете, снова щелкнула задвижка… Скрытый выступом, Артур прижался к стене, стараясь не дышать.
К счастью, дневальный не обернулся — он шел обратно в спальню, оправляя на ходу френч. Дождавшись, когда солдат скрылся за дверью, Банга стал лихорадочно одеваться. От волнения долго не попадал в рукава, путался в брюках. Наконец, осторожно направился к выходу, все еще держа сапоги в руках. И только во дворе, миновав круг света от тусклой лампочки у входа в казарму, натянул их прямо на босу ногу. Низко пригнувшись, скользнул за угол.
Одноэтажное кирпичное здание гауптвахты стояло в дальнем углу двора. Вдоль стены на высоте вытянутой руки темнели три зарешеченных окошка. Артур с замиранием сердца подкрадывался все ближе и ближе. Есть ли там часовой? Обычно часового у гауптвахты не было. Может быть, поставили сегодня из-за Грикиса? Однако, сколько он ни вглядывался в темноту, ничего подозрительного не было заметно. Приблизившись вплотную, Банга приподнялся на носках, попытался дотянуться до крайнего окошка, но не достал. Обернулся — неподалеку валялось несколько пустых ящиков. Быстро схватил один из них, подтащил к окну, взобрался и осторожно постучал. Никто не отозвался. Тогда он перебрался к следующему окну, постучал еще раз и сразу же увидел приплюснутое к решетке лицо человека.
— Кто это? — донесся до него чуть слышный голос Грикиса.
— Это я… Сейчас попробую что-нибудь сделать.
Артур соскочил с ящика и, таясь в затемненных краях двора, пробрался к гаражу. Ворота, как и следовало ожидать, были заперты на замок. Попробовал надавить на маленькую дверцу, прорезанную в воротах, — она жалобно затрещала, но не поддалась. Оглянулся, прислушался, отошел на несколько метров и, разогнавшись, с силой ударил плечом. Сразу и не сообразил, что влетел в гараж. Сердце отчаянно колотилось. Если сейчас засекут — конец! Но все вокруг было тихо.
Немного успокоившись, Банга огляделся: в темноте смутно вырисовывались контуры двух армейских грузовиков. Открыв кабину ближней машины, он поднял шоферское сиденье, принялся ощупывать инструмент, но того что искал, не нашел. Бросился к другой машине, снова поднял сиденье — и опять безрезультатно. В отчаянии метался он по темному гаражу, перебирая какие-то ключи, натыкался на ненужные предметы и вдруг, уже почти отчаявшись, случайно нащупал домкрат, Дрожащими руками потянул его из груды инструментов — с обвальным грохотом в темноте что-то рухнуло, покатилось, зазвенело.
Покрывшись испариной, Артур с ужасом слушал, как по каменному полу долго крутилась с надсадным визгом какая-то железяка. Ему казалось: этот визг сейчас слышен по всему городку. Но, видимо, толстые стены гаража заглушили шум — снаружи по-прежнему было тихо.
Выбравшись во двор с тяжелым домкратом, солдат вернулся к зданию гауптвахты. С трудом удерживаясь на шатком ящике, разбил стекло, затем попытался приладить домкрат к двум горизонтальным прутьям решетки.
— Придержи! — шепнул он Грикису. — Не так, снизу.
Наконец приладил инструмент (он сейчас с благодарностью вспомнил шофера из общества «Рыбак», который однажды показал ему этот фокус), завертел ручку и невольно зажмурился, услышав размеренный треск зубчатки. Артуру опять показалось, что этот звук грохочет по всему двору. Но он продолжал крутить ручку, и прутья медленно раздвигались под натиском инструмента.
— Руки, руки береги! — прошептал он Грикису. — А, черт, неудобно как.
Наконец, верхний прут с треском лопнул, вырвавшись из бетона.
— Держи! — со злостью прохрипел он Грикису, чуть не выронив потерявший опору домкрат. — Крути скорее!
Торопясь, сбивая в кровь пальцы, бормоча под нос ругательства, Юрис вставил домкрат между вертикальными стержнями и, уже не обращая внимания на шум трещотки, бешено завертел ручку. Прутья послушно начали разгибаться, просвет все больше расширялся. И вдруг что-то неприятно хряснуло, затем послышался бешеный голос Грикиса:
— Сломался, зараза!
Еще не веря в услышанное, Артур бессмысленно смотрел в черный провал окна.
— Ну что… что там?
— Накрылся! — теперь уже Грикис пытался орудовать домкратом, как ломом. Попробовав и так и этак, он со злостью отшвырнул бессмысленный кусок железа. — Беги, придумай что-нибудь! Лом найди.
Артур спрыгнул с ящика, вернулся в гараж — лом он нашел очень быстро. Но только выскочил во двор, как отчетливо услышал голос дневального.
— Банга! Банга! — надрывно звал тот.
Терять нельзя было ни секунды. Бегом вернувшись назад, он просунул лом между прутьями и яростно, всей силой налег на него. Надломленный домкратом прут с треском вылетел из гнезда.
Из штаба в сопровождении дневального и Брандиса выбежал лейтенант. Застегивая на ходу френч, он метнулся в сторону казармы, на шум. И только сейчас из дверей гауптвахты выбежал заспанный часовой с винтовкой.
— Стой! — истошно завопил он, заметив спрыгивающих с ящиков Грикиса и Бангу. — Стой, стрелять буду! — и несколько раз с испугу бабахнул в воздух.
— Тревога! — лейтенант устремился к часовому на помощь.
В городке вспыхнули все лампы и прожекторы, но было поздно — беглецы успели перебраться через забор.
— Разбегаемся! — хрипло скомандовал Грикис и, хлопнув в знак благодарности Артура по плечу, бесследно растворился в темноте.
Ярким весенним днем по мосту над рекой с грохотом мчался товарный состав. В одном из пустых вагонов, скорчившись в углу, сидел Артур. Сняв френч, он старательно спорол погоны, а затем принялся за нашивки. Голову сверлила одна-единственная мысль: отрезает он не просто тряпки — отрезает свое прошлое. Во всяком случае, возврата назад не было.
Утопая в белоснежной пене кружев, барахтался, таращил глазенки малыш. Рихард, еще не сбросив дорожного плаща, склонился над колыбелью. Со сложным чувством вглядывался он в этот крохотный, живой комочек, бесконечно далекий от ненависти, любви — от всей пестрой путаницы человеческих страстей, охватывающих Лосберга в последнее время. Сын его жены и его врага… Существо, которому волей судьбы он должен стать отцом, дать свое имя… Эта молчаливая дуэль взглядов — младенчески безмятежного и тяжелого, ревнивого, холодно-неприязненного — не ускользнула от внимания Марты. Слабая, неокрепшая после трудных родов, она приподнялась на подушке, с тревогой наблюдая за этой встречей. Будто хотела угадать по ней будущее своей странной семьи.
— Чудо, а не ребенок! — раздалось за спиной Рихарда восторженное кудахтанье тетушки Эльзы. — Глазки голубенькие, волосики беленькие… Настоящий ариец. Зигфрид!
— Можешь гордиться, — подхватил дядюшка Генрих. — Твой сын — чемпион клиники. Пять килограммов двести восемь граммов… — и подмигнул. — Что и говорить — сработано на совесть.
— Генрих, перестань! — целомудренно одернула мужа фрау Эльза. Но тут же расплылась, закурлыкала, заагукала над колыбелькой. — Нет, какое поразительное сходство! Я первый раз в жизни вижу, чтобы так… Ну, буквально, как две капли воды. Глазки, ушки, овал лица — все! Просто вылитый Лосберг. Ты обрати внимание, Рихард, как эта малютка…
— Тетушка! — сдерживая раздражение, пробурчал Рихард. — По-моему, вы слишком преувеличиваете наше сходство. В этом возрасте они все…
— Ты, наверное, очень устал с дороги? — пришла ему на помощь Марта.
— Безумно! И не только с дороги. Я же предполагал пробыть в Риге два-три дня. Ну, от силы неделю. А проторчал целый месяц.
— Да, господин Зингрубер сразу же позвонил нам и сказал, что ты задержишься, что у тебя какие-то неприятности на фабрике. Это действительно так? — дядюшка испуганно смотрел на племянника.
Рихард недовольно поморщился, уклончиво ответил:
— И да, и нет. Это отдельный разговор.
— Как господину Зингруберу Латвия? Понравилась ли? — спросила фрау Эльза.
— Боюсь, слишком понравилась.
— Что значит, слишком? Не понимаю…
Племянник и дядя обменялись короткими, но весьма выразительными взглядами.
— Эльзочка, разве ты не видишь, что Рихард едва держится на ногах?
— Да-да, разумеется, извини. Пойдем, Генрих! Рихард, сними, наконец, этот ужасный плащ. Имей в виду, дорожная пыль может стать источником опасной инфекции.
Когда они, наконец, удалились, Рихард обернулся к Марте:
— Ты как… назвала его?
— Пока никак.
— Артур исчез, — неожиданно сказал он. — Дезертировал из армии.
— Я знаю, — после паузы призналась Марта.
— Вот как? Откуда же? Я просил твоего отца не писать, не беспокоить…
— Мне Бирута написала.
— Ты, значит, переписываешься с ними? — с легкой обидой процедил он. — А я и не знал.
Она не ответила. Лосберг тоже молчал, смиряя вспыхнувшую ревность. Потом пересилил себя, сел подле жены, взял ее руку:
— Прости! Я не хотел тебя обидеть. Ты так измучилась… — Он улыбнулся, заговорщически подмигнул. — Врачей все-таки обманула. Назови его так, как тебе хочется. Понимаешь? Как тебе хочется, так и назови.
Марта выдержала его пристальный, испытующий взгляд.
Мне бы хотелось крестить его дома, в нашей церкви. Ты ведь говорил — мы скоро вернемся.
Он поднялся, отошел к окну, долго молчал. Не оборачиваясь, глухо ответил:
— Будем надеяться, Марта. К сожалению, все значительно сложнее. И зависит не только от нас.
По железным лестницам Центральной рижской тюрьмы пробежал испуганный надзиратель. С трудом переводя дух, вошел в кабинет.
— Господин директор! Большая неприятность…
— Что такое?
— В сорок восьмой камере скончался учитель Акменьлаукс.
— Как — скончался? Когда?
— Видимо, ночью. Обнаружили только что, при утренней поверке.
Директор медленно поднялся, лицо его побледнело:
— Но это же скандал! Сейчас, когда и так на всех углах кричат о несправедливости и произволе… Такой случай! Кто вел последний допрос? Когда?
— Вчера днем. Следователь Спрудж.
— Спрудж? Так какого же черта вы сразу не отправили заключенного в больничный корпус?
— Но вы не давали такого распоряжения, и я думал…
— Что вы там думали? — набросился директор. — Вы что — Спруджа не знаете?
— Да и заключенный жалоб не подавал…
— Врача известили?
— Сейчас будет сделано… — ринулся к выходу надзиратель.
— Стойте! Вы что, совсем одурели? Сообщите пока только полицейскому врачу. Вы меня поняли? Иначе я не смогу оградить вас от неприятностей. Срочно вызовите полицейского врача!
В темном, придавленном низким потолком помещении тюремного морга на цинковом лотке под простыней угадывались очертания длинного, окаменевшего тела. Инспектор полицейской охранки — солидный мужчина в очках — отогнул край простыни, прищурился, взглядываясь:
— Какие у вас, собственно, основания сомневаться, господин Лоре? — обратился он к тюремному врачу. — Вот диагноз, установленный вашим коллегой полицейским врачом Цирулисом. Острая асфиксия, паралич сердечной мышцы…
— А я и не думаю сомневаться, — угрюмо проговорил доктор. Он был в резиновом фартуке поверх халата и в длинных резиновых перчатках. — Вопрос только в том — в результате чего наступил паралич. Мой, как вы изволили выразиться, коллега из полиции, как видно, страдает близорукостью. — Лоре отвернул край простыни, показал на бок трупа, — Вот явные следы избиения.
Инспектор поправил очки, присмотрелся:
— Не знаю… Я, например, ничего такого не вижу, — он вопросительно обернулся к директору тюрьмы.
— По-моему, тоже — ничего нет, — пожал плечами тот.
— Да, разумеется, работа довольно профессиональная.
— Зря вы, господин Лоре. Зачем бросать тень?.. Спрудж весьма добросовестный работник и добропорядочный гражданин — двое детей, жена учительница…
Но врач, словно бы не слыша инспектора, продолжал, рассуждать вслух:
— Да, разумеется. Особенно ясно результаты его работы покажет вскрытие.
— Чего вы, собственно, добиваетесь? — глядя ему прямо в глаза, тихо спросил инспектор. — Вам непременно нужен скандал?
— Я хочу, чтобы общественности стало известно, что творится за этими стенами.
— За какими стенами? — невозмутимо переспросил директор. — Вы, кажется, забыли, что это все-таки не пансионат, а тюрьма.
— Да, я помню об этом. Но они для меня прежде всего люди. Общество вправе приговорить человека к самой высшей мере наказания. Но превращать его в безответную скотину, втаптывать его в грязь никому из нас не дано права.
— Вы сказали «никому из нас», — примирительно улыбнулся инспектор. — Значит, вы понимаете, что мы в одной упряжке?
— Мы с вами временно находимся под одной крышей, господин инспектор. Такова, к сожалению, неизбежность.
— Вам не кажется, что вы ставите себя в крайне сомнительное положение?
— Я стоял и буду стоять там, где сочту нужным. Надеюсь, комиссия по надзору сделает соответствующие выводы. Я же, со своей стороны, постараюсь довести эту историю до сведения министра юстиции. К счастью, у меня есть такая возможность.
— Да, такая возможность у вас пока есть, — невозмутимо согласился инспектор. — Но надолго ли? Насколько мне известно, вы уже поссорили своего отца со многими уважаемыми людьми. Если вы лишитесь еще и нашей поддержки…
— Вы, кажется, угрожаете мне?
— Ну зачем же? Мы с вами взрослые люди и ведем вполне нормальный, деловой разговор. Знаете, всегда лучше кое-что взвесить до, чем после. Чтобы не было поздно.
Открылась дверь, вошел надзиратель с двумя врачами.
— Нам подождать? — спросил он.
Директор недовольно посмотрел в его сторону, но Лоре опередил:
— Здравствуйте, господа! Сейчас приступим. Халаты и фартуки там, в шкафу. — Повернулся к начальству: — Хотите присутствовать при вскрытии?
Директор брезгливо поморщился:
— Увольте! — Он сумрачно взглянул ка врача, придвинулся к нему вплотную. Надеюсь, вы хорошо нас поняли?
— Разумеется…
Прозвучало это настолько неопределенно, что инспектор озадаченно приподнял брови.
— Что ж… Желаю удачи! — он подал было Лоре руку, но она так и повисла воздухе — доктор с усмешкой показал на свои, затянутые в тонкую резину ладони.
Заминая инцидент, инспектор деланно засмеялся, а директор вынул из нагрудного кармана платок, поднес к носу:
— Я всегда говорил, что вы, врачи, — герои. Работать при таком запахе…
Захлопнув за собой дверь, уже на лестнице, инспектор сбросил с себя маску благодушия и раздраженно проговорил:
— Д-а, нашли вы себе эскулапа.
— Я? — не менее раздраженно посмотрел на него директор. — Моя бы воля… Он же, сволочь, всех околпачил. Диссертацию, видите ли, пишет. Мне и приказали. А он… Черт его знает! Говорят, яблоко от яблони… Вот тебе и яблоко. При таком папаше…
— Да, папаша у него другой закваски, — тяжело вздохнул инспектор. — Но нам от этого не легче.
— Думаете, он рискнет?
— Я не в карты играю, дражайший! И подставлять голову из-за каждого слизняка… Надеюсь, вас тоже такая перспектива не устраивает? Надо что-то предпринимать.
Ветерок трепал светлые волосы Марты, играл легкими складками ее платья. Она катила по аллее коляску с ребенком. Шольце неподалеку от дома садовыми ножницами обрезал кусты.
— Доброе утро! — улыбнулась она садовнику.
— О, фрау Лосберг! Как чувствует себя малыш? Без вас было так тоскливо…
— Спасибо, господин Шольце, вы очень добры. Малыш чувствует себя прекрасно. У нас большая радость, господин Шольце. Мы скоро уезжаем.
— Опять в Мюнхен?
— Туда ненадолго, только оформить документы. А потом домой, в Латвию.
— А не боитесь дороги?
— Нет. Я хочу, чтобы мой Эдгар поскорее встретился со своим дедом. И крестить его будем в нашей старой церкви.
— Понимаю вас, фрау Лосберг, — с грустью сказал старик. — Хотя нам, конечно, жаль расставаться с вами. Луиза так вас любит.
— Как она чувствует себя, господин Шольце?
— Спасибо, сегодня немного лучше.
— Передайте ей, что я ее обязательно навещу.
— Спасибо, фрау Лосберг. Она будет жить этим ожиданием.
Улыбнувшись старику, Марта пошла к дому, поднялась на крыльцо. Как только она распахнула дверь в гостиную, в уши ударил неприятно-резкий голос Рихарда — муж разговаривал по телефону с Ригой. В последнее время она установила одну нехитрую закономерность: у Рихарда всегда портилось настроение, стоило ему поговорить с домом.
— Это не их дело… Не их дело, говорю! — почти кричал Лосберг. — Я не могу держать лишних людей, когда не хватает сырья. Я дал вам… Не перебивайте, пожалуйста, я с Ригой разговариваю… Я дал вам по этому поводу совершенно четкие инструкции и будьте любезны их выполнять.
— Но, господин Лосберг, — доносился из трубки писклявый голос управляющего, вмешался профсоюз. Дело пахнет скандалом…
— Плевал я на их профсоюз!
— Они начали забастовку. Фабрика второй день стоит.
— Какого же черта! Вы что, не знаете, как в таких случаях поступают? Увольняйте, набирайте новых! И не трусьте, будьте мужчиной. Я при первой возможности приеду. А пока держите меня в курсе. Все!
Он бросил трубку, нервно закурил.
— Снова неприятности? — осторожно спросила Марта.
— Хорошего мало.
— Вот видишь, Рихард, надо скорее ехать.
— У тебя на все один ответ. Живешь как во сне. А ты проснись, оглянись вокруг. Ты хотя бы представляешь себе, что там сейчас происходит?
— Я давно как во сне, — сдавленно проговорила жена. — Тем более надо торопиться. Чтобы не проспать все на свете.
Он удивленно посмотрел в ее сторону, натянуто улыбнулся:
— Ну вот, еще один аргумент. — Рихард подошел к ней, взглянул на спящего малыша. — Ты полагаешь, ему уже не страшны такие путешествия?
— Рихард, мы ведь решили. И я не хочу больше об этом говорить.
В бездонной глубине июньского неба радостно и счастливо заливался жаворонок. Летний зной, жар накаленных стен казался осязаемым. Он вливался в раскрытое, но забранное решеткой окно комнаты следователя. Этот кабинет в следственном изоляторе был не похож на те кабинеты, в которых проходили первые допросы политзаключенных. Бросались в глаза некоторые дополнительные детали обстановки — медицинская кушетка с кожаной обивкой, раковина, возле которой на вешалке висело несколько полотенец, эмалированное ведро со шваброй. На столе следователя — грузного, полнокровного мужчины — жужжал вентилятор. Но он не давал желанной прохлады, и полицейский беспрестанно пил воду, наливая себе из графина.
Калниньш, ссутулившись, сидел напротив него на привинченном к полу табурете и угрюмо молчал.
— Думаешь, ты — латыш? — Следователь сдернул с вешалки полотенце, вытер пот и вернулся к столу. — Только потому, что у тебя такая фамилия — Калниньш. Нет, ты не латыш… Ты продажная шкура! Тебе эти… русские платят. Вы все у них на жаловании.
Казалось, Андрис его не слушал — сидел, углубленный в свои мысли.
— А какой, интересно, валютой они с вами рассчитываются? Рублями или латами? — Расстегнув рубашку на потной груди, следователь еще ближе нагнулся к вентилятору. — И вот из-за таких подонков… Вы же подонки! Только мутите своей грязной пропагандой головы честным людям. А я должен во всей этой заразе копаться, марать себе руки… Дохнуть вот в этой жаре! — Следователь переложил на столе бумаги, раскрыл папку с делом. И мало того — еще иметь кучу неприятностей. «Негуманное поведение», «несоблюдение норм допроса»… Как будто я тут допрашиваю приличных людей, а не всякую сволочь. — Он вылил из графина в стакан остатки воды, выпил и пошел к крану, бормоча себе под нос: — Ладно, гнида, я тебя пальцем не трону. Ты у меня сам сдохнешь. — С полным графином вернулся к столу, выпил стакан воды и сказал другим, деловым тоном: — Итак, начнем расследование по всем юридическим нормам. Разрешите представиться. Я — следователь политического охранного отделения города Риги, моя фамилия Спрудж.
Калниньша будто ударило током — он впился взглядом в полицейского.
— Спрудж? Так это вы?..
— Да, это я.
— Вы вели следствие по делу Акменьлаукса?
— А вам, собственно, к чему это знать? — озлился следователь. Не хватало еще и такой наглости — скоро совсем на голову сядут.
— Вы или не вы?
— Ну, знаете… — Спруджа передернуло. — С вами не соскучишься. Все! — рявкнул он, видя, что Калниньш собирается повторить свой вопрос. Начинаем дело по расследованию…
— Нет, не начинаем, — каким-то странным голосом проговорил Калниньш.
— Что? — побагровел следователь.
— Я говорю, что на этом и закончим!
Калниньш молниеносным движением схватил со стола полный графин и с силой обрушил его на голову Спруджа. Тот рухнул на пол, но тут же вскочил и бросился к двери. Но Калниньш успел подставить ногу и что было силы съездил кулаком в челюсть. Спрудж отлетел в угол кабинета, с треском выломав дверцу шкафа. Оттуда с грохотом вывалились орудия допроса — тяжелые кожаные рукава, набитые дробью. Окровавленный Спрудж успел схватить один из них, торопливо замахнулся… И снова тяжелый кулак рыбака бросил его в угол.
— На помощь! — выплевывая изо рта кровавую кашу, дико заорал Спрудж.
В кабинет влетели трое надзирателей, бросились на Калниньша. Но и они долго не могли справиться с рассвирепевшим рыбаком.
ГЛАВА 9
Манфред возился с радиоприемником. В домашней мягкой рубашке с закатанными рукавами, с упавшей на лоб светлой россыпью волос он совсем не был похож на офицера, каким его в последнее время привык видеть Лосберг.
— Хорошо, что застал тебя дома, — входя в комнату, сказал Рихард. — Надо поговорить. Здравствуй! — И кивнул на приемник: — Что, новое увлечение?
— Радиотехника, старина, гвоздь современного прогресса.
Манфред продолжал сосредоточенно колдовать у аппарата, в котором что-то трещало и попискивало. — У нее фантастическое будущее.
— Да уж… Насчет будущего — мне тут один фантаст намекнул, — усмехнулся Рихард, выбирая, из какой бутылки налить, — в подпитии, правда… Радиоуправляемый самолет — без летчика, без экипажа… Этакий летучий голландец, начиненный каким-нибудь тринитро-дерьмом… летит себе, скажем, на Лондон…
— А ты поменьше пей с такими фантастами, — мрачно предупредил Манфред. — Проспится, тебя же и заложит на всякий случай.
— Гран мерси за совет! — Рихард склонился в шутовском поклоне. — Может, ты все-таки оторвешься на минутку? У меня действительно серьезный разговор.
— Говори, я слушаю.
— Ах, слушаешь… Ну так слушай. Твой Биллинг порядочная скотина.
Зингрубер искоса взглянул на приятеля:
— Странно. А ты произвел на него хорошее впечатление. Он тобой доволен.
— Плевал я на его впечатления! Я ему не дворняжка — бегать на задних лапках и таскать в зубах информацию.
— Погоди. Но ведь Биллинг дал тебе и твоей группе совершенно конкретные поручения. И ты согласился их выполнять.
— Да, согласился. Но ради чего? Может, он думает, что за ту кость, которую бросил мне? За ту партию вискозы? Кстати, о новых поставках он помалкивает.
— Ну, я думаю, это уладится.
— Допустим. Но я вовсе не нанимался в платные агенты и не желаю быть пешкой в игре. Ты читал вот это? — Рихард со злостью швырнул на стол газету. — Генерал Балодис смещен с поста военного министра. За попытку переворота.
— Ну и что? — холодно взглянул на него Зингрубер. — Балодис твой друг?
— При чем здесь это? Я не уверен, что вы не будете столь же хладнокровно наблюдать за неудачей моих друзей, попытайся они прийти к власти.
— Если делать будут это по собственному почину, без согласования с нами… Знаешь, не берусь поручиться.
Рихард опустился на стул, проговорил усталым голосом:
— Я ничего не понимаю, Манфред. Вы решили руками финнов пощупать у русских мускулы. Пощупали. Финны получили по зубам. Вам потребовалось усыпить бдительность русских — вы подписали с ними договор, Гитлер устроил в Берлине пышный прием Молотову. Для того, чтобы разгромить англичан, вы захватили Данию, Норвегию, Бельгию… Францию. Я все готов понять, Манфред, и все равно мне не все ясно. Если взять эти глобальные события как фон, что с нами-то, бедными, будет? Предположим, мы все же заварим кашу, не сделают ли в твоем фатерланде вид, что нас вообще не знают и в глаза никогда не видели? Что тогда? Прикажете оставаться нос к носу с русскими миноносцами и собственными коммунистами?
— По-моему, я ответил на этот вопрос… — хозяин загадочно улыбнулся, извлек из внутренностей радиоприемника черный диск, похожий на пластинку, подошел к ящику, смахивающему на патефон, поставил пластинку, опустил иглу, и ящик вдруг заговорил голосом Рихарда:
— Твой Биллинг порядочная скоти… Плевал я на его впечатления… За кость, которую бросил мне… Но я вовсе не нанимался в платные агенты…
У Рихарда вытянулось лицо.
— Что за шуточки? — пробормотал он растерянно, глядя на коварную пластинку.
— Нет, старина, не шуточки! Скоро мы научимся упрятывать эти штучки в портфели, портсигары, в авторучки… В пуговицы кальсон… Разведка должна знать о человеке все. Даже тог о чем он говорит ночью с женой.
— Или с другом? — съязвил Рихард. — Надеюсь, ты не собираешься развлекать моим голосом Биллинга?
— Говори! — успокоил Манфред. — Я выключил.
— А что, собственно, еще сказать? Пока я тут сижу и занимаюсь вашими конкретными поручениями, в Латвии творится черт знает что. Я уже не властен над собственной фабрикой.
— Чего же ты от меня хочешь?
— Помоги встретиться с Биллингом.
— Ну, не знаю… Думаю, у него сейчас более крупные заботы, чем твоя фабрика.
Манфред подошел к аппарату, снял с диска пластинку, протянул с улыбкой Рихарду:
— А это возьми на память. Заруби на носу, дружище, такие штучки все больше в моде… Но не везде тебе будут их дарить.
По каменным плитам тюремного коридора тяжело стучали шаги. Две пары солдатских сапог и между ними — башмаки арестанта. Одетый в полосатую робу, Андрис Калниньш шагал в сопровождении конвойных, угрюмо озираясь по сторонам, За поворотом коридора, возле дверей одной из камер, их ждал надзиратель со связкой ключей. Калниньш забеспокоился, повернулся к конвойным:
— Куда вы меня ведете?
Те продолжали молча шагать.
— Куда ведете, спрашиваю?
— Шагай, шагай! Нечего! — подтолкнул его в спину надзиратель.
Они подошли к камере тридцать семь. Тюремщик отпер дверь, конвойные бесцеремонно втолкнули заключенного внутрь — дверь тут же захлопнулась.
Утром рыбак ползал на карачках, протирал тряпкой пол. Его физиономию украшали два лиловых синяка.
— Давай, давай, вкалывай! Работа дураков любит, — добродушно заметил лежащий на койке детина — подобно зверю, он буйно зарос волосами. — Вон там, в уголочке протри!
Андрис сверкнул исподлобья ненавидящим взглядом, но послушно пошел домывать угол. Двое других заключенных, явные уголовники, перебрасывались в карты.
— Закурить! — негромко приказал один из них.
Калниньш сделал вид, что не слышит.
— Ну? — повысил голос картежник.
Курево лежало рядом. Рыбак положил тряпку, вытер о штаны руки и, достав из пачки папиросу, сунул ему в рот.
— Огня!
От ненависти и унижения у Калниньша дрожали руки, но он заставил себя зажечь спичку. Однако арестант не спешил прикуривать — разминая папиросу, дожидался, пока пламя не начнет обжигать Андрису пальцы. Стиснув зубы, рыбак терпел.
— Молодец, — похвалил уголовник и обратился к приятелю: — Пусть теперь покушает.
— Пусть, — согласился тот и двинул по полу ногой котелок с похлебкой.
Калниньш достал ложку, хлеб… И вздрогнул — ь котелок звонко шлепнулся окурок.
— Папиросы дерьмо! — небрежно заметил бандит, закуривая новую.
Все трое заржали. Пришлось стерпеть и это — Калниньш прекрасно понимал: его провоцируют. По всей видимости, одного покушения на следователя властям было маловато, чтобы отвалить ему полной мерой. Неужели боятся реакции ка убийство Акменьлаукса? Во всяком случае, он дал себе зарок — больше не взрываться и не поддаваться ни на какие провокации. Выплеснул из котелка, молча уселся в углу и жевал хлеб.
Волосатый детина сполз с кровати, подошел к рыбаку, уставился на него, разглядывая в упор:
— Слушай, а ты действительно политический? Что-то уж больно покладистый. Может, легавый? Разнюхать кой-чего подсадили? Лучше сразу колись!
Рыбак будто и не слышал — жевал себе и жевал.
— Ясно, легавый, — обернулся к своим детина. — Разве политические такие бывают? Тот вон, учителишка… До чего ж нервный был — страшное дело. Руку мне до кости прокусил. А еще — интеллигент.
Андрис поперхнулся куском, потрясенно поднял взгляд на волосатого. Они его вовсе не провоцируют, а посадили сюда так же, как Акменьлаукса. Чтобы угробить руками уголовников.
— Чего вылупился? — усмехнулся волосатый. — Может, он дружок твой был? Тогда — извини, не знал.
Жгучая ярость ударила рыбаку в голову, заставила забыть о благоразумии. Он медленно, тяжело поднялся.
— Значит, это ты, гнида вонючая?
— Чего, чего? — обалдело набычился детина. — Ну, видно, мало мы тебя…
Но договорить не успел, с воем отлетел в угол — Андрис в бешенстве двинул его ногой в пах. Но тут же с коек сорвались остальные и бросились на рыбака. Андрис волчком крутился между ними. Окровавленный, страшный, он едва успевал отражать удары и сам бил, бил, что было мочи. С пола вскочил озверевший от боли и злобы волосатый.
— Отвали, суки! — выл он, размахивая тяжелой табуреткой. — Отвали, говорю! Я сам его, сам…
— Убийство! — ворвался в кабинет директора тюрьмы перекошенный от страха надзиратель. — В тридцать седьмой убит заключенный…
— Да что они, черт бы их побрал… Сказано же было — поучить. Только поучить! — директор вынул платок, вытер взмокший лоб. — Теперь из-за этого рыбака…
— Какого рыбака?! — фальцетом крикнул надзиратель. — Убит уголовник Мудрис по кличке «Бешеный». У двоих других — переломы, сотрясение мозга. Это же не человек, это дьявол какой-то.
Директор медленно опустился в кресло, несколько секунд переваривал донесение и вдруг просветлел.
— А что? — потер он от удовольствия руки. — Это дело! И с Мудрисом рассчитались, и рыбачка теперь на законном основании привлечем. А? Оно ведь справедливо говорится — нет худа без добра. Звоните в прокуратуру.
Иоганн Шольце воткнул лопату в рыхлую землю и, перешагнув через ящики с рассадой, вышел на дорожку.
— Дайте-ка взглянуть на вашего богатыря, — улыбнулся он Марте, катившей от крыльца коляску.
Та приветливо поздоровалась, отогнула покрывало.
— У-у, какой славный! — нагнулся старик, спрятав за спину измазанные землей руки. — Наверное, любит покушать, как и полагается мужчине. Как вы его назвали?
— Эдгар.
— Эдгар… Очень красивое имя, — похвалил садовник и сказал озабоченно: — У вас неважный вид, фрау Лосберг. Нас с женой это огорчает. Вы нездоровы?
— Благодарю вас, господин Шольце. Сейчас уже лучше.
— Загляните к нам, моя Луизхен — настоящая колдунья. Она умеет лечить травами.
— Да-а, это прекрасные лекарства. Если бы ими можно было лечить и душу.
Марта вдруг вздрогнула и обернулась за ее спиной стоял одноглазый Фукс.
— Что вам нужно? — раздраженно спросила она. — Почему вы всегда подкрадываетесь?
— Прошу прощения, — смиренно поклонился Фукс, мне необходим господин Лосберг.
— Его здесь нет, как видите. Что еще?
Шольце поспешно отошел от них, занялся своей рассадой.
— Прошу прощения, но вы не могли бы подсказать, где можно найти господина Лосберга?
— Нет, не могу.
— Извините, но у меня к нему срочное поручение…
— Какое? — Марта говорила резко, почти грубо.
— Телеграмма…
— Дайте сюда!
— Но телеграмма господину Лосбергу, — помявшись, сказал Фукс. — Лично.
— Дайте сюда сейчас же! — властно приказала Марта.
Фукс неохотно протянул ей бланк. Марта нетерпеливо сорвала наклейку. В телеграмме было написано: «Обстоятельства требуют вашего присутствия. Срочно выезжайте. Озолс».
Машина мчалась по шоссе, охваченному с двух сторон густым сосновым лесом.
— И не говорите, — обернулся к Рихарду с переднего сиденья Озолс. — Такое творится… Одни бегут, как крысы, — сами на вокзале видели. Другие так обнаглели — по улице не пройдешь. Все орут, требуют, угрожают… Почему и с этой телеграммой?.. Надо что-то делать. Продать, разумеется, уже ничего не удастся, поздно, но попытаться кое-что спасти, по-моему, еще можно. А тут, как на грех, и земельный банк прекратил все операции. Так что…
— Ну а что здесь вообще говорят? — нетерпеливо перебил Лосберг. — Из газет и радио, как всегда, нечего не узнаешь.
— Господи боже мой! Да вы спросите, чего только не говорят! Одни красные флаги припасают, другие немцев ждут…
— Это правда, говорят, что теперь не будет ни Латвии, ни Литвы, ни Эстонии? — обернулся из-за руля Бруно. — Соединенные Балтийские Штаты, как в Америке. Я слыхал, будто Мунтерс с их министрами иностранных дел договорился.
— Что за чушь, — поморщился Рихард. — Кстати, как там Зигис и Волдис? Не разлетелись?
— Все на месте. У ребят руки чешутся кое-кому всыпать.
— Всыпать… Герои! Мало без вас безобразий, — покосился на него Озолс и обернулся к Рихарду. — Надо с вашей дачей что-то делать.
Зять молчал, думал о своем.
— Есть у меня одно предложение, — осторожно начал Озолс. — Не знаю, правда, как вы к нему отнесетесь.
— Ну, ну, я вас слушаю.
— Оно и в самом деле непонятно, как тут повернется. Штаты — не Штаты… А может, война будет. Может, и вообще обойдется — как было, так и останется. Вот я и подумал: а не продать ли вам дачу мне?
— Дачу? Вам?
— Ну не то чтобы продать, а так… — заспешил с объяснениями Озолс. — Как бы переписать на мое имя. Для большей, так сказать, сохранности, поскольку вас все же тут нет, а я… Словом, на всякий случай…
Машина въехала в поселок, покатила в сторону дачи Лосберга. Рихард покосился на озабоченную физиономию тестя, с нескрываемым раздражением переспросил:
— Так, значит, на всякий случай?
— Мы же не чужие, Рихард. Просто, я думаю, так больше шансов сохранить дом. Да и не даром все это. О цене мы можем еще потолковать. Хотя сейчас цены — сами знаете…
Он замолчал, выжидательно глядя на зятя. Тот не ответил.
— Насчет оформления я тоже подумал, — деловито продолжал Озолс. — Этот ваш приятель, господин Крейзис… У него большие связи — и в земельном банке, всюду… Как вы думаете, не съездить ли нам к нему? Я узнавал, он в Риге.
Да, я немедленно поеду к нему, — Лосберг отрешенно посмотрел на тестя. — Только без родственников. Один. Есть дела поважнее, Озолс. Вы меня поняли? Поважнее…
Рихард стоял в кабинете Крейзиса и устало прислушивался к громкому, неторопливому спору.
— Это трусость и только трусость! — резке отбросив стул, поднялся из-за стола хозяин кабинета. — Вот уж истинно каждый народ имеет правительство, которого он заслуживает. Зайцы — другого слова не подберешь!
— А голой задницей на штыки — это как? — почти кричал полковник Граузе. — Подобрать термин? Или сами сообразите?
— Вся сложность в том, дорогой Освальд, — примирительно начал было Фрицкаус, но Граузе бесцеремонно оборвал:
— Да какая сложность! Пусть поедет в Лиепаю или в Вентспилс — ему там все объяснят. Все сложности. Или хотя бы выглянет в окно.
Рихард наблюдал за спорящими и никого не узнавал — от прошлой самоуверенности и многозначительности ни в ком не осталось и следа. Перед ним сидели перепуганные, растерянные люди.
— Действительно, Освальд, обстановка складывается так… — вновь вмешался Фрицкаус.
— Обстановка — это прежде всего мы с вами! — яростно стоял на своем Крейзис. — А то, что там… — он кивнул в сторону окна, — нам только на руку. Резиденция практически не охраняется, вся свора министров — кто в лес, кто по дрова, газеты несут околесицу. И упустить такой момент? Да их сейчас голыми руками… Пары-тройки отрядов хватит.
— Парочки борделей вам хватит, — саркастически пробурчал полковник, — Пока девки оттуда не разбежались.
— Прекратите паясничать! — гневно обернулся к нему Крейзис. — Решается судьба Латвии, а вы…
— Прошу прощения! — В кабинет, тяжело отдуваясь, ввалился Лоре. Встрепанный, помятый, он швырнул на стол вырванную с мясом пуговицу. — Вот! В качестве оправдания. Бог знает что — конец света наступает.
— Говорят, вы неплохо подготовились к этому концу света? — язвительно полюбопытствовал Фрицкаус. — Кроме пуговицы, ничего не потеряете?
— Латвия еще скажет мне спасибо. За то, что мое золото навсегда останется латышским и не превратится ни в рубли, ни в марки.
— Разумеется. Вы ведь предпочитаете доллары, — вскользь заметил Карлсонс и обратился к хозяину: — Насчет того, что резиденция не охраняется — не обольщайтесь. Думаете, это стадо зря там толчется? Красные умеют действовать. Если хотите знать, они пикетируют город.
— Коммунисты охраняют бесценную особу президента? — удивился Рихард. Он был поражен услышанным.
— Представьте себе. Ульманис растерян, парализован морально, не способен принимать решения. «Я на своем месте, латыши могут спать спокойно!» — вот все, чем он в состоянии урезонить нацию. Словом, на этом этапе такой президент их вполне устраивает, — Карлсонс ткнул пальцем в окно. — А попробуй сунься кто другой…
— О чем говорить? — желчно бросил Граузе. — Вашу пару-тройку отрядов просто сотрут в порошок. Мокрого, места не останется.
— Между прочим, любая попытка — прекрасный повод для вмешательства русских, — поддержал его Карлсонс. — Советы тут же потребуют согласия на ввод своих войск ради предотвращения фашистского переворота. Кстати, с их точки зрения они будут правы.
— Я вижу, еще немного — и вы сами выйдете на улицу с красными флагами, — зло огрызнулся Крейзис.
— Никак не могу понять, господа, — Рихард поднялся, встал рядом с Крейзисом. — К чему же вы тогда готовились? Все эти разговоры о национальной независимости, тайные переговоры с немцами…
Граузе смерил его презрительным взглядом:
— Разговоры разговорами и остались. Что вы привезли от немцев? Шиш в кармане? То-то! Радетели отечества, черт бы вас побрал!
— У вас есть лучшие предложения? — холодно спросил Крейзис.
— У меня? Есть. Я предлагаю испариться немедленно и бесследно. Пока нас не перестреляли по одиночке, как глухарей. Борьба только начинается, господа. Не забывайте об этом.
Чтобы ни делала Марта в последнее время, куда бы ни шла, с кем бы ни говорила — одна неотвязная мысль жгла и сверлила ей мозг. Она понимала: вряд ли найдутся у нее силы высказать Рихарду все, что мучило ее и на что она собиралась решиться. Последней каплей, переполнившей чашу терпения, был отказ мужа взять ее с собой в Латвию. Что бы он ни говорил, как бы ни мотивировал свое решение, какие бы ни приводил доводы, она не верила ни одному его слову. Или, вернее, не то чтобы не верила, она просто не слышала этих слов. Для нее они были только звуками, лишенными всякого смысла. Смысл Марта видела лишь в одном — она должна уехать на родину. И лучше всего это сделать, пока не вернулся Рихард. Поэтому она писала ему. Мысли, мысли… Тревожные, грустные, отчаянные. Который уж день подряд она укладывала их в строки письма, адресованного мужу. Это было необычное, странное письмо — без чернил и бумаги. Она писала его, когда пеленала или кормила Эдгара, когда сидела по ночам, задумавшись, над спящим малышом, и даже тогда, когда беседовала озабоченно возле его кроватки с врачом…
«Я ухожу от тебя, Рихард. Уезжаю домой, к отцу. Знаю, что поступаю жестоко. Но если бы я могла предвидеть, когда решилась выйти за тебя замуж, если б хоть чуточку представляла себе, каким адом это обернется для меня! Ложь, лицемерие, притворство — изо дня в день, из ночи в ночь…
— Мне не в чем тебя упрекнуть — и, может быть, это особенно тяжело! Ты — благороден; принял меня с чужим ребенком, дал ему свое имя, ни разу даже намеком не оскорбил, не задел прошлое. Я благодарна тебе за все. Но… Как же быть, если, кроме благодарности, в моей душе ничего нет и я ничего не могу с собой поделать? Расстаться нам все же честнее, чем пытаться и дальше обманывать друг друга. Мы чужие, Рихард, — чужие, разные люди. И впереди я не-вижу ничего, что могло бы нас сблизить.
Ты сказал, что Артур исчез. Для меня он никогда не исчезнет. Я смотрю на Эдгара и вижу Артура. Может, тебе покажется смешным, но я чувствую себя матерью маленького Артура. И знаю — это сын никогда не позволит мне забыть то, что всегда останется для меня самым дорогим на свете».
Но как ни готовилась Марта к своему побегу, сколько ни сочиняла письмо, их встреча все же состоялась.
Мерно тикал, отстукивая секунды, маятник часов в ее комнате. Здесь царил тот беспорядок, какой обычно бывает перед поспешным отъездом: всюду бросались в глаза раскрытые чемоданы, стопки белья, обувь. Жена садовника Шольце — маленькая, опрятная старушка с добрым морщинистым лицом — помогала Марте собираться.
— Бутылочки для Эдгара я положу в сумку — будут под рукой.
— Хорошо, фрау Шольце. — Марта сложила в чемодан стопку белья, мельком глянула на часы. — Господи, уже скоро одиннадцать. Где же машина?
— Не волнуйтесь, все будет в порядке. Эти вещи тоже в чемодан?
— Мне так неловко, фрау Шольце… Ну зачем вы беспокоитесь?
— Что вы! Как я могла не помочь вам, не проводить маленького Эдгара. Я так встревожена… Как вы одна справитесь со всем этим? На месте господина Лосберга ни за что не позволила бы вам одной пускаться в такой путь.
— Все будет в порядке, фрау Шольце… не попадалась вам моя сумочка?
— Вот она. Вы не представляете себе, как нам с Иоганном будет опять тоскливо без вас. Эти длинные зимние вечера, кругом ни души… и эта жуткая тишина.
Марта вздрогнула, обернулась к ней:
— Вы тоже заметили?
— Что?
— Здесь какая-то нехорошая тишина. Странная. И всегда кажется, будто кто-то рядом. Оглянусь — никого. Так страшно…
— В самом деле? Вам действительно так казалось?
— Не знаю… Это, наверное, нервы.
За окном послышался шум подъезжающего автомобиля. Марта взглянула в окно, засуетилась?
— Ой! Машина уже пришла, а у меня все еще раскидано. И Эдгара будить надо.
Она направилась было в соседнюю комнату, но на полпути остановилась, нервно сглотнула комок. Ее лицо медленно заливала мертвенная бледность: на пороге стоял Рихард. Он удивленно оглядел чемоданы, растерянные лица женщин и страшная догадка промелькнула в его глазах.
— Спасибо, фрау Шольце, вы можете идти.
Самое страшное для Марты было сейчас остаться с ним наедине.
— Но фрау Шольце мне помогает, — словно утопающая, схватилась она за соломинку.
— Ничего, потом.
Жена садовника, огорошенная неожиданным поворотом событий — она подметила, что Марта не обрадовалась приезду мужа, — неловко отступила к двери и тихо проговорила:
— Я буду рядом.
Оставшись наедине с Мартой, Лосберг подошел к столу, налил полный стакан воды из графина, жадно выпил.
— Итак, что все это значит? — Он старался говорить спокойно, но голос дрожал, выдавая сильное волнение.
— Я уезжаю, Рихард.
— Куда? — В голосе было столько зловещей бесстрастности, что ей стало совсем не по себе. Однако отступать было поздно.
— Домой, Рихард.
Не раздеваясь, он устало опустился на диван, взглянул на жену мученическим, затравленным взглядом.
— Тебе здесь не нравится?
Марте становилось все страшнее. Как будто почва уходила из-под ног. Во всяком случае, таким она видела Рихарда впервые.
— Мне все здесь надоело! Все опротивело. Эта вилла, эти странные дела, которые ты скрываешь от меня. Странные люди — крадучись приходят, крадучись уходят. Разговаривают по-немецки, по-латышски…
— Тебе это не нравится? Ты предпочитаешь, чтобы они разговаривали по-русски?
Ничего не понимая, она смотрела на него с удивлением.
— Я хочу домой, Рихард. На родину…
И вдруг замолчала пораженная — плечи Лосберга сотрясались от рыданий.
— Рихард, что с тобой, Рихард? — Марта бросилась к нему, склонилась, словно над ребенком.
Муж судорожно схватил ее руки, прижался к ним мокрыми от слез губами, захлебываясь, сказал:
— Нет у нас больше родины, Марта. В Риге красный переворот.
Смысл сказанного трудно доходил до нее. Переворот? Ну и что? Какое он имеет к ней отношение? Неужели из-за этого опять придется отложить возвращение домой? Хотелось бежать — не было сил. Хотелось плакать — не было слез. Почувствовала, как кружится голова, и обессиленно опустилась рядом с Рихардом.
ГЛАВА 10
В уездном городке над зданием бывшей управы развевался красный флаг. Калниньш — он был в стоптанных ботинках и полосатой тюремной куртке — еще издали заметил алое полотнище и решительно повернул в его сторону. Когда вошел в приемную бывшего начальника уезда, молоденькая девушка неумело, одним пальцем, стучала на машинке.
— Товарищ Сарма? — удивленно оглядывая необычного посетителя, переспросила она. — Да, он у себя. — И указала на дверь.
Андрис решительно шагнул в кабинет. Стоя спиной к нему, Язеп Сарма — высокий, плечистый, с пудовыми кулаками кузнеца — кричал в телефонную трубку:
— Как нет сетей? А куда они делись? Слушай, у меня в уезде двенадцать таких поселков, как ваш… И я каждому должен объяснить сто раз? Выбирайте старшего, пусть принимает хозяйство бывшего общества «Рыбак», выдает сети, горючее — все, что нужно! Законно, законно! Законнее не бывает. А на кой черт тогда мы народную власть устанавливаем? Чтобы людей без рыбы оставить? Вот так, действуй! — Сарма положил трубку, обошел стол и только теперь заметил Калниньша. — Андрис! Дьявол ты соленый. Живой. — Он так стиснул рыбака в своих могучих объятиях, что у того затрещали кости. — Выкрутился все-таки? А ну-ка рассказывай!
— Да что рассказывать? Не успели они — наши пришли. Слушай, у тебя пожрать чего-нибудь найдется? А то мне еще пятнадцать километров топать.
Язеп оглядел его оборванную, отощавшую фигуру и усмехнулся:
— Понятно… Прямо из шикарнейшего рижского отеля — без пересадки. — И крикнул, приоткрыв дверь: — Лайма, сбегай-ка в буфет! Все, что осталось, тащи сюда. — Потом снова обернулся к Андрису. — Я здесь теперь целыми днями сижу. Иногда и ночью. Жена скоро дружка заведет.
— Вижу, — нахмурился Калниньш и кивнул на висевший перед ним портрет Ульманиса. — Совсем замотался, с гвоздя эту рожу снять некогда?
— С гвоздя снять недолго, — невозмутимо пожал плечами Сарма, — да вот заковыка: с должности президента его пока никто не скинул.
— Ну и зря тянут. Дураку, и тому ясно — это чистая формальность.
— Что формальность? Выборы в народный сейм формальность? Незрело рассуждаешь, товарищ Калниньш.
Вошла Лайма с тарелкой бутербродов и бутылками сельтерской. Поставила все на стол и ушла.
— Давай нажимай! — Сарма придвинул к Калниньшу бутерброды, откупорил бутылку. — Нет, брат, если власть народная, то она и должна быть провозглашена открыто, перед всем народом. От имени каждого латыша. Чтоб нас потом никто не упрекал.
— Законник! — с набитым ртом пробубнил Калниньш. — Подержать тебя там с недельку, не то бы запел.
— Да уж слыхали про твои подвиги. Говорят, того следователя по всем больницам возили, нигде не могли найти протез — голову заменить.
— Дай поесть спокойно. Нашел, что вспомнить.
Сарма отошел к окну, некоторое время наблюдал за Калниньшем — чувствовалось, что его гложет какая-то мысль.
— Пока ты тут жевал, я одну штуку надумал. Нам вот так, — он резанул ладонью по горлу, — нужен начальник уездной полиции. Как раз для тебя работа, принимай дела!
— Что, что? — Андрис от неожиданности даже жевать перестал. — Да ты понимаешь, что мелешь? Меня, рыбака, — фараоном вонючим? — Он медленно поднялся, с силой потянул Язепа за лацкан пиджака.
— Ишь ты, какой нервный. Успокойся, с фараонами мы покончили. Во-первых, будет не полиция, а народная милиция, и, во-вторых, ответь мне, кто, по-твоему, должен в уезде порядок наводить? Думаешь, мало тут всякой контры по углам ошивается?
— Да ты сообрази — какой из рыбака полицейский?
— Такой же, как из меня — начальник уезда. Ничего, разберешься, не маленький. Вон какой университет окончил. — Сарма кивнул на тюремную куртку Андриса. — В общем, считаю, мы с тобой поладим. Оформляйся сегодня же. Получай документы, подбирай кадры…
— Подожди, какие кадры, какие документы? Я еще дома не был.
Сарма досадливо хлопнул себя по лбу.
— Как же я забыл!.. Лайма, придется тебе еще раз сбегать. Позови-ка сюда нашего вожака молодежи.
— Это Ла… — начала было девушка, но Язеп жестом прервал:
— А ну, быстренько!
Слушай, какой тут еще вожак? — совсем рассердился Калниньш. — Ты человек или кто? Забыл, откуда я выбрался? До сих пор дома ничего обо мне не знают. И я о них. Можешь ты это понять?
— Могу. Поэтому-то и пригласил секретаря организации трудовой молодежи. Отличный парень. Бежал из-под ареста, на подпольной работе себя проявил. А сейчас…
— Да какое мне дело до этого парня?
Он решительно шагнул к двери, но у самого выхода замер от неожиданности: там стоял Лаймон, Был он в синей форме рабочего гвардейца, с красной лентой на рукаве.
— Отец!
Среди густых лесов притаился хутор. В безветренный жаркий день, наполненный пением птиц, жужжанием пчел, неподалеку от дома, в тени развесистого дерева, за накрытым столом сидело несколько человек. Артур, похудевший и загорелый, отодвинул тарелку, благодарно улыбнулся хозяйке:
— Спасибо! Больше не могу. Пора собираться.
— Что ж, — грустно протянул хозяин — пожилой, костлявый, с лицом, напоминавшим дубовую кору. — Тогда по последней? На дорожку. — Он плеснул из бутылки в стаканы. — Счастливо тебе добраться.
Артур сидел, расстегнув ворот рубахи. Его выгоревший солдатский френч висел на спинке стула.
Какое чувство благодарности он испытывал к этим людям! Если судьба и была жестока к Артуру в последнее время, то здесь она благосклонно отвалила ему всего полной мерой: и везения, и заботы, и обыкновенной человеческой теплоты. Тогда, расставшись с Грикисом и на ходу вскочив в пустой товарный вагон проходящего мимо поезда, он еще не знал, куда поедет и что будет делать. Когда за тобой гонятся и палят вслед, тут уж не до рассуждений. Но, поостыв и немного успокоившись, он, естественно, задумался, что же делать дальше? Вернуться в свою часть — значило угодить под трибунал. Слишком много он себе позволил. Идти домой означало то же самое. Скрыться? Не было ни документов, ни денег. Далеко не уйдешь.
Перед рассветом, когда поезд убавил ход, он выпрыгнул из вагона, сторожко огляделся и углубился в лес. На первых порах было ясно одно: надо сменить форму, чтобы не бросаться в глаза, подобно мухомору. Но как это сделать? Целый день бродил по чащобе, несколько раз приближался к жилью, но объявиться людям так и не решился. Ночь провел беспокойно, забравшись на всякий случай подальше в глухомань. Утром поднялся голодный, разбитый, без малейшего представления, что же следует предпринять дальше. Снова бродил по лесу, снова и снова приближался к жилью, перебирая в уме одну комбинацию за другой и сочиняя для себя легенду, но ничего путного придумать не мог.
Наконец, обессиленный физически и духовно, решился сделать первый шаг. Вышел на чей-то хутор, купил еды — у него оставалось всего три лата — с жадностью поел. Несколько осмелев, предложил хозяину, рыхлому, с круглым бабьим лицом мужчине, купить у него мундир. Или обменять на подходящую цивильную одежду. Мол, неохота возвращаться домой в опостылевшей военной форме. Хозяин оценивающе оглядел солдата — по его глазам было видно, что он, не поверил ни одному слову Артура, — согласился. То, что крестьянин предложил взамен, было настолько неравноценно и оскорбительно, что Банга возмутился. Его нахально грабили. Но мужик не смутился и не стал торговаться. Он ушел в дом и долго не возвращался. У Артура даже мелькнула мысль, что о нем просто забыли. Но хуторянин все-таки появился и удивленно уставился на странного солдата:
— Ты еще здесь?
Артур промолчал.
— Давай, давай, топай, — насмешливо сказал хозяин. — Тебе мундир к лицу, ты в нем представительней. Еще в генералы выскочишь, если не поймают.
Банга в бессильной ярости бросился вон, подальше от этого злополучного места. Черт его знает, что взбредет в голову живоглоту. Он шел всю ночь, оставляя за собой все больше километров и все меньше надежд на возвращение в прошлое.
Только на четвертый день на Артура случайно набрела в лесу Кристина. Парень спал, выбившись из сил. Вначале оба испугались, затем разговорились, познакомились. Она-то и привела его к себе на хутор, затерявшийся среди болот. Здесь он, наконец, и встретил то, чего долгое время был лишен: сочувствие и заботу. Его не расспрашивали, не требовали объяснений, к нему не лезли в душу. Его просто впустили в дом и дали приют. Артур признался, что у него нет документов, но отец Кристины, старый Бумбурс, пропустил это мимо ушей.
— Людей определяют не по бумаге, а по совести, — философски заметил он. — Нравится? Живи.
И Артур жил. Он изо всех сил старался отплатить добром за добро: рано вставал, поздно ложился, помогая хуторянину в его немудреном хозяйстве. Они настолько сдружились, что Артур откровенно рассказал обо всем. По вечерам, как правило, беседовали и спорили: как жить дальше?
— Неужели бог ни черта не видит? Где же его справедливость? — попыхивая трубкой, допытывался Бумбурс.
— Богу богово… — отшучивался Артур.
— Так-то оно так, да только… Отчего, по-твоему, я забрался в эту глухомань, а?
— Наверное, здесь земля была подешевле.
— Вот именно. Своими руками раскорчевал, расчистил, засеял, построил… Даже грешить за работой было некогда. А толку? Добавилось мне за это?
— Одними мозолями состояние не сколотишь.
— А чем же еще? Не понимаю.
— В том-то и дело.
— Выходит, дурак?
— Зачем же? Помните, я вам рассказывал про мужика, у которого хотел обменять мундир? Вот он разбогатеет обязательно.
— А мы, значит, так и будем гнуться? До скончания века.
— Пока не поумнеем.
— Как это?
— А вот так. Пока не научимся отдавать друг другу.
— Ну, отдавать никогда не научимся.
— Не скажите. Вот вы же отдаете всю жизнь.
Старый Бумбурс сокрушенно моргал, говорил с нарочитой грубостью:
— Это сдуру.
Да, чем больше Артур присматривался к окружающей действительности, прислушивался и делал выводы, тем сильнее понимал, как были правы и Калниньш, и Акменьлаукс, и Грикис. Ему становилось стыдно за свое прошлое невежество. Он вдруг открыл для себя простую истину: самое большое богатство человека заключено в его способности отдавать. Человек тем и отличается от зверя, что умеет не только брать. И чем щедрее он отдает, тем больше становится человеком.
Жизнь ка хуторе шла своим чередом, неторопливо я размеренно. Эхо событий доносилось сюда едва слышно и с большими опозданиями. Однажды, когда Артур работал в поле, он услышал отдаленные раскаты грома. Оглядел синее, без единого облачка небо, удивленно повел плечами. Что за чертовщина? Но раскаты приближались, нарастали, становились все явственней и осязаемей. И вот из-за сосен выплыли три больших белоснежных самолета, с красными звездами на крыльях. Словно лебеди, они проплыли над Бангой, посеяв в его душе смятение и надежду. Он бросился к дому, нашел Бумбурса — тот тоже стоял, задрав голову.
— Что это? — ошеломленно спросил старик.
— Это значит, что надо ехать в уезд и обо всем разузнать толком. А то совсем в медведей превратимся.
До самого позднего вечера, до возвращения Бумбурса, Артур не находил себе места, слонялся по усадьбе, как неприкаянный. Случайность или не случайность?
Затемно вернулся хозяин. Еще издали по его лицу, по походке, нервной и порывистой, Банга понял: не ошибся — случилось что-то необыкновенное.
— Жаль, не успел сено привезти с той поляны, у речки, — озабоченно сказал Артур.
— Привезти недолго. Спасибо, что накосил.
К столу подошла Кристина — статная, красивая дочь хозяина. Молча поставила перед Бангой молоко, миску с золотящимся медом в сотах. Тот невольно засмотрелся на девушку.
— Не рано ли вам возвращаться? — спросила жена лесника. — У вас же документов нет. Не попасть бы в новые неприятности.
— Нечего ему бояться, — возразил хозяин. — Перед новой властью Артур чист.
Парень поднялся, надел френч.
— Ну, мне пора. Спасибо вам за все!
— Возьми вот на память. Лесник вынул из кармана часы с цепочкой, протянул Банге.
— Ну что вы… Зачем?
— Бери, бери! Денег не брал, так хоть память будет.
— Я и так вас не забуду, — растроганно отвернулся парень. — Столько вы для меня сделали. Не каждый согласился бы прятать дезертира.
— Кристина, что же ты? — позвала мать. — Иди попрощайся!
Девушка медленно спустилась с крыльца и, не глядя в глаза, подала Артуру руку.
— До свидания!
— Счастливо тебе, Кристина!
Банга еще раз оглядел этот гостеприимный двор, людей, давших ему приют, и зашагал, ласково потрепав на ходу увязавшегося за ним пса. Он шагал по малоезженной лесной дороге — на ней пышно цвели цветы.
— Артур!.. Артур!.. — услышал он за спиной.
Кристина догнала его и, запыхавшись, протянула чистый холщовый узелок с едой.
— Что же ты… Забыл.
— Спасибо, Кристина.
Он взял узелок. Девушка стояла перед ним, не смея поднять глаза. Банга смотрел на ее разрумянившееся лицо — прекрасное, как этот солнечный день в лесу, и понимал: Кристина ждет от него каких-то слов. Однако, поделать с собой ничего не мог и лишь неловко потрепал ее по щеке.
— Будь счастлива, Кристина!
— Прощай!
Он снова двинулся в путь, а она так и осталась стоять. И вдруг сорвалась с места, стремглав бросилась вслед. Банга и обернуться не успел — девушка закинула ему руки на шею и жарко, отчаянно, преодолевая застенчивость, поцеловала в губы. Парень растерянно опустил руки, не решаясь обнять, не смея дать волю вспыхнувшему чувству. Кровь ударила ему в голову… Узелок упал на траву, Артур привлек девушку к себе. И тут она сама резко отстранилась, опрометью бросилась обратно.
Он долго смотрел ей вслед и все не мог понять — то ли это кровь продолжала гудеть у него в висках, то ли назойливо и знойно жужжали в цветах пчелы.
Вечерело. С лугов через поселок с ленивым, сытым мычанием возвращалось стадо. Зента встретила свою корову, отвела ее в хлев и пошла к колодцу. Не торопясь вымыла руки, сполоснула свежей водой подойник. Она делала свою каждодневную работу привычно и споро. Но была в ее движениях безрадостность человека, уставшего от одиночества. Накрыв ведро влажным полотенцем, Зента медленно пошла через двор. Обернулась, услышав, как хлопнула калитка. Посмотрела в ее сторону — и ведро выскользнуло из рук. У калитки стоял Артур. Будто не веря себе, она вглядывалась в его потемневшее от загара, с запекшимися губами лицо, выгоревший солдатский френч и не могла двинуться с места.
— Артур!
Он подошел, бережно обнял ее за плечи.
— Ну-ну, не надо плакать. Видишь: жив, здоров…
Озолс стоял у окна в своем кабинете и грустно смотрел на улицу. Со стопкой глаженого белья вошла Эрна.
— Слышал новость? Трактирщика забрали.
Якоб встревоженно обернулся:
— Аболтиньша?
— Говорят, у него оружие какое-то нашли. Зигис, что ли, прятал… Ему-то что? Сбежал со своими дружками, а отцу отвечай.
Озолс снова отвернулся к окну, хмуро задумался.
— Может, тебе все-таки уехать пока? — понизила голос Эрна.
— А я при чем?
— Ну мало ли… Все-таки от греха подальше. Пожил бы на озерах, у тебя же там родня…
Якоб с ехидной усмешкой посмотрел на женщину:
— Может, вам с Петерисом домишко мой приглянулся? Что ты меня все выпроваживаешь?
Эрна обиделась:
— Скажешь тоже! Мы же как лучше хотим. Жаль, если такой лоб пуля расшибет. Сиди себе на здоровье, дожидайся, пока не сцапают.
— Заладила: сцапают… За мной-то какая вина?
— Вам виднее, хозяин, — философски сказал Петерис, входя в комнату. — Только ежели ехать, говорите сразу — дорога дальняя, лошадей надо готовить.
Озолс ненавидящим взглядом окинул работника, мрачно буркнул:
— Никуда не поеду. Пожалел волк кобылу… Иди работай! Коровник второй день нечищеный.
Петерис ухмыльнулся себе под нос, небрежно, вразвалочку вышел.
Артур колол во дворе дрова. По всему было видно, что это занятие доставляет ему удовольствие. Он придирчиво выбирал полено, прицеливался; короткий хлесткий взмах топором — и полено с хрустом раскалывалось надвое. Все жарче припекало полуденное солнце, легкий ветерок с моря доносил запахи рыбы, перегнивших водорослей, йода — такие привычные и родные с детства. Парень сбросил френч, остался в одной нательной рубашке.
— Здравствуйте, соседи! — услышал он за спиной голос незаметно подошедшего Озолса.
— Здравствуй, Якоб! — Зента растерянно посмотрела на неожиданного гостя, перевела испуганный взгляд на сына.
Артур делал вид, что ничего не видит и не слышит — продолжал работать. Зента сокрушенно вздохнула, взяла ведро, направилась к колодцу.
— Зайти на пару слов можно? — хрипловатым от обиды голосом спросил Озолс.
Артур расколол одно полено, взял другое, — Озолс терпеливо ждал, — отбросил топор.
— Заходите!
— Так… — входя и оглядываясь, попробовал выжать из себя улыбку сосед. — Давно я здесь не был. Много воды утекло. — Он неуклюже опустился на стул, с досадой наблюдая за Артуром. — Я слышал, тебя рыбаки вместо меня выбрали в правление… Или как у вас теперь называется?
— Выбрали.
— Так… — Озолс посопел, достал из кармана большую связку ключей. — Вот, забирай. Тут рыбный склад, горючее… В общем, все.
— Спасибо.
— Если конторские книги понадобятся, отчеты — у меня все в порядке. — Он замолчал, не зная о чем еще говорить. Тяжело поднялся. — Ну, я пошел. — Возле двери все-таки не выдержал, обернулся, — Так мы с тобой и не поговорили… После тюрьмы.
Артур резко вскинул брови:
— Не надо ни о чем говорить. Я давно догадался, кто мне помог туда попасть.
У Озолса по лицу поползли красные пятна.
— Ты что, на меня думаешь? Напрасно. Я следователю сразу сказал: кто поджег мой дом, не знаю. А то, что мы поссорились с тобой — так это всем известно. И больше ничего не говорил. Богом клянусь! Лучшего адвоката нанял. Я Марточке слово дал, что…
Артур зло сузил глаза:
— А вот этого не троньте! Лучше помолчите об этом.
— Ладно. Могу и помолчать. Только не надо одно плохое помнить. Надо и хорошее…
— Говорите прямо — что вам нужно? Раз уж пришли…
— А куда мне еще идти? У кого защиты просить?
— Никто вас не трогает, не тряситесь. Если сами не будете нам вредить.
— А жить как?
— Жить? — Артур презрительно прищурился. — Да уж как-нибудь проживете. Вам оставляем дом, две лошади, тридцать гектаров земли…
Озолс нервно сглотнул, по-бычьи нагнул голову:
— Что ж… и на том спасибо!
Банга вышел вслед за гостем.
— Ушел, — провожая недобрым взглядом соседа, тихо проговорила Зента.
— Черт его знает, — обескураженно пробормотал Артур. — Думал, вернусь — за все с него спрошу. А теперь жалко стало.
— За тем он к тебе и кинулся. За жалостью. Хитрый! Понимает, что к чему.
— А ну его! — Артур подошел к поленнице, поднял с земли топор. Взмахнул раз, другой, третий и только тогда начал успокаиваться.
Калниньш подкатил на мотоцикле, оставляя за собой дымный след бензинового чада и ораву восторженно галдящих ребятишек. Вытер рукавом гимнастерки пот со лба — Андрис был в милицейской форме — устало потянулся, пожал Артуру руку.
— Уже к зиме готовишься? Молодец! Привет, Зента! Хозяйственный у тебя сын.
Мать расплылась в довольной улыбке, бросилась к колодцу мыть руки. Крикнула мужчинам:
— Сейчас соберу на стол.
— Некогда, милая. — Андрис с сожалением показал на часы. — Я на минутку. Ну, как дела? — повернулся он к Артуру. — Осваиваешься?
— Вроде бы.
— Что люди говорят?
— Присматриваются, Уж больно много всего свалилось на их головы.
— Это точно. Сейчас самое главное — втолковать суть. Потом само собой образуется.
— Стараемся.
— Никто не мутит воду?
— Всякие есть.
— Как Озолс?
— Не пойму пока.
— Ну ладно, приглядывайся. — Он взял Артура за плечи, отвел в сторону. — Я тебе подарок припас, держи! — В руках Калниньша тускло блеснул вороненой сталью маленький браунинг. — Именное оружие командира роты латышских красных стрелков товарища Акменьлаукса. Носи с честью! Любил тебя учитель — поэтому и передаю тебе. Только без патронов.
— Не доверяете, что ли?
Калниньш рассмеялся:
— Почему не доверяю? Просто патронов нет таких. Потом достанешь. А пока учись больше словом мозги вправлять. Силой-то каждый дурак горазд.
Да, силой, действительно, было проще. Далее он испытал это на своей шкуре. А вот, чтоб дошло до сознания, осело в душе и вызрело в сердце — для этого еще надо было потрудиться, Чего только не плели досужие и злые языки! Одни радовались весне, что пришла на латышскую землю, и жаждали перемен, другие с ненавистью злословили, что это вовсе не весна, а осень, за которой неизменно последует стылая и долгая стужа. Были и такие, которые вообще не понимали, кого слушать. Сарма, новый начальник уезда, сказал приблизительно так:
— Проще с теми, кто против нас. Здесь все, как в бою — точно и понятно. Сложнее с теми, кто верит в немедленное чудо, кто думает, что стоит сменить власть и все появится, как по взмаху волшебной палочки. Конечно, изменится. Только до этого пахать и пахать. Значит, нельзя допустить, чтобы люди разуверились, остыли сердцем. Многие вообще не понимают происходящего. Они как былинки на ветру: куда подует ветер, туда и клонятся. И наша задача не просто повернуть их в свою сторону, а дать возможность осмыслить, встать на ноги, окрепнуть.
У Марты слегка кружилась голова — от шампанского, от музыки, от вкрадчивых комплиментов, которые нашептывал ей Манфред, от сознания того, что это не просто вечеринка, а годовщина ее сына. Она танцевала, была оживлена, обаятельна… Рихард с ревнивым восхищением удивленно смотрел на ее гибкую, затянутую в длинное черное платье фигуру и не узнавал. Неужели в их отношениях наступил тот перелом, которого он так добивался? В последнее время Марта была особенно удручена и подавлена. Ему хотелось верить в лучшее, но что-то в поведении Марты, в ее глазах, в улыбке и даже походке тревожило.
Пирушку состряпали по настоянию и во вкусе Зингрубера — светский лоск и полная непринужденность. Манфред привез огромный торт, подарил Эдгару большого медведя — игрушка оказалась крупнее именинника — заставил малыша задуть свечу… Словом, околдовал не только сына.
— Завидую вашей легкости, Манфред, — невольно улыбнулась Марта. — Вы умеете создавать мгновение и жить этим мгновением.
— Хотите? Могу научить.
— Боюсь, мне это будет не под силу.
— Напротив, все очень просто. Просыпаясь каждое утро, я говорю себе: Манфред, тебе дарят еще одну жизнь…
Марта вздрогнула, удивленно посмотрела на собеседника и закончила за него:
— …Проживи ее как следует. Вспомни, что упустил вчера и постарайся наверстать сегодня.
Теперь наступила очередь удивляться Зингруберу.
— Значит, вам известна эта философская концепция?
— Да, я слышала однажды что-то подобное. Вы не боитесь переутомиться от таких стараний?
— А вы сами попробуйте. Уверяю вас, Марточка, — утомляются не от жизни, а от раздумий о ней. Они особенно вредны таким очаровательным, милым и обольстительным…
— Ну хватит! — Рихард с шутливой бесцеремонностью оттеснил Манфреда, обнял жену, приглашая к танцу.
— Жалкий ревнивец! Эгоист! Зингрубер отошел к столу, налил себе полный бокал вина.
— Ты не устала еще? — Танцуя, Рихард увлек Марту в соседнюю комнату.
— Ничуть. Утомляются не от жизни…
— А от раздумий о ней? Да, Манфред явно делает успехи…
— Мне сейчас любопытно другое. Кто из вас кого воспитывал? Он тебя или ты его? Слишком много общих интонаций.
— Нас воспитывала жизнь, Марточка. Природа… Почитай Монтеня…
— Или Ницше…
— Или Ницше, — невозмутимо согласился он. — В сущности человек — то же самое животное. Разве что отличается способностью более изощренно наслаждаться и убивать другого. Ну, это софизм. Я пошутил. А в остальном… В остальном я хочу, чтоб ты навсегда запомнилась мне в этом платье, с этой улыбкой и вот с этим… — Он с загадочным видом достал из кармана небольшую коробочку и протянул жене.
Женское любопытство взяло верх. Марта раскрыла футляр и зарделась — на черном бархате сверкнула золотая цепь с крупным бриллиантом.
— Ты с ума сошел! — Она подошла к зеркалу, приложила цепочку к платью, долго задумчиво смотрела на свое отражение… — Как странно все-таки устроен мир. Когда-то этот камень был просто бессмысленным камнем. А теперь…
— А теперь не жизнь повелевает им, а он повелевает жизнью. Человек выдумал эту игру, и она ему нравится.
— Друзья! — постучал в дверь Манфред. — Вы заставляете меня страдать в одиночестве.
Рихард рассмеялся, распахнул дверь.
— Ты становишься слишком опасным ухажером. Марта уже цитирует тебя.
— А мне показалось, что она цитирует нас обоих. — Манфред заметил цепочку на груди Марты. — Боже мой, я слепну! Что это? Орден Почетного легиона? Или маршальская звезда?
— Жалкий холостяк! Эта ничтожная побрякушка — пылинка того счастья, о котором ты и понятия не имеешь. Так что лучше выпей за него молча.
— Или сделайте подарок, которым вы навсегда покорите мое сердце, — неожиданно сказала Марта.
Манфред торжественно поднял правую руку:
— Клянусь честью!..
— Помогите мне вернуться на родину, — с отчаянием в голосе проговорила Марта.
Так вот в чем дело. Вот почему она согласилась на эту вечеринку. Рука медленно опустилась, Манфред сочувственно посмотрел на побледневшее лицо друга сух и серьезно ответил:
— Обещаю.
Аболтиньш — обросший, со связанными за спиной руками — сидел сгорбившись, в повозке — спина к спине с другим арестованным. Это был какой-то айзсарг в изодранном френче, с перебинтованной рукой. Позади медленно тряслась по лесной дороге вторая повозка с двумя полицейскими — тоже изрядно помятыми, без фуражек. Рабочегвардейцев было человек десять, у всех в руках новенькие армейские винтовки.
Бледный, перепуганный Аболтиньш все крутился, озирался ка заднюю телегу, где рядом с возницей сидел Лаймон. Может быть, трактирщик инстинктивно искал сочувствия у бывшего односельчанина или пытался хоть краешком глаза заглянуть в свою судьбу. Или просто хотел выклянчить папиросу: хорошая затяжка помогла бы унять страх. Но Лаймон то ли действительно не видел, то ли нарочно не хотел замечать молчаливых намеков Аболтиньша — курил и курил свои папиросы, угрюмо уставясь в кобылий хвост.
У Зигиса — он притаился за кустом у края дороги — от волнения вспотели ладони, ствол карабина дрожал в руках. Он никак не мог толком прицелиться.
— Давай! — шепнул Волдис и тоже поднял карабин.
— Погоди, — Зигис пригнул его ствол. — Там отец. Как бы не зацепить.
— Не бойся, не зацепим, — пробурчал Бруно.
Зигис в нерешительности оглянулся на айзсаргов, залегших на краю откоса. Их было человек восемь.
— Бежим к повороту! Там ближе.
Он первым бросился вперед, остальные потянулись следом.
Молоденький рабочегвардеец, сидевший в повозке рядом с Аболтиньшем, недовольно спросил:
— Что вы все крутитесь? Сидите спокойно.
Аболтиньш не ответил. Паренек перехватил его взгляд, устремленный на Лаймона с дымящейся папиросой.
— А-а! — догадался он. — Так бы и сказали.
Не выпуская вожжей, достал из кармана пачку дешевых папирос, протянул арестованному.
Айзсарги уже подбегали к повороту, торопливо падали, укрываясь в придорожных зарослях. Бруно кинулся было через проселок, чтобы стрелять вперекрест, но Волдис остановил его повелительным окриком:
— Назад!
Тот бросился обратно, торопливо карабкаясь по откосу. Успел вовремя: первая повозка уже показалась из-за поворота.
Аболтиньш неловко пристроил во рту папироску. Паренек, зажав вожжи между колен, чиркнул спичкой — она погасла. Зажег еще одну — и снова ее задул ветер. Наконец, удачно прикрыв ладонью, бережно поднес огонек. Выстрел грохнул и гулким эхом прокатился по лесу. Паренек вздрогнул, привстал, будто удивившись чему-то, и рухнул навзничь. Со лба побежала торопливая струйка крови. И сразу лес словно взорвался грохотом пальбы.
Аболтиньш рывком соскочил с повозки и, не раздумывая, бросился в кусты. Рабочегвардейцы, стреляя наугад, стали пятиться к деревьям. Повозки остановились. Оба полицейских на задней телеге, испуганно пригнувшись, вздрагивали от выстрелов и свиста пуль.
Лаймон навскидку стрелял из-за сосны — то и дело в ствол шлепались пули, отрывая куски коры. Вдруг айзсарг, сидевший на передней повозке, дико завопил на лошадь. Телега рванулась с места и, прыгая по корням, понеслась по дороге. Несколько выстрелов одновременно грянуло ей вслед. Айзсарга бросило вперед, потом назад и, наконец, он, окровавленный, вывалился на дорогу.
Рабочегвардейцы уже бежали по лесу, петляя между деревьями, стреляя вслед налетчикам. Ничего этого Аболтиньш уже не видел и не слышал. Он несся, обезумев от страха, не разбирая дороги — чавкая по болоту, бултыхаясь в ручье, карабкался по оврагу, забираясь в лесную глушь, как обезумевший от страха зверь.
Желтый кленовый лист сорвался с ветки и, плавно кружась, опустился на землю. Марта сидела в дальнем углу сада на скамейке, рядом стояла коляска со спящим ребенком. На коленях у Марты лежал клубок яркой пряжи и почти законченная шапочка для Эдгара. Ей не работалось. Она сидела, праздно держа спицы в опущенных руках и бездумно наблюдала, как Шольце мел дорожку.
Старик поставил метлу к дереву, сел на краешек скамьи передохнуть, достал кисет, набил трубочку. Он не спешил начинать разговор. Годы научили его простой мудрости — когда у человека тяжело на душе, не стоит быть назойливым. Лучше молча посидеть рядом, глядишь — и человеку легче станет.
— Утомились? — участливо спросила Марта.
— Нет, что вы. Я обычно устаю от безделья.
— А у меня почему-то ни к чему душа не лежит. — Она положила пряжу на скамейку.
— Вам, вероятно, опять нездоровится?
— Мы однажды за черникой ходили, детьми еще… — глядя куда-то вдаль, задумчиво заговорила она. — Кустик за кустиком, тропка за тропкой… Отбилась я от своих, заблудилась, не знаю, куда идти. Вдруг чувствую, земля подо мной, как живая. Шевелится и не пускает, за ноги держит. Не за что ухватиться, опереться не на что. И так страшно — кругом лес красивый, солнце, птицы поют… А ты стоишь и гибнешь.
Старик помолчал, выколотил трубку.
— На чужбине человека часто посещают грустные мысли. Вы, видно, очень переживаете разлуку с родиной.
— Я так ждала сына, так радовалась, дни считала. А теперь? Что его ждет? Неужели так никогда и не увидит он родной земли?
— Не надо терять надежду, фрау Лосберг.
— И об отце тревожусь. Я же ничего не знаю. Вдруг с ним случилось что-нибудь страшное?
— Бог с вами, фрау Лосберг. Зачем такие грустные мысли?
— Столько всего пишут в газетах — не знаешь, чему и верить. Как вы думаете, господин Шольце, неужели у нас там действительно так уж плохо?
— Что вам сказать? Газеты есть газеты.
— Да, нигде не добьешься правды. Знаете, я по ночам плохо сплю.
— Луиза мне говорила.
— Когда мужа нет, я радио слушаю. Тихонько так, чтобы Эдгара не разбудить. — Марта сделала паузу и вдруг призналась: — Позавчера услышала страшную вещь. Лондон передавал. Один поляк рассказывал — беженец из Варшавы. Он говорил, будто в Польше ваши солдаты убивают мирных жителей — женщин, стариков, детей… Увозят в концлагеря, морят голодом, истязают… Как вы думаете, неужели все это правда?
— Не знаю, фрау Лосберг. Я маленький человек и далек от политики. Радио почти не слушаю. А работы столько, что и газету иной раз почитать некогда.
Шольце спрятал трубочку, поднялся, взял метлу.
— Надо всегда верить в лучшее, фрау Лосберг. Верить и ждать. — И, ссутулившись, пошел по аллее — больной, доброжелательный старый человек.
По лесной дороге, подпрыгивая на колдобинах, мчался мотоцикл. Андрис Калниньш он был все в той же милицейской форме с двумя кубиками в петлицах — сидел за рулем. Второй милиционер, в коляске, заботливо прижимал к животу туго набитый портфель. Выехав из лесу, мотоцикл свернул к поселку и остановился у домика Банги.
— Подожди, я скоро, — слезая с седла, сказал Андрис, забрал у милиционера портфель, поднялся на крыльцо. — Гостей принимаете? — весело спросил он, входя в комнату Артура. — Здорово!
Артур и Фрицис Спуре поднялись из-за стола, на котором был разостлан план угодий поселка, поздоровались.
— Ну, как идет дело? Со скрипом?
— Сами знаете, — пожал плечами Артур. — У кого землю отрезаем — ругаются, кому даем — радуются. А в среднем, как говорится, температура нормальная.
— Только с Петерисом опять балаган получается. То земли ему мало, то земля не та, — улыбнулся Фрицис Спуре.
Калниньш лукаво подмигнул:
— Это его Эрна накручивает. Ох, и сквалыжная баба.
— Или Озолс, — подхватил Спуре. — Их сам черт не разберет.
— Черт-то не разберет, а вот вам придется разобраться. Чтоб не получилось так: вроде бы излишек земли у Озолса взяли, а он при нем и остался. И Петерис опять же из батраков по своей собственной глупости не вылезет. Где у вас список?
Артур протянул листок. Андрис пробежал его взглядом, удовлетворенно кивнул:
— Кажется, все по-хозяйски. Ладно, если у вас порядок, тогда получайте.
Он раскрыл портфель, вытряхнул на стол нескольку пачек денег. Это были новенькие советские купюры различного достоинства, червонцы — с портретом Ленина, с изображением герба СССР. Первые советские деньги в Латвии.
— Аванс твоим рыбакам. Сболтнул, что еду сюда, попросили отвезти. Распишись. Четырнадцать тысяч пятьсот двадцать рублей.
— По триста на нос? — быстро подсчитал Спуре. — Сколько же это будет в латах?
— Столько же и будет. И запиши себе — за зарплатой и авансом будешь приезжать шестого и двадцать первого числа каждого месяца.
Артур задумчиво разглядывал купюры с портретом Ленина.
— Союз Советских Социалистических Республик. Прямо не верится. Ведь это и мы тоже. В голове не укладывается.
— Ничего, уложится, — деловито сказал Спуре, отсчитывая пачку червонцев. — Распишись за первую зарплату.
— Ну я поехал, бывайте здоровы! — Калниньш закрыл портфель.
— Может, мне с вами в уезд махнуть, матери что-нибудь купить? — спросил Артур, засовывая деньги в карман старенького кителя, висевшего на спинке стула.
— Мне еще в два поселка. Если хочешь, на обратном пути заеду. А где мать, почему ее не видно?
— Сегодня же суббота. Она у отца на кладбище. Каждую субботу дотемна там сидит.
Артур пошел проводить Калниньша. Уже у мотоцикла Андрис негромко спросил:
— Слушай, как все-таки быть с Озолсом?
— А что?
— Да момент, понимаешь, тревожный. Ты же знаешь эту историю с нападением на отряд. Тех бандюг до сих пор не выловили. А где гарантия, что такие, как Озолс, останутся в стороне? Может быть, лучше его обезвредить?
— Не знаю, я бы его не трогал. Не пойман — не вор. И ни к чему нам лишние разговоры, будто новая власть сводит старые счеты.
— Смотри, председатель, тебе на месте виднее.
Подошел милиционер, приветственно тронул козырек фуражки:
— Оказывается, здесь капитаны рыбачат. — Он с уважением оглядел морской китель Артура.
— Да какие там капитаны… — смутился Банга. — Старье донашиваю.
— Дай срок, — усаживаясь на седле мотоцикла, подбодрил Калниньш. — Немного с делами раскрутимся и отправим тебя учиться. Еще увидишь мир с капитанского мостика, — Он ударил каблуком по стартеру, мотоцикл взревел и, оставляя за собой шлейф пыли, покатил по дороге.
Хотя час был не поздний, Озолс, намотавшись за день, собирался ко сну. Снял пиджак, аккуратно повесил на стул, стянул брюки, начал отстегивать на плече ремень, поддерживающий протез. В это время раздался негромкий стук в окно. И сразу зашлась лаем, загремела цепью собака. Озолс испуганно замер, торопливо выключил ночник, тревожно вслушиваясь в темноту. Стук повторился — на этот раз настойчивый и громкий. Торопливо, кое-как застегнув ремень, Якоб метнулся к окну и испугался еще больше: увидел за стеклом одутловатое лицо Аболтиньша.
— Выйди, — сдавленно прохрипел трактирщик.
— Зачем?
— Выйди, тебе говорят.
— Что тебе нужно?
— Сколько раз повторять!
— Да что тебе нужно?
Собака давилась лаем, злобно рычала, рвалась с цепи. За компанию начали подавать голоса псы с соседних дворов.
— Последний раз говорю… Выйдешь или нет?
— А я спрашиваю — чего надо?
— Ну ладно… — разъяренно процедил Аболтиньш и исчез в темноте.
Озолс плотно приник к стеклу, стараясь разглядеть, что происходит во дворе. Лай за окном взметнулся до яростного вопля и неожиданно оборвался. Якоб рванулся к выходу, прихватив по дороге кочергу — первое, что ему попало под руку. Выскочив на крыльцо, он догадался, что кто-то возится у погреба с горючим, рванулся было туда, но споткнулся — у его ног лежал убитый пес.
В проеме сорванной с петель двери погреба Аболтиньш принимал канистры, которые ему подавали изнутри.
— Ты зачем, сволочь, собаку убил? — Озолс схватил Аболтиньша за шиворот. — Зачем собаку убил?
Трактирщик, отбиваясь, выронил канистру, но никак не мог оторвать от себя рассвирепевшего старика. Подбежал Зигис, карауливший в стороне, оттолкнул Якоба от отца. Тот не удержался на протезе, упал на канистру — из нее полилось горючее.
— Дурак ты! — одергивая на себе пиджак, прохрипел трактирщик. — Вышел бы сразу, по-человечески… Твой кобель чуть не весь поселок поднял.
— А может быть, он этого и хотел? — из погреба показался Бруно со второй канистрой. — Выслуживаешься перед ними, старые грехи замаливаешь?
Озолс поднялся с земли, пошел на него, пытаясь ухватиться за банку.
— Поставь на место!
— Отойди! — толкнул плечом Бруно.
— Да не шуми ты… На самом деле, сбегутся люди, тебя же вместе с нами возьмут, — испуганно предупредил Аболтиньш.
Но Озолс уже не владел собой. Он снова набросился на Бруно:
— Отдай канистру! Не знаю я ваших дел и знать не желаю. Уходите.
— Да уйдем, уйдем… Только не ори ты, ради бога, — увещевал трактирщик, помогая Волдису выбраться из погреба с последней банкой.
— Отдай! — теперь Озолс бросился к Волдису и намертво вцепился в него.
Тот на секунду остолбенел, проговорил удивленно:
— Тебе этих канистр жалко? А что они с нами сделали? — И, размахнувшись, со всей силой ударил Якоба в подбородок. Озолс мешком свалился на землю. Аболтиньш зло проговорил:
— Иди спать, старый дурак! И попробуй кому-нибудь пикнуть.
Все четверо быстро скользнули в темноту. Якоб медленно, со стоном поднялся — рубаха пропиталась бензином. Из разбитой губы сочилась кровь. Но он все-таки встал и, шатаясь, уже ничего не соображая, упрямо поплелся за ними.
Зента затемно возвращалась с кладбища домой. В черном платье, в таком же платке, она медленно брела по берегу моря. В руках у нее была небольшая лейка, из которой она всегда поливала на могиле цветы. С моря налетал слабый ветерок, трепал концы платка, выбившиеся волосы. Вода только чуть поблескивала. На ней темнели, казавшиеся отсюда сверху игрушечными, контуры лодок. Неожиданно над одной из них взметнулось яркое пламя, по воде зазмеились, побежали золотистые блики. Зента замедлила шаг и, пораженная, остановилась. Она невольно вскрикнула — и тут же ладонью зажала рот. Среди отблесков огня, между лодок, метались фигурки людей. Одно за другим вспыхивали суденышки и уже через минуту на берегу пылал гигантский костер.
Все это было настолько неожиданно и жутко, что Зента не смогла даже крикнуть — горло перехватили спазмы. Сама не понимая зачем, она бросилась бежать к зловещему костру. А с другой стороны, от поселка, к пожару спешил Озолс. Увязая в песке протезом, мокрый, с окровавленным ртом, весь перемазанный горючим, он ковылял к берегу и тоже не понимал, зачем это делает. Гонимый предчувствием нависшей над ним беды, ковылял едва не падая — натужный хрип вырывался из горла.
Зента на миг увидела его, отметила взглядом. Но этот момент скользнул мимо ее сознания. Теперь она знала, куда и зачем бежит. Едва не падая от изнеможения, женщина добралась до столба, на котором висел отрезок сигнального рельса. Схватила железный брус, ударила… Тревожные, звонкие в тишине звуки полетели в ночь… И, будто вспугнутые ими, от дальнего конца причала метнулись человеческие тени. Тут же в море отплыла крайняя лодка, единственная, не охваченная огнем.
Озолс, уже спустившийся с дюн на берег, подавленно остановился. Он не решался ни бежать дальше, к пожару, ни вернуться назад — бестолково топтался на месте, беспомощный, жалкий, с разбитым лицом и слезящимися глазами. А от поселка к берегу уже спешили люди. Их крики становились все ближе, все угрожающей. И только теперь Озолс понял: если рыбаки застанут его здесь, в растерзанной, заляпанной одежде, ему конец. Никому и ничего он уже не докажет. Снедаемый страхом, он бросился к дюнам… Упал, поднялся, снова упал, царапая ногтями песок. Но было поздно — кто-то из рыбаков заметил его прихрамывающую походку.
— Вот он! — раздался чей-то истошный крик.
Якоб наконец взобрался на дюну, по-заячьи вильнул к соснам, запрыгал между деревьями. А возле лодок, в пламени метались рыбаки. Фрицис Спуре, Бирута, Зента швыряли ведрами песок, сбивали пламя. Артур, по пояс в воде, черпал огромной бадьей воду, передавал ее стоящему рядом по цепочке, и она быстро приближалась к пожарищу. Каждый делал что мог. Остервенело сражались за каждую лодку — лопатами, ведрами, обломками досок — и всем, что попадалось под руку.
В это время до Артура донесся истошный вопль Эрны:
— Убивают! Люди, помогите! Озолса убивают!..
Артур обернулся на крик Эрны. Старик волчком вертелся в толпе рыбаков, пытаясь увернуться от сыпавшихся на него ударов.
— Не бейте! Не виноват! — заслоняясь, молил он. — Не поджигал я.
Но рыбаки еще больше сатанели от его воплей. Если бы они не так толкались, не мешали друг другу, Озолсу досталось бы куда больше. Когда подбежал Артур, Марцис, наконец, изловчился и так съездил Якоба в челюсть, что тот, издав булькающий звук, завалился на спину.
— Прекратить! — Артур в один миг разметал свалку обезумевших людей. — Самосуд… Не дозволю!
— А-а! — обернулся к нему распаленный Марцис. — Заступник нашелся! Бандита покрываешь?
Бангу качнуло от ярости, но он сдержался.
— Я сказал — самосуда не будет. Лодки горят, а вы здесь…
— Что?! Лодки? — Марцис не владел собой. Страшными были лица и других рыбаков.
Сознание Артура обожгла мысль: если их не сдержать сейчас, Озолсу крышка. А Марцис уже подступал к нему со сжатыми кулаками:
— Лодки пожалел? Или папашу своей зазнобы выгораживаешь?
В это время Озолс зашевелился и сел. В отблеске пламени с залитым кровью лицом, он смотрел на разъяренную толпу глазами беспомощного животного и уже не молил о пощаде. Все было слишком ясно и безысходно. Но, странное дело, эта его затравленная покорность и безучастность к своей судьбе, его жалкий, истерзанный вид не только не вызывали в толпе сочувствия, а, наоборот, будили в людях все новую и жестокую потребность покарать ненавистного человека — к свежей обиде прибавлялись и старые воспоминания. Общий угар так захватил жителей поселка, что даже Зента, единственный свидетель невиновности Озолса, и та пальцем не шевельнула, чтобы внести ясность и спасти соседа.
Марцис рванулся к Озолсу, занес ногу для удара, но Артур с силой оттолкнул рыбака.
— Назад! — он выхватил из кармана браунинг. — Я сказал, самосуда не допущу.
Утром над пожарищем с голодным криком кружили чайки. Может быть, они надеялись среди обгоревших досок чем-нибудь поживиться, а может, просто выражали сочувствие людям, тоже оставшимся без корма. Несколько рыбаков уныло бродили у самой воды, подбирая обломки.
— Да, — подавленно сказал Лаймон. — Послушался бы моего отца, ничего этого не случилось бы.
Артур молчал, больно переживая тяжкую справедливость упрека. А Лаймон продолжал:
— И я хорош. По лесам бегал, как дурак. А того не додумал, что они именно сюда гадить приползут. Теперь ищи в море рыбку. А она может снова приплыть, да не раз. И вы хороши — бросили все без присмотра…
— Кто же мог догадаться? Всю жизнь оставляли лодки на берегу.
— Да, дорогая получилась наука.
— Чем дороже, тем крепче усвоишь. Ладно, слезами горю не поможешь, Небось отец уже приехал. Пошли.
Возле бывшего трактира Аболтиньша толпился народ. Сам трактир сейчас выглядел непривычно угрюмо: окна задраены дубовыми ставнями, двери наглухо закрыты. У входа рабочегвардеец с винтовкой. Над толпой повис угрожающий гул голосов:
— Нескладно новую жизнь начинаем.
— А кто виноват? Сами и прохлопали.
— Как же теперь? Ребенку не объяснишь — он жрать просит.
И замолкли. На площадь въехал грузовик с еще не закрашенной надписью на бортах — «Акционерное общество «Рыбак»».
Одновременно подошли Артур с Лаймоном. Машина остановилась, из кабины выбрался Калниньш, из кузова спрыгнул милиционер — тот, что был с Андрисом на мотоцикле. Артур подошел к Калниньшу и, не поздоровавшись, выпалил то, что носил в себе со вчерашней ночи:
— Снимите меня с председателей! Людям в глаза стыдно смотреть.
Калниньш сурово окинул его взглядом, холодно отрезал:
— Следовало бы. Только тогда и меня пришлось бы. Старого дурака! Озолса прохлопал. — Помолчал, продолжил в раздумье. — Хотя — как я сейчас там поглядел — еще много неясного. Собака убита, погреб взломан… — Он обернулся к милиционеру. — Давайте выводите!
Привстав, чтобы лучше видеть поверх голов, Зента напряженно наблюдала, как милиционер поднялся на крыльцо, как рабочегвардеец ключом отпер дверь.
— Собака, погреб… — проворчал Лаймон. — Это можно и нарочно, чтобы замести следы.
— Тоже верно, — вздохнул Калниньш.
На крыльцо трактира вышли рабочегвардеец и милиционер, ведя перед собой Озолса. Заросший седой щетиной, с разбитым, опухшим лицом, придавленный всем пережитым, он еле брел к машине. Зента видела, как милиционер помог ему взобраться в кузов, как устало он опустился там на ящик, как безучастно глядел перед собой, никого и ничего не замечая. Милиционер сел рядом, Калниньш распахнул дверцу кабины:
— Ну, — сказал он шоферу, — поехали.
Но не успел захлопнуть дверцу, как из толпы вдруг вырвалась Зента:
— Стойте! Подождите!
Андрис удивленно обернулся к ней. Толпа, почувствовав что-то неладное, затаила дыхание. А Зента, волнуясь, с трудом подбирая слова, сказала:
— Не виноват он… не поджигал. Не было его там. Он потом прибежал. Я с кладбища шла, все видела.
Выдавила из себя эту правду и гордо, холодно подняла глаза на сидевшего в кузове Озолса. Тот тоже посмотрел на нее. Видимо, до Якоба не сразу дошел смысл ее слов, потому что он долго моргал ресницами, словно впервые увидел эту женщину.
ГЛАВА 11
Лосберг сидел за письменным столом в мансарде, которая служила Манфреду кабинетом, и печатал на машинке письмо:
«…Не скрою от Вас, господин фон Биллинг, поначалу меня несколько покоробило, — забил слово «покоробило», написал «озадачило», — предложение, которое от Вашего имени мне передал господин Зингрубер. Слишком уж велика дистанция от тех наполеоновских замыслов…»
Подумал с минуту, решительно забил последние слова. Машинка застучала дальше:
«…от тех крупномасштабных замыслов, которыми я имел наивность тешиться, до той скромной деятельности, которую Вы склонны доверить мне в настоящее время. Не в обиду Вам будет сказано, у меня есть все основания предположить, что Вы располагали более обширной информацией по поводу предстоящих событий в Лат…» — он опять заменил текст: «…по поводу событий в интересующем Вас и меня районе. Однако я целиком разделяю Ваше убеждение в том, что историю не делают в белых перчатках. И в доказательство этого выражаю полное и искреннейшее согласие в отношении сотрудничества, о котором мне в общих чертах дал понять господин Зингрубер. Для меня, господин фон Биллинг, важен прежде всего успех дела, а не эффектность собственной роли в ожидаемых событиях. Что же касается связей с людьми, которые могут оказаться полезными для этого великого…» — заменил «великого»: «…для этого серьезного дела, то тут у меня, как Вы понимаете, возможности самые обширные. И Вы вполне можете ими располагать. Примите мою искреннюю признательность за доверие. Думаю, лучшим ответом на Ваше предложение будут не мои слова, а поступки.
Всецело преданный Вам
Рихард Лосберг».
Рихард вынул письмо из машинки, внимательно прочел, еще раз перепечатал, на этот раз без помарок, тщательно уложил в конверт.
— Фукс! — не оборачиваясь, негромко позвал он.
Дверь в нише тут же отворилась, и одноглазый смотритель бесшумно вошел в комнату.
— Слушаю, господин Лосберг.
Рихард невольно вздрогнул:
— Как вы ухитряетесь появляться по первому зову? — деланно усмехаясь, спросил он. — За дверью, что ли стоите?
— Я выполняю свой долг, господин Лосберг. — Одинокий глаз Фукса так и впился в конверт, который Рихард вертел в своих пальцах. — Вы мною недовольны?
— Что вы, совсем напротив. Просто я всегда удивляюсь вашей оперативности.
— Было бы странно, если бы я заставил вас ждать.
— Да, разумеется, — Лосберг задумчиво постучал конвертом по столу, по-видимому собираясь с мыслями, еще раз из-под приспущенных век взглянул ка Фукса и неожиданно сказал: — Будьте так любезны, отправьте эти телеграммы. — Он взял со стола несколько бланков, протянул смотрителю.
— Слушаюсь! — разочарованно процедил тот и неохотно двинулся к выходу. В последний миг он так взглянул на конверт, что Рихард невольно сжал пальцы — возникло чувство, что у него вот-вот силой отнимут письмо.
Когда за Фуксом захлопнулась дверь, Лосберг какое-то время сидел неподвижно, устремив взгляд в одну точку. Затем решительно поднялся, разорвал конверт, достал из кармана зажигалку. Вскоре от письма осталась лишь кучка пепла в камине.
Артур очень переживал трагическую историю с лодками. Облеченный властью и непривычной ответственностью, он считал виновным исключительно себя. Решил усилить бдительность. Стал придирчиво присматриваться к каждому человеку, не спал по ночам, бродил по поселку, сжимая в кармане незаряженный браунинг, устраивал засады, и все впустую — ничего необычного не происходило. Долго сомневался, идти ли ему к Озолсу — тот в благодарность за освобождение устроил попойку — затем все же решил, что потолкаться среди людей, послушать их мнение всегда полезно.
Пили во дворе, заправлял вечеринкой Петерис Зариньш. Сам Озолс скромно сидел в конце стола, как бы подчеркивая демократичность своего нового положения. А Петерис был в ударе — впервые в жизни он был хозяином такого стола, впервые в жизни на него обратили внимание, впервые слушали. Он разглагольствовал:
— А что? Новая власть. Очень даже замечательная! Можно сказать, родная, Я эту власть очень даже уважаю.
Обычно сонный, придурковатый от непросыхающего похмелья, он сейчас веселил и развлекал собравшихся. Артура Петерис Зариньш, разумеется, приметил сразу, но на правах дурачка позволял себе такие подковырки, которые другому вряд ли сошли бы с рук.
— Вот, к примеру сказать, в старые, темные времена — где было мое место? У кобылы под хвостом. А его? — Петерис небрежно ткнул пальцем в Артура и, не ответив на собственный вопрос, многозначительно сказал: — А теперь он начальник! Правда, без лодок, да разве за всем углядишь?
Эрна с подносом, уставленным стаканами и кружками, суетилась между гостями, потчевала рыбаков:
— Угощайтесь, дорогие, пейте на здоровье! Такая беда на артель свалилась. И надо же — в самую путину… Когда теперь лодки достанете?
Рыбаки сокрушенно кивали головами?
— Не трави душу, якорь тебе в глотку…
Вздыхали, ругались, но дармовая выпивка все же скрашивала кручину. Да и хозяин дома не давал застаиваться мыслям.
— Значит, новая власть тебе нравится? — раззадоривал Петериса Марцис.
— А чем плохо? То бы в море надрывались, а тут сидим себе, отдыхаем… Не дай бог, трактир сожгут — никакая полиция-милиция концов не сыщет.
Марцис только головой крутнул:
— Ох, Петерис, бедовый ты стал… Откуда что берется? Ну а как, к примеру, ты понимаешь насчет колхозов?
— Чего — насчет колхозов?
— Ну вот, тебе землю сейчас дали? Дали. Корову… А ежели в колхоз потянут — отдашь все это? Или как?
Зариньш задумался. Притихли и рыбаки шутки шутками, а разговор о колхозах волновал всех.
— Я вам так скажу, земляки… Помню, когда в солдатах служил — мы всей ротой ходили… — Петерис сделал паузу, расплылся в масляной ухмылке, — …к одной вдовице, Ха-арошая была, коллективная! Так это ж баба… — Он воровато оглянулся на Эрну. — Что с нее?
— А попробуй кто к моей корове сунься. Ноги ему повыдергаю и спички вставлю! Тут тебе не вдова. Что мое — то мое!
Озолс, наконец, не выдержал, подал голос:
— Кстати, ты не забыл накормить свою корову? А то, неровен час, околеет с голоду, пока ты здесь тары-бары разводишь.
Петерис обиженно поджал губы:
Моя корова, что хочу, то и делаю. Вот пообедаю… — Он приосанился, хотел было приподняться, но Эрна бесцеремонно дернула его за пиджак:
— Сиди уж, горе!
Петерис шлепнулся на место, сурово нахмурил брови, поднял руку, чтобы оттолкнуть жену, но вдруг пьяно захохотал:
— В колхоз я тебя отдам! Ты у меня коллективная…
Эрна залилась краской, отступила на шаг, затем, сопровождаемая пьяным мужским хохотом, бросилась в дом. Озолс неодобрительно посмотрел на своего работника и неожиданно поднялся:
— Я хочу сказать, рыбаки. Спасибо, что пришли. Спасибо, что зла не помните, что по миру не пустили. Спасибо, что не погубили душу грешную. Хорошая власть, плохая — жить нам с вами на одной земле, на одном берегу. Потому как ни другой земли, ни другого берега у нас с вами нету. Против артели не пойду. Пристроите к делу — спасибо! Не захотите знаться… Что ж, каждый себе судья и хозяин. Зла держать не стану.
Он поднял стакан, хотел еще что-то добавить, но в это время во двор вошел Сарма. Как и когда тот подъехал, никто не видел. Язеп неодобрительно оглядел компанию, встретился взглядом с Артуром, жестко спросил:
— Гуляете? Лодок нет, так решили во хмелю поплавать?
— Язеп… Сарма! — раздалось сразу несколько голосов. Кто-то уже спешил к секретарю уездного комитета партии со стаканом водки, кто-то подавал ему кружку пива. Сарма хмурился, отстранял протянутые к нему руки, но радушие рыбаков было таким неподдельным и искренним, на всех лицах было написано столько чистосердечия и доброжелательности, что он не выдержал, Рассмеялся:
— Хотите и меня в собутыльники? Председателя, я вижу, совсем обработали? Язеп наконец добрался до Артура и пожал ему руку.
— Может, мне из-за забора на них поглядывать? — Банга был трезв — Сарма отметил это с удовольствием.
— Лучше бы тебе с ними в море… а не прохлаждаться на берегу.
Артур виновато склонил голову. Сколько можно укорять!
— Я говорил Калниньшу… Снимите меня с этой должности.
— Не мы тебя ставили, не нам тебя снимать. Сами разберетесь. Но если ты прохлопаешь и эти лодки…
— Какие лодки? — Артуру показалось, что он ослышался.
— По всему побережью собирали. Не пускать же вас по миру…
— А платить чем?
— Будет совесть, когда-нибудь отдадите. Не будет, для начала простим.
Марцис подскочил к Сарме со стаканом водки:
— Ну, секретарь… Лосось тебе в глотку. Если ты сейчас с нами не выпьешь… За новую власть…
Сарма хитро усмехнулся:
— Отчего же? За нашу власть, да с рыбаками… Бери и ты стакан, председатель! Ничего, ничего, сам ведь знаешь: за одного битого двух небитых дают, да никто не берет.
Он поднял стакан над головой, проговорил четко и торжественно:
— Кого-кого, а вас советская власть никогда в беде не оставит. И не даст в обиду. Помните это и помогайте ей… Ради себя самих же!
В комнате Марты из радиоприемника доносились позывные станции «Би-Би-Си». Марта баюкала на руках засыпающего Эдгара, тихонько подпевая мелодии далекого Лондона. Внезапно распахнулась дверь. Марта вздрогнула, обернулась… В мокром от дождя плаще в комнату влетел Рихард. Не глядя на жену, бросился к громоздкому аппарату и с силой грохнул его о пол. Деревянный ящик разлетелся вдребезги. Дробью лязгнул металл, заплакал испуганный ребенок.
— Ты что? — изумленно вскрикнула Марта. Она впервые видела Лосберга в таком состоянии.
— Идиотка! — в бешенстве заорал на нее муж. — Хочешь, чтобы нас посадили? Забрали в гестапо?
— В чем дело? Что случилось?
— Ты понимаешь, что натворила? Да успокой ребенка, черт побери! Сколько раз я тебе вбивал в голову, чтобы ты здесь никогда, ни с кем, ни о чем… Надо же додуметься! — Рихард, как затравленный, метался по комнате, отшвырнул ногой обломок. — Болтать о таких вещах!.. Да здесь за одно такое слово отправляют за решетку!..
— Объясни, будь любезен, что значит твоя истерика? — отчужденно произнесла Марта, прижимая к груди сына. — Я не понимаю…
— Ах, не понимаешь? А что такое антинемецкая пропаганда — понимаешь? Клевета на политику Великой Германии — это тебе понятно? С кем ты болтаешь о зверствах немцев в Польше? О концлагерях, о массовых расстрелах?
— Я?! — Марта не на шутку растерялась. — Я здесь вообще никого, кроме господина Шольце и его жены, не знаю. Господи… Неужели и он?..
— Слушай, ты в конце концов соображаешь, где мы находимся? Какой Шольце? Какая жена? Неужели тебе надо разжевывать такие вещи? Сегодня Манфред на меня орал, как на мальчишку.
Марта была потрясена.
— Боже мой, какая грязь! — У нее от волнения дрожал голос. — Какая мерзость… Выслеживать, подслушивать, доносить… Какими же грязными делами надо заниматься, в каком болоте увязнуть, чтобы все это терпеть…
Лосберг болезненно передернулся, закрыл глаза. Лицо побелело, сделалось землисто-серым.
— Да, — едва слышно заговорил он. — Я многое готов вытерпеть от них… Я готов лизать им сапоги, лишь бы они помогли нам вернуться туда, откуда нас выгнали.
Ребенок снова заплакал, Марта сильнее прижала его к себе, словно боялась, что муж причинит ему зло.
Ненависть и любовь, жгучая жалость к себе и жгучая ревность подкатили тяжелым густым клубком, острой спазмой сдавили Рихарду горло.
В предутренней дымке плыл под крылом лес. За ним узкой полосой желтели дюны. Дальше открывалась серая, со стальным отливом гладь моря.
— Ты бывал когда-нибудь в этих местах? — спросил штурман, поглядывая вниз через прозрачный, плексигласовый фонарь кабины.
— Нет, не случалось, — безразлично позевывая, ответил пилот.
— Говорят, у них тут мировые курорты… Лучшие на Балтике.
— Все-то ты знаешь.
— Янтарный берег… Погляди, и правда янтарный…
— Берег как берег. Интересно, девки у них тоже янтарные? — осклабился пилот.
— Между прочим, здешний янтарь высоко ценится.
— Чудак. Янтарь там внизу, и девки тоже внизу. Какая тебе разница — ценится, не ценится…
— Нет, все-таки интересно. Я, когда в новое место лечу, стараюсь разузнать о нем побольше. Помню, когда в Испанию летели…
— Кажется, подходим, — перебил пилот. — Это Либава. Говоришь, разузнать побольше? А я думаю, как бы взять побольше бомб. И горючего…
— Удивительно красиво расположена. Знаешь…
— Слушай, малыш, не заткнешься ли ты на пару минут? И следи за приборами… Я пошел!
Машина круто свалилась в пике. Один за другим самолеты устремились на спящий город, сбрасывая на него серии бомб.
В конторе бывшего акционерного общества толпились рыбаки. Они обступили Артура, который кричал в телефонную трубку:
— Алло! Алло! Начальника милиции Калниньша! Выехал. Куда выехал? Надолго? Не слышу… Тогда уком комсомола!..
В комнате толклись беженцы старики, женщины с детьми. Надсадно плакал грудной ребенок.
— Алло! Уком? Лаймон, ты, что ли? Да я тебя с утра добиваюсь. Что? Потише, товарищи. — Артур обернулся к людям и снова закричал в трубку: — Слушай, указаний мне хватает! Ты хоть немного представляешь, что тут творится? Да, да, именно! Прямо тут, в конторе, а часть по домам разобрали. А чем кормить? Где машины? Отправлять на чем? Это я уже слышал, ты скажи конкретно — когда транспорт будет? Что?.. Ну ясно, ясно, это мы уже сами делаем. Что можем, говорю, то делаем! Теперь насчет того… самого… — Он прикрыл трубку и распорядился. — Товарищи, попрошу всех выйти! Бирута, отведи людей на склад, пусть получат у Айвара продукты.
— И молоко?
— Только детям. По пол-литра. Разместишь пока в школе… Да, да, сейчас! — крикнул он в нетерпеливо забормотавшую трубку и поторопил: — Быстро, быстро, товарищи! — Подождал, когда закрылась дверь, возобновил прерванный разговор: — Ты меня понял, насчет чего? Конечно, сформировали. Кто? Да вся артель. Ну что, тебе всех перечислить? Марцис, Фрицис, Вейс с сыновьями? Да, чуть не забыл — Бирута просит записать и ее. Что, что?.. Ну этого я не знаю, сами разбирайтесь. Не могу ее дать — вышла она. Ладно, кончай… Я тебя дело спрашиваю… Что? — Артур сердито перебросил трубку к другому уху. — Какие строевые занятия? Да ты что — смеешься, что ли? Какие к черту занятия? Им надо показать, где мушка, а где курок. Понял? Что? Сам приедешь? А что толку в твоем приезде? А-а, привезешь? Ну так бы и сказал. Это другое дело! Значит, до вечера? Подожди, где твой отец? Не знаешь? Как только появится, пусть сразу звонит. Пока.
Торопливо собрав бумаги, Артур сунул их в ящик стола, запер на ключ и, одергивая на ходу гимнастерку, шагнул к выходу. Но дверь резко распахнулась — в контору вошел Озолс.
— Когда кончится это беззаконие? — зло процедил он.
— В чем дело?
— По какому праву у меня забирают продукты?
— По такому… Вы распоряжение о сдаче продовольствия получили? Люди сами, несут, последнее. Понимают: надо кормить тех, кто без крыши над головой остался. И армию тоже кормить надо.
— Но ведь я уже сдал…
— Что еще скажете? — прищурился Артур. — По какой управе соскучились?
Озолс не ответил, заковылял к двери.
— Минуточку! — остановил его Банга. — Тут слушок прошел… Вроде дружка вашего прежнего видели…
— Какого дружка?
— Аболтиньша.
Озолс побледнел.
— Так вот, — продолжал Артур. — Если он вдруг объявится и вы вздумаете ему помочь… Хорошо меня поняли?
— Значит, что бы теперь не случилось, виноват будет Озолс?
— Вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. Можете идти.
Закончив неприятный разговор, Артур подошел к бачку с водой, нацедил полную кружку, только поднес ко рту, как с улицы послышались частые, тревожные удары сигнального колокола. Банга заспешил к раскрытому окну, озабоченно посмотрел в небо, но там ничего подозрительного вроде бы не виделось и не слышалось. В контору вбежал запыхавшийся Марцис, заметил в руках Артура кружку с водой, выхватил, выплеснул на пол.
— Пил?
— Ты что?
Рыбак схватил бачок, потащил его во двор и крикнул на ходу:
— Беги к колодцу. Скорее!
Возле колодца в судорогах билась на земле выпряженная из орудия лошадь. Трясла мордой, роняя с губ кровавую пену. Мутным от боли, умоляющим взглядом косила на обступивших ее красноармейцев. Неподалеку лежали — уже неподвижные — еще два коня. Молоденький лейтенант с ежиком светлых пшеничных волос над загорелым мальчишеским лбом присел на корточки у погибающей лошади, кусал губы, едва сдерживал слезы.
— Что здесь произошло? — протолкавшись сквозь толпу, спросил Артур.
— Что произошло? — пружиной распрямился артиллерист. — Вы меня спрашиваете? Кто вы такой?
— Командир истребительного отряда Банга! Я хочу знать…
— Ах, истребительного! — яростно, мальчишечьим фальцетом закричал лейтенант. — Кого же вы тут истребляете? Гады! Мы на фронт, а вы колодцы травить? — Он лихорадочно шарил по кобуре, пытаясь нащупать застежку. — Да я вас… вот этой собственной рукой…
— Долго расстегиваешься! В штаны навалишь, сопляк! — гаркнул вдруг побагровевший от гнева Фрицис Спуре. — Тебя самого под трибунал надо и к стенке… — Он шагнул к ведру, наклонился. — Воду надо нюхать, когда лошадь поишь. Мышьяком за версту разит.
Что теперь делать, товарищи? — растерянно оглядел рыбаков лейтенант. — На чем я пушку потащу?
В толпе судачили:
— Говорят, до Риги немцам — рукой подать…
— Брось ты панику разводить…
— Панику? Душа из тебя вон… А ты видел, в какую сторону весь день войска идут?
— Нас на передовой ждут, — распростившись с начальственным тоном, лейтенант чуть не плакал.
— С того бы и начинал, — проворчал Спуре. А то — гады. Гады там! — Он махнул рукой ка запад и сердито бросил Артуру: — Мы тоже хороши! Мало нас учили…
— Люди не пили? — Артур лихорадочно соображал, что же делать дальше.
— Вроде нет.
— Оповестить всех, — приказал Артур Марцису. — Проверить остальные колодцы. Выставить охрану. — Он обернулся к лейтенанту, — Сколько лошадей погибло?
— Четыре.
— Найдем? — по-латышски спросил Банга у Спуре.
— Не запрягать же этого вояку в постромки, — не удержался, съязвил тот по-русски. — Пупок надорвет и гадов настоящих не увидит. — Повернулся к дочери: — Бирута, пойди приведи лошадь.
— У тебя же одна… — нерешительно пробормотал по-латышски Артур.
— Ну и что? — Фрицис не понял, о чем речь. — Вейс одну даст, Марцис…
Банга все еще стоял в нерешительности. И вдруг заметил выезжавшего со двора Озолса, Секунду подумал, оглянулся на лейтенанта, на застывшее животное у колодца и бросился к повозке, схватил под уздцы коня:
— Выпрягайте! Быстро!
— Что? — опешил Озолс. — Еще чего выдумал?
— Выпрягайте, говорю!
— А ну отойди! — Озолс привстал, замахнулся кнутом. — Да что же это такое?
Артур выхватил кнут, отбросил в сторону. Сказал зло, с придыханием:
— Приказ о борьбе с саботажем помните? Лошадь реквизирована для военных нужд. Выпрягайте! — Он хотел было отойти, но тут у него мелькнуло подозрение: — Куда это вы собрались?
Озолс побледнел.
— А тебе какое дело?
— Подозрения все больше овладевали Бангой.
— Ладно. Разберемся после. Возьмите его! — приказал он бойцам своего отряда. — Отведите в подвал и заприте понадежнее.
— Да ты что?.. — Озолс широко открытым ртом по-рыбьи хватал воздух.
— Увести!
Банга, не глядя на заковылявшего к собственному подвалу Озолса, принялся рассупонивать коня. Фрицис подошел к лейтенанту, похлопал по плечу:
— Сейчас лошади будут. Довези свои пушки, сынок! Дай им прикурить.
Все ближе к поселку грохотала бомбежка. Из-за леса доносились гулкие удары, взметывалось пламя взрывов. Это кидали бомбы немецкие самолеты.
— Как по нотам! — со злостью запрокинул лицо к небу Артур. — Где наши появятся — туда и сыпят!
Он стоял с Марцисом и Спуре на конторском крыльце.
— Наводит кто-то? — с сомнением спросил Марцис.
— А ты думал — нюхом чуют? — проворчал Фрицис. — Сволочей хватает. Зашевелились…
— Говорят, Вентспилс отдали, — вполголоса повторил Марцис. — И Елгаву тоже. Неужели отступление?
— Похоже, что так…
— Куда они все подевались? — с досадой вырвалось у Артура. — Где их носит?
— Попробуй еще раз позвонить…
— Алло! Алло! Это уком? Кто у телефона? Дежурный? А где ваше начальство? Послушайте, товарищ дежурный, говорит Банга, командир истребительного отряда. Мне нужно срочно знать… К нам выехали? Давно? Часа два назад? Странно. Их до сих пор нет. — Артур бросил трубку, тревожно посмотрел на товарищей. — Не нравится мне эта история. Говорят, к нам выехали… Сколько же тут езды?
Он подошел к окну, прислушался — вдали отчетливо слышался рокот автомобиля.
— Машина? — оживился Марцис.
— Кажется.
Вскоре у конторы притормозил грузовик. Из кузова выскочил Лаймон, из кабины выбрался его отец.
— Ну вот, — обрадовался Артур. То ни одного, то всем семейством. Привезли?
— Привезли, привезли, — хмуро ответил Андрис, озабоченно поглядев на часы. — Сколько тебе надо, чтобы собрать отряд? За пятнадцать минут успеешь?
— Конечно. А что случилось?
Калниньш обвел присутствующих требовательным, испытующим взглядом:
— Такие дела, земляки… Есть работа. В пяти километрах отсюда — немецкий десант. Не обезвредим — много будет неприятностей. Мы уже сообщили куда следует, но время не терпит. Надо задержать их хотя бы ненадолго… Пока не стемнело.
Грузовик мчался по лесной дороге. Огромное закатное солнце висело над верхушками сосен. В кузове было тесно. Артур сидел рядом с Лаймоном, плотно притиснутый к борту.
— Вот тебе и строевые занятия, — пробурчал он, стирая смазку с вороненого ствола винтовки. — Где курок, где мушка…
— Ничего, командир, прорвемся! — подмигнул Лаймой — его глаза блестели нервным, лихорадочным возбуждением. — Помнишь, как айзсаргов дубасили?
— Это тебе не айзсарги.
— Неважно. Главное — одной стенкой!
— Главное, успеть до моста добраться, — обернулся к ним Фрицис Спуре. — Не пустить их на мост…
Договорить ему не пришлось — впереди на дороге грохнул взрыв. Грузовик резко затормозил, Артура бросило вперед, ударило о стенку кабины. Вскочив на ноги, он увидел мчавшийся навстречу танк.
— За мной! — крикнул Калниньш, выскакивая из кабины. Едва бойцы успели спрыгнуть на дорогу и отбежать от машины, как прямо в нее ударил снаряд. Но грузовик еще жил — шофер, молоденький парнишка в окровавленной рубашке, обезумев от ужаса, последним усилием пытался задним ходом уйти от стальной громадины. Распластавшись в глубоком кювете, Артур видел, как танк с ходу, будто детскую игрушку, смял полуторку и завертелся на месте, подминая под гусеницы дымящиеся обломки. Банга рванулся вперед.
— Куда? — крикнул Калниньш. — Назад!
Но Артур не слышал. Яростно стиснув зубы, он выполз на дорогу, почти к самому танку и, хладнокровно примерившись, швырнул ручную гранату. Единственную на весь отряд. Ее где-то откопал Фрицис Спуре. Артур попал. Но эффект был приблизительно такой же, как если бы он выстрелил из рогатки. Танк начал медленно разворачиваться.
— К лесу давай! К лесу! — надрывался Калниньш. Бойцы бросились к лесу. Танк развернулся и, переваливаясь на ухабах, ринулся за ними, стреляя вдогонку из пулемета. До леса было рукой подать, Артур с Лаймоном уже почти добежали. Но у самого края Банга на мгновение замешкался, обернулся, успел заметить, как на конце хобота стального чудовища появился огонь и только через секунду услышал выстрел. Потом грохнуло неподалеку. Артуру показалось, что его сильно толкнули. Пробежал по инерции еще несколько шагов, схватился за ствол сосны, начал медленно оседать. Боли вначале не чувствовал.
— Чертовщина какая-то, — пробормотал он подбежавшему Лаймону. — Кажется, меня… — Земля качнулась у него под ногами, перед глазами поплыли красные круги.
…Лесной ручей журчал тихо и мелодично. Других звуков не было: ни выстрелов, ни взрывов. Артур лежал на траве и слушал переливчатый говор воды.
— Ничего страшного, — едва различимо, будто издалека, донесся до него голос Калниньша. — Кажется, навылет. Кость не задета. Ну а мясо — нарастет.
— Нарастет-то нарастет… — отозвался со вздохом Артур, — а как идти?
— Зачем идти? Вон твой экипаж — готов почти.
Марцис с двумя рыбаками мастерил из веток носилки.
— Экипаж. Далеко ли уедешь… Где Лаймон?
— В поселок на разведку пошел. Ты отдыхай пока, вздремни.
Ручей завораживал, наводил сон. Артур снова впал в забытье. Когда очнулся, увидел над собой склонившегося Лаймона.
— Ну как? — тревожно спросил тот.
— Ничего. Заживет как на собаке. — Ванга пытался бодриться, но боль становилась невыносимой, голова кружилась, во рту ощущался металлический привкус.
— Немцы в поселке были? — спросил Калниньш.
— Были. Часа два, не больше. И сразу дальше пошли.
— Много?
— Много. Танки, машины с солдатами, пушки…
— Вот тебе и десант! — зло процедил Калниньш. — Регулярные части, а мы с винтовочками выскочили. Половина отряда полегла.
— Надо уходить, — сказал Фрицис Спуре. Может, еще успеем пробиться.
— А как быть с Артуром? — тихо спросил Лаймой, отводя отца в сторону.
— Да-а, — тяжело вздохнул Андрис. — С собой брать нельзя. Оставлять тоже.
— Мы его спрячем, — неожиданно предложил Марцис.
— Где?
— Есть одно место. Ни одна собака не сыщет.
— Вы из-за меня не задерживайтесь… — сквозь забытье пробормотал Артур. — Идите.
— Помолчи, командир! — прикрикнул Лаймон. — Откомандовался. И спросил Марциса: — А что там за люди? Надежные?
— Самые что ни на есть! — подмигнул бородач. — Только туда лучше в лодке… и, конечно, ночью.
— Значит, надо в поселок. И поскорее — пока там пусто! — рассудил Калниньш. С тобой пойдут Лаймон, Фрицис и Марцис. — Андрис наклонился над раненым: — Держись, сынок! В случае чего, дело и здесь найдется. Поправишься — Сарма разыщет тебя.
— Сарма остается?
— Да. Запомни пароль: «Свежей рыбы не продадите?» Отзыв: «Свежая рыба в море плавает». — Калниньш неуклюже чмокнул Артура в щеку, поднялся, взял Лаймона за локоть — рука дрожала. — Забеги к матери, объясни, что и как… Но будь осторожен. В случае чего, пробирайся в Ригу. Знаешь, куда? — Хотел обнять сына, но, устыдившись своей слабости, с грубоватой шутливостью толкнул его в плечо. — И не задерживайся!
— Без паники, Зента! Ничего страшного, — строго оборвал Фрицис запричитавшую было женщину. — Ранение легкое… Через час мы его заберем. Главное, приготовь ему с собой все, что нужно.
— А вдруг эти опять… нагрянут? Немцы!.. — Мать суетилась возле сына, поправляла бинты, подушки.
— Через час заберем, — повторил Фрицис, — А может, и раньше. Только лодку подготовим…
Лаймон на всякий случай приподнял подушку и, убедившись, что пистолет на месте, ободряюще подмигнул:
— Главное — одной стенкой!..
…Темнело. Рыбаки торопливо шагали по пустынному, будто вымершему поселку. Проходя мимо своего дома, Лаймон извиняющимся тоном проговорил:
— Я на минутку. С матерью проститься…
— Давай! Только быстрее.
Лаймон побежал к дому, а Спуре с Марцисом заспешили дальше, к дюнам.
— Что у тебя за место такое завелось? Потайное? — вполголоса спросил Фрицис.
— Так, хуторок на реке… — с невинным видом ответил Марцис. — Кругом лес, болото… — И добавил доверительно: — Уж если моя баба не разнюхала, немцам и подавно не докопаться.
— Тс-с-с! Тихо! — насторожился Спуре.
Они прижались к лодке, замерли.
— Идет кто-то? — прошептал Марцис.
— Нет, вроде… показалось…
На берегу было тихо. Едва, слышно плескалось в ночи море.
… — Носки здесь теплые, — Айна протянула сыну узелок. — Тебе и отцу. Мало ли как придется…
Лаймон наскоро обнял мать.
— Ты уж побереги его, сынок! Бирута с вами пойдет?
— Зачем? Она к тебе переберется. Не тревожься, мать. Все хорошо будет.
— Как же не тревожиться… — Слезы покатились из ее глаз.
Он чмокнул мать в щеку, пошел к двери. Айна украдкой перекрестила сына, пошептала вслед молитву.
Его схватили, едва он шагнул на крыльцо. Какие-то люди метнулись из темноты, сбили с ног, прижали к земле. Застонав от ярости, Лаймон рванулся, сбросил двоих, кинулся в сторону. На него налетели еще трое, оглушили ударами. Изнемогая под тяжестью навалившихся тел, Лаймон скрипел зубами, рычал и рвался, как разъяренный зверь.
Почуяв недоброе, Айна выбежала на крыльцо, увидела клубок тел, закричала пронзительно. И смолкла. Два выстрела ударили из темноты — обливаясь кровью, женщина, как подкошенная, рухнула ка землю.
Выстрелы грохотали по всему поселку. Ярким факелом вспыхнул чей-то дом, слышались детские и женские крики.
— Айзсарги! — обезумев от страха, кричала растрепанная седая старуха. — Бегите! Это айзсарги!
Спуре и Марцис отстреливались, укрывшись за лодкой.
— Надо уходить! — крикнул Фрицис. — Иначе накроют.
Марцис решительно поднялся во весь рост и надавил на лодку с такой силой, что она в считанные секунды ушла в воду.
— Давай, давай! Я прикрою! — Фрицис посылал в темноту пулю за пулей.
Мотор заработал сразу — словно он тоже понимал, что сейчас не до шуток.
— Давай сюда, быстрее! — Марцис был уже в лодке.
Отстреливаясь, Спуре пятился к воде, но неожиданно охнул и схватился за плечо. Из прибрежных зарослей к нему тут же метнулись фигурки людей. Несколько человек бросилось и к Марцису. Скрипнув в отчаянье зубами, он невольно нажал на газ — лодка с глухим роковом рванулась в море. Вслед ей засвистели пули.
Артур лежал в забытьи и не сразу очнулся, когда выстрелы загрохотали возле самого дома. С трудом преодолевая оцепенение, медленно разлепил веки и не поверил глазам — перед ним стояли двое в рогатых касках, с короткими автоматами в руках. Чуть поодаль офицер в фуражке с высокой тульей беседовал с Озолсом.
— Смею вас заверить, господин офицер, это мой сосед. Вполне приличный парень. Во всяком случае, ни в чем таком замешан не был…
Но тут Озолс неожиданно осекся — в комнату с шумом ввалились Аболтиньш, Зигис, Волдис и Бруно. Разгоряченные и опьяненные побоищем, пышущие ненавистью и жаждущие мести. Озолс настолько опешил, что так и остался стоять с отвисшей челюстью.
— Кого я вижу! — Маленькие глазки Аболтиньша хищно сверкнули. Господин Озолс!.. С бывшим любовником своей дочери. Пикантная сцена, ничего не скажешь. — Подтянулся, обращаясь к немцу: — Господин лейтенант! Ваше приказание выполнено. Поселок прочесан вдоль и поперек. Есть задержанные. — И снова к Озолсу: — Небось не ожидал встретиться?
Офицер снисходительно, кивком головы выразив удовлетворение, небрежно показал на Артура:
— Вы знаете этого парня?
Трактирщик зловеще ухмыльнулся:
— Если кому и положена пуля, так этому гаду в первую очередь. Ему, и дружку его, Лаймону, которого мы, к счастью, тоже взяли.
Банга попытался незаметно сунуть руку под подушку, но один из немцев, стоящий у кровати, опередил его.
— О-о! — Взяв у солдата пистолет, угрожающе протянул офицер. — Вы, оказывается, действительно, красный волчонок? Он повернулся к Озолсу, удивленно пожал плечами: — Я не понимаю вас, господин староста. Вы имеете несколько странное представление о благопристойности.
— Староста? — вырвалось у Аболтиньша. — Кто староста?
— Личным приказом коменданта старостой поселка назначен господин Озолс, — сухо отчеканил немец. — Однако, я вынужден буду доложить господину коменданту об этом более чем непонятном инциденте. — Офицер отвернулся от Якоба и коротко приказал солдатам, указывая ка Бангу: — Взять!
Зента бросилась к кровати, раскинула руки, защищая сына:
— Что вы делаете? Он еле живой…
Мать отшвырнули, Артура не вывели — выволокли из дома.
ГЛАВА 12
На улицах Риги всюду были видны приметы оккупационного режима. Над зданием гебитскомиссариата[6] развевался немецкий флаг, кое-где на стенах появились распоряжения новых властей, по проезжей части маршировали солдаты вермахта, по тротуарам прогуливались офицеры. Марта сумрачно разглядывала все это из окна автомобиля и никак не могла поверить, что она в Риге. Рихард сидел и делал вид, что ничего странного не замечает, У одного из подъездов машина остановилась, Лосберг выбрался первым, помог жене с ребенком. Из второго автомобиля вышли Манфред и адвокат Крейзис. Освальд был в офицерской форме. Солдаты понесли за ним чемоданы.
В большой и светлой гостиной Крейзис торопливо наполнил шампанским заранее приготовленные хрустальные бокалы, первый бокал протянул Марте:
— За ваше счастливое возвращение на латышскую землю!
Освальд был заметно возбужден и немного нервничал. Все четверо стояли посреди комнаты, возле нераспакованных чемоданов.
— Даже не верится, что мы снова в Риге, — сказала Марта. — Жаль только, что не в своей квартире.
— Не грустите, мадам, — утешил Манфред. — Война есть война. Иногда бомбы попадают даже на квартиры друзей. Но, по-моему, здесь не так уж плохо.
— Перед вашим приездом я объехал два десятка квартир. Эта — самая лучшая! — Крейзис подошел к роялю, провел ногтем большого пальца по клавиатуре: — «Бехштейн»!..
— А где же хозяева? — спросила Марта. — Это чья квартира?
— Ничья, — сухо отрезал Крейзис.
— Как ничья?
— Понимаете, в Риге сейчас много пустых квартир, — вставил Манфред. — Война есть война, — повторил он.
— Правильно, — бодро поддержал Крейзис и повернулся к Марте. — Кстати, там, на кухне, вы найдете солдатский паек на случай первого привала.
Рихард смущенно спросил:
— Ты похозяйничаешь, Марта?
Она молча пошла к двери, на ходу обернулась, сказала негромко:
— Только не шумите — Эдгар спит.
В передней остановилась, скользнув взглядом по вешалке, на которой висели мужское пальто и шляпа. Трость с монограммой валялась рядом, на полу. Марта нагнулась, по-хозяйски аккуратно вставила ее в подставку.
Кухня блестела эмалью, начищенной медной утварью. Марта раскрыла большой картонный ящик, стала вынимать из него продукты. Консервы, сало, копченая колбаса… На душе было до невозможности тоскливо. Эта странная, еще не остывшая от чужого тепла квартира, двусмысленные намеки мужчин, вечная неопределенность, недоговоренность…
А в гостиной мужчины снова наполнили бокалы.
— За ваш «Гром и Крест»! — Манфред чокнулся с Крейзисом и обернулся к Рихарду. — Ты знаешь, как пригодились нам его парни?
Освальд растроганно приложил руку к груди.
— Вот уж не ожидал тебя, завзятого адвоката, встретить в роли следователя СД.
— Все по библии: время собирать камни, время разбрасывать камни. Есть время защищать… И есть время обвинять! — высокопарно ответил Крейзис. — Никогда не прощу тем, из-за кого я полгода в погребе прятался, как крыса.
— Мне не пришлось сидеть в погребе, но пострадал я не меньше, — сказал Рихард. — Между прочим, Манфред, почему я должен возвращаться сюда не в качестве владельца своей собственной фабрики, отнятой у меня большевиками? Почему вы не очень торопитесь вернуть ее мне?
— Ты не доволен должностью, которую тебе предложили? — Манфред хотел уйти от прямого ответа.
— При чем здесь это?
Вошла Марта с блюдом аккуратно нарезанных закусок, поставила на стол.
— Ну как, — повернулся к ней Манфред, — осваиваетесь?
Она попыталась улыбнуться:
— Не знаю. Как-то не по себе. Чужой дом, чужая посуда… А хозяева, может быть, где-то бродят…
— Уже не бродят, — снова туманно ответил Крейзис.
— Что вы имеете в виду?
— Да вот то… Каждому свое.
— Освальд шутит. — Манфред выразительно посмотрел на Крейзиса. — Просто эти люди погибли под бомбежкой. Что поделаешь — война. — Он наполнил бокалы, обворожительно улыбнулся. — Я хочу поднять бокал за хозяйку этого дома, за ее здоровье…
— В таком случае, за упокой бывшей хозяйки, — сухо поправила его Марта.
— Нет, — упрямо наклонил голову Манфред. Я пью за новую хозяйку нового дома! Помнится, вы обращались ко мне с просьбой помочь вернуться на родину. Разве я не выполнил своего обещания и не заслуживаю хотя бы улыбки?
Она посмотрела ему прямо в глаза, не пригубив, поставила свой бокал и, не оборачиваясь, вышла из комнаты.
В детской Марта взяла ребенка из кроватки, со страхом огляделась: игрушки, замершая деревянная лошадка-качалка, неподвижный, ярко раскрашенный мяч… Будто смерть остановила движение. Только со стены прямо на нее смотрели смеющийся, полный радости малыш и счастливая женщина. Марта вздрогнула, прижала Эдгара к груди, словно защищая от невидимой угрозы.
Аболтиньш стоял посреди улицы и возмущался:
— Нет, вы только подумайте! При новом порядке, оказывается, тоже нет порядка. Поставить старостой в поселке — кого? Озолса! Уж вы нас извините.
Зигис, Бруно, Волдис и еще несколько айзеаргов хмуро слушали монолог трактирщика.
— Взять хотя бы эту историю с лодками. Чуть в огонь не кидался, спасти хотел. А для кого, спрашивается? И нас чуть не погубил, и сам… чудом от Сибири спасся. Разве не глупо? Ничего, время покажет, кто чего стоит.
Возвращение Марты в родные места выглядело внушительно. По шоссе катил большой черный автомобиль, впереди и сзади — по мотоциклу с автоматчиками в колясках. Впрочем, эскорт сопровождал машину не только и даже не столько ради нее. Рядом с Мартой и Рихардом на заднем сиденье ехал Манфред Зингрубер — погоны свидетельствовали, что он исправно повышался в чине.
Манфред — как всегда, вылощенный, отутюженный — благодушно поглядывал по сторонам, удовлетворенно щурился.
— Знаешь, Рихард, я в прошлый раз как-то не разглядел твои пенаты. В самом деле — прелестные места!
— В прошлый приезд тебя занимали не столько декорации, сколько действующие лица.
— Да, люди — моя слабость. Разные, как морские камешки — оттенки, характеры, темпераменты, привычки… Вы со мной не согласны, господин Озолс?
Якоб — он сидел рядом с шофером — от неожиданности втянул голову в плечи, испуганно ответил:
— Почему же? Согласен.
Манфред искоса посмотрел на старика, участливо спросил:
— Вы чем-то огорчены? Я слышал, у вас уже были маленькие неприятности с новыми властями?
— Что за неприятности? — насторожился Рихард.
— Да вот, твой тесть оказался на редкость сентиментальным человеком. Его назначили старостой, а он хотел помочь какому-то земляку избежать заслуженной кары.
— Кому же? — глухо спросил Рихард.
— Артуру. — Озолс подался вперед, вытер тыльной стороной ладони взмокший лоб.
— Какому Артуру? — Рихард сознавал бессмысленность вопроса, но все-таки спросил.
— Банге, кому же еще?..
— Кто такой Банга? — Манфред с любопытством посмотрел на Рихарда.
— Да так. Один знакомый.
Зингрубер хотел еще что-то спросить, но в последний момент передумал — на Рихарде не было лица.
— Еще кого взяли? — Лосберг устало прикрыл глаза.
— Лаймона Калниньша. Помните такого? Высокий, голубоглазый. При Советах комсомолом у них заправлял. Фрициса Спуре…
Озолс закрыл глаза и чуть было не застонал от боли. Память то и дело возвращала его к событиям прошлой ночи. После неудавшейся попытки выручить Артура — кстати, только теперь до него дошло, насколько опасной и беспомощной была эта затея — он даже не смог бы ответить, на что рассчитывал. Скорее всего его поступок можно было бы объяснить нервным перенапряжением или попросту временной невменяемостью — Якоб вернулся домой и, обессиленный, прямо в одежде, повалился на постель, Лежал и тупо смотрел в темноту. Все ему было настолько безразлично, что он даже не услышал громкого стука’ в дверь. Когда же, наконец, включил свет, на пороге стоял Аболтиньш со своими верными дружками.
— Прошу простить, господин староста, — слащаво ухмыляясь, проворковал тот, — как говорится, примите и распишитесь. — Эффектно отошел в сторону, открывая стоящего за ним Фрициса Спуре. — Рабочая красная гвардия вернулась в родной поселок. — Иди! — Трактирщик толкнул прикладом старика.
Проходя мимо Озолса, Спуре на миг встретился с ним измученным умоляющим взглядом. Но староста отвел глаза…
— Ну! — с усмешкой подошел к Фрицису Аболтиньш. — Расскажи господину старосте, как ты воевал. Где твоя русская винтовка?
Старик молчал.
— Говори, сволочь! Где остальные? Кто ушел на лодке? — шагнул к Фрицису Зигис. — Лодку-то для Банги, небось, припасли?
Спуре беззвучно шевельнул сухими губами. Зигис неожиданно, резким взмахом, ударил его по лицу.
— Господа, не надо так, — попытался вступиться Озолс.
Но последовал второй удар, третий, и Фрицис бессильно рухнул на пол. Зигис схватил его за ворот рубахи, рывком поднял:
— Говори, сволочь!
— Прекратите! — вдруг осмелел Озолс. — Вы в моем доме, а не в полицейском участке.
Аболтиньш вынул из кармана пачку папирос, закурил, пыхнул дымом чуть ли не в лицо Озолсу.
— Хорошо, староста. Мы пощадим твои слабые нервы. Только распишись и дай лопату. Чтобы все закончить красиво.
Озолс вздрогнул, будто только теперь осознал страшный смысл всего происходящего.
— Ничего я подписывать не буду, и никаких лопат у меня нет! — истерично взвизгнул он.
Трактирщик смерил его презрительным взглядом, перекинул папиросу из одного угла рта в другой, процедил сквозь зубы:
— Что ж, хотели как лучше. Будешь закапывать собственноручно.
Едва за ними захлопнулась дверь, как во дворе раздался выстрел, Аболтиньш выполнил свою угрозу.
— Тебе нехорошо? — наклонилась Марта к отцу.
— Нет, ничего…
Какое-то время в машине стояла гнетущая тишина. Затем Рихард спросил у Озолса:
— Вы не справлялись насчет моей просьбы?
— Насчет предприятия? — немного оживился старик. — Как же… И даже думаю, что нашел. Помните старую льняную фабрику? Она совсем близко от поселка находится километра три, не больше будет.
— Это та, что в лесу? Каменные бараки?
— Да. Мне кажется, очень удобно. Как вы заказывали. И близко от поселка, и в то же время в сторонке. В лесу. Есть помещения, дорога…
— Вариант, действительно, интересный. Сегодня же покажете, — подал голос Манфред.
— Здоровый ты, как бык — вот, что я тебе скажу. Лаймон намочил тряпку в ведре, положил на лоб Артуру. — Другой бы уж загнулся давно, а у тебя уже жар спадает. Эх, если бы йоду или хоть водки — раны прижечь!
— Брось… — отмахнулся Артур. — На кой черт теперь?
Он лежал в углу подвала, на охапке сена. Свет едва сочился из крохотного оконца под потолком.
— Я все об одном думаю, — рывком приподнялся Артур. — Как мы прохлопали? Не догадались… Немцы немцами, а свое дерьмо первым поплыло.
— Лежи, не крутись! — придержал его Лаймон. — Кровь пойдет, где я тряпок найду?
— Кровь… Кровью за науку платим. И все из-за меня… Если бы…
— Ладно. Если бы да кабы… — Лаймон погладил шершавый цемент стены. — Хранилище-то когда закончили?
— Весной. Хотели к маю сдать, к празднику — не вышло. — Артур чему-то улыбнулся. — Марцис тут со своей бригадой — все в ударники лез, на премию напрашивался. Ну и получилось тяп-ляп. Я ему такую премию всыпал! Заставил переделывать…
— Молодец! На совесть сработано, — хмуро похвалил Лаймон. — Хорошая стенка, крепкая. — И спросил тревожно: — Чего они нас тут держат? Ты можешь понять? Не бьют, не допрашивают… Вроде как забыли.
— Не волнуйся. Когда понадобится — вспомнят.
— Хорошо пока вместе. А рассадят? Они на любую подлость горазды.
— Ты это к чему?
— Так, на всякий случай. Чтоб всегда — одной стенкой…
Он хотел еще что-то сказать, но запнулся под свирепым взглядом Артура.
— Съездил бы я тебе… Заладил со своей стенкой. Первый день, что ли, знакомы?
Лаймон молча провел ладонью по цементу:
— Да, стенку ты поставил хорошую. Мышь не проскочит.
Старая фабрика представляла собой унылое строение из серого камня, одиноко торчавшее посреди леса. Скользнув взглядом по замшелым стенам, выбитым окнам, Лосберг оглянулся на Манфреда. Тот стоял возле автомобиля, внимательно слушая доклад офицера саперной части. Неподалеку от них следователь Спрудж попыхивал папироской. Да, да, именно Спрудж. Он постарел, обрюзг, но вместе с тем это был все тот же, уверенный и знающий себе цену, Спрудж.
— Ограждение мы устанавливаем вот по этой линии, в два ряда, — объяснил сапер. — Столбы пока деревянные, но когда получим бетонные опоры…
— А где будут сторожевые вышки? — перебил Манфред.
День был пасмурный, неуютный. Ветер трепал разложенные на капоте машины листы чертежей.
— Вот здесь, здесь и здесь…
— Недостаточно. Поставьте еще здесь и здесь. — Зингрубер придавил пальцем чертеж. — У въездных ворот тоже. Это вам не Франция.
— Слушаюсь. Бараки сборные, типовые — мы размещаем их вот в таком порядке. А существующие помещения перегораживаем на три отсека и подготавливаем для первой партии…
— Первая партия прибудет послезавтра.
— Послезавтра? — замялся офицер.
— Да, послезавтра. К четырнадцати ноль-ноль.
— В случае крайних обстоятельств перенос возможен?
— Исключается.
— Понятно. Разрешите действовать?
— Идите! — Манфред обернулся к Рихарду: — Ну, как тебе апартаменты?
— Мерзкое местечко, — брезгливо поморщился тот. — Я и в детстве его недолюбливал.
— А по мне — так даже и неплохо. Надо будет поблагодарить твоего тестя. Как вы считаете, господин Спрудж?
Следователь наклонил голову, почтительно, но без лакейской угодливости ответил:
— У русских есть поговорка, господин майор. Не красна изба углами, а красна пирогами.
— Отличная поговорка. И эти пироги всецело зависят от вас, господа. Каждому красному — по нашему пирогу, — скаламбурил Зингрубер. — У нас есть комбинаты на промышленной основе, с массовым выходом продукции. Здесь же предполагается штучная работа. Отбор, так сказать, наиболее перспективного материала. Тех, кто сможет работать во имя Великой Германии, а значит, и во имя собственного перерождения. Латыши давно морально и экономически связаны с нами. По складу характера, привычкам, мышлению и даже бытовому укладу они очень напоминают немцев. Но только напоминают. И наша задача — помочь прибалтам подняться до уровня великой нации. Вы представляете себе, сколько хлопот нам предстоит только в одной России?
Рихард невольно усмехнулся про себя: как все-таки немцы любят позерство!
Вот и сейчас Манфред произнес страстный монолог, хотя речь шла о самом обычном фильтрационном пункте по вербовке желающих сотрудничать с новыми властями. Лагерем это не называлось, но у попадающих сюда оставалось два выхода: или стать активными пособниками гитлеровцев — тогда они уезжали в спецшколы и овладевали всей премудростью предательства, шпионажа и диверсии, или… Живые свидетели были не нужны. Отличительной особенностью заведения было то, что предпочтение предполагалось отдавать представителям коренной национальности, то бишь латышам. Вот почему потребовались услуги Лосберга. Теперь в его обязанности входило и это. Обработка земляков.
Сам фильтрационный пункт предполагалось разделить на две части: в одной содержать обычных военнопленных из лагерей — к ним Рихард не имел никакого отношения, другая часть отводилась для латышей. Здесь условия и обстановка были более уважительными и сытными, хотя финал, в случае чего, оставался тем же. В общем, в обязанности Лосберга и его службы отныне входило поставлять национальное человеческое сырье. Чего только он не наслушался в свое время в Германки и у себя дома! Латышам, дескать, оказывалась особая честь: их обещали оставить в живых и даже со временем сделать немцами. Разумеется, при условии примерного поведения. Кроме того, их разрешалось более сытно кормить и оделять разными благами. Им не возбранялось посещать немецкие общественные и культурные мероприятия, чтобы воспитываться и расти духовно. Правда, особые инструкции — Лосберг о них хорошо знал — требовали не давать латышам полного равенства и держать их на расстоянии. Господин Розенберг, ведомство которого Рихард представлял в Латвии, утверждал, что из латышей могут получиться хорошие управляющие, очень полезные рейху на завоеванных восточных землях. Но немцам категорически возбранялось посещать культурные мероприятия латышей, дабы не портить своего эстетического вкуса и не наносить вред своему интеллекту. Онемечивание должно проходить медленно и осторожно. Лакеи же требовались сегодня, немедленно.
Рихард посмотрел на почтительно склоненную голову Спруджа, раздраженно отвернулся.
— Я убежден, господин майор, что Германия оказывает нам слишком много доверия. — Спрудж, не мигая, смотрел прямо перед собой. — Доверия, которого мы, к сожалению, пока не заслуживаем. В бою лучшим аргументом взаимопонимания является плечо соседа, а не его пышные речи. Лично я вижу свой долг в том, чтобы втолковать каждому латышу, какой безмерной должна быть его благодарность фюреру за то, что он хочет сделать из него человека.
— Что ж, очень приятно убедиться, что мы не ошиблись в своем выборе, — удовлетворенно, усмехнулся Зингрубер. — Но позвольте несколько практических советов, коллега. Прежде всего ваша работа должна быть профессионально безупречной и чистой. Подготовить одного союзника и десяток восстановить против себя… Это, знаете ли, было бы очень неразумно. Вы хорошо сказали насчет плеча соседа в бою. Я дополню вашу мысль: надо, чтобы ваши подопечные постоянно ощущали себя не просто свидетелями, а непосредственными участниками происходящего. Для этого лучший цемент — кровь. У нас уже есть опыт. Во Франции ликвидацию нежелательных элементов мы доверяли в отдельных случаях самим французам. Вы меня понимаете?
— Разумеется.
— Во-вторых, не спешите колоть овцу, не сияв с нее шерсть. И последнее. Я не думаю, чтобы Советы успели оставить здесь солидное, разветвленное подполье — слишком стремительным был наш прорыв. Но и надеяться, будто здесь чисто, как в аптеке, тоже наивно. Займитесь этим всерьез. Здесь кого-то задержали…
— Я знаю, господин майор.
— Займитесь лично. Я распоряжусь.
— У меня по этому поводу есть некоторые соображения, господин майор.
— Слушаю.
— Я думаю, одного из задержанных надо выпустить.
Манфред задумчиво посмотрел на Спруджа, вынул серебряный портсигар, закурил сам, предложил Рихарду и следователю.
— Подсадная утка? — кольцами выпуская дым, задумчиво спросил он. — Рискованно…
— Не больше, чем ловить на голый крючок неизвестно кого, неизвестно где…
— А если он сбежит? — спросил Рихард.
— Такая возможность, конечно, не исключена. Всего не предусмотришь, — невозмутимо парировал Спрудж. — ну, что ж, сбежит — одним больше, одним меньше, но зато появится шанс, что на него рано или поздно выйдут. Или он на кого-то клюнет.
Манфред помолчал, глубоко затянулся, небрежно отбросил окурок:
— Что ж, дерзайте! Как относятся к неудачливым рыбакам, надеюсь, знаете?
— Я занимаюсь этим спортом около тридцати лет, господин майор.
Манфред посмотрел на него долгим, изучающим взглядом, расплылся в широкой улыбке:
— Вы мне очень симпатичны, господин Спрудж. Будет жаль, если вам не повезет. — Он взглянул на часы, заторопился: — Поехали, господа, поехали!
Озолс играл с внуком. Большими огрубевшими ладонями подбрасывал мальчишку высоко вверх, ловил, прижимал к груди, снова подбрасывал, снова прижимал… Малыш забавно сучил в воздухе ножками, радостно повизгивал.
— Внучек!.. Наследник мой!.. Где же ты так долго от деда прятался? А? Все по Германиям, по заграницам…
Марта с улыбкой смотрела на них — рядом, на стуле, был брошен ее плащ, стояли нераспакованные чемоданы.
— Надолго к нам? — обернулся к ней отец. — Может, оставишь внука подышать морским воздухом?
Дочь наклонилась над чемоданом, делая вид, что возится с непослушным замком. Тихо ответила:
— Я вообще хочу остаться дома.
— А Рихард? — Озолс усадил Эдгара на колени.
— Что Рихард? — Дочь явно хитрила.
— Он тоже останется здесь?
— Не знаю.
Якоб насторожился:
— Вы, что, поссорились?
— С чего ты взял?
— Ну как же?.. Если ты здесь, а он… У вас в Риге что, нет квартиры?
— Почему же? Есть. Но…
— А чем твой муж намерен заняться? Что это за предприятие они задумали? Кстати, тот немец, который с ним, в прошлый раз, коммерсантом представлялся…
— Они все там представляются, — не сдержалась Марта.
Старик посмотрел на нее удивленно, испуганно спросил:
— Что-то все-таки неладно? Да?
— Ой, отец, не хочу я об этом… Дай отойти.
Озолс опустил Эдгара на пол, поднялся, прошелся взглядом по раскрытому чемодану, хотел еще что-то спросить, но в это время отворилась дверь и в комнату вошли Рихард с Манфредом.
— Ну, как молодой Лосберг чувствует себя в родном доме? — весело спросил Зингрубер. — Осваивается? Кстати, вы обратили внимание, что он очень похож на вас? — Манфред выразительно посмотрел на старика. — Ну, конечно, вылитый дедушка.
Озолс, польщенный неожиданным комплиментом, расплылся в довольной улыбке:
— А как же? Одного корня… — Но тут же, засмущавшись, перевел разговор в другое русло: — Ну, как съездили? Впустую? Не подошло?
— Напротив, я вам должен сказать большое спасибо. Это именно то, что нам нужно.
— Очень рад.
— Во всяком случае, господин Лосберг отныне станет вашим частым гостем.
— Простите, если не секрет? А что вы там собираетесь делать?
Манфред бросил быстрый взгляд на Рихарда, уклончиво ответил:
— Да так… Кое-что для фронта. По мелочам. Дорогой хозяин, если бы вы предложили чашечку кофе…
— Господи, Эрна! — засуетился Озолс. — Накрывай на стол!
Бирута доставала воду из колодца, когда вдруг увидела Артура. Он шел по улице в сопровождении двух конвойных. На миг они встретились взглядами — девушка успела разглядеть его заросшее, измученное лицо, грязные, заскорузлые бинты — и губы ее дрогнули от жалости. Впрочем, и сама она выглядела не лучше — иссохшая, почерневшая… Они рванулись было друг к другу, но один конвойный направил ей в грудь автомат, а другой с такой силой толкнул Артура прикладом, что тот едва удержался на ногах. Забыв о ведре, девушка долго смотрела им вслед.
Бангу не удивило, что комендатура разместилась там же, где недавно была контора поселкового Совета — в бывшем трактире. Поверх одних плакатов наклеили другие — только и всего. Но когда стоявший у окна человек в штатском обернулся, Артур вздрогнул от неожиданности: перед ним был не кто иной, как сам следователь Спрудж.
— Удивлены? — довольный произведенным эффектом, усмехнулся тот. — Вы, наверное, уже похоронили меня? Но, как видите, бог милостив. Как вы себя чувствуете? Говорят, были ранены? Садитесь, пожалуйста!
Артур опустился на стул, напряженно вглядываясь в елейное лицо одной из хитрейших ищеек бывшей ульманисовской политохранки. А тот продолжал:
— Мне не нравится ваш вид. Вам надо серьезно лечиться… Ох, молодость, молодость! А ведь я предупреждал вас, Банга. Учитесь выбирать друзей. Они тогда привели вас за решетку, заставили дезертировать из армии, сделали русским лакеем… И что же? Теперь их добивают под Москвой, а вы гниете в подвале.
Артур, сжав зубы, молчал.
— Я понимаю, как неприятно все это слышать, но что поделаешь — сами виноваты. Если бы вы тогда послушались и не наделали глупостей… Ну да ладно, что теперь? Ваше счастье, что живете в гуманном обществе. При желании можно понять: вы поступали так не по идейным соображениям. Невежество всему виной да безмозглая молодость. Претензий к вам особых нет — вы не сделали нам ничего плохого ни в годы республики, ни в дни русской оккупации… Больше того, уберегли от расправы господина Озолса, нынешнего старосту. А это, знаете, весьма и весьма похвально. В общем, у нас нет оснований держать вас за решеткой. Идите домой.
Артур ожидал чего угодно, только не этого. От волнения у него перехватило дыхание.
— То есть как? — услышал он будто издалека собственный голос. — А Лаймон? Его тоже отпускают?
— При чем тут Лаймон? Калниньш наш идейный противник, коммунист… А вы? Мы не собираемся сводить счеты с людьми, которые нам не вредили. И тем более с тем, кто нам помогал.
До него постепенно доходил смысл услышанного. Чудовищный смысл. Значит, он не только не противник, но даже фашистский пособник. Одних его друзей перебили, другие за решеткой, а самого выпустили. Но это же страшнее смерти! Кому и что потом докажешь? Артур медленно поднялся, хрипло проговорил:
— Думаете спровоцировать на сотрудничество?
Спрудж остался спокоен:
— Зачем? Делайте что хотите. Работайте, не работайте… Может, при Советах вы так разбогатели, что теперь и знаться ни с кем не пожелаете.
Артур демонстративно опустился на табурет:
— Я никуда отсюда не пойду.
— Вас выведут.
— А если я вот этим табуретом да по башке? Кажется, вы уже имеете опыт?
В небольших глазах Спруджа промелькнула злая искра, но тут же уступила место деланному безразличию.
— Вот именно, имею. Поэтому вас вышвырнут отсюда еще до того, как вы надумаете схватить табурет. И последнее, Банга. Не вздумайте делать глупости! Предупреждаю, жизнь вашего дружка целиком зависит от вашего благоразумия. Один неосторожный шаг, и вам придется собственными руками закапывать Калниньша рядом с вашей возлюбленной мамашей. Все. Можете идти.
— Ну-у вы и чудовище!..
Спрудж снисходительно усмехнулся:
— Комплимент в устах противника всегда льстит. Спасибо, Банга!
— Но, выходит, я чуть ли не ваш пособник…
— Во всяком случае, так будут думать многие.
— А если я скажу, что перед приходом немцев подал заявление в партию?
— Как-нибудь на досуге мы потолкуем на эту тему. Если, конечно, до того вас не укокошат собственные дружки. Идите, Банга, вы мне надоели.
Бирута, как завороженная, стояла неподалеку от комендатуры, ждала появления Артура. И не поверила своим глазам, когда он вышел один, без охраны. Медленно спустился с крыльца, миновал часовых и отрешенно побрел по улице. Девушка догнала его у колодца:
— Артур!
Он обернулся, посмотрел на нее, будто не узнавая, двинулся дальше. Ей стало не по себе.
— Артур, ты что? Тебя выпустили?
Он молча кивнул.
— А Лаймон? Что с ним? Он живой?
— Живой. — Банга облизнул пересохшие губы и неожиданно покачнулся. Бирута едва успела поддержать его.
— Тебе плохо? Я провожу…
— Нельзя… Не надо… Они возьмут тебя на заметку… — шептал как в горячке Артур. — Они хотят сделать из меня приманку. Понимаешь?
Девушка ничего не понимала, но видела, как у него по щекам катятся слезы, чувствовала: произошло что-то ужасное.
Вечером Озолс долго возился с внуком. Он делал мальчишке козу, тот хохотал и бесцеремонно таскал деда за нос. А когда пролепетал что-то похожее на «деда», Якоб чуть не прослезился:
— Господи, думал ли, что доживу? Воробушек ты мой… Марта! Слыхала, как расчирикался? Дедом уж величает. Подрастай, подрастай, сорванец, я тебе лошадь подарю. Настоящую! Хочешь на лошадке покататься? Вот так… Вот так…
Марта смотрела на отца, размякшего от умиления, и не знала, как подступиться к тому, что ее больше всего волновало. Наконец, решилась, подсела рядом:
— Отец, где Артур?
Озолс поскучнел, насупился.
— Здесь, под арестом… — Голос у него стал вялый, скучный.
— Что ему грозит?
Отец молча повел плечами.
— Ты должен ему помочь.
Он опустил голову, отвернулся.
— Слышишь? Ты обязан!.. Иначе…
— Ничего я никому не обязан. Губы старика нервно кривились. — Ты не знаешь, а я видел, как они платят по векселям.
Она закрыла лицо руками, заплакала. Отец гладил ее по голове, растерянно приговаривал:
— Что поделаешь, доченька? Что поделаешь? Видно, доля у тебя такая. Никуда не денешься. Семью налаживать надо.
Марта подняла заплаканное лицо, кулаком вытерла слезы:
— Поздно, отец.
— Что поздно?!
— Ничего… Час, говорю, поздний. Эдгара укладывать пора. Ты иди!
Ребенок давно спал, а она все сидела возле кроватки, раздавленная свалившимся на нее несчастьем. От собственного бессилия становилось жутко. Где-то рядом погибает самый дорогой ей человек, отец ее ребенка, а она ничем не может ему помочь. Он даже не знает, что у него есть сын, что они рядом и думают о нем. Хуже того, она должна делать вид, что ничего не происходит.
Когда Рихард вошел в комнату, Марта ощутила настоящую физическую боль и чуть было не застонала. Но он сам был чем-то очень возбужден и не обратил внимания на ее настроение.
— Мы не могли бы с тобой поговорить?
Марта какое-то время молча смотрела на него, как бы соображая, чего от нее хотят, тяжело вздохнула:
— Слушаю тебя.
Лосберг нервно прошелся по комнате, присел на краешек громоздкого кожаного кресла.
— Я хотел бы вернуться к нашему последнему разговору в Мюнхене.
— Зачем? Разве мы не обо всем договорились?
— Договорились. И я намеревался начать оформление нашего развода немедленно по прибытии сюда. Даже списался с Крейзисом, просил, чтобы он помог уладить все с наименьшей затратой нервной энергии — и для тебя, и для меня.
— Тогда в чем же дело?
— Дело в том, что возник ряд непредвиденностей. Согласись, — затевать бракоразводную канитель в доме тестя, воображающего себя счастливым дедушкой… Да еще сразу после возвращения.
— Думаю, эта деталь не так уж существенна. В доме, не в доме… Какая, в сущности, разница? Если все решено…
— Ты права. Этим можно было бы пренебречь, но… возникли обстоятельства белее существенные.
Она внутренне напряглась, предвидя, о чем пойдет речь.
— Тебе известно, что я ехал сюда служить, Независимо от того, нравится тебе моя служба или не нравится, я считаю свой выбор правильным…
— Мне нет до него никакого дела.
— Так же, как и до меня, ты хочешь сказать? — Рихард искоса и с болью глянул на жену. — Это я давно усвоил. Так вот, я ехал сюда служить и никак не мог предполагать, что здесь окажется этот… Банга.
Марта судорожно сглотнула, стараясь не выдать волнения.
— А уж он-то чем может помешать тебе?
Лосберг выдержал ее горячечный взгляд, размеренно произнес:
— Да, в нынешнем положении он бы меня вполне устроил. А еще больше в том, какое ему грозило. Но к счастью или несчастью, это положение сегодня изменилось — Артура освободили, он дома.
Марта не поверила своим ушам.
— Что?
Ревность и злоба колыхнулись в нем с такой силой, что, появись Артур сейчас на пороге, он пристрелил бы его, не задумываясь.
— Так вот, — все больше ожесточаясь, продолжал Рихард, — с разводом придется повременить. Я не хочу стать посмешищем всего побережья. Обстоятельства складываются так, что мне придется часто бывать здесь по делам службы, и я не хочу… В общем потерпи. Война скоро кончится, и ты получишь полную свободу. Тем более, что я тебя к исполнению супружеских обязанностей не принуждаю и ничего от тебя не требую.
— Хорошо, — тихо сказала она, — Хотя я не очень понимаю, что тебя больше тревожит? Репутация или карьера?
— Довольно! — Марта никогда раньше не видела у него такого злого лица. — Я не намерен заниматься риторикой и упражняться в острословии. Предупреждаю, если тебе хоть сколько-то дорога жизнь твоего бывшего любовника, наберись терпения и будь благоразумна.
— Угрожаешь?
— Я же сказал — предупреждаю. Во всяком случае, пока.
Над морем ползло грязное месиво облаков. Вода казалась почти спокойной, но загруженный рыбой карбас еле тащился. Шла мертвая зыбь. Артур сидел на корме у руля. Думал ли он, что ему когда-то доведется водить в море такую вот артель? Голодные, полураздетые военнопленные едва ворочали веслами. А он сам? Разве он не пленный? Вон на носу с автоматом сидит Бруно, чертыхается — весь в брызгах, но ничего не поделаешь — оттуда весь карбас, как на ладони.
Артур достал сигареты, отвернулся от ветра — прикурить… И тут же поймал жадный, завистливый взгляд.
— На, кури! — протянул он пачку бледному до синевы парню.
Тот негнущимися пальцами схватил курево, беспокойно оглянулся на двух товарищей…
— Возьми себе! Оставь, говорю, пачку, — с трудом подбирая слова, сказал Банга по-русски. Помог пленным прикурить.
— Смотрю я на тебя и думаю, — подал голос насмешливо наблюдавший за ними Бруно. — Ну и чего ты добился? Держал фасон, пижонил, а толку? Все равно горбатишься, все равно тянешь лямку.
Артур демонстративно отвернулся.
— Ой-ой-ой! Какой гордый!.. Да ты хоть понимаешь, какая теперь между нами разница?
— Понимаю.
— Ну и какая?
— Кому надо, разберутся.
— Чего-чего? Это кто же по-твоему разберется? Не эти ли самые? — Он презрительно обвел концом автомата пленных.
— Найдутся. — Артур поднялся и, молча оттеснив с передней банки обоих гребцов, взял в руки тяжеленные весла.
— А вот как пульну тебе между глаз! — рассвирепел охранник. Но Банга даже не обернулся.
— Не пульнешь. Потому что ты и с автоматом холуй.
Когда закончили разгрузку карбаса, пленных и рыбу забрал лагерный конвой, Артур же, получив свою крохотную долю улова, быстро зашагал в сторону поселка. Но как ни прибавлял шаг, никак не мог отвязаться от следовавшего сзади Бруно. Со стороны могло показаться, что по берегу идут приятели. И женщины, развешивавшие сети, недобро глядели им вслед.
ГЛАВА 13
Трубачи бодро дули в свои инструменты, ярко блестевшие на солнце. Немецкий военный оркестр стоял перед зданием вокзала. Состав был уже подан. У вагонов толпились люди с чемоданами и рюкзаками. На разукрашенном гирляндами хвои и цветами паровозе белел транспарант: «Колеса вертятся для победы!»
Из подъехавшей к вокзалу машины вышли Рихард и Манфред. Звуки оркестра приглушенно доносились и сюда.
— Длинные речи не нужны, повторил на ходу Зингрубер. — Скажешь несколько слов — просто, сердечно, тепло и — Auf Wiedersehen! [7]
— А может, лучше ты? — остановился перед выходом на перрон Лосберг.
— Некрасиво получится. Человек, покидающий родину, должен услышать напутствие на родном языке. Ты для них как символ.
Рихарда слегка покоробило, но он смолчал.
— И, в конце концов, ты представляешь организацию, ведающую трудовым фронтом, — продолжал Манфред. — Сугубо латышскую организацию, действующую на своей собственной земле.
— На своей?
— Ну не будь провинциальным буквоедом. И, кроме того…
— Господа, прошу извинить. — К ним подошел начальник станции. — Состав отправляется через двенадцать минут. А мне сказали, что предстоят еще какие-то церемонии…
— Церемонии займут пять минут, — бодро ответил Зингрубер, подталкивая вперед приятеля.
Оркестр дотрубил финальную фразу и капельмейстер эффектно опустил жезл. Рихард пощелкал ногтем по микрофону и начал с воодушевлением, неожиданным для него самого:
— Дорогие друзья! Сыновья и дочери Латвии! Сейчас загудит паровоз, и вы станете первыми ласточками, несущими в Германию трудовую славу нашего маленького, но крепкого душой и телом народа. — Он посмотрел на стоящего почти рядом с ним белобрысого парня с рюкзаком и, будто обращаясь к нему, продолжал: — Посмотрим правде в глаза. Не все поймут ваш смелый шаг. Не все одобрят. Особенно те, кто еще до сих пор одурманен большевистской пропагандой. Пусть клянут. Не с ними наш путь в будущее новой Европы. Плечом к плечу с великой немецкой нацией вы будете трудиться на заводах и полях Германии, в кузнице нашей общей победы! В добрый путь, друзья! Родина и народ с вами!
Снова грянул оркестр, и его звуки тотчас пронзил резкий паровозный свисток. У вагонов торопливо прощались. Рихард пробирался сквозь толпу, но кто-то дернул его за рукав. Лосберг оглянулся — перед ним стоял тот самый белобрысый парень, который так внимательно слушал его речь.
— Вы так хорошо сказали, — смущенно начал он. — Насчет тех… Ну, в общем, одураченных… И я хотел бы, вот… — Он протянул Рихарду фотографию.
— Что это? — недоуменно спросил Лосберг, глядя на снимок, где рядом с белобрысым стояла улыбающаяся женщина.
— Нужно напечатать в газете, — уже твердо сказал парень. — Что мы вот едем и не боимся. — Он запнулся на секунду и добавил искренне: — Правда, мама не хочет ехать. Она осталась дома… Но ведь ее можно отрезать, верно?
Рихард со скрытой болью смотрел на парня и думал: дурачок ты дурачок! Бумажку отрезать можно. Но как ты отрежешь родину? Однако ответил весело, с улыбкой:
— Давай свою фотографию! Напечатаем.
Рана Артура быстро подживала, Зента умело лечила его стародавними деревенскими способами и снадобьями.
— Гляди, как затягивает! — радовалась она, раздергивая на бинты старую простынь. — А все травки мои… Ты вот смеялся над матерью, когда припасала, а как пригодились! Лучше всяких лекарств… — Зента вдруг заплакала.
— Ты что, мама?
— Вспомнила… Как мы с Айной по лесу ходили, собирали травку. Она все для Андриса своего старалась, после тюрьмы отхаживала. Знал бы он теперь. Вернется — даже у могилы не посидит. Свалили всех в одну яму, как мусор…
Артур с болью смотрел, как дрожат ее пальцы, сматывая бинты. Неужели их ждет такая же участь?
— Страшные дела, сынок, — понизив голос, продолжала мать. — Людей, будто скот, режут. Карьер где-то старый, за лесом. Говорят, по ночам туда из лагеря возят… Кого стреляют, а то и так, прямо живьем закапывают. Немцы лютуют, а наши псы — того хуже. Никого не щадят.
— Дождутся. Еще получат сполна, — процедил сын сквозь зубы.
— Получат… Пока получат… Ну-ка, повернись! — она начала бинтовать. Артур сидел, терпеливо покрякивая.
— Ну, что? Подняла тебя мать? — торжествующе сказала Зента, крепким узлом затянув бинт. — Хоть на свадьбу!
Банга благодарно взглянул на нее.
— Нехорошо о тебе в поселке говорят, сынок, вздохнула Зента. — Мол, неспроста они тебя выпустили. Неспроста на них спину гнешь, рыбкой прикармливаешь. Я-то знаю, что ты не такой, да ведь… Добрая слава за печкой лежит, а худая — по свету бежит.
Артур угрюмо молчал — слова матери были для него больнее пытки.
— Другие уж со мной еле здороваются. Пока еще раненый вышел оттуда, я кой-как отговаривалась, а теперь чего скажу?
— Да сидел бы я тут, дожидался, — вырвалось у Артура. — Но ты же знаешь…
Голос Зенты стал совсем жестким:
— Лаймону ты не помощник. С ним что задумали, то и сделают. Тебя не спросят. Даже Бирута, и та понимает.
— Значит, предать его? Толкнуть на виселицу, а самому шкуру спасать?
— Они тебя дурачат, пойми! — в отчаянии крикнула Зента. — Думаешь, я как мать говорю? Только потому, что за тебя трясусь? Трясусь, конечно, — как не трястись? Но клянусь, как перед богом! Перед памятью Айны!.. Если бы ты мог Лаймону помочь. А то ведь ловушка, обман один. И его не спасешь, и себя погубишь. — Зента всхлипнула. — А может, его уж и в живых-то нет, Лаймона…
Она собрала старые бинты, баночки с мазями, отошла было прибрать на место, но вернулась, взглянула на сына сурово и прямо:
— Один гвоздь всадили — гляди, другим пришьют! Думаешь, не вижу, как она с выродком своим… Так шьется, так и пялится сюда. То лекарства предложит, то маслица… Знаем мы ваше маслице! Они же с тебя, ни днем, ни ночью глаз не спускают. Беги, сынок! Погубят они тебя. В такие дела впутают — мертвым завидовать будешь.
— Ну, я уйду, а ты?
— Про меня запомни одно — матери легче в землю лечь, чем до сыновнего позора дожить.
…С Мартой они встретились, как только он в первый раз вышел на улицу. Бледный, изможденный, непохожий на того Артура, каким она привыкла его видеть, он, запрокинув голову, жадно вглядывался в бесконечную синь неба, из которой доносилась на землю радостная песня жаворонка, слепило жаркое солнце, легкий ветерок теребил его волосы.
Вначале Артур не приметил ее — просто что-то кольнуло в сердце, и он обернулся. Марта почти не изменилась. Разве что стала красивее. Он почувствовал вдруг такую духоту, что непроизвольно раскрыл рот, жадно глотнул воздух и потянулся к вороту рубахи. Затем, сдерживая предательскую дрожь в коленях, медленно двинулся ей навстречу.
Нет, что-то в Марте изменилось. И очень сильно. Когда они приблизились друг к другу и Артур, наконец, осмелился поднять голову, он понял — глаза. Это были совсем другие глаза. Из них сочилось столько невысказанной боли и отчаяния, столько нежности и участия, что он едва не вскрикнул. Горький комок подступил к горлу, сердце отчаянно заколотилось, Что же они сделали с собой? Со своей любовью…
— Ты давно приехала? — едва слышно, одними губами, спросил он.
— Нет, недавно. Как ты себя чувствуешь?
— Спасибо, хорошо. У тебя сын?
— Да, сын.
— Вы надолго сюда?
— Думаю, навсегда.
Он посмотрел ей прямо в глаза и неожиданно признался:
— Я виноват перед тобой, Марта! Прости.
Она закусила губу, чтобы не расплакаться.
— Я тоже.
Хотела сказать что-то еще, но в это время из дома вышел Рихард. Сумрачно глянул в их сторону, сделал над собой усилие, подошел, протянул Артуру руку.
— Как себя чувствуешь?
— Спасибо, ничего.
— Что думаешь дальше делать?
— Пока не знаю.
— Если понадобится моя помощь — не стесняйся, — искоса взглянул на Марту. Только не заставляй вытаскивать из-за решетки. Боюсь, в третий раз не получится.
— Постараюсь.
Рихард натянуто рассмеялся.
— Уж сделай нам одолжение. — И сразу же посерьезнел: — Время такое, Артур, не до шуток. — Покровительственно похлопал Бангу по руке, повернулся к Марте. — Эдгар проснулся. Ему, кажется, нездоровится.
Она зарделась, словно ее уличили в чем-то непристойном, умоляюще взглянула на Артура, повернулась и медленно побрела к дому. Наблюдавший из окна за этой сценой Озолс, рассудил по-своему:
— Не играла б ты с огнем, дочка. И себе не поможешь, и парня погубишь.
Наивный старый человек. Он и не подозревал, что они давно сами себя погубили.
Неподалеку от ледника стоял немецкий армейский грузовик. Лагерная артель грузила на него ящики с рыбой. Артур работал вместе с пленными — подносил и подавал ящики стоявшему в кузове хмурому, неприветливому детине. То ли он был зол на кого-то, то ли вообще таким уродился: детина рывком выхватывал груз и, бурча под нос ругательства, швырял ка пол кузова.
— Выше подать — руки отвалятся? — гаркнул он на щуплого паренька в грязной гимнастерке. — Я что — до земли тебе кланяться должен?
— Эй, там, разговорчики с пленными! — осадил конвоир. Приказа не знаешь?
— А тебе был приказ — на погрузку дохлятину ставить? — огрызнулся детина. — Надрывай тут пуп…
— Sprechen verboten![8] — лениво погрозил автоматом немец — он сидел в тени ледника и наигрывал на губной гармонике.
— Ферботен, все ферботен… — проворчал рабочий, пиная ящик ногой. — Как жрать, так не ферботен. Дармоеды!
Он нагнулся к подошедшему Артуру. Хотя тот держал груз высоко, детина так рванул его, что Банга не смог удержать равновесия и ящик полетел на землю. О него споткнулся один из пленных и упал со своей рыбой.
— Чертовы рохли! — неистово заорал грузчик, спрыгнув на землю. — Руки из задницы выросли? Ящики переколотите, а мне отвечать?
На скандал подоспели другие артельные, возникла толкучка. Бруно, ругаясь и орудуя кулаками, кинулся наводить порядок. И тут в сутолоке Артур неожиданно услышал над ухом хриплый, торопливый шепот хмурого детины:
— Свежей рыбы не продашь?
Банга вздрогнул, оглянулся — Бруно крутился в двух шагах — и все же Банга шепнул отзыв:
— Свежая в море плавает…
К ним приближался охранник с автоматом. Грузчик поспешно пробормотал:
— Скоро придут, жди, — и перехватив настороженный взгляд Бруно, вдруг крепко съездил Артура по уху. — Поживиться вздумал, ворюга? Ящик нарочно разбил? А ну-ка, выворачивай карманы!
— Тихо, тихо! — оттирал его Бруно. — Ты что, взбесился? Да цел твой ящик — чего орешь?
Артур стоял, держась за скулу, и лихорадочно соображал, как предупредить связного. Тот все лез к нему с кулаками, но между ними уже стоял Бруно. И тут Банга вдруг тоже распалясь, кинулся на обидчика:
— Кто, я ворюга? Да я из тебя кишки вытряхну, латгальская морда! Уноси ноги, пока цел! Понял? Попробуй сунуться сюда еще раз — узнаешь.
Он рвался из рук опешившего Бруно, размахивал кулаками. Детина метнул на него быстрый, внимательный взгляд:
— Свяжись с дураком… — пробормотал он и, опасливо оглядываясь, вспрыгнул в кузов.
Артур был почти уверен, что связной его понял. Но для верности крикнул вдогонку:
— В другой раз только сунься сюда! Я из твоей морды барабан сделаю!
— Ладно, ладно, остынь! — с усмешкой оттолкнул его Бруно. — Ну, чего ты взъелся?
— Терпеть не могу латгальцев! — пробормотал Артур, поднимая упавшую брезентовую рукавицу. И напоследок еще раз свирепо погрозил связному кулаком.
Марта в легком платьице с полотенцем в руках подошла к дому Бируты, поднялась на крыльцо, постучала. Несмотря на раннее утро, было уже довольно жарко и безветрено. Дверь открылась довольно быстро, по всей видимости Бирута не спала. При виде Марты ее лицо окаменело в напряженном ожидании.
— Доброе утро! — Марта волновалась не меньше подруги, но старалась скрыть свои чувства, — А я за тобой. Идем купаться!
Бирута стояла не шелохнувшись. Ей показалось, что она ослышалась.
— Есть разговор! — Марта понизила голос до шепота и пугливо оглянулась по сторонам.
Бирута на секунду-другую заколебалась, пристально посмотрела ей в глаза и, бросив коротко «сейчас», скрылась за дверью. Вскоре они шли к морю. Со стороны это выглядело привычно и естественно — давние подружки решили искупаться.
— Понимаешь… к Артуру я не могу. А делать что-то надо. — Она повела головой в одну сторону, в другую, обняла Бируту за плечи, прошептала: — Лаймона завтра увозят в Ригу. Понимаешь?
Бирута резко остановилась, спросила побледневшими губами:
— Ты откуда знаешь?
— Какая разница… Слышала.
Некоторое время они шли молча. На берегу Бирута опустилась на корточки и, просеивая через пальцы песок, долго о чем-то сосредоточенно думала. Наконец подняла голову.
— Господи, что же делать?..
— Не знаю… Я думала, может быть, Артур…
Бирута подозрительно посмотрела на нее, поднялась, жестко спросила:
— Кто тебя послал, Марта?
— О чем ты?.. — растерянно пролепетала та.
— Я спрашиваю, кто тебя послал? — теперь уже в голосе подруги сквозила явная угроза.
Только теперь до Марты начал доходить странный смысл вопроса. Она не на шутку испугалась.
— Клянусь!..
Несколько секунд они смотрели друг другу в глаза. И были в этих взглядах страх, сомнение, сострадание и надежда. «Неужели она может?» — подумала одна. «Неужели она не верит?» — ужаснулась другая. Первой сдалась Бирута. Она опустила голову, глухо проговорила:
— Поклянись сыном.
Марту словно ударили по лицу. Она закусила губу — глаза наполнились слезами. И все-таки она проговорила:
— Клянусь! Памятью нашей дружбы… Сыном клянусь!
Голос ее задрожал — Марта отвернулась, чтобы скрыть навернувшиеся слезы. Бирута замерла — она словно просыпалась ото сна. Лицо ее стало пунцовым, глаза беспомощными, растерянными. Было в них сейчас что-то детское, виноватое. И вдруг не выдержала, сорвалась с места, бросилась на шею подруге. Над ними синело все то же небо, светило то же солнце, рядом плескалось родное море, привычно кричали чайки. А они, словно заново открывали себя. Плакали и были счастливы, что вновь обрели друг друга.
Бирута застала Артура дома. Он собирался на работу. По лицу девушки, ее порывистым и нервным движениям Банга сразу догадался: что-то произошло. Почувствовала неладное и Зента. Она тут же вышла из кухни, тревожно наблюдая за гостьей. Ее пальцы, протиравшие тарелку, мелко дрожали.
— Лаймона завтра увозят в Ригу — скороговоркой выстрелила Бирута. Она тяжело и часто дышала.
Артур вздрогнул, посмотрел на нее удивленно:
— Что? Откуда эти сведения?
— Марта только что была у меня.
— Вот оно… — не то вздохнула, не то всхлипнула Зента. — Говорила ведь, предупреждала…
— Погоди, мать!.. Это точно?
Бирута молча пожала плечами: продаю, мол, за что купила.
— Да-а, — невольно вырвалось у Банги. — Дела-а! Тебе надо немедленно уходить, — строго сказала Бирута. — Если они увезут Лаймона, значит, возьмут и тебя.
Он невесело усмехнулся:
— …Так вот — взял и ушел?
— Не ждать же, пока тебя… — Мать умоляюще прижала к груди руки.
Он отошел к окну, несколько минут сосредоточенно думал.
— Прежде всего, не надо пороть горячку. — Насупился, прошелся из угла в угол. — Напрасно ты заявилась сюда. Встретились бы в другом месте… А то нахально, прямо у них под носом…
Бирута с вызовом посмотрела на него:
— Да какая разница? Сюда, не сюда? Вроде бы они не знают, кто мы такие.
Банга озадаченно посмотрел на девушку: а действительно, какая разница?
— Ладно, иди! Спасибо, что предупредила.
Сам он втайне надеялся на вчерашнего связного. Только бы приехал сегодня. А уж он-то найдет способ передать информацию. Можно еще раз затеять драку, можно…
Артур не шел, а летел к леднику, надеясь на чудо. Но чуда не произошло — на грузовике приехал другой рабочий. Банга подавал в кузов ящик за ящиком, и никогда еще работа не была для него такой тягостной и долгой.
Едва дождавшись окончания погрузки, он отпросился у Бруно сбегать на минутку домой. Забыл, мол, курево. Артур быстро шагал по улице и лихорадочно соображал: что же ему предпринять? Ясно одно — надо выходить на явку, о которой говорил Лаймон. Но как? Ни он, ни Бирута, ни Зента этого сделать не могли. Ведь Спрудж только и дожидается их опрометчивого шага. Попросить кого-нибудь из рыбаков? Но кого?! Кому он мог довериться? И потом, к кому бы он ни обратился, того немедленно возьмут под наблюдение. Что же делать? Артур мучительно раздумывал: Лаймона увозят в Ригу — значит, игра подходит к концу? На что рассчитывает этот негодяй Спрудж? Неужели на то, что у него, Артура, не выдержат нервы и он совершит глупость? Или же просто терпеливо ждет, что рано или поздно кто-то клюнет на его приманку?
Артур не замечал за собой открытой слежки. Впрочем, что значит — открытой? Днем он все время на людях, и скрыть что-либо от постороннего глаза было просто невозможно. А ночью… Поди догадайся, что происходит ночью. Не смыкая до рассвета глаз, он подходил к окну и вглядывался в темноту, вслушивался в малейшие шорохи; ни на секунду его не покидало ощущение чьего-то постоянного присутствия. Так порой случается с человеком, когда он постоянно ощущает на себе чей-то подстерегающий взгляд.
Хорошо понимая, что каждый, к кому он обращался, или те, кто заговаривал с ним, сами поневоле становились подозреваемыми, Банга старался как можно меньше общаться с людьми, вел уединенный, замкнутый образ жизни. Это в свою очередь вызывало у рыбаков подозрение, создавало ему не очень лестную репутацию. Бирута даже не догадывалась, как она обожгла его своей бесхитростной простотой. «Вроде б они не знают, кто мы такие». Заставила посмотреть на вещи совсем иными глазами, Зачем уединяться, зачем прятаться? Может, наоборот, встречаться как можно больше, путать, крутить. Пусть подозревают всех.
Он уже почти поровнялся с домом, когда вдруг увидел Марту. Она шла навстречу. Сердце отчаянно заколотилось, в ногах почувствовалась слабость, во рту пересохло. Так случалось при каждой их нечастой встрече, и Банга ничего не мог с собой поделать. Марта еще издали улыбнулась ему и прибавила шагу. В этот момент Артур мог бы поклясться, что их встреча не случайна.
— Здравствуй! — ее ладонь была горячей и слегка дрожала. — Тебе передали?
— Здравствуй. Передали. Не знаешь, когда?
— Скорей всего после обеда. За ним приедут из Риги.
Она скользнула взглядом по его расстроенному лицу:
— Я могу чем-то помочь?
Он отрицательно покачал головой. Но тут же в нем затеплилась надежда: а что если?.. Банге стало даже жарко от этой мысли, и он вытер вспотевшее лицо.
Марта выжидательно наблюдала за ним.
— Может, я все-таки могу чем-то помочь? Если, конечно…
Что же делать, что делать? И соглашаться было рискованно, и отказываться нельзя. Ведь это тот единственный выход, который он искал. Не станут же они подозревать жену Лосберга. Но имеет ли он право рисковать? Ведь, раскрывая явку и пароль, он уже одним этим делал Марту как бы и свидетелем и соучастником. Как же быть?
— Понимаешь… — его голос осип от волнения. — То, что я тебе доверю…
— Если это нужно тебе…
— Это нужно всем.
— Говори.
— В общем, надо съездить в Ригу. Понимаешь? Немедленно! На улице Калькю есть обувной салон «Элегант». Но сначала для отвода глаз походишь по магазинам… А потом уже туда. Спросишь: «А что, старый Екабсон уже не работает?» Тебе ответят: «Работает, но только для избранных». Расскажешь про Лаймона. Про меня.
— А что про тебя?
Он сначала удивился ее вопросу, потом сообразил: она ведь ничего не знает.
— Скажешь, что из меня сделали подсадную утку.
— Как это?
— Потом… Долго объяснять. Будь осторожна! Пароль используй только в том случае, если никого поблизости не будет.
— А зачем мне ходить по магазинам и терять время?
Он грустно усмехнулся:
— Потому что за тобой могут следить.
Она побледнела. Только теперь до нее стал доходить смысл просьбы.
— Я сделаю все, как надо, — тихо сказала Марта.
И по тому, как это было сказано, он понял, что она скорей умрет сама, чем предаст его. Захотелось сказать что-то теплое, ободряющее, но было поздно — к ним приближался Бруно.
— Ты что, так и будешь целый день любезничать? — он подозрительно вглядывался в их лица. — А работать кто? Прошу простить, мадам!..
Марта не стала дожидаться его разъяснений, круто повернулась и пошла к дому.
Просьбу Артура Марта выполнила безукоризненно. Для начала ей повезло. Рихард — он теперь большей частью жил у себя на даче — сам заехал за ней и предложил прокатиться в Ригу. Предложил так, из любезности, без всякой надежды на успех — в последнее время их отношения окончательно разладились. К полной неожиданности Лосберга Марта согласилась. И даже была с ним почти любезна.
Она добросовестно ходила по магазинам, кое-что купила, кое-что заказала. Наконец, добралась до «Элеганта». И здесь ей тоже повезло — в салоне никого, кроме рослого приемщика, не было. Убедившись, что их никто не может услышать, она негромко спросила:
— А что, старый Екабсон уже не работает?
Приемщик метнул на нее короткий испытующий взгляд, расплылся в улыбке, громко сказал:
— Прошу вас, мадам! Здесь вам будет удобно. — И, совсем понизив голос, ответил на вопрос: — Работает, но только для избранных. Не обращайте внимания на меня, говорите. — Советую, мадам, обратить внимание вот на эту модель.
Украдкой между его репликами Марта рассказала все, что ей поручили. Приемщик ни о чем не спрашивал. Только в самом конце, как бы между прочим, поинтересовался:
— Насчет Банги вы откуда знаете?
— Что именно?
— Ну… Что за ним следят.
— Сам сказал.
— Вот как? Любопытно. А пароль? Тоже от него?
— Конечно. Иначе, как бы я смогла вас найти.
— Да, да, разумеется. Простите, как вас зовут?
Но ответить Марта не успела, потому что в салон вошли две нарядно одетые дамы. Приемщик мгновенно преобразился, угодливо выгнул спину, подобострастно затараторил:
— Не сомневайтесь, мадам. Все будет в порядке, мадам. Я уверен, вы останетесь довольны, мадам.
Рихард спал чутко и тотчас встрепенулся, едва секретарь осторожно проскользнул в дверь.
— Что такое? — недовольно спросил Лосберг.
— Прошу простить, но к вам приехали. Просят принять.
— Вы с ума сошли! — Рихард сердито взглянул на часы, лежащие на туалетном столике. — Третий час ночи…
— Я объяснил, — растерянно топтался у входа секретарь. — Это господин Лоре.
— Лоре? — Лосберг встал, набросил на плечи халат, озадаченно посмотрел на помощника. — Что ему надо? В такое время…
Секретарь неопределенно пожал плечами.
— Не знаю. Он возбужден. Похоже, что-то случилось.
Лосберг нахмурил брови.
— Что ж, проводите в кабинет, сейчас приду. Оставшись один, он подошел к окну, отдернул штору, зябко поежился: вместо луны за серой толщей облаков едва угадывалось ее светлое пятно, парило море, молочный туман стелился над землей. Из густого марева в редкие просветы неясно выступали то куст рябины, то ветка сосны, а то и вовсе что-то причудливое. «Точно как в жизни, — невесело усмехнулся про себя Лосберг. — Все в тумане. Мерещится одно, а на самом деле…»
Рывком запахнув халат, он с неохотой вернулся к столу, закурил. Стоял и думал об этом странном визите. Что бы это могло значить — ведь никаких дел с Лоре у Рихарда не было. Но, если человек поднимает тебя с постели, значит, что-то стряслось. В душе все больше крепло беспокойство…
В первый момент он не узнал рыжего гиганта — так сильно тот изменился: бледный, с темными провалами вместо глаз, Лоре вперил в Лосберга безумный взгляд, хотел что-то сказать, но тут же судорожно всхлипнул.
— Что с вами? — Рихард шагнул к гостю, пожал его вялую, безжизненную руку.
Лоре бессильно рухнул на стул, затрясся в сдавленных рыданиях.
— Ну, ну, успокойтесь. — Хозяин плеснул в стакан воды, но, раздумав, достал из бара коньяк. Кое-как ему удалось влить в гостя несколько капель. Приказав взглядом секретарю удалиться, Рихард сел напротив Лоре, доброжелательно похлопал толстяка по колену. — Ну вот. Теперь вы начинаете обретать привычный вид. Итак, что случилось?
— Оскар… — простонал поздний гость. — Они взял его. Умоляю, спасите.
— Погодите, — нахмурился Лосберг. — Кто «они», куда взяли? Давайте-ка по порядку. Оскар — ваш сын, да? Врач?
Лоре кивнул.
— Помнится, и во времена Ульманиса вам как-то приходилось выкупать его из охранки. Что же он натворил на сей раз?
— Сделал операцию какому-то их офицеру.
— И что, неудачно? На тот свет отправил?
— Если бы! — жалобно воскликнул Лоре. — К счастью, Оскар хороший врач. А вот офицер оказался не офицером.
— Кем же именно?
— Черт его знает. То ли просто мошенник, то ли еще кто-то.
— Разве он оперировал не в госпитале?
— В том-то и дело. У себя дома. Так получилось…
— Вон оно что, — задумчиво протянул Рихард. — Это осложняет обстановку. Прежде всего, знал ваш сын, кому делает операцию или не знал? Что оперировал? Сообщил он властям или не сообщил? Наконец, кем арестован?
— Вы полагаете, будто я работаю в гестапо, — всплеснул руками озадаченный Лоре. — Спасибо людям, что сообщили…
— Когда вам сообщили?
— Часа два назад.
— Кто сообщил?
Лоре замялся, укоризненно посмотрел на хозяина дома.
— Вы задаете неудобные вопросы, господин Лосберг. Есть у меня в здешнем гестапо старый приятель… Но вы же сами понимаете — я не могу…
— Позвольте… Вашего сына арестовали не в Риге?
— Иначе, зачем бы я поднимал вас среди ночи? Он же работал здесь, на побережье. Господин Лосберг, заклинаю… У вас огромные связи. Помогите, и я озолочу вас. Ради Оскара я готов…
Лосберг оскорбленно вскинул голову:
— Вы соображаете, какой вздор несете? Понимаю, вы взволнованы, но все же не забывайтесь. Не путайте ваши коммерческие махинации с политическими принципами.
— Да какие принципы? При чем тут политика? — в отчаянии перебил Лоре. — Я уверен, Оскар даже не знал, кого оперирует. Помог как врач. Только и всего.
— Вы не обращались к кому-нибудь из наших? Полковник Граузе, например… Он в большой чести у гаулейтера.
— Звонил, — мрачно буркнул Лоре. — Граузе не стал со мной разговаривать. Знаете, люди быстро забывают добро.
Рихард искоса посмотрел в его сторону, задумчиво проговорил:
— Плохо. Могу обещать одно: если ваш сын не нанес вреда немцам, я попробую помочь.
— Вред немцам, бог мой… Мы у себя в Риге наносим им вред.
Лосберг ничего не ответил — лишь желваки проступили на его скулах. Потянулся к телефону.
— Звоните, ради бога, скорее, кому-нибудь, — Лоре затравленно наблюдал за каждым его движением.
— Соедините с Ригой. Быстро! — негромко, но властно приказал Рихард. — Вы что, оглохли? Я же сказал — быстро! Да, это Лосберг. Что? Ничего, подождут.
Лоре замер в ожидании.
— Рига? Мне двадцать два триста пятнадцать.
Пришлось какое-то время подождать, пока на том конце провода сняли трубку.
— Алло! Это квартира господина Зингрубера? Будьте любезны… Это Лосберг. Прошу простить за беспокойство, но не сочтите за труд — попросите господина майора, когда он проснется, позвонить мне сюда, на побережье. Что? Вот как… И когда? Не знаете? Прошу прощения. Если вдруг появится… Да, да, будьте так добры.
— Зингрубер? — тяжело вздохнул Лоре, — Это тот ваш обаятельный друг, коммерсант?
— Да, тот самый. — Лосберг озабоченно листал записную книжку. — Нет, нет, не разъединяйте, — сказал он в трубку, — дайте двадцать пять шестьсот семь. Спасибо. Алло, дежурный? Это Лосберг. Скажите, майор у себя? Что?.. Выехал к нам на побережье? Так, так, понятно, благодарю вас. — Он положил трубку, обернулся к Лоре. — Видите, на ловца и зверь бежит — Зингрубер выехал сюда. Так что снимайте туфли, раздевайтесь, сейчас принесут постель, постарайтесь вздремнуть.
— Какие туфли, какая постель? — простонал Лоре. — Я здесь с ума сойду. Знаете, Рихард, в общем-то мы с Оскаром никогда не были особенно близки, но когда я представлю, что он сейчас…
— Как раз представлять-то ничего и не нужно. Все равно не угадаете. Не можете спать — вот вам валерьянка, вот коньяк… Пейте, что хотите, а я уж, извините, прилягу. Мне сегодня предстоит хлопотный денек.
— Я не могу. — Лоре вскочил, нервно пробежался по кабинету. — Пить коньяк, когда его там…
— Что его там? — насмешливо уточнил Лосберг. — Четвертуют, колесуют, сажают, на кол? Не будьте бабой в конце концов. И не воображайте себе гестапо пещерой ужасов. Нормальное следствие, нормальный допрос.
Неожиданно зазвонил телефон.
— Да, слушаю. — Рихард повернулся спиной к Лоре — его все больше раздражал ночной гость. — Манфред? А я только что тебя разыскивал. Зачем? Да здесь такая история… Ты помнишь господина Лоре? Ну, у которого самое ценное золото на голове… Да, да… Так вот, понимаешь, у него арестовали сына. Вроде бы ни за что. Он прооперировал какого-то немецкого офицера, а тот оказался вовсе не офицером, а черт его знает кем. Откуда мне это известно? Да вот, господин Лоре сказал. Да, слушаю, — Рихард плотнее прижал трубку. По мере того, как продолжался разговор, выражение лица хозяина дома становилось все мрачнее. — Так, понимаю. Хорошо, передам. Когда приедешь? Часа через два? И ты хочешь, чтобы я непременно участвовал? Нет, но… Хорошо, жду. — Он положил трубку, но не спешил оборачиваться. Закурил, несколько раз глубоко затянулся. Наконец, решился: — Господин Зингрубер просит вас срочно приехать к нему в гестапо. Здесь, на побережье.
— Он сказал вам что-нибудь? — Лоре с надеждой вглядывался Рихарду в глаза.
— Я вам все передал.
— Он поможет мне?
— Вы ему лично зададите этот вопрос.
Лосберг не отвечал, а выстреливал — сухо, коротко, безразлично. Обескураженный резкой переменой в его настроении, Лоре окончательно сник, растерянно потоптался и, забыв попрощаться, двинулся к выходу. Едва за ним захлопнулась дверь, на пороге вырос секретарь. Несмотря на столь ранний час, одет он был безукоризненно — темный костюм, белоснежная сорочка.
Рихард мельком взглянул на него, проговорил с неприкрытым раздражением:
— Сбегайте за моим тестем. Немедленно. Скажите ему — это очень важно. И еще: позаботьтесь о завтраке — у нас будут гости.
— Много?
— Нет, два-три человека. Хорошо бы достать свежей лососины.
— Постараюсь. Что еще?
— Все, идите.
Секретарь ушел, Лосберг опустился в кресло, долго сидел, не шевелясь, безразлично перебегая взглядом с предмета на предмет. Он прекрасно знал, что в этой жизни ничто не дается даром, за все надо платить. Но всякий раз, рассчитываясь со своими новыми друзьями и хозяевами, безмерно страдал. От юношеских честолюбивых планов давно не осталось и следа. Теперь самым сокровенным стало желание выбраться из капкана, в который он попал, и как можно меньше замараться. Это было непросто: те, кому он служил, стремились совсем к обратному. Они хитро оплетали его все новой паутиной, не оставляя ни малейших шансов на избавление. Вначале у него просили только информацию, ничего больше, затем рейху потребовались рабочие руки, много рук, и он волей-неволей включился в эту работу, убеждал земляков последовать его советам. Сегодня от него требуют участия в облаве, а что будет завтра? Сознавать собственную безысходность было невыносимо.
Лосберг до хруста в суставах сжал пальцы и вдруг заметил коньяк, которым совсем недавно потчевал Лоре. Неуверенно потянулся к бутылке, слегка плеснул в бокал, подумал и налил до краев, залпом выпил. Отдышался, смахнул навернувшиеся слезы, снова налил.
Когда пришел Озолс, встревоженный неожиданным вызовом, Лосберг был уже под крепким градусом. Старик удивленно посмотрел на зятя:
— В чем дело, Рихард?
— А-а… Дорогой тесть… Не хотите ли за компанию? — хозяин вяло ухмыльнулся и так лихо плеснул в бокалы, что коньяк разлился по столу.
— С чего бы это — ни свет, ни заря? Зачем вы меня разбудили?
Лосберг пьяно наморщил лоб, как бы припоминая, а для чего он, действительно, поднял человека с постели, тревожно вслушался в ночь.
— О-о, господин староста. Нам с вами оказана высокая честь — мы приглашены на охоту. И какую… Королевскую. Друг на друга.
— Какая охота? О чем вы? Я ничего не понимаю…
— Не понимаете? — Рихард встал, качнулся, с силой оттолкнул кресло. — Вы счастливый человек, дорогой мой тесть. Я вам искренне завидую. — Подошел вплотную к Озолсу, посмотрел ему прямо в глаза. — А действительно, зачем так много латышей, да еще в одном месте? Не проще ли перестрелять и перерезать друг друга? Зато уж те, кому посчастливится выжить, станут, наконец, настоящими немцами. Разве это не честь?! Разве из-за этого не стоит?..
— Я ничего не понимаю, Рихард, — чуть не плача проговорил Озолс. — Объяснитесь, пожалуйста.
Лосберг залпом осушил бокал, заговорил неожиданно трезвым голосом.
— Через час-полтора здесь начнется облава. Повальная. Будут брать всех подозрительных. Кстати, вашего соседа в первую очередь.
— Артура? — Озолс подался вперед.
— Да. И нам с вами приказано участвовать самым непосредственным образом. Вам понятно, что это значит?
— Да, — едва слышно выдавил из себя Озолс.
— В таком случае, действуйте. — И, словно сбросив с себя непосильную ношу, Рихард устало опустился в кресло. — У вас есть еще время.
— Вы полагаете, мне следует?.. — Старик беспомощно топтался на месте.
— Все, что счел нужным, я сделал, — холодно отрезал зять. — Теперь ваша очередь. Впрочем, делайте, что хотите. Все равно, рано или поздно вы перервете друг другу глотки. — И он демонстративно отвернулся, рывком подвинув к себе бутылку.
ГЛАВА 14
Манфред Зингрубер с осунувшимся от усталости лицом, но все такой же вылощенный и внешне невозмутимый, беседовал со следователем Спруджем.
— Как вы на него вышли? — спросил майор.
— Интуиция. И немного везения, — скромно произнес новоиспеченный сотрудник гестапо. Вообще-то я его и раньше знал. Мы вместе трудились в Рижской центральной тюрьме.
— Лоре? Не сын ли он этого… Ну, такой рыжий детина? Судовладелец, кажется?
— Он самый.
— И что, папаша не мог обеспечить наследнику более приличного занятия?
— Черт их знает. Это шокировало всех.
— Может, он красный?
— Кто, сын? — Спрудж презрительно усмехнулся. — Типичный интеллигентский слизняк. Сам хирург, но писал диссертацию по психологии заключенных. Позер, болтун, амеба. Ненавидел нас, боялся красных — они с папашей все из себя что-то корчили. Гляжу, а этот ученый уже здесь околачивается. В Риге, значит, нашкодил и давай сюда — с глаз подальше. Думаю: черт с тобой, в случае чего, все равно не уйдешь.
— И что же?
— Я же говорю, интуиция. Как только началась облава, я к нему на квартиру и… точно. Он даже халата снять не успел.
— Как же вы их упустили? При вашей хваленой интуиции и хватке? — насмешливо спросил Зингрубер.
Спрудж искоса взглянул на майора, промолчал.
— Когда это случилось?
— В час ночи.
— То есть, совсем недавно. Далеко, да еще с раненым, они уйти не могли.
— Конечно, они где-то здесь, на побережье. Думаю, было бы целесообразно… — Он не договорил, потому что в комнату вошел высокий обер-лейтенант и, щелкнув каблуками, обратился к Зингруберу:
— Господин майор, срочное сообщение. — Немец недоверчиво покосился в сторону Спруджа.
— Докладывайте! — разрешил Зингрубер.
— Господин майор, несколько минут назад в районе рыбачьего поселка машина с неизвестными, переодетыми в форму наших солдат, на полном ходу проскочила контрольный пункт. Организовано преследование.
Зингрубер и Спрудж многозначительно переглянулись.
— Вызовите коменданта. Гарнизон в ружье! Поднимите все наличные силы. Поселок оцепить. Чтобы мышь не прошмыгнула. Выполняйте! — у майора лихорадочно заблестели глаза.
Когда обер-лейтенант вышел, Зингрубер снял телефонную трубку, попросил соединить его с Лосбергом. Чем дольше разговаривал он с другом, тем заметнее мрачнел. Наконец, положив трубку, искоса взглянул на Спруджа — тот старательно изображал, что всецело занят своими мыслями.
— Старший Лоре находится сейчас у господина Лосберга. Приехал ходатайствовать за сына, незаслуженно нами арестованного.
Спрудж удивленно вскинул брови.
— Да, да. Лоре осведомлен, что сын арестован. Он даже знает, что его отпрыск оперировал немецкого офицера и что офицер вовсе не офицер. — От прежней невозмутимости Зингрубера не осталось и следа, майор говорил зло и отрывисто.
— Странно, — нисколько не тушуясь под тяжелым взглядом немца, проговорил Спрудж.
— Действительно, странно, — угрожающе согласился майор.
Но Спрудж не дрогнул, не смутился, невозмутимо сказал:
— Вы что же полагаете: я сначала выследил и арестовал сына, а затем предупредил папашу?
Логика была не на его стороне, и Манфред досадливо отвернулся.
— Осведомителя найти немедленно, — глухо сказал он. Не мне вас предупреждать, чем это может закончиться. — И, как бы отрезая неприятную для него тему, проговорил совсем другим тоном: — Я попросил господина Лоре срочно приехать сюда. Займитесь им как следует, а я пока разберусь с наследником. Кстати, вы убеждены, что он ничего не знает?
— Абсолютно. Поверьте, я умею разговаривать с подобными типами. А потом, знаете, красные не такие дураки, чтобы довериться этому…
— Может быть. Хотя… посмотрим. Разыщите господина Крейзиса. Обещал вернуться через двадцать минут, а прошло уже больше получаса.
Этот разговор нельзя было назвать допросом — так, что-то вроде мирной, приятельской беседы. Манфред — в сдвинутой на затылок фуражке — расхаживал по камере и стряхивал пепел прямо на пол. Вид у него был совсем мирный, даже, можно сказать, доброжелательный. Полной противоположностью ему был Лоре: разорванную рубаху щедро украсили свежие красные пятна, под правым глазом расплылся синяк, из разбитой губы сочилась кровь. Он сидел на кровати, затравленно вглядываясь в немца.
— А что, при большевиках вы так и служили в тюремном бараке? — спросил Зингрубер. — Вас не смущал этот парадокс — сначала лечить противников прежнего режима, а потом их заклятых врагов?
— Нет, не смущал. — Лоре вытер кровь на губе, посмотрел, куда бы сбросить пепел и решил последовать примеру немца — стряхнул на пол. — Долг врача — облегчать страдания, а не вникать в оттенки политических убеждений.
— Понимаю, — кивнул Зингрубер. — Заповеди милосердия, клятва Гиппократа и тому подобное. — Он с любопытством присмотрелся к Лоре, неожиданно сказал: — Если бы я владел кистью, непременно написал бы вот такого Христа. — Нордический вариант, рыжеволосый. Очень интересно. Вы гораздо больше похожи на него, чем на собственного папашу.
— Вы знаете моего отца? — удивленно и вместе с тем с надеждой вскинулся Лоре.
— Разумеется. Мы даже с ним приятели.
Лоре прикрыл на секунду глаза, облегченно вздохнул. Заговорил повеселевшим тоном:
— Когда-то отец шутил, что только цвет волос избавляет его от подозрения в непорочном зачатии. Мы с ним довольно разные люди, — неожиданно заключил он.
— Разве? — задумчиво переспросил майор. — Вот уж не сказал бы. Он так печется о вас, так беспокоится. Поднял на ноги все гестапо.
Глаза Лоре предательски повлажнели, он сглотнул комок и отвернулся.
— Понимаете, я не намерен вас допрашивать — картина и без того ясна. Просто хочется уточнить некоторые детали.
— Да, пожалуйста.
— Вам не показалось странным, что этого раненого офицера к вам доставили на квартиру?
— По правде говоря, у меня не было времени раздумывать. Исход дела решали минуты.
— Ну, хорошо. А когда операция была закончена?
— Они тут же унесли его в автомобиль и заверили, что доставят в госпиталь.
— Чуть живого?
Лоре неопределенно качнул головой.
— И опять-таки, вам это не показалось странным? Не удивило, что ваши клиенты даже не сочли нужным представиться?
— Они были в немецкой форме и… простите за откровенность, не очень деликатничали.
— Вы хотите сказать, вам пригрозили?
Лоре на секунду замялся.
— Да, — нехотя признался он.
— Но хотя бы поточнее описать их вы могли бы? Сколько их было, во что одеты, как выглядели?
— Сколько? Трое… Пожалуй, четверо. Кажется, кто-то оставался на улице. Одеты, я уже сказал — в немецкую форму. Выглядели? — Он смутился, покраснел. — Знаете, я немного растерялся… Впрочем, офицера могу описать точно.
— Не надо. Имена? Может вы запомнили хоть одно имя?
— Нет, они не называли друг друга по имени.
— То есть, практически вы не знаете ничего?
Лоре виновато опустил голову.
— Жаль, очень жаль. Ну ладно, бог с ними, с именами. — Зингрубер остановился, пронзил врача тяжелым взглядом. — Как же вы забыли уведомить об операции представителя власти? Согласно приказу, получение которого вы засвидетельствовали своей подписью. Уведомить еще до того, как взялись за скальпель. Да и позже забыли. Это что, оплошность, господин Лоре?
Врач растерянно посмотрел на офицера:
— Просто не успел.
Манфред прошелся по камере, сел рядом с Лоре, предложил сигарету.
— Знаете, я подметил одну из главных черт вашего национального характера. Латыши упрямы. Понимаю, немцы могут не вызывать у вас особых симпатий. Но много ли вы получили от русских? И главное — нельзя не считаться с объективным ходом событий. Не сегодня-завтра мы будем в Москве, падут Советы. Это вопрос уже не дней, а часов. За каким же чертом вас дернуло помогать русским?
У Лоре перехватило дыхание, он едва слышно оказал:
— Я помогал раненому немецкому офицеру.
— Бросьте, дорогой доктор, вы не настолько наивны. Я не сторонник бессмысленной жестокости, вам не будут загонять иголки под ногти, выпытывать адреса, явки. Для меня абсолютно ясно: с подпольем вы не связаны. Но, согласившись на эту операцию, вы прекрасно понимали, на что идете. — Манфред помолчал, покачал воском сапога. — Могу поздравить, — хмуро продолжил он, — вы оказали им серьезную услугу. Спасли жизнь и помогли скрыться русскому разведчику. Он работал в нашем аппарате, имел доступ к секретным документам.
Лоре испуганно отшатнулся.
— И вы считаете возможным посвящать меня в эти подробности?
— Почему бы нет? — Манфред поднялся, положил на кровать пачку с оставшимися сигаретами. — Раз уж мы тут с вами нарушили порядок, позвольте оставить это. Надеюсь, вам их хватит.
Лоре вздрогнул — в пачке оставалось три штуки.
— Думаю, вы не в претензии на нас, господин Лоре. Ведь каждый сам определяет свою судьбу. Этот случаи послужит хорошим примером для ваших соотечественников.
Он сидел один за щедро накрытым столом, уставленным бутылками. Среди них розовели в свежей зелени блюда с аппетитными ломтями лососины, лоснились копченые угри. Но все это не радовало: одиночество Рихарда было горьким. В мрачном раздумье Лосберг пил коньяк из большого бокала, прислушался к голосам, раздавшимся в прихожей.
— Кажется, здесь, — громко сказал Бруно, пропуская мимо себя Манфреда и Крейзиса. — Проходите пожалуйста.
— О-о! Вот это сюрприз, — потирая ладони, воскликнул Освальд. — Так встречают настоящих друзей. — Он по-свойски схватил с блюда ломоть лососины и, жуя, забубнил с набитым ртом: — Мы по дороге все прикинули. Главное, нагнать побольше страха, и обязательно кто-нибудь проболтается. Я убежден, что они где-то здесь.
Крейзис мимоходом наполнил было бокал, но Манфред недовольно бросил:
— Потом. Не люблю эти пьяные оргии… когда в темноте стреляют друг в друга. Пойдем, Рихард, пора. Ты лучше знаешь поселок и окрестности.
Рихард опустил голову, дрожащими пальцами стал расправлять на скатерти складку.
— Извини, Манфред, но я, кажется, нездоров. — Лосберг едва ворочал языком.
Только теперь Зингрубер обратил внимание, что хозяин дома неестественно бледен.
— Что с тобой? — удивленно спросил он.
— Не знаю. Но я…
— Да он же пьян, — догадался, наконец, Крейзис. — Вдребезги.
— Когда ты успел? — Манфред озадаченно смотрел на друга. — Совсем недавно мы с тобой разговаривали и ты был совершенно трезв.
— Он же специально… — начал было Крейзис, но Зингрубер предупреждающе поднял руку и обернулся к Бруно — тот с интересом наблюдал за происходящим.
— Скажите, любезнейший, обер-лейтенанту, пусть начинают. Мы сейчас придем. — И когда за полицаем захлопнулась дверь, обернулся к Лосбергу. — Что все это значит, Рихард?
— Слушай, — подскочил к нему Крейзис, — ты брось свои сентименты и запоздалые раскаяния… На сцене родного поселка. Лебедь нашелся! — Освальд для убедительности помахал воображаемыми крыльями.
— Пошел ты, знаешь куда? — ощерился Рихард.
Крейзис помрачнел, в его маленьких глазках промелькнула угроза.
— Э-э, не годится так, приятель. Напился, как свинья, да еще…
— Сам ты свинья, — загремел Рихард. — Сам весь по уши в дерьме, и мне жизнь изгадил.
— Любопытно. Чем же я ее изгадил?
— Своими идиотскими авантюрами… «Гром и Крест»… Да если бы не ты…
— Довольно! — с металлом в голосе приказал Манфред. — Это уже не смешно. Даже для пьяного.
— А я не пьяный, — язвительно прищурился на него Рихард. — Я символ. Не понимаешь? Ты же сам окрестил меня символом, — Он вынул из кармана фотографию, подаренную ему на вокзале белобрысым парнем. — Я символ. Светлый образ родины. Для таких вот. — Он ткнул фотографию прямо в лицо Манфреду. — Вы довольны мной, господин майор? Или еще чего изволите?
И вдруг захлебнулся — Зингрубер с силой выплеснул на него воду из вазы вместе с цветами. Ошеломленный, мокрый, облепленный ошметками листьев, Рихард беспомощно топтался на месте, удивленно разглядывая приятелей.
— Значит, так, — спокойно сказал Манфред, ставя вазу на место и вытирая руки. — Ты нам ничего не говорил, мы ничего не слышали. Так, Освальд?
— Не знаю, не знаю, — уклончиво отрезал тот. Наступила неприятная пауза. Рихард, словно просыпаясь, медленно провел рукой по лицу, проговорил хрипло и униженно:
— Друзья, кажется, я действительно здорово напился. Простите меня. — Он стряхнул с пиджака листья и неуверенно двинулся к выходу.
— Лучше приведи себя в порядок, — остановил его Манфред. — Сегодня ты нас можешь только скомпрометировать. Надеюсь, твой тесть трезвый? — Он с силой распахнул дверь, обернулся. — Да не пей больше, оставь нам.
Рихард постоял посреди комнаты, заметил в руке фотографию, разорвал ее в клочья, шагнул к дивану и, как был, так и рухнул во весь рост — его колотила истерика.
Незадолго до рассвета Зента проснулась от негромкого стука в окно. Подняла голову, тревожно оглянулась на постель сына. Тот не спал — тоже прислушивался. Стук повторился, Артур откинул одеяло, спустил ноги на пол.
— Не ходи, сынок, — умоляюще прошептала Зента. — На чердак беги, спрячься.
Он знаком велел молчать, крадучись подошел к окну, замер. Ни звука. Только подвывание ветра, да сердитый рокот моря.
— Кто там? — отодвигая занавеску, спросил Банга.
— Свои, — донесся сдавленный шепот.
— Кто, свои?
За окном помолчали, затем тот же мужской голос спросил:
— Свежей рыбы не продадите?
Сердце Артура заколотилось от волнения.
— Свежая рыба в море плавает, — торопливо ответил он, распахивая окно. И отшатнулся: перед ним стоял немецкий солдат с автоматом в руках. Солдат приложил палец к губам, шепотом спросил:
— В доме есть кто чужой?
— Нет. — Артур лихорадочно пытался вспомнить, где он слышал этот голос.
— Света не зажигай. — Солдат оглянулся и, не заметив ничего подозрительного, полез на подоконник. Зента приглушенно вскрикнула. — Спокойно, мамаша, без паники. — И обернулся к Артуру: — Не узнаешь, что ли? — снял пилотку, повернул лицо к свету.
— Грикис! — ахнул Артур. — Откуда?
Банга схватил друга за плечи, хотел обнять, но тот предупредительно выставил вперед руки:
— Погоди, не замарайся.
Только теперь Артур разглядел, что лицо ночного гостя залито кровью, глаза лихорадочно блестят, мундир в нескольких местах разорван.
— Ты ранен?
— Да. Если нет бинта, дай какую-нибудь тряпку.
— Мама… — обернулся Артур к Зенте.
— Сейчас, сейчас, — женщина бросилась к своей шкатулке, вынула оттуда йод, несколько матерчатых полосок самодельных бинтов — она когда-то готовила их для Артура. — Давайте!
Грикис расстегнул мундир и женщине чуть не сделалось дурно — вся нижняя рубаха была мокрой и липкой от крови.
— Так не получится. Надо раздеться. — Помогла снять китель, разрезала ножницами рубаху.
— Быстрее, быстрее! — повторял он одно и то же. Повторял и скрипел от боли зубами, — Нам надо уходить. Пока не поздно.
— Ты знаешь, что за моим домом следят? — спросил Артур.
— Знаю, следили. Собирайся.
Зента, наконец, затянула узел, помогла ему одеться. Грикис неуверенно поднялся. Артур с сомнением покачал головой.
— Ты не сможешь идти.
— Собирайся! — упрямо повторил Грикис. — Не понимаешь, что ли? Мамаша, помогите ему.
Зента испуганно бросилась собирать сына. Через несколько минут все было готово. Артур шагнул было к матери, хотел попрощаться, но в это время в дверь громко постучали. На какую-то долю секунды все оцепенели, затем Грикис, увлекая за собой Артура, бросился в соседнюю комнату и уже оттуда шепнул Зенте:
— Откройте! — В его руках холодно блеснула сталь автомата.
Зента постояла, собралась с силами, неуверенно двинулась к двери.
— Кто там? — изменившимся от волнения голосом спросила она.
— Откройте. Это я, Марта.
— Кто? — Зента до того была удивлена, что даже забыла об опасности. — Что вам угодно? — слегка приотворяя дверь, строго спросила она.
— Артур дома? — Марта не вошла, а ворвалась в комнату.
— Что такое? — шагнула за ней обескураженная хозяйка.
— Артур!..
— Что случилось? — выходя из укрытия, спросил он.
— Артур, беги! Поселок оцеплен. Облава. Они кого-то ищут. Тебя тоже хотят арестовать.
— Откуда ты знаешь?
— Отец сказал.
Парень неуверенно оглянулся.
— Вас кто-нибудь видел? — спросил, появляясь следом за Артуром, Грикис.
Она отшатнулась от немецкого солдата, но тут же успокоилась, с удивлением признав в нем недавнего знакомого приемщика из салона «Элегант».
— Думаю, нет.
— Значит, говорите, облава?
— Да. — Марта в отчаянии смотрела на мужчин. — Я не понимаю, чего вы ждете?
— Может успеем? — спросил Артур. — Я здесь каждый кустик знаю.
— Понимаешь, — неожиданно замялся Грикис, — Я не один.
— То есть?..
— Со мной раненый. Его ищут немцы. Э-э, черт!.. — он закряхтел от боли. — Я потому к тебе и приплелся — думал, поможешь… — Посмотрел на помертвевшие лица женщин, сказал иным тоном. — Ладно, где наша не пропадала, все равно уходить надо.
Шагнул было к окну, но Марта — она все время о чем-то сосредоточенно думала — преградила ему дорогу.
— Погодите. В таком состоянии вам не уйти. Да еще с раненым.
Болезненная гримаса исказила лицо Грикиса, он нетерпеливо отодвинул женщину в сторону.
Голос Марты задрожал от волнения и обиды:
— Да погодите вы!.. Единственный дом, который, возможно, не будут обыскивать, это наш дом.
— Ты с ума сошла! — воскликнул Артур.
— Другого выхода нет.
Банге стало не по себе.
— Но ты понимаешь, что будет с тобой, если они?..
— Она права, — неожиданно согласился Грикис. — Вы можете нас спрятать?
— Наверное. В подвале. Там у нас тайник.
— Прекрасно. В доме есть кто-нибудь посторонний?
— Сейчас нет.
— Хорошо. Возвращайтесь к себе и без паники. Постарайтесь, чтобы вас не заметили. Откройте окно.
Он так деловито расставлял эти «возвращайтесь, спокойно, откройте», что Артур невольно стал поддаваться его воле. Он хотел было что-то возразить, но Юрис не дал и рта раскрыть:
— Потом, Банга. За мной! — лег животом на подоконник и змеей сполз на землю.
Артур последовал за ним. Они миновали двор, выбрались за ограду. Здесь Грикис огляделся, прислушался — из поселка все явственней доносились звуки моторов, отрывистые слова команд, заливистый лай всполошенных собак, — двинулся вправо, к молодому ельнику, который маячил неподалеку в тумане. Грикису явно становилось хуже — он то и дело припадал к земле, впивался в нее ногтями, чтобы не закричать от боли. И тем не менее, Артур едва поспевал за товарищем. Его до того потрясли события этой ночи, что сейчас он был сосредоточен лишь на одном: не упустить бы ползущего впереди человека. Банга уже почти догнал Грикиса и вдруг в ужасе отпрянул в сторону — слева от него лежал Бруно. Лежал и смотрел в небо широко раскрытыми глазами. Только теперь до Артура дошел смысл выражения Грикиса: «Знаю, следили». Вот, значит, что имел в виду Юрис. Банга провел ладонью по взмокшему лбу и заспешил догонять товарища. Уже светало. Но на их счастье над землей белым покрывалом завис густой туман.
— Черт! — выругался Грикис. — Этого еще не хватало. — Он растерянно озирался по сторонам, пытаясь сообразить, куда подевался раненый. Мокрое от пота и крови лицо Юриса в предутренней серой мгле казалось страшной маской — целая гамма чувств отразилась на нем: злость, боль и отчаяние. — Я же его здесь оставил. Вот и сломанная ветка.
Им пришлось основательно пошарить вокруг, прежде чем Артур заметил лежащего в зарослях папоротника человека в немецкой офицерской форме. Увидев направленный на него ствол парабеллума, он замер, но, затем, услышав рядом с собой облегченный вздох Грикиса, успокоился. Офицер — он лежал животом вниз — словно только и ждал их появления: тяжело вздохнул, посмотрел на Юриса мутным, угасающим взглядом, хотел было что-то сказать, но голова бессильно упала на землю. Побелевшие в суставах пальцы офицера намертво вцепились в рукоятку пистолета.
— Давай. — Грикис перевернул его на спину — Артуру бросился в глаза железный крест на груди немца — помог Банге взвалить раненого на плечи, прохрипел: — Пошел!
Артур полз и ему казалось, что человек, которого он тащит на своей спине, мертв. Никаких признаков жизни — руки ледяные, дыхания не слышно. Он все чаще останавливался, жадно ловил ртом влажный воздух, но безжалостный голос Грикиса тут же подхлестывал сзади:
— Давай, давай!
К дому Озолса они добрались относительно спокойно. Уже рассвело и приходилось быть очень осторожными — таиться, пережидать. К тому же они не уходили от облавы, а возвращались в самую ее середину. Марта помогла Артуру втащить раненого в комнату, подала руку Грикису. Затравленно дыша и спотыкаясь, они пробежали в кабинет Озолса. Здесь Марта отодвинула массивное кожаное кресло, откинула край ковра — на полу едва заметно обозначился квадрат люка. Поискала глазами — чем бы подцепить? Заметила на столе ножницы. Грикис отвел ее руку, вынул нож. Р-раз! Из подполья на них пахнуло спертым воздухом склепа.
В это время под окном раздался топот кованых сапог, высокий, вибрирующий голос что-то прокричал по-немецки.
— Это мой дом, господин обер-лейтенант.
Банга узнал голос Озолса.
— Обыскать! — последовал короткий приказ.
Артур почувствовал, что его пальцы начали леденеть, как у человека, которого он притащил на своей спине.
— Быстрей! — Марта нырнула в подпол. За ней — остальные.
На первый взгляд, это был обычный погреб размером два на два, не больше. Стоял тут какой-то ящик, еще что-то — разглядывать было некогда. Марта потянула за ржавый крюк в стене — заскрипел, поддался камень, и в открывшееся отверстие стал виден еще один погреб, не больше первого.
— Давайте. — Марта помогла уложить раненого, обеими руками надавила на камень, поставила его на место.
Наверху бесцеремонно стучали прикладом в дверь. Поднявшись в кабинет, она наспех навела порядок, несколько раз глубоко вздохнула, шагнула в коридор, отодвинула засов. Грубо оттолкнув ее в сторону, в комнату ворвались солдаты.
— Почему не открываете? — в проеме двери вырос долговязый обер-лейтенант, из-за его спины выглядывало беспомощное и виноватое лицо отца.
— А в чем дело? — неожиданно для себя с вызовом спросила Марта. — С кем имею честь?
Ее тон, безукоризненная немецкая речь произвели впечатление — офицер стушевался.
— Простите, мадам, но я выполняю приказ. Каждый дом в этом поселке должен быть осмотрен.
— В том числе и дом старосты?
— Простите, мадам… — нетерпеливо повторил немец.
— Что ж, — у женщины на лице появилось брезгливое выражение, — если господин Зингрубер считает необходимым обыскивать своих друзей…
— Как вы сказали, мадам? Господин Зингрубер?
— Я сказала, что вам следовало быть осмотрительней. Не думаю, чтобы господин Зингрубер благословил ваш визит. — Она холодно взглянула на непрошеного гостя, гордо вскинула голову, круто повернулась и захлопнула за собой дверь.
Озолс со страхом и восхищением наблюдал за дочерью.
— Почему вы не сказали, что знакомы с господином Зингрубером? — недовольно засопел немец.
— Что я? — стушевался старик. — Они дружны с моим зятем, господином Лосбергом.
— Господин Лосберг ваш зять?
— Да. А это его жена.
— Ну, знаете… Вы странный человек, господин староста. Фельдфебель! — нетерпеливо крикнул офицер и, когда на пороге вырос такой же долговязый, как он сам, солдат, коротко приказал: — Осмотрите двор.
— Но мы еще не были в подвале и на чердаке, господин обер-лейтенант.
— Выполняйте!..
Фельдфебель щелкнул каблуками.
— Слушаюсь, господин обер-лейтенант.
— Извинитесь за меня перед вашей дочерью и догоняйте, — бросил офицер Озолсу, направляясь к выходу.
Она вздрогнула, когда отец на цыпочках зашел в детскую. Поспешно нагнулась над кроваткой сына, сделала вид, что поправляет одеяльце, но тут заметила, что ладони испачканы ржавчиной — инстинктивно сжала пальцы.
— Все в порядке, — тихо сказал Озолс. — Запрись и спи…
Дочь не ответила. Отец потоптался у порога, виновато посопел, хотел что-то сказать, но, вспомнив наказ офицера, безнадежно махнул рукой и заковылял к выходу. Едва за ним захлопнулась наружная дверь, Марта вышла на крыльцо, огляделась, вернулась в дом, тщательно заперлась, спустилась в погреб.
— Ну, как вы здесь? — спросила она шепотом.
— Ушли? — Прямо ей в лицо смотрел ствол автомата.
— Да.
Грикис облегченно вздохнул, опустил оружие. Они с Артуром сидели друг против друга, как бы загородив собой раненого, который лежал у стены.
— Хорошо бы водички, умираю от жажды, — умоляюще сказал Юрис.
— Сейчас принесу.
Марта провозилась с ними все утро: сделала перевязку, дала лекарство, принесла еду, воду, свечу. Артур, как мог, помогал ей. Их руки то и дело соприкасались в темноте, и он чувствовал, как дрожат ее пальцы; порой их лица оказывались в такой близости, что у него начинала кружиться голова. В эти мгновенья ему казалось, что и их ссора, и эта война, и этот подвал — всего лишь дурной сон. Вот сейчас он откроет глаза и проснется на старой мельнице. Но из этого состояния его вывел хриплый голос Грикиса:
— Вам пора уходить, — сказал он Марте.
— Да. — Она неохотно поднялась. — Не беспокойтесь, этим погребом у нас не пользуются. Отец категорически запрещает.
— А сам?
— Очень редко. Знаете, с протезом…
— На всякий случай присмотрите за ним. Чтобы не сунулся сегодня. — Юрис хотел сказать поделикатнее, а получилось грубо — отчаянно болело раненое плечо, кружилась голова, во рту отдавало горечью.
Но Марта не обиделась.
— Я понимаю, — тихо сказала она. Не волнуйтесь.
— И сами будьте осторожны.
— Хорошо.
Хозяйка ушла. Они долго сидели молча, каждый по-своему осмысливая создавшееся положение. Наконец, Артур укоризненно заметил:
— Мог бы с нею и повежливее. Как-никак она нам жизнь спасла.
Грикис неуклюже повернулся, заскрипел от боли зубами.
— Плохо? — наклонился к нему Банга.
— Боюсь, как бы тебе не пришлось нас обоих отсюда вытаскивать.
— Он немец? — не удержался Артур.
— Наш человек… Отто Грюнберг.
— Как все это случилось?
Юрис молчал — то ли ему было плохо, то ли не хотелось вспоминать — и когда Артур решил, что так и не дождется ответа, тот неторопливо заговорил:
— Он выполнял задание, мы прикрывали. Что-то у него там сорвалось. Завязалась перестрелка, его ранили, притом серьезно. Что делать? Того и гляди, помрет. А ему нельзя помирать, понимаешь? И вспомнил я, что есть здесь врач, в тюрьме у нас работал, все демократа из себя корчил. Мы к нему. Он было ни в какую. Пришлось припугнуть, естественно. Ну, сделал, что полагается, мы в машину…
— Вы были с машиной?
— Да. — Грикис сокрушенно вздохнул. — Глупость, конечно, дикая. Никогда себе не прощу. Нам бы затаиться или ползком, а мы на рожон, как бараны. Только высунулись из города — за нами погоня. Мы сюда, а здесь пост. Решили проскочить сходу — двух парней наповал, меня в плечо и в голову — хорошо хоть мозги не вышибло. Едва добрался до леса… Раненого на закорки… Как ушел, сам не понимаю.
— И ко мне? — Артур слушал друга, затаив дыхание.
— А куда было деваться? Я здесь, кроме тебя, никого не знаю.
— Я не в том смысле. Как нашел меня? Ты же не знал, где я живу.
Юрис устроился поудобнее, нехотя ответил:
— Знал.
— Откуда?
— Бывал уже здесь как-то.
Неприятная догадка промелькнула в голове у Артура.
— Проверяли меня, что ли? — с обидой спросил он.
— Ну, проверяли, не проверяли, а так, на всякий случай… Сейчас, брат, за доверчивость дорого платят. А потом, знаешь… Ты не обижайся — они и не таких обламывали.
— Но ты же не мог допустить, что я?..
— Не хотелось, конечно.
Досада жгутом сдавила Банге горло. Выходит, они считали его предателем, поэтому так долго не выходили на связь. Он вдруг потерял власть над собой и крикнул:
— А ты знаешь, что они со мной сделали?
Грикис резко толкнул его ногой.
— Ты что, спятил? Орешь, как сумасшедший. Знаю.
— Откуда?
— Какая тебе разница? Есть у нас в полиции свой человек, он и предупредил. Этот прием Спруджа знаю — психологическая обработка: мол, жизнь каждого из вас зависит только друг от друга.
— Да, он мне так и сказал: «В случае чего, заживо закопаешь и Лаймона, и мать».
— Этот гад умеет держать слово.
Артура словно окунули в холодную воду — он невольно вспомнил о матери. Что же с нею будет, если Спрудж выполнит свое обещание? Что предпринять и как выбраться из этой затхлой могилы, как увести мать от беды?
Юрис почувствовал его состояние, участливо похлопал по колену:
— Будем надеяться на лучшее. В нашем положении отчаяние страшнее пули. Думаю, Спрудж просто припугнул, я даже уверен в этом.
От его слов Артуру стало немного легче: не то, чтобы он поверил и успокоился, просто появилась хоть какая-то надежда.
— Как же ты решился сюда? Если знал, что за мной следят.
— Выхода другого не было — я бы и сам загнулся, и его погубил. На мое счастье сторож спал.
— Бруно, — невольно вырвалось у Банги.
— Что?
— Да так… Знакомый, говорю. Все меня стерег. Ты его чем, ножом?
— Ножом.
Артур молчал, потом смущенно спросил:
— Страшно убивать человека?
Грикис ответил не сразу.
— Как тебе сказать… Понимаешь, бывает так, что думать не приходится. А в общем, конечно, страшно. Слушай, ты не мог бы отодвинуться чуточку в сторону — что-то я неважно себя чувствую.
Банга нащупал в темноте руку товарища.
— Ты горишь…
— Есть маленько.
— Давай я вылезу туда, в «предбанник», а ты ложись.
— А если?..
— Не волнуйся. — Он надавил на камень — тот легко подался. — Видишь, даже не скрипит. Успею…
— На кой черт ему этот погреб, если он им не пользуется? — раздраженно сказал Грикис.
— Кажется, я догадываюсь, — рассмеялся Артур. — Это Озолс после пожара придумал. На всякий случай. Перегородил погреб пополам — и вся недолга: один для отвода глаз, другой тайник. И сундучок тут же. Я на нем сидел. В прошлый раз он чуть не сгорел.
— А-а… Крестьянский банк. Не пришло бы ему в голову пересчитать свои капиталы. Кстати, все забываю спросить: как зовут хозяйку?
— Марта.
Банга так произнес это имя, что Грикис тут же догадался:
— Это она?
— Да.
Юрис хотел еще что-то уточнить, но в это время наверху раздались грузные шаги. Половицы над головой заскрипели, сердитый громкий, мужской голос — Артур сразу узнал Озолса — кого-то отчитывал:
— У тебя на все отговорки. Тебе дай волю, и сам в водке утонешь, и скотину уморишь.
Другой, неуверенный голос — Артур мог только догадываться, что это Петерис — едва слышно что-то бубнил в оправдание, но хозяин резко оборвал:
—Ладно, хватит языком молоть, слышали эту песню. И жену предупреди: не хотите работать — скатертью дорога.
Озолс был явно несправедлив — он знал, что Петерис добросовестный и исполнительный работник, а если когда и позволяет себе лишнюю рюмку, это никак не вредит хозяйству. Что же касается Эрны, тут ему, Озолсу, вообще было грешно раскрывать рот — этой женщине он был обязан не только своим материальным благополучием и уютом. Но сдержаться сейчас не мог: ему надо было на ком-то выместить свое раздражение. Всю ночь, как послушная собака, выполнял он команды новых хозяев, всю ночь его заставляли показывать дорогу, докапываться, доискиваться, вынюхивать, высматривать. При этом в каждом доме его встречали не просто, как собаку, а собаку порченую, от которой лучше держаться подальше. Всю ночь он копался в дерьме, заглушая голос разума и совести, убеждая себя в том, что другого выхода у него нет и иначе поступить он не может. И что же в итоге? Его, действительно как собаку, чуть не пнули под зад за то, что он не нашел и не выследил. Даже уважаемый зятек, и тот смотрел на него с какой-то барской брезгливостью. Будьте вы все прокляты, сволочи!
За окном разгорался ясный солнечный день. Бледно-голубое, без единого облачка небо сливалось на горизонте с синей гладью необычайно спокойного моря, в открытое окно врывались резкие, гортанные крики чаек, а на душе у Озолса было муторно и мерзко. Как в непогожий, слякотный февраль. Он несколько раз взволнованно проковылял из угла в угол, сердито захлопнул окно, как бы отделяя себя этим от неуместной праздности безумного мира. Начал снимать куртку. Расстегнул одну пуговицу, другую — пальцы не слушались, дрожали, — яростно рванул и пуговица отлетела, покатилась по ковру к креслу у письменного стола. Озолс невольно проводил ее взглядом и поморщился: кресло стояло не на месте, угол ковра был скомкан и испачкан. Старик стащил с себя куртку, швырнул на диван, медленно опустился на колени, отогнул край ковра: да, кто-то недавно поднимал крышку люка, на ней виднелись свежие царапины. Раздражение нахлынуло с новой силой. Тут же к нему добавился испуг — Озолс заметил распахнутое окно.
— Эрна! — грозно позвал он, — поднимаясь с пола.
Женщина вошла в кабинет и, вытирая руки о передник, угрюмо уставилась на хозяина.
— Кто сюда входил? — свистящим шепотом спросил Озолс.
Эрна перевела взгляд на крышку погреба, не понимая, о чем ее спрашивают.
— Кто открывал окно? — Озолс сверлил работницу взглядом.
— Не знаю.
— Не знаешь? А это что? — он показал пальцем на испачканный ковер.
Женщина смутилась.
— Да ты что, Якоб?
Марта — она все это время стояла под дверью и все слышала — поняла, что медлить больше нельзя ни секунды, и решительно вошла в комнату.
— Эрна, будьте добры, оставьте нас вдвоем.
Само появление дочери, тон, которым она заговорила, озадачили Озолса. Эрна воспользовалась его замешательством, попятилась за дверь.
— Чего тебе? — хмуро спросил отец.
Марта заставила себя улыбнуться, спокойно ответила:
— Ничего особенного. Просто я не хочу, чтобы ты незаслуженно обижал человека. Это я открывала окно и испачкала ковер.
— Зачем?
— Было душно.
— Кому?
Марта смутилась, и это усилило подозрения отца. Он нахмурился.
— Кто лазил в погреб?
— Никто.
— А это? — он показал на поцарапанную крышку люка.
Марта не ответила.
— Та-ак, — хрипло протянул старик и вынул из кармана перочинный нож. — Поглядим.
Артур поспешно скользнул на место, задвинул за собой камень. Грикис протянул ему пистолет, шепотом предупредил:
— Тихо.
Теперь, когда они замуровались в своем склепе, голоса сверху были едва слышны. Между тем Озолс раскрыл нож и уже намеревался поднять крышку, когда Марта неожиданно резко сказала:
— Не надо, отец.
Тот посмотрел на дочь снизу вверх, удивленно спросил:
— Что?
— Я говорю, туда нельзя.
И тон, которым она это произнесла — холодный, повелительный, и сам вид — отчужденный, непримиримый — глубоко поразили Озолса: он никогда не видел Марту такой. Старик не представлял, что она может быть чужой и властной. И вдруг уже не робкая догадка, а страшное подозрение заползло ему в душу: Озолс разогнулся, машинально сложил нож, глянул на дочь, втайне надеясь прочесть в ее глазах хоть что-то утешительное. Но чем пристальней всматривался в ее лицо, тем явственней убеждался: свершилось самое худшее. У него подкосились ноги.
— Ты соображаешь, что это значит? — едва слышно спросил он.
Марта не смутилась, не испугалась, не опустила головы — смотрела открыто, с вызовом.
— Не беспокойся, отец. Все будет в порядке.
Озолсу показалось, что он теряет рассудок. Если до этого хоть какая-то надежда, пусть самая эфемерная, но все же теплилась в его душе, то теперь сомнений не оставалось: в дом пришла беда — гибельная, неумолимая. Уже не владея собой, он крикнул:
— Ненормальная!
Если бы Марта хоть что-то ответила, пусть даже надерзила, и то он среагировал бы по-иному. Но она не шелохнулась, не захотела объясниться, не попыталась успокоить старого человека — стояла с закаменевшим лицом посреди комнаты и смотрела на отца пустым, отсутствующим взглядом. Озолс вдруг с особой остротой понял главное: надо спасать и себя и эту дурочку с ребенком, пока не поздно. Бросился к дивану, рывком натянул куртку, лихорадочно забубнил:
— Ну, нет, извините. Я не хочу совать голову в петлю. — Он шагнул было к выходу, но Марта решительно преградила ему дорогу.
— Погоди, отец. Не делай глупостей. Здесь не только твоя голова.
— Что?..
— Успокойся. Ты прекрасно знаешь, что другого выхода у меня не было.
— Какого выхода? О чем ты говоришь? — Озолс затравленно оглянулся, слегка приоткрыл дверь — не подслушивает ли кто, понизил голос до шепота: — Они повесят всех, без разбора.
Сказал, и сам ужаснулся своему предположению: конечно, повесят, на кой черт им сдался такой староста? Он грубо оттолкнул Марту, намереваясь пройти мимо, но она успела схватить его за рукав куртки.
— Погоди. Ты что, не понимаешь, как он попал в погреб? Это я его спрятала.
Озолс попятился, обессиленно опустился на диван — его лицо из бледного стало землисто-серым, мешки под глазами обвисли, зрачки заледенели.
— Что ты со мной делаешь, Марта? — губы старика нервно подрагивали.
— Ничего страшного, отец, обойдется. Ночью они… он уйдет. — Она испуганно посмотрела на родителя, но Озолс, раздавленный свалившимся на него несчастьем, не заметил ее оговорки. Марта облегченно вздохнула: — Потерпи до ночи.
— Как до ночи? Пусть убирается сейчас же, немедленно. Слышишь?
— Куда?
— А уж это не мое дело. И чтобы я его больше не видел и не слышал.
— Хорошо, отец, — неожиданно спокойно согласилась она. — Я сейчас выведу его на крыльцо. Что нам, действительно, скрывать?
Он опустил голову, обхватил ее руками и обреченно сказал:
— Делай, как знаешь.
Этот день для всех — и для сидящих в погребе, и для Марты с ее отцом — оказался непомерно долгим и тягостным. Озолс — он так и не прилег после бессонной ночи — слонялся как неприкаянный по двору, то и дело вынимал карманные часы, затем переводил взгляд на солнце, сердито морщился и покрикивал на всех, кто попадался под руку. Наконец, не выдержал и приказал Петерису запрягать.
— Ты надолго, отец? — как ни в чем не бывало спросила Марта.
Он зло взглянул на нее из-под полуопущенных век, многозначительно буркнул:
— До ночи. Надеюсь, управишься.
Однако уехать Озолсу не удалось. Он уже взгромоздился на повозку, уже приказал Петерису трогать, как вдруг прибежал Аболтиньш и, поблескивая своими недобрыми, рыженькими глазками, не без злорадства сообщил, что господина старосту вызывают в комендатуру. С некоторых пор бывший трактирщик называл Озолса не иначе, как господином старостой. И делал это с такой тонкой издевочкой, что тому стоило немалых усилий сдержаться и не наброситься на обидчика с кулаками.
— Что им там понадобилось? — скрывая за раздражением тревогу, спросил он.
Аболтиньш снисходительно усмехнулся, смерил старого чудака презрительным взглядом, нехотя ответил:
— Соседку вашу допрашивать будут. Сынок-то ночью тю-тю… Испарился.
Озолс побледнел, медленно слез с повозки — колени дрожали. Вот оно, начинается. Сегодня взяли Зенту, завтра могут взять и его. Ниточка тоненькая — того и гляди оборвется. Понимая бессмысленность в данной ситуации каких-либо слов, он тем не менее спросил:
— А я здесь при чем?
Аболтиньш ощерился, заговорщицки подмигнул:
— Ну, как же? Кому, как не вам лучше знать своих соседей? Можно сказать, всю жизнь в друзьях ходили.
Озолс растерялся, беспомощно обернулся к дочери — Марта стояла неподалеку и все слышала. На мгновение их взгляды встретились.
— Переоденься, отец, — спокойно сказала она. — В этой куртке неудобно.
Озолс обреченно вздохнул, покорно поплелся за ней к дому, но, как только вошел в коридор, обессиленно привалился к стене.
— Что я тебе говорил? — горячечным шепотом спросил он. — Дождались?
— Ничего страшного. — Дочь нежно погладила его по руке. — Только держись.
— А если она не выдержит?
— Выдержит, отец, она выдержит. Так же, как и ты.
— Нет, это конец. — Крупная слеза поползла по щеке старика.
— Отец! — Марта повысила голос. — Возьми себя в руки. Не забывай, у тебя есть внук.
Он смахнул слезу, несколько секунд разглядывал дочь, словно впервые видел, оттолкнулся от стены, устало сказал:
— Давай пиджак.
ГЛАВА 15
Зенту допрашивали долго и с пристрастием, но добиться ничего не могли. Она упорно стояла на своем: ночью приходили немецкие солдаты и увели сына. Какие солдаты? Она не знает. Как выглядели? Не заметила — было темно. На каком языке разговаривали? Естественно, на немецком. Спрудж, который вел допрос, — долговязый обер-лейтенант, ночной знакомый Озолса, лишь наблюдал со стороны — никак не мог подобрать нужной отмычки. Никакие доводы, никакие увещевания не помогли. Когда же дошло до угроз, женщина и вовсе замкнулась. Ее били методично, со знанием дела, Зента кричала, молила о пощаде, теряла сознание. Ее отливали, допрашивали и снова били. Безрезультатно.
Лосберг — он присутствовал лишь в начале допроса — сослался на недомогание и отправился к себе на дачу. Его вызвался проводить Крейзис, ушел и больше не вернулся. Манфред уехал в Ригу, Озолс тоже хотел увильнуть, однако на него прикрикнули, и он вынужден был остаться до конца. Аболтиньш же, напротив, так рьяно принялся помогать, словно всю жизнь только и занимался кровавым, мясницким делом. Даже видавший виды Спрудж не без любопытства поглядывал на добровольного помощника.
Бесстрастно наблюдал за всем происходящим немец — его аскетичное, щедро усыпанное веснушками лицо, пустые, бесцветные глаза и тонкие, почти бескровные губы ничего, кроме презрительного снисхождения, не выражали. Все шло именно так, как и должно было идти: пауки съедали свою жертву, и ему не надо было ни во что вмешиваться. Циглер прекрасно знал с самого начала, что затея с арестом и допросом матери, сколько бы ни старались ее земляки, бессмысленна — мать ни за что не предаст сына. Но разве дело в этом? Главное — причащение кровью, приобщение к святому огню, который так или иначе, рано или поздно испепелит скверну в душах всех этих жалких людей, сделает их достойными помощниками великого германского национального движения.
Он с интересом наблюдал такие разные и несовместимые биологически и нравственно особи. Спрудж — бесспорно дельный, высокой квалификации работник. Но, к несчастью, знающий изнанку жизни. Испорчен ею до такой степени цинизма, что в случае чего предаст, не задумываясь, и станет работать на кого угодно. Аболтиньш — прекрасный экземпляр. Правда, пока несколько вульгарен в своей жестокости. Но если остепенить и выдрессировать, может быть весьма и весьма полезен. Озолс типичное стадо. Этого надо скорее в стойло, привязать к кормушке, пригрозить хлыстом, и все будет в порядке. Что же касается женщины, тут ничего не поделаешь — несчастное существо. Ее неудача состоит в том, что всякое сопротивление должно быть подавлено в самом зародыше. Немедленно и беспощадно.
Озолсу казалось, что он сходит с ума: его не заставляли ни допрашивать, ни пытать, к нему не обращались даже с просьбами. Но всякий раз, встречаясь с умоляющим, затравленным взглядом Зенты, он сам едва не вскрикивал от боли. Мысли в голове путались, перед главами расплывались красные круги, и он проваливался в какой-то страшный, наркотический сон, из которого время от времени его выводил очередной душераздирающий вопль женщины. Встрепенувшись, старик начинал озираться, с удивлением отмечал, что за окном все то же ласковое солнце, где-то рядом плещется море, кричат чайки, и тут же возвращался в полубессознательное состояние. А люди, говорившие на его родном языке, продолжали вершить что-то страшное, непотребное. Когда Аболтиньш со всего маху ударил Зенту кулаком в лицо и она с кровавой пеной на губах мешком свалилась на пол, он, наконец, не выдержал, и зажав рукой рот, выскочил наружу — никогда еще, даже с самого сильного похмелья его так не выворачивало. Однако страшнее блевотины давил страх: а что, если Зента признается? На мгновение он представил себя на ее месте, конвульсивно дернулся и стал медленно оседать на землю — могли сбыться самые худшие предположения.
Но Зента, как ни изощрялись ее мучители, так ничего и не сказала. Впрочем, женщину довели до такого состояния, что и говорить-то она уже не могла. Вконец раздосадованный Спрудж обескураженно посмотрел на обер-лейтенанта: ну что, мол, прикажете делать с этаким чудовищем?
— Хватит, — неожиданно сказал немец. — Мы напрасно теряем время.
Спрудж принял его слова как упрек в свой адрес, неуверенно пробормотал:
— Может, она и впрямь ничего не знает.
— Может быть, — холодно согласился офицер. — Зовите этого… вашего старосту. Надо еще раз осмотреть каждый метр в округе — они не могли далеко уйти.
— А как быть с ней? — с ненавистью сплевывая себе под ноги, спросил трактирщик. — Может быть?..
Немец недовольно поморщился: ему всегда претила ослепленная звериной яростью ненависть. Лично он никогда не испытывал подобного чувства. Доводилось и пытать, и расстреливать, но всякий раз он делал это без лишних эмоций и восторгов. Скорее, даже с сожалением: человека отправляют к праотцам, а он так и не понял великого смысла национал-социализма или же просто был его недостоин. Циглер всегда сознавал себя ассенизатором, призванным очищать человеческое общество от дерьма во имя самого же человечества. Делал он это добросовестно, как высокоорганизованное существо. Убежденно и ответственно. Но никогда не испытывал удовольствия. Если соображения высшего порядка требовали кого-то ликвидировать, он стрелял без дрожи и колебания — работа есть работа. Однако считал, что радоваться и хмелеть при виде крови в высшей степени безнравственно. Офицер брезгливо посмотрел на Аболтиньша, коротко бросил:
— Задержите, там посмотрим.
Они просидели в погребе до самой ночи, и Артур сделал для себя неожиданное открытие — мрак не имеет ни вкуса, ни цвета. Он — никакой. Ты растворяешься в нем и перестаешь существовать. Нет, ты еще двигаешься, размышляешь, но уже не так, как в прошлом. Словно бы нырнул с борта и чем дальше уходишь в глубину, тем отчетливее сознаешь свою безысходность. Он потерял счет времени, потому что секунды тоже стали необычными — долгими и непослушными. Поначалу Грикис периодически щелкал зажигалкой — в эти мгновения Артур невольно подавался вперед, но оказывалось, что вместо ожидаемого часа, прошло всего десять минут. Он бессильно приваливался к осклизлой стене погреба и возвращался к своим невеселым раздумьям: допустим, они выберутся из подвала. А что дальше? С раненым на руках, которого так разыскивают немцы? А Юрис? Сможет ли он идти? Грикису становилось все хуже. Он реже щелкал зажигалкой, неохотно отвечал на вопросы, под конец и вовсе затих: то ли уснул, то ли впал в беспамятство. Банга испуганно прислушивался к его тяжелому, прерывистому дыханию, смачивал водой полотенце, прикладывал к воспаленному лбу товарища, но тревожить не решался, сознавая свое бессилие.
Отто Грюнберг же, напротив, стал проявлять признаки жизни: постанывал, скрипел зубами, бредил. И вдруг, Артур не смог бы объяснить почему, но он безошибочно почувствовал — Отто пришел в себя и открыл глаза. Банга готов был поклясться, что видит устремленный на него взгляд. Раздался едва уловимый шорох, раненый сел. Артур напрягся, затаил дыхание, ладони сделались влажными и горячими. Он сглотнул тошнотный комок, облизнул пересохшие губы, хотел подать голос, но его опередил Грикис:
— Я здесь, не волнуйтесь, — Юрис сказал эту фразу по-латышски, но тут же, спохватившись, перевел на русский.
— Где мы? — раненый тоже спросил по-русски.
«Вон оно что», — догадался, наконец, Банга — он жадно вслушивался в каждое слово.
— В подвале.
— Давно?
— Черт его знает. — Грикис щелкнул зажигалкой, и Артур невольно вздрогнул при виде этих двух людей. У них были зеленые, безжизненные лица, опухшие, искусанные до крови губы, глаза светились лихорадочным блеском. — Около суток, — поднося часы к глазам, сказал Юрис. — Наверху облава.
— Как его зовут?
Артур догадался, что спрашивают о нем.
— Артур Банга.
— Тот самый?
— Да.
— Что с ребятами?
Грикис не ответил.
— Пакет у тебя?
— У меня.
— Ты ранен?
— Да.
— Идти сможешь?
— Вряд ли.
— Что будем делать?
— Не знаю, дождемся ночи.
Артур обреченно подумал: видно, и вправду дело дрянь, если Юрис не сможет идти. Но это было еще полбеды. Он не знал главного. Даже, если бы Грикис мог двигаться — идти было некуда. Явки в Риге раскрыты. Здесь, на побережье, тоже все провалилось. Маленькие подпольные, оставленные для работы в тылу врага группки почти сразу же перестали существовать. Конечно, не будь они ранены и обессилены, они нашли бы какое-то решение: отсиделись бы в лесу, двинулись к линии фронта. Но сейчас, на грани жизни и смерти, в самом центре облавы, под ненадежной крышей, эти трое вряд ли могли на что-то надеяться.
Грикис вновь щелкнул зажигалкой, посмотрел на часы, непристойно выругался.
— Спокойно, — негромко и вместе с тем властно приказал «немец» — так Артур окрестил его про себя.
Юрис дунул на огонь, притих. Они не обмолвились больше ни словом до тех пор, пока не пришла Марта.
— Живы? — отодвигая камень, спросила она. — Извините, раньше никак не могла.
Мужчины задвигались, оживились — таким долгожданным и желанным было ее появление. Артур с новой силой ощутил: никого у него не было в жизни дороже. Разве только мать… От этой мысли стало еще страшнее. Не за себя — за нее.
— Ну что там? — обыденно, без тени волнения спросил Грюнберг.
«Ох и нервы у человека», — позавидовал Банга.
— Не знаю. — Марта зажгла свечу и в слабом отблеске ее лицо казалось по-детски растерянным и виноватым. — Облава будто бы кончилась, но немцы еще не ушли.
— Посторонние в доме есть? — Только сейчас до Артура дошло, что Отто и Марта разговаривали друг с другом по-немецки.
— Теперь уже нет. Я потому и ждала.
— Что будем делать? — Отто попытался приподняться, но тут же со стоном бессильно рухнул на пол.
Грикис выругался.
— В том-то и дело, — с глухой яростью сказал он. — И я сегодня не ходок.
Несколько минут слышалось тяжелое дыхание раненых да слабое потрескивание свечи. Неожиданно заговорил Артур:
— И все-таки надо уходить. Здесь оставаться нельзя. Рискуем мы не только собой.
— Что же ты предлагаешь? — раздраженно повысил голос Юрис. — Выбраться из погреба и попросить, чтобы подали к подъезду санитарную машину?
Артур не обиделся, спокойно ответил:
— Есть у меня одно местечко, я там после армии отсиживался. Глухомань и люди отличные. Если бы добраться…
— Далеко отсюда? — превозмогая боль, спросил офицер.
— Километров сорок, сорок пять.
Грикис насмешливо присвистнул: ничего, мол, не скажешь — остроумное предложение, но рыбак остался невозмутим.
— Добраться бы до реки, — вслух размышлял он, — да знать бы, что лодка на месте.
— Что за лодка? — так, между прочим, полюбопытствовал Отто.
— Для себя прятал, на всякий случай.
— А до реки далеко?
— Километра два, не больше.
— И что, прямо по воде до самого места?
Артур улыбнулся.
— Нет, конечно. Но там уж что-то придумали бы.
— Это верно, — согласился Грюнберг.
— Что верно? — снова вскипел Грикис. — Ты сначала из погреба выберись. Два километра, — передразнил он Артура. — По воздуху полетим или под землей продеремся?
— Да, тут есть над чем поразмыслить, — Отто все внимательней присматривался к парню. — Говоришь, глухомань и люди отличные?
Артур молча кивнул.
— Тогда сделаем вот что, — неожиданно заключил раненый, пойдешь один, разведаешь, приглядишься. Если сможешь, заберешь нас отсюда, не сможешь… Как говорится, спасибо и на том.
— Я вернусь, — взволнованно сказал Банга.
— Не сомневаюсь, — слабо улыбнулся Отто. — Только будь осторожен. Надеюсь, вы поможете ему уйти и вернуться? — обратился он к Марте и неловко пошутил: — У вас только две возможности избавиться от нас: или выдать немцам, или помочь убраться.
Ее ресницы обиженно задрожали, Отто сокрушенно вздохнул:
— И положение дурацкое, и шутки дурацкие. Уж простите нас, солдафонов. Мы утром слышали ваш разговор с отцом. Надеюсь, у вас хватит сил продержаться еще сутки? Хотя бы сутки. Если он не вернется, мы не станем злоупотреблять гостеприимством, клянусь честью.
— Ну что вы… — смутилась Марта.
— То, что вы для нас сделали, это… — раненый умолк на полуслове, до крови закусив губу, как ни старался он овладеть собой, сдержаться уже не мог: короткие, надсадные стоны вырвались из его груди. По всей видимости, боль стала нестерпимой, и трудно было понять, как он крепился до сих пор.
Артур беспокойно поднял голову, с тревогой вслушиваясь в зловещую тишину ночи. Мурашки побежали по спине: что если и наверху слышно, что творится здесь, в подвале? Понимает ли Марта, какой подвергается опасности? Он предостерегающе обвел взглядом товарищей, решительно поднялся:
— Надо действовать, а не ждать у моря погоды.
Грикис не ответил. Он смочил в воде полотенце и приложил ко лбу раненого. Наконец, Отто с усилием открыл глаза, сказал слабым голосом:
— Действуй, парень. — И виновато добавил, обращаясь к Марте: — Извините, больше шуметь не будем. Помирать тоже не будем. Во всяком случае, пока он не вернется.
Помирать, действительно, было нельзя. Это значило прежде всего завалить дело и погубить ни в чем не повинных людей. Никогда еще обер-лейтенант Отто Грюнберг, он же майор советской разведки Александр Ефимов, не оказывался в таком дурацком и безвыходном положении. Всякое случалось в его жизни: приходилось выбираться из невероятных ситуаций, но сейчас обстоятельства складывались так, что рассчитывать можно было только на чудо. Неприятно защемило сердце: помрет Александр Ефимов в этом подвале, и никто не узнает, как погиб разведчик. Нет, помирать было нельзя…
Артур с Мартой выбрались из погреба, тщательно замаскировали вход в подполье, помня утреннюю оплошность; на минуту замерли, вслушиваясь в ночь. Кажется, ничего подозрительного: так, отдаленный рокот моторов, редкий лай собак, да старая липа за окном, цепляясь веткой о стекло, издавала резкий, вибрирующий звук, напоминавший повизгивание пилы. Благополучно добрались до веранды.
— Значит, так, — не отпуская ее руки, шепотом сказал Банга, — сигнал: занавеска в твоей комнате задернута — опасно. Запомнишь?
— А ты сумеешь различить? Ночью…
— Ничего, занавеска белая, ее далеко видно.
— Артур, — Марта придвинулась к нему вплотную, — я давно хотела тебе сказать… — И вдруг замерла на полуслове — за дверью раздались тяжелые шаги, послышались громкие мужские голоса. Марта угадала в одном из них голос Крейзиса.
— Какого черта? Я ног под собой не чувствую, — раздраженно бубнил он. — Тем более возвращаться сюда же. Ты же слышал, что сказал Зингрубер? Сбор у твоего тестя.
— Но это через час, не раньше. Мы бы успели еще обсушиться и по рюмке пропустить, — неуверенно возразил Лосберг.
Крейзис рассмеялся.
— Не понимаю я тебя, Рихард. Какого черта ты с ней цацкаешься? После всего, что она тебе преподнесла.
— Что ты имеешь в виду? — голос Лосберга предательски дрогнул.
— Ладно, Рихард, нам ли притворяться? Да я бы на твоем месте…
— Прости, но ты пока не на моем месте.
— И слава богу. В общем, ты как хочешь, а я отсюда ни шагу. В конце концов я иду не к ней, а к старосте этого поселка.
Марта дрожащими пальцами, миллиметр за миллиметром, бесшумно опустила крючок обратно в кольцо. И в ту же секунду дверь сильно дернулась.
— Право, Освальд, пойдем ко мне. Человек спит…
Как Лосберг ненавидел себя в эти минуты! Вместо того чтобы осадить нахала, напомнить ему о правилах приличия — в конце концов они рвались не к какой-то девке, а к его собственной жене — он вялым, словно вареным языком, произносил пустые, необязательные слова.
— Ничего, проснется. — Крейзис сердито вымещал приятелю за недавний дурацкий разговор.
Они возвращались из комендатуры, где провели остаток дня, присутствуя на бесконечных допросах задержанных. Шли усталые, злые, крайне недовольные друг другом. Крейзис никак не мог забыть оскорблений, неожиданно брошенных Рихардом ему в лицо, Лосберг, в свою очередь, болезненно переживал и события прошлой ночи, и то, что его унизили до положения рядовой ищейки. Хуже того, ему дали недвусмысленно понять: если он не будет беспрекословно подчиняться, его накажут, строго и незамедлительно. Неподалеку от дома Озолса они остановились покурить. Раздираемый противоречиями, снедаемый стыдом и ненавистью (Рихарду казалось, что ошметки от цветов навсегда впечатались ему в физиономию), он не выдержал, спросил напрямик:
— Ты хорошо спишь по ночам? Тебя не мучают кошмары?
Освальд, прежде чем ответить, несколько раз глубоко затянулся, презрительно сплюнул под ноги.
— Бессонницей страдают люди физически и духовно неполноценные. Меня, в отличие от некоторых, из постели не вышвыривают и с психикой у меня тоже все в порядке. — Он не очень деликатничал — не выбирал выражений.
У Лосберга все заклокотало от ярости.
— А совесть? — спросил он с придыханием. — Красивые разговоры о родине, национальном достоинстве, народе? Или это как смена погоды?
Крейзис усмехнулся:
— Так, понятно. Хмель выветрился, мысли задержались. Значит, верна пословица: что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Что ж, отвечу тебе со всей откровенностью: я никогда еще не ощущал себя настолько человеком, как сейчас. Да, именно человеком. Потому что никакой другой нации на земле не было и не будет. Кроме одной, — ариец. Настоящий, сильный, достойный жизни. Все остальное — скот, который или служит человеку, или должен быть уничтожен.
— Разумеется, при условии, что определять, кто скот, а кто человек, будешь ты? Не так ли? — съязвил Рихард.
Крейзис не возмутился.
— Твоя ирония неуместна, — спокойно ответил он. — Ты прекрасно знаешь, что это право никому не преподносят. Его берут. Так уж устроено природой и определено богом — выживает сильный, погибает недостойный.
— Ты говоришь серьезно или пришла пора менять убеждения?
Крейзис поежился, словно ему плеснули холодной воды за шиворот.
— А что тебе показалось неестественным в моих рассуждениях? Ты отрицаешь закон борьбы за существование?
— Нет, не отрицаю. Но я знаю и другое: сама природа и ее творец устроили так, что на земле существуют добро и зло, большое и малое, сильное и слабое. Все живет, приспосабливается… Козявка, зверь, человек, государство… Есть державы побогаче, есть победнее, посильнее, послабее — всякие. Если ты упомянул бога, то уж будь последовательным до конца. Значит, всевышнему так угодно.
— Нет, не угодно, — неожиданно резко сказал Крейзис. — Потому он и ниспослал людям Гитлера. Терпение всевышнего истощилось, и он выбрал на земле самого достойного. Что смотришь на меня? Думаешь, шучу? Ничего подобного. Я еще никогда ни во что так не верил. Он с силой бросил окурок, придавил ногой. Из-под каблука полетели искры. Передразнил Рихарда: — Побогаче, победнее, побольше, поменьше… Запомни, есть одна держава — Земля. И одна нация на ней — ариец. Властелин. Именно так угодно всевышнему.
— Немцев для этой миссии тоже выбрал сам бог? — с упрямым раздражением тянул свою линию Рихард.
— Конечно, — невозмутимо ответил Освальд. — Неужели ты думаешь, что все случайно?
— Что ж, в твоем лице они нашли достойного единомышленника, — сокрушенно сказал Лосберг.
Крейзис достал новую сигарету, прикурил, хрипло спросил:
— Интересно, а чего хотел бы ты? Лично ты?
— Я? — Рихард помолчал, в раздумье ответил: — Я хотел бы жить, как хочу. На своей земле и со своими. Никого не трогать, но и ко мне чтоб не лезли.
Адвокат криво усмехнулся, сказал с неприкрытым сарказмом и угрозой:
— Мой дом, моя корова… Коптить небо и плодить таких же, как ты сам. Мне искренне жаль всякого, кто не понимает очевидных вещей. — Он круто повернулся и зашагал к дому старосты.
Нельзя было медлить ни секунды. Увлекая за собой Марту, Банга вернулся в комнату Озолса, распахнул окно, осторожно огляделся.
— Значит, как договорились: занавеска, хорошо?
— Хорошо, — упавшим голосом сказала она. Вдруг крепко стиснула локоть Артура, повернула его к себе, крепко поцеловала в губы. — Иди!
Растерявшись от неожиданности, он схватил ее за плечи, но в это время в дверь постучали. Послышался виноватый голос Рихарда:
— Марта, ты спишь?
Она на мгновение прижалась лбом к щеке Артура и с силой подтолкнула его к подоконнику:
— Беги! — одними губами приказала она.
Он спрыгнул на землю и тут же услышал, как заскрипела калитка, яркий свет электрических фонариков заскользил по двору. Артур метнулся к забору в густую тень зарослей, осторожно двинулся вдоль них, намереваясь как можно скорее убраться подальше от голосов. Наткнулся на высокую поленницу, осторожно выглянул из-за нее и обмер — неподалеку, по ту сторону забора, стоял мотоцикл с коляской. Возле него дежурили двое эсэсовцев. Банга растерянно оглянулся: возвращаться было уже нельзя, но и о том, чтобы перемахнуть через забор, тоже не могло быть речи. Оставалось одно. Он выждал момент и, пригнувшись к самой земле, бросился в глубь двора, к амбарам. У приоткрытой двери конюшни постоял, прислушался. Фыркнула спросонья лошадь, переступила по доскам — и снова тихо. Он постоял еще секунду и бесшумно скользнул внутрь. Замер, переводя дух.
— А я все гляжу — залетит пташка или мимо? — раздался над ухом чей-то негромкий ленивый голос.
Банга испуганно отшатнулся, пригляделся:
— Ты, что ли, Петерис?
Кучер пьяно хихикнул:
— Залетел, залетел… Не бывать бы гвоздю в стене, да молоток загнал. — Он протянул Артуру бутылку, стал между ним и дверью. — Хлебни-ка, составь компанию.
— Иди ты… — угрюмо огрызнулся парень, лихорадочно соображая, как выбраться из дурацкой западни. Он мог предположить что угодно, только не это. — Ну не дури, Петерис… Отойди, говорю. В другой раз выпьем.
— В другой раз — там выпьешь, мрачно обронил кучер, ткнув пальцем в потолок. И посмотрел вдруг из темноты трезвыми, хмурыми глазами. — Куда лезешь, дурья башка? На пулю наскочить хочешь? Их же там сейчас — как блох в овчине.
Банга недоверчиво слушал. Бесспорно одно — Петерис не пьян. Но и решить, что на уме у этого человека, было трудно.
— Потому-то мне лучше не задерживаться, — попробовал пошутить Артур.
— Э-э, голубь, это тебе не к бабам в окна сигать, — зашелся Петерис беззвучным хохотом. — Ха-арощ начальник. А еще в клубе… Про разные там морали нам доклады докладывал. Марцису мозги чистил — насчет чужих баб. Как же так получается, а? Думаешь, я не видел, как ты из окошка выпорхнул?
Артур угрюмо молчал. До тошноты противно было сознавать, что его, да и не только его жизнь сейчас зависела от этого пьянчуги. Надо было на что-то решиться — и он угрожающе сказал:
— Вот что, Петерис… Ты, конечно, можешь меня выдать, но запомни — первая пуля твоя. — И для убедительности вынул из кармана пистолет Грикиса.
— Эх, начальник, — досадливо крякнул Петерис. — Ни черта ты так и не понял. Думаешь, Петерис навоз? Залил водкой глаза и ни хрена вокруг не видит. Я твоих дел, парень, не знаю — ни бабских, ни других каких прочих. Они мне ни к чему. И худого я от тебя никогда не видел… Потому за должок старый рассчитаться и желаю. Жизнь она, знаешь, какая? Сегодня есть — завтра нету. Так и уйдешь, не покаявшись.
— За какой должок? — насторожился Банга.
— Есть должок, — крякнул кучер и вдруг тоскливо попросил: — Хлебнул бы ты маленько, а? А то больно трезвый, скучно с тобой… Дом-то у хозяина горел, помнишь?
— Ну. — Артур для вида приложился к бутылке.
— Так ведь дом-то я поджег, — упавшим голосом неожиданно признался Петерис. — За Эрну рассчитывался. Болтали про них разное, да и я вроде как примечал. Ну и приревновал по пьяному делу. До того распалился — хотел обоих их сжечь. И самому, значит, чтоб… Потом все же одумался, Эрну отпер, и сам выскочил.
— Да-а, должок. Ничего, солидный, — прошептал, пораженный неожиданным признанием Артур.
— Думаешь, меня совесть не грызла? — всхлипнул Петерис, — он успел еще хлебнуть из бутылки. — Как тебя по тюрьмам мытарили. Грызть-то грызла, а показать на себя все равно кишка тонка. Ты уж того… не держи на меня зла.
— Тихо, — сказал вдруг Артур и невольно отступил в глубь конюшни — неподалеку раздались голоса.
— Сюда. — Петерис схватил его за рукав куртки и потащил в самый угол. — Ныряй.
Банга догадался, что это ларь с кормом. Он на какую-то долю секунды заколебался, затем последовал совету конюха — голоса приближались. Артур лихорадочно заработал руками, забираясь в зерно поглубже. Было слышно, как вошедший в конюшню Озолс удивленно спросил:
— Ты, что ли? Почему здесь?
Петерис забубнил в ответ что-то непонятное.
— Догадываюсь, — самодовольно рассмеялся хозяин, — Эрна выгнала? Смотри, дождешься у нее. Ты здесь один? Посторонних не видел?
Тяжелые кованые сапоги затопали по конюшне, кто-то приподнял крышку ларя — Банга сжался в комок, затаил дыхание. Только бы не услышали, как стучит у него сердце. Но тот, невидимый, пошелестел наверху, поскребся, что-то скользкое прошуршало у Артура перед самым носом — уж не мышь ли? И все стихло.
Он полежал еще немного, затем осторожно приподнял голову, поднес руку к губе (ее почему-то саднило) и ощутил на ладони кровь. На губе был неглубокий порез. Припомнил, как что-то шуршало у него под носом, и только сейчас догадался — это же был штык. Неприятно засосало под ложечкой.
— Живой? — раздался сверху тихий голос Петериса. — А я грешным делом, думал — конец. Как он штыком-то… раз, раз… Ты уж полежи пока, не выбирайся, утром что-нибудь придумаем.
Петерис сдержал слово. Едва забрезжил рассвет, он загнал телегу прямо в конюшню, помог Артуру улечься на самое дно, — во дворе и поблизости было полно немцев — прикрыл парня сначала рогожей, затем присыпал навозом и беспрепятственно вывез за окраину. Даже удостоился благодарности Озолса за усердие.
Марте пришлось страшнее и сложнее. Едва она захлопнула за Артуром окно и впустила в дом Крейзиса с Лосбергом, вернулся отец с долговязым обер-лейтенантом, а вслед за ними приехал Зингрубер, сопровождаемый Спруджем. Все валились от усталости с ног и были очень раздражены. Манфред — всегда сама предупредительность и галантность — на сей раз едва удостоил Марту поклоном. Даже предложение хозяина чем-нибудь перекусить не встретило обычного энтузиазма. Один лишь Крейзис готов был приняться за трапезу, но его холодно оборвал Зингрубер:
— Прежде всего дело. Должен признаться, господа, я крайне озадачен таким поворотом событий. Больше суток беспрерывных поисков не приблизили нас к цели. Сейчас мы от нее еще дальше, чем были прошлой ночью. И в этом, господа, мне кажется, не столько вина наших доблестных солдат, сколько заслуга ваших соотечественников. Что вы скажете на это, господин Крейзис?
Бывший адвокат недовольно поежился, хмуро взглянул на немца:
— Вы спрашиваете меня как упомянутого вами соотечественника или как вашего сотрудника?
Майор яростно сверкнул на него глазами:
— Я спрашиваю вас как человека, который несет такую же ответственность за исход операции, как и все мы.
— Что ж, извольте. Полагаю, с самого начала была допущена ошибка. Мы согласились с версией, что русский скрывается где-то здесь, на побережье, и исключили другие варианты. А русскому, хоть это и кажется невероятным, все-таки удалось просочиться.
— Вот именно. И кануть как в воду, — иронично процедил Зингрубер.
— Что ж, воды здесь много. Мы напрасно не дооценили этот фактор, — невозмутимо парировал Крейзис.
— А мне кажется, мы не дооценили совсем другое, — угрожающе повторил майор. — Мы все еще слишком доверчивы.
Крейзис хотел ему возразить, но Зингрубер посмотрел на него так, что бывший адвокат счел благоразумным не развивать дискуссию.
— Господин Циглер, — обратился майор к долговязому обер-лейтенанту, — задержитесь здесь вместе е господином Спруджем. Перетряхните весь поселок от подвалов до чердаков, перепашите землю и воду, но найдите мне этого русского. Живым или мертвым. Надеюсь, господин Озолс окажет вам всяческое содействие и гостеприимство?
Сказано это было тоном, не терпящим возражений, однако Марта (она видела паническую растерянность отца, да и у самой голова кружилась от страха) все-таки решилась подать голос:
— Ради бога, господа, сделайте одолжение, — громко, почти радушно сказала она, изо всех сил стараясь подавить волнение. — Только вряд ли вам будет здесь удобно. Ребенок… Да и вообще… — Она неопределенно повела рукой. — Думаю, вилла более подходящее место. Верно, Рихард? — При этом она нежно взглянула на супруга.
Лосберг, несколько озадаченный странной переменой в ее настроении, поспешно кивнул:
— Разумеется, конечно.
Но обер-лейтенант Циглер холодно поблагодарил:
— Мы солдаты, мадам. — Он с достоинством склонил напомаженную, белобрысую голову с тонким пробором. — Тем более, что это ненадолго.
Спрудж недовольно мотнул головой, но промолчал.
Конец. Клетка захлопнулась. Оставалось ждать развязки, которая неминуемо должна была последовать. Единственно, что она могла сделать, это взглядом приструнить отца — потерянный и убитый, он держался из последних сил, затем Марта сослалась на недомогание, ушла к себе в комнату и первым делом наглухо задернула на окне занавеску. Опустилась на стул рядом с кроваткой сына, машинально поправила подушку, подоткнула одеяльце и вдруг, закрыв лицо руками, безутешно заплакала. Ей представлялось, что она снова на зыбком болоте. Одна, совсем одна. И позвать на помощь некого. Даже отца. Проклятая жизнь! Все время ее куда-то тащит по топкому болоту — чем дальше, тем страшнее. Вечно она не вольна ни в своих желаниях, ни в поступках, хочется кричать от ужаса и боли, но она не смеет даже плакать.
Кто-то подошел к двери, поскребся, Марта мгновенно преобразилась, вытерла слезы, припудрилась, поправила прическу, но не ответила. Хорошо, что она предупредительно заперла дверь на ключ.
— Марта, ты спишь? — тихо спросил Рихард.
Она затаила дыхание, и Лосберг, постояв, неохотно удалился. Сколько же все это может продолжаться? Ей до того стало невыносимо, что захотелось распахнуть окно, схватить Эдгара и бежать, чтобы спасти своего ни в чем не повинного ребенка. Бежать без оглядки, неважно куда, только бы подальше от всего, что соединяло ее с прошлым. Вместо этого она встала, прижалась лбом к стеклу и долго стояла так, вглядываясь в ночь.
До самого утра Марта не сомкнула глаз. То ей казалось, что где-то поблизости бродит Артур и вот-вот он постучит в окно, то ей мерещилось, что она отчетливо слышит, как стонут в погребе раненые. Тогда у нее от ужаса перехватывало дыхание, потому что Циглер расположился в комнате Озолса как раз над ними. Но проходило время, и все было спокойно по-прежнему. А когда взошло солнце, немного улетучились и страхи. Зато возникла другая забота: как проникнуть в погреб, чтобы предупредить раненых? Что там с ними? Догадываются ли они об опасности? Вначале ей казалось — это не составит труда: Циглер с отцом и Спруджем ушли еще на рассвете, Эрну она могла в любой момент отослать из дому, солдаты в комнаты не заходили. Но тут неожиданно возникло совсем непредвиденное препятствие — денщик Циглера. Невысокий, худенький, с высматривающими что-то глазами, он сновал по всему дому, без конца о чем-то спрашивал, докучал ей разными просьбами. И Марте, как наседке, оберегающей цыплят, казалось, что его острый лисий нос ко всему принюхивается. Вначале она еще надеялась найти способ хоть ненадолго отделаться от денщика, но когда пришло утро и наступил день, а немец по-прежнему не собирался выходить из дому, женщину стало переполнять отчаяние. Марта перебирала в уме одну комбинацию за другой, но ничего путного придумать не могла.
И все-таки случай сжалился над ней. Время шло к обеду, денщик старательно помогал хозяйке сервировать стол. По всему чувствовалось, что он знает в этом толк, и Марта невольно сделала ему комплимент.
— О-о! — расплылся в довольной улыбке немец. — Если вы когда-нибудь приедете в Гамбург и зайдете ко мне в ресторанчик, Вилли Бюхнер примет вас по-королевски. — Он отступил от стола, оценивающе осмотрел его взглядом художника, у которого не хватает красок, сокрушенно сказал: — Еще бы пару ломтиков лососины — картина была бы завершена.
И тут Марте пришла в голову спасительная мысль. Она вспомнила, что всего сутки назад Озолс доставал для Рихарда лососину, она рассказала об этом владельцу ресторана в Гамбурге, Вилли Бюхнер оживился:
— О-о! Вы так любезны. Я сейчас же пошлю кого-нибудь из солдат.
У Марты опустились руки, рушилась последняя надежда. Но отчаяние прибавило силы. Придав лицу выражение холодной любезности, она сказала:
— У нас будто бы неплохой винный погреб. К сожалению, я в этом небольшой знаток. Если вы не сочтете за труд… Извольте, я пошлю с вами Эрну.
Глаза у Вилли Бюхнера загорелись, он даже привстал на цыпочки.
— Боюсь, мадам, даже в Гамбурге мне будет трудно ответить вам таким же гостеприимством.
По ее подсчетам выходило, что денщик будет отсутствовать не меньше сорока минут. Этого было вполне достаточно, если, конечно, не помешает что-то непредвиденное. Марте повезло. Эрну она отправила вместе с Бюхнером — показать дорогу, и немец даже залоснился от удовольствия, поглядывая на аппетитную кухарку. Так что хозяйка осталась в доме одна. Она тщательно заперла входную дверь, бросилась в комнату отца, аккуратно отставила кресло, откинула край ковра — теперь комната принадлежала Циглеру и вести себя в ней приходилось особенно осторожно — спустилась в погреб, постояла, прислушалась: ни звука, ни шороха. В душе холодной волной стал растекаться панический ужас: что-то там случилось за каменной стенкой. С бьющимся сердцем потянула влажными от волнения пальцами за ржавый крюк и чуть не вскрикнула от неожиданности — на нее смотрели из темноты чьи-то невозмутимые, холодные глаза.
— Ну, как вы здесь? — с трудом приходя в себя, спросила она.
— Что там? — показал пальцем на потолок Грюнберг — это был его взгляд, так напугавший Марту.
Она коротко обрисовала положение и тяжело, словно была в чем-то виновата, вздохнула.
— Да-а, дела, — неопределенно протянул раненый. — Говорите, прямо над нами?
— И во дворе полно солдат.
— Значит, если бы мы и хотели?..
— Что вы! Даже думать нельзя.
— Выходит, по независящим от нас причинам… — начал было он, но Марта оборвала:
— Прекратите! Как вам не стыдно? Возьмите воду, еду… Что с ним? — Она показала на Грикиса.
— Неважно. Ему бы жаропонижающее и перевязку.
— Сейчас.
Она действовала быстро, расчетливо, хладнокровно, удивляясь самой себе: то ли свыклась с опасностью, то ли надоело бояться, то ли неожиданно поверила в удачу. Через пять минут, собрав все необходимое, захватив свечу, Марта спустилась в погреб. Прежде всего перевязала Грикиса. Он смотрел на нее замутненными от боли глазами, скрипел зубами и постанывал.
— По-моему, ничего страшного у вас нет, — осторожно отлепляя присохший ко лбу самодельный бинт, подбодрила она раненого. — Пуля в плече навылет. Кость, мне кажется, не задета. На голове небольшая ссадина. Полежите, и все пройдет.
— И на том спасибо, — побелевшими от боли губами прошептал Юрис. — Приятнее помереть здоровым.
— Ну-ну! — неожиданно резко прикрикнула она. — Не раскисайте!
Грикис виновато улыбнулся, благодарно погладил ей руку:
— Мы же вам обещали: до возвращения Артура ни-ни.
Марта сникла, движения рук стали вялыми, неуверенными.
— Даже не знаю, как он теперь…
— Ничего, — подал голос Отто. — Главное, занавеску преждевременно не откройте.
— Постараюсь. — Она затянула бинт на голове Юриса, повернулась к Грюнбергу. — Теперь давайте вас посмотрю.
— Сначала дайте напиться, — попросил Отто.
Бережно придерживая голову раненого, она поднесла к его губам кружку с водой. Он пил долго, жадно, не отрываясь. Потом откинулся на подушку — беспомощный, как ребенок. У него было молодое, смуглое, по-мальчишески круглое лицо и твердый, с крепко сцепленными челюстями рот. Марта склонилась над ним, разматывая бинт — раненый не дрогнул ни единым мускулом. Продолжая медленно мотать бинт, она дошла почти до самой раны. И вдруг Отто не выдержал — застонал.
— Тихо, тихо… — растерянно зашептала Марта, — Потерпите, пожалуйста. Рану надо промыть, а то загноится. — Грюнберг затих. Она потянула бинт — тот не поддавался.
— Рывком… — сипло сказал Отто.
— Что?
— Рывком, говорю, сразу, Не тяните… — с трудом шевеля губами, повторил он.
— А выдержите?
Он не ответил, только еще крепче сцепил зубы. Зажмурившись, Марта с силой рванула повязку. Раненый охнул от боли и впал в беспамятство. Марта быстро промыла самодельными тампонами рану, смазала йодом края, начала бинтовать, Отто очнулся, когда перевязка была уже почти закончена, пробормотал еле слышно:
— Какие у вас руки… мягкие.
— Да, мягкие, — чуть не заплакала она. — Представляю, что вы сейчас чувствуете.
Он слабо улыбнулся:
— Не познав страдания, не познаешь и блаженства. Даже новая жизнь рождается в муках.
— Мне пора, — заторопилась Марта. — Еда здесь, под рукой, кувшин не опрокиньте. Старайтесь не шуметь — немец как раз над вами, — напомнила она. — Свечу зажигайте в крайнем случае. — И тут же смутилась. — Да что я болтаю чепуху, вроде вы сами не знаете. — И, как бы заминая неловкость, спросила: — Если что надо, говорите, пока не ушла.
— Принесите, пожалуйста, эту штуку, — попросил Грикис.
— Какую штуку? .
— Ну… эту самую. — И поскольку она не двигала с места, явно не понимая, чего от нее хотят, недовольно объяснил: — Горшок. Терпения больше нет.
Марта смутилась. Но не потому, что разговор принял столь интимный характер, а потому, что она, взрослый человек, сама не догадалась об этом. Торопливо ответила:
— Извините, сейчас.
Она выполнила их просьбу и уже хотела было подняться наверх, но Отто остановил:
— Погодите, его нельзя здесь оставлять.
— Почему же? — иронично подал голос Грикис.
— Запах…
— А-а, — криво усмехнулся Юрис, — как-нибудь переживем.
— А если ему не понравится… — Грюнберг ткнул пальцем вверх.
Невольный холодок пробежал по спине у Марты — каждый раз открывались все новые сложности и новые грани опасности. Конечно, запахи! Долго ли можно скрывать в доме присутствие человека, да еще больного?
— Давайте отбросим церемонии, — продолжал Отто. — С ними, он опять показал рукой на потолок, — не шутят. Вы отнесете, помоете, вернете нам чистым. Мы им будем пользоваться, как свечой, — только в крайнем случае. В тоне, каким он это сказал, Марта уловила смущение.
Марта выполнила все: отнесла, помыла, принесла, прибрала… Теперь оставалось только ждать и надеяться. Особенно ее беспокоил отец. Озолс, словно приговоренный к смерти, весь опух, обрюзг, двигался вяло, плохо ел, рассеянно слушал. Его губы нервно подергивались, а в уголках глаз постоянно стояли слезы, готовые в любую минуту сползти на щеки. Марта была уверена, что он не решится на предательство, но его физическое и духовное состояние вызывало у нее опасение. Что возьмешь с человека, потерявшего над собой контроль?
Она старалась не оставлять отца одного или наедине с немцами. При этом она успевала ухаживать за гостями, особенно за Циглером — чем меньше немец будет находиться в своей комнате, тем безопаснее. Старалась как можно дольше задержать гостей за столом. Словом, очаровывала, как могла. И не безуспешно. Холодный и чопорный Циглер уже к вечеру следующего дня высказал предположение, что у Марты наверняка есть в жилах немецкая кровь. Хозяйка ее стала переубеждать гостя, лишь загадочно усмехнулась, укрепив в нем это предположение. Спрудж обычно в разговоры не встревал, много ел, много пил, рассеянно слушал, изредка чему-то про себя ухмыляясь. Он давно уже понял, что дело, порученное им, «дохлое», что ничего и никого они здесь не найдут. Поэтому, изображая занятость и озабоченность, отдыхал телом и душой.
Да и сам немец был не простак. Он требовал от подчиненных все новых действий, отдавал приказы, лично присутствовал па допросах, обыскал, метр за метром облазил округу, лично пересчитал все до единой лодки. Хотя Циглер не хуже Спруджа понимал, что, упустив русского разведчика двое суток назад, теперь можно было рассчитывать только на чудо — все равно что ловить щуку на хлебный мякиш, — но вида не подавал, с присущей ему немецкой пунктуальностью выполнял полученный приказ.
На следующий день Марта опять отослала Бюхнера с Эрной за вином на виллу и спустилась в погреб. К ее радости, раненые, особенно Грикис, чувствовали себя лучше, температура у него спала — по всей видимости, кризис миновал. Юрис с аппетитом набросился на еду, с удовольствием выпил кружку молока и даже посетовал, что нельзя покурить.
— Что я вам говорила? — радостно рассмеялась Марта. — У меня рука легкая.
Грюнберг — на сей раз он за все время перевязки ни разу не вскрикнул и не потерял сознание, — когда она закончила бинтовать, пошутил:
— Мне кажется, я становлюсь верующим. И все из-за вас. Вы как ангел, который появляется с того света и возвращает нас к жизни. Ангел-хранитель.
Марта рассмеялась:
— Забавно звучит: ангел с того света.
Он тоже усмехнулся:
— А шут его знает… Нельзя же сказать… ангел с этого света. — Раненый брезгливо оглядел осклизлый стены погреба. — Свет там. — Он протянул руку, словно хотел дотронуться до луча, смутно пробивавшегося сверху. — Во всяком случае, вы всегда будете в моей памяти, как ангел-хранитель с голубыми глазами.
Марта покраснела.
— Вы даже глаза разглядели. Значит, дело, действительно, идет на поправку.
Но Грюнберг не принял шутки. Сказал неожиданно серьезно, даже сурово:
— Если выберемся отсюда, всю жизнь готов молиться за вас святой Марте.
Она погладила его по руке, обнадежила:
— Выберетесь. Потерпите немного и выберетесь.
И они, как это было ни странно, а точней — невероятно, все-таки выбрались. Выбрались, вопреки логике и здравому смыслу. Вопреки самым мрачным предположениям, ранам и страхам. Выпутались из казалось бы совершенно немыслимого положения. Все это время, пока раненые находились под их крышей, Марта почти не спала. Она заметно осунулась, тени под глазами сделались еще темнее, она легко раздражалась по незначительным поводам — при этом взгляд ее делался колючим, а тонкая синяя жилка на шее начинала пульсировать с такой силой, что, казалось, вот-вот оборвется. Ей все трудней становилось сдерживаться при гостях, изображать из себя радушную хозяйку, держать в поле зрения домашних — не дай бог, если они что-нибудь заподозрят. При этом надо было помнить о каждом своем жесте, о каждом слове, а по ночам часами вслушиваться в каждый шорох. Марта с ужасом чувствовала, что силы ее на исходе.
Особенно беспокоил Марту отец. Она видела, что старик, был на пределе выдержки и самообладания, и решила, что настала пора еще раз объясниться с ним. Улучив момент, затащила старика на кухню и, плотно прикрыв за собой дверь, умоляюще сказала:
— Потерпи немного, пусть немцы уйдут. Все будет в порядке…
Озолс посмотрел на дочь отсутствующим взглядом. Ровным, бесцветным голосом согласился:
— Хорошо, пусть уйдут.
Этот покорный, обреченный тон, пустые, бесцветные глаза, мертвый, безжизненный голос… Ей впервые по-настоящему сделалось жутко за них за всех, словно она, наконец, увидела как в зеркале то, о чем только догадывалась, в чем упорно не хотела самой себе признаться — свою судьбу. Она до боли закусила губу, едва слышно выдавила:
— Смотри, отец. Мы все в том погребе. У тебя внук…
Озолс ничего не ответил, взглянул на нее полубезумными глазами, как-то по-лошадиному всхрапнул и, качаясь, словно пьяный, вышел из кухни.
К счастью, это была их последняя бессонная ночь. На следующий день Циглер, убедившись в бесплодности четырехдневных поисков, убрался со своей командой восвояси. На прощанье он выразил Марте благодарность за гостеприимство, наговорил кучу комплиментов, несколько раз приложился к ручке хозяйки и под конец заверил в своей искренней и вечной признательности. Бюхнер, тот вообще растрогался чуть ли не до слез от умиления. Один Спрудж оставался невозмутимым.
Марта тоже не осталась в долгу: лицо ее расцвело в самой доброжелательной улыбке. Она заверила дорогих гостей во взаимной симпатии, просила не пренебрегать их скромным жилищем, пожелала счастливого пути. Но когда за немцами закрылась дверь, Марта едва не рухнула на пол — ноги подкашивались, мозг сверлила одна-единственная мысль: неужели самое страшное миновало?
Несмотря навею очевидность, ей все еще не верилось в удачу: уж очень благоприятно складывались события, из которых самым главным до этого было освобождение Зенты. Да, да, освобождение матери Артура, судьба которой была давно предрешена, если бы не вмешалась Марта. Уловив из разговора гостей, какая судьба ждет мать Артура, она не выдержала. Смысл ее доводов сводился к следующему: женщина ничего не знает, для чего же лишать ее жизни и будоражить против себя общественное мнение? Нельзя ли ее отпустить?
Циглер недовольно поморщился, обменялся взглядом со Спруджем, высокомерно бросил:
— Мы не выпрашиваем милостей, мадам. Мы берем и утверждаем то, что считаем нужным.
— Тем более, — невозмутимо подхватила Марта, — покажите всем свое бесстрашие и силу. От того, что расстреляете беззащитную женщину…
Циглер насмешливо вскинул брови:
— Вы просите за нее, как за вашу соседку! Или еще почему-то?
Тон, которым это было произнесено, говорил сам за себя — немец явно знал больше, чем предполагала Марта. Но она не смутилась, ответила с такой же прямотой и откровенностью:
— Вы отсюда уйдете, а нам жить.
Ее неожиданно поддержал присутствовавший при разговоре Рихард:
— Думаю, господин Циглер, супруга права, — вежливо, но с достоинством сказал он. — Даже если женщина что-то и знает, ее можно понять — сын. Хотя, простите, очень трудно верится, что после таких… — он на секунду запнулся, подбирая слова, — таких допросов, она могла о чем-то умолчать. А потом, знаете, вряд ли она станет вам полезной на том свете. К мертвым не возвращаются. — Рихард выразительно посмотрел на обер-лейтенанта.
Немец задумчиво покачал ногой в узком, блестящем, словно лакированном сапоге, постучал костяшками пальцев по столу, мрачно обернулся к Спруджу, невозмутимо попыхивающему папироской.
— Не слишком ли вы сентиментальны, господин Лосберг? — с неприкрытым сарказмом спросил Циглер. — Вас тоже смущает общественное мнение?
Лосберга покоробила фамильярность немца, но он не подал вида, усмехнулся:
— У русских есть хорошая поговорка, господин офицер, холодно, словно подчеркивая дистанцию между ними, ответил он. — Продав голову, о шапке не жалеют, — примерно так она звучит. Я слишком хорошо знаю, сколько стоит мнение толпы. Вряд ли оно может волновать серьезного человека. Но мне поручено дело не совсем обычного свойства. Чем меньше мы будем здесь стрелять, проводить акций и тому подобное, тем больше добьемся пользы в наших общих интересах. Поверьте, своих земляков я знаю неплохо.
Циглер набычился, засопел, словно мальчишка, которому публично указали на его глупость. Нехотя согласился:
— Что ж… В конце концов никуда она не денется. — Все-таки не сдержался, уколол: — Хотя мой незначительный опыт общения с вашими земляками подсказывает, что исчезать здесь умеют, и притом весьма ловко. Ваше мнение, господин Спрудж?
Следователь выпустил длинную струю дыма, безразлично пожал плечами:
— Материал отработан.
Он сказал это таким тоном, что Марта заледенела. «Материал отработан…» Потом еще много дней эти слова звучали в ее ушах. А когда она случайно увидела через окно Зенту, бредущую к своему дому, не поверила глазам — по улице двигалась живая смерть. Невольно подумалось: «Еще немного, и они сделают такими нас всех. Если не физически, то духовно».
ГЛАВА 16
Артур пришел ночью. Он еще не постучал в окно, даже не перебрался через ограду, а Марта уже почувствовала его присутствие. С бьющимся сердцем вскочила с постели, подбежала к окну, раздвинула в стороны и без того распахнутые занавески. Весь предыдущий день она, словно сомнамбула, слонялась без дела по комнатам, изредка о чем-то спрашивала, невпопад отвечала, несколько раз выходила на улицу, подолгу вглядывалась в небо, плотно затянутое облаками: «Только бы не было луны», затем переводила взгляд на подворье соседей в надежде увидеть Зенту. Но все было тихо, по-мертвому безжизненно. Она возвращалась в дом, возилась с сыном, читала ему сказки, не слыша своего голоса и… все ждала ночи. Что-то будет? Придет ли Артур и жив ли он вообще?
Во всяком случае, она понимала, что этой ночью должна наступить развязка. Ей удалось убедить отца уехать с ночевкой в Ригу, отпустила пораньше Эрну, а Петерису подарила большую бутылку шнапса, оставшуюся после немцев. Уложила Эдгара пораньше в постель, спустилась в погреб, радостным шепотом сообщила:
— Ушли. Из поселка тоже.
Грюнберг понимающе посмотрел на нее, ободряюще улыбнулся:
— Что ж, значит, наступил и наш черед. В доме есть кто-нибудь?
— Никого.
Она подумала, надо ли сообщить им о матери Артура, решила, что надо.
— Вот как? — насторожился Отто. — Ничего подозрительного вы не заметили? Слежки, например. Хотя, о чем я спрашиваю… — он невесело рассмеялся, бросил быстрый взгляд на Грикиса. — Спасибо, что предупредили. Надо глядеть в оба.
Марта не решалась спросить о главном, но Отто сам пришел на помощь.
— Перевяжите напоследок, — извиняющимся тоном попросил он. — Кто его знает, как оно сложится?
— Думаете, Артур придет сегодня? — с робкой надеждой спросила она.
Раненый помолчал, подумал.
— В любом случае, дорогой наш ангел-хранитель, пора убираться. И честь надо знать, и фортуну испытывать не стоит. Хватит, порисковали. Будем, конечно, надеяться на лучшее, но в случае чего… Вечное вам спасибо, Марта.
Артур пришел. Грязный, заросший.
— Как они? Живы? — влезая в окно и словно не замечая Марту, тревожным шепотом спросил он.
Марта не обиделась — она была счастлива, видя его невредимым.
— Живы.
— Ух ты… — Он сполз с подоконника, опустился на пол, привалился спиной к стене, блаженно улыбнулся — черты его лица подобрели и смягчились. — А я уж чего только не передумал.
— Ты где прятался?
Он посмотрел на нее снизу вверх каким-то новым, зовущим к воспоминаниям взглядом, вздохнул:
— Представь себе, на нашей мельнице.
Марта вздрогнула, прижала ладони к лицу — ей показалось, что даже в темноте Артур угадал, как у нее зарумянились щеки. Заминая неловкость, хотела что-то сказать, но он резко поднялся, с опаской спросил:
— С матерью что?
— Все в порядке, теперь уже дома.
— Что значит, теперь? — голос Банги дрогнул. — Ее что, забирали?
— Да, но сегодня утром выпустили.
— Пытали?
Марта промолчала. Артур отвернулся, сжал кулаки, жестко сказал:
— Ладно, пошли. Времени нет.
Грикис сравнительно легко выбрался из погреба, хотя был еще очень слаб, труднее пришлось его товарищу: Отто хотел подняться, но охнул от боли и, закусив губу, откинулся на спину, виновато улыбнулся:
— Вот так… герой.
— Ничего, ничего, — подбодрил его Артур и, словно ребенка, поднял на руки. — Нам недалеко. А там лодка и все такое. Принимайте, негромко скомандовал он снизу Юрису и Марте.
Те поспешно подхватили раненого, помогли ему выбраться наружу, усадили в кресло.
— Ничего, ничего, — выбираясь следом за Грюнбергом, тяжело сопя и отдуваясь, повторил Артур. Самое страшное позади. А там… дождик, ветер — все как надо. Главное, спокойствие.
За окном, действительно, разгулялась непогода. Небо словно перевернутый, парящий котел. Будто стреляющие головешки, его все чаще разрывали изломанные огненные вспышки. Натужно и отчаянно скрипела ветвями старая липа, надсадно колотила в стену оторвавшаяся ставня, и дом уже казался вовсе не домом, а маленьким, утлым суденышком, застигнутым стихией в открытом море.
Марта зябко поежилась, представив, как они сейчас уйдут в этот мрак. Артур, угадав ее мысли, подбодрил:
— Ничего, не сахарные. Все как по заказу — ни одна собака не сыщет.
— Возможно, за твоим домом следят, — сказал Грикис.
Артур резко повернулся к нему.
— Да? — вяло переспросил он, отошел к окну, отодвинул занавеску, как бы проверяя, правду ли говорит товарищ. Затем, не оборачиваясь, проговорил с тоской: — Значит, теперь из матери сделали приманку?
— Я сказал — возможно, — попытался смягчить свое предположение Юрис.
— Да, конечно, — механически поддакнул Артур, постоял еще минуту-другую, угрюмо буркнул: — Ладно, пошли.
Он уже распахнул окно, поставил ногу на подоконник, намереваясь сначала помочь выбраться Грикису, потом они вдвоем примут Отто. Но его остановил Грюнберг.
— Погоди, — тихо сказал он. — Надо оглядеться. Тем более, что «возможно», как говорит Юрис.
Артур нетерпеливо возразил:
— В такую погоду и собаку на улице не встретишь.
Но Грюнберг стоял на своем:
— Насчет собак не знаю, а что касается гестапо, я бы с ними не шутил… В любую погоду.
— Ладно, проверю.
Банга лег животом на подоконник, сполз на землю и тут же растворился в темноте, крепко сдобренной шумом дождя и ветра.
— Вообще-то, если он сюда пробрался… — неуверенно начал было Грикис, но Отто холодно оборвал:
— Ничего это не значит. Могли и пропустить.
— Да, конечно. Хотя, в таком случае… — Юрис не закончил мысль, полагая, что и так все ясно.
В комнате воцарилась гнетущая тишина, нарушаемая лишь напряженным дыханием раненых да беспорядочными звуками дождливой, ветреной, грозовой ночи. Марта вспомнила о вещах и продуктах на дорогу, бросилась за ними.
— Вот… Чуть не забыла, — Она опустила на пол большую кожаную сумку.
— Что это? — удивился Грикис.
— Пригодится. Переодеться, поесть…
— Спасибо. — Отто взял ее за руку, слабо притянул к себе. — Знаете, о чем я мечтаю? Сделать для вас что-нибудь такое… Ну… В общем, будем живы… — Неожиданно он запнулся, расслышав в разноголосице грохота, воя ветра и треска за окном что-то необычное. Поднял пистолет — Марта и не заметила, как он оказался у него в руках. Но прошло несколько секунд, и над подоконником показалась голова Артура.
— Давайте, — прошептал он. Помог Грикису выбраться наружу, нырнул в комнату, осторожно, словно ребенка, поднял Отто. — Держитесь за шею. — Подал раненого Грикису, обернулся к Марте. — Ну…
— И это возьми, — подала она сумку.
— Что это?
— Продукты…
Банга хотел было отказаться, но передумал — мало ли как сложится судьба?
— Мешок и веревку.
— Что?
— Надо мешок и веревку. Не могу же я тащить раненого да еще чемодан в придачу.
— Сейчас, одну минутку.
Она бросилась в чулан, но как назло ничего не могла найти. Стала нервно расшвыривать вещи.
— Ну, что там? — нетерпеливо спросил из окна Грикис — его лицо уже было мокрым. — Не тяни.
Наконец, она нашла все, что искала. Артур, не раздумывая, вывернул содержимое сумки в мешок, приладил веревку, соорудив что-то вроде рюкзака, подал Юрису, торопливо обернулся к Марте:
— Ну… — и неуклюже затоптался на месте.
Марта вся напряглась, у нее перехватило дыхание. Даже в темноте стала заметна бледность, разлившаяся по лицу. Вот и все: сейчас он уйдет и больше никогда не вернется… Короткий, похожий на стон, вздох вырвался из ее груди.
— Что с тобой? — Банга едва успел подхватить ее, привлек к себе, заглянул в глаза. — Что ты?
Марта попыталась улыбнуться. Губы скривились, задрожали, глаза, полные слез и тоски, смотрели на Артура с отчаяньем и болью.
— Что с тобой, милая? — повторил он, сам чуть не плача.
— Артур… — задыхаясь, прошептала сна. — Я хочу, чтоб ты знал: кроме тебя, у нас никого на свете… Эдгар… Это твой сын.
Он пристально посмотрел ей в глаза, пытаясь осмыслить это «твой сын».
— Ну, что ты? — раздраженно прошептал за окном Грикис.
— Марта, родная… Артур неуклюже прижался к ее щеке, затем, как бы опомнившись, прильнул к губам, таким податливым и знакомым, до хруста стиснул на прощание в объятиях. — Жди. Что бы ни случилось, жди.
Она не успела опомниться, как Банга перемахнул через подоконник, на секунду появился в проеме окна, громким шепотом повторил:
— Что бы ни случилось…
Она еще долго вглядывалась в ночь, которая плакала навзрыд вместе с нею, слушала угрожающий рокот моря и взволнованный, участливый голос старой подружки липы, ласково прикасавшейся влажными листьями к ее разгоряченным щекам. Сейчас она знала одно: от нее навсегда уходят любовь и счастье, а может быть, и жизнь.
ГЛАВА 17
В добротный блиндаж, в котором разместился штаб полка Латышской стрелковой дивизии, уханье дальнобойных орудий доносилось глухо: чуть заметно вздрагивали язычки пламени двух чадящих «коптилок» в снарядных гильзах, густыми клубами плавал табачный дым, из которого особо выделялся едкий запах махорки. В блиндаже было трое: командир полка — высокий, щеголеватый, смуглый полковник со свежим шрамом на лбу и цепкими, умными глазами. В нем нетрудно было узнать Сарму, бывшего начальника уезда, а позже первого секретаря уездного комитета партии. Вторым был начальник штаба полка Юрис Грикис — у этого на плечах красовались новенькие погоны с двумя просветами и двумя звездочками. Третьим — пожилой рыжеватый ефрейтор, откровенно клевавший носом над телефонными аппаратами.
— Как ты можешь курить эту гадость? — недовольно поморщился командир полка. — Папирос не хватает, что ли?
Начальник штаба благодушно ухмыльнулся — теперь, когда он приблизился к свету, стали заметны его нездоровая, послегоспитальная бледность и седина, щедро посеребрившая виски.
— Привычка. В Белоруссии у партизан научился.
— Давно уж в регулярной армии, пора бы и отвыкнуть.
— Да я и так редко смолю. Когда в душе защемит. — Он неохотно загасил самокрутку, придвинулся к грубо, наспех сколоченному столу, на котором лежала развернутая карта. — Значит, еще немного, и дома? Даже не верится.
— До твоего «немного» еще кровью похаркаем, — хмуро отозвался полковник, отмеряя что-то циркулем. — За Прибалтику немцы будут зубами держаться — последний заслон перед Пруссией. Увидишь — отовсюду сюда силы подтащат.
— Ничего, одолеем… Своя ведь земля, родная.
— Своя-то своя, — пробормотал Сарма. — Да как родственники встретят.
Грикис удивленно поднял голову, но спросить не успел — пропищал зуммер полевого телефона и усатый ефрейтор, легко сбросив с себя дрему, схватил трубку, гаркнул:
— «Чайка» слушает. Так точно, на месте. — Прикрыл трубку ладонью, торопливо доложил: — Товарищ полковник, вас «Пятый»…
Сарма шагнул к аппарату:
— Здравия желаю, товарищ «Пятый». Почему не спим? Да какой тут сон, когда дом виден. Бойцы?.. Нет, бойцы отдыхают. Волнуются, конечно… Столько ждали. Слушаю, товарищ «Пятый». Рыбки? Ах, рыбки… Понимаю, товарищ «Пятый». Рыбка у нас водится. Первый сорт. Можете не сомневаться, выполним. Если надо, наловим самой свеженькой. Покрупней желательно? Слушаюсь, товарищ «Пятый», понятно. Непременно, товарищ «Пятый», спокойной ночи.
Полковник передал трубку телефонисту, задумчиво вернулся к столу:
— Приказано взять языка. Во что бы то ни стало. Я так понимаю — перед наступлением начальство волнуется: как, мол, и что — настроение противника, обстановка.
— Заволнуешься. — Грикис устало провел ладонью по лицу, машинально достал кисет. — Прибалтика — не Россия. Здесь-то советской власти четверть века стукнуло. А у нас? Сорок первый помнишь?
— Что сорок первый? — запальчиво повысил голос командир полка и, оглянувшись на телефониста, повторил тише: — Что сорок первый? Сами же разоружили армию, отпустили людей на все четыре стороны.
— А ты что хотел? Сохранить буржуазные формирования? Чтобы тебе же потом нож в спину воткнули?
— Я хотел бы… — полковник бросил циркуль на карту, — чтобы латыши не резали латышей.
— Ни много ни мало? — насмешливо переспросил Грикис. — А русские, украинцы, белорусы этого, разумеется, не хотели? Им друг друга резать было очень приятно. Всякие там полицаи, власовцы…
— Не вали в одну кучу, Юрис. Разве я о том? Конечно, и у нас сволочей хватает. — Неожиданно попросил: — А ну-ка, дай своего горлодера. — Неумело свернул цигарку, прикурил, надсадно закашлялся. — Черт знает что, а не табак, Я убежден — многие из тех, кого немцы сгребли в так называемый «добровольческий легион», могли сегодня быть с нами, по эту сторону окопов. Люди и опомниться не успели в сорок первом.
— Ты это брось. Кто хотел, у того было время подумать. Мы-то с тобой опомнились. Забыл, как по лесам плутали, через сто смертей к своим выбирались? Он вот успел? — кивнул Грикис в сторону ефрейтора. — Да что говорить… С кем бы мы воевали сегодня, если бы все не успели опомниться? Те, кто остался, знали, на что идут.
— Только не надо стричь всех под одну гребенку. Больно круто берешь. Ты давно на подпольной работе? То-то. — Полковник творил резко, отрывисто. — Кстати, и те, кто остались, не все пошли в «добровольческий легион». Возьми хотя бы партизан. Сколько они немцам крови попортили.
— А давно ли появились эти партизаны? — не сдавался Грикис.
— Ну, знаешь… Когда появились, тогда и появились. Беременность не форсируют.
Юрис хотел возразить, но Сарма предупреждающе поднял руку:
— Оставим дискуссию до более спокойных времен — задание выполнять надо. — Он отогнул край плащ-палатки и приказал вестовому: — Капитана Бангу ко мне, срочно!
Начальник штаба нахмурился:
— Опять Бангу?
— А кого еще? Ты же знаешь, что от нас требуют.
— Замордуем парня — из госпиталя выписаться не успел.
— Да, конечно, — вздохнул командир полка. — Но что делать? — Задумчиво обогнул стол, забыв о самокрутке, которая дымила в пальцах. — Где сподручнее перейти фронт?
— Сподручнее? — усмехнулся начштаба. — Сподручнее на печи с девкой… — Он склонился над картой. — А переходить… я думаю, надо здесь.
Раздались звуки шагов, в блиндаж вошел высокий, статный офицер. Банга был похож и не похож на того парня, каким он был три года назад: тот же крутой подбородок, те же глаза… Нет, именно глаза, пожалуй, и придавали лицу какое-то новое, выражение. Была в них сила, и затаенная, глубоко запрятанная грусть. Война ничем не обделила его — ни славой, ни кровью: грудь Артура была увешана орденами и медалями, а рядом нашивки — тяжелые и легкие ранения.
— Товарищ полковник, капитан Банга по вашему приказанию…
— Ладно, ладно, проходи, капитан. Плесни-ка ему, Юрис, чайку покруче. — Садись. — Сарма усадил Артура, сам сел напротив. Как самочувствие? Оклемался маленько?
— Забыл уж и думать, — махнул рукой Банга.
— Ну-ну, не петушись. А почему «Красной Звезды» не вижу?
— Не получил еще, товарищ полковник.
— Не догнала, значит, в госпитале? Ну ничего, выполнишь задание… — Полковник внезапно осекся, словно сказал не то, что хотел. Заминая неловкость, рассмеялся: — Куда только вешать будешь?
— Было бы что, товарищ полковник, а куда — найдется.
Но командир полка уже отбросил шутливый тон:
— Слушай, Артур, есть просьба. Язык, понимаешь, нужен. Желательно из легионеров.
— Но это же… — удивленно начал было капитан, но за него договорил начальник штаба:
— Пятьдесят километров.
— Время?
— Двое суток.
— Да-а, — озадаченно протянул Артур.
— Кто из твоих может обернуться? — спросил командир полка.
— Товарищ полковник, разрешите лично.
— Какой шустрый! — Полковник скользнул по нему быстрым, испытующим взглядом, переглянулся с Грикисом. — Из тебя еще лекарства не выветрились.
— Товарищ полковник… — Банга стиснул зубы, поднялся. — Разрешите, очень прошу. Это же как в свой дом — первому войти.
Некоторое время в блиндаже было тихо, затем полковник неохотно согласился:
— Ладно. Кого с собой возьмешь?
— Калниньша, Лаукманиса, Соколова, Круминьша, — торопливо перечислил Артур. — Проверенные ребята.
— С вами пойдет один товарищ.
— Какой товарищ?
— Старший лейтенант Горлов. Из корпусной разведки. К вечеру должен прибыть.
— Товарищ полковник, а без няньки никак нельзя? — сдержанно спросил Артур. — Неужели сами не справимся?
— Сами с усами… — проворчал командир полка. — Приказ, капитан. Тебе что, лишний человек помешает?
— Лишний всегда мешает? — угрюмо отозвался Артур. — Не на прогулку идем.
— Повторяю, это приказ. Не нашего с тобой ума дело. И не кипятись — говорят, он в самом деле спец, подметки на ходу отрывает.
— Война не цирк…
— Ладно, давай-ка лучше к столу. Как-никак сегодня Лиго.
Однако Артур повел себя неожиданно странно: заволновался, бросился вон из блиндажа, пробормотав невнятное: «Я сейчас». Сквозь плащ-палатку было слышно, как он крикнул кому-то, и тут же у входа в блиндаж грянула такая знакомая и родная песня. Это был старинный латышский напев, воспевающий вершину лета — тот день, когда все Яны становятся именинниками и все латыши становятся Янами, и двери любого дома, и души открыты для всех, а священный долг каждого хозяина — потчевать гостей молодым пивом и тминным сыром. В землянку вошли трое солдат — на их головах красовались венки из дубовых листьев. Самый большой венок держал в руках Лаймон Калниньш — он был в лейтенантской форме.
— Лиго, Лиго, — пели солдаты, притопывая сапогами.
Лаймон подошел к полковнику и, надевая на него венок, сказал:
— Разрешите поздравить, товарищ полковник. — От всех Янов разведроты.
— Спасибо, ребята, — растроганно улыбнулся командир полка. — Откровенно говоря, я сегодня сам… как не в себе. И дом виден, и праздник этот… Вот смотрю на карту, вроде бы совсем рядом. — Сарма поставил на кружочек с надписью «Рига» пистолетный патрон.
— Мой ближе, — горделиво зарделся Лаукманис, небольшой худенький солдат. — Вот здесь. — Он ткнул пальцем в район Даугавпилса.
— А мне далеко — во-он куда, — тоскливо сказал другой.
Солдаты теснились у карты, водили по ней пальцами, отыскивая родные места.
— А где наш с тобой? — обернулся Артур к Лаймону.
— На карте все близко, невесело усмехнулся тот. — А на пузе…
— Что ж… — Сарма снял и положил подаренный ему венок на карту, подошел к нише в блиндаже, — настоящий Ян должен угощать пивом и сыром, но, увы… — Он достал флягу, потряс ею над ухом.
— Почему «увы», товарищ полковник? Мы не прочь и покрепче, — подал голос Лаймон. — Пиво будем дома пить.
— Тоже верно, — поддакнул Сарма. — Сегодня кружки поднимаем символически, а выпьем, когда вернетесь с задания.
Солдаты сразу притихли.
— Вот так, братцы, — негромко продолжал командир полка. — Приказано взять языка.
— Сегодня? — не сумев скрыть огорчения, спросил Лаймон. — В такой день?
— Пойдете сегодня в ночь, — строго сказал Сарма. — Праздновать будем после возвращения. Сами понимаете. — Полковник сдвинул венок с карты. — Мы вот здесь. А здесь, по данным разведки, немцы составили наших земляков из латышского легиона. Именно отсюда и приказано взять языка.
Лаймон невольно присвистнул:
— Ничего себе. Это же черт-те где…
— Да, это уже территория Латвии, — подал голос молчавший до сих пор Грикис. — Но командованию нужны данные именно о латышских формированиях. В том-то и штука.
Праздничное настроение исчезло. Опять была война, опять в воздухе повеяло ненавистью, кровью и смертью.
Через два часа Артур шагал по лесной тропинке. Нежно и звонко перекликались в пышной листве птичьи голоса, радостно светило солнце, и, несмотря на предстоящую опасность, настроение у Банги было бодрое приподнятое.
— Запомни, Круминьш, ничего лишнего, — втолковывал Артур плечистому голубоглазому старшине. — Лично проверь — не дай бог, что-нибудь звякнет или заскрипит.
— Да что вы, товарищ капитан, впервой, что ли?
— Считай, что впервой. Так еще не ходили. Тут осечку дать нельзя. Насчет разговоров особо предупреждаю: пусть каждый зарубит себе где хочет — умри, а молчи.
— Это вы не нам говорите, — проворчал старшина.
— Почему не вам?
— Да уж… не нам. — Он неодобрительно покосился на заросли боярышника, где винтовочным залпом грохнул хохот. Артур вопросительно посмотрел на старшину и шагнул в кустарник.
На поляне, возле землянки разведчиков, творилась какая-то кутерьма. Бойцы сгрудились вокруг незнакомого чернявого офицера, а в стороне, на пеньке, будто статуя на постаменте, возвышался Лаукманис — почему-то без пилотки и в одном сапоге. Второй сапог, рядом с ремнем от гимнастерки, валялся на траве.
— Еще минутку! — крикнул чернявый старший лейтенант и выхватил из-за голенища финку. — Как говорят у нас в Одессе: прижмурьте глазки.
Артур только сейчас заметил на сосне у входа в землянку грубо намалеванную на куске фанеры физиономию Гитлера. Из правого глаза фюрера торчала рукоять ножа. Офицер взмахнул финкой, и она, просвистев в воздухе, врезалась Гитлеру в другой глаз. Разведчики весело загоготали, а Лаукманис, красный от стыда, стянул с ноги второй сапог.
— Не горюй, браток, — ухмыльнулся чернявый.
— Не везет в игре — повезет в любви. Парень ты видный… Аполлон, можно сказать.
Старший лейтенант переждал очередной взрыв хохота, в его руках сверкнули сразу два ножа — казалось, он выхватывал их из воздуха.
— Что бы с тебя еще скинуть? Для большей, так сказать, античности.
И метнул обе финки почти одновременно — правой и левой рукой. Они врезались одна за другой в усы, удлинив их и придав фюреру законченный вид идиота. Рев восторга потряс поляну. Рыжий Лаукманис обреченно расстегнул ворот гимнастерки и, стараясь не замечать смешливых взглядов товарищей, принялся насвистывать что-то бравурное.
— А может, не надо, товарищ старший лейтенант? — неуверенно сказал кто-то из толпы. — Свой же парень не чучело.
Солдаты возмущенно заспорили:
— Нечего Лазаря петь, сам напросился.
— Напросился и получил. Хватит.
— Ладно, где наша не пропадала, — великодушно махнул рукой офицер. — А то капитан твой посмотрит-посмотрит, да и спишет из разведчиков на кухню.
В глазах Лаукманиса вспыхнули тревожные огоньки.
— Где капитан? — смешно втянул он голову в плечи.
— Здрасьте, я ваша тетя из Жмеринки. Разуйте глазки, следопыт.
Артур понял, что его заметили. Теперь скрываться было бессмысленно. Он вышел из укрытия на поляну. Лаукманис торопливо спрыгнул с пня и, стыдливо краснея, пробормотал:
— Товарищ капитан, разрешите доложить…
— Отставить! — багровея от злости, рявкнул Банга. — Собрать барахло и… три наряда вне очереди. Кру-гом!
А когда отошли на порядочное расстояние от солдат, сдержанно обратился к офицеру:
— Стыдно, товарищ старший лейтенант. Не успели появиться — цирк устроили. Бойца опозорили перед личным составом.
— Почему опозорил? Честное пари. Если бы я проиграл — тоже босиком докладывал бы. Понимаешь, капитан, задел он мое самолюбие. Не поверил, что я фрица с десяти метров побрею. — Чернявый аккуратно вытащил из фанерного листа свои ножи. У нас в Одессе на спор, знаешь, что сделают?
Артур угрюмо покосился.
— Горлов твоя фамилия? — неожиданно переходя на «ты», спросил он.
— Ну Горлов.
— Так слушай, Горлов, что я скажу, — с трудом подавляя неприязнь, — сказал Артур. — В разведку я тебя, конечно, возьму, приказ выполню. Но если ты еще хоть раз что-нибудь отмочишь… со своими одесскими шуточками…
— А ты не бойся шутки, капитан, насмешливо перебил Горлов. — Не обязательно воевать с кислой рожей, можно и повеселее.
— Повеселее? — Лицо Артура пошло красными пятнами. — Тебе хорошо веселиться. У тебя в Одессе уже вино попивают, а у меня, — он неопределенно повел рукой в сторону передовой.
Горлов насупился. Горькая гримаса скривила рот.
— Нет, капитан, мои уже ничего не пьют, — почти прошептал он. — Моих в душегубке… перед самым уходом… Мать, жену, сынишку — всех. — Старший лейтенант отвернулся, ссутулился и, не разбирая дороги, пошел прочь.
На неструганные доски стола ложились солдатские книжки, партийные и комсомольские билеты, ордена и медали — непременное условие перед выходом в разведку. Пожилой капитан все это переписал, аккуратно сложил. Для него такая работа была привычной. Со стороны церемония выглядела буднично — так, что-то вроде сдачи вещей в камеру хранения. И если бы не отдаленный орудийный рокот да не частый, отчетливо слышный треск пулеметов, можно было бы подумать, что мужчины собираются на рыбалку или на охоту.
Последним к пожилому капитану подошел Артур. Сдал ордена и медали, документы, секунду-другую помедлил, расстегнул карман гимнастерки, вынул фотокарточку Марты, мельком взглянул на ее улыбающееся лицо, молча протянул капитану.
— Жена? — простодушно спросил тот и, не получив ответа, заключил: — Понятно, невеста.
Лаймон незаметно наблюдал за товарищем. А тот, не ответив на прямой вопрос, круто повернулся к солдатам и резко сказал:
— Сбор через пять минут.
Разведчики вышли. В землянке остались только пожилой капитан, Артур и Лаймон.
— Все? — Капитан захлопнул чемоданчик, подал Банге руку. — Как говорится, ни пуха, ни пера.
— К черту, к черту, — нетерпеливо ответил Артур.
— Бывайте.
Капитан ушел. Банга снял со стены автомат, забросил за плечо, остановил взгляд на Лаймоне. Во всем облике друга было что-то неуловимо грустное.
— Ты хочешь что-то сказать? — спросил он. — Или тебе нездоровится?
Лаймон сочувственно покачал головой:
— Мне-то что? Это вот тебе сказать нечего — ни жена, ни невеста…
— А-а, ты снова за свое, — натянуто улыбнулся Артур. — Мы же с тобой договорились: этой темы для нас нет. Если, конечно…
Лаймон опустил голову, проговорил отчужденно:
— Если вернемся из поиска, если останемся живы, если дома нас встретят, если кое-что забудем, кое-что простим… Тебе не кажется, что слишком много набирается этих «если»?
— Мне кажется, что ты принимаешь все слишком близко к сердцу.
— Да мне тебя жалко.
Они стояли по разные стороны стола — самые близкие и самые непримиримые на свете люди. Им всегда было нелегко вместе: они часто спорили, ссорились, но боль одного неизменно становилась болью другого, малейший просчет каждого воспринимался, как просчет собственный. Что прощали другим, никогда не прощали ни себе, ни друг другу. Порознь же существовать и вовсе не могли — не доставало плеча друга, готового поддержать в трудную минуту. Не было рядом сердца, готового принять на себя частичку твоей боли, не хватало слова, пусть крепкого и неприятного, но такого по-братски искреннего и необходимого. Они нередко расходились, крайне недовольные друг другом, подолгу выдерживали характер, но расходились только затем, чтобы сойтись для новых споров и для еще более окрепшей дружбы.
Прошло уже почти три года, но Артур не переставал удивляться тому, что произошло с Лаймоном в начале войны. Тогда, в сорок первом, он, конечно, считал Лаймона безвозвратно обреченным на смерть. Во всяком случае, невозможно было представить, что тому удастся выкарабкаться из цепких лап гестапо. Тем не менее, когда Артур вместе с Грикисом и Отто Грюнбергом с помощью белорусских партизан добрались до Большой земли, оба оказались в Латышской дивизии. Артур и его друг как бы родились заново — ведь они оба считали друг друга погибшими.
О себе Лаймон рассказал тогда скупо и коротко:
— Это, знаешь, как дурной сон: глаза открою и думаю — было или не было? Расскажи кто другой, не поверил бы. Из поселка повезли меня немцы в Ригу…
— А ты знаешь, для чего меня выпустили? — волнуясь, спросил Артур.
— Конечно. Спрудж сам рассказал.
— Спрудж?
— Он самый. Сволочь такая, что будь здоров. Обычная психическая обработка.
— Скажи, только честно… Ты тогда… ну… хоть на секунду…
— Иди ты к черту, — беззлобно оборвал Лаймон.
У Артура отлегло от сердца, в глазах затеплились веселые искорки.
— Спасибо, — сдерживая радость, сказал он. — Если бы ты знал, чего я только тогда ни передумал! Хоть в петлю лезь. Ладно, извини, что перебил. Рассказывай.
— Да что рассказывать? Повезли в Ригу. Не успели доехать до взморья, забарахлил мотор. Остановились. Я сориентировался и говорю конвоирам — двое по бокам, третий рядом с шофером — по нужде, мол, надо. А те слушать не хотят. Что ж, говорю, смотрите сами: если не выдержу, не обессудьте — больше сил нет терпеть. Конвоиры посовещались, вывели все-таки. Отошли от дороги к лесу, а охранники ни на шаг не отходят. Показываю на руки. Как же, мол, без них? Развязали. Присел я на корточки, а сам осматриваюсь. Гляжу — за кустами овражек, да такой, знаешь, глубокий, извилистый. Скатиться бы в него, да успеть за поворот… Екнуло сердце — терять-то нечего, все равно расстреляют. Выждал момент, когда мои стражи чуточку отвлеклись, и кубарем в овражек. Как шею не сломал, до сих пор не понимаю. Они, конечно, следом, из автоматов ударили… Ушел. Петлял, ползал, сидел по горло в болоте, но ушел. Потом бродил волком, пока к леснику не вышел. Не повезло — еле от него ноги унес. Долго никому не доверял, пока холод да голод из лесу не выгнали. Прибился к людям, отогрелся, окреп и подался на Смоленщину, к партизанам. Остальное тебе известно…
Ночью разведчики благополучно миновали линию фронта и углубились в лес. У края полянки Артур знаком остановил группу.
— Старшина, — вполголоса позвал он. — Проверь, все ли на месте.
Из темноты ответили:
— Все, товарищ капитан.
Банга достал карту, включил под полой фонарик.
— Ну как, товарищ старший лейтенант? — покосился он на Горлова. — В обход или прямо по болоту двинем?
— По-моему, времени для обходов нет, — пожал плечами тот.
— Местность незнакомая, рискованно.
— В Одессе говорят: кто не рискует, тот сидит на берегу.
Чернявый ухмыльнулся, но теперь Банга лучше понимал Горлова: за ухмылкой одессита ему виделась та горькая гримаса.
— Нарезать шесты, — коротко приказал Артур.
Он шел первым. Осторожно нащупывая шестом дно, пробирался — где по колено, где чуть не по пояс — в темной, мертвенно поблескивающей воде. За ним — след в след петляла цепочка разведчиков. Круминьш шел замыкающим. В разрывах облаков мелькала луна, над болотом слоился небольшой туман. Группа шла тихо, без единого всплеска. Казалось, призраки скользят над водой в туманной мгле. И вдруг ночной мрак прорезал луч прожектора. Сначала он скользнул по верхушкам деревьев, потом прошелся по воде — острый и беспощадный, как лезвие бритвы. Замерли, оцепенели среди болотных кочек и зарослей осоки разведчики. В тишине ночи слышалось лишь протяжное кряхтенье лягушек да глухо погромыхивали дальние разрывы.
Столб белого света поплясал у самой головы Артура, скользнул по одеревеневшей руке Лаймона с зажатым в ней автоматом и снова ушел вверх. Выждав немного, Артур осторожно двинулся дальше по болоту, за ним запетляла цепочка измученных этим переходом разведчиков.
Наконец, Банга выбрался на сухое место, за ним Горлов… Лаймон решил сократить расстояние, он сделал несколько шагов в сторону, но вдруг, охнув, провалился по грудь, отчаянно задергался, пытаясь вырваться из трясины. Тщетно. Артур бросился было к нему, но совсем близко, можно сказать рядом, раздались голоса, послышалась немецкая речь. Разведчики замерли. Немцы подошли к самому болоту, — видимо, это была дозорная группа, — продолжали говорить о придурках, которые черт знает зачем гоняют их по ночам, а сами лакают в блиндажах коньяк. Трясина все глубже засасывала Лаймона, а он не смел даже застонать, шевельнуться в своей холодной, вязкой могиле.
Опасаясь выдать себя, бессильные помочь, разведчики с тревогой следили за погибающим у них на глазах товарищем. А немцы, казалось, и не думали уходить. Курили на берегу, перебрасывались похабными шуточками. Дрожа от ярости, Круминьш сжал автомат, с немым укором обернулся к Банге. Артур тоже невольно положил палец на спусковой крючок, но вдруг увидел, что лежавший рядом с ним Горлов деловито возится с ножом, привязывает к его рукоятке тонкий линь. Взяв нож за острие и слегка приподнявшись, одессит зорко прицелился в полумгле. Возле Лаймона что-то тихонько просвистело — он даже отклонился от неожиданности. Но, приглядевшись внимательней, заметил, что в метре от него, из болотной кочки, торчит финка, а от нее к берегу бежит веревка. Он потянулся рукой, попробовал зацепить дулом автомата. Не достал. Вершка не хватало.
Лаймон судорожно оглянулся — совсем близко темнел на воде оброненный им шест, но и до него было не достать. А шнур вдруг ожил, натянулся, потом по нему, как по телу змеи, прошел волнистый извив и выбросил на поверхность воды широкую петлю. Из последних сил Лаймон ухватился за веревку и начал осторожно подтягиваться. С берега Горлов помогал товарищу. Не стерпел, подмигнул Артуру, восхищенно следившему за ним, — как, мол, тебе наши одесские шуточки?
Рихард лежал, одетый, поверх одеяла и раздраженно прислушивался к голосам из соседней комнаты. Надо было бы встать, прикрыть дверь, но двигаться не хотелось. В последнее время он многое делал помимо своей воли: нехотя просыпался, без аппетита завтракал, через силу шел на службу, с тоской выслушивал очередные инструкции и наставления, сам с отвращением сочинял что-то, механически улыбался, в чем-то участвовал… Лосберг по-прежнему безукоризненно одевался, от него всегда приятно пахло туалетной водой и дорогими одеколонами, поддерживал деловые и приятельские связи, внешне всегда оставался слегка ироничным и невозмутимым. Но сам для себя он давно с убийственной ясностью понял, что превратился в обыкновенную куклу в руках опытных и недобрых актеров.
Вот и сейчас, как ни увиливал, как ни не хотел ехать в эту, так называемую инспекторскую поездку на передовую, вначале Крейзис, а затем и Зингрубер убедили его в необходимости встретиться с земляками из латышского легиона. Не вредно, мол, и свой боевой дух поднять, и солдат мобилизовать на выполнение важнейшей исторической миссии.
— Ты все еще рассчитываешь на меня как на символ? — не сдержался Рихард. Он только сейчас заметил, как неузнаваемо изменился Зингрубер: похудел, почернел, глаза стали еще жестче.
Манфред окинул Рихарда внимательным взглядом, спокойно ответил:
— Я рассчитываю на твое благоразумие и способность правильно оценивать реальную обстановку.
Словом, пришлось ехать. Напрасно старался Крейзис сдобрить их впечатления горячительными напитками, оглушая себя и окружающих воинственными сентенциями, Рихард всюду видел хотя и благополучных внешне, но несчастных, запуганных людей, приготовленных на убой безжалостными мясниками. Поразила страшная деталь: свою линию обороны немцы расположили за спиной легионеров. Объяснение выглядело обыденно просто: если латыши не выдержат натиска красных, за дело примутся эсэсовцы. На вопрос Рихарда, а что же будет с его земляками, если они действительно не выдержат — ведь это зависит не только от них, — полковник Маутнер, поджарый, с тщательно обритой головой немец, холодно ответил:
— Солдат, который заранее помышляет о бегстве, не имеет права на жизнь.
Вот и все. Рихард произносил речи, пожимал людям руки, похлопывал по плечу, напутствовал, подбадривал, а сам с ужасом сознавал, что разговаривает с завтрашними мертвецами. Порой ему становилось до того тошно, что он рукой зажимал рот — казалось, вот-вот его вывернет наизнанку. Еще живое, копошащееся кладбище…
К своему удивлению, он встретил здесь бывшего следователя Спруджа, представшего перед ним в чине майора. Лосберг не видел его с того дня, когда они вместе охотились за русским разведчиком. Сразу после тех событий Спрудж как-то очень быстро и незаметно исчез из его поля зрения: то ли впал в немилость, то ли были другие причины. И вот теперь оказалось, что он нашел себе место среди патриотов, исполняющих свой исторический, национальный долг.
В первое мгновение Рихард не узнал Спруджа: следователь совсем облысел, обрюзг, мешки под глазами обвисли, от него разило сивушным перегаром. Чувствовалось, что Спрудж опустился до последней ступени цинизма: с его губ не сходила сардоническая ухмылочка, слова он выбрасывал коротко, хлестко, словно пришпиливал булавки, норовя сделать это побольнее. А глаза… глаза смотрели на всех и вся с ненавистью обреченного. Казалось, он уже дошел до того состояния, когда никого и ничего не боятся.
— Я знаю, что говорю, — слышался его громкий голос из соседней комнаты. — Приказ об отступления уже получен.
Полоса света, падавшая оттуда, освещала койку, брошенный на нее кожаный плащ, портупею, фуражку… Рихард невольно прислушался.
— Ну знаете — и прекрасно, — голос Крейзиса был, как всегда, лениво спокоен. — Для чего же вопить об этом на весь белый свет?
В большой комнате слоями плавал табачный дым, стол был завален снедью, уставлен бутылками.
— На какой белый свет? Спрудж, с красными, похмельными глазами, потянулся было налить Освальду, но тот отстранил свой бокал. — Весь белый свет давным-давно знает наш изящный термин — «выравнивание». Должны мы выравнивать линию фронта, чтобы не попасть в русский котел? Должны. Согласно классической науке, в которой мы так сильны… Вот и выравниваем. Как начали в сорок первом под Москвой, этак и выравниваем до сих пор.
Он налил себе полный бокал, посмотрел сквозь него.
— Может, хватит? — покосился на бывшего следователя Крейзис.
Но Спрудж и глазом не моргнул. Он наклонился над столом, доверительно понизил голос:
— Знаете, что я вам скажу? Только не обижайтесь. Вас и вашего приятеля, — он качнулся, махнув рукой в сторону комнаты, где отдыхал Рихард, — вас здорово вышколили. Прежде чем сказать, вы двадцать раз оглянетесь. А мне, — он прищурил налитые кровью глаза, — мне терять нечего. Мне, что вперед глядеть, что назад… Ладно, пью за ваше здоровье и — вперед. Я жажду забвения и любви.
— Фи, майор… — насмешливо укорил Крейзис — он был рад сменить тему разговора. — Неужели опять в объятия этой навозной Валькирии? Падаете в грязь? Мне вчера ваши коллеги показывали…
— Грязь? — Спрудж захохотал. — Нет, господин Крейзис, большей грязи, чем та, в которой мы все вывалялись с головы до ног…
Он замолчал, увидев вышедшего из соседней комнаты Рихарда.
— Тысяча извинений, мы вам мешаем отдыхать. Не хотите ли рюмочку — за компанию?
Лосберг подошел к столу, налил себе сам, молча выпил.
— Знаете, Спрудж, — хмуро сказал он, когда я слышу ваши пьяные разглагольствования, у меня руки чешутся отправить вас к Маутнеру для интимной беседы.
— У вас такие верноподданнические порывы?
— Да нет, просто противно. Сегодня, надравшись, вы ниспровергаете и обличаете, а утром будете стучать зубами, пытаясь вспомнить — а не сболтнул ли чего лишнего?
— Я? Стучать зубами? — пьяно возмутился Спрудж. — Впрочем, не знаю, может, вы и правы. Значит, завтра я буду дерьмо, а сегодня — человек. И вот, пока я человек…
— Пока вы человек, майор, ложитесь-ка спать, — посоветовал Крейзис. — И для вас будет лучше, и для нас.
— Нет, пока я человек, я все-таки скажу, — зло перебил Спрудж. К вопросу о грязи. Может быть, эти несколько дней, когда мы пьянствовали в паршивой деревне… Может, эти несколько дней, когда мы просто пьянствовали и никого не убивали… мы будем вспоминать как единственное светлое пятно. Попомните мои слова. Когда нас всех поставят к стенке… Или когда набросят на шею петлю — такую, знаете, обыкновенную петлю из крепкой, толстой веревки…
— Довольно! — взорвался, наконец, Крейзис. — Вы не настолько пьяны, чтобы не соображать, что говорите.
— В самом деле, Спрудж, — прищурился Рихард, — Вы ставите нас в неловкое положение. Не бежать же нам к Маутнеру и не просить, чтобы вас изолировали как особо опасного пораженца?
Спрудж обвел обоих туманным, настороженным взглядом:
— Ну и черт с вами… Хотел по-дружески, откровенно, а вы… Ладно, адье! — он подмигнул Крейзису. — Как вы сказали? Навозная Валькирия? Неплохо.
Надвинув фуражку и тщательно проверив положение козырька, майор двинулся к выходу.
— Куда вас несет? — остывая, буркнул Рихард. — Вы же на ногах не стоите.
— А мне сегодня ноги не нужны, — серьезно возразил Спрудж. — Ноги, уважаемые партайгеноссе, нам понадобятся завтра. Длинные ноги, до самой Унтерденлинден.
— С ним надо что-то делать, — сердито сказал Рихард, когда за Спруджем захлопнулась дверь. — Он окончательно спился. А потом… Не знаю, как ты, а мне вовсе не улыбается объясняться с Маутнером.
— Подонок! — проворчал Крейзис. — Хорошо устроился.
— Кто, Маутнер?
— При чем тут Маутнер? Этот… — Освальд вскочил, взволнованно прошелся по комнате. — Самое идиотское заключается в том, что он говорит то, что думает. И остается в полнейшей безопасности. Даже наоборот.
— Ты хочешь сказать, что он?..
— А ты сам не видишь? Провокатор высшей пробы, рубаха-парень, фронтовик… Так и подбивает, так и подбивает на откровенность. Вот, значит, какую поручили ему работенку.
— Выходит, наши вежливость и долготерпение…
— …Могут выйти боком, — закончил Крейзис мысль, начатую Лосбергом. — Ничего, я тебе покажу, полицейская сволочь. Ты у меня попляшешь.
Офицер, бредущий без охраны по пустынной ночной деревне, да еще такой выразительно шаткой походкой — редкостная удача. Разведчики, притаившиеся в кустах неподалеку от дороги, переглянулись. Но Артур предостерегающе поднял палец — брать офицера посреди улицы было рискованно: слишком светла июньская ночь. Но тот, видно, играл с судьбой до конца — он решительно направился к самому крайнему домику, громко постучал в открытую створку окна.
— Ку-ку! — кокетливо рявкнул он и стал неловко карабкаться на подоконник.
Из комнаты послышался женский смех:
— Ой, что вы? Штаны порвете. Идите, я вам дверь открою.
— Ни в коем случае, — решительно возразил Спрудж. — Я — Ромео. Я хочу в окно. Слышишь, я навозный Ромео… — И мешком перевалился через подоконник.
Такой случай, конечно, упускать было грешно — Артур кивком головы подал команду. И сразу же возле окна бесшумными тенями скользнули разведчики. Горлов приподнялся, осторожно заглянул в комнату; видимо, то, что предстало перед его глазами, заинтересовало офицера. Он даже расположился поудобнее, как в кино, Банга, стоявший рядом, нетерпеливо толкнул товарища в бок, но тот лишь досадливо отмахнулся.
Затем Горлов приблизил губы к самому уху Артура и прошептал то ли в шутку, то ли всерьез:
— Погоди, пусть обмякнет…
Спрудж мычал и отчаянно вырывался. Лаукманис с Круминьшем прижали его к полу, Горлов быстро и ловко опутывал пленного своим крепким, тонким линем. В несколько секунд бывший следователь был упакован как готовый к отправке почтовый тюк. Он дико вращал глазами, пытаясь выплюнуть кляп, натужно мычал. Ни Артур, ни Лаймон не узнали в полумраке своего бывшего знакомого. Круминьш деловито взвесил тюк, взвалил на плечо и, погрозив насмерть перепуганной толстухе кулаком, двинулся к окну.
Разведчики бесшумно уходили к лесу, минуя хутор, с которого доносилась знакомая песня:
— Лиго, Лиго!
Венки из дубовых листьев украшали головы молодых солдат. Их было человек восемь: они топтались возле высокого бревенчатого сарая с сеновалом наверху и пели. Песня, сплетенная из разных голосов, звучала красиво.
— Янис! Эй, Янис! — задрав голову, крикнул один из солдат. — Что за манера уединяться в праздник?
— И девчонка второй день без нашего общества, — подхватили другие. — Лучше спускайтесь, — кто-то шутливо стукнул по перекладине лесенки. — А то сами влезем к вам. Должны же мы, черт возьми, выпить с нашим единственным Янисом. — Солдат позвенел кружкой по глиняному жбану. — Слышишь, пиво еще есть.
Дверца сеновала рывком распахнулась и оттуда выглянул белобрысый паренек в расстегнутом френче.
— Идите вы к черту! — сердито сказал он.
Солдаты захохотали:
— Мы-то уйдем. Но когда ты вернешься, пива больше не будет. Выбирай, что лучше.
Дверца демонстративно захлопнулась. Солдаты постояли, поупражнялись в острословии, погоготали, но так и не добившись желаемого, снова затянули свою песню и пошли к дому, темневшему неподалеку. Когда все утихло, дверца наверху снова распахнулась, и солдат в расстегнутом френче уселся на пороге, свесив ноги вниз. Это был тот самый белобрысый парень, который перед отправкой эшелона в Германию подходил к Рихарду со своей фотокарточкой.
Через несколько минут в проеме сеновала показалась голова девушки. Она села рядом, тесно прижалась к своему дружку — парень тут же обнял ее за плечи. Так они и сидели, слушая песню и сонные голоса кузнечиков.
— А знаешь, где я праздновал Лиго прошлым летом? В Гамбурге.
— В Гамбурге? Вот интересно.
— Очень, — как-то странно усмехнулся солдат. — Сидел всю ночь в пивной и пытался объяснить глухому официанту, что такое Лиго.
— Ну а он? Понял?
— Понял, — хмуро ответил парень. — Немцы, говорит, тоже любят пиво. — И, помолчав, грустно добавил: — Ты и не знаешь, что это такое — целых два года прожить среди чужих…
Он умолк. Пригорюнилась и девушка. Жалея, провела ладонью по его волосам, спросила сочувственно:
— За что они тебя угнали?
— Никто меня не угонял. Сам поехал.
— Сам?
— Хотел мир посмотреть. Мы были… он поежился от воспоминаний, — первые ласточки. Трудовые посланцы нашего народа. Ой, как я упрашивал одного доброго дядю напечатать мое фото в газете! Дураком был…
— А теперь? Умный? — Девушка лукаво заглянула ему в глаза.
Солдат притянул ее за плечи, поцеловал.
— Знаешь, как я обратно выбрался?
— Ну?
— Не будешь смеяться? Меня один француз научил. Я себе такой понос устроил, что всех врачей перепугал… — и снова помрачнел. — Вернулся в Латвию, а здесь мобилизация. Так что…
— Яни, я уже говорила с отцом, — горячо зашептала девушка. — Мы тебя спрячем. Никто не найдет. Ну сколько еще немцы продержатся?
— А что потом? — хмуро переспросил он. — Когда придут русские?
— Ничего, объяснишь. Ты же ни в чем не виноват, тебя забрали.
Он задумался, горько вздохнул:
— Ничего теперь не объяснишь. Да и слушать меня не станут… После всего, что эти натворили. Ты не видела, а я знаю.
— Что же будет? — со страхом спросила она.
— Будет то, что я останусь с ребятами до конца. Может, хоть на этот раз попаду в газету, а?
— Яни, милый, — она обхватила его голову руками.
Но теперь он словно проснулся — черты его лица стали жесткими, чужими.
— Не надо, Айна, перед смертью не надышишься. Я, пожалуй, пойду.
Она отстранилась, несколько секунд смотрела на него с мольбой и надеждой, но он не дрогнул; ласково провел ладонью по ее голове, с силой притянул к себе, поцеловал и решительно начал спускаться вниз. Добрался до середины лестницы, не выдержал, гулко спрыгнул на землю. Поправил дубовый венок на голове, обернулся, помахал на прощанье рукой.
Она видела, как он шагал по лугу, над которым слоился туман. Его фигура удалялась, таяла в июньской ночной полумгле, и вдруг девушка закричала — Дико, страшно. Не понимая, что произошло, парень обернулся, увидел метнувшуюся к нему из зарослей фигуру. Что-то молнией сверкнуло в темноте, он почувствовал тупой, короткий удар в сердце… Перед глазами поплыли красные круги, ноги подкосились и он, даже не вскрикнув, свалился на землю. Горлов выдернул нож, по-кошачьи отпрыгнул в сторону, сдавленным шепотом просипел кому-то в темноту:
— Уходим. — И скорее с досадой, чем со злобой: — Шляется по ночам, идиотик. Только людям мешает.
А девушка кричала. Ее крик, пронзительный и горький, леденил сердце безысходностью и отчаяньем. Словно предвестник смерти, он набатом метался среди ночи.
Разведчики уже почти добрались до леса, когда в небе зажглась одна ракета, другая, третья. Все осветилось, как в яркий день. Затрещали автоматы. Сначала друзья погибшего, а потом и другие бросились к лесу, норовя настигнуть, окружить и уничтожить группу. Слышалась немецкая и латышская речь.
— Уходите! — крикнул своим Артур. — Я прикрою.
Он бросился за поваленный ствол дерева, дал несколько коротких очередей, приподнялся, метнул гранату и тут же отполз в сторону. Только хотел нажать на спусковой крючок, как вдруг услышал рядом с собой стук автомата — кто-то из разведчиков помогал командиру.
— Я сказал уходить! Всем! — Он обернулся и встретился с невозмутимым взглядом Лаймона. — Опять поссориться хочешь?
И тут же осекся: Калниньш выронил автомат, неуклюже ткнулся носом в землю.
— Лаймон! — Артур бросился к другу, перевернул на спину. По гимнастерке расплывались свежие пятна крови. — Лаймон! Он приложил ухо к груди и вроде бы уловил едва слышное биение сердца.
Жив? — рядом стоял Горлов. Он деловито наклонился над раненым. — Кажется, дышит. Уходите, я прикрою. — И, видя, что Артур колеблется, зло крикнул: — Выполняй задание, капитан.
ГЛАВА 18
Сквозь поток отступающих немцев — грязных, небритых, оборванных — непрерывно сигналя, пробирался штабной вездеход с открытым верхом. За рулем сидел Рихард, рядом с ним — Манфред, на заднем сиденье среди чемоданов дремал Крейзис. Рихард — взмокший от напряжения, остервенело крутил баранку, лавируя в густой толпе.
— Удивительно все взаимосвязано в этом мире, — неожиданно проснулся Крейзис. — Не выиграл бы я у Брюгге ящик коньяка, не налакался бы как свинья Спрудж… Не налакался бы Спрудж, не отправился бы к своей навозной Валькирии… Кстати, Маутнер напрасно ее расстрелял — при чем тут она? Так вот, не пошел бы к ней Спрудж — и она была бы цела, и он не попал бы в лапы к русским. Вы же не думаете, что он там умирал с именем фюрера на устах, унося в могилу военные тайны. Рихард! Ты следишь за ходом рассуждений? Не надрался бы Спрудж как свинья, не было бы русского наступления.
— При чем тут Спрудж? — поморщился — как от зубной боли — Зингрубер. — Тоже мне знаток военных тайн!
— Вы уверены? — недоверчиво прищурился Освальд. — Что ж, дай-то бог. А что, господин майор, там у нас ничего не осталось?
Зингрубер наклонился, поднял бутылку, не оборачиваясь, подал ее Крейзису. Тот поспешно откупорил ее и надолго приложился к горлышку.
— По-моему, Спрудж может быть спокоен, — недовольно проворчал Рихард. — У него остался достойный преемник.
— А что — Спрудж? — Освальд наконец отлепился от бутылки. Может, он и не так уж глуп? Во всяком случае, любой из них, — он небрежно махнул рукой в сторону отступающих, — не прочь был бы оказаться на его месте.
— Веди поаккуратнее, — посоветовал Манфред. — При отступлении солдаты всегда немного нервничают. Если заденешь, могут не понять. А вам, — он неожиданно обернулся к Крейзису, — если вы не хотите составить им компанию, советую попридержать язык.
В этом момент Рихард повернул направо, на проселочную дорогу, и дал полный газ. Некоторое время ехали молча, занятые своими мыслями. Первым опомнился Зингрубер. Он удивленно покрутил головой, с недоумением уставился на водителя:
— Ты не сбился с дороги? Я не вижу наших войск.
Рихард, будто не слыша вопроса, гнал машину на огромной скорости.
— Мне кажется, мы заблудились, — повторил Манфред.
— Не волнуйся, небольшой крюк — и мы будем в голове колонны, — успокоил его Рихард.
— Что значит небольшой? Куда ты едешь?
— Я должен кое-что взять из дому.
— Что взять? Из какого дома? — наконец сообразил немец, — А ну, дай мне руль.
— Я должен кое-что взять, — упрямо повторил Рихард.
— Взять надо все, — пьяно икнул Крейзис, ощупывая вокруг себя чемоданы. — Господа, не помните, сколько до войны стоил фунт золота в долларах?
— Заткнись ты со своим золотом! — осатанел Манфред. — У вас там столько же золота, сколько искусственных зубов. — Снова обернулся к Рихарду: — Куда тебя несет? Ты собираешься рисковать головой?
— Я должен кое-что взять, — словно в бреду, твердил одно и то же Лосберг.
Дом Озолса сотрясался от близкой артиллерийской канонады. Визгливо дребезжали стекла. Хозяин с перекошенным от страха лицом, в брезентовой куртке с капюшоном бестолково метался по комнате, швыряя в огромный чемодан все, что попадало под руку. При этом он поглядывал на сундучок, стоявший рядом.
Снаряд рванул так близко, что дом содрогнулся до основания. Посыпалась штукатурка, послышался испуганный плач ребенка, Озолс втянул голову в плечи, ссутулился, мелко перекрестился:
— О, господи!.. — и бросился в комнату дочери. — Ма-арта! Доченька…
Марта сидела у кроватки сына, гладила его по голове, успокаивала. Она строго взглянула на отца, приложила палец к губам. Озолс обмяк и, стараясь не стучать протезом, подошел поближе, грустно посмотрел на внука — его глаза увлажнились, губы нервно задергались. Нагнувшись, почти не дыша, он взял ладонь ребенка, поцеловал. Эдгар капризно надул губы, выдернул руку.
— Что же ты со мной делаешь, доченька? Куда же я один?
Лицо Марты было мраморно бледным, но голос звучал спокойно, размеренно.
— Мы уже все обговорили, отец. Я никуда не поеду.
— Господи! — Озолс рывком придвинул стул, неловко присел на него, вытянув неживую ногу, и заплакал. — Вот тебе и забота на старости лет. Бросаешь, как собаку. Ты хоть подумала, как я там буду без тебя, без него…
Марта молчала. Старик смахнул слезу, обреченно вздохнул:
— Ох, горе, горе…
В окно нетерпеливо постучали. Якоб встрепенулся, закричал:
— Сейчас мы, сейчас. — Он бросился было в другую комнату, схватил сундучок и тут же вернулся. — Доченька, родная, господом богом тебя заклинаю — уедем отсюда. Не обо мне, так о себе, о нем подумай. Все прахом идет, все. Если и уцелеете в этой каше — разве тебе простят? Все припомнят — и меня, старосту, и благоверного твоего, муженька… Добра не жди. Никакой Банга не выручит. Уедем, пока не поздно. Руки, голова при мне, да и здесь еще не пусто, — он похлопал по сундучку. — Устроимся где-нибудь в тихом местечке, домишко поставим, внука на ноги поднимем, выучим…
— Нет, отец, нет. Меня уже обучили — раз и навсегда. Тихое место… Где ты его собираешься искать, в Германии?
— Какая разница — в Германии, не в Германии, — крикнул он. — Сейчас важно отсюда выбраться, а там…
— Ты опоздаешь, отец. Они ждать не будут. Тебе, действительно, нельзя здесь оставаться.
— Эх, дочка, дочка…
Судорога скривила лицо Озолса. Он шагнул было к Марте, протянул вперед руки, но в это время за окном раздался шум подъезжающего автомобиля. Старик удивленно посмотрел в окно и увидел выходящего из машины Лосберга.
— Рихард! — сдавленно крикнул Озолс и бросился к выходу.
Петерис, увязывавший на телеге укрытую брезентом кладь, с удивлением поглядел на выскочившего из автомобиля мужа хозяйки, равнодушно поздоровался.
— Уже собрались? — не отвечая на приветствие, торопливо спросил тот.
Петерис посмотрел на него исподлобья, завязал последний узел, неопределенно ответил:
— Кто собрался, а кто и нет. — И покосился на спутников Рихарда.
Озолса и Марту Лосберг увидел в прихожей. Как он ни стирался напустить на себя равнодушный вид, как ни контролировал свою волю, голос предательски выдал волнение. Неужели эта женщина всегда будет иметь над ним такую власть?
— Хорошо, что вы уже собрались. Где Эдгар?
— Спит, — сухо ответила Марта.
— Поднимай быстрее. — И обернулся к Озолсу.
— На лошади далеко не уедете. Они ближе, чем вы думаете.
— Понимаете, Рихард… — замялся Якоб. — Тут такое дело… Собственно, еду я один.
— Как? — изумленно воскликнул Рихард. — Ты остаешься?
Марта не ответила.
— Та-ак, понятно, — тихо, со злостью процедил Лосберг.
И вдруг — будто у него сдернули кожу с зажившей раны, обнажили голый нерв.
— Его ждешь? На него надеешься? Ради него ты разбила нашу семью, ради него ты хочешь погубить и себя, и ребенка?
— Ты прекрасно знаешь, что семьи у нас никогда не было. А что касается ребенка, то тебе ли говорить?
Нерв дернулся — кто-то провел по нему безжалостной рукой.
— Вот как? Когда я подбирал тебя из грязи, как подметку, ты разговаривала другим тоном. А сейчас… — И вдруг, потеряв над собой контроль, истерично закричал: — Идиотка! Думаешь, Артур спасет тебя? Ни черта подобного. На тебе же клеймо — на всю жизнь. Ты моя жена.
— Бывшая! — сорвалась на крик Марта.
— Для меня, а не для них. И, между прочим, не забудь про отца. — Рихард ткнул пальцем в перепуганного Озолса. — Уж от него ты никак не открестишься. Подтвердите, господин староста.
— Я говорил, я просил… — слезливо забубнил старик.
— Подумай о ребенке. Кем он вырастет при них?
— Уезжай, Рихард, — блеклым, не окрашенным никакими эмоциями голосом ответила Марта.
Он долго и пристально смотрел ей в глаза, сокрушенно вздохнул:
— Ты об этом очень пожалеешь, но будет поздно.
— Господи, что это там?.. — засуетился Якоб.
Во дворе немецкие солдаты — усталые, хмурые, запыленные фронтовики — окружили готовую к отъезду подводу.
— Лошадь не моя, — объяснял лейтенанту Петерис. — Говорите с хозяином. Он там, в доме.
— Какие разговоры — русские в двух километрах, — раздраженно бросил лейтенант. — А у нас раненые. — И приказал солдатам: — Разгружайте!
Те расторопно принялись выполнять приказание. С телеги полетели ящики, мешки, чемоданы.
— Боже, что они делают?! — крикнул в ужасе Озолс, пробираясь к подводе. — Господин офицер, я староста этого поселка, и я тоже эвакуируюсь.
Волоча хромую ногу, он кинулся к солдатам, пытаясь преградить им дорогу. Но те молча оттолкнули его и продолжали свое дело.
— Рихард! — завопил старик. — Что же вы стоите?
Лосберг недовольно посмотрел на неугомонного тестя, секунду-другую подумал, направился к своей машине.
— Манфред, — с наигранным спокойствием начал он, — придется тебе в своем мундире сказать пару слов этому ретивому лейтенанту. Неудобно, все-таки тесть…
— В моем мундире? — холодно усмехнулся Манфред. — Этим психопатам из окопов? Нет уж, спасибо.
— Минуточку, — поднялся со своего сиденья Крейзис. — В таких делах надо с тонкой душой. Это я вам как юрист говорю.
Он хитро улыбнулся, пересчитал пальцем солдат, раскрыл один из чемоданов и, зажав что-то в кулаке, самоуверенно, слегка шатаясь, двинулся к подводе. Рихард удивленно смотрел ему вслед.
— Послушайте, лейтенант, — солидно начал Крейзис, — есть приемлемая основа для примирения сторон. Вы этому старику лошадь, я вам…
— Что? — изумленно обернулся к нему офицер.
Крейзис покровительственно осклабился, разжал кулак: на ладони лежали золотые кольца.
— Что это? — растерялся лейтенант — он, видимо, не верил своим глазам.
— Золото. Самой высшей пробы, — деловито объяснил Крейзис. И, заметив странно неподвижный взгляд немца, торопливо добавил. — Ну хорошо, сейчас принесу еще. Договорились?
Офицер наконец осмыслил предложение, проглотил комок и вдруг с ненавистью ударил Освальда в челюсть. Крейзис мешком отлетел в сторону, тут же проворно вскочил — из рассеченной губы потекла кровь. Золото валялось у его ног. Один из солдат не выдержал, нагнулся, взял одно из колец, внимательно разглядел, даже попробовал на зуб, презрительно усмехнулся:
— Фальшивка… Сволочь…
Лейтенант дрожащей рукой расстегнул кобуру. Его ненавидящий взгляд не предвещал ничего хорошего — Манфред невольно потянулся к автомату. Кровавая стычка, казалось, была неминуема. Но в это время где-то совсем рядом послышался рокот танковых моторов. Солдаты бросились врассыпную, Крейзиса какая-то невидимая сила швырнула в машину. Не стал искушать судьбу и Рихард. Один Озолс замешкался и обескураженно топтался на месте как же можно уехать, не попрощавшись с дочерью, без сундучка… Оттолкнув Рихарда, Манфред схватил руль и, рванув с места, перевалил автомобиль через канаву и погнал к лесу. Минуту спустя машина уже петляла между деревьями, подпрыгивая на корнях, едва не задевая стволы, потом выскочила на узкую лесную дорожку.
— Куда же вы? А я?..
Озолс беспомощно оглянулся на Марту, заковылял было вслед за уехавшим зятем, но скоро понял тщетность своих намерений и безвольно остановился посреди дороги. Он не стыдился своего отчаяния, не вытирал слез, которые ручьями стекали по его небритому, грязному лицу.
— Будьте вы все прокляты! — беззвучно шептали его губы. — Будьте прокляты!
Барон фон Штальберг — холеное, породистое лицо, старопрусская выправка, дорожный костюм в английском вкусе — вошел в гостиную и с неудовольствием огляделся. В доме — этой чопорной цитадели прусского аристократизма — творилось черт знает что. Снятые со стен картины штабелями громоздились вперемешку с какими-то ящиками, корзинами. Повсюду — на столах, на диванах — возвышались груды фарфора, хрусталя, пол был усыпан стружкой, обрывками бумаги, клоками ваты.
Но самое ужасное — это пленные девки. В своих грубых башмаках они толклись на узорчатом паркете, хватали грязными заскорузлыми руками тончайшие, прозрачные на просвет чашки с танцующими пастушками, причиняя барону почти физические страдания. В одинаковых серых куртках, с одинаково серыми, изможденными лицами, женщины были так странно похожи одна на другую, что среди них не сразу можно было признать Бируту.
Под присмотром сухопарой, жилистой экономки — настоящего фельдфебеля в юбке — женщины спешно упаковывали хозяйское добро. Складывали в ящики со стружкой обернутую в вату посуду, сворачивали и зашивали в чехлы гобелены. Брезгливо отворачиваясь, барон поспешно прошел через зал к выходу.
У подъезда, возле вместительного черного лимузина, дюжий шофер выстраивал чемоданы, рядом суетился, усаживая в авто баронессу, какой-то плюгавый человечишко во френче, напоминавшем не то мундир, не то ливрею.
— Брандис! — окликнул его Штальберг.
— Слушаю, господин барон. — Человечишко угодливо ощерился — это был гнилозубый капрал-коротышка — «приятель» Артура Банги по довоенной казарме.
— Извольте проследить, Брандис, — Штальберга отличала отрывистая, лающая манера говорить. — Чтобы все было упаковано и сложено. До последней мелочи. Грузовики будут здесь завтра. Утром, в десять. Ноль-ноль.
— В десять? — ужаснулся Брандис. — Но, господин барон, как бы не опоздать.
— Не рассуждать! Особое внимание обратите на упаковку мехов. Ковров. Гобеленов. Список у вас?
— Так точно, господин барон. — Капрал торопливо вытащил из кармана объемистый блокнот.
— Проверяйте каждый ящик. Каждую корзину. Каждый тюк. Смотрите, чтобы эти коровы… Не забыли. Не сломали. Не украли. Не разбили. Не испортили. Отвечаете головой.
— Вольфи! — крикнула из машины баронесса. — Меня очень беспокоит фарфор.
— Библиотеку погрузите в крытый фургон…
— Как, и библиотеку? — взмолился Брандис. — Но, господин барон, когда же я все это успею?
— Слушайте, Брандис, — неожиданно застрочил Штальберг. — Я избавил вас от окопов и взял управляющим не за тем, чтобы вы задавали мне идиотские вопросы. Я надеялся, что в вашей клоунской армии вас научили командовать хотя бы бабами. Вы в состоянии заставить этих свиней хоть раз как следует потрудиться? Или умеете только таскать их к себе в постель?
Брандис виновато потупился.
— Лошадей сами погрузите — лично. На борт поднимете — лично. Проверите коновязь — лично. Решетки запрете — лично. И поедете с ними — лично. Но не в кабине…
— Вольфи, почему ты не скажешь ему о фарфоре?
— Но не в кабине, — даже не обернувшись к жене, продолжал Штальберг. — А в кузове. Не дай бог, с Пилигримом, или с Эфиопом, или с Констеблем что-то случится в дороге.
— Не извольте беспокоиться, господин барон.
— Беспокоиться? Мне? С какой стати? — высокомерно отрезал барон. — Это вам надо беспокоиться. За свою шкуру.
К машине подошла надменного вида девица с черной лохматой собачонкой на руках.
— Я не понимаю, папа, к чему такая спешка? Мы нарушаем Ральфу весь режим.
— Садись, Эльза, — приказал барон. — Слухи о русском прорыве… Уверен, сильно преувеличены. Но мой девиз — предусмотрительность, благоразумие и осторожность. Кроме того…
Он вдруг замолчал, прислушался — из раскрытого окна гостиной донеслись громкие крики, звон разбитого стекла, ругань, звуки пощечин.
— Что такое? — обернулся он к Брандису. — Узнать.
— Вольфи, — высунулась баронесса. — Это фарфор. Я чувствовала, я говорила… Боже, я не вынесу этой пытки.
Брандис стремглав бросился в дом.
— Мерзавка, грязная скотина! — экономка хлестала Бируту по щекам. — Ты нарочно разбила, гадина? Получай, получай…
Брандис обомлел — на полу, у ног девушки, лежали осколки самой дорогой, самой любимой хозяйкиной вазы, вывезенной когда-то Штальбергом из Китая.
— Прекратите! — приказал он экономке, испуганно оглянувшись в сторону окна. — Немедленно прекратите крик, фрау Кноблох… И не пачкайте об нее руки. С этими тварями не так расправляются.
Он подошел к полумертвой от страха девушке, вприщур оглядел с головы до ног, процедил злорадно:
— Ну что, недотрога? Нашкодила? Вот теперь мы с тобой и потолкуем. Посмотрим, что ты запоешь. — И гаркнул: — Марш в барак! Живо…
— Ну, что там? — нервно спросил барон, когда Брандис вернулся.
— Все в порядке, господин барон. Экономка нервничает, что эти свиньи медленно работают.
— Но я слышала звон стекла, — сказала баронесса.
— А-а… Они нечаянно выбили стекло в столовой.
— Вот видишь, Люция, — Обернулся барон к супруге. — Ты напрасно нервничаешь. — Он хлопнул дверцей и сказал Брандису уже из окна: — Жду вас в Танненбурге. Завтра.
— Господин барон, одну секунду, — вспомнил вдруг Брандис: — А как мне быть с этими? Ну, с ними… — кивнул он в сторону окна. — Куда мне их?
— Это меня не касается, — отмахнулся барон. — Куда хотите, туда и девайте…
— Но, господин барон, если их оставить здесь…
В ответ лишь взревел мотор, и машина отъехала, обдав Брандиса облаком выхлопных газов.
— Бирута Спуре, к управляющему! — открыв дверь в барак, крикнул охранник — пожилой немец в штатском с автоматом в руках.
Девушка вздрогнула, села на нарах. Испуганно оглянулась, словно ища у кого-то защиты. В тускло освещенном бараке спали под серыми одеялами сморенные работой женщины.
— Ну, что ты там копаешься? Я тебя еще ждать должен? — прикрикнул охранник.
Она медленно поднялась.
— Бирута, слышишь? — схватив ее за руку, зашептала соседка. — Постарайся его задобрить… Что уж теперь? Не упирайся, прошу тебя. А то будет, как с той полькой, с Зосей. Помнишь?
Бледное, без кровинки лицо девушки застыло гипсовой маской; ничего не ответив, ссутулившись, она пошла к выходу. .
Брандис ожидал в гостиной.
— А, недотрога… Ну-ка, ну-ка, иди сюда.
С загадочной ухмылкой управляющий смотрел, как медленно, обреченно приближалась к нему работница. Не в силах сдержать нетерпение, он схватил ее за руку, рывком поволок за собой по лестнице на антресоли и, распахнув ногой дверь, втолкнул в комнату. Это была спальня баронессы — роскошная, обставленная в восточном вкусе комната, с широченной, как палуба, кроватью.
— Раздевайся… — все с той же затаенной улыбкой тихо сказал управляющий.
Бирута затравленно озиралась, прижав руки к груди.
— Ну быстрей же!
Она не шевельнулась.
— Ну! — хищно ощерился Брандис. — Долго тебе повторять? — и выхватил из кармана пистолет.
Самодовольно пристукивая носком сапога по паркету, он внимательно наблюдал, как к ногам девушки падают куртка, юбка, грубая рубашка…
— Башмаки!
Ноги Бируты медленно ступили из тяжелых ботинок на пушистый ворс ковра. Брандис пинком отшвырнул в угол кучу тряпья, прошел мимо невольницы и распахнул полированную дверь гардероба — шкаф был битком набит изысканными нарядами.
— А теперь одевайся, — торжествующе приказал Брандис, пряча пистолет. — Ну! Что вылупилась? Долго будешь голой задницей светить? — Он захохотал и, схватив с вешалки первое подвернувшееся платье, швырнул ей. — Не нравится, выбирай другое.
К ногам оторопевшей и ничего не понимающей Бируты летели бархат, шелка, меха, кружева.
— Хватай, недотрога, пользуйся, наряжайся, напяливай хоть все сразу. Брандис тебе дарит. Все — твое.
Стол, сервированный в кабинете барона, ломился от яств и бутылок, фарфора и хрусталя.
— Все твое, недотрога, — в экстазе вопил уже основательно подвыпивший Брандис, наполняя огромные фужеры французским коньяком. — А? Ты сидела когда-нибудь за таким столом? Могла мечтать?
Обряженная в роскошное вечернее платье, укутанная в дорогие меха, Бирута застыла, словно изваяние, и ни к чему не притрагивалась. Но Брандис этого не замечал, Его так и распирало от самодовольства.
— Небось, перетрусила, когда сюда шла? — подмигнул он. — Думала — ну, сейчас мне капут. Сдрейфила, признавайся?
Управляющий опрокинул прямо в глотку бокал коньяка и продолжал с пьяной откровенностью:
— А мне наплевать ка ихний фарфор. Хоть все переколоти к чертовой матери. — Он размахнулся и со всей силой хватил бокал об пол. — «Жду в Танненбурге», — передразнил барона. — Как же, нашел дурака. Так я тебе и бросился в Танненбург. С твоими жеребцами в кузове… Нет уж, господин барон, откатались вы на своих жеребцах, теперь моя очередь.
Брандис налил себе еще, но пить не стал. Наклонился к Бируте через стол, заговорил громким шепотом:
— А знаешь, недотрога, почему я позвал тебя сегодня? — Он похотливо подмигнул. — Ты думаешь, мне только это и нужно? — Долго сверлил ее взглядом, неожиданно заржал: — Я помню, как ты меня съездила по физиономии, не побоялась. Думаешь, я не мог тогда пристрелить тебя, как ту польку? Раз плюнуть. Но… — Он опустил глаза, облизнул пересохшие губы. — Ты хорошая баба, недотрога. И ты мне нравишься. — Брандис шумно вздохнул, потом с облегчением глотнул коньяку. — И по крови родная. Ты не гляди на меня, что Брандис вроде как на побегушках у барона. Брандису палец в рот не клади. Брандис не промахнется.
Он рванулся куда-то под стол и, выудив оттуда саквояж, щелкнул замком. Саквояж был туго набит деньгами и драгоценностями.
— Думаешь, Брандис с пустыми карманами? Как бы не так. Брандис зря времени не терял. Махнем с тобой, недотрога… Гори они огнем — немцы, русские… Куда-нибудь за океан или к англичанам. Ох, и гульнем с тобой, недотрога, ох, и гульнем…
Управляющий небрежно бросил саквояж под стол и опять налил коньяк.
— Ну что, недотрога? — хохотнул он. — По последней и, как говорится, за свадебку?
Он залпом осушил свой бокал, перевел дыхание, поднялся и, пошатываясь, направился к Бируте. Девушка незаметно придвинула поближе серебряный столовый нож.
— Ну же, цыпленочек… Иди за своим петушком. Цып-цып-цып… Ко-ко-ко…
В это время на лестнице раздались чьи-то шаги, послышались раздраженные мужские голоса, дверь распахнулась, и в комнату вошли два офицера — вид их был страшен: заросшие, забрызганные грязью, с воспаленными безумными глазами; у обоих — осунувшиеся от изнеможения лица. Вошедшие едва держались на ногах, и от них за версту разило порохом, сырой землей и тленом. У одного белела на голове грязная повязка с засохшими пятнами крови, у другого рука висела на перевязи. Они недоуменно, как бы соображая, не мерещится ли им, уставились на пиршественный стол, с еще большим удивлением оглядели красивую женщину в шикарном вечернем туалете. Наконец, обратили свой взор на Брандиса:
— С кем имеем честь? — глухо спросил офицер с забинтованной головой.
Брандис, заметно побледневший и съежившийся прямо на глазах, вытянулся в струнку, подобострастно, скороговоркой выпалил:
— Управляющий господина барона фон Штальберга. — Замялся, испуганно посмотрел на Бируту. — А это моя супруга.
Бирута вздрогнула — ей показалось, что она ослышалась. Но офицеры ничего не заметили. Превозмогая смертельную усталость, они изобразили на лицах почтение и даже попытались щелкнуть каблуками.
— Скажите, мы можем видеть господина барона? — спросил офицер с рукой на перевязи.
— К сожалению… Господин барон сегодня утром отбыл в Танненбург.
— Вот как… Печально.
Бирута постепенно приходила в себя: ее лицо порозовело, в глазах появились живые искорки. Она внимательней прислушалась к разговору, осторожно огляделась — ей вдруг пришла в голову отчаянная мысль: а почему бы, действительно, не попытать счастья? И откуда только взявшимся беззаботным тоном предложила:
— Присаживайтесь, господа. Выпейте с нами бокал вина, отдохните. Сейчас прикажу подать чистые приборы.
Брандис оторопел от неожиданности. Его маленькие испуганные глазки беспомощно заметались из стороны в сторону. Офицеры удивленно переглянулись — как Бирута ни старалась, скрыть акцент она не могла — однорукий что-то вполголоса буркнул своему товарищу. Но девушка, не теряя самообладания и не давая им опомниться, не спеша, вышла из комнаты. Брандис хотел было двинуться вслед за ней, пробурчав что-то невнятное в оправдание, но тот, что был с забинтованной головой — офицеры уже сидели за столом и руками хватали с тарелок куски мяса, колбасу, — спросил:
— А скажите, господин управляющий, у вас какого-нибудь транспорта не найдется? Автомобили, тракторы…
— Грузовики прибудут завтра утром.
— Завтра? — офицеры вновь переглянулись. — Ну а лошади у вас хотя бы есть?
— Лошади? — замялся Брандис. — Видите ли… Как вам сказать? И да, и нет. В общем-то есть, но какие… Высший класс, выездка, дерби, ипподромные скачки…
— Скачки? — невесело усмехнулся однорукий. — Боюсь, в этом им с нами уже не сравняться. — Он подхватил жирными пальцами большой кусок ветчины и отправил его в рот. — Придется познакомить ваших питомцев с более прозаическими задачами. Телеги, надеюсь, найдутся?
Брандис испуганно выпучил глаза:
— Извините, но как же можно? Господин барон…
— Вы хотите сказать, господин барон предпочел бы, чтоб его лошади достались русским?
Брандис побледнел:
— Вы считаете…
— Я давно уже ничего не считаю, господин управляющий. Разумеется, кроме трупов и километров — от Москвы до фатерланда.
— Но ведь это, господа… — у Брандиса задрожали губы.
— Неужели вам еще не ясно? — раздраженно спрос офицер с забинтованной головой. — Русские будут здесь с минуты на минуту.
— Простите, я совсем не о том, — взмолился коротышка. Но это же выходит, что все имущество господина барона…
— Как и все имущество великой Германии, — не сводя с него воспаленного взгляда, бросил однорукий. — Вас это не беспокоит, господин управляющий? Вы-то кто по национальности?
Брандис смутился, словно его поймали на чем-то очень неприличном, едва слышно пролепетал:
— Латыш.
— Ну, что я тебе говорил? — однорукий победно взглянул на товарища. — Я по ней сразу понял — типичный акцент. Ну, так что же вас беспокоит?
— Мне поручено господином бароном…
— Ах, это… Ничего не поделаешь — завтра здесь уже будут пировать иваны. Так что, если вас не устраивает перспектива скорой встречи с ними, выводите скакунов, выкатывайте телеги. Парочку самых резвых прикажите оседлать. Господину барону передайте наши искренние соболезнования.
— Эрвин, — недовольно поморщился второй немец.
— Ладно, не буду. Но где же ваша супруга?
Брандис, давно ожидавший этого вопроса, — теперь у него не было никаких сомнений, что Бирута сбежала, — неуклюже переступил с ноги на ногу, виновато шмыгнул носом:
— Сам не пойму. Сейчас гляну. — Он схватил с пола свой саквояж и направился было к выходу, но офицеры тоже поднялись.
— Пойдемте вместе, — сказал тот, кого звали Эрвином. — Нам тоже недосуг здесь рассиживаться. — Залпом осушил бокал, вытер о салфетку пальцы, с сожалением посмотрел на оставляемые яства, неожиданно спросил: — Это действительно ваша жена, господин управляющий?
Брандис смешался под его тяжелым, испытующим взглядом, попытался увернуться:
— Видите ли… Собственно…
— Я так и думал, — на губах немца появилась торжествующая ухмылка. — Ты обратил внимание, Вилли, на ее руки?
Вилли не ответил, лишь мотнул забинтованной головой — они уже спускались по лестнице.
— Вы не очень внимательны к своей невесте, господин управляющий. Разве можно допускать, чтобы у любимой женщины были такие руки? — И вдруг, понизив голос, спросил: — Откуда эта девка?
Брандис споткнулся и чуть не свалился с лестницы.
— Видите ли… — залепетал он. — Собственно…
— Я спрашиваю, откуда эта девка? — Эрвин посмотрел на Брандиса так выразительно, что у того сразу отпало желание лгать и изворачиваться.
— В поместье восемнадцать женщин из присоединенных территорий, — плаксиво признался он. — Я конечно, понимаю… Но это была только шутка. Я никак не предполагал…
— Чего именно вы не предполагали? Встретиться с нами, или то, что она сбежит от вас?
Брандис не ответил.
— А вы знаете, что вам полагается за подобные штучки?
Тревожная апрельская ночь, терпко пахнущая нарождающейся весной, смрадом пожарищ и порохом, показалась Брандису еще чернее. Но за него неожиданно вступился Вилли. Вернее, не вступился, а брезгливо попросил:
— Оставь его в покое, Эрвин. Нам надо спешить.
— В покое… — Эрвин ощерился в злой гримасе.
— Где лошади? — не давая распалиться товарищу, спросил Вилли.
— Там, — Брандис показал дрожащей рукой на конюшню, маячившую темной громадой в конце усадьбы. Не выдержал, спросил: — А что мне делать с девками?
— С девками? — окончательно вышел из себя Эрвин. — До этого вам консультация не требовалась?
— Эрвин… — нетерпеливо, с досадой цыкнул на него Вилли. — Займись делом.
— Ефрейтор Вульф, — крикнул кому-то в темноту однорукий, — выдайте этому господину канистру бензина. — Даже в темноте было видно, какой ненавистью пылают его глаза.
Брандису стало невыносимо душно. Он с ужасом посмотрел ка канистру, брошенную к его ногам, провел ладонью по взмокшему лбу, хрипло спросил:
— Вы хотите, чтобы это сделал я?
— А вы полагаете, что за вами должны подчищать другие?
— Нет, зачем же… Я могу…
Не оставляя саквояжа, он подхватил в другую руку канистру с бензином и бросился к бараку. Управляющий спешил, ломал ногти, обливался вонючей жидкостью, то и дело краем глаза подглядывая в сторону конюшни, где выводили и запрягали лошадей — только бы успеть, только бы не бросили одного посреди этой страшной апрельской ночи. Он почти не думал о неблагодарной землячке, которая сбежала от него таким наглым образом и чуть не поставила его под пулю. Впрочем, и сейчас было неясно, чем все это кончится.
А Бирута, действительно, сбежала. Выйдя в гостиную, она едва ли верила в удачу. Постояла-над ящиками с упакованной посудой, прислушалась к доносившимся из-за неплотно прикрытой двери голосам — вроде бы ничего страшного не случилось, во всяком случае, за нею пока не бросились вдогонку. Сердце учащенно заколотилось — надо было решаться. На цыпочках, девушка быстро и неслышно пошла к выходу. Набрала в легкие побольше воздуха, стиснула кулаки, ступила на лестницу.
У входа ей преградил было дорогу охранник в штатском, но, увидев, что это важная дама в длинном вечернем платье, в мехах, почтительно и недоуменно отступил. Не глядя на него, Бирута степенно проследовала мимо, спустилась по лестнице в сад, медленно пошла по аллее. Охранник, почувствовав все-таки что-то неладное, забеспокоился:
— Одну минутку, фрау! — Его каблуки застучали по каменным ступеням лестницы.
Бирута поняла, что медлить больше нельзя ни секунды. Подхватив узкое, неудобное платье, она бросилась прямо через газон в спасительную темноту сада. Пригибаясь под деревьями, не замечая хлеставших по лицу ветвей, она добежала до ограды, лихорадочно зашарила пальцами по решетке: где-то здесь — она это хорошо помнила — была довольно большая дыра. Отыскала ее, выбралась наружу, зацепившись в последний момент за что-то острое, разорвав платье, оказалась на свободе и, что было духу, помчалась к лесу. Охранник, замешавшийся вначале и потерявший ее на некоторое время из виду, поднял автомат, хотел было пальнуть вдогонку, но в последний момент раздумал: черт ее знает, кто она такая. Еще неприятностей не оберешься.
Она бежала лесом, сама не зная куда. Продиралась сквозь заросли, спотыкалась о корни, падала, поднималась, снова бежала. И вдруг острый луч света ударил ей в лицо.
— Стой!
Бирута метнулась назад, но чьи-то руки крепко схватили ее. Кто-то обвел фонариком платье, болтавшуюся на плечах меховую накидку — беглянка и сама не могла бы объяснить, каким чудом та сохранилась на ее плечах — удивленно присвистнул:
— Вот это краля. Братцы, Ева Браун! А ну-ка, Лаукманис, потолкуй с ней по-немецки. Может, и Гитлер где-нибудь неподалеку?
Но «Ева Браун» повела себя странно: не царапалась, не кусалась, не молила о пощаде. Она неожиданно бросилась Лаукманису на грудь и, тычась в его лицо мокрыми от слез губами, задыхаясь от волнения, по-латышски, горячо затараторила:
— Братики… родные… там… скорее… родные… наконец-то…
— Товарищ майор, языка привели, — загадочно ухмыльнувшись, доложил Круминьш, подходя со своими разведчиками к укрытому в кустах «студебекеру».
— Какого языка? — высовываясь из кабины, нахмурился Артур. — На кой ляд он мне сдался? Я вам что приказывал?
— Да вы поглядите, товарищ майор. Язык-то… Он не совсем того… Сам на нас выскочил. Не прошли и трехсот метров, как вот… Чудо в решете. — Круминьш обернулся и, словно фокусник, выдернул из темноты женщину в шикарном вечернем платье. — Ребята сомневаются — уж не Ева ли Браун?
— Я к ней, товарищ майор, по-немецки, а она мне по-латышски, — радостно поддержал старшину Лаукманис.
— По-латышски? — удивленно переспросил Артур, открывая дверцу и спрыгивая на землю. — Они теперь все латышки, польки, француженки… — И спросил неприязненно: — Кто такая? Что вам понадобилось ночью в лесу?
Банга скользнул лучом фонарика по лицу задержанной и оцепенел от изумления: он узнал Бируту.
Женщины спали, не подозревая о своей страшной участи. Одна из невольниц — та, которая напутствовал Бируту, — сонно подняла голову, удивленно поглядела па залитые золотистым светом окна, забранные в решетку, протерла глаза и вдруг закричала — пронзительно и дико. Ее подруги повскакивали с нар, заметались с воплями по бараку — в ужасе бились в дверь, бросались к окнам, но все было сделано по-немецки холодно, расчетливо и надежно.
Дело можно было считать завершенным. Брандис пинком отбросил пустую канистру, тщательно вытер руки носовым платком, брезгливо кинул его в сторону и заторопился к подводам — теперь он был уверен: немцы оценят его рвение.
Вот тут-то и швырнул первую гранату Круминьш — она с оглушительным треском рванула в самой гуще солдат. За первой полетела вторая, третья, еще и еще… Поднялась паника — захрапели, поднялись на дыбы лошади, заметались в поисках спасения солдаты. Но куда бы они ни бросались, всюду их встречала свинцовая смерть. Сообразив, что они окружены, оставшиеся в живых подняли руки. Со всеми вместе стоял на коленях посреди двора и Брандис. С перекошенным от ужаса лицом, он одной рукой прижимал к груди заветный саквояж, другую тянул вверх, как бы защищаясь от неминуемого возмездия.
— За мной! — Артур бросился к горящему бараку.
В мгновение разведчики вышибли дверь.
— Где вы тут? — крикнул Артур. — Выходите!
Женщины выбегали из клубящегося дымом барака, жадно хватали воздух и, еще не очень веря в реальность происходящего, растерянно таращились на разведчиков. Затем кто-то из них радостно вскрикнул, и вскоре все они обнимали своих спасителей, плакали, смеялись, целовали их.
— Товарищ майор! — подбежал к Артуру Круминьш. Его трясло. — По справедливости, надо бы… — он кивнул в сторону сгрудившихся с поднятыми руками немцев. — Сами придумали, сами пусть и погреются. Ведь это же…
— Ты что, старшина? — сурово оборвал Банга. — Забыл, что у тебя на пилотке? Уж от кого, от кого, а от тебя, Круминьш, не ожидал. Загони их в конюшню и обеспечь охрану до подхода наших. Понял? И смотри, не дай бог…
— Товарищ майор, тут еще земляк объявился. — Лаукманис толкнул к нему Брандиса. — Несет, хоть и по-латышски, но что-то несообразное.
— Это он! Он… — вырвалась из темноты Бирута. — Артур, это тот самый. — Ослепленная яростью, она пыталась вырвать у Банги автомат. — Дай мне, миленький, дай… Я сама его…
— Погоди-ка, сестричка, — отстранил ее Артур и пригляделся внимательней. — Господи, помилуй… Коротышка. Не может быть! Вот это встреча… — И продолжал с тихой ненавистью: — А я все гадал — где ж это на нашей латышской земле такую особенную сволочь выискали? Специально в Германию привезли. Чтоб над своими же людьми измываться. Похоже на тебя, коротышка, похоже.
— Господа!.. Товарищи!.. — валялся в ногах Брандис, по-собачьи заглядывал всем в глаза. — Пощадите! Я же не хотел, мне приказывали…
— Пощадить? — Артур пытливым взглядом окинул лица женщин. — Это ты у них проси. Объясни, как ты не хотел, как тебе приказывали. И насиловать, и в огонь загонять… Объясни… и пусть они тебя помилуют. — Банга отвернулся и пошел прочь.
Коротышка с мольбой поднял глаза, пробежал взглядом по суровым, еще более страшным в отблеске пожарища лицам женщин и разведчиков, понял, что их приговор единодушный и обжалованию не подлежит. Пронзительно вскрикнув, управляющий с поразительным проворством вскочил на ноги и бросился к воротам. Кто-то из солдат подставил ногу, и Брандис со всего маху растянулся на земле. Над ним сомкнулась разъяренная группа невольниц. Короткий миг — и тело управляющего поплыло над их головами к пылающему бараку. Гудело и бушевало пламя, пожирая остатки здания, в его отблеске еще ярче сверкали глаза тех, кто мстил за свою поруганную честь и загубленную душу. Мстил за себя и за тех, кто уже никогда не сможет отплатить своему обидчику.
Оцепеневшему от ужаса коротышке показалось, что это не его тащат к огню, а сам огонь — стремительный и неумолимый — клокочущей бездной летит на него. Долгий, истошный, животный вой взвился над пожарищем…
… — С тетей Зентой мы почти все время вместе были, — торопливо рассказывала Бирута стоявшему возле «студебекера» Банге. Разведчики уже устроились в кузове. — И работали вместе, и в бараке лежали рядом. Тяжело было, голодно, многие наши поумирали. А мама твоя — ничего, молодцом держалась. И вдруг ни с того, ни с сего свалилась. Вот тут я испугалась — знаешь ведь, как они с больными. И кто бы ты думал выручил? Озолс. Упросил немцев, чтобы тетю Зенту домой отпустили. Она еще попрощаться вышла, когда нас угоняли. Я ее издалека видела.
— А Марта? — спросил после короткой паузы Артур. — Что с ней, не знаешь?
— Была жива, здорова. Какие-то неприятности с мужем, но толком не знаю. Меня ведь забрали сразу после твоего ухода.
Он обнял ее, притянул к себе. Девушка благодарно уткнулась ему в плечо, тихо заплакала.
— А Лаймон, значит?.. — тоскливо спросила она.
— Да, у меня на руках.
Помолчали.
— Товарищ майор, — деликатно напомнил из кузова Круминьш.
— Все, все, едем, — встрепенулся Банга. Наклонился к Бируте, поцеловал в щеку. — Счастливого возвращения, сестричка. Только смотрите, не торопитесь — охрану я тут оставил, до прихода наших никуда ни шагу. Бывай, теперь уже дома увидимся. — Он вскочил на подножку, махнул ка прощанье рукой. Грузовик сердито фыркнул, но Банга неожиданно застучал ладонью по кабине, весело крикнул Бируте: — Пожалуйста, переоденься, а то тебя действительно можно спутать с Евой Браун!
Звонко щелкнула дверца — «студебекер» умчался в ночь. Банга с удивлением думал о своей судьбе. До чего же она необычна и превратна. Не заприметь его генерал Авдеев, начальник фронтовой разведки — здесь немаловажную роль сыграл Горлов, расписавший Артура в самых превосходных тонах и предложивший забрать его вместе с разведчиками в распоряжение генерала, не попал бы Банга вместе с войсками Черняховского в Восточную Пруссию, не встретил бы ни Бируты, ни Брандиса. А что заготовлено у судьбы дальше?
ГЛАВА 19
Лес стоял по-осеннему тихий, испятнанный солнцем, в крапчатой пестрядине неопавшей листвы. Мчавшийся по нему «виллис», еще по фронтовому в разводах маскировочного камуфляжа, мелькал среди деревьев почти неразличимо, как рысь в увядающих зарослях. Худенькая девушка пристроилась на заднем сиденье среди багажа, придерживая на коленях большой глобус.
— Товарищ Калниньш, а кто у вас раньше в поселке детей учил? — спросила она.
Андрис мало изменился за эти годы — пережитое лишь глубже вырубило морщины на его крепком, продубленном морскими ветрами лице.
— Раньше-то? — Калниньш привычно набивал свою рыбацкую трубочку. — Раньше у нас такой учитель был… Его все побережье знало. Учитель Акменьлаукс. В политохранке замучили.
Он замолчал, что-то припоминая, потом кивнул девушке:
— Ты не тужи, Илга. Тебе там неплохо будет. Школа, слава богу, уцелела… Войне скоро конец, вернутся парни, жениха тебе сыщем.
— А я и не тужу, — беззаботно отозвалась девушка. — Ко мне скоро мама приедет.
— Так и будешь за маму держаться? — сверкнул крепкими зубами молодой шофер в солдатском ватнике. — Тебе уж самой в мамы пора.
— Да ну вас… — отмахнулась Илга. И неожиданно сменила тему: — А я вашего сына знаю, Лаймона. Он меня перед самой войной в комсомол принимал. Где он сейчас, товарищ Калниньш?
Шофер резко обернулся, стрельнул в нее коротким, укоризненным взглядом: эх ты, мол, птаха желторотая — лезешь со своими расспросами, куда не следует. Илга уже и так поняла свою оплошность. Калниньш обернулся — лицо серое, глаза больные-больные — хотел ответить, но в это время где-то совсем рядом раздались выстрелы, брызнуло разбитое стекло.
— Ложись! — хватая автомат, крикнул Калниньш Илге и пригнул ее к полу автомобиля. — А ты чего? — заорал он на растерявшегося шофера. — Газуй! На всю… — вскинул автомат, дал длинную очередь по кустам.
Машина взвыла мотором, на полной скорости понеслась по дороге: один поворот, другой. Вскоре выстрелы затихли вдали, и «виллис» вырвался на открытое место.
— Испугалась? — обернулся Калниньш к сжавшейся в комок девушке.
— Ага, — всхлипнула она, поднимая отброшенный пулей глобус — в нем посреди Индийского океана зияла дыра. — Глобус жалко.
— Не жалей, — хмуро утешил Андрис. По нему теперь не одну географию… Еще историю изучать будут.
Поселок казался вымершим. Дома глядели пустыми, безжизненными окнами. Калниньш прошел в глубь Озолсова двора к небольшой пристройке, в которой с недавних нор жил Петерис — его собственный домишко в пух и в прах разнесло.
— Учительницу вам привез, — сказал Андрис, входя в тесную каморку, где ужинало семейство: две дочери и Эрна с Петерисом. — Хотел было в школу, да раздумал — пусть у вас пока побудет.
— Пускай, — пожал плечами Петерис. — Я могу и на конюшне поспать.
— Чего же не перебираешься? — спросил Калниньш, кивая головой в сторону хозяйских покоев. — Или боишься, что господин Озолс осерчает?
— А нам и тут хорошо, — въедливо проскрипела Эрна. — Мы на чужое не заримся. Как некоторые…
Петерис метнул ка жену быстрый, угрожающий взгляд, и она недовольно умолкла. Калниньш достал трубку, табак, предложил:
— Пойдем, покурим.
— Ты вот что, Андрис, — угрюмо начал Петерис, когда они вышли на крыльцо. — Ты с расспросами ко мне не лезь. Кто, да чего… Никого я не видел, ничего не слышал…
— А что тут расспрашивать? — пыхнул дымом Калниньш. — Я же не слепой. Позавчера кабанчика зарезал, а на столе одна картошка. Даже куска мяса не оставил.
Петерис промолчал.
— Ты же при немцах человеком был, — укорил его Калниньш. — Бангу, говорят, от расстрела спас.
— При немцах… При немцах я хоть знал, кого бояться, а тут… — Петерис боязливо оглянулся, придвинулся ближе. — С Ошкалном — сам знаешь, что сделали, только пикнуть собрался. У них тут кругом глаза и уши. Еще не знаю, как откликнется, что ты заходил… И это… учительницу свою веди, куда хочешь. Хоть обратно в уезд забирай — не стану я с вами связываться.
— Не хочешь? — гневно оборвал Калниньш. — А отвечать перед судом тройки за укрывательство бандитов — хочешь? Ты как думал, мы их ловить, а ты свининкой подкармливать?
В это время распахнулась дверь, и Эрна, явно все слышавшая, проговорила с пугливым придыханием:
— А ты не пугай… Мы уже пуганые. Ишь какой страшный, раскомандовался. Ты, как птичка, залетел и нету. Сначала попробуй переночуй ночку в своем доме, а утром потолкуем.
Калниньш с досадой и смущением посмотрел на женщину, в словах которой было много справедливого. Бандиты, действительно, терроризировали население, и властям не всегда удавалось помочь несчастным. Не сказав больше ни слова и даже не взглянув на сникшего Петериса, Андрис пошел со двора.
Запрятанный в глухой чащобе лагерь «лесных братьев» мало чем походил на обычное расположение воинской части. Окруженный со всех сторон болотом, поросший густым колючим кустарником, он, словно клещ, заполз под кожу, оставив на поверхности едва заметные приметы: сломанную ветку, брошенный окурок, автоматную гильзу. Впрочем, таких примет к концу войны на земле было столько, что чистый кусок леса вызывал гораздо большие подозрения. Лес, как лес. И если бы не напряжение, стылое и тягостное, почти необъяснимое — оно исходило от каждого куста, слышалось в каждом вздохе ветра, чудилось в маслянистом отблеске болотной жижи — можно было бы принять эту глухомань за самый безлюдный, необитаемый край.
Озолс сидел рядом с возницей, маленьким, тщедушным человечком, беспокойно оглядывавшим лес. Двое других, угрюмых и небритых, полулежали в телеге, поклевывая носами. Старик положил руку на колено вознице, негромко приказал:
— Все, хватит. Дальше мы сами.
Поднес ладони к губам, три раза прокричал кукушкой. Выждал минуты две и снова прокуковал. В кустах раздался шорох. Вначале в прогалине между ветвями показался ствол автомата, а потом и его владелец — такой же угрюмый и небритый, как и те, что были в повозке. Он подозрительно осмотрел пассажиров, задержал недоверчивый взгляд на вознице, неуверенно обернулся назад. Его медлительность вызвала раздражение у лежащих в телеге.
— Ну, чего вылупился? Своих не узнаешь, что ли? — почти в один голос проворчали оба, выбираясь из повозки и разминая затекшие ноги.
— Ладно, не шумите, — пробасил плечистый бородач, неожиданно выходя из укрытия. — Заждались мы вас. Уж бояться начал: не случилось ли чего.
— А ты сам попробуй… — начал было со злобой Озолс, но бородач миролюбиво протянул ему руку.
— Ладно, ладно, чего там. — Поздоровался с остальными, с жадным любопытством придвинулся к телеге. — Ну-ка, ну-ка, что за гостинцы? — Откинув брезент и, увидев среди мешков с картошкой свиную тушу, разрубленную на части, пробормотал сладким от умиления голосом: — Какая роскошь.
— Разгружайте, — приказал Якоб. — А ты, — обернулся он к вознице, — возвращайся назад. Но запомни: если где-нибудь хоть полсловом проболтаешься…
— Да ты что? — у возницы от волнения повлажнели глаза и задрожали губы. — Впервой, что ли?
— Впервой, не впервой, но смотри. И передай своим — через неделю снова наведаемся.
— Якоб! — возница от волнения забыл об опасности. — Но ты же сам видел — выгребли, все подчистую.
Бородач внимательно посмотрел на крестьянина, приблизился вплотную, взял за отвороты пиджака, с силой притянул к себе:
— А ты что же думал? Мы здесь будем гнить, а вы там с бабами прохлаждаться? А кого жрать прикажешь? Тебя с твоей лошадью?
Возница побледнел, заискивающе пообещал:
— Конечно, конечно, передам.
— То-то, — нехотя отпуская его от себя, пробурчал бородач. — Убирайся!
Над костром, вздуваясь пузырями, булькал котел с кашей. Озолс большой деревянной ложкой помешивал кипящее варево. Подцепил немного каши, чтобы попробовать, но так и не пригубил — бросил вдруг ложку и схватил автомат: где-то совсем близко раздался треск ветвей. Но тут же послышались знакомые голоса.
— Сколько, раз учить надо, — сердито выговаривал кому-то Аболтиньш, выходя на поляну. — Если стрелять, то уж наверняка.
— Да они вреде близко были, — смущенно оправдывался перед отцом Зигис. — Черт его знает, как он вдруг рванул.
— Рванул… Чем больше их рванет от нас, тем меньше шансов нам самим вырваться. Не забывай это.
За Аболтиньшами вышла из лесу остальная группа — еще шесть человек. У всех были обросшие лица, одежда представляла собой причудливую смесь: что-то еще от айзсаргских мундиров, что-то от немецкой формы, что-то от штатских костюмов. У всех немецкие автоматы.
— Кажется, мы в самый раз, — заглянув в кипящий котел, сказал высокий и худой, как жердь, бандит.
— Ну-ка, подхвати, — кивнул ему Озолс.
Они вдвоем сняли с огня котел, поставили на траву. Аболтиньш, скинув потрепанную куртку, подошел к ведру с водой.
— Эх, Озолс, — сказал он, плеская себе воду в лицо. — Не видал, сколько сахару мимо нас проехало.
— Откуда ты знаешь, что сахар? — заинтересовался Якоб.
— Он мешок продырявил, — Аболтиньш кивнул на Зигиса. — Дорога теперь, как сладкий пирог.
— Да-а… А у нас и соли нет, — разочарованно буркнул Озолс.
— Ничего, будет вам и сахар, и соль… — подсаживаясь к котлу, сказал трактирщик. — И свиная тушенка в банках. Ну, рассказывай… Что видел, что слышал…
Усевшись вокруг костра, бандиты накладывали в котелки кашу, с любопытством прислушивались к рассказу Озолса.
— Ну что? — невесело начал он. — Русские передают по радио только песни и хвастают, что бои, мол, уже в Восточной Пруссии.
— А немцы?
— Тоже хвастают. Мол, превратили Курляндию в неприступную крепость. Трамплин для возмездия, говорят.
— Трамплин или мешок? — хмуро переспросил высокий.
— Неважно, пусть подольше продержатся в Латвии, — многозначительно сказал Аболтиньш. — Пока они здесь — наша борьба не закончена. И в лесах мы не одни. Ну, ладно… Как там наши земляки? Краснеют помаленьку?
Озолс помолчал, подумал.
— Краснеют — не краснеют, но оживают, — тихо сказал, он. — Школы открывают, продукты завозят…
— Продукты? — криво усмехнулся трактирщик. Продукты, это хорошо. Продукты, это то, что нам надо. Интересно, что они с моим трактиром сделали? Не слыхал?
— Говорят, магазин открыли, — сказал Якоб. — Я-то в наш поселок не заходил…
— Не заходил, говоришь? — задумчиво протянул Аболтиньш — в его глазах мелькнула какая-то мысль. — А надо бы.
— Да ты что? — испуганно отшатнулся Озолс, — Ты понимаешь, что это для меня значит? Меня же первая собака схватит.
— Ну, если по-глупому, то и забеременеть можно. А если по-умному… Понимаешь, ты у нас единственный, у кого в поселке есть близкий человек — дочь.
— Ну и что?
— Надо повстречаться с ней, поговорить. Что за продукты в магазине, когда привозят, оставляют ли охрану?..
— А причем тут Марта? Что она может знать?
— Ну-ну… В такие трудные времена… Чтобы женщина не знала всего, что касается продуктов? Не поверю.
— Не пойду. Делай со мной, что хочешь — не пойду. — Озолс вскочил, в волнении заметался вокруг костра.
Аболтиньш встал, поймал его за руку, с силой усадил рядом:
— Успокойся, Якоб, ничего страшного. За все время я прошу тебя первый раз.
В это время послышался шум, раздались возбужденные голоса — на поляну вышло несколько человек. Громко крича, они вытолкнули вперед белобрысого паренька в рваном ватнике и немецкой пилотке.
— Вот… — ткнул его дулом «шмайсера» плечистый бородач — тот самый что встречал Озолса с телегой. — На сухом болоте поймали. Прятался, гаденыш, ночи дожидался.
Трактирщик оглядел парня: заморыш, смотреть не на что. Под белесыми, по-детски вздрагивающими ресницами в смертельном страхе, застыли зрачки.
— Может, заблудился? — неуверенно спросил Якоб.
Бородатый зло дернул плечом:
— Как же, заблудился. А это что? — он бросил на колени Аболтиньшу листовку и гнусаво запричитал, явно кого-то передразнивая: — Братья-латыши! Вас подло обманули… Эта листовка является пропуском…
Трактирщик взял листовку, пробежал глазами:
— Что ж… будем судить.
Суд проводился по всей форме. На широкой поляне собрался весь лагерь. Посредине, у того же котла сидели члены суда. Подсудимый — без пилотки, без пояса — стоял между двумя конвойными. Его белое, словно обсыпанное мукой лицо, было отрешенным, казалось, паренек не слушал обвинительную речь, которую произносил Аболтиньш.
— Имант Брасла, двадцать седьмого года рождения, уроженец Тукумса… Совершил тягчайшее преступление — попытку побега из лагеря… Нарушил клятву лесного братства… Предал высокие идеи национальной свободы и независимости, которые для каждого из нас дороже самой жизни.
Аболтиньш сделал паузу, оглядел слушающих. И, взяв листовку в руки, продолжал:
— В этой листовке, отобранной у подсудимого, большевики называют нас отщепенцами, жалкой горсткой бандитов, обреченных на гибель. Это ложь, братья. Борьба не окончена. Наш отряд не единственный в Латвии. Нас много и нас боятся. Есть места, куда они сунуться не смеют. Не забывайте, в Курляндии еще идут бои — там целая армия немцев, тридцать пять дивизий. С самолетами, танками и артиллерией. Так что исход войны не решен, во всяком случае, для Латвии. И мы с вами еще скажем свое слово. Лесное братство — разящий меч нашего народа, надежда всей нации. Не понимать этого могут только трусы и маловеры. Такие, как этот, — Аболтиньш показал на подсудимого.
Он помолчал и, положив листовку на место, сказал устало:
— Этот парень, Имант Брасла, безусловно, достоин смерти. Но, учитывая молодость подсудимого, я бы просил суд сохранить ему жизнь. Пусть запомнит, как говорится, урок и кровью смоет позор.
Его последние слова явно не понравились слушателям — раздались недовольные голоса:
— Что за поблажки?
— Иохансона за те же подвиги шлепнули, а этому — что?
— Видали, молодой, сосунок грудной… Там бы, гляди, всех заложил, поименно.
— Тихо! — одернул «братьев» Аболтиньш. — Я же не предлагаю простить, а только облегчить наказание: пусть искупит вину кровью. При условии полного и чистосердечного раскаяния. — И, подойдя к подсудимому, негромко сказал: — Что стоишь, как дурак? Проси братьев о снисхождении.
Парень шагнул вперед, прижал руки к груди. Потом, как бы раздумав, вдруг развернулся к трактирщику, рухнул перед ним на колени:
— Господин Аболтиньш, умоляю! — безумно глядя перед собой, забормотал он, — Отпустите, не могу я здесь. Мать у меня, понимаете? Один я у нее, больше никого. Отпустите, господом молю!
Злоба судорогой перекосила лицо вожака, он махнул конвойным. Вскоре за лагерем над оврагом прогремели две короткие очереди.
Калниньш сидел за столом в доме Бируты — точно так, как сидел здесь ее отец перед расстрелом. Та же миска с рыбой стояла перед ним. Но Андрис ни к чему не прикасался. Невероятно страшным был рассказ девушки — кусок не лез в горло. Долго молчали, наконец, Калниньш, пересилив себя, хрипло спросил:
— Значит, говоришь, у Артура на руках?
— Да. — Она посмотрела на него большими испуганными глазами. Хотелось плакать, но слез не было. Хотелось подойти, утешить этого седого, сломленного горем человека, но слов утешения не находилось.
Андрис отвернулся, достал дрожащими пальцами папиросу, но так и не смог закурить — сидел, наклонив голову, уставившись в одну точку. Какой бы огромной ни была общая беда, она становится во сто крат больше, когда касается тебя лично.
— Марту видела? — спросил он.
— Да.
— Как она?
Бирута не ответила. А Калниньш вдруг ожесточился:
— Что-то слишком красиво получается, чтобы быть правдой. Спрятать раненого офицера… И где — в доме Озолса! Убей — не могу поверить.
— Может, вам самому с ней поговорить?
— Конечно, поговорю. И по служебному долгу, и по старой памяти. Если ей верить, то…
— Сыном клялась, — тихо сказала Бирута.
Калниньш с силой тряхнул головой, посмотрел на нее воспаленными глазами. Бирута испугалась — ей показалось, что он сейчас заплачет. Но Калниньш пересилил себя.
— Знаешь, для чего я сюда приехал? — спросил он. Чтобы выяснить, кто есть кто.
— Как это? — не поняла Бирута.
— А так. По порядку. Скажи-ка, кто конкретно принимал участие в расстреле твоего отца?
— За ним пришли Аболтиньш с Зигисом. На улице еще двое стояли — не узнала я их.
— Так. И куда повели?
— К Озолсу.
— Лосберг там был?
— Нет. Он приезжал редко. Они уже порознь жили.
— А Марта была?
— Да.
— Она тебе рассказывала, что там произошло?
— Нет, у меня не было сил спросить.
— Да-а, — протянул Калниньш. — Такая штука жизнь, дочка. — Налил в стакан водки, поднялся. — За твоего отца… и за моего сына.
Выпил залпом и, подавляя волнение, стремительно вышел из комнаты.
Во дворе Озолса возле небольшой пристройки Петерис колол дрова. Неподалеку уже были сложены круглые, как башенки, поленницы.
— Бог в помощь, — подошел Калниньш.
— Тряхнула тебя война, — отложив топор, прищурился Петерис. — И бога, смотри-ка, припомнил.
— А тебя, видать, стороной обошла.
— Я человек маленький, ни с кем не воюю. — Петерис демонстративно высморкался в два пальца и сел на полено. — Чего хочешь?
— Узнать хочу… Хозяин твой где?
— А это ты у бога спрашивай.
— Слушай, Петерис, неужели тебе все равно, что вокруг творится? — разгорячился Калниньш. — Людей убивают, грабят, по дорогам, не проехать. Ты же понимаешь, сколько сволочей по лесам болтается.
— Вот теперь я понимаю, что тебе нужно, — ехидно ответил Петерис. — Агитировать пришел? Так не надрывайся зря — все равно в помощники к тебе не запишусь. — Он привстал с полена и громко позвал: — Марта, иди-ка сюда!
Марта вышла на крыльцо вместе с сыном и удивленно посмотрела на гостя.
— Тут товарищ Калниньш твоим отцом интересуется. Что ему сказать?
— Не знаю, — тихо ответила она.
— Дедушка уехал далеко-далеко, — гордый своей осведомленностью, сообщил Эдгар.
— Тебя как зовут? — подавляя неприязнь, спросил Калниньш.
— Эдгар Лосберг.
— Хорошее имя.
— Нет, Лосберг это фамилия, — поправил мальчик.
— Понимаю, — пробормотал Калниньш. — Фамилия красивая.
— Вам в самом деле нравится эта фамилия? — с насмешливым вызовом спросила Марта.
Мальчик с недоумением посмотрел на мать. А Калниньш наклонился к нему и сказал:
— Эдгар, ты хороший мальчик?
— Да-а…
— Послушный?
Мальчик молча кивнул головой.
— Тогда принеси мне водички напиться.
Когда ребенок убежал в дом, Андрис повернулся к Марте:
— Я пришел сюда, чтобы сообщить, — его голос звучал непреклонно и жестко, — любая поддержка… даже малейшая связь с бандитами из леса будет караться по всей строгости закона нашей страны.
— Вы считаете, что мой отец там, с бандитами? — с трудом сдерживая волнение спросила Марта.
— Я этого не сказал, — угрюмо буркнул Калниньш. — Если бы знал точно, говорил бы с вами иначе. До свидания.
— До свидания, — сухо ответила она.
Петерис молча повернулся к нему спиной, и тут же донесся хрясткий удар топора, развалившего крепкое узловатое полено.
Ночь была туманной и сырой. Фигура человека, шедшего по лугу в сторону поселка, казалась призрачной. У крайнего дома человек будто бы исчез, но уже вскоре отделился от дерева и торопливо захромал к дому Озолса. Где-то залаяла собака. Якоб, это был он, вздрогнул, прижался к забору, тревожно выждал, пока снова наступила тишина.
Подойдя к своей калитке, Озолс не сразу решился ее открыть — вслушивался, вглядывался, потом, крадучись, вошел во двор. Сделал два-три шага и споткнулся о брошенные на дорожке грабли. Поднял их и, укоризненно покачав головой, хозяйским жестом прислонил к стене сарая. Сквозь туман и ночной мрак проступали привычные глазу очертания родного дома — Озолс двинулся к нему. Заглянул в окно, но сквозь плотную занавеску ничего разобрать не смог — так, какие-то двигающиеся тени. Проглотил густой, удушливый комок, с силой заставил себя отлепиться от окна, и, осторожно ступая, бесшумно двинулся к колодцу. Там он отцепил ведро и быстро заковылял в глубь сада. Но здесь не повезло — запнувшись обо что-то, он упал, ведро с грохотом покатилось по земле. Старик замер, вдавившись лицом в траву, и тотчас со скрипом открылась дверь.
— Кто здесь? — испуганно спросила. Марта. — Петерис, это ты?
Озолс лежал, не смея пошевелиться, со страхом глядя на дочь. Противоречивые чувства боролись в нем: отозваться, бросится навстречу, зайти в дом, повидать внука, отогреться, вымыться, поесть по-человечески, отоспаться, а завтра пойти и сдаться властям. Хуже не будет. Нет, зачем сдаваться? Забрать свой сундучок и податься в Ригу, затеряться в большом городе, схорониться… Но он продолжал лежать. Не двигался с места, хорошо сознавая: ничего, промелькнувшего в сознании, он не сделает, потому что все это бессмысленно и безнадежно.
Так и не поняв, что там прогрохотало во дворе, Марта закрыла дверь. Отец услышал, как лязгнул железный засов. Когда все стихло, он поднялся, подобрал ведро и, крадучись, продолжил свой путь. Ульи стояли под яблонями. Сняв крышку, Озолс торопливо выбросил ветошь, прикрывавшую соты, и стал вынимать тяжелые, полные меда, рамки. Ломая, корежа, пихал их в ведро, стараясь набить в него как можно больше меда. Пальцы стали липкими, старик машинально лизнул их. И вдруг испуганно пригнулся — за спиной раздался чей-то глухой голос:
— Сладенького захотел?
Якоб обернулся и облегченно вздохнул: перед ним стоял Петерис.
— Ну и напугал же ты меня! — приходя в себя, сказал ночной гость. — Помоги.
Но бывший батрак и не думал двигаться с места.
— Что тебе здесь надо?
Озолс неуверенно поднял голову, стараясь разглядеть в темноте выражение лица своего работника, — шутит тот или не шутит — наконец, понял, что не шутит, невольно потянулся за винтовкой. Его глаза хищно прищурились:
— Это мой дом.
— Был когда-то, — невозмутимо пробормотал Петерис и сделал шаг вперед.
— Не подходи. — Якоб рывком поднялся, неуклюже выставил перед собой оружие.
— Ой, как страшно, — ухмыльнулся Петерис — ему доставляло удовольствие издеваться над бывшим хозяином. — Все равно не стрельнешь.
— Не подходи, — попятился Озолс, — убью!
— Стрельнешь — люди сбегутся. А тебе на деревяшке далеко не уйти. Небось не забыл еще? — Он вдруг сделал выпад вперед и вырвал винтовку из рук Озолса. — Вот так-то оно лучше будет. Это я раньше тебя боялся. Когда ты меня с грязью мешал, да с женой моей якшался.
— Ты что, Петерис? — чуть не плача, вскрикнул хозяин. — Кто тебе сказал эту глупость? Богом клянусь…
— Можешь не клясться — работник грубо выругался. — Вы думали, Петерис дурак? Ничего не видит, ничего не замечает… — Он злорадно ухмыльнулся. — Ничего, я тебе тоже соли в жизнь подсыпал. Петух-то красный мой был. Хорошо горело, правда?
Как ни был Озолс напуган, удивление взяло вверх. Он недоверчиво спросил:
— Неужели ты?..
— А то кто же? Думал, Петерис долги отдавать не умеет? Тогда петуха подпустил, а сейчас в порошок сотру. — Крикнул с ненавистью: — А ну, пошли!
— Куда? — в ужасе отшатнулся Якоб.
— Сам знаешь, куда. Я за тебя отвечать не намерен.
— Да ты что, Петерис? Человек ты или кто?
— Человек? — бывший батрак разъярился. Он дышал словно загнанная лошадь. — Ишь, как ты заговорил — человека вспомнил. Тогда не замечал, а сейчас вспомнил. А ну, двигай! — он угрожающе передернул затвор.
Но Озолс не двинулся с места. Он неожиданно повалился на колени, умоляюще протянул руки:
— Прости меня за все. Не за себя прошу. Марту погубишь, внука моего…
— Я — погублю? А ты сам о них подумал, когда сюда перся? Хоть бы красть пришел в другое место, их под удар не ставил. Пошли!
— Побойся бога! — хрипло выкрикнул хозяин. — Петерис, ты тоже отец, у тебя тоже есть дети. Отпусти меня, я тебя такое расскажу…
— Что? — насторожился работник.
— Все, как на исповеди.
Жалкими, умоляющими глазами он смотрел снизу вверх, и было в этом взгляде столько выстраданной безысходности, что Петерис невольно смягчился.
— Ну, что там у тебя? Говори.
Калниньш спрыгнул с подножки грузовика и оглядел людей, собравшихся на площади возле магазина:
— Значит так, земляки. Шоколад и булки с изюмом… Этого ничего нету и в ближайший момент не предвидится.
В толпе добродушно рассмеялись.
— Зато есть макароны, соль, спички… Что еще? Масло подсолнечное, а также керосин. Так что с этого дня магазин снова начинает работать, можете приходить и получать. Согласно, конечно, нормам отпуска по талонам продовольственных и промтоварных карточек. Давайте-ка, кто посознательней, на разгрузку товара! — скомандовал под конец Калниньш.
Несколько женщин и мальчишек забрались в кузов. К магазину поползли по людской цепочке мешки, ящики, бидоны. Передавая их из рук в руки, люди шутили, радовались добру.
Убедившись, что дело налажено, Калниньш пошел от магазина, но, заметив неподалеку угрюмую физиономию Петериса, остановился:
— Привет, Петерис. Что ж не поможешь женщинам?
Тот скривил в насмешливой ухмылке губы:
— Можно подумать, ты там столько привез, что без моей помощи не обойдутся.
— Ну, чем богаты, тем и рады. В следующий раз, глядишь, и больше привезу.
— Ну, вот тогда и потолкуем.
Калниньш досадливо поморщился, вынул из кармана пачку папирос, предложил:
— Дыми. — Сам с наслаждением затянулся, искоса взглянул на собеседника. — Никак в толк не возьму, Петерис. То ли ты от природы упрямый, то ли тебя Озолс сделал таким. И чего ты все ехидничаешь? Твоя же власть пришла, для тебя, дурака, старается, а ты нос воротишь, все чем-то недоволен. Ну, что опять не по-твоему?
— Потому что дурак, — неожиданно спокойно согласился Петерис. — А дурак, он и есть дурак. Какой с него спрос? Мне это и Озолс доказывал, и немцы вколачивали, теперь вот вы принимаетесь…
Калниньш смутился.
— Прости, я ведь так, по-доброму, виновато сказал он.
— И Озолс по-доброму. Он всегда твердил: «Я из тебя, дурака, человека хочу сделать».
— Злой ты, однако, — сокрушенно вздохнул Калниньш. — Как пес некормленный.
— Ты больно добрый…
— Ладно, поживем — увидим. — Калниньш отбросил окурок, поправил на голове фуражку. — Пошел я.
— Уезжаешь, что ли? — дрогнувшим голосом спросил Петерис.
— Уезжаю. Вот зайду в школу, проведаю учительницу… — Калниньшу показалось, что Петерис хочет что-то сказать, но никак не решается. — А что?
— Да нет, ничего, счастливого тебе пути.
Аболтиньш заботливо ухаживал за Озолсом, лежавшим в землянке на нарах под грудой тряпья — того трясло, как в лихорадке. Налил в кружку самогону и, подцепив ложкой мед из ведра, размешал.
— На, выпей, — протянул кружку Якобу. — Самогон с медом от простуды первое дело.
Старика била дрожь. Он не мог согреться под наваленной на него кучей тряпья.
— Всю ночь в болоте, — не попадая зуб на зуб, прохрипел он. — Туман… Заблудился. Думал, все.
— Ладно, теперь отлеживайся, поправляйся. Как ты винтовку потерял — вот это мне непонятно.
— Я же говорю — туман. Опять же — болото. Выскользнула из рук. Пока то да се… Налей еще, вроде легчает.
Аболтиньш плеснул еще самогону, а сам уселся за стол и, выломав большой кусок сот, начал со вкусом высасывать мед.
— Ах, хорошо — летом пахнет! — отплевывая воск, причмокнул он. — Молодчина твоя Марта — такой гостинец прислала. Как ты его в болоте не утопил…
Озолс исподлобья посмотрел в его сторону, поспешил перевести разговор на другую тему.
— Продуктов целая машина. Обещали еще подвезти.
— Ты точно знаешь, что охраны нет?
— Старуха с винтовкой. И то только ночью. Ох, как знобит.
Аболтиньш на какое-то время замолчал, задумался.
— Зигис! — крикнул он в сторону открытого люка.
Сын по самодельной лестнице тут же скатился в бункер.
— Передай ребятам, что налет на магазин сделаем завтра днем, — сказал Аболтиньш.
— Днем? Почему днем? — удивился Зигис.
— На всякий случай. Чем черт не шутит — возьмут и поставят ночью охрану. А кроме того… пусть знают, что мы — сила. И никого не боимся.
Подпрыгивая на ухабах, по лесной дороге катила старая полуторка. За рулем сидел молодой парень, крутил баранку, мурлыкал что-то себе под нос. Вдруг резко затормозил — посреди дороги, словно из-под земли, вырос человек с автоматом в руках. Это был Зигис. Машина, останавливаясь, подкатывала к нему. Но, не доехав двух метров, шофер внезапно нажал на газ, грузовик резко рванул вперед, едва не сбив Зигиса с ног. Но другой бандит, широкоплечий и бородатый, выскочил из-за кустов, успел прыгнуть на подножку и в упор выстрелил в голову шофера. Обливаясь кровью, парень упал лицом на руль. Грузовик, круто вильнув, сполз передними колесами в канаву и замер.
Подбежал Зигис, за ним другие «братья».
— Вот дурак, — обозленно пробурчал Зигис, вытаскивая убитого из кабины. — Сам на пулю напросился.
— Не дурак, — поправил его Аболтиньш, — а самая зловредная красная сволочь. Садись за руль.
Он влез в кабину, остальные попрыгали в кузов. Машина задним ходом выползла из канавы, развернулась и покатила в обратную сторону.
Новая учительница мыла окна в классе поселковой школы. Хлопнула дверь, вошел Калниньш — в офицерской шинели без погон, в фуражке.
— Ну, Илга, зашел попрощаться. О-о, — да ты молодец, по-хозяйски взялась, — он одобрительно осмотрел помещение, задержав взгляд на простреленном глобусе.
Девушка спрыгнула с подоконника, бросила тряпку в ведро, вытерла о передник руки.
— До свидания, товарищ Калниньш. Не забудьте там в уезде насчет тетрадей…
— И насчет чернил, — усмехнулся Калниньш. — Настырная ты. Только снабженец из меня неважный.
— Уж постарайтесь для родного поселка.
— Ладно, ладно, не забуду. Я тебе другое хочу сказать: будешь готовить ребят в пионеры, в комсомол — подходи к вопросу с предельной осторожностью и вниманием. Не торопи их, пусть каждый все продумает. Не гонись за количеством. Ты пойми: сейчас для многих это почти подвиг.
— Понимаю, — серьезно ответила Илга, хотела еще что-то сказать, но заметила под окном Петериса. — Вам кого, товарищ? — Она еще не всех знала в поселке.
— Я вот к нему, — Петерис ткнул пальцем в Калниньша.
— Чего тебе? — Калниньш сел на подоконник, чтоб удобней было беседовать.
— Соскучился. Дай, думаю, зайду, погляжу на товарища Калниньша. — Он приблизился, покосился в сторону Илги.
Девушка сообразила, что она здесь лишняя, взяла ведро и вышла.
— Ну, так в чем дело? — повторил вопрос Андрис.
— Шофер твой сказал… В вас стреляли по дороге.
— Ну, и что? — в голосе майора прозвучало нетерпение.
— А то, — озлился Петерис. — Если такой умный, должен бы сообразить… Продукты привез, приманку оставил. А сам уезжаешь с солдатами.
Калниньш пристально посмотрел ему в глаза:
— И что ты советуешь?
— Остаться надо. Хотя бы на сегодня.
— Ты что-то знаешь? — Калниньш положил руку Петерису на плечо, приблизил к себе вплотную.
— Считай, что во сне приснилось, — батрак сбросил руку, на всякий случай отодвинулся подальше. — Просто не хочу, чтобы поселок без жратвы остался. Я ведь дурак, — не удержался он от привычной колкости.
— И часто к тебе такие сны приходят?
— Нет… Первый раз.
— Кто тебя предупредил? — резко спросил Калниньш.
— Сон, я тебе говорю. И не ори на меня. Спасибо сказал бы.
Андрис встал, расстегнул шинель:
— Что, трусишь? Запугали?
Петерис равнодушно пожал плечами.
— Скажи хоть, сколько их и когда придут?
— Я тебе рассказал весь сон. Больше ничего не знаю.
— Ну, что ж, спасибо и на том, — вздохнул Калниньш. — Бог даст еще потолкуем.
— Опять бога вспомнил? Ну, ну! — подмигнул Петерис и не спеша зашагал от школы.
На дверях поселкового магазина висела табличка: «Перерыв на обед». Толпившиеся поодаль женщины чесали языки:
— Заснула она там, что ли? Уже пять минут третьего.
— Ладно, подождем. Говорят, макароны привезли и сахар, и спички… масло подсолнечное.
Кто-то нетерпеливо застучал в дверь:
— Эй, Инара! Открывай, пора.
Пожилая продавщица в белом халате поспешно отбросила крючок, сняла табличку. Очередь обрадованно зашумела:
— Наконец-то…
Инара огляделась по сторонам, поторопила:
— Только быстро — у меня всего час времени.
Она не выдумывала — таков был приказ Калниньша: через час закрыть магазин и убраться от него подальше — в подсобке уже сидели солдаты.
К прилавку начали подходить люди. Продавщица на этот раз работала так споро, что через сорок минут ни в магазине, ни возле него никого не осталось. На дверях снова появилась табличка с извещением о перерыве на обед.
А в поселок уже въезжала полуторка. За рулем по-прежнему сидел Зигис, больше никого не было видно — в кузове, на полу, прижавшись друг к другу, распластались бандиты. Машина проехала по пустынной улице, выехала на такую же безлюдную площадь, подкатила к магазину, со скрипом затормозила. Зигис выскочил из кабины, подбежал к двери, прочел табличку, радостно усмехнулся. Попробовал с силой дернуть дверь на себя — ничего не получалось. Толкнул плечом — не тут-то было. Еще раз боязливо оглянулся — никого, кроме кур да двух-трех собак, на улице не было видно. Тогда он крикнул своим:
— Давайте сюда! Ломать надо.
Как по команде, из кузова выпрыгнула вся группа. Загрохотали приклады, и уже через минуту дверь распахнулась. Оставив двоих караулить снаружи, бандиты ворвались внутрь. Началась лихорадочная работа — тащили мешки, ящики. С полок летели банки. Солдаты им не мешали — в последний момент Калниньш передумал и часть людей оставил на улице, а часть перевел на чердак.
— Куда ты этих конфет набираешь? — раздраженно кричал Зигису вспотевший от натуги Аболтиньш. — Консервов побольше. Тушенку ищите! Тушенку.
А на улице уже шла молчаливая, почти бесшумная и короткая борьба. Калниньш с солдатами, выбив автоматы у стоявших на страже бандитов, крутили им руки. Аболтиньш, схватив с деревянной колоды мясницкий топор, взламывал в магазине кассу.
— Пустая, — со злой досадой сказал он, искромсав ящик.
И вдруг остолбенел, выронив топор, — в дверях со связанными за спиной руками появился один из «братьев» — долговязый бандит, в разодранной одежде, с окровавленным лицом.
— Все, ребята, крышка, — прохрипел он. — Бросай автоматы, мы окружены.
— Что-о? — отшатнулся в ужасе трактирщик.
— Они требуют, чтобы выходили по одному, без оружия. Обещают…
Но договорить он не успел — Аболтиньш выстрелил в него в упор. Тут же началась стрельба. Со звоном разлетелась витрина, полоснуло свинцом по полкам с бутылками, банками, разорвалась с треском граната…
— К черному ходу! Через склад… Давай! — что было мочи крикнул Аболтиньш.
Крикнул, бросил гранату, дал длинную очередь и, когда бандиты устремились к черному ходу, схватил Зигиса за руку и потащил в обратную сторону, к окну, перед которым стояла полуторка. Стрельба уже шла на улице, за магазином. А за разбитым прилавком притаились отец с сыном, прислушиваясь к удаляющимся выстрелам.
— Давай! — шепнул Аболтиньш. — Быстро…
Оба стремительно выпрыгнули в окно. Зигис бросился за руль, Аболтиньш вскочил в кузов. Грузовик рванул с места, помчался вон из поселка. Укрывшись за бортом, трактирщик выставил ствол автомата и посылал одну за другой короткие очереди. Неожиданно из-за поворота выбежал Петерис. В руках у него была винтовка, отнятая у Озолса.
— Стой! Стрелять буду, — крикнул он, сам не узнавая своего голоса.
Машина и не думала останавливаться. Петерис вскинул винтовку и, не целясь, несколько раз выстрелил в упор по водителю — в ветровом стекле полуторки паутиной разбежались трещины. Зигис откинулся на сиденье, одной рукой схватился за грудь. Между пальцами текла кровь. Он зло выругался и что было мочи надавил на газ — машина как-то странно вильнула и, словно разъяренный бык, боднула Петериса. Не успев охнуть, тот отлетел в сторону. А полуторка вырвалась на простор и понеслась к лесу. Но чем дальше уходили бандиты, тем непонятней вела себя машина: виляла, дергалась, наконец и совсем остановилась.
— В чем дело, Зигис? — Аболтиньш постучал по крыше кабины. — Что у тебя там?
Никакого ответа. Встревоженный отец поспешно выбрался из кузова.
— Ну, что там такое? — начал было он, распахивая дверцу, но тут же осекся — Зигис сидел, уронив голову на руль. — Зиги… Сынок… — в страхе прошептал Аболтиньш. — Ты ранен?
Он осторожно поднял голову сына, расстегнул куртку — и в ужасе отпрянул — грудь парня была залита кровью, глаза холодно и мертво смотрели в пространство, мимо отца.
В темной глубине леса, привалившись к старой сосне, сидел Озолс. Взгляд его был неподвижно устремлен куда-то в пространство, по обросшей щеке медленно ползла одинокая слеза. Он думал сейчас о своей горькой судьбе, о загубленной жизни, о том, что никогда уже не увидит этих сосен, не услышит родных голосов. Даже поплакать над его могилой будет некому.
Аболтиньш пробежал через поляну — мимо дымящегося еще костра, мимо лежащего на земле котла, обшаривая взглядом все вокруг.
— Озолс, — негромко позвал он и, не получив ответа, крикнул уже громче: — Озолс!
Ответа не последовало и на этот раз. Тогда Аболтиньш бросился к бункеру, соскользнул вниз, растерянно позвал: — Озолс, где ты?
В бункере было так же безлюдно, как и наверху. На нарах — там, где недавно лежал Якоб, валялась груда тряпья.
— Где тебя черти носят? — разъяренно рыкнул трактирщик и, брызгая слюной, крикнул: — Иди сюда, я говорю!
Постоял, бессмысленно глядя в распахнутый люк над собой и вдруг точно сломался — бессильно опустился на ящик возле стола; положил руки на неструганные доски, долго сидел так, будто каменный. Затем поднял голову, мутным взглядом окинул недопитую бутылку, остатки медовых сот рядом с ведром, потянулся было за самогоном, но тут же злобно отшвырнул бутылку, бросился по лестнице наверх.
— Озолс! — надрывно закричал он, и лесная глушь повторила. — О-олс!
Ломая кусты, не разбирая дороги, Аболтиньш бросился сам не зная куда, чтобы только не стоять на месте в бездействии. Но не сделав и нескольких шагов, застыл как вкопанный. Он, наконец, увидел Якоба, тот стоял совсем близко, рядом с высоким старым пнем. Но уже в следующую секунду Аболтиньш понял, что Озолс не стоит на земле, а висит на низком суку, почти касаясь мха ногами.
— А-а-а! — по-звериному закричал трактирщик и, уже совсем ничего не соображая, вскинул автомат.
Он стрелял до последнего патрона. Затем с ненавистью отбросил автомат и повалился на траву — все его тело содрогалось от безудержных рыданий.
ГЛАВА 20
Следователь листал дело.
Сидящая перед ним женщина — супруга крупного фашистского деятеля, дочь немецкого старосты — вызывала в нем двойственное чувство. Ему было и жалко ее ребенка, и надоело в который раз выслушивать заведомую, рассчитанную на простачка ложь. Чем так бездарно выкручиваться, выложила бы лучше начистоту — может быть, тогда он сумел бы ей хоть как-то помочь.
— На каком основании вы пытаетесь отрицать, что являетесь супругой некоего Лосберга? На развод-то вы хотя бы подавали? — устало спросил он.
— Я же объясняла. Фактически мы никогда не были мужем и женой. А когда вернулись, я сразу потребовала развода, но так получилось…
— Ну, хорошо, допустим, — вздохнул следователь. — Тем не менее вы проживали совместно в доме вашего отца. Вплоть до того момента, пока господина Лосберга не отослали на фронт. Кажется так?
— Никогда в доме моего отца он не проживал, с отчаянием воскликнула Марта. — Он приезжал, это правда… но все эти годы между нами не было супружеских отношений.
Следователь выразительно пожал плечами:
— Вы, вероятно, догадываетесь, что мне трудно учесть… интимную сторону вопроса. Тем более, ваш супруг, в силу известных обстоятельств, не может дать этих… существенных показаний. А факты — вещь неумолимая. Попыток к официальному разводу вы не предпринимали, брак ваш не расторгнут… Может, не будем возвращаться хотя бы к этому, вполне очевидному факту, гражданка Лосберг?
Марта потерянно молчала. Следователь перевернул страницу и раздраженно спросил:
— Когда вы в последний раз виделись с Рихардом Лосбергом?
— Я не помню дату… Это было накануне прихода советских войск.
— Он что, приезжал за вами?
— Да. Но я отказалась ехать.
— Так… А по каким мотивам? Ради чего вы остались?
— Потому что у меня с моим бывшим мужем нет ничего общего.
— Вот как, — холодно заметил следователь. Ну, хорошо. Когда вы в последний раз видели своего отца?
— В тот же день, когда приезжал Лосберг.
Следователь укоризненно взглянул на нее:
— А если вспомнить получше?
— Как, получше? — с отчаянием вскрикнула Марта. — Мне нечего вспоминать, отец ушел в тот же день.
— И вы его больше не видели?
— Конечно. Где я могла его видеть?
— Где? — холодно прищурился следователь. — Я думаю вам это известно не хуже меня.
Марта с тревогой и надежной подняла голову:
— Вы что-то знаете о нем? Где он? Что с ним?
— Знаем. В лесу, в вооруженной банде.
— Не может быть, — невольно вырвалось у нее.
— Могу зачитать показания арестованных при налете на ваш поселок бандитов. — Следователь поискал среди бумаг листок. — Вот здесь, в списке личного состава банды названо имя вашего отца. Впрочем, ознакомьтесь сами, — протянул он листок.
Марта взяла бумагу и, держа ее в дрожащих пальцах, долго смотрела на расплывающиеся строчки.
— Ну? Что вы теперь скажете?
— Я не знала…
Следователь тяжело вздохнул:
— Ну что ж… Примерно такого ответа я и ожидал.
— Послушайте, но я действительно… — растерянно пробормотала она. — Вы мне не верите?
— А вы сами себе верите? — не сдержался наконец следователь. — Замуж вышли в горячке. В Германию отбыли в беспамятстве. Брак не расторгнут, тем не менее вы пытаетесь от всего откреститься… Какой смысл так тупо отпираться? Ничего не знаете… Что отец был в лесу, что накануне налета приходил домой, истоптал весь сад… Вот фотографии следов, оставленных хромой ногой. Или вам и этого не достаточно?
Марта смотрела на брошенные веером фотографии и уже ничего не пыталась сказать. Следователь заставил себя успокоиться, сложил фотографии в папку, и глядя куда-то мимо, словно ему самому было стыдно за эту бессовестную ложь, устало спросил:
— Ладно… Поскольку мы обязаны представить все данные о вас, у меня последний вопрос. Вы утверждаете, будто во время оккупации прятали у себя в доме партизан. Кто это знал?
Марта растерянно заморгала, наморщила лоб:
— Ну, мать Артура Банги…
— К сожалению, она уже не сможет этого подтвердить.
— Тогда только сам Артур или… мой отец.
— Что? — изумился следователь. — Вы хотите сказать, что прятали наших людей с ведома вашего отца?
— Так получилось. Он узнал случайно.
— И ничего не предпринял?
— Нет.
— Чем вы это можете объяснить?
— Иначе он выдал бы и меня.
Следователь взял со стола пресс-папье, долго задумчиво вертел его в руках, затем с едва уловимым сочувствием посмотрел на Марту и негромко сказал:
— К сожалению, ни Артур Банга, ни ваш отец свидетелями быть не могут.
— Почему? — встрепенулась она.
Следователь отвел взгляд в сторону:
— Гвардии капитан Артур Банга погиб двадцать третьего июня сорок четвертого года. Ваш отец покончил жизнь самоубийством трое суток назад. — Выждав паузу, следователь спросил: — Вы хотите что-нибудь добавить в протокол допроса?
Но она, потрясенная новым ударом, едва слышно ответила:
— Нет.
ГЛАВА 21
Тихая, дремала в глубоких снегах тайга. Объятые непробудным сном, стыли в серебряных доспехах кедры. Вдруг откуда-то с самой макушки посыпался снежок, перепрыгнула с ветки на ветку белка. Дед Митяй вскинул берданку, прицелился — ствол поплыл в воздухе, замер на мгновенье и — вздрогнул от выстрела. Подобрав зверька, охотник отряхнул с него снег, приторочил к поясу — там болталась еще парочка пушистых тушек.
Тайга близко подступала к деревушке, будто стерегла ее. Уютно дымили добротные, из вековых стволов, по-сибирски просторные избы, сверкали инеем огромные, красиво уложенные поленницы дров, в воздухе пахло свежим хлебом и печеной картошкой.
Подойдя к своему дому, еще более добротному, чем другие избы, с резными воротами и весело раскрашенными ставнями, с петухом на коньке, дед Митяй скинул у крыльца лыжи, постучал одной о другую. Он удовлетворенно оглядел подворье, устало потянулся, ступил было на первую ступеньку, но тут словно из-под земли вырос постреленок в непомерно большом, мохнатом малахае и звонким, пронзительным голосом крикнул:
— Дедусь, вас председатель кликал.
— С чего бы это? — недовольно обернулся дед.
— Не знаю. Сказывал, скоро надо. Я уж третий раз за вами.
— Ниче, обождет. Обогреюсь вот и зайду.
В серой тусклоте колхозной конторы Кланька Фофанова, секретарша, цвела заморским, немыслимой пестроты чудо-цветком. От ее пронзительно зеленой кофты, от размалеванных, будто калина переспелая, губ, от высоко взбитой ярко-рыжей копны у деда в глазах зарябило. Сердито крякнув, он шагнул к председателю, однорукому мужику в застиранной гимнастерке:
— Вызывал, что ля?
— Не вызывал, деда, не вызывал. — При своей добродушной внешности однорукий мнил себя хитрованом. — В гости просил — это верно. Проходи, садись.
Дед снисходительно покосился на него:
— Без меня гостеватели найдутся. Сказывай, че надо-то.
— Обижаешь, дед. Власть к тебе всей душой, а ты…
— Власть? — усмехнулся дед. — Ты вот че, Тимоня, раз уж на власть вышел, пользуйся иногда. Кому надо, укорот делай, — он зыркнул в сторону Кланьки, — у кого, к примеру, память дырявая, да совесть легкая…
— Вы на кого это здесь намекаете? — взвилась Кланька.
— Чего намекать? — прищурился дед. — Намекать неча. Говорю, как есть. Мужик твой счас, может, кровью умывается, а ты… Тьфу! Как павлина размалеванная, выставляешься перед каждым.
— Вы… Да вы… — задохнулась от возмущения Кланька и, отвернувшись, чтобы не показать зардевшихся щек, выскочила из комнаты.
— Ну, дед, у тебя критика — что кувалда, — растерянно усмехнулся председатель. — Баба на радостях, а ты… Мужик у нее объявился. Думала погиб, а он, оказывается, раненый, в Свердловске.
Митяй по-детски шмыгнул носом, заминая неловкость, с преувеличенным нетерпением спросил:
— Сказывай, че надо. Недосуг мне лясы точить.
— Понимаешь, дед… — Митрий Акимыч — такое дело. Налаживают к нам ссыльных, аж четыре семейства.
— Чего, чего? — мотнул бородой дед. — Каких ссыльных? Каторжных, што ль?
— Да каких каторжных? — с досадой махнул рукой председатель. — При Советской-то власти. Сказано — ссыльные. Ну, которые там, при немцах не особо так провинились, а все же… Тех, которые шибко-то виноваты, сам понимаешь… А энтих, которые не шибко, ну, сюда, значит, в сибирскую нашу сторонушку — вроде как для перевоспитания.
— Ну и пущай воспитываются, пожал плечами дед. — Мне-то какое дело?
— Вишь, деда… Стало быть, Митрий Акимыч, просьба от общества. Изба у тебя пятистенок, вас со старухой двое… Возьми постоялицу. На время, конечно, там что-то придумаем.
— Та-ак… с язвительной покорностью протянул дед. — Острог, значит, у меня соорудить ладишься? Давай, Тимоня, командуй, ты же власть.
— Да ты што, дед а? Митрий Акимыч… — засуетился председатель. — Зачем напраслину возводишь? Какой острог? Баба с дитенком, только и делов-то.
— Давай-давай, — не унимался дед. Оказывай почет на старости лет. Все одно заступиться некому — сыны на фронте.
— Сказано же — баба…
— А можа она атаманша? Али заразная. Али того хуже — возьмет да избу спалит. За што же мне, красному партизану, от советской власти такое уважение? Чем же это я провинился перед ею?
— Ну, и шут с тобой, — рассердился однорукий. — К нему, как к человеку, а он… Потому и прошу, што партизан бывший. Сознательный мол. А ты — вона как. К кому поселять-то? К Ваньке Шухину? Вот уж было бы — в одно кодло. Энтот воспитает…
Дед притих, призадумался.
— Когда прибывают-то? — спросил он.
— Завтра.
Митрий Акимыч повздыхал, покряхтел. Наконец, не выдержал:
— А нельзя, Тимоня, штоб… не бандитку? Можа, кого другого? Ты же знаешь мою старуху.
— Да какая бандитка? — так же неуверенно возразил председатель. — Баба — она и есть баба. — И вдруг весело, беззлобно расхохотался: — А ты, гляжу, ишо не промах — боишься старуху.
В доме Костыревых новость вызвала переполох.
— Ты че, пень трухлявый? Вовсе ополоумел? — стучала сухоньким кулачком по столу бабка Анисья.
— Да уймись ты, старая, уймись, — слабо оборонялся дед.
— Я вот те уймусь. Других-то дураков, небось, не нашлось… Бандитов — на постой.
— Каких бандитов? Рыпры… рыпрысирные…
— Ты меня словами не задуряй. Рыпрысирные. Не пущу и весь сказ. Стану вот тут на пороге с ухватом… Все одно помирать.
— С кем воевать-то собралась, старая? — усмехнулся дед. — Женщина с дитенком, одинокая.
— Одинокая? — пуще того взвилась бабка. Ах ты, кобелина старый… Стало быть, одинокую себе подобрал?
— Цыть! — гаркнул вдруг дед. — У печки перегрелася? Остынь.
Бабка сразу притихла, пригорюнилась:
— Так ведь боязно, Митяюшка. А ну как порежет, али еще чего?
— Ниче, — приласкал ее дед. — Живы будем — не помрем. Войне скоро конец — сыны вернутся.
— Во-во, а ты Федюшкину комнату энтой…
— Ниче, старая, вернулись бы…
По улице села медленно тянулись четверо саней, нагруженных узлами и чемоданами. Среди поклажи сидели дети разного возраста, замотанные от мороза — кто шарфом, кто платком. Вслед за санями брели женщины. Возглавлял шествие однорукий председатель, провожаемый неодобрительными взглядами односельчан — небольшими группками они стояли по обе стороны улицы. Шедшая от колодца баба с ведрами на коромысле не уступила дороги, демонстративно пошла через улицу, чуть не задев председателя ведром — мол, знай наших. .
Через полузамерзшие окна избы смотрели дед с бабкой на приближающиеся сани. Старуха отступила на шаг и, приложив руки к груди, тихо спросила:
— Неужто в Федюшкину комнату?
Дед не ответил, вздохнул. Старуха зашла в боковушку. Там стояли опрятно заправленная кровать, небольшой стол, два стула. На стене, рядом с книжной полкой, висели две фотокарточки в рамочках — сыновья. Один в офицерской форме, серьезный. Другой — в солдатской ушанке, смеющийся, веселый. Старуха, приподнявшись на цыпочках, стала снимать со стены портреты.
На пороге, весь окутанный паром, появился председатель.
— Здорово, хозяева. Вот принимайте, — глухо сказал он и отошел в сторону.
За ним стояла женщина, замотанная поверх пальто платком. Она неуклюже переступала замерзшими ногами в фетровых ботиках, уже давно потерявших свой первоначальный цвет. Дед со смешанным чувством жалости и неприязни взглянул на нее, на стоявшего рядом мальчишку. У того из-под намотанного поверх шапки платка лишь блестели глазенки.
— Здравствуйте, — разматывая платок, с заметным акцентом сказала Марта.
— Здравствуйте, — сдержанно ответил дед.
Председатель просительно стрельнул глазами сначала на него, потом на вышедшую из соседней комнаты с портретами сыновей старуху, поспешно сказал:
— Ладно, вы тут разбирайтесь, а мне еще других устраивать надо. — Помолчал и добавил, ни к кому собственно не обращаясь: — А насчет работы, и, стало быть, провианту… завтра определим.
Когда дверь за ним захлопнулась, в комнате повисла напряженная тишина. Первым ее нарушил хозяин дома:
— Там, значит, обретаться будете, — показал он на открытую дверь боковушки.
— Можно туда зайти? — неуверенно, с трудом подбирая русские слова, спросила Марта.
— Ваша, говорю, комната, — хмуро повторил дед.
Марта взяла чемодан, обернулась к сыну:
— Эдгар, помоги-ка… — по-латышски сказала она.
Но мальчик не слышал. Он смотрел совсем в другую сторону — туда, где на столе, в тарелке, прикрытой домотканой салфеткой, виднелась краюха ржаного хлеба. Темно-золотистая корочка гипнотизировала ребенка.
— Эдгар! — резко повторила Марта. Ее лицо покрылось красными пятнами.
Мальчик словно проснулся, сглотнул слюну и поспешно подхватил стоявший у ног узелок. Дед видел все — и голодный взгляд ребенка, и растерянность матери, и тяжелую кладь в их руках, но хоть и качнулся невольно — все же не двинулся с места.
Над деревней сгущались сумерки. В избах зажигалка редкие огоньки. Снаружи оконце боковушки выглядело маленьким светлым квадратиком — и посреди этого светлого квадратика темнел неровный кружочек. Это Эдгар своим дыханием отогрел стекло и с недетской серьезностью разглядывал незнакомую улицу, огромные кедры в белоснежных шапках, бесконечные сугробы снега. Наконец, он обернулся к матери:
— Мама, а ты заметила, — задумчиво спросил он, — хлеб у них какой-то странный.
Марта — она разбирала вещи — опустила голову, делая вид, что не расслышала. Переспросила:
— Что?
— Коричневый такой, и пахнет вкусно.
— Поздно уже, ложись спать.
— Мама, я кушать хочу, — насупился мальчишка.
Марта опустила голову, виновато сказала:
— Нету у нас, маленький, ничего. Ложись, спи.
Старик со старухой в это время сидели в горнице за столом, занимались каждый своим делом — дед подшивал валенки, хозяйка вязала носки. Оба изредка поглядывали на дверь, за которой слышалась негромкая возня, незнакомая речь. Наконец, бабка не выдержала и спросила шепотом:
— Вроде не по-нашему бают. Немцы, што ля?
— Латышцы они какие-то — поняла?
— Ох, господи-спаси, — перекрестилась старуха. — Где же, Митяюшка, земля ихняя, в Германии, аль в России?
— Этта, значит, — умственно наморщился дед, ежели от Москвы податься… — и махнул безнадежно рукой. — Долго объяснять, старая, все одно не поймешь.
— Митяюшка, а за што ее в такую даль? Баба-то с виду, вроде, смирная.
— Этта, значит… — снова многозначительно начал дед, но неожиданно озлился. — Не твоего ума, старуха, это дело секретное.
— Господи, упаси, пресвятая богородица, — снова перекрестилась старуха, хотела еще о чем-то спросить, но не успела — распахнулась входная дверь, на пороге стояла женщина, та, что переходила дорогу с коромыслом, когда везли ссыльных.
Бабка обернулась и едва не выронила от удивления носок — Катерина была в валенках, в тулупе, за подол которого цеплялся сынишка, шестилетний Федька, и в розовом, ангорского пуха, капоре, еще не утратившем остатков европейского лоска и элегантности.
— Здравствуйте-бывайте, — пропела Катерина медовым голосом, пытливо оглядывая стариков — какова будет реакция на ее обнову?
— Че это у тебя на башке? — изумленно спросил дед. — Не с чучела сняла?
— Че вы понимаете, Дмитрий Акимыч, — обиженно повела плечами Катерина. — Европа. Постоялица подарила. — И понизила голос: — А ваша-то как? Неужели ничем хозяев не задобрила? Небось, не все порастрясла дорогой?
Бабка нахмурила брови:
— Ты, Катерина, так зашла али по делу?
Но гостья то ли не захотела услышать в бабкином голосе неприветливой строгости, то ли действительно была сильно возбуждена — подошла к зеркалу, поправила капор, пренебрежительно бросила через плечо:
— Так захаживать мне времени нету. Передайте своей постоялице: ее в мою бригаду зачислили. Так что завтра ровно в шесть возле конюшни, иначе пешком будет искать нас в тайге. Пошли, Федор Николаевич. — И, подхватив за руку сынишку, выплыла из избы.
— Совсем ошалела баба, — вздохнула ей вслед старуха.
Она направилась было к боковушке, чтобы передать квартирантке сказанное Катериной, но вмешался дед:
— Погоди, старуха. — Подумал немного, тихо добавил: — Накормить людей надо.
Бабка постояла, подошла к печи, вынула небольшой чугунок с картошкой, поставила на стол.
— Давай, давай, — подхлестнул дед.
Хозяйка вышла в сенцы, вернулась с миской соленых грибов и кринкой молока. Неуверенно подошла к двери в боковушку, постучала:
— Мальца накорми, — сказала она выглянувшей Марте.
Та от неожиданности смутилась, часто-часто заморгала.
— Мальца, говорю, накорми, — уже чуть приветливее повторила старуха. Бригадирша твоя приходила. Тебе завтра с утра на работу.
Марта постепенно приходила в себя.
— Извините, пожалуйста, — смущенно заговорила она. — Нам много не надо. Денег у нас пока нет, но если хотите… что-нибудь из вещей. Или в долг… Как вам лучше.
Дед Митяй поднялся, хмуро уставился на нее. Под его насупленным взглядом Марта совсем смешалась, торопливо заверила:
— Вы не сомневайтесь, мы за все уплатим.
— Это кто ж тебе про нас такое наплел? Што мы куски считаем, — сиплым от обиды голосом заговорил дед. — Тебя к людям привели али в берлогу к косолапому?
— Так ведь я… Я не хотела вас обидеть. Мы понимаем…
— А понимаешь, так и нечего… Собирай на стол, старая, а ты зови своего мальца, — приказал дед. — Ты, девка, вот чего… че там у тебя — я не знаю и знать не хочу. Че было — там осталося. Пришла в избу — живи. Нету разносолов — не гневайся, а че есть — все обчее. Поняла?
— Поняла. — У нее по щекам покатились слезы.
За столом Марте все же было неловко за своего изголодавшегося мальчишку — он жадно шарил глазенками по сторонам, намеревался протянуть ручонку то к одной тарелке, то к другой. Но мать что-то говорила ему коротко по-латышски, и он вежливо отдергивал руку, однако тут же, к огорчению Марты, забывался и тянулся снова.
— Как пацанчика твоего кличут? — сглаживая неловкость, спросил дед Митяй.
— Эдгар.
— Эдик, значит?
— Можно и так. Вы уж извините, проголодался он в дороге.
— А ты, девка, не извиняйся. Кушает — и слава богу. И вообче — хватит лоб в поклонах расшибать. Не любят у нас энтого.
Эдгар, наконец, наелся, встал и тихо сказал:
— Палдиес.
— Чего? — не понял старик.
— Спасибо, говорит, — объяснила Марта. — По-латышски это.
Вишь, какой смышленый, — удивилась старуха. Такой крохотный, а уже по энтому… по-латышскому балакает. — Она ласково погладила мальчика по голове, неожиданно сказала: — И у нас двое сыночков. Воюют.
Марта что-то припомнила, вскочила и бросилась к себе в комнату — тут же вернулась и протянула старухе яркие шерстяные рукавички с национальным узором:
— Возьмите на память. Это наши, из Латвии.
Но старуха вдруг поджала губы и не очень деликатно отодвинула подарок:
— Не надо. У нас свои есть.
Взметнув облако снега, упала вековая сосна. В тайге на делянке работали лесорубы — женщины да подростки. Марта в валенках, в ватных брюках и в ватной телогрейке, почти неузнаваемая в непривычной одежде — неумело тюкала топором, обрубала сучья. Даже эта, наименее тяжелая на участке работа, трудно давалась ей. Дерево щетинилось корягами ветвей, кололось хвоей, топор беспомощно отскакивал от звонкого пружинистого ствола.
— С тобой заработаешь… на чай без сахару, — хмуро бросила Катерина, молодая плечистая бригадирша, одним махом отсекая толстую ветку.
— Слышь! — крикнула другая, краснощекая, миловидная. — Ты раньше-то где работала?
Марта, не отвечая, еще старательнее застучала топором.
— Понятно, — подмигнула Катерина. — У фрицев ей слаще жилось. Другие на нее горбатились. Ладно, девки, перекур.
Катерина воткнула топор в пень и пошла к костру. За ней из леса вышла вся бригада. Расселись у огня, разложили на широком пне у кого что было. Стали закусывать. Только Марта осталась у сосны, упрямо продолжая обрубать неподатливые сучья.
— Обиделась, — откусывая хлеб, кивнула в ее сторону Катерина. — Характер показывает.
— Позвать, что ли? — неуверенно спросила ее розовощекая подруга.
— Еще чего! Пусть помахает топориком, подстилка немецкая.
— Какая ты, Катерина, все же… — укорила подруга. — Не баба, что ли сердца в тебе нету.
— Бабой я буду, когда мужик мой с фронта вернется, — хмуро ответила Катерина, сворачивая махорочную цыгарку. Взяла из костра тлеющую головешку, морщась от жара, прикурила и добавила еле слышно: — Если вообще вернется.
Из-за деревьев выехали сани, запряженные тощей лошадью, которую вела Майга — одна из ссыльных, тоже латышка. Катерина с подругами начали накатывать в сани срубленный ствол, закреплять его тросами. Майга подошла к Марте, продолжавшей обрубать сучья:
— Ну как, освоилась? — пытаясь ободрить, улыбнулась она.
— Стараюсь… Только руки вот… — Марта стерла пот с лица.
— А ты из кожи не лезь, прилаживайся, — понизив голос, Майга кивнула на бригадиршу. — Какая она ни стерва, а подход и к ней найти можно. Знаешь, с волками жить — по-волчьи выть.
И пошла к саням, на которых женщины закрепляли бревно. А Марта снова принялась стучать топором.
С ледяной горки с криками катались на санях деревенские ребятишки. Наверху, держа веревку самодельных салазок, стоял мальчуган в буденовке с красной звездой. Из-под шлема торчал только кончик носа, и трудно было узнать в нем Эдгара. Но чувствовалось, что буденовкой он очень гордился — важно выпрямившись, даже забыв о санях, беспрерывно поправлял ее на голове.
— Чего стоишь? — насмешливо сказал ему Федька — сын бригадирши. Он поправил меховой треух и неожиданно предложил: — Давай шапками меняться, моя теплей.
— Нет, — солидно ответил Эдгар — он уже довольно сносно говорил по-русски, — мне дедушка подарил.
— Врешь, нет у тебя никакого дедушки.
— А вот и есть, — возмутился Эдгар. — Он дома, печку топит. Вон дым идет, видишь?
— Какой он тебе дедушка? — наступал чернявый. — Тебя с мамкой сюда привезли. Я все знаю — ты фашист. И тебе буденовку носить нельзя.
Он бросился на Эдгара, пытаясь сорвать с него шлем.
— Ты сам фашист, — крикнул Эдгар, отталкивая обидчика. — Мой папа на фронте воюет.
Вспыхнула жестокая мальчишечья драка. В свалке не видно было, кто наверху, кто внизу. Только все время мелькала рука Эдгара, крепко сжимавшая шлем с краской звездочкой. Наконец, Федька вырвался и, помахивая добычей, поддразнивая противника, пустился наутек с горки. Эдгар бросился за ним вдогонку, но споткнулся, упал, поднялся, размазывая по щекам слезы и грязный снег.
Марта в это время сидела в гостях у Майги — в ее маленьком закутке, отделенном ситцевой занавеской. Там стоял топчан, покрытый сшитым из лоскутков одеялом, два табурета и столик. На стене громко тикали ходики. Марте было видно, как за занавеской по горнице, гремя посудой, ходила Катерина. Доносился ее сердитый голос:
— Щей он не хочет. Видали буржуя? Тебе, может, мармаладу подать?
Федька только шмыгал носом в ответ.
— Я пойду, неуверенно сказала Марта — она хорошо понимала, что там, за занавеской говорят для нее.
— Сиди, — остановила Майга. — Погавкает и перестанет. Еще чаю вместе выпьем. Тебе все равно надо с ней как-то сблизиться. — И понизив голос, зашептала: — Ты одно пойми — нам продержаться надо. Выжить здесь. Во что бы то ни стало. Так что свою гордость попридержи.
Марта хотела возразить, но в это время хлопнула входная дверь и тут же раздался взволнованный голос бабки Анисьи:
— Катерина, наша у вас?
— Какая ваша? — насмешливо отозвалась та.
— Ну, Марта…
— И давно она стала вашей?
— Ладно тебе, Катерина, потом…
Что-то и в голосе, и в лице гостьи было такое, что Катерина смилостивилась:
— Там. Шепчутся.
Старуха бросилась к занавеске, отдернула ее и, слегка заикаясь от волнения, проговорила:
— Эдик запропал, Марточка. Нигде найти не можем.
Марта побледнела, вскочила с табуретки. Бабка Анисья виновато добавила:
— Давеча на санках катался. Вот с энтим… — бабка показала на притихшего Федьку. — И будто сквозь землю…
Катерина перестала греметь посудой, подозрительно взглянула на притихшего сына.
— Где он? — голосом, не предвещающим ничего хорошего, спросила она.
Федька на всякий случай скривил отчаянную рожу, шмыгнул носом и опасливо покосился на дверь — путь к отступлению был отрезан.
— Ну? — грозно повторила Катерина.
— Он в тайгу подался. — И, спустив голову, едва внятно пробубнил: — Я ему честно предлагал шапками меняться, а он не захотел.
Федька вытащил из-под себя буденовку, виновато положил на стол. Все невольно обернулись к заледенелому окну, за которым разыгрывалась пурга.
Эдгар, увязая в глубоком снегу, брел по тайге. Он давно потерял ориентировку и теперь, подгоняемый холодом и страхом, шел наугад, куда попало. Стоять и слушать нарастающий вой метели, наблюдать, как сгущаются зловещие сумерки, было еще страшнее. С непокрытой головой, закоченевший и всклокоченный, он еле передвигал ногами.
— Мама, — почти беззвучно звал он. — Мама…
Тайга молчала. Только завывала сатанинским голосом метель да потрескивал сучьями, набирая силу, мороз. Сумерки становились все гуще и гуще. Споткнувшись, мальчик привалился к стволу огромной сосны и обессиленно закрыл глаза, а вокруг него стал вырастать белый холмик.
Марта шла, не разбирая дороги, продираясь сквозь кусты и валежник.
— Эдгар! — хрипло кричала она. — Эдга-ар!
В темноте маячили фонари.
— Эдик! — звал дед. — Ау-у-у!
Где-то рядом продиралась сквозь метель Майга, тоже кричала, звала. Мальчика искали всей деревней. Марта теряла силы, падала, поднималась и все кричала:
— Эдгар!
И вдруг, пораженная, остановилась: навстречу из-за деревьев вышла Катерина, держа на руках мальчика. Она шла простоволосая, с развевающимися на ветру заснеженными волосами. А безжизненно обвисший на руках ребенок был замотан ее платком.
— Держи, мама…
Эдгар спал с компрессом на голове. Лампа, прикрытая темной тканью, скупо освещала комнату. Марта нагнулась, осторожно поправила повязку. Услышала скрип отворяющейся двери, оглянулась — на пороге стояла раскрасневшаяся Майга. В руках она держала бутылку, заткнутую тряпицей.
— Самогон… У Ваньки Шухина по дешевке выпросила.
Марта вопросительно посмотрела на нее.
— Когда проснется, — кивнула Майга на спящего мальчика, скидывая ватник, — натрем как следует. Сразу жар спадет. — Поискав глазами кружку, плеснула в нее самогону. А пока мы с тобой сами полечимся. — И протянула кружку Марте.
Марта безотчетно хлебнула глоток, скривилась и с отвращением вернула кружку. Майга с явным удовольствием допила остаток, взяла со стола картофелину, посыпала солью.
— Что это? — она подозрительно заглянула в кастрюлю с каким-то варевом.
— Кедровый настой. Бабушка сварила.
Гримаса брезгливости пробежала по лицу Майги.
— Ты бы поосторожнее с этими дикарями, — сказала она. — Стравят и не охнут.
— Ну, зачем ты? Они так переживали, так заботятся… Как о родном внуке пекутся. Просто неловко…
— Неловко? — переспросила захмелевшая Майга и, хлебнув еще глоток, сказала уже с вызовам: — Перед кем? Перед этими? Ты что, сама к ним напросилась? Что ты о них знаешь? А я на них насмотрелась…
— Где? — не поняла Марта.
— Неважно… — неопределенно махнула рукой Майга, и, прищурившись, проговорила, словно выплюнула: — Фанатики… Дикари… Ненавижу. — Скрипнув зубами, она судорожно сжала в руке железную кружку.
Заворочался во сне Эдгар, застонал, причмокивая губами. Майга расплылась в умильной улыбке, подсела к ребенку на постель, хотела погладить:
— У-у, ты мой сладенький…
— Разбудишь, — холодно отстранила землячку Марта. Посмотрела ей прямо в лицо, тихо сказала: — И вообще… шла бы ты отсюда.
Та удивленно вскинула брови, поднялась:
— Что так? — в глазах была холодная трезвая злоба — словно и не пила она вовсе.
— Да так, — не дрогнула Марта. — Каждый раз после тебя мне хочется в баню… Помыться.
Майга тяжело задышала, отступила на шаг, взяла ватник:
— Ладно, с угрозой произнесла она. — Я уйду. Но смотри — они тебя умоют.
И бросилась вон из комнаты, с грохотом захлопнув за собой дверь.
— Мама, ты куда? — испуганно вскинулся Эдгар.
— Спи, спи, сынок, я здесь. — Марта наклонилась и поцеловала сына в щеку. — Попить не хочешь?
Эдгар положил свою щеку на ее ладонь, потом отодвинулся, провел пальцем.
— А почему она у тебя царапается?
— Это мозоли, сынок.
— Больно?
— Нет, сынок, уже не больно.
Мальчик порывисто поднялся, обвил ее шею своими ручонками.
Так они и сидели вдвоем, тесно прижавшись друг к другу, а за окном все мела и мела метель.
Девятое мая деревня встречала шумно, по-сибирски раздольно. Из репродуктора, укрепленного на столбе возле колхозной конторы, по всему селу разносился бодрый военный марш. В раскрытые окна врывались песни — с выкриками, с присвистом, с лихим перебором гармошки. Прямо посреди улицы бабы, как на свадьбе, затеяли лихой перепляс. И гоголем среди них, за неимением других кавалеров, кружил, выписывая кренделя однорукий Тимофей. В этот солнечный день вся деревня высыпала на улицу. Звуки гармошки смешивались с музыкой по трансляции.
Дед Митяй, примостившись у черной тарелки репродуктора, в который уже раз слушал сообщение о капитуляции немецкого командования.
— …О полной и безоговорочной капитуляции фашистской Германии, сообщал взволнованный, приподнятый голос Левитана…
— Во, зараза фашистская, — злорадно произнес он. — Как ни болела, а все ж-таки сдохла. Полная и безоговорочная…
— Сыночки мои, родненькие, — причитала бабка, выставляя прямо на стол фотокарточки сыновей. — Сподобились-таки, укротили супостата. Давай-ка, старый, разливай, подымем по рюмке за здоровье ненаглядных наших… Штоб поскорей домой возвернулися.
— Дело, старуха, дело. — Старик бросился к столу, поднял графин. — За Ванюшку с Федюшкой! За победу нашу народную. Ну-ка, Марточка, садись.
Марта слушала радостно возбужденные голоса, бодрые марши, лившиеся из черной тарелки, веселый шум за окнами, и горький спазм все сильней и сильней перехватывал горло. У людей праздник, огромное счастье. Забудется прошлое, зарубцуются раны, утихнет боль, вернутся близкие… Не ко всем, конечно, но человек есть человек и он создан для счастья, для жизни. А что у нее? Ни прошлого, ни будущего — одно настоящее. Горькое, унизительное, страшное.
Едва не расплескав стопку, она быстро отвернулась, стараясь сдержать слезы.
— Ты че это? Че с тобой? — забеспокоилась бабка.
— Голова что-то… Вы не беспокойтесь… Я… — Марта попыталась улыбнуться. Но, уронив вдруг голову на руки, затряслась от неудержимых рыданий.
Старики всполошились не на шутку.
— Ну-ну, девка… беспомощно топтался подле нее дед. — Что уж так-то убиваться. Оно, конечно, на чужой стороне… Однако же… Мать, ты бы закрыла окошко.
Старуха прикрыла окно, прикрутила радио.
— Мама, мама! А мы Гитлера поймали. — В комнату, размахивая деревянными ружьями, вбежали Эдгар с Федькой.
— Ладно, ладно, — старуха сунула им по пирожку и подтолкнула к выходу. — Поймали — и молодцы. Таперича за энтим бегите… Как его? За Герингом.
— Однако не так все и худо, сдержанно утешал Марту старик. — Здоровая, молодая, мальчонка при тебе. И мы уж вроде как не чужие. Случай чего — в обиду не дадим.
— А, может, ты об них горюешь? — вдруг нахмурилась бабка. — Об тех, за кого тебя сюда наладили? Жалеешь, что их наши побили?
— Да вы что, ей-богу… — отмахнулась сквозь слезы Марта.
— Ты ручкой-то не маши. От правды не отмахнешься. Все молчком да молчком. Дед верно говорит — мы уж теперь не чужие. Ежели што — лучше покайся, на душе легче станет.
Митяй сердито шикнул на нее, шевельнул грозно кустистыми бровями. Но Марта не обиделась, вытерла рукавом лицо, сказала сурово:
— В том-то и дело, что не знаю, кому каяться и в чем. Следователь, когда допрашивал… Уж ему-то всю душу вывернула. Ну, и что? Я понимаю, конечно, поверить непросто. Все сплелось, перепуталось, вроде я одна кругом виновата. Хотя, если разобраться, то в чем? В том, что на свет родилась?
— Ты выпей-ка, выпей, оно легче станет, — пододвинул ей стопку старик и осторожно, как бы невзначай, спросил: — Ну, а на самом деле как?
— Да и на самом деле выходит, что виновата, — просто сказала Марта и горько усмехнулась. — Только ведь, чтоб понять человека, поверить ему надо, всю его жизнь узнать.
Она подняла глаза на старуху, на деда и увидела: они давно ждут ее исповеди, готовы ее принять. И Марта стала рассказывать. От начала до конца, ничего не умаляя, ничего не приукрашивая. Она как бы вспоминала вместе с ними все самое яркое, самое радостное и само горькое в своей жизни. Все промелькнуло в ее памяти, как застывшие мгновения, как яркие фотографические вспышки.
Долго молчали старики, потрясенные рассказом Марты. Давно уже наступила ночь, в деревне все стихло, и только откуда-то издалека еще чуть слышно доносилась песня. Но не разудалая, не веселая, а полная ожидания, тревоги и тоски. Далеко за рекой пел одинокий женский голос.
Дед встал, прошелся по горнице. Обе женщины — Марта и старуха — пытливо смотрели на него, будто ждали: сейчас он возьмет и решит все вопросы в этом запутанном для них мире. Дед дошагал до двери комнаты, где спал Эдгар, заглянул туда, потом плотно прикрыл дверь. Подошел к комоду, выдвинул ящик. Женщины продолжали внимательно, почти благоговейно следить за каждым его движением. Достал из ящика толстую клеенчатую тетрадь, взял ручку с чернильницей, вернулся к столу:
— Пиши, — сказал он.
— Что писать? — не поняла Марта.
— Все. Всю свою жизнь пиши. Как она есть…
— А зачем, дедушка? — горько усмехнулась Марта. — Кому это нужно? Все равно не поверят.
— Ты это брось, загремел старик. — Плохо ты знаешь нашу власть. Один не поверил — так ты уж и всех под ту же мерку. Твой следователь — ишшо не вся власть. Ты пиши — разберутся.
— Да и нет у меня, если правду сказать, особой охоты доказывать. Руки, дедушка, опустились. С той минуты, как он сказал, что Артур погиб…
— Цыц! — вскипел старик. — Ишь, чего удумала. Язык, што помело. А о нем ты смекнула? — он показал рукой на дверь, за которой спал Эдгар. — Кто помер, а кому жить да жить.
Марта быстро взглянула на старика — да, об этом она, действительно, не подумала — покорно придвинула к себе тетрадь.
— Кому писать? — виновато спросила она.
— Как — кому? — удивился ее непросвещенности старик. — Туда, на самый верх. — И он показал пальцем на потолок.
ГЛАВА 22
На краю рыбацкого поселка притормозил грузовик: из кабины выпрыгнул статный молодой офицер в кителе с золотыми майорскими погонами, с орденами и медалями на груди. Это был Артур Банга. Машина укатила, а он стоял, медлил, словно не решался идти. Дюны, сосны, тусклая полоска моря… Волной нежности и грусти ударил в сердце неяркий этот пейзаж. Артур перебросил из руки в руку небольшой чемоданчик и решительно зашагал в поселок.
Страннее чувство охватило его, когда он вошел в дом. Будто никогда и не покидал его, будто еще вчера был здесь. Стол, покрытый домотканой скатертью, которую он помнил еще с детства, часы с кукушкой, те, что он привез на первые свои деньги, портреты отца с матерью на стенах, его фотография — ладный парень в матросской куртке — мать очень любила этот снимок.
Все ка своих местах, все бережно сохранено. В комнате чисто прибрано, на окнах вздуваются парусами белоснежные занавески… И цветы. Они всюду — на подоконниках, на стенах, на подставочках. Целый сад в доме.
— Здравствуйте. Вы ко мне? — услышал он вдруг за спиной голос и обернулся.
Это была Илга — молодая учительница, приехавшая в поселок вместе с Калниньшем. Она держала в руках ярко-желтую жестяную лейку. Девушка была удивительно хороша — с нежным, чуть смугловатым румянцем, со спокойным взглядом больших серых глаз. Артур невольно залюбовался ею.
— К вам? — усмехнулся Банга. — Я думал, к себе.
— Интересно. Хоть и не совсем понятно. Слушаю вас.
— Да нет, лучше уж вы говорите.
— Я? Это совсем интересно. — Девушка слегка улыбнулась странному гостю и принялась поливать цветы.
— Ну, хотя бы расскажите о цветах. Давно они здесь растут?
— Послушайте, товарищ майор, вы меня лишаете права на гостеприимство, — насмешливо сказала она.
— Почему же?
— Если вы, наконец, догадаетесь представиться, я приглашу вас присесть и даже предложу чашку кофе.
— Вот как… — Он поставил чемоданчик. Забавно. Гостем я здесь еще не был. Ну что ж, давайте знакомиться. Моя фамилия Банга.
— Как вы сказали? — девушка внимательно посмотрела на него и, что-то припоминая, медленно перевела взгляд на фотокарточку. — Скажите, а вы случайно не родственник… — она неуверенно показала на портрет, где Артур был снят в матросской блузе.
Он невольно усмехнулся, сдернул с головы фуражку, подошел к стене, стал рядом со своим юным изображением:
— Неужели не похож?
Илга вздрогнула. Теперь она и сама видела, что паренек в матросской блузе и майор с орденами на груди — одно и то же лицо.
— Так вы и есть Артур Банга? Тот самый…
— Какой тот самый? — его озадачила странная растерянность девушки.
— Ну… Тот, на которого пришла… Илга никак не решалась произнести слово «похоронка».
— Что, «на которого»? — уже неприязненно повторил он.
Илга совсем растерялась, но тут же подумала: а что, если он вовсе и не знает про похоронку? Собралась с духом:
— Вы разве не знаете, что на вас была похоронка?
— На меня? Похоронка? — теперь настала очередь удивляться Артуру. — Когда?
Учительница наморщила лоб, припоминая, когда же это было.
— Осенью прошлого года. Как только наши пришли.
Банга опустился на стул, растерянно сказал:
— Дела-а… В общем-то я побывал на том свете… Но чтобы похоронка, это я впервые слышу.
— Как на том свете? — испуганно спросила она.
Болезненная улыбка, похожая на гримасу, исказила его лицо:
— Обычно. Сложили всех в одну могилу и присыпали. Хорошо хоть сверху оказался, да земли в спешке не густо навалили. Ночью пришел в себя, выбрался.
— Как же это можно, живых? — девушка смотрела на него с ужасом.
Артур вынул из кармана папиросы, неспеша ответил:
— Живых там не было. Это я один, случайно… Бездыханный, без сознания… Ну, впопыхах, под горячую руку и…
— А как же потом?
— Потом? Ночью пришел в себя, выбрался, приполз к своим… Потом госпиталь… Полгода ничего не слышал, не разговаривал… А там потихонечку, полегонечку и, как видите… Извините, я без разрешения, — он поднялся, озираясь, куда бы сбросить пепел.
— Артур! Боже мой! — раздался неистовый женский крик, и в комнату вихрем влетела Бирута. — Мне говорят, а я не верю…
Банга не успел опомниться, как оказался в объятиях.
— Живой! — Она трогала ладонями его лицо, гладила волосы и счастливо улыбалась. — А мы тебя похоронили.
— Ну вот… Обманул всех, — смущенно, почти виновато сказал он.
Бирута отстранилась от него, сжалась в комок и, взглянув на Бангу больными, измученными глазами — полными отчаяния и надежды — спросила:
— Может, и Лаймон так же?
Он не смог выдержать ее взгляда, отвернулся, глухо сказал:
— Нет, Лаймон нет. У меня на руках…
Артур оказался в том же самом кабинете, где когда-то допрашивали Марту; по другую сторону стола сидел и участливо смотрел на него тот же самый следователь.
— Жаль, — сочувствующе сказал следователь. — Жаль, что тогда не было ваших показаний. Только они и могли изменить дело.
— Оставим сожаления в стороне, — сухо ответил Артур. — Как вы намерены исправить вашу ошибку?
— Ошибку? — вскинул брови юрист. — Кто вам дал право говорить об ошибке? На основании тех материалов, которые имелись, я вел следствие со всей добросовестностью. Никакого пристрастия у меня не было.
— Толку-то в вашей добросовестности, — не сдержался Артур. — Если в результате ее невинный человек, женщина с ребенком, засылается черт знает куда… За что, про что, спрашивается, вы…
— Еще раз повторяю, — оскорбленно перебил следователь. — Если вы считаете, что решение несправедливо, можете его обжаловать. Но подвергать сомнению объективность следствия, обвинять нас, понимаете, в предвзятости, в заведомых ошибках…
— Конечно, — язвительно вставил Артур. — Ошибок у вас не бывает, всегда полный ажур.
— Послушайте, майор, с какой стати я должен выслушивать оскорбления? И за что?
— Вы считаете — не за что? Вы не смогли или не захотели разобраться по здравому смыслу, по существу, по элементарной человеческой совести, наконец…
— Да как разобраться? Как? — припечатал ладонью к столу следователь. — Откуда я должен был брать факты? С потолка? Свидетелей откуда вызывать? С помощью спиритических сеансов? С того света?
— Как разобраться? — сузил глаза Артур. — Когда мне на фронте приказывали взять языка, я не спрашивал как. Я шел и брал. А вы… Знаете, если ошибается сапер, расплачивается жизнью он сам. А вот за вас, к сожалению, другие. Он резко встал и, не прощаясь, направился к двери.
— Стойте! — окликнул его следователь. — Куда вас понесло? Вы что — пришли поругаться, и все? Или помочь вашей знакомой? Вы ведь даже не потрудились изложить письменно свои показания.
Артур стоял набычившись посреди кабинета — и уходить глупо, и оставаться невыносимо.
— Я понимаю, вам сейчас больше всего хочется пойти н накатать на меня во-от такую телегу, — усмехнулся следователь.
— А вам чего хочется? — огрызнулся Банга, — Чтоб на вас меньше жаловались?
— Да жалуйтесь, — устало отмахнулся юрист. — Вам ответят примерно то же: не было материалов, нет оснований для претензий. Только затянет дело. — Он прошелся, закурил. — А мне бы не хотелось — понимаете? — он в упор взглянул на Бангу. Откровенно говоря, после всего, что узнал от вас, у меня желание одно: как можно быстрее добиться пересмотра дела. Хотя это совсем не простая процедура, как вам, наверное, кажется. Не говоря уже обо всем дальнейшем.
Артур все еще недоверчиво косился на него, потом спросил:
— Можно хотя бы узнать, где она находится?
— Что, она никому не пишет? — удивился следователь.
— Представьте себе — никому.
— Странно…
— А что тут странного? Меня она считает погибшим, родных у нее здесь никого… Да, видно, и общаться со старыми друзьями не очень хочется. Крепко вы отбили у нее эту охоту.
Следователь сочувственно посмотрел на Бангу, понимающе вздохнул:
— Что ж, сегодня же направим запрос. А вы… Вот вам бумага, садитесь сюда и пишите. Да поподробнее, поподробнее…
Облачная пелена над горизонтом была перламутрово-серой, но по нижнему ее краю проходила огненная кайма. Постепенно она розовела, наливалась золотистым светом. Но море не торопилось отразить на своей глади предзакатную игру красок. Оно еще пыталось сохранить глубинные, холодные цвета Балтики. И вдруг пелена прорвалась. Из-под нее над самой чертой, разделяющей небо и море, показался нижний край тяжелого огненного шара.
Артур стоял у воды босиком на влажном песке. Его походные сапоги лежали рядом. Солдат и рыбак праздновал встречу с родиной. На душе было и радостно, и горько. Радостно потому, что жив, потому, что дома, потому, что не слышно больше грохота разрывов, потому, что над головой родное небо, а у ног плещется родное море. Горько же оттого, что он не мог насладиться всем этим в полную меру. Марта… Где она, что с ней?
Вдали появилась женщина. Она шла вдоль отмели, там, где словно серебристое ожерелье, цепью протянулись крохотные озерца, оставленные отступившим после шторма морем. Потревоженные чайки с гортанными криками кружили у нее над головой. Артур закрыл глаза — так вдруг захотелось поверить в невозможное.
— Куда же вы исчезли? — подходя, спросила Илга. — Второй день за вами бегаю. В общем, так. Мы с Бирутой обо всем договорились — я буду жить у нее. Ваш дом свободен. Напрасно деликатничаете.
— А вы совершенно напрасно торопитесь, смущенно ответил Артур. Я же еще и не демобилизовался. Так, в отпуске после ранения.
— Все равно, я свои вещи унесла.
— И цветы? — улыбнулся он.
— Они вам не помешают? — вопросительно взглянула на Бангу учительница. — Пока вы совсем не вернетесь, я их буду поливать. И сад тоже. Жалко, если погибнет. Земля здесь — сплошной песок.
— Странно, — задумчиво сказал Артур.
— Что странно? — не поняла она.
— Это я о человеке. Вообще… Может дрожать над цветком, а может вот так… — Банга до хруста сжал кулаки.
— Но всегда добро побеждало зло, — по-школярски убежденно сказала Илга.
Он с интересом посмотрел на девушку, улыбнулся:
— Особенно в книжках.
— Не согласна, — учительница упрямо наклонила голову, нахмурилась. — Вы многое повидали, многое пережили. А в принципе… Вот увидите, все образуется. И Марту свою найдете.
Он удивленно вскинул голову:
— А вы откуда знаете?
Она не смутилась, не опустила взгляда.
— Бирута рассказала. И Калниньш тоже. Кстати, он вас сегодня разыскивал.
— Калниньш? — чуть не крикнул Артур. — Он в поселке? — и начал торопливо натягивать сапоги.
Они сидели в доме Банги, оба задумчивые, тихие. Поговорили обо всем, не касались только главного. Калниньш встал, подошел к окну, долго смотрел, как солдаты мыли трофейный «опель». Наконец, не выдержал, обернулся:
— Я знаю, о чем ты хочешь спросить. Судил Марту не я, хотя не скрою — принимал участие в расследовании. А факты, понимаешь, вещь упрямая.
— Какие факты? — угрюмо спросил Артур.
— Отец ее бандит, это доказано. Я уже не говорю, что при немцах был старостой. Муж — ярый приспешник гитлеровцев.
Артур не выдержал, поднялся, подошел, стал рядом.
— Кого судили? — резко сказал он. — Отца, мужа, или ее? Ту, которая, рискуя жизнью, прятала у себя партизан. Это не факт?
— Этот факт подтверждается сегодня, — возразил длинный. — А тогда фактом было извещение о вашей гибели… твоей и Лаймона.
— А поверить ты ей не мог? Просто, по-человечески…
— Не мог, не имел права. Обвинение ей было предъявлено тяжелое — связь с бандитами. Ты понимаешь, что это значит?
— Слыхал. И о следах хромого Озолса, и о намеках Петериса накануне бандитского налета… И все-таки, разве не могло быть, что Озолс не заходил в свой дом? Хотя бы потому, что не хотел ставить дочь под удар?
Калниньш долго молчал, потом сказал:
— Не верю.
— Так же, как не верил в историю с разведчиком. Пойми, в тех условиях это был подвиг.
— Что я тебе скажу… — пожал плечами Калниньш. — Добиться пересмотра дела вот в таком новом свете будет нелегко. Даже в свете новых фактов. Но, конечно, нужно. А пока единственно реальное, что я могу тебе обещать — сделать запрос и узнать, где она находится.
— Спасибо, — не без сарказма поклонился Артур. — Мне уже один добрый дядя пообещал оказать эту услугу.
Калниньш помрачнел.
— Напрасно ты злобствуешь и к человеку придираешься. У него всю семью в Саласпилсе под корень сгубили.
Артур виновато заморгал ресницами:
— Прости, не знал.
— И вообще, я тебе скажу… Нельзя смотреть на все только через свою беду — так весь мир может показаться кошмаром.
— А как иначе прикажешь смотреть? — насупился Артур.
— Не знаю. Но только надо как-то по-иному, терпимее.
— Тебе легко рассуждать.
— Кому, мне? — губы Калниньша дрогнули.
— Извини, я не это имел в виду, — смутился Банга.
— Да какая разница, это или не это? Сказал, и уже сделал больно. А сейчас больного у всех столько… К чему ни прикоснись — всюду болит.
Черный ЗИС промчался по мосту над Москвой-рекой, миновал площадь Дзержинского, подкатил к подъезду огромного серого здания. Лосев — крепкий, спортивного склада блондин лет сорока с небольшим, в габардиновом синем плаще и мягкой шляпе, терпеливо ждал, пока дежурный проверит пропуск. У входа на этаж процедура повторилась. Молоденький офицер, строго поглядывая на посетителя, сличил его внешность с фотокарточкой на документе. Последний «фильтр» был уже в приемной. Впрочем, дежуривший там лейтенант, видимо, хорошо знал вошедшего — он с улыбкой поднялся ему навстречу:
— Здравия желаю, товарищ полковник. Проходите, Георгий Павлович вас ждет.
Козырев, хозяин кабинета — он тоже был в штатском костюме, не скрывавшем, однако, четкой офицерской выправки — выглядел озабоченным и усталым. Но гостю обрадовался, усадил в углу кабинета за круглый столик, обставленный креслами.
— Не балуешь, Владимир Семенович. Редко заглядываешь. — Он тронул клавиш селектора. — Насчет чайку распорядитесь, пожалуйста. Ну, рассказывай, повествуй. Как самочувствие, настроение?
— Настроение… — задумчиво протянул Лосев. — Планету жалко.
— А-а, ты об этом… — лицо Козырева помрачнело, он покосился на веер свежих газет, раскрытых на страницах международных новостей. Сообщения о взрыве атомной бомбы над японским городом Нагасаки были отчеркнуты красным карандашом.
Георгий Павлович встал, подошел к сейфу, достал черный пакет с пачкой фотографий, положил перед Лосевым.
— Неужели оттуда? — спросил тот.
— Хиросима.
Это были снимки города, стертого с лица земли. Лосев с волнением рассматривал их.
— Как же вам удалось?..
Козырев только пожал плечами, собрал снимки и спрятал обратно в сейф.
— Знаешь, у меня все эти дни не идет из головы фраза, брошенная, кажется, Нильсом Бором… Еще до войны, когда атомные исследования только начинались. «Мы живем на острове, сделанном из пироксилина. Но, слава богу, еще не нашли спичку, чтобы его поджечь».
Козырев замолчал, пережидая, пока вошедшая в кабинет женщина в крахмальной наколке расставляла перед ними стаканы с чаем, сахарницу, баранки.
— Спичку, — усмехнулся Лосев, когда она вышла. Мы-то все боялись, что эту спичку найдет бесноватый… А их, как видно, и за океаном пруд пруди. — Он постучал костяшками пальцев по газете. — Ни малейшей военной необходимости. Ни в первой бомбе, ни, тем более, во второй. Самураи и без того выдохлись. Да и без Германии им бы никуда не деться. За каким же дьяволом сто тысяч жертв?
— Сто пятьдесят, — уточнил Козырев. — И это, по-видимому, еще не все. А за каким дьяволом? Да все за тем же, Владимир, все за тем же. Чтобы нас с тобой припугнуть. Сначала Гитлером пугали. Теперь — вот этим. Верь слову, они своим спичечным коробком теперь долго тарахтеть будут. И не исключено, что в конце концов к нам же опять н кинутся: «Караул! Отберите спички у дурака». И будешь помогать — раз планету жалко. Ладно, пей чай. И показывай, что притащил. — Козырев кивнул на портфель.
— У тебя что, рентген? — хмыкнул Лосев.
— Нюх старой ищейки — в тон ему отшутился Козырев. — Так ведь тебя просто на чай не заманишь.
— Что верно, то верно. Все спешим, все некогда. Сегодня гляжу, а дочка-то уже невеста. Когда выросла? — вздохнул Лосев и вдруг без всякого перехода спросил: — Послушай, из твоих ребят кто-нибудь работал под такой вывеской… обер-лейтенант Отто Грюнберг?
— Отто Грюнберг? — насторожился Козырев. А в чем дело?
— Знаю, Георгий, ты не любишь, когда в твой ящик заглядывают. Но, понимаешь, тут такая история… В общем, прочти сам. — Лосев расстегнул портфель и вытащил оттуда толстую тетрадь в клеенчатом переплете.
Козырев взял тетрадь, бегло перелистал.
— Это что, из отдела проверки жалоб?
— Верховный суд запросил сведения о некоей Марте Лосберг. Действительно ли она в годы войны оказала содействие одному нашему человеку? Очевидно из твоего ведомства.
— Женщина?
— Почитай, почитай. Я сначала, когда прочел, решил, что не по адресу. Думал в Союз писателей переслать, для романа. Ан, гляжу — в роман твоих героев запутывают.
— И тебе нужен Отто Грюнберг?
— Понимаешь, она пишет, что здорово помогла ему в сорок первом. Можно сказать, спасла жизнь. Если это так, то он один может выручить ее из беды. Если, конечно…
— А что с ней?
— За Уралом, выслали.
— Понятно. Что ж, вокруг Отто Грюнберга уже секретов нет, — с болью сказал Козырев. — Ты его знаешь… Это Александр Ефимов.
— Саша? — Лосев тревожно покосился на Козырева. — Что с ним? Если не тайна?
— С ним? Мозговая опухоль. Неоперабельная, — медленно, с трудом выговорил Козырев.
— Откуда она взялась?
— Последствия ранения в голову.
— И где он сейчас? В госпитале?
— Был. А теперь у родителей, в Иркутске. Отчислен из нашей команды, к сожалению, навсегда.
Лосев долго молчал, подавленный услышанным, затем горестно сказал:
— Эх, Сашка, Сашка.
Помолчали. Козырев невесело посоветовал:
— Надо запросить дело, послать Саше ее фотографию и попросить наших в Иркутске внимательно разобраться. И чем скорее, тем лучше.
ГЛАВА 23
— В тот год осень в тайгу не спешила. Давно уж пора было зарядить ненастью, а дед Митяй с бабкой Анисьей все грелись да грелись на солнышке, благословляя позднюю теплынь. К ним подошла почтальонша:
— Здравствуйте, граждане. Отдыхаем?
— Садись, Нюра, — подвинулся дед. — Роздых-то ногам дай.
— Некогда, деда, сумка вон еще полная. Постоялица дома?
— Ай письмо принесла? — встрепенулась бабка.
— Принесла. — Нюра достала запечатанный сургучом пакет.
— Откуда? — заволновался дед. — Часом не из Москвы? Давай передам.
— Казенное, — покачала головой почтальонша. — Расписаться надо.
— Ах ты, господи… Да стирает она. Дед вон распишется, какая тебе разница? — захлопотала бабка.
— Нельзя… Лично должна.
— Вредная ты, — укорила Анисья и пошла в дом. — Марта! Марточка!
Дождавшись, когда за бабкой закроется дверь, Нюра достала из сумки еще один конверт, поменьше, украдкой сунула его деду.
Марта держала в руке пакет, не решаясь вскрыть. Надломила одну сургучную нашлепку, другую, оглянулась на Эдгара — мальчик тихонько копошился в углу возле клетки с белкой. Он был так увлечен, что не слышал, как вошла с письмом мать. А когда оглянулся, увидел, что она сидит на кровати и плачет. А на коленях у нее лежит какая-то бумага.
— Мамочка, ты что? — испуганно спросил он.
— Марта не смогла ответить — слова комом застряли в горле.
Бабка маялась нетерпением, шастала туда-сюда по горнице, хваталась то за одно, то за другое и все прислушивалась к происходящему за дверью. Наконец, не выдержала, заглянула:
— Ну, че притихла? Можа, чего…
И оторопела. Марта плакала, тихо и горестно. Слезы капали прямо на листок письма.
— Неужто отказали? — испугалась старуха. — Ах ты, горе…
Марта подняла голову и, растягивая губы в жалкой, вымученной улыбке, сказала:
— Не отказали, бабушка. Поверили.
— Ах ты, господи… — всплеснула руками старуха. — Чего же ты ревешь? Ревушка ты коровушка. — Старуха не замечала, как слезы катятся и у нее по щекам. Надо же, радость какая. Это ж… Спасибо ему, родному, — она повернулась, отвесила поясной поклон, истово перекрестилась на портрет Сталина. И тут же с неожиданной для нее прытью выскочила из избы. — Де-д! Митяю-у-шка! Иди сюды, скорей. Как сквозь землю… — с досадой сказала она, возвращаясь в горницу. — Куды его, старого, черти уволокли? Все они, мужики, такие — только отвернись, как ветром сдует. Сей же секунд был на крыльце. Поди, Марточка, покличь его. — Бабка заговорщицки подмигнула. — Да не сразу сказывай про радость-то. Мол, бабка чай пить кличет — и все. А я тут — вмиг. — Она кинулась к буфету, загремела посудой. — Мы сейчас такой пир… И пакет этот посеред стола положим. Эдик! А кто за грибками слазит?
Марта вышла во двор, огляделась — деда нигде не было видно.
— Дмитрий Акимыч! — позвала она. — Где вы?
Вокруг было тихо, только где-то в поднебесье заливисто звенел жаворонок, да через несколько дворов повизгивала пила. Марта спустилась с крыльца, заглянула в курятник, потом в сараюшку.
— Вы что, Дмитрий Акимыч? — удивленно спросила она, увидев старика в полумраке сарая — он сидел неподвижно, как-то неестественно согнувшись, спиной к ней. — Что с вами?
— Че толчетесь… Че носитесь, как ироды? — с неожиданной злостью обернулся он к ней. — Че разорались-то? Дед-дед!.. Спокою от вас, иродов, нету.
Марта растерялась, отступила:
— Простите, я хотела…
И вдруг увидела — старик плачет. Кусает губы, скрипит зубами, пытаясь сдержаться, а слезы сами текут и текут. В его кулаке был зажат надорванный пакет. Страшная догадка промелькнула в ее сознании. Она бросилась к старику, схватила за плечи, прижала к себе.
— Федюшка наш… Младшенький… — застонал дед. — На Украине его, бандеровцы. Бабке-то не сказывай пока. Слышь?
Осень и в самом деле не спешила в тот год в тайгу. Лес стоял просвеченный широкими лучами, падавшими на увядшие травы. Поваленный бурей старый кедр торчком высился над обломком пня. Эдгар, задрав голову, смотрел, как Федька, балансируя, медленно шел по стволу упавшего дерева. Эдгару казалось, что приятель двигался под самыми облаками, бесстрашно преодолевая высоту. Дойдя до излома ствола, Федька на секунду остановился, напружинился.
— Ну что, струсил? — нетерпеливо крикнул ему снизу Эдгар. — Прыгай.
— Почему струсил? — неуверенно возразил парнишка, посмотрел вниз и сел. — Уже и отдохнуть нельзя?
— Ладно, отдохни, — снисходительно согласился Эдгар.
— А сам чего ждешь? — прищурился Федька.
Эдгар быстро и легко взобрался на поваленный ствол, пробежал по нему и сел рядом с другом.
— Ну, чего? — спросил Федька.
— Ничего, — угрюмо отозвался приятель. — Вообще-то неохота уезжать.
— Ты же сам говорил, — подбодрил Федька, раскидывая руки. — У вас там море во-от такое…
— А ты помнишь, как мы с тобой дрались?
— Помню. Ну и что?
— Я сейчас сильнее стал?
— Факт.
— Когда приеду в Латвию… Если кто фашистом обзовет, всем морду побью.
Марта вошла в избу Катерины. Та мыла полы.
— Вот, пришла попрощаться, — улыбнулась гостья.
— С кем? — угрюмо отозвалась хозяйка, распрямляясь с тряпкой в руке.
— С тобой, с Майгой.
Катерина оттолкнула ногой ведро, с маху бросила в него тряпку, пристально посмотрела на гостью:
— Никак не возьму в толк — блажная ты или придуриваешься?
Марта удивленно вскинула брови, обежала взглядом комнату. Только теперь она заметила, что занавески, отделявшей закуток в углу, не было. И топчан стоял голый, непокрытый.
— Она что, переехала? — осторожно спросила Марта, подозревая ссору между Катериной и Майгой. — К кому?
Катерина молчала, не сводя с Марты тяжелого недоверчивого взгляда.
— А ты ничего не знаешь? И не знала?
— Чего именно?
— Ну, что за птица — подружка твоя? И за что ее сюда приперли?
— Почему не знала? Знала. Она в офицерском казино при немцах работала.
— Ха-ха… — Едко засмеялась Катерина. — Этой басней она и меня дурачила. Сегодня утром, когда за ней пришли, то же самое твердила. Пока уполномоченный ей в нос фото не сунул. Надзирательница в лагере фашистском — вот кто она.
Марта, потрясенная, молчала. Невольно припомнились все предыдущие разговоры с Майгой и та последняя стычка, когда она фактически выгнала землячку из дому. Чувствовала ведь: Майга что-то скрывает, неискренняя она и злобная, но чтобы так…
— Но я действительно ничего не знала. Хочешь верь, хочешь нет, — сгорая от стыда, сказала Марта.
— Сука фашистская… Уж как она тебя поливала грязью. И такая, и сякая…
— Ну что ж, — тяжело вздохнула Марта. — Я со своей правдой ни к кому не лезу. Спасибо тебе за Эдгара, за добро… А если что и не так… Извини — какая есть. — Она повернулась и шагнула к выходу.
— Погоди, коли не врешь, — остановила ее Катерина. Вытерла о передник руки, подошла к Марте, повернула к себе лицом. — Обиделась? На меня зла не держи — много я за эту войну хлебнула. И еще, видно, хлебать-не расхлебаться. Самой от себя иногда тошно. А ты баба ничего. Хоть и блажная, но ничего. Пусть тебе будет удача. — Она притянула Марту к себе и троекратно, по-русски, расцеловала. — Иди.
И так же растерянно, будто еще не очнувшись от прощания с Катериной, она стояла в пустой комнате, где прожила с Эдгаром эту нелегкую зиму. Голые, без постелей кровати, пустые, выдвинутые ящики шкафа, уложенный чемодан, увязанные ремнями и веревками узлы. Эдгар деловито суетился, собирая свои вещи. Его взгляд упал на раскрытую шкатулку, где среди писем и фотографий золотился кусочек янтаря — тот самый, который Марте когда-то подарил Артур.
— Мама, что это? — с любопытством спросил мальчик, разглядывая на свет диковинный желтый камень.
— Это? — задумчиво откликнулась мать. — Это слезинка сосны, сыночек.
— Разве сосны плачут?
— Плачут, сынок, плачут.
— А когда они плачут, мама?
— Когда им больно, сынок.
Мальчик задумчиво вглядывался в сверкающий кусок янтаря.
— Марточка, слышь, — в комнату вошла бабка, тебя там человек какой-то спрашивает.
— Меня? — удивилась Марта. — Какой человек?
Бабка пожала плечами:
— Дед его из конторы привел. Вроде издалече приехал.
Марта вышла в другую комнату и чуть не натолкнулась на незнакомого человека с небольшим чемоданчиком в руке. Он пристально взглянул на нее, потом медленно поклонился:
— Здравствуйте. Приехал вот к вам в гости… А вы, оказывается, уже в дорогу собрались.
Марта удивленно смотрела на пришельца, который в своем старомодном плаще, с саквояжем в одной руке и шляпой в другой, в больших роговых очках, выглядел типичным старым интеллигентом.
— Здравствуйте, — растерянно пробормотала она. — Только простите, кто вы?
Приезжий не спешил с ответом, и дед тут же сообразил, подтолкнул страдающую от любопытства бабку к дверям:
— Поставь-ка, мать, самоварчик, человек с дороги. А я дровишек наколю. Вы уж извиняйте.
Когда старики вышли, приезжий несколько церемонно сказал:
— Разрешите представиться, Ефимов Петр Никодимович. Я отец Саши.
— Какого Саши? — еще больше удивилась Марта.
— Сейчас вам станет ясно, какого… — человек улыбнулся, поставил саквояж, вынул из кармана пиджака бумажник. Достав оттуда фотокарточку, он положил ее на стол перед Мартой: — Вы не припоминаете этого человека?
Марта нагнулась над фотокарточкой. В первый момент она не узнала красивого офицера со звездой Героя на груди, потом вгляделась внимательней, и сердце учащенно заколотилось: на нее смотрел тот самый человек, которого Артур на себе принес к ней в подвал. Она не могла ошибиться. Правда, теперь он был не в фашистском мундире, а в советской военной форме.
— Позвольте, но это Отто… Отто Грюнберг.
— Узнали, — обрадовался старик. — Он сказал, что вы его так и назовете, если узнаете. А на самом деле он Саша, мой сын… Александр Петрович Ефимов.
— Вот как…
— Да, вот так. Тесен мир. — Старик взял у нее фотографию, бережно спрятал в бумажник. — Примите отцовский поклон. За все, что вы сделали для нас. — Он склонился низко-низко, как кланялись только в старину.
Из соседней комнаты вышел Эдгар, с удивлением посмотрел на склонившегося перед матерью старика. Марта поправила воротник рубашки сына и, смущенная трогательной благодарностью гостя, поспешила представить.
— Это мой сын, Эдгар.
— Эдик, — норовисто поправил ее мальчик.
— Будем знакомы, — как взрослому подал руку гость. — Петр Никодимович. А можно и проще — дедушка Петя. Знаешь, Эдик, зачем я приехал сюда? — Он привлек к себе мальчика.
— Не знаю, — исподлобья глянул на него Эдгар.
— Хочу тебя с мамой к нам в гости забрать. В Иркутск, рядом с Байкалом. Слыхал про такое море?
— Не-а…
Ефимов обернулся к Марте:
— Вы даже не представляете, как Саша всполошился, когда узнал о вас. Звонил в Москву, сам собирался лететь. Врачи еле удержали.
— Он болен?
Старик помрачнел:
— Очень. Что-то с головой. Поэтому я и приехал за вами.
— Что же делать? — Марта растерянно посмотрела на вещи. — Мы вот… собрались домой возвращаться.
— И прекрасно, я вам не помешаю. Заглянете, повидаетесь. По нашим сибирским масштабам это же рядом. А там, как сами захотите. Очень уж он просил. Без нее, говорит, не возвращайся. Я, говорит, обещал ей добром отплатить, другой возможности у меня не будет.
На последних словах голос Ефимова дрогнул, и Марта неуверенно сказала:
— Ну, разве что по пути. На денек-другой.
— Разумеется, — обрадовался старик. — Неволить не станем. Только вот что, Марточка… Вы позволите вас так называть? Хозяевам о поездке в Иркутск не говорите: Саша, понимаете, у нас конспиратор — служба у него такая. Вы возвращаетесь домой — я прибыл вас сопровождать. Кстати, это полностью соответствует истине. Если вы хотите вернуться на родину, мы доставим вас туда в целости и сохранности.
— Спасибо. Но с нами столько хлопот…
Старик встал, укоризненно посмотрел ей в глаза:
— Дочка, это же мой сын. И он у меня единственный.
Над голыми, по-осеннему сиротливыми березками, над вечнозелеными кедрами медленно плыли тяжелые, низкие облака. У калитки стояла подвода, нагруженная нехитрым скарбом отъезжающих. Эдгар уже взобрался на передок рядом с дедом и возбужденно размахивал кнутом:
— Нно! Нно! Деда, а почему она не слушается?
Митяй с грустной улыбкой поглядывал на мальчишку и неловко гладил его по голове. Петр Никодимович стоял в стороне, покуривал. А женщины все прощались и прощались.
— Что ты все — «спасибо да спасибо»… — прикрывая волнение воркотней, бубнила бабка Анисья. — Что мы тебя, озолотили, что ли? Привыкли вот к вам, а теперь одни куковать будем.
— Не будем, — отозвался с телеги старик. — К Ванюшке на Украину уедем. Женился там, кличет.
Старуха вдруг всхлипнула, прижалась к Марте:
— А Федюшка-то наш, младшенький…
Не в силах удержаться, она затряслась в рыданиях, Марта тоже плакала. Подошел однорукий Тимофей, степенно поздоровался с Петром Никодимовичем, пожал руку деду Митяю, прицыкнул на женщин:
— Ну ладно, будя. Вот порода… Встречаются — ревут, прощаются — голосят. — И, как бы извиняясь за неразумных женщин, деловито осведомился у Петра Никодимовича. — Значит, доставите до самого дома?
— Доставлю.
— Что ж, — вздохнул председатель, — это хорошо. Она баба того заслуживает. — Приветливо улыбнулся Марте. — Отбываешь, значит? Жалко. Я уж тебя учителкой хотел наладить в школу. Да, видно, ничего не поделаешь. Верно оно говорится — в гостях хорошо, а дома лучше. Бывай, Марточка, не поминай лихом.
Дед беспокойно заерзал на передке:
— Давай, девка, садись. Пароход… он ждать не будет.
— Счастья тебе, Марточка, — перекрестила ее старуха. — Эдика береги… Храни господь. — И вдруг, вспомнив что-то важное, заволновалась: — Куды писать-то? Ежели там бумага какая, али известие?
Марта многозначительно переглянулась с Петром Никодимовичем, уклончиво ответила:
— Я сама напишу, когда доберусь до места.
Наконец подвода тронулась, натужно заскрипев колесами. Откуда-то вынырнул Федька с корзиной кедровых шишек, сунул другу:
— Держи, пощелкаешь дорогой.
С волнением смотрела Марта на удалявшийся дом, на махавших ей вслед руками людей, на весь этот уголок в далеком таежном краю, где она оставляла частицу своей души, капельку своего горького счастья. А Эдгар, радостный и возбужденный, широкими глазенками смотрел на расстилавшийся перед ним простор и все покрикивал на лошадь:
— Нно! Шевелись живей! Но!..
Его птичий голосок звонким ручейком растекался по зеленой дубраве, как бы напоминая всему вокруг, что жизнь никогда не кончается.
ГЛАВА 24
Яркие отблески пламени падали на лицо Артура. Заслоняясь от жара, он смотрел на коптильную печь — там на металлических рамах млела, покрываясь золотистой кожицей, салака.
— Сколько сегодня дадите? — спросил он у плотного, средних лет мастера, суетившегося у печи.
— Мало, председатель, — ответил тот. — Но зато смотри, какая салака — крупная, жирная.
Он снял с рамы еще горячую рыбешку, протянул Артуру. Тот машинально разломил ее, попробовал.
— В общем, ясно. Плана опять не будет.
Они отошли к столам, где женщины нанизывали свежую рыбу для копчения.
— Поговори с рыбаками сам, — посоветовал мастер. — К Марцису зайди. Он где-то лодку раздобыл вот с такущим, — мастер развел руки, — мотором. На пару с родственником этим, из Риги, рыбачит. А сдает нам на фабрику не больше других. Иногда и меньше. Спроси-ка у него, куда остальная девается?
— Секрет простой, — хмуро буркнул Артур, — на рынке в Риге ее искать надо.
Такой же хмурый, он шел по песчаной дороге к прятавшемуся в зелени кустов домику Марциса. Оттуда уже издали слышались медовые звуки старого довоенного шлягера. Крутилась пластинка на английском патефоне знаменитой марки «His master’s voice»[9], на ней эмблема: громадная собака, прильнувшая к трубе граммофона. Рыжебородый толстяк Марцис растроганно слушал музыку. Рядом с патефоном стояла полупустая бутылка водки, тарелки с ломтями лососины и жареной трески. По другую сторону стола сидел худощавый, в очках, похожий на студента, парень.
— Артур! Здорово, друг! — радостно завопил хозяин, увидев входящего гостя. — Вот молодец… А мы как раз покупку обмываем. — В Риге на рынке купили, — он гордо показал на патефон.
— Хорошо живешь, — заметил Артур.
— А что? — пьяно засуетился Марцис. — Я должен одну треску жрать и без музыки сидеть? Хватит, натерпелся в мрачные годы оккупации. — Обернулся к очкастому. — Знаешь, Хенька… Для всех он начальник, а для меня друг… Потому… мы с ним вместе воевали.
— Целых два дня, — вскользь обронил Артур.
— Точно, — растроганно подтвердил Марцис. — Когда началась война, мы тут свой истребительный отряд организовали. — Толстяк похлопал Артура по плечу. — Он был нашим командиром. Не помню, я тебе рассказывал или нет? Немцы как наперли… Мы та-та-та… А они как татакнули… Я потом четыре года в Риге на кладбище сторожем ошивался. — Марцис опустился на стул, обхватил голову руками, долго молчал. — Слушай, Артур, а сколько нас осталось из того отряда? Ты, я… Кто еще? Да-а, старый Калниньш. Знаешь, Хенька, кто теперь этот Калниньш? — он для убедительности сделал зверское лицо, понизил голос. — При та-ки-х погонах ходит.
Тот, кого Марцис назвал Хенькой, спокойно, даже, можно сказать, равнодушно, слушал болтовню хозяина дома, изредка бросая на Артура косые, настороженные взгляды. И хотя он ничем не проявлял своего неудовольствия, Банга чувствовал, что его визит очкарику неприятен.
— Давай помянем ребят, — Марцис наполнил рюмки — их было всего две — поискал глазами, куда бы плеснуть еще, схватил металлическую кружку, щедро налил чуть ли не до краев. — Это тебе, штрафную.
— За что же? — улыбнулся Артур.
Ему очень не хотелось пить, хотя прекрасно понимал, что отвертеться не удастся. Да и дело, за которым он сюда пришел, было дипломатичным. Банга взял кружку.
— Чтоб не забывал друзей. Чтоб всегда помнил: старый друг… — Толстяк многозначительно поднял палец, наморщил лоб, пошевелил губами и закончил: — Это старый друг.
Рассмеялся даже очкарик — теперь он с неприкрытым интересом наблюдал за Артуром: любопытно, чем же ответит начальник.
— Давай помянем. — Артур, не крякнув, не поморщившись, осушил кружку, взял с тарелки кусок трески, бросил в рот и, как ни в чем не бывало, продолжал: — Я к тебе по старой-то дружбе и заглянул, Марцис. Слышал, разбогател ты на лодку с мотором, а?
— Есть такое дело, — самодовольно поддакнул тот, метнув украдкой быстрый взгляд на Хеньку. — Ну и что?
— Да вот хочу напроситься к тебе в компанию. Не возьмешь ли с собой порыбачить?
— С чего бы это? — чуть не поперхнулся Марцис. — Начальство в море…
— Понимаешь, есть одна идея. Придумал я снасть, а у тебя — сильный мотор. Проверить бы… Не возражаешь? Кстати, ты этой снастью первым же и воспользуешься.
Марцис озадаченно посмотрел на очкастого:
— Ну, как ты?
— А что я? Твой друг — смотри сам, — уклончиво ответил тот.
— Да мне что, жалко, что ли? — сразу повеселел Марцис, но тут же осекся, встретив насмешливый взгляд Хеньки. — Только подумай, Артур. Время для лова сейчас не самое лучшее.
— Да мне это и не важно, — простодушно усмехнулся Банга. — Мне идею проверить.
— И всегда вы так? — впервые подал голос Хенька.
— Что вы имеете в виду? — уточнил Артур.
— Ну… Сначала проверяете, потом внедряете?
— А разве может быть иначе?
Хенька посмотрел ему прямо в глаза, усмехнулся, лениво бросил Марцису:
— У тебя там еще осталось?
— А как же… — Марцис, словно фокусник, выхватил из-под стола нераспечатанную бутылку.
— Не-не, — предостерегающе поднял руку Артур, — с меня достаточно. Вот вернемся с моря, тогда, пожалуй… Хорошо бы Филипсона позвать. Ты же его знаешь, — обернулся он к Марцису. — В таких делах никто с ним тягаться не может.
Марцис, удрученный тем, что компания разваливается на глазах, досадливо буркнул:
— Что уж теперь… Тащи, кого хочешь.
ГЛАВА 25
В театре шла репетиция музыкальной постановки. Эдгар с восхищением смотрел туда, где в сиянии яркого света толпа людей в диковинных костюмах пела, плясала и вообще вытворяла невообразимые вещи — он впервые попал в театр. В зале было пусто и тихо. Только рядом с Эдгаром сидели мать и Александр Ефимов. Музыка внезапно оборвалась — артисты на сцене остановились. Дирижер постучал палочкой по пульту и громко сказал:
— Еще раз — оттуда же. Медная группа, не слышу си бемоль.
Снова зазвучала музыка, снова все пришло в движение, артисты задвигались по сиене, и снова Эдгар окунулся в волшебный, чарующий мир театрального чуда.
— Можно мне поближе подойти, посмотреть? — спросил он Марту.
— Что ты, нельзя, — приструнила мать.
— Пусть подойдет, ничего страшного, — улыбнулся Ефимов. — Только тихо, а то нас всех прогонят.
Эдгар на цыпочках пошел по проходу к сцене. Снова оборвалась музыка, застыли на местах артисты. Марта тихонько рассмеялась.
— Что? — наклонился к ней Александр.
— Ничего. Вдруг подумалось — как тут все просто. Постучал палочкой — и можно начинать сначала.
Ефимов пристально посмотрел на нее:
— Отец огорчен, что вы не увидите премьеру, — осторожно сказал он. И добавил с мягкой улыбкой. — Старик очень гордится нашим театром. Считает его чуть ли не лучшим в Сибири.
В глубине оркестровой ямы, освещенный маленькой лампочкой с пульта, сидел в своих роговых очках Петр Никодимович и самозабвенно исполнял партию на фаготе. Так же самозабвенно, положив голову на барьер, смотрел на него Эдгар.
— А мы увидим премьеру, — неожиданно сказала Марта.
Александр удивленно вскинул глаза, пытаясь осмыслить услышанное, но Марта, не шелохнувшись, смотрела на сцену.
— Я решила остаться здесь, — продолжала она. — Насовсем. Я долго думала… Не могу я вернуться туда… Хочу все отрезать, понимаете? Все. И начать сначала. — Она помолчала, жестко добавила: — Фамилию тоже сменю. Тем более, что возвращаться мне некуда да и не к кому.
Ефимов помолчал, затем осторожно сказал:
— Я думал, вы сильнее. Во всяком случае, мне так казалось.
Она резко выпрямилась, горько произнесла:
— А вы считаете, легко заново ворошить память? Каждому объяснять, доказывать… И ему… — Марта взглядом показала на Эдгара.
— Еще раз! — сердито закричал дирижер. — Что такое сегодня с валторнами? Не слышу вас.
Музыканты устало завозились на своих местах, перелистывая в обратном порядке ноты. Петр Никодимович, улучив момент, ласково подмигнул Эдгару. Мальчик тоже мигнул в ответ. А Марта сидела нахмурившись, задетая словами Александра за живое. Он почувствовал это.
— Простите, я не подумал… Поймите, я только рад вашему решению. И сделаю все, чтобы вы были счастливы.
Он сказал это так искренне, с такой болью, что она смутилась:
— Знаете, я хочу взять фамилию Артура. Хочу, чтобы сын носил фамилию настоящего отца. Правильно?
Ефимов опустил глаза, потер в волнении колено — пальцы дрожали — и, не поднимая головы, ровным голосом ответил:
— Правильно. И справедливо. Хотя это будет очень и очень нелегко. Что ж, попробую помочь.
Они замолчали и долго смотрели на сцену, где звучала музыка, картинно маршировали артисты, где было весело и светло, а у них самих на душе было так же тревожно и темно, как в этом пустом и холодном зале.
ГЛАВА 26
Налетевший с моря ветер бил в лицо бегущей по берегу Илге, трепал выбившиеся из-под косынки волосы. Казалось, вот-вот вырвет и унесет зажатый в ее руках листок бумаги.
— Артур! — захлебываясь ветром, крикнула она. — Артур!
Но он не слышал. Согнувшись под тяжестью сети, в высоких рыбацких сапогах Банга шагал по неспокойной воде к пляшущей на волках лодке. Там уже копошились Марцис, очкастый Хенька и Филипсон — пожилой, кряжистый рыбак с неторопливыми, размеренными движениями. Глухо застучал мотор, окутав все вокруг густым, зловонным дымом, закричали, забазарили чайки, повиснув над головами белыми хлопьями снега. Бросив сеть в лодку, Артур хотел перемахнуть через борт, но его неожиданно остановил Марцис:
— Оглянись, директор… Или ее тоже прихватим за компанию?
Банга обернулся и только сейчас заметил Илгу — девушка стояла у самой кромки воды, подняв над головой листок, и что-то кричала.
— Что там? — делая шаг навстречу и перекрикивая шум ветра, спросил он.
— Телефонограмма.
— От кого?
— От Калниньша.
— Читай!
— Здесь какой-то адрес — больше ничего.
Он испуганно замер на месте и, словно ему стало больно смотреть на свет, прикрыл глаза. Девушка неуверенно прочла:
— Тагинская область, Верхнетачинский район, село…
Дальше Артур не слушал. Он бросился к берегу, выхватил у учительницы бумажку, торопливо пробежал ее глазами и вдруг, к изумлению Илги, схватил ее на руки и закружил в сумасшедшей пляске. Затем бережно опустил на песок и нежно поцеловал в щеку.
— Вы даже не знаете, что принесли.
Аккуратно спрятал телефонограмму во внутренний карман куртки и большими шагами направился к поджидавшим его товарищам. Девушка видела, как рыбаки шестами сдвинули лодку за ближнюю мель, как она, вздымая за кормой буруны, ушла в открытое море. Лодка удалялась, постепенно превращаясь в крохотную точечку на горизонте, а она все стояла и стояла на берегу. Морские брызги оспинками оседали на ее лице. Тугой ветер трепал выбившуюся из-под косынки прядь волос.
И только вернувшись домой, уронив голову на руки, она позволила себе беззвучно заплакать.
— Ну, что ты, маленькая? Ну, перестань, успокойся, — пыталась утешить ее Бирута.
— Он поцеловал меня… — сквозь всхлипывания бормотала девушка. — В щеку… В щеку, как сестру, как ребенка, как куклу. Он и собаку поцеловал бы в морду… Если бы она принесла ему этот… — Илга запнулась на секунду и все же выкрикнула со злостью: — Этот проклятый адрес.
— Илга, так нехорошо. Марта не виновата, что ты…
— Я тоже не виновата, что люблю его.
— Успокойся, — уже строго сказала Бирута. Это твое несчастье. А у них… Впрочем, у них тоже счастья еще не было.
ГЛАВА 27
Постукивая мотором, лодка скользила с волны на волну уже далеко в открытом море. Берег с его дюнами остался где-то там, за пеленой серого тумана. Артур полулежал, облокотившись на сети, укрывшись за высоким бортом от ветра и брызг. В который раз он перечитывал строки заветной телефонограммы, пытаясь мысленно увидеть на карте эту самую Тагинскую область, представить себе это далекое-далекое село. И лишь когда рядом с ним опустился на сети Марцис, он снова спрятал листок в карман.
— Приятное сообщение получил, директор? — толстяк закурил, протянул пачку Артуру.
Тот молча взял папиросу.
— Секретничаешь? — криво усмехнулся Марцис. — Большим начальником заделался, теперь на старых друзей можно и наплевать?
— Ты что, — изумился Артур. — С цепи сорвался? Или не добрал вчера?
— Добрал, не добрал — мое личное дело. А вот когда из меня дурака делают… Снасть ему, видите ли, проверить надо. Я такую снасть, — он пнул сапогом сеть, — еще у деда своего видел. Скажи прямо, какого черта с нами увязался?
Артур несколько раз крепко затянулся, невозмутимо спросил:
— А чего это ты занервничал, мешаю?
— Я же сказал — не люблю, когда из меня идиота делают. Собственными руками, мозолями своими… пашу, как проклятый, и не могу позволить взять себе пару рыбин? Что это за порядки?
— Пару? Если бы пару… — Артур видел, что к их разговору прислушиваются остальные.
— Будете, значит, каждый кусок у нас во рту считать? — распалялся толстяк.
— Ты что? — помрачнел Артур. — Неужели не понимаешь, что сегодня значит наша рыба? Людям жрать нечего.
— А иди ты!.. Людям… Мне когда-нибудь кто-нибудь помогал? Думаешь, они обо мне вспомнят, твои люди? Ульманис обещал рай, немецкого порядка на своей шкуре хлебнули… А теперь? Когда же жить по-человечески?
— Да ты, я вижу, философ… Сам додумался или братец подсказал?
— Хеньку не трогай. Ты купил мне лодку? Горючее ты мне дал? То-то. Командовать все горазды.
— Лодка хорошая. Интересно, на какие шиши куплена. Не слыхал я раньше, чтобы у тебя в Риге родня была. Да еще такая состоятельная.
— Эх, дружище, собачья у тебя должность. Уж не только в рот заглядываешь — по чужим карманам начинаешь шарить. Не там ищешь — свою рыбу мы сдаем.
Илга сидела в доме Бируты за обеденным столом, проверяла ученические тетради. Хозяйка уже лежала в постели, но не спала, листала книгу. За окном шумел осенний ветер, доносился все нарастающий рокот прибоя. Илга подняла голову, тревожно вслушалась.
— Мне страшно, — сказала она, глядя в окно, за которым уже темнела ночь.
— Чего? — оторвалась от книги Бирута.
— Ну, как же… Сидим себе в тепле, а они там… — Учительница зябко повела плечами. — Я для него никто. Между нами ничего нет и никогда ничего не будет, А я с ума схожу — как он там, в этом море?
— Привыкнешь, — спокойно сказала Бирута. — Когда мой отец уходил за рыбой, и мама еще жива была…
— Что, неужели не волновалась?
— Конечно, волновалась. Только уж так жизнь устроена — кого-то ждешь, за кого-то волнуешься.
— Ты сильная, — со вздохом сказала Илга.
Бирута улыбнулась, грустно посмотрела на подружку:
— Нет, малыш, просто я больше твоего ждала. — И совсем тихо добавила: — Да не дождалась.
А в это время среди бескрайней темной круговерти волн плясал крохотный огонек. Огромные валы вырастали то слева, то справа, норовя обрушиться на утлое суденышко с его выбивающимся из сил экипажем. Они вздымали лодку на самый гребень и тут же низвергали в пучину, валили с боку на бок, зарывали носом в воду. Филипсон яростно крутил маховик, мотор то заводился, то снова глох. Хенька — он был за рулевого — пытался держать лодку против волны, но ее кренило с борта на борт.
— Давай руль, — с трудом подобрался к нему Артур.
— Что, комиссар? — зло ощерился Генрих. — Боишься, не туда завезу?
— Думаю, ты и сам туда не торопишься. Отдай руль.
Очкарик оскорбленно поджал губы:
— На своей лодке будешь командовать… А здесь…
Он не договорил — волна захлестнула их, едва не сбив с ног. Ошалев, Хенька выпустил штурвал, испуганно ухватился за борт. Банга перехватил руль, последним усилием выровнял лодку.
— Что, — взбешенно обернулся он к захлебывающемуся очкарику, — рыбацкой ухи захотелось? Ну, хлебай.
Марцис и Филипсон, бросив возиться с безнадежно заглохшим мотором, поспешно вычерпывали из полузатопленной моторки воду.
— На, стреляй! — крикнул Артур Марцису, передавая ему ракетницу с зарядами.
Прогремел выстрел, еще один, еще… В небо уходили красные сигналы бедствия.
— Давайте на весла! — приказал Артур. — Держите против волны.
Но он не успел договорить: лодка накренилась, зачерпнула воду и, окончательно потеряв плавучесть, перевернулась. Отчаянно закричал Хенька, крепко выругался Марцис, что-то невнятно промычал Филипсон. Артур хорошо понимал, что сейчас их жизнь зависит только от самообладания и выдержки.
— Спокойно! — что есть мочи крикнул он. — Держитесь за лодку.
Собственно, кричал он исключительно для Хеньки — Марцис и Филипсон сами отлично знали, что надо делать. С Хенькой дело обстояло сложнее — не умея плавать, ополоумев от ужаса и холода, он, казалось, совсем потерял рассудок. Отталкивая от себя лодку, рвался куда-то в темноту, захлебывался и стонал. Банга крепко держал его за ворот куртки.
— Не могу! — истерично кричал Генрих, выплевывая воду. — Все… К черту…
— Держись! — грубо толкнул его Артур. — Не бойся, я тебя не брошу.
Нащупал в кармане оставшиеся ракеты — они были в резиновом мешочке — протянул Марцису.
— Стреляй.
— Что толку?
— Стреляй, тебе говорят!
Только на миг осветилось суровое небо Балтики. Но это был счастливый миг — за ним сразу последовал радостный крик Филипсона.
— Корабль! Давай еще ракету.
— Последняя, — со страхом и недоверием отозвался Марцис.
— Ракету! — зло прохрипел Филипсон.
— Какой корабль? Что ты выдумываешь? — поспешно перезаряжая ракетницу, недоверчиво бубнил Марцис.
— Я видел огонь — вон там.
— А, может, это маяк?
— Какая разница? Стреляй!
Последняя ракета ушла в небо. С надеждой вглядывались в тьму рыбаки, но корабля не увидели. Только волны, волны и волны. Артур в отчаянии стиснул зубы — силы покидали его. Держаться самому, да еще держать обезумевшего от страха отяжелевшего очкарика становилось невмоготу. Рыбаки теряли последние силы. И когда, казалось, гибель была неминуема, где-то неподалеку раздались гудки парохода. Невидимый еще в темноте корабль подбадривал, давал понять, что их призыв о помощи услышан и принят. А вскоре из тумана показалось и само судно. Его спасительный борт придвигался все ближе и ближе. Именно в тот момент, когда оставалось продержаться последние минуты, Хенька безжизненно обмяк и стал погружаться в воду, увлекая за собой Артура. Еще немного и вода сомкнулась бы над их головами. Заметив это, Филипсон оттолкнулся от лодки, набрал в легкие побольше воздуха и из последних сил бросился на подмогу.
К утру море почти успокоилось. В нахлобученных на гребни волн белых барашках, оно напоминало сейчас матросскую тельняшку. Мерно переваливаясь с борта на борт, по нему шло шведское грузовое судно, ветер трепал голубой флаг с желтым крестом. Спасенные рыбаки — уже переодетые в теплые шерстяные свитера — сидели в просторной капитанской каюте и пили дымящийся грог. Им прислуживал рослый веснушчатый матрос с добродушной улыбкой на лице. Напротив за столом расположились капитан и старший помощник. Было необыкновенно покойно и уютно. Марцис сделал большой глоток, обжегся, блаженно прищурился:
— Все пил, — причмокивая от удовольствия, сказал он, но грог с маслом — это вещь.
Старший помощник перевел капитану слова толстяка и тот снисходительно усмехнулся.
— Все хорошо, что хорошо кончается, — с сильным акцентом сказал старпом по-латышски, кивнул своему матросу и добавил несколько слов по-шведски — тот немедленно наполнил стаканы. — Капитан имеет честь сообщить вам, что под шведским флагом вы можете чувствовать себя как дома.
— Чувствуй как дома, но не забывай, что в гостях, — сострил Марцис, подставляя пустой стакан веснушчатому. — Дома-то мы, наверное, еще не скоро будем.
— Почему? — выразительно оглядел рыбаков старший помощник. — Вечером будем на месте, там о вас сообщат в Стокгольм, в советское представительство. Ближайшим судном сможете вернуться в Советский Союз… — швед выдержал паузу и добавил: — Если захотите, конечно.
Капитан, прислушивающийся к разговору, сказал еще что-то по-шведски, и старпом с улыбкой перевел:
— Капитан говорит, что такие мужественные моряки могли бы украсить команду любого судна под любым флагом.
— Нас вполне устраивает свой флаг, — ответил Артур.
— Вас? — иронично прищурился швед. — Вы всегда отвечаете от имени всей команды?
— Я убежден, что мои товарищи разделяют мое мнение.
— Мнение простое, — добродушно подтвердил Филипсон, — поскорей бы домой.
Швед вопросительно взглянул на Марциса. Тот глотнул из стакана и сказал:
— Лично мне надо побыстрее домой. Жена у меня, знаете… Лучше не опаздывать. Тем более, она рожать задумала.
Пальцы Хеньки нервно вертели пустой стакан. Он не принимал участия в разговоре, и Артур украдкой бросал на него испытующие взгляды. В наступившей паузе Хенька взял со стола бутылку виски, налил себе почти стакан — шведы бесстрастно наблюдали за ним — залпом выпил, хмуро посмотрел на старшего помощника:
— У меня просьба… Я могу отсюда, с корабля, послать личную телеграмму?
— Куда?
— В Лондон.
Это прозвучало настолько неожиданно, что рыбаки словно окаменели, только Марцис процедил сквозь зубы.
— Ну, Хенька… Ну, братишка…
Нервно дернулся было Филипсон, но Артур твердо положил ему руку на плечо. Швед вынул из кармана блокнот, достал ручку и официальным тоном произнес:
— Я готов принять вашу телеграмму.
— Куда идет ваша «Анна-Мария»?
— Швеция, Гетеборг. Говорите адрес.
— Лондон, — решительно повторил Хенька, — Кинсберроу-стрит, 112, миссис Страутниек.
— Как, простите, фамилия? — переспросил швед.
— Страутниек… — по слогам повторил Генрих, — это моя мать, — и продолжал диктовать: — Прибуду Гетеборг Швеция, двадцать восьмого октября, пароходом «Анна-Мария». Если можете, приезжайте. Целую, Генрих.
Он на миг обернулся к Артуру, встретил его презрительный взгляд, не смутился, не отвернулся, вытер ладонью проступившие над верхней губой бисеринки пота и вызывающе усмехнулся.
Трофейный «опель», за рулем которого сидел сам Калниньш, заехал во двор рыбзавода. Андрис — он был в форме — выбрался из машины, не спеша оглядел двор, заваленный штабелями пустых ящиков, прошел вдоль забора, как будто прикидывая его высоту, остановился у выбитой доски, сквозь которую было видно море, пнул ее ногой и не торопясь пошел к цеху. Тут стояли те же самые столы. Возле них работали женщины, нанизывая рыбу на длинные железные прутья. Та же печь, пышущая жаром, возле нее суетливый мастер. Увидев входящего Калниньша, он заторопился навстречу:
— Редко навещаете, товарищ Калниньш, — пожимая майору руку, улыбнулся мастер.
— Ну, как рыба? — спросил гость.
— Маловато. Но зато какая — жирная, крупная… Вся по высшему сорту.
И как в прошлый раз Артуру, он протянул Андрису еще горячую золотистую рыбку.
— Поговорить надо, — тихо сказал Калниньш.
— Понятно, — почтительно кашлянул мастер.
Они вышли во двор, сели среди штабелей пустых ящиков, тускло поблескивавших рыбьей чешуей.
— Как там наши «иностранцы»? Ничего нового не слышно? Вот выкинули номер… Не могли в море советский корабль найти. Прямо на шведа вышли, — хохотнул своей шутке мастер, но, не встретив поддержки со стороны майора, переменил тон. — Скоро вернутся, не знаете?
— Не знаю, — сухо ответил Калниньш. — Думаю, скоро. Кстати, вы не в курсе, почему Артур оказался с ними?
— По-моему, он хотел проверить уловы. Все ли на завод сдают. С планом у нас, понимаете, туго.
— А на рынке полно рыбы. Самого свежего копчения. Утечка с завода возможна?
— Как вам сказать, — задумался мастер. — Рыбаки — народ честный. Но много ли их осталось? Война… Подвизается здесь всякий сброд… Не каждому в душу влезешь.
— Например?
— Примеры разные, — уклонился от прямого ответа мастер. — Хотя бы этот очкастый рижанин… Который с Артуром к шведам уплыл… Что мы о нем знаем? А ведь приходится кланяться. На погрузке каждая пара рук дорога. И отвозить на базу помогает, и еще кое-что…
— Он и вправду брат Марциса? Или родственник…
Мастер осклабился:
— Такой же брат, как я муж английской королевы.
— Откуда у него лодка с мотором?
— Вот это и я хотел бы знать. Присосался к Марцису, окрутил парня…
— Вот что… Составьте-ка мне список всех, кто непосредственно имел отношение к погрузке, перевозке и сдаче продукции на базу. Через час заеду.
Калниньш поднялся, мастер тоже с готовностью встал:
— Будет сделано.
ГЛАВА 28
У одного из домов ночного Иркутска стояла машина «скорой помощи». Подле нее суетились с носилками санитары. Марта в наспех наброшенном пальто выскочила из подъезда:
— Шарф… Шарф забыли.
Никто не обернулся. Санитары почему-то замешкались с носилками возле раскрытых задних дверей машины, им помогал бледный, без шапки Петр Никодимович. Александр неподвижно вытянулся под одеялом, его лицо казалось безжизненным. И только когда Марта, нагнувшись над ним, заботливо обернула его шею шарфом, улыбнулся слабой, виноватой улыбкой. Носилки проскользнули внутрь машины, Петр Никодимович тяжело взобрался следом. Дверцы захлопнулись, и «скорая» с ревом исчезла в ночи, посвечивая в темноте красными огоньками.
У подъезда, прижавшись друг к другу, стояли две одинокие женские фигуры. Марта обнимала всхлипывающую Антонину Сергеевну — мать Александра.
— Господи, третий раз за полгода, — в отчаянии пробормотала женщина. — Ты не представляешь, Марточка, что это для матери значит. Всю войну ждала, ночей не спала… И вот теперь, когда все кончилось, когда ему жить бы и жить…
— Успокойтесь, Антонина Сергеевна. Ну, прошу, не плачьте… Все обойдется, все будет хорошо. Саша поправится, начнет снова работать… Он сам говорил…
— Что обойдется? Какая работа? — не сдержав отчаяния, всхлипнула женщина. — Ты не знаешь, Марточка, ничего не знаешь… — И уткнувшись лицом в пальто Марты, Антонина Сергеевна безудержно зарыдала.
Марта сидела возле кровати Александра, в отдельной палате для тяжелобольных и старалась не выдать волнения. Вид у Ефимова был страшный: глаза ввалились, нос заострился, губы обметало лихорадкой. Но он крепился.
— Знаете, о чем я сейчас думаю? — все с той же виноватой улыбкой сказал он. — Что за дурацкая судьба? Опять видите меня прикованным к кровати.
— Неправда, — через силу улыбнулась она. — У меня вы лежали не в кровати, а в подвале.
— Хороший подвал. Он меня поднял тогда на ноги. Если бы не вы… — Александр взял ее руку.
— И сейчас подниму, — с нарочитой бодростью пообещала она. — А потом все вместе поедем на Байкал — Эдгар уже покоя не дает.
Ефимов прикрыл ее ладонь другой рукой, сжал тихонько:
— Марта, я хочу, чтоб вы были счастливы. Если решите остаться… Мы говорили с директором театра… Он предлагает вам работу.
— Какую? — смутилась она.
— По-моему, интересную. Помощник художника по костюмам. У вас же прекрасный вкус. И вы хорошо рисуете.
— Откуда вы знаете?
— Я о вас все знаю. — Помолчал, набираясь сил. — Мне Артур столько о вас рассказывал, пока мы к нашим пробирались через фронт. — Он откинулся на подушку, тяжело задышал.
— Саша, что с вами? — испугалась она. — Вам плохо?
— Я позову врача.
Ефимов удержал ее.
— Не надо, сейчас пройдет. Мне хорошо. Так хорошо, что я даже могу признаться вам… Я тогда полюбил вас… И завидовал Артуру. Я ему и сейчас завидую.
— Не надо завидовать мертвым, — глухо уронила она.
Он виновато посмотрел на Марту, неожиданно спросил:
— Что ему передать, вашему Артуру? Любите? Не забыли? Фамилию его носите. Что еще?..
Марта побледнела, дрожащей рукой прикрыла ему рот:
— Не смейте так, слышите? Вы меня упрекали, что я слабая? А сами? Как не стыдно… — И горячо, убежденно воскликнула: — Я сделаю все, чтобы вы были здоровы. Вот увидите. — Она наклонилась и поцеловала его в губы.
Отчаянье промелькнуло в глазах Ефимова, но он тут же взял себя в руки, благодарно улыбнулся:
— Спасибо. Все будет в порядке.
ГЛАВА 29
На свежем морском ветру трепетал флаг советского государства. Нос корабля, вспенивая, рассекал крутую волну. На палубе у поручней стояли Артур, Марцис и Филипсон. Где-то впереди тонкой чертой проступал берег.
— Вот тебе и Швеция, — задумчиво протянул Марцис. — Не думали, не гадали… И во сне такое не приснится.
Рыбаки не ответили. Они молча смотрели на приближающуюся полоску земли. На палубе было пустынно. Негромко, мерно работали двигатели, плескалась за бортом вода.
— Интересно, дома уже знают, что мы возвращаемся? — спросил Филипсон.
— Вот уж вопросов будет… Что да как… — подхватил Марцис.
— Да, расспросов нам теперь хватит, — хмуро усмехнулся Артур и отошел к противоположному борту, где одиноко стоял Генрих.
Помолчали. Потом Артур спросил:
— Что такой грустный?
— А чему радоваться? — вопросом на вопрос ответил Генрих.
Банга искоса взглянул на него, как бы невзначай полюбопытствовал:
— Твои уехали в сорок четвертом?
— Да, перед самым уходом немцев. Сначала в Германию, конечно, а уж потом, после войны, в Лондон.
— А ты почему остался? Один из всей семьи…
Генрих саркастически рассмеялся:
— Знаешь, где у меня этот вопрос? — он зло резанул ладонью по горлу. — Никому не давало покоя. И в университете, из которого я в конце концов сбежал, и в цирке, где выметал навоз, и когда в котельной кочегарил… А теперь уж представляю, сколько появится новых вопросов. Почему, спрашивается, я не мог дать телеграмму и повидать мать, если оказался почти рядом? Может быть, в последний раз.
— Да, конечно, — неуверенно согласился Артур. — У тебя только мать?
— Мать и сестренка. Отец умер в том же сорок четвертом.
— Он служил у немцев?
Генрих не ответил — лишь плотнее сжал губы. В глазах загорелись злые искорки.
— Ты напрасно обижаешься, — примирительно сказал Артур.
— Может, я, действительно, зря остался? Меня, дурака, предупреждали…
— Ну, зачем же так? — с легкой досадой сказал Артур. — Ты умный человек и должен бы понять…
— Что именно? — Генрих по-бычьи наклонил голову. — Что мое место в прихожей? Не так ли?
— Глупости…
— Глупости? Хотел бы я посмотреть на тебя в моей шкуре. Когда существуешь не ты, а твоя анкета. Куда не сунешься, она впереди бежит. — Он нервно рассмеялся. — Лодка несчастная и та никому покоя не давала. Откуда, почему…
— А в самом деле, откуда?
— Во-во. И ты туда же.
— Да нет, просто интересно.
— Представь себе, ничего таинственного. После отца остались картины…
— Он что, художником был? — удивленно протянул Артур.
— Да. Ну, я в один прекрасный день и ухнул их какому-то меценату. По случаю купил эту посудину, хотел мозги проветрить… Спасибо, хоть Марцис не отвернулся. Мы с ним случайно на рынке встретились.
— Хороший ты мужик, Хенька, — неожиданно сказал Артур. — Только жаль — не каждый тебя сразу поймет.
— А мне легче от того, что я хороший? — смутился Генрих. — Вот и ты — почему остался? Один из всей семьи… Как вам всем объяснить, если отец с матерью и те не поняли. Ты видел, как она у трапа плакала? До последней секунды не верила, что я вернусь с вами. Ну, как им всем объяснить?.. Латыш я, понимаешь, латыш! И другой земли у меня нет!
В доме Артура из репродуктора лилась веселая музыка. И сам он, радостный, возбужденный, в белой майке, весело напевал, бреясь перед зеркалом. Раздался стук в дверь, и тут же, не дожидаясь ответа, в комнату влетела Илга — празднично нарядная, с букетом в руке.
— Поздравляю путешественника со счастливым прибытием, — с порога пропела она. — Перепугали нас всех… Как не стыдно! Мы тут тряслись от страха.
— Ага, тряслись. Значит, любите, — улыбнулся Артур, натягивая рубаху.
— Любим, — озорно ответила девушка и хозяйским жестом поставила цветы в вазу. — И даже заботимся. Приготовили вам настоящий пир по случаю возвращения. Так что собирайтесь скорее.
— Очень мило. Но я уже поел и, откровенно говоря, спешу по делам.
Артур озабоченно ходил по комнате, продолжая одеваться. Он не замечал, как у девушки обиженно вытянулось лицо, задрожали губы.
— Спешите? — пробормотала она.
— Да, — он достал из кармана какую-то бумажку. — На заводе ждут. А по пути еще на почту заскочить. Узнаете? Это же телефонограмма, которую вы мне принесли. Где она только не побывала со мной, в семи водах вымокла, а все равно адрес разобрать можно. Да я его наизусть знаю: Тагинская область, Верхнетачинский район… А вот тут не разберу… Буква «Т» или «Г»? Поглядите.
— Я не привыкла подглядывать в чужие телеграммы. До свидания, — сухо отрезала Илга.
Она повернулась и быстро вышла из комнаты, — Артур удивленно посмотрел ей вслед. Потом бережно сложил листок и тоже шагнул к выходу.
Когда Банга открыл дверь своего кабинета, ему навстречу поднялся Калниньш.
— Ну, слава богу, наконец, — Андрис коротко тиснул ему руку. — Понимаю, ты еще не очухался, но есть один неотложный и очень неприятный разговор.
— Что такое? — насторожился Банга.
— Должен сообщить, к твоему прискорбию, что у тебя под носом завелась довольно ловкая компания.
— В чем дело?
— В чем дело? — хмуро повторил Калниньш. — Да в том, что доверяешь не тому, кому надо.
В доме Марциса опять звучал патефон. На столе стояло угощение, но на него никто не обращал внимания. Повсюду: на стульях, на кровати и даже на полу сидели рыбаки и, раскрыв рты, слушали толстяка.
— Вот такой ящик у него на столе дома, — вдохновенно рассказывал тот. — Кнопку нажал — и вдруг кино. Или концерт показывают, танцы там разные… с голыми девицами. А ты сидишь себе, пьешь, закусываешь и смотришь.
— Ну, это уж ты… — недоверчиво крутнул головой старый рыбак.
— Не веришь? Вот Хенька не даст соврать. Правда, Хенька?
Генрих не ответил. Сидя возле патефона, он разглядывал пластинки.
— А какие у них сортиры! — схватился за голову Марцис. Бог ты мой, какие сортиры. Тут белое, а тут голубое… А запах… — Марцис благоговейно прикрыл глаза.
В комнату вбежал мальчишка, отыскал глазами Хеньку, звонко крикнул:
— Дядя Генрих, вас на завод вызывают. Срочно.
Марцис недовольно повел глазами в сторону паренька, раздраженно буркнул:
— Беги обратно и скажи, чтобы катились к черту. Сегодня пусть сами грузят.
— Подожди, — поднялся Генрих, тебя кто послал, Банга?
— Да, они там с Калниньшем.
— С Калниньшем? — прищурился Генрих и обернулся к Марцису. — Понял? Майор интересуется. — Он снял очки, положил в карман. — Что ж, пойдем, потолкуем.
Когда Генрих вошел в кабинет, кроме Артура и Калниньша, он увидел там еще знакомого мастера. Видно, тот пришел прямо от коптильной печи — он сидел в спецовке, стесняясь покрытых жиром и чешуей рук.
— Присаживайтесь, — сказал Калниньш.
Генрих огляделся, ища взглядом, на что бы сесть — стульев больше не было.
— Сейчас скажу, чтобы принесли, — озабоченно поднялся мастер.
— Ничего, я тут, — заметив в углу два пустых ящика из-под рыбы, Генрих присел на один из них.
Но это не был жест скромности — напротив, Хенька с наигранно-вызывающим видом вытащил из кармана пачку иностранных сигарет, не спрашивая разрешения, закурил и небрежно бросил пачку на стол, чуть ли не под нос Калниньшу:
— Угощайтесь, пока есть. Ну? Какие будут вопросы. Прошу, не стесняйтесь, спрашивайте. Я привык отвечать. Вас что, интересует мое мнение об уровне, так сказать, жизни в Швеции?
Калниньш неторопливо разглядывал ломавшего комедию очкарика.
— Нам, товарищ Страутниек, сегодня не до Швеции. Потолкуем лучше о Риге. Точнее, о Рижском центральном рынке.
— Не понял, — растерянно заморгал Хенька.
— Слушай, Генрих, — спросил взволнованно Артур — Ты сопровождал заводскую машину десятого сентября?
— Если десятого сентября был шторм, и мы не выходили в море, то, возможно, и сопровождал. Я часто здесь подрабатываю — гружу, и вообще… Вот мастер подтвердит.
— Да, частенько подрабатывает, — с чуть заметной усмешкой обронил мастер. — Подрабатывает.
Генрих удивленно оглянулся на него, но тут последовал новый вопрос Калниньша:
— И куда сдавали продукцию?
— Как — куда? — Генрих замялся. — Вообще-то на базу…
— Что значит, вообще? А в частности? — напирал Калниньш.
— Были случаи, когда везли на рынок.
Мастер даже присвистнул от удивления:
— Дела. И много у тебя было таких случаев?
— Как? — в свою очередь изумился Хенька. — Но ведь ты…
— Стоп! — перебил Калниньш. — Давайте по порядку. — И обернулся к Генриху. — Вы что, торговали этой рыбой на рынке?
— Что за чепуха, — озлился Генрих. — Я грузчик, мое дело сгрузить ящики, дать на подпись накладную и — привет.
— Так при чем тут рынок? — не выдержал Артур. — Почему я об этом ничего не знал?
— Потому, — Хенька сердито придавил сигарету, — что на базу приедешь и проторчишь полдня. А у него, — он кивнул на мастера, — на рынке свой человек. Он оформляет за пять минут.
— Нет, вы слышите, что он несет, — возмущенно поднялся мастер. — Какой человек на рынке? Что за махинации? У нас одна база, и все накладные только оттуда. Вот они. Все до одной.
Мастер, лицо которого пошло красными пятнами, совал под нос Генриху раскрытую папку с документами, возмущенно оглядывался на Калниньша и Артура, словно призывая их в свидетели.
— Вы что? — вскочил Генрих, с треском опрокинул ящик, на котором сидел. — Хотите из меня идиота сделать?
— Это ты нас считаешь идиотами, — гневно огрызнулся мастер. — Без году неделя в поселке… А уже и лодку купил… На какие шиши, спрашивается?
Калниньш, не обращая внимания на громкий спор, достал из портфеля папку и, вынув из нее несколько фотографий, карточным веером разложил на столе.
— Вам знаком кто-нибудь из этих людей? — спросил он мастера.
Тот внимательно вгляделся в снимки:
— Как будто нет, никого не знаю.
— А вы? — обратился он к Генриху.
— Вот этот, — с ходу ответил тот, вновь опускаясь на ящик. — Он принимал рыбу на рынке. И накладные там же подписывал.
— Ну, ловкачи! — всплеснул руками мастер и снова потряс папкой. — У них, видно, все было организовано. И фальшивые накладные, и левая продукция. Вот только откуда они ее брали… Непонятно.
Ошеломленный свалившимся на него несчастьем, Генрих беспомощно смотрел на Калниньша.
— Встаньте! — неожиданно приказал Генриху майор.
— Что? — растерянно приподнялся Хенька.
— Дайте сюда ящик… И другой тоже.
Генрих, не понимая, чего от него хотят, принес к столу оба ящика. Калниньш поставил их рядом и обернулся к Артуру:
— Ящики-то разные, а?
— Это старые, списанные, — объяснил Банга, — а это уже новые, с комбината.
— Вижу, что новые, — перебил Калниньш, сдвинул ящики так, что стала ясно видна разница в высоте. — И по размеру разные. — Он подошел вплотную к мастеру. — Вот и объяснение, откуда у вас берется левая продукция.
— У меня? — срываясь на крик, взвился мастер. — Да как вы смеете?..
— Спокойно. — Калниньш угрожающе сдвину брови. — Вы принимали у рыбаков продукцию в новых ящиках, где вес, естественно, больше. От них вы это, конечно, скрывали, то есть попросту обкрадывали.
— Пока это голое обвинение, без доказательств, — хищно прищурился мастер.
— Не волнуйтесь, доказательства в порядке, — Калниньш указал на лежащую перед ним фотографию. Этот человек с рынка уже задержан нами и рассказал много существенного. — И после паузы: — Вот так-то, товарищ директор. Далековато ты ездил свою уплывшую рыбу искать, а она у тебя под боком плескалась.
Артур виновато покраснел:
— Одного не понимаю — а как же накладные? Они ведь в порядке.
Калниньш снисходительно усмехнулся:
Опытные хищники, — майор презрительно кивнул в сторону поникшего мастера, — они промашки в таких вещах не дают. У него были свои люди и на базе, и на рынке. Документы в порядке, не подкопаешься. А в случае чего — можно будет свалить вот на этого. — Калниньш подошел к Хеньке, дружелюбно потрепал его по плечу. — Эх ты, швед. — Выглянул за дверь, позвал своего шофера, коротко приказал, кивнув в сторону мастера. — Увести. — Подал Артуру руку. — Значит едешь?
— Да.
— Когда?
— Сегодня.
— Что ж, желаю тебе удачи.
Артур с Генрихом наблюдали в окно, как усаживали мастера в машину, как Калниньш расположился с ним рядом, как машина выехала со двора… Потом Банга нервно прошелся из угла в угол, взял из пачки на столе длинную сигарету, закурил, внимательно посмотрел на Хеньку:
— Такие-то пироги, дорогой ты мой швед. — Вынул из стола несколько листов бумаги, подвинул их к Генриху. — Пиши.
— Что? — ощетинился тот.
— Автобиографию, заявление… А цех примешь прямо сегодня.
— Ты что, с ума сошел? Во-первых, я в этом ни черта не смыслю… А потом, кто тебе позволит?
— Не твое дело. Или опять вопросов испугался? Пиши.
ГЛАВА 30
Неслась за окном тайга, взбиралась на каменные гряды хребтов, сбегала в бескрайние пади. Сверкнул несказанной своей красотой Байкал — поезд мерил бессчетные сибирские версты. Но за весь этот долгий путь Артур так и не успел свыкнуться с простым до невероятия фактом — скоро он встретится с Мартой. И когда за окном показалось название нужной ему станции, Банга все в той же военной форме, но уже без погон, нетерпеливо соскочил с подножки вагона и решительно направился к старичку в красной фуражке.
— Будьте добры, как отсюда добраться до Верхнетачинска?
— До Верхнетачинска? — старичок приветливо улыбнулся увешанному орденами офицеру. — А это как вы сами захотите — можно по реке, можно лошадками.
— А как скорее?
— Конечно, по реке. Если подвернется оказия. Суток за пять, гляди, и управитесь.
— Пять суток? — оторопел Артур, — Сколько ж туда километров?
— А кто их считал? Это, товарищ военный, не германская земля. Сибирь-матушка. — И, видя, как тот расстроился, сочувственно развел руками: — Не проложили еще туда колею, товарищ хороший.
Понуро брел Артур по центральной улице города. На душе было прескверно: ходил он и на реку — никакой оказии в ближайшее время не предполагалось, справлялся и насчет лошадок — также безуспешно. Формально временем он не был ограничен — всегда можно было воспользоваться отпуском по болезни — старые раны выручат, но не хотелось злоупотреблять ими. К тому же было невыносимо сознавать, что Марта где-то рядом, а он не в состоянии сделать к ней последний шаг. Взгляд нечаянно упал на вывеску: «…Областной военный комиссариат». Помедлив, Банга открыл дверь.
— Вы к кому, товарищ? — спросил кряжистый, смахивающий на симпатичного медведя, офицер, тоже в майорском чине — он шел с бумагами по коридору.
— Я, собственно, посоветоваться. В ваших краях впервые.
— Издалека?
— Из Латвии. .
— То-то я слышу — акцент знакомый. Воевали где?
— Да там же. Первый Прибалтийский…
— Сосед. — Майор показал на распахнутую дверь. — Ну, заходи, что стоять в коридоре. — И уже в кабинете представился: — Потапов — начальник отдела. Так в чем вопрос?
Не знаю, что и сказать, — смутился Артур. — Понимаю, не по адресу… Надо как-то добраться до Верхнетачинска… Неужели туда не летают?
— Ничего себе — за советом, — хмыкнул Потапов и с интересом посмотрел на странного гостя. — Тебя как зовут?
— Артур Банга… — непроизвольно ответил Артур, но, вспомнив, где он находится, подтянулся. — Майор Банга.
— Так вот, дорогой ты мой майор, у нас начальство и то по большим праздникам туда летает. Это тебе, брат, не Рига — Вильнюс. А кто у тебя там?
— Жена.
— Сибирячка, что ли?
— Латышка.
— Каким штормом ее туда занесло аж с самой Балтики?
— Долго рассказывать. Четыре года не виделись.
— Четыре года, это, конечно, срок, — задумчиво произнес Потапов, — но и не причина, чтобы пороть горячку.
— В общем-то, конечно… — со вздохом согласился Артур. И вдруг неожиданно для себя сказал: — Обидели ее, понимаете… Хотелось побыстрее и встретиться и правду восстановить.
— Она что, из ссыльных? — догадался, наконец, Потапов.
— Да.
Майор не сумел, или не захотела скрыть мелькнувшего во взгляде отчуждения.
— И кто же ее обидел? — с легким вызовом спросил он.
— Да как вам сказать… Не выразишь одним словом.
— Мудрено что-то.
— Ничего сложного — просто объяснять долго. Она, понимаете, во время войны здорово помогла нашим… Собой рисковала, ребенком…
— Ну? — недоверчиво прищурился Потапов. — А ее за это взяли и сослали?
— Конечно, не за это, — стараясь не раздражаться, возразил Банга. — Просто, когда пришли наши, подтвердить оказалось некому. Те, кто знал, погибли, а те, кто не знал… Так и считали ее женой немецкого прихвостня.
— Кого? — изумленно уставился на него майор, — Чьей женой?
Артур понял, что сболтнул лишнее и растерянно замолчал.
— Чья жена, спрашиваю? — жестко повторил Потапов. — А ну, предъявите документы, товарищ майор.
У Банги потемнело лицо.
— Не буду я тебе ничего предъявлять… — зло процедил он.
— Как это, не будешь? Обязан.
— Ничего я тебе не обязан.
— Под арест захотел? Устроим.
— Ну и арестовывай, — уже не сдерживая бешенства, крикнул Артур. — Долдон.
— Что?
— То, что слышал.
Потапов оглянулся, как бы призывая невидимых свидетелей, и с огорчением обнаружил, что свидетель имеется вполне реальный. Молоденький лейтенант, страшно смущенный тем, что заскочил некстати, переминался в дверях с какими-то бумагами в руке.
— Я занят, — гаркнул на него Потапов.
— Товарищ майор, я только хотел…
— Закройте дверь с той стороны.
Лейтенант поспешно исчез за дверью.
— Та-ак… — мрачно протянул Потапов. — Значит, ты за этим сюда явился… Чтоб меня же и долдоном…
— А хотя бы и за этим, — огрызнулся Артур. — Я к вам за советом, за помощью, а вы… Да какое вы имеете право не доверять мне, офицеру?
— В сорок первом очень доверчивые были.
— Вот в сорок первом и проявлял бы свою бдительность, — снова не остался в долгу Артур. — Что ж теперь спохватился?
В пылу стычки они, сами того не замечая, переходили то на ледяное «вы», то на простецкое «ты».
— На вот, изучай мои документы, — Артур швырнул на стол бумажник. — Гляди на свет, пробуй на зуб.
— Иди-ка ты отсюда…
— Нет уж, вы проверяйте, раз требовали.
— Заберите… — Потапов отодвинул бумажник, отошел к окну. Сказал обижено: — «Долдон». Сам ты долдон. Несет, понимаешь, черт-те что. То жена, то не жена… Ничего толком не объяснил…
Да как объяснить, — тоже остывая, пожал плечами Артур. — Когда ты чуть за пушку не хватаешься:
— Схватишься… Несет такое… Ну а толком рассказать можешь?
— Отчего же, могу.
— И сделай одолжение. — Потапов опустился в кресло за столом, вынул из кармана пачку «Казбека».
— Располагайся.
Слушал он внимательно, не пропуская ни единого слова. Иногда в его глазах зажигались недоверчивые огоньки, но вскоре угасали, уступая место сочувствию — гора окурков в пепельнице постепенно вырастала.
— Дела-а, — наконец задумчиво протянул майор, когда Артур закончил. — Значит, она тебе жизнь спасла?
— Не только мне.
— Слышал. — Потапов задумчиво забарабанил пальцами по столу.
Банга по-своему оценил этот жест, взглянул на часы:
— Ладно, извини, я пойду.
— Погоди, — удивленно посмотрел на него Потапов. — Надо же что-то придумать.
— А что ты придумаешь? Доберусь как-нибудь.
— Сядь, говорю! Никуда ты не доберешься. Проволынишь весь отпуск…
Майор снял трубку, назвал номер телефона:
— Богина мне. Костя? Привет, Потапов говорит. Слушай, у тебя до Верхнетачинска никто не летит? Да погоди ты, знаю, что нельзя. Костя, слушай… Тут у меня товарищ… Старый фронтовой друг. Жена у него там — понимаешь? Пять лет не виделись, а у него отпуска десять суток. Парень исполосованный весь — живого места нет. Ты бы поглядел на него… Что? Я понимаю, что не Любовь Орлова. Костя, ты знаешь, я тебя никогда не просил… Как фамилия? Банга. Да не банка, а Банга. А банка за мной, вместе с пельменями, понял? Какой разговор — ни одна душа не узнает. Если сделаешь, век благодарить буду. Бывай.
Он положил трубку, повернулся к Артуру, крепко сжал ему руку:
— В рубашке ты родился, майор. Быстро дуй к летунам, пока не передумали. Чем черт не шутит — может, и полетишь.
Торопливо пройдя краем летного поля, на котором выстроились в ряд «кукурузники», Артур подошел к небольшому деревянному домику, над которым покачивался полосатый, надутый ветром мешок.
— Командир отряда здесь? — спросил Банга у курившего возле дверей флегматичного парня.
— По коридору вторая дверь направо, — сонно ответил тот.
Командир отряда Богин, неотразимый красавец с волнистым чубом, ругался с кем-то по телефону:
— А я тебе говорю — в порядочном доме так не поступают. Вечно у вас как на пожаре. Ты хоть что-нибудь смыслишь в летнем деле? Такое слово «центровка» слышал? И нечего ржать… Это тебе не в телеге с Дунькой. И начальству своему скажи — нечего превращать нас в ломовых извозчиков. Своему-то я постараюсь доложить, будь спокоен. — Летчик бросил трубку и, все еще злей, коротко спросил Артура: — Вы ко мне?
— Я от майора Потапова. Моя фамилия Банга.
— А-а, отпускник. До Верхнетачинска? — натянуто улыбнулся Богин. — Невезучий ты мужик. Уважу, думал, человека, сделаю для Кости Потапова доброе дело… Так нет… У нас все — не как у людей. Приперли два ящика каких-то инструментов. Я их было послал… Да куда там — знаешь, какую вонь развели! Даже из обкома звонили. А ты садись, будем знакомы — Богин. У тебя жена в самом Верхнетачинске?
— Село Кедрачи, — угрюмо ответил Артур. — Теперь уж какая разница.
— Разница? — усмехнулся Богин. — Еще километров сто. И отпуска всего десять суток?
— Уже девять с половиной, — не моргнув, соврал Артур.
— Невезуха. — Богин встал, подошел к окну, постоял там, раздумывая, как помочь человеку, затем вернулся к двери, крикнул в коридор: — Ивашин, ты здесь? Зайди на минутку.
В кабинет вошел тот самый флегматичный парень, который курил у входа.
— Слушай, — обратился к нему Богин. — Возьмешь до Верхнетачинска, а? — он показал на Артура. — Погода вроде бы ничего.
— Что сбросить? — спокойно, без всякого выражения спросил Ивашин. — Почту, лекарства или эти ящик?
— При чем тут ящики? — взорвался темпераментный Богин. — Человека доставить надо. Он жену десять лет не видел, израненный — весь из протезов. А ты — ящики. Ящики — тоже надо. Ты кто, летчик? Или газировкой в парке торгуешь?
Ивашин удивленно посмотрел на командира и тем же ровным, невозмутимым тоном спросил:
— Разрешите готовиться к вылету?
— Разрешаю.
— Папирос возьмите, если курите. И еды, хотя бы суток на трое.
Артур не сразу сообразил, что пилот обращается к нему. А сообразив, вопросительно взглянул на Богина.
— Если шлепнетесь в тайге, ни одна ЧК вас не сыщет, — объяснил Богин. — Ты дополнительным весом пойдешь. С полосы он тут еще выхватит, а там… Не дай бог, вынужденная посадка… Или груз скидывай, или тебя оставляй. Не взлетит ни один пилот. Даже Ивашин.
Прощались они уже на летном поле, возле готового к вылету «кукурузника». Ивашин все с тем же невозмутимо-сонным видом сидел в кабине — эдакий белобрысый сфинкс в пилотских очках.
— Ну что? — Богин протянул Артуру руку. — Счастливо повидать женку. Ни пуха тебе, ни пера. Пошли меня к черту и моли бога, чтобы этот ас не вывалил тебя где-нибудь по дороге.
Затарахтел мотор, завертелись лопасти винта, сливаясь в сплошной диск. И поплыло под крылом бесконечное зеленое море тайги…
… — Кедрачи! — крикнул Артуру Ивашин.
— Что? — не расслышал тот.
— Кедрачи. Колхоз «Красный партизан».
Артур нагнулся и увидел табунок избушек, рассыпанных в тайге. Сердце учащенно заколотилось.
— Хоть прыгай, — застонал он.
— Потерпите, — усмехнулся пилот. — Больше ждали.
— Обидно мимо пролетать.
— Там уж, наверное, пельмени лепят, пироги пекут…
— Не-е, в буквальном смысле с неба свалюсь.
Домики промелькнули и исчезли, внизу снова потянулась тайга.
— Так вы, значит, из Риги? — обернулся Ивашин.
— Ну в общем… да.
— Красивый город. Крыши, как земляника на поляне.
— Бывали в Риге? — обрадовался Артур.
— Не-е, — невозмутимо ответил Ивашин. — Летал в сорок четвертом.
Трудолюбиво жужжа, «кукурузник» нес Бангу все дальше, в глубь таежного края.
По пустынной улице Иркутска двигалась похоронная процессия — солдатские сапоги ступали в ритме траурного марша. Медленно полз обтянутый кумачом и крепом грузовик. Офицеры несли на бархатных подушках ордена. Марта, с притихшим и заплаканным Эдгаром, шла рядом с Петром Никодимовичем. Старик старался идти прямо, поддерживая убитую горем Антонину Сергеевну. Сверкая на солнце, скорбно пели медные трубы.
На кладбище полковник Козырев, тот самый, из Москвы, — он и на сей раз был в штатском — держа в руках шляпу, оглядел собравшихся у могилы людей:
— Мы провожаем сегодня в последний путь, — срывающимся голосом начал он, — подполковника Ефимова Александра Петровича… Нашего Сашу. Трудно поверить, что от нас ушел этот замечательный человек. Верный солдат народа и партии. Здесь собрались близкие люди, боевые друзья Александра Ефимова. Мы все знаем его славный боевой путь. Есть воины, о подвигах которых снимают фильмы, пишут в газетах… Но подполковник Ефимов своей скромной службой внес в дело победы не менее ценный вклад. Об этом свидетельствуют высокие правительственные награды, которые отмечают его героический путь… и которые Саша так редко носил на груди. Прощай, дорогой друг… И спасибо тебе за все, что ты сделал для Родины, для всех нас… Вечная тебе память в наших сердцах.
Солдаты опустили гроб. Эдгар смотрел, как Петр Никодимович на негнущихся ногах подошел к краю могилы, бросил комок земли — она глухо ударила по крышке. Мальчик оглянулся на мать — Марта вслед за другими тоже бросила свою горсть. Тогда Эдгар нагнулся и, набрав полные ладошки земли, испуганно подошел к краю могилы. Офицер поднял руку, пальцы солдат легли на затворы карабинов… Эдгар завороженно смотрел на поднятые в небо стволы — губы мальчика дрожали. Прогремел прощальный залп. Марта прижала к себе ребенка. Она даже не заметила, как к ней приблизился Козырев.
— Вот и все, что осталось от нашего Саши, — тихо сказал он.
— Еще память, — не то возразила, не то поддержала его Марта.
— Память? Козырев как-то странно посмотрел на нее сбоку. — Мы и живых-то поминаем по большим праздникам… — Досадливо крякнул. — Это вон для кого он всегда будет незатихающей болью, — Козырев кивнул в сторону Петра Никодимовича и Антонины Сергеевны. — Жалко мне их — старенькие, больные… А теперь совсем одни.
— Почему? — встрепенулась Марта — в ее глазах сверкали слезы. — Мы с Эдгаром решили навсегда здесь остаться. У нас ведь тоже никого нет на этом свете.
Артур, растерянный и понурый, сидел в колхозной конторе, безучастно слушая однорукого Тимофея. Председателю все казалось, что странный гость плохо его понимает, и он уже в третий раз рассказывал одно и то же. За окном ему заунывно аккомпанировал осенний ветер.
— Была она у нас, это точно… Работала. Ниче плохого сказать не могу, аккуратная женщина. А потом это, значит… пришла бумага из Москвы, из самого Верховного Совета. Мужик за ею приехал. Такой из себя серьезный, обстоятельный…
— Ну хотя бы, откуда он? Из каких краев? — спросил Артур.
Тимофей виновато вздохнул, досадливо загасил цыгарку — едкий махорочный дым густыми волнами плавал по комнате.
Леший его знает. Мужик и мужик. Я с ним и встречался-то всего ничего. Пришел ко мне в контору… И в тот же день отбыли. Знакомились, конечно, да разве упомнишь…
— Но он говорил что-нибудь? Неужели молча приехал, молча уехал?
— Почему? Говорил. Сказывал, что доставит до самого дома.
— Куда?
Тимофей тоскливо посмотрел в окно, за которым с назойливым скрежетом погромыхивала ставня, ничего не ответил.
— А старики, у которых она жила? Тоже без вести пропали?
— Как это пропали? — обиделся председатель. Я ж вам говорю, к сыну на Украину подались. Сын у них там женился.
— Где? — у Артура лопалось терпение. — Куда они подались?
Тимофей по-медвежьи сапнул, потянулся к кисету:
— Что верно, то верно. Дед Митяй, он этим никогда не баловался. Его заставить написать… Разве что случится. А вы Катерину, бригадиршу, не спрашивали? Может, она чего знает…
Артур досадливо отвернулся, и Тимофею стало совсем неловко — этот вопрос он задавал Банге тоже не в первый раз. Конечно, Артур спрашивал. И Катерину, и всех латышей, что проживали в деревне. Пожалуй, не было человека на этом таежном пятачке земли, с которым бы он не побеседовал. Даже Федьку, и того допытывал со всем пристрастием. Но все твердили одно: уехала в Латвию. В принципе, несмотря на несостоявшуюся встречу, Банга мог быть доволен: он нашел Марту, с ней все в порядке. Раз она вернулась домой, значит они, рано или поздно, найдут друг друга. Смущало иное: если Марта в Латвии, почему не дает о себе знать? Почему ни разу не объявилась в поселке?
Возвращался Артур полный радужных надежд и смутных предположений. Он почти не отходил от окна вагона, не переставая удивляться просторам своей большой страны, думал, мечтал, надеялся.
ГЛАВА 31
У себя в конторе Банга перебирал бумаги: накладные, квитанции… Готовился к отчету на бюро укома партии. Вопрос о состоянии дел на заводе было решено обсудить в партийном порядке и сделать соответствующие выводы. Во всяком случае, ничего хорошего, судя по предварительным разговорам, не предвиделось. Вошел Калниньш, бросил на Артура быстрый, изучающий взгляд:
— Вернулся, сибиряк? Как говорят, не солоно хлебавши?
Артур нахмурился, отодвинул папку, до хруста сцепил пальцы. Калниньш грузно опустился на табурет, участливо спросил:
— Неужели никаких концов?
Банга скупо рассказал всю историю. Словно больной, поведавший врачу о своих хворобах, выжидательно, с надеждой посмотрел в глаза майору. Тот не спешил с ответом, думал.
— Что ж, если вернулась в Латвию, надо сделать запрос…Только и всего, — наконец сказал он.
— Уже сделал.
— На какую фамилию?
— На Лосберг, разумеется, — невольно покраснел Артур.
Но Калниньш то ли не заметил его смущения, то ли сделал вид, что не замечает, деловито подсказал:
— Надо сделать запрос и на Озолу. А вдруг она уже не Лосберг.
— Вряд ли…
— Отчего же?
Калниньш хотел сказать, что у Марты может быть и третья фамилия, совсем неожиданная, но в последний момент решил не терзать душу и без того удрученного товарища.
— Трудно добирался? — вместо этого спросил он.
Артур усмехнулся:
— Да, загнали вы их… — Он отошел к окну, отвернулся.
Калниньш нахмурился:
— Ты меня словно обличаешь в чем-то. Прямо хоть бери билет и сам отправляйся в Сибирь извиняться перед этими…
— Конечно, высылать проще, — не оборачиваясь, бросил через плечо Артур.
Калниньш тяжело поднялся, глухо спросил:
— А ты пробовал когда-нибудь высылать?
— Нет, не пробовал. Я воевал с фашистами.
Стальными клинками встретились их взгляды.
— Ты давно заглядывал на кладбище? — спросил Калниньш. — Пойди полюбопытствуй, сколько там наших… Не тех, кто на поле брани, а тех, кого из-за угла, в лесу, в спину…
— Да она-то, Марта, здесь при чем? — В глазах Артура плеснулась злость. — Что ты ко мне со своей политграмотой?
Калниньш наклонил голову, долго молча сопел, наконец, не выдержал:
— Прости, Артур… Но ты, как пьяный. Нет, не пьяный. Пьяный проспится… А вот такие, как ты, влюбленные — они ни черта не видят и не слышат… Я тебя ни в чем не виню и не упрекаю. Любишь — люби. Но не требуй от людей больше того, на что они способны. По крайней мере сейчас, пока еще кровоточат раны. Ты говоришь, ее реабилитировали? Прекрасно, поздравляю. И знаешь, почему, мне думается, она не вернется сюда? Потому что слишком многое придется вспомнить. Сама выходила замуж, сама оказалась не в нашей компании, сама… Да что я тебе буду перечислять? Память не перечеркнешь.
— Та-ак, — неуверенно протянул Артур. — Выходит, она меченая? На всю жизнь. Красивую ты нам рисуешь перспективу.
— Ничего я вам не рисую, — спокойно возразил Калниньш. Я сказал, что никто в судьбе твоей Марты не виноват. Кроме нее самой. Сама вляпалась, сама и расхлебывает. А что касается чистеньких и замаранных… Что ж, никуда от этого не денешься. Кое-кто сам отмоется, кое-кого жизнь отпарит. Ну а кое-кто, сам понимаешь, ответит по всей строгости закона. Или ты жалеешь, что нет с нами господина Аболтиньша?
— Не болтай глупостей.
— То-то. И не дуйся. Я сказал то, что думал. И вовсе не хотел обидеть ни тебя, ни твою Марту. А если ты хочешь, чтобы я впредь был с тобой неискренним…
— Перестань…
— Ладно. — Калниньш подошел к окну, встал рядом с Бангой. — Тем более, что я приехал совсем не за этим. Скажи, ты доверяешь тому парню? Ну, с которым вы были в Швеции?
Артур удивленно посмотрел на Калниньша:
— Доверяю. А что?
— Да так. Кой у кого в укоме возникли по этому поводу сомнения. Не слишком ли ты поспешил с его назначением?
— Так. Теперь до Хеньки добрались. И чем же он вас не устраивает? — В глазах Артура промелькнули злые искорки.
— Прежде всего не распаляйся, — назидательно посоветовал Калниньш. — Не забывай, что завтра бюро укома.
— Ну, и что из этого?
— Да ничего. Просто могут возникнуть самые неожиданные вопросы. И насчет хищения рыбы, и по поводу нового начальника цеха, и о тебе лично…
— А что обо мне?
— Всякое. Как ты сам оказался в одной лодке с этой компанией, почему допустил бесконтрольность, зачем ездил в Сибирь, да еще так спешно…
— Ну, братцы… — У Артура на лбу выступили мелкие бусинки пота. — Так мы с вами далеко заберемся. — Банга нервно прошелся по комнате, заметил приоткрытую дверцу шкафа, с треском захлопнул ее.
— Никто тебя не подозревает, — Калниньш присел на подоконник, вынул из кармана пачку папирос. — Я же сказал: могут возникнуть вопросы. Лично я на них уже ответил.
— Ты?
— Да, я. А чему ты, собственно, удивляешься? Я знаю тебя с пеленок. Люди же у нас в руководстве новые…
— Но почему за меня должен отвечать ты? Какого черта? — уже не сдерживаясь, крикнул Артур. — Что за ерунда?
— Нет, не ерунда, — Калниньш встал, лицо его стало жестким и суровым. — Все мы отвечаем друг за друга. Время сейчас такое, нельзя благодушествовать. Слишком дорого приходится расплачиваться. Да что я тебе объясняю?
— Товарищи, родные мои, нам жить с этими людьми, строить, создавать… Детей плодить.
— Ну и что?
— Как что? Если вы каждого под микроскоп, каждому ярлык… Ты знаешь, что это такое? В сорок третьем прислали к нам в полк особиста. Мрачный такой человек, никому не верил, всех подозревал. Случилось как-то ему командовать, людей выводить из окружения. И что же? Всех утопил в болоте. Как его ни предупреждали, как ни увещевали — нельзя, мол, не зная броду, соваться куда ни попадя — никому не поверил, всех заподозрил. Сам погиб и ребят угробил.
— А ты, когда ходил в разведку? Тоже брал кого ни попадя или отбирал самых лучших? — хитро прищурился Калниньш. — Развел здесь, понимаешь, философию. Фронт большой, все куют победу, да не всем все доверяют. Я разве против парня? Я только спросил: ты уверен, что правильно поступил, назначив его начальником цеха? Ты считаешь правильно. Что ж, тебе виднее. Но не забывай: ты командир, с тебя и спрос втройне.
— Знаю.
— А если знаешь, так и веди себя соответственно. И завтра на бюро бери не горлом, а доводами. Это я тебя знаю с пеленок, а не они.
— Понял, — вздохнул Артур.
Калниньш встал с подоконника, устало потянулся.
— Может, пообедаешь? — догадался, наконец, спросить Артур.
— Оно бы не помешало… Да теперь уж некогда. Бывай. — У самой двери обернулся. — А насчет Марты я тоже запрос сделаю. На обе фамилии.
Артур вошел в дом Бируты. В руках он держал новый костюм, недавно купленный в Риге. Бирута с Илгой занимались уборкой, ветерок трепал занавески, с улицы доносился радостный весенний птичий гомон.
— Можно?
— Какой гость… Бирута расплылась в доброй улыбке.
— Ты очень занята?
— Занята? Когда в доме такой мужчина? Илга, а ну бросай тряпки, накрывай на стол. Не видишь, кто пришел?
Илга вышла из соседней комнаты, быстро взглянула на Артура и, подавляя волнение, спросила:
— Вы, вероятно, по делу?
— Да вот… костюм купил, — смущенно пробормотал он.
Бирута вытерла о передник руки, подошла к нему, взяла обновку:
— Скажи, пожалуйста. Ты не жениться ли собрался? На ком из нас?
Артур совсем смутился, но Илга поспешила на помощь:
— Вам, наверное, его погладить нужно?
— В общем, не помешало бы. Но главное, это пуговицы. Покупал — было вроде бы ничего. Принес домой — тесноват. — Он обернулся к Бируте. — Вот хотел тебя попросить… Перешей пуговицы.
— Меня? — как-то хитро усмехнулась Бирута. — Вон кто у нас мастерица. Ее проси. А у меня тесто на кухне. Пироги будем печь.
Лукаво улыбнувшись, она исчезла из комнаты. Илга освободила стол, пододвинула к себе железную банку с ножницами, иголками, нитками, крикнула подруге:
— Бирута, поставь, утюг.
Банга неловко уселся на стул и стал смотреть, как руки девушки сноровисто отпарывают пуговицы.
— Тоже к Первомаю готовитесь? — спросила Илга.
— М-да, — неохотно ответил он. В общем, в Москву собираюсь.
— Ой, правда? — воскликнула девушка. — Бирута, ты слышишь? Артур едет в Москву.
Подруга с измазанными в тесте руками вбежала в комнату:
— Что же ты молчишь? Вызывают?
— Да нет, я сам… — Он не мог заставить себя взглянуть на учительницу.
— Что, опять? — удивленно протянула Бирута.
— Понимаешь… — хрипло заговорил он. — В Латвии ее нет. Это точно. Я дважды делал запрос, Калниньш по своей линии тоже. На обе фамилии.
— А, может, у нее уже третья? — не удержалась Илга — ее лицо покрылось пунцовыми пятнами.
Артур ничего не ответил, хотя сердце пронзила острая боль.
— Вот поеду теперь в Москву… Может, там чего-нибудь добьюсь.
Илга расправила пиджак, подошла к Банге:
— Ну-ка давайте примерим, — она почти силой напялила на него пиджак, энергично одернула борта. Поглядите, какой красавец, а? — С жесткой улыбкой, будто он был манекеном, завертела опешившего Артура. — Другие бегали бы за таким красавцем, а она прячется. Да так ловко… Ну, что ж, ищите свою принцессу. — И засмеялась звонким, наигранным смехом.
ГЛАВА 32
Заполненный людьми эскалатор московского метро поднимался вверх. Стиснутый со всех сторон, на ступеньке стоял Банга в своем новом костюме.
Потом он сидел в просторном, светлом кабинете напротив пожилого полковника, к которому пришел на прием.
— Словом, теперь надежда только на вас, товарищ полковник, — просительно подытожил Артур.
Полковник невесело посмотрел на него.
— Да-а… Не знаю, что вам и сказать. Трудная это история, товарищ… — он заглянул в регистрационную карточку… — товарищ Банга. Вы кто по профессии?
— Рыбак.
Полковник с нескрываемым интересом посмотрел на посетителя, сочувственно повторил:
— Сложная история. — Помолчал, подумал. — Вы сами ездили в Сибирь?
— Да.
— И неужели никаких концов?
— Старики, у которых она жила, перебрались к сыну на Украину. Куда, никто не знает. Марта вроде бы собиралась домой, в Латвию. Но в самый последний день за ней заехал какой-то мужчина. Кто, откуда, тоже никто не знает. Я и в органах справлялся, и у властей… Как в воду канула.
— Мужчина, говорите? — нахмурился полковник. Какая-то догадка промелькнула в его глазах. — Тут ведь в чем загвоздка… Женщина. А давайте на минуточку предположим, что она сменила фамилию…
Артур насупился, полковник понимающе усмехнулся:
— Конечно, вам эта мысль неприятна, но, согласитесь, логична. Жизнь есть жизнь. А если женщина вышла замуж, найти ее…
— У меня одно не укладывается в голове, — хмуро перебил Артур. — Неужели у себя в государстве нельзя найти человека? Что же это получается?
— Почему нельзя? Если мобилизовать целую систему и заняться только этим делом… К сожалению, сейчас таких судеб — миллионы. И бомбежки, и переформирования, неразбериха всякая… Я уж не говорю о без вести пропавших, об угнанных в Германию, о тех, кто по концлагерям маялся. Это, рыбак, проблема и, ох, какая еще проблема. После этой войны люди, наверное, еще и через десять, и через двадцать лет будут искать друг друга. Сколько горемык война раскидала. Детей без родителей… Многие не то что родни, фамилий своих не знают. Тут милиция одна никак не управится.
Артур обескураженно спросил:
— То есть вы хотите сказать, что вряд ли сможете мне помочь?
— Во всяком случае, попусту обнадеживать не хочу. Сочувствую, но… — полковник беспомощно развел руками.
Понятно, — разочарованно протянул Банга. — Стоит ли жечь порох из-за одного, когда всем плохо.
Хозяин кабинета укоризненно посмотрел на него:
— Тут как в больнице, рыбак. Сначала помогают самым тяжелым, а уж потом остальным. Ты прости за откровенность, — он неожиданно перешел на «ты», — но у тебя не смертельный случай. Больной, но не смертельный. Чему усмехаешься?
— Да так, вспомнилось. Это у нас на фронте… Хирург. Привезут к нему раненых, а он без долгих раздумий — раз, раз… Кому руку, кому ногу, а кому и то, и другое. Ему главное — спасти. А как жить будет — калекой, не калекой, это уже не важно. — Банга рывком поднялся. — Ладно, извините за беспокойство. — Взял свое заявление, хотел было двинуться к выходу, но полковник остановил его.
— Погоди, рыбак, не горячись. Ты был в Верховном Совете?
— Был, конечно.
— Ну и что?
— Ничего. Дело рассмотрели, приняли решение, дали ответ по существу… Ну и все. А где она сейчас, там не знают.
— Пожалуй, это верно. Ну а этого парня… Ну, которого она спасла, не пытался разыскать?
— Пытался. Он умер в сорок пятом.
Полковник тяжело поднялся, неуклюже выбрался из-за стола — только сейчас Артур заметил, что у него вместо обеих ног протезы. Он почувствовал обжигающий стыд за свою выходку.
— Извините, товарищ полковник, — заливаясь краской, виновато сказал он, — я не знал…
— А-а, чего там. Все мы из одного госпиталя, рыбак. Просто у нас в отряде — там, за линией фронта, не было хирурга. Пришлось ножовкой пилить. Ты свое заявление оставь на всякий случай. Обещать не обещаю, но займусь.
И снова Артур стоял на эскалаторе метро — только теперь уже ползущего не вверх, а вниз. Пассажиров в этот поздний час почти не было, и одинокая фигура Банги как бы подчеркивала наполнявшее его ощущение безнадежности и грусти.
ГЛАВА 33
Нога отбивала на педали барабана ритм веселого вальса, и в такт ей стучала в барабан колотушка. Еще повизгивала скрипка, сипела флейта, и аккордеонист перебирал пальцами по сверкающей клавиатуре. Этот веселый деревенский оркестр играл прямо на лужайке возле дома Марциса. Несколько пар празднично принаряженных рыбаков и девушек танцевали под музыку.
В середине веселого круговорота выделялись жених и невеста — она вся в белом, он в строго черном костюме и белоснежной сорочке. Это был Генрих, непривычно торжественный и растерянно-смущенный. Он стеснялся не то что обнять невесту покрепче, но даже в глаза ей смотрел с опаской. А она не сводила с него завороженно-влюбленных глаз: невеста была еще девочкой, похожей на выпускницу школы.
— Довольно танцевать. Все к столу! — весело крикнула раскрасневшаяся Бирута, выставляя одно дымящееся блюдо за другим. — Горячее подано.
Скрипач взмахнул смычком, и ансамбль ловко, с ходу перешел на веселый марш, под который свадьба с шутками и смехом, промаршировала к столу. Шумно рассаживались на скамьях. Артур тоже присел, огляделся — справа от него была Бирута, а слева… слева ему улыбалась Илга.
— Друзья! — поднялся с бокалом Банга. — Я хочу…
— Подожди, — вывернулся откуда-то сбоку Марцис. — Я еще не успел вручить молодоженам наш свадебный подарок. — С этими словами он вытащил из-за пазухи старую ракетницу. — Держи, Инара. Это очень нужная штука…
— Она заряжена? — спросила невеста, с опаской беря ракетницу.
— Конечно. И если ваш семейный корабль когда-нибудь попадет в шторм, сразу стреляйте. И мы все, ваши друзья, придем на помощь.
— Семейный корабль бедствие не постигнет, — со смехом сказала Бирута. — Это удел одиноких холостяков.
— А Генрих, — подхватила Илга, — слава богу, прошел последний риф. Пусть в честь того и прозвучит салют. Стреляй, Инара!
— Боюсь…
— Вдвоем стреляйте, вдвоем, — подхватили за столом.
Генрих и Инара дружно подняли ракетницу. Грохнул выстрел, и красная ракета под веселые возгласы гостей взвилась в небо. Когда шум утих, Артур снова поднял бокал и сказал:
— Больше никому не дам перебивать. Тебе повезло, Инара. Но имей в виду: этот парень — игрушка с секретом. Его сразу не раскусишь. Знаешь, сколько он нам голову морочил?
— Вы его совсем не знаете, — вдруг тихо, но упрямо сказала Инара. — Он такой… такой…
— Все слышали, какой я? — заминая неловкость, закричал Генрих. Хотел сказать еще что-то, но его бесцеремонно перебил Марцис:
— А я вот не слышу самого главного… — И, подняв стакан, озорно, по-мальчишечьи гаркнул: — Горько!..
— Может, пригласите на танец? — лукаво спросила Артура Илга.
— С удовольствием.
Они плясали до тех пор, пока Илга, обессиленная и счастливая, не упала на лавку.
— Ой, не могу, — девушка кружевным платочком замахала у разгоряченного лица.
Артур присел было рядом, но тут же появился Марцис, схватил Бангу за руку и потащил в другой конец стола, где их уже с рюмками в руках поджидали Филипсон и Генрих.
— Мужики, давайте выпьем за самих себя, — предложил Марцис. — За то, что живы, за то, что дома, за то, что снова вместе.
— Нет, давайте за нашего шефа, — неожиданно сказал Генрих, — Не было бы его… И ничего этого тоже не было бы.
Артур смутился, хотел возразить, но Генриха поддержали и Филипсон, и Марцис. Филипсон сказал:
— Правильно мыслишь, парень. В самую точку.
Чокнулись, выпили, смачно закусили. Марцис снова наполнил рюмки. Генрих взял свою, внимательно посмотрел Артуру в глаза:
— Знаешь, чего мне сейчас больше всего хочется? Сплясать на твоей свадьбе…
Банга помрачнел. Филипсон укоризненно взглянул на бестактного жениха и осторожно спросил:
— Так ничего и не известно?
Артур отрицательно мотнул головой.
— Значит, и Москва не помогла?
— Нет.
— Вот хреновина… — досадливо буркнул Марцис. — Три года человек ищет человека и не может найти. — И вдруг озлился. — А я тебе так скажу: если бы любила, сама нашла… — И уже на Филипсона: — Нечего на меня пялиться. Он не барышня кисейная, должен сам понимать. Правильно говорит Генрих. Бросай якорь, капитан, пора уж…
Артур с Илгой шли берегом. Море дышало покойно и ровно, высоко в небе плыла луна — такая яркая, что из морской дали прямо к их ногам бежала золотая тропинка. Они невольно остановились, любуясь ею. Издали доносилась веселая свадебная музыка, смех, заглушенные расстоянием голоса, Артур взял Илгу под руку — девушка доверчиво прижалась к нему — и они двинулись дальше. Возле дома Артура Илга отстранилась, высвободила руку:
— Не надо меня дальше провожать.
— Почему? — удивленно спросил он.
— Так. Не надо, и все. — И неожиданно добавила: — Странный вы все-таки человек, Артур Банга… Когда я вижу вас, я и радуюсь, и боюсь.
— Почему? — заражаясь ее волнением, спросил он.
— Вы как этот дом… Всегда с погасшими окнами.
Артур достал папиросу, попытался прикурить, но сломал несколько спичек — пальцы дрожали. Она молча взяла у него коробок. Вспыхнул огонек, и Банга совсем близко увидел ее глаза — огромные, светлые, как звезды над головой, услышал ее нервное, учащенное дыхание… Земля пошатнулась и поплыла под их ногами. Губы слились в поцелуе.
Артур проснулся рано, повел взглядом по испятнанной солнцем стене, по знакомым с детства вещам, фотографиям, по цветам, говорившим ему о чем-то очень приятном и счастливом… Радостно обернулся, но Илги рядом не было. Удивленно приподнял голову — на столе стоял заботливо приготовленный завтрак.
— Илга-а, — негромко, ласково позвал он. — Илга, ты где?
Молчание. Артур отбросил одеяло, спрыгнул на пол и вдруг увидел Илгу во дворе — девушка уже открывала калитку. С треском распахнул окно:
— Илга, ты что? Куда ты собралась?
Она нехотя обернулась:
— Куда? Домой… — Помедлила секунду-другую, опустила глаза. — Я уезжаю в Ригу.
— В Ригу? — еще больше удивился он. — Что случилось?
— Ничего… Так надо.
— Погоди. — Он надел брюки, набросил на плечи пиджак и в шлепанцах на босу ногу выскочил из дому. — Ты можешь толком объяснить, что произошло? Зачем тебе в Ригу?
— Так надо, — упрямо повторила она.
— Что значит, надо? Съездим вместе. У меня в Риге тоже дела найдутся.
— Ты не понял, Артур, — отвернулась она. — Я насовсем уезжаю в Ригу.
— Как насовсем? — Банга машинально опустил руку в карман в поисках курева. — Что за чертовщина?
— Ну, так… Здесь увольняюсь, там буду устраиваться, — выдавила из себя вымученную, болезненную улыбку. — Да ты не беспокойся, все в порядке.
— Что в порядке? — Он взял ее за плечи, с силой притянул к себе. — Ты обиделась, что ли?
— Оставь, Артур… Ты же знаешь, что мне не в чем тебя винить. Да и не жалею я ни о чем.
— Не жалеешь? Тогда зачем все эти глупости? Сейчас же пойдем, и ты примешь мою фамилию.
— А имя? — как-то странно спросила она. — Имя мне тоже надо сменить?
— При чем здесь имя? У тебя прекрасное имя…
— То-то ты меня всю ночь называл Мартой.
Она сухо кивнула и, чтобы скрыть навернувшиеся на глаза слезы, быстро зашагала к калитке. Артур не шелохнулся, не окликнул, не бросился вдогонку. Он стоял с каменным лицом и думал, что вот так, наверное, от человека однажды уходит жизнь — страшно и бесповоротно.
ЭПИЛОГ
В салоне ТУ—104 было спокойно и уютно: светило в иллюминаторы яркое солнце, мерно гудели турбины, пассажиры, утомленные дальним перелетом, дремали в своих креслах. Над дверью в пилотскую кабину зажглось световое табло, грудной женский голос произнес из динамиков:
— Внимание, граждане пассажиры… Просьба пристегнуть привязные ремни и прекратить курение. Наш самолет, выполняющий рейс по маршруту «Москва — Иркутск», совершает посадку в аэропорту назначения. Напоминаем, что разница во времени с московским составляет пять часов. Не забудьте перевести стрелки вперед.
Потом это объявление было передано еще раз специально для группы немцев из Западной Германии, находящихся на борту самолета.
В кабинете секретаря Иркутского обкома партии на длинном столе стоял большой макет нового химического комбината. По обе стороны стола расположилось человек пятнадцать — преимущественно мужчины. Это была группа промышленников из Западной Германии и советские инженеры.
— Вы очень удачно прибыли к нам в Иркутск, господа, — сказал хозяин кабинета, невысокий кряжистый мужчина средних лет. — Как раз сейчас на стройке нашего химического комбината начинается самый интересный этап. Я глубоко убежден, что детальное изучение всех вопросов на месте будет весьма полезно. Часы истории, господа, неудержимо идут вперед, и сегодня деловое сотрудничество между Советским Союзом и Федеративной Республикой Германии стало не только конкретной реальностью, но и насущной необходимостью для обеих сторон…
— Вы сказали, время идет… — улыбнулся седоволосый бизнесмен. — По-моему, оно просто бежит. В Москве я уже корректировал его. А всего за время перелета сюда из Бонна я перевел свои стрелки на семь часов. Что же будет дальше?
Его реплика рассмешила собравшихся. Они стали о чем-то негромко переговариваться, выжидательно поглядывая на этого симпатичного и, по всей видимости, неглупого «комиссара».
— Что будет дальше? — лицо секретаря обкома стало торжественным и строгим. — Я думаю, мы сумеем распорядиться нашим временем значительно благоразумнее, чем в недавнем прошлом. Нам есть о чем поговорить, господа. И однажды хорошо понять друг друга. Но если не возражаете, давайте перенесем этот разговор на завтра. Мы хотим предложить вам после осмотра стройки выезд на берег Байкала и настоящую рыбацкую уху.
— О-о, Байкал! — оживились немцы.
Однако цепкий взгляд хозяина кабинета уловил не полное единодушие. Он посмотрел в дальний конец стола и спросил:
— Я вижу, господин Лосберг чем-то озабочен? Вас не устраивает наше предложение?
Рихард Лосберг — он за это время сильно изменился, стал еще более поджарым, поседел, лоб изрезали две глубокие морщины — вздрогнул от неожиданности:
— Отчего же? Я бы с удовольствием, но завтрашний вечер у меня занят.
Марта выглядела почти так же, как и двадцать лет назад. Но это было внешнее, обманчивое впечатление. Стоило присмотреться внимательнее, как сразу же обнаруживались приметы времени: лицо, глаза, волосы… Она разговаривала с кем-то по телефону. Подолгу слушала, роняя лишь короткие междометия, явно стараясь справиться с волнением, то и дело украдкой поглядывала на сына — при этом в ее глазах появились испуг и настороженность. Наконец сказала:
— Да… Конечно, неожиданно. Хочешь прийти? Даже адрес узнал?
Эдгар к разговору не прислушивался. Он сидел на диване в углу комнаты и, лениво жуя пирожок, делал вид, что читает книгу. По-домашнему в спортивных брюках и майке, обтягивающей его крепкие плечи, молодой Банга выглядел типичным современным парнем. Испуганно оглянувшись ка него, Марта продолжала:
— Ну что ж… Я, право, не знаю… Ты уверен, что это нужно? Что ж, приходи.
Трубка легла на рычаг, но Марта продолжала стоять на месте, не в силах унять смятение, вызванное этим звонком. Машинально посмотрелась в зеркало, поправила волосы. Она словно пыталась увидеть себя глазами человека, с которым не встречалась столько лет. Снова растерянно оглянулась на сына.
Эдгар дожевал пирожок, захлопнул книгу:
— Ты хочешь, чтобы я испарился?
Марта испуганно вздрогнула:
— Ну вот еще… Что за глупости?
— Ладно, мать, не надо. Ты хорошая художница, но актриса из тебя неважная. Я, конечно, уйду… Но если честно признаться, мне это уже порядком надоело. Я же слышал… Приехал кто-то из Латвии. Не так ли?
Марта покраснела:
— Не совсем так.
Он посмотрел на ее смятенное лицо, угрюмо спросил:
— Тебе не кажется, что нам пора объясниться?
Мать подняла на него страдальчески-умоляющие глаза:
— Ты хочешь это сделать сейчас?
Она стояла перед ним, как провинившаяся девчонка, маленькая и беззащитная. Ему вдруг стало нестерпимо жаль ее. Сказал с нарочитой грубостью:
— Ладно, мать, прости. — Виновато опустил глаза. — Только знаешь… Мне ведь тоже несладко. Я же вижу, что тебя все время что-то тяготит. Не хочешь говорить — не надо, я не напрашиваюсь, но…
Она побледнела, до крови закусила губу.
— Хорошо, я тебе завтра же все расскажу.
Он наклонил голову, крутые желваки проступили на скулах. Как был похож в этот момент сын на своего отца! Вылитый Артур.
— Не обижайся, мать… Я вовсе не за этим… Хотя, честно говоря, многого не понимаю.
— Чего ты не понимаешь?
Он ответил не сразу. Не решался сказать то, что мучило его давно и неотступно. Но все же собрался с духом:
— Да хотя бы того, что мы объездили половину Союза. Где мы с тобой ни были. Только не в Риге. Это что, случайно?
Она проглотила твердый ком, подступивший к горлу, плотнее сжала губы.
— Ну и что?
— Понимаешь, мать, это же невозможно скрыть…
— Что скрыть? — в ее голосе послышался откровенный испуг.
— Я не знаю что… Но, наверное, что-то есть. — И неожиданно признался: — Недавно встретил в троллейбусе латышей. Шесть остановок, как дурак, за ними ехал. Все прислушивался к речи. Неужели ты думаешь, что мне все это безразлично?
Марта гордо вскинула голову, долго и пытливо вглядывалась в глаза сыну, наконец, четко сказала:
— Мы завтра же обо всем потолкуем.
Эдгар, испытывая неловкость за этот, так неожиданно возникший и явно неприятный для матери разговор, неуклюже ткнулся губами в ее щеку, взял со стула рубашку:
— Ладно, мать… Ты уж извини, что так получилось. Я пошел. Позвонит Марина, скажи, что завтра, как условились.
— Хорошо.
Сын ушел, а она еще долго стояла в прихожей, подавленно уставившись в одну точку. Мысли, одна тревожнее другой, перескакивали, путались, и не было от них никакого спасения. Вот он и настал, этот час. Марта знала, что рано или поздно, ей придется исповедаться перед сыном. Она понимала, что так или иначе, независимо от ее усилий и всевозможных ухищрений, что-то само по себе всплывет наружу, что-то станет известно, а что-то совершенно естественно вызовет законные вопросы, если не подозрения. Просто она не заметила, как вырос сын, как приспело время и как пробежала жизнь.
В первое мгновение Марте показалось, что ее попросту разыграли — ничего общего с Рихардом Лосбергом в человеке, что стоял перед ней сейчас, не было. Если бы не голос. Это единственное, над чем не властно время. При первых же его звуках у Марты словно пелена спала с глаз.
Началось постепенное, трудное узнавание. Тот же лоб, немного выпуклый и квадратный, правда, теперь его рассекали две глубокие морщины. Тонкий, прямой нос с едва заметной горбинкой посредине, может быть, чуточку обвисший. Та же пышная шевелюра, щедро присыпанная снежной порошей. Но главное, это глаза: по-прежнему цепкие, упрямые и насмешливые. Они испытующе смотрели на Марту, и в то же время как бы просили извинить за непрошеное вторжение.
— Ну, здравствуй, — хрипло проговорил Рихард, нервно усмехаясь. — Не ждала?
— Здравствуй.
— Не верится?
Она хотела ответить, но запершило в горле и перехватило дыхание.
— Позволишь войти?
Хозяйка молча отступила в сторону, пропуская его в гостиную. Он вошел, огляделся, на секунду задержал свой взгляд на портрете Эдгара.
— Не его ли я встретил сейчас в подъезде? Такой высокий, в серой клетчатой рубашке. Очень похож на Артура.
— Да, это Эдгар.
Мужчина, — задумчиво сказал Лосберг. — Можно присесть?
— Ради бога, — сбросив, наконец, оцепенение, торопливо ответила Марта. — Кофе хочешь?
Он опустился на диван, поймал ее руку, усадил рядом.
— Сядь, успокойся. Ничего не надо. Дай посмотреть на тебя. Ты совсем не изменилась. Нет, вру, ты стала еще красивей.
Она осторожно высвободила руку, слегка отодвинулась. Не скрывая удивления, спросила:
— Но ты… Каким ветром, откуда?
Лосберг вынул из кармана сигареты, бросил на хозяйку короткий, выразительный взгляд, чиркнул зажигалкой, унимая волнение, несколько раз глубоко затянулся. И тут же спохватился:
— Извини… Ты позволишь? — Сигарета слегка подрагивала в его пальцах.
— Кури, пожалуйста.
Она встала, нашла пепельницу. Расположилась в кресле напротив, выжидающе глядя на гостя.
— Представь себе, ничего таинственного и необычного, — стараясь казаться безмятежным, заговорил Лосберг. — Несколько лет назад я сделал запрос через Инюрколлегию… Сначала на фамилию Лосберг… — Смущенно усмехнулся. — Прости мою самонадеянность. Но ведь мы не были официально разведены. Затем на Озолу… И только потом сообразил, что тебя следует разыскивать как Бангу.
Вот она, безжалостная ирония судьбы: если для Лосберга было просто и понятно, что Марту надо разыскивать как Бангу, то это никакие могло прийти в голову Артуру. Да и никому, пожалуй, не пришло. За мертвых не выходят замуж.
— Зачем? — тихо спросила она.
— Не знаю, — честно признался Рихард. — Вдруг захотелось тебя увидеть, так захотелось…
Он резко отвернулся и заметил лежащий на трюмо янтарь. Да, тот самый, с замурованными в прозрачной тюрьме мошками. Гримаса боли исказила его лицо. Злая, неприкрытая ревность плеснулась во взгляде. Он взял камень, подержал на ладони.
— Все сохранила.
— Да. — Как когда-то, решительно отобрала янтарь, положила его на место. — И для этого ты приехал в Иркутск?
Он посмотрел на нее и, как бы оценив шутку, деланно усмехнулся:
— Ну, не совсем так… Хотя, в общем, мне чертовски повезло.
— Не понимаю.
— Ничего сложного — наводим мосты. У вас бурное строительство, и вам надо уйму всякого оборудования. Вот мы и приехали посмотреть, стоит ли игра свеч. Ох, прости, я же забыл представиться: живу в Гамбурге, промышленник. Химическое оборудование, электроника… Акула капитализма, по-вашему. Чему ты усмехаешься?
— Да так, вспомнилось, — Марта окончательно справилась с волнением. — Ты же когда-то утверждал, что скорее закроешь фабрику, чем возьмешь хотя бы грамм сырья у русских.
Лосберг смутился, но быстро взял себя в руки:
— Да, ты, действительно, ничего не забыла.
Марта так выразительно посмотрела на него, что Рихард на минуту смешался, удрученно спросил:
— За что ты меня ненавидишь? Всю жизнь…
— При чем тут ты? — почти миролюбиво сказала она. — Если кто и виноват в том, что произошло, так только я сама. Но за свои ошибки я уже заплатила. Сполна. — Она отвернулась, чтобы скрыть волнение.
Рихард побледнел.
— Отчего у нас не получилось… Не понимаю. — Криво усмехнулся, полушутя, полусерьезно сказал: — Во всяком случае, я очень жалею, что не увез тебя тогда, в сорок четвертом.
— Жалеешь, что не воспользовался моей беспомощностью? — удивленно спросила она.
— Понимаешь… Не знаю, как это объяснить, но мне всегда казалось, что я в чем-то виноват перед тобой. Хотя, в чем — до сих пор не понимаю.
— Не надо, Рихард. У меня нет к тебе никаких претензий. Просто мы были совсем разными людьми. И расплатились за это — каждый по-своему. Ладно, расскажи лучше о себе. Женат, дети?
Он опять закурил, долго сосредоточенно молчал.
— Женат, две дочери… — И вдруг без всякого перехода: — Слушай, а ты счастлива со своим?
— С кем? — не поняла Марта.
— Ну… С Артуром.
Она вспыхнула, но тут же сообразила, что он вовсе не издевается, а попросту ничего не знает. Тихо ответила.
— Артур погиб.
Рихард резко выпрямился:
— Когда?
— В сорок четвертом.
— Ты уверена?
— Своими глазами видела похоронку.
— А как же твоя фамилия? Банга? — недоверчиво спросил он.
— Я взяла ее в сорок пятом. Хотела, чтобы у Эдгара была фамилия настоящего отца.
Он проглотил обиду, но вида не подал:
— И это так просто? Даже у нас, насколько мне известно, перемена фамилии сопряжена с большими трудностями…
— У нас тоже. Но мне пошли навстречу.
Лосберг как-то странно посмотрел на нее, встал, нервно заходил по комнате.
— Ты ни разу не ездила туда? Не писала писем?
— Мне некому писать.
— Не хочешь ворошить прошлое? Скажи, а твой сын знает про меня, про деда?
Марта не ответила.
— Понятно, — задумчиво протянул Рихард, — не знает. — Взглянул на нее в упор и повторил: — Да-а, жаль, что я не увез тебя тогда в сорок четвертом.
Она насмешливо вскинула брови:
— Ты думаешь, это принесло бы нам счастье?
Лосберг опустился на подлокотник кресла, положил ей руку на плечо — женщина не отшатнулась, не испугалась.
— Марта… — его голос дрожал. — Я понимаю… Нелепо возвращаться к старому, говорить о чувствах… Но пойми… Мы уже не молоды и могли бы разумней распорядиться остатком своей жизни, Тем более, что твой сын еще в начале пути.
— Прекрати, Рихард, — решительно поднялась Марта.
— Но почему? Только потому, что я женат? — в его глазах мелькнула надежда.
— Скажи честно, ты счастлив?
Он не выдержал ее пронзительного взгляда, отвернулся. Долго молчал. Затем произнес нехотя, с болью: Кто-то из умных сказал: «Человеку для полного счастья требуется немного: любовь, родина и свобода». У меня осталось только последнее. Может, ты в чем-то была и права, Марта… Не знаю.
Он сказал это так искренне и сокрушенно, что ей на какое-то мгновение даже стало жаль его.
— И ты хочешь, чтобы я тоже лишилась того же? — спросила она.
В комнате воцарилась тягостная тишина, которую первым нарушил Лосберг:
— Что ж, прости. Не обессудь за назойливость и спасибо за откровенность. Пожалуй, пора. — Он нерешительно поднялся. — Может, запишешь адрес? Так, на всякий случай…
— Зачем, Рихард?..
— Да, действительно, зачем… — Он тяжело вздохнул и протянул ей руку. — Что ж, прости за все…
Лосберг уже вышел в прихожую, уже взялся за ручку двери, открыл ее, вышел на площадку, но не выдержал, обернулся:
— И все же я хочу, чтоб ты была счастлива, Марта… В сорок шестом я по делам фирмы находился в Швеции. Как-то открываю старую газету и вижу фотографию спасенных латышских рыбаков. Вглядываюсь внимательней и кого бы ты думала вижу? Твоего Артура. Не верю своим глазам, читаю подпись — все верно: Артур Банга. Так что, если ты не хитришь со мной, то он никак не мог погибнуть в сорок четвертом.
Стайка маленьких девочек весело, со смехом вбежала в подъезд и, поднявшись на второй этаж, испуганно замерла на месте — на ступеньках сидел хорошо одетый пожилой мужчина и, словно ему было ужасно больно, раскачивался из стороны в сторону. Девочки постояли, убедились, что мужчина не пьян и не проявляет никакой агрессивности, осторожно двинулись вдоль стены выше. Но поднялись всего на один этаж и снова, испуганно остановились — там у открытой двери беззвучно и безутешно плакала женщина.
В тот погожий августовский вечер Артур неспешно возвращался домой. Только что зашло солнце, огромное, красное словно раскаленный круг железа, вынутый из горна, — оно долго висело над бесконечной синей гладью моря, пока окончательно не утонуло в его глубинах. Было то неопределенное для Балтики время суток, когда долго и неуступчиво спорят между собой вечер и ночь. Затихли птичьи голоса, белыми льдинками маячили на воде угомонившиеся чайки, почти не слышалось звуков прибоя. Состояние у Банги было очень похожим на этот вечер. Неопределенное, смутное и щемящее. Как он любил и ненавидел такие вечера! Любил за неповторимую прелесть, необычайный покой и теплоту, словно прикосновение материнской руки… И ненавидел за неизменное, с годами становившееся все более невыносимым, одиночество. Пока был на работе — всегда, порой нарочито, находил себе занятие. И тогда забывался, оттаивая. Но стоило остаться одному или расслабиться, как на него наваливалась такая тоска, что он не знал, куда от нее деться. Не хотелось никуда идти, никого видеть. Он болезненно воспринимал чужое семейное счастье, не переносил снисходительных взглядов, не терпел, когда его жалели и лезли ему в душу. После неожиданного разрыва с Илгой у него были другие женщины. Они переступали порог его дома, но ни одна не осталась в нем навсегда. Он все понимал, прекрасно знал, чего ждут от него друзья, сам переживал, но ничего не мог с собой поделать. Корил себя за упрямство и глупость, терзался по ночам, не раз давал себе зарок изменить что-то в своей жизни, но наступало утро, и все продолжалось по-прежнему.
Впрочем, в поселке он был такой не один. Бирута тоже не выходила замуж. Она, как и раньше, по-сестрински заботилась о нем, приглядывала за его хозяйством. Совсем недавно Банга обзавелся новым домом. И не потому, что его не устраивало прежнее жилище — так настояли друзья. Колхоз богател, строился, и как-то случилось, что единственным в поселке старым домом остался дом председателя. И тогда Артур тоже отстроился, приобрел соответствующую своему положению и достатку мебель, но в доме фактически не жил. Только ночевал. «Рыбацкая гостиница», как он сам окрестил свое новое пристанище, всегда была заботливо ухоженной, но пустой.
Как-то Артур не выдержал — Бирута очень сердилась, если он заговаривал о благодарности за ее помощь, — и полушутя, полусерьезно сказал:
— Перебиралась бы ты насовсем. Что попусту изводить самих себя?
Она только улыбнулась в ответ:
— Мы же с тобой как брат и сестра. Да и милостыни ни тебе, ни мне не надо.
Банга деланно рассмеялся, упрекнул ее в излишней щепетильности и мнительности, но никогда больше не заговаривал на эту тему. Невольно припомнились слова Илги: «Вы — как этот дом — всегда с погасшими окнами». Да, действительно, окна в доме председателя светились редко.
Артур вышел из-за поворота — его новый дом находился почти в дюнах — сделал еще несколько шагов и удивленно остановился. «Рыбацкая гостиница» светилась всеми своими окнами. Бирута? Лишь она знала, где он прячет ключ, и могла войти в его холостяцкую берлогу. Как раз сегодня Бирута затеяла генеральную уборку. Чистила и драила так, что к ней не смог бы придраться даже самый привередливый капитан. Банга днем забегал домой переодеться и видел все это своими глазами. Артур даже пошутил над Бирутой: не готовится ли в поселке сегодня проверка? Но это было днем. А теперь он стоял, потрясенный непривычным зрелищем и, недоумевая, смотрел на сверкающий всеми окнами собственный дом. Он двинулся вперед. Дошел до калитки, распахнул — обычно она запиралась изнутри на щеколду, а сейчас была открыта — приблизился к крыльцу, но почему-то медлил подняться. Томимый неясным и тревожным предчувствием, решил сначала заглянуть в окно: прямо, посреди комнаты стояли нераспакованные чемоданы, еще какие-то вещи — Артур с трудом понимал, что там происходит. Бирута, необычно возбужденная, хлопотала у накрытого стола, то и дело поглядывая на входную дверь.
Банга не смог бы сказать, сколько он простоял под окном, как не смог бы ответить, о чем он подумал в этот момент и что почувствовал. Как-то все вдруг смешалось, спуталось. Воспоминания и надежды, тревога и ожидание… Осознавал он лишь одно: вот так просто подняться на крыльцо и войти в дом у него не хватит духу. Шатаясь, словно пьяный, он вышел за калитку, поднялся на дюну. И хорошо, что рядом оказалась она, добрая, старая сосна, его давняя подружка: у самой кромки воды стояли мужчина и женщина. Мужчину Банга видел впервые. Что же касается женщины… Даже если бы Артуру завязали глаза, он шестым, седьмым или еще каким-то там чувством определил бы, кто перед ним.
— Ты, довольна мать? — завороженно оглядываясь по сторонам, в который раз спрашивал Эдгар, заглядывая ей в глаза.
А Марта молчала, словно все еще не верила, что вновь обрела родину. Наконец подняла на него заплаканное счастливое лицо:
— Я счастлива, что вернула тебе то, что когда-то отняла.
Высоко в небе из-за тучки показался месяц. Он высветил кроны деревьев, притихший поселок, рыбацкую гавань, проложив на водной глади длинную лунную дорожку. Такую же долгую, как дорога к этим дюнам. Он светил для тех, кто сегодня был счастлив.
ВКЛАДЫШ
Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.
Примечания
1
Члены кулацко-фашистской военизированной организации в буржуазной Латвии.
(обратно)2
Плица — черпак для откачки воды из лодки.
(обратно)3
Слани — настил на дне лодки.
(обратно)4
«Рērkonkrusts» (лат.) — «Гром и Крест» — профашистская организация в годы буржуазной власти в Латвии.
(обратно)5
Впервые роман Вилиса Лациса был экранизирован в годы буржуазной Латвии. (Примеч. автора.)
(обратно)6
Окружной комиссариат.
(обратно)7
До свидания! (Нем.)
(обратно)8
Разговаривать запрещено (нем.).
(обратно)9
«Голос его хозяина» (англ.).
(обратно)




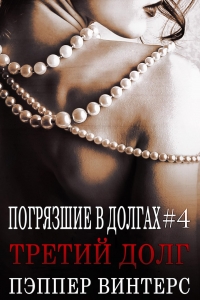

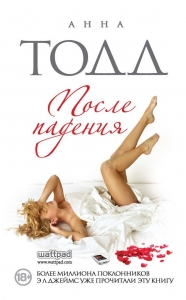
Комментарии к книге «Долгая дорога в дюнах», Олег Александрович Руднев
Всего 0 комментариев