Роксана Гедеон Сюзанна и Александр
ГЛАВА ПЕРВАЯ ИЗУМРУДЫ ГОЛКОНДЫ
1
Лошади повернули вправо, и сквозь помутневшее окно кареты стали видны очертания Севрского моста.
— Сена, — произнесла я едва слышно. — Вот и снова Сена. Париж…
Я снова, уже в который раз оказывалась под стенами этого города — того самого, что олицетворял собой революцию и где были погребены самые основы прошлой, казавшейся незыблемой, жизни. Раньше я любила Париж; теперь, право же, мои чувства к нему были противоречивы. И все же я снова ехала сюда, надеясь, что здесь и только здесь смогу найти помощь и заново завоевать свое место в столице. Нет, не свое место. Наше.
— Я все, все здесь помню, — произнесла Аврора, приникая к окошку. — Ага, вот и трактир, где мы пили молоко, когда уезжали отсюда в прошлый раз… Здесь все будто родное…
— А кто же называл себя бретонкой? — улыбнулась я. — Или тебе стоило разок подумать о Париже — и Бретань уже забыта?
— Нет… — Она повернулась ко мне и улыбнулась так счастливо, как ребенок. — В Белые Липы я просто влюблена. Но мы же вернемся туда, правда?
В Париже у нас было множество дел. Надо было показать Аврору в свете — она была уже в том возрасте, когда это возможно. Главная трудность состояла в том, что я сама нынешнего света не знала и не хотела знать. Нынешнее парижское общество, претендующее на светскую изысканность, было буржуазным. Вот я и думала: где же все-таки и кому показывать юную Аврору?
— Во всяком случае, — заявила я решительно, — мы закажем тебе гардероб. В Бретани это невозможно. Такая милая девушка, как ты, должна одеваться только в Париже. Бретонские модистки просто недостойны тебя.
— И тебя, — отозвалась она, прижимаясь щекой к моему плечу. — Ах, я так счастлива, так счастлива — у меня просто дух захватывает от радости!
Было 10 декабря 1797 года. Три месяца назад мадемуазель Аврора д’Энен навсегда покинула стены монастыря в Ренне, — монастыря, в котором приобрела понятие о хороших манерах, научилась говорить, двигаться, играть на клавесине и даже получила некоторые знания по географии и истории. Но, несмотря на все эти успехи, невозможно было уговорить ее остаться там даже на месяц дольше.
— Никогда бы не вернулась туда! — повторяла она горячо. — Это самое невыносимое место в мире!
— Тебе и не надо возвращаться. Ты уже выросла, дорогая.
Выросла… Когда я смотрела на Аврору, меня охватывало странное щемящее чувство. Пожалуй, она слишком быстро выросла. Сейчас ей шел шестнадцатый год — я была примерно в том же возрасте, когда уехала из Санлиса. И вот мы словно поменялись местами. Вернее, теперь на моем месте — она… Двенадцать лет прошло, как один миг… И вот пожалуйста — вместо крошечной бретонской дикарки рядом со мной сидит такая изящная юная мадемуазель.
Аврора была одного роста со мной, но тоньше и более хрупкая. Судьбе было угодно, чтобы она, кровно вовсе со мной не связанная, имела много общего со мной — в овале лица, губах, жестах, разрезе фиалковых глаз. Ее глаза, кстати, были самым ценным и привлекательным в ее внешности, они сразу притягивали взгляд — своей глубиной, сиянием, необыкновенным цветом.
Ренцо тронул меня за руку.
— Тетя, так мы все святки проведем в Париже?
Я понимала, что его интересует: возможность продлить свои каникулы. Ренцо был способный, все схватывал на лету, но корпеть над книгами не любил.
— Ты — да. Но потом тебе надо будет вернуться к отцу Ансельму, милый.
— А вы?
— А мы, я полагаю, останемся здесь до самого лета.
Ренцо взглянул на Аврору.
— Значит, я буду учиться, а она нет?
Аврора снисходительно потрепала его за ухо.
— Я уже отучилась, вы забыли, милейший кузен! А вот вам еще лет шесть придется сидеть высунув язык над книгами!
Из всей тройки мальчиков, наполнявших прежде Белые Липы своими голосами, остался сейчас только мой племянник. Я так привязалась к нему, что была бы огорчена, если бы Джакомо и Стефания вдруг изъявили желание его забрать. Хотя, впрочем, он пробыл у меня уже полтора года, а брат и его жена ни о чем таком пока не говорили.
Ренцо, расплющив нос о стекло, припал к окну.
— Как много людей на улицах… Что бы это за праздник нынче, тетя?
Я пожала плечами. Париж встречал нас слякотью, дождем, туманом — словом, всеми атрибутами теплой парижской зимы. Окошко кареты совсем запотело. Капли, срываясь и сбегая вниз, пересекали мутное стекло прозрачными неровными дорожками. Улицы были грязны, колеса кареты то и дело попадали то в канавы, то в лужи, и брызги грязи летели на тротуары.
— Действительно, — сказала Аврора. — Должно быть, сегодня какое-то торжество.
Тогда я тоже посмотрела. Двигаться по улице становилось все труднее, толпы людей увеличивались, и, созерцая это, я почувствовала некоторый страх. Страх перед толпами, который вошел в мою плоть и кровь. Что происходит? За последние семь лет скопления людей на улицах предвещало лишь что-то дурное. Неужто меня угораздило прибыть в Париж так несвоевременно?
У Елисейского дворца развевались трехцветные знамена, деревья были украшены разноцветными гирляндами. Можно было заметить карету, окруженную эскортом блестящей национальной гвардии, — она двигалась медленно, и я вдруг поняла, что это именно ради нее устроены все эти почести.
— Так что же происходит? — пробормотала я.
Едва произнеся это, я вспомнила то, о чем трубили все газеты, о чем знали даже в глухих уголках Бретани: генерал Бонапарт после заключения мира в Кампоформио как триумфатор возвращается в Париж… Его ждали неисчислимые почести и слава миротворца.
Бесконечная война давно надоела всем. Более пяти лет длилась она с переменным успехом: французы то побеждали, то отступали. Победы радовали мало, хотелось одного — мира. Вот почему Бонапарт с его Кампоформийским мирным договором был встречен в Париже с такой радостью. Директория, особой любви к генералу не питавшая, под давлением столь явно выраженных восторгов была вынуждена устроить ему пышную встречу в Люксембургском дворце. По всей видимости, именно туда сейчас Бонапарт и направлялся. Бесчисленные толпы народа приветствовали его.
Наша карета мало-помалу продвигалась вперед, и мне, припавшей к окошку, на миг удалось увидеть Бонапарта. Я заметила четкий римский профиль на фоне темной обивки, увидела худое бледное лицо с бесстрастным выражением и сжатыми губами, редкие длинные волосы, падавшие на лоб и плечи. Глаза на этом бледном лице горели как два угля. А высокомерие, таившееся в изгибе губ, меня поразило. Пожалуй, даже Людовик XIV не взирал на толпу с таким презрением.
В остальном внешность его была ничем не примечательна. Я убедилась, что слухи правдивы: Бонапарт некрасив и тщедушен. По крайней мере, чего-то особенного, что притягивает женский взгляд, в нем не было. Шарм ему придавала слава полководца; без этого редко какая женщина, встретив его в толпе, обратила бы на него внимание.
— Да здравствует генерал Бонапарт!
Эти крики, сливавшиеся в общий нестройный гул, действовали мне на нервы.
— Глупцы, — пробормотала я с презрением. — Они не видят, что в его пресловутом мире кроется зародыш войны…
Кучер соскочил с козел и подбежал к окошку.
— Мадам! Прикажете ехать вслед за гвардией?
Я возмутилась.
— Еще чего! Мы не собираемся сопровождать Бонапарта. Мы едем домой.
— Но, тетя! — пробормотал Ренцо.
— Это не подлежит обсуждению, — отрезала я. — Бонапарт не дождется, чтобы карета с гербом дю Шатлэ следовала в его эскорте.
С горем пополам мы освободились из объятий толпы, и кучер направил лошадей к Елисейским полям, чтобы выехать к саду Тюильри.
Случившееся еще раз дало мне понять, что нынешний Париж — это не мой Париж. Я совершенно перестала понимать его жителей. Одному Богу известно, смогу ли я привыкнуть ко всему новому и прожить здесь до самого лета — именно такой срок мне, видимо, понадобится, чтобы уладить то, ради чего я приехала.
Мы ехали жить в отель дю Шатлэ, что на Королевской площади. Честно говоря, само это название вызывало у меня ужас. Семь лет назад именно здесь я потеряла Луи Франсуа. Теперь мне предстояло пересилить это и здесь жить. Пожалуй, только Маргарита могла бы догадаться о моих чувствах.
Уже смеркалось, когда мы подъезжали к месту, и небо — днем такое серое, свинцовое — приобрело сиреневый оттенок. Карета проехала мимо сквера, окруженного решеткой, ее колеса прогрохотали под колоннами, поддерживающими арки и своды домов; так много лет назад здесь проезжали принц Конде, Нинон де Ланкло, мадам де Лонгвилль — бывшие мои соседи… Я приказала остановиться и вышла из кареты. Я уже видела наш дом — большой, окруженный вековыми липами, расположенный между отелями де Шолн и де Роган. Когда-то в юности, проезжая мимо, я и подумать не могла, что этот дом станет моим домом, а Александр дю Шатлэ — моим мужем.
Накрапывал дождь. Под арками зажигались фонари и вспыхивали, озаренные низким красным солнцем, трубы.
— Здесь хорошо, — пробормотала Аврора, подходя ближе.
— Да, — подтвердила я. — Здесь хорошо.
Я пешком, перепрыгивая через лужи, подошла к дому и сильно постучала. Дверь мне открыла служанка.
— Слушаю вас, — сказала она сурово.
— Я — мадам дю Шатлэ.
— Вы приехали повидать господина Риджи?
— Я приехала сюда жить.
Она, видимо, даже не слышала обо мне. Но я не печалилась. Сейчас я увижу брата, на которого был оставлен дом, и все образуется.
И хотя я впервые переступала порог этого дворца и все здесь было для меня чужим и необычным, я сказала, оборачиваясь и обращаясь к Авроре:
— Девочка моя, мы приехали домой.
2
Первую ночь под крышей этого дома я провела без сна. Тысячи мыслей осаждали меня, бились в мозгу. Я лихорадочно садилась на постель, охваченная одной-единственной заботой: как вернуть Александра.
Я не видела его три месяца, с тех пор как переворот 18 фрюктидора заставил его вновь уехать в Англию. Это случилось внезапно и застало меня врасплох. Еще вчера я была счастлива и уже сегодня осталась одна — именно так все это и произошло.
Мы строили столько планов, мы о многом мечтали. Умеренное большинство, пришедшее к власти в результате выборов в мае 1797 года, было в оппозиции к Директории и пыталось полностью прекратить репрессии против роялистов. Это давало нам надежду на то, что потепление будет продолжаться, что во Франции наступит мир, что мы сможем спокойно жить в Белых Липах, не опасаясь притеснений и нового террора. На самом деле случилось все не так, как мы хотели.
Избрание Пишегрю председателем Совета пятисот и Барбе-Марбуа председателем Совета старейшин было открытым вызовом Директории — и тот и другой были ее врагами. Враждебное большинство сразу нащупало наиболее уязвимое место: оно потребовало, чтобы Директория отчиталась в расходах. Куда ушло золото, поступившее из Италии? Почему казна всегда пуста? То были вопросы, на которые Директория даже при всей дьявольской изобретательности Барраса не могла дать ответа. Но это было только начало. Советы не скрывали своего намерения вышвырнуть Барраса и его друзей из правительства. Что будет потом? Республика или какая-то переходная форма к монархии? Мнения расходились. Всех объединяло одно; надо гнать «триумвиров», вцепившихся в директорские кресла.
Для Барраса, главного среди директоров, в сущности, важно было только это. Директорский пост — это была власть, великолепные апартаменты в Люксембургском дворце, приемы, оргии и деньги без счета. Мог ли с этим легко расстаться человек, прошедший через все круги ада, скользивший по лезвию ножа, коварный и дерзкий? Медлить было нельзя, И Баррас нашел способ переиграть своих врагов: он обратился к Бонапарту. Он просил его защитить Республику от роялистов, проникших в Советы.
Сам генерал вряд ли был пламенным республиканцем. По крайней мере, диктаторские замашки в его деятельности уже давно наблюдались. Пожалуй, он и в стране ввел бы единоначалие, подобное армейскому, и без особых колебаний задушил бы Республику, но он вовсе не намерен был допустить эту операцию преждевременно, а самое главное, вовсе не желал, чтобы это пошло на пользу кому-нибудь другому, кроме него самого. Поразмыслив над всем этим, Бонапарт выступил в роли спасителя Республики: он послал в Париж своего генерала Ожеро с приказом помочь Баррасу.
Ожеро, едва прибыв в Париж, заявил: «Я приехал, чтобы убить роялистов». Баррас не медлил. 4 сентября десять тысяч солдат окружили Тюильри, где заседали Советы. Начались аресты. Директоры Карно и Бартелеми, противостоявшие Баррасу, должны были быть арестованы. Карно удалось бежать, Бартелеми схватили солдаты. Были аннулированы выборы, смещены высшие чиновники, судьи, закрыты газеты — было уничтожено все, что представляло угрозу для власти «триумвиров». Все это, в сущности, лишь снова доказало, что режим исчерпал себя и может удерживаться, лишь опираясь на армию.
Священников опять обязали присягать в ненависти к королевской власти. Кто отказывался, того ссылали в Вест-Индию. Даже частных лиц теперь обязывали пользоваться непонятным и странным республиканским календарем, к которому никто так и не смог привыкнуть. Было строго приказано всем гражданам праздновать декади, а в воскресенье работать.
В Бретань известие о перевороте пришло вечером 6 сентября. Стало ясно, что уже ночью начнутся аресты, а утром весь департамент будет наводнен синими отрядами. Надо было спешно уезжать. Александр торопливо попрощался со мной, поцеловал маленького Филиппа, оставил все дела брату и вместе с Гарибом ускакал по направлению к побережью.
Уже через сутки после его отъезда повсюду в Бретани были расклеены постановления об объявлении Александра дю Шатлэ вне закона — постановления, ранее благополучно забытые.
Я была просто пришиблена всем случившимся. Снова не было спокойствия в моей жизни, снова она изменялась под влиянием совершенно не зависящих от меня событий. Во мне даже проснулись суеверные опасения по отношению к осени: она всегда приносила мне несчастье. Вот и сейчас — едва пришел сентябрь, и я снова осталась без мужа.
Даже без вестей о нем. Связи с Англией были нарушены, провозить корреспонденцию становилось все труднее. К тому же я знала, что Александр не сидит все время в Лондоне. Он может быть где угодно. С ним может что-нибудь случиться, а я даже знать ничего не буду.
С Жаном дело обстояло немного утешительнее. Он держал данное им слово и писал мне регулярно, раз в неделю, довольно подробно описывая, что с ним происходит. К осени они с дедом вернулись из Митавы в Англию, и Жан был принят в Итон. К сожалению, письма запаздывали и я узнавала о событиях с опозданием в полтора месяца.
Чтобы не быть совсем одинокой, я забрала Аврору из монастыря, но ни Аврора, ни Филипп не утешали меня в том, что мучило меня больше всего. Приближался декабрь — тот месяц, на который мы с Александром возлагали столько надежд. Мы планировали, что перед Рождеством я отправлюсь в Париж и попытаюсь там укрепиться. Попытаюсь напомнить о себе, заявить, что дю Шатлэ живы, обжить давно заброшенный отель. Теперь ехать мне не очень-то и хотелось.
— Есть ли в этом смысл? — спросила я у Поля Алэна. — Теперь все так изменилось.
— Что вы имеете в виду?
— Теперь на нас снова смотрят искоса. К буржуа я ездить не хочу, а знакомых аристократов в Париже у нас мало. К тому же как посмотрят на мой приезд власти?
— Они не посмеют вас тронуть. Не трогали же они вас здесь.
— Да, потому что мы живем в глуши и ничем о себе не напоминаем. Как бы мне моим приездом не повернуть дела в худшую сторону… Не дай Бог, якобинцы пожалеют о своей забывчивости и захотят отобрать наш отель.
Поль Алэн качнул головой.
— Я ни на чем не настаиваю, мадам. Хотите ехать — поезжайте. В вашей личной безопасности я уверен. Мне кажется, появиться в Париже — это было бы нелишне.
Я его мнения не разделяла. Мне поездка казалась бессмысленной. В Бретани и то на нас обрушиваются бедствия. Чего же ждать от жизни в Париже, у всех на виду?
Констанс, видя мое уныние, все время пыталась меня развлечь, а однажды, когда мы гуляли по парку, выпалила:
— Если уж вы никак не способны утешиться, что же вы сидите сложа руки и ждете?
— Но что я могу? — воскликнула я с досадой. — От меня ничего не зависит!
— Вы хотите вернуть мужа? Хотите, чтобы он мог жить с вами?
— О, я и не мечтаю о таком. Я была бы счастлива, если бы с него просто сняли объявление вне закона. Тогда бы он, по крайней мере, мог приезжать… и я не боялась бы, что его расстреляют в двадцать четыре часа, если схватят.
Помолчав, я раздраженно произнесла:
— Но к чему говорить об этом? Все это только мечты!
— Да, конечно, потому что вы бездействуете.
— От меня ничего не зависит, повторяю вам, Констанс.
— Неправда! — сказала она горячо. — Вы ведь и не пытались что-то изменить… Поезжайте в Париж! Знакомьтесь с чиновниками, министрами, директорами. Вы могли бы поговорить даже с Баррасом, если бы захотели. У вас есть деньги — пользуйтесь ими как доводом!
Я замерла на месте, глядя на нее с полуоткрытым ртом.
— Вы имеете в виду… взятки?
— Разумеется! Они же сплошь продажны, это все знают! Вы могли бы чего угодно добиться за деньги!
Эти слова пронзили меня с ног до головы. Ведь это правда! Я могу хотя бы попытаться… И как странно, что Констанс — всегда такая нежная, немного робкая — подсказала мне выход, до которого я не додумалась!
Я стала просто одержима этой идеей, я размышляла о ней день и ночь, составляла план действий. Полю Алэну открывать свои намерения я не собиралась: он бы сразу встал на дыбы, если бы услышал о том, что я отправлюсь просить чего-то у синих. Он даже ради брата на это был не способен. «Ну и черт с ним! — подумала я, досадуя на него. — Я сама все сделаю, сама! Я никому ни слова не скажу!»
Лишь Аврора и Ренцо поедут со мной: Аврора — потому, что ей следовало узнавать мир, а Ренцо надо было повидаться с родителями. И близняшек, и Филиппа я оставляла дома, под присмотром Маргариты.
И наконец, уже уезжая из Белых Лип, я вспомнила о Морисе де Талейране, большом вельможе при Старом порядке и министре иностранных дел при Республике. Он отщепенец, предатель, это так. Но он аристократ. Он, по-видимому, первый, к кому следует обращаться. К тому же я слышала, что он взяточник.
Пожалуй, даже когда мне было шестнадцать и я ехала в Версаль, чтобы быть представленной ко двору, я не покидала Бретань с таким нетерпением.
3
Карета въехала во двор отеля на улице Варенн и покатила по аллее, контуры которой подчеркивались бордюром из кустов самшита. Волнуясь, я теребила маленькую сумочку. Ради сегодняшнего дня я приложила все усилия, чтобы выглядеть привлекательно, и добилась своей цели, но сердце у меня все равно ёкало. Ведь от предстоящей встречи зависело буквально все.
Лакей в серой с малиновым ливрее бросился к карете.
— Мадам дю Шатлэ? — осведомился он почтительно.
— Да. Мне назначено на полдень.
— Господин министр ждет вас.
Лакей помог мне выйти и проводил в роскошный вестибюль, где руки горничной приняли мой плащ. Я оглядела себя в зеркале. Узкое изящное платье из тафты медового цвета сидело на мне безукоризненно, черные глаза сияли даже сквозь чуть приспущенную золотистую вуаль. А уж шляпа — это было произведение искусства: широкополая, из мягкого светлого фетра, с пышными перьями цапли и алмазом на тулье. «Пожалуй, мне идет нынешняя мода, — подумала я. — Хотя раньше я очень тосковала по фижмам и кринолинам Старого порядка».
— Прошу вас, мадам дю Шатлэ.
«Мадам», «господин министр»… Талейран, похоже, продолжал жить так, как было принято при Людовике XVI. Он даже лакеев одел в ливреи цвета своего герба, хотя наверняка знает, что это запрещено. Ну а если не запрещено, то зазорно для министра Республики.
И все-таки как с ним разговаривать? Какой подход к нему найти? Он слыл умнейшим человеком в Европе. Большим насмешником. И конечно, взяточником. Но как предложить ему эту взятку? Нельзя же просто вывалить перед ним деньги. Опыта у меня никакого не было. При дворе Людовика XVI я много слышала об этом подающем надежды прелате, епископе Отенском (впоследствии он охотно отказался от своего духовного звания), но сама с ним никогда не встречалась — стало быть, не могла опираться на прежнее знакомство. Оставалось надеяться, что хоть отца моего он знал.
Лакей распахнул дверь кабинета, и мысли мои прервались.
Передо мной стоял высокий худой человек лет сорока пяти. Безупречный покрой сюртука, впрочем, позволял скрывать худобу. Лицо Талейрана — бесстрастное, умное — красотой не отличалось: тяжелые веки, чуть впалые щеки, не слишком приятный взгляд синих глаз из-под нависших бровей. Выпяченная и слегка отвисшая нижняя губа придавала лицу выражение дерзости и даже, может быть, нахальства. Он стоял заложив руки за спину и пристально смотрел на меня.
— Э-э… — произнес он наконец. — Так вы мадам дю Шатлэ?
— Да, — подтвердила я.
— Позвольте, а вы не родственница того маркиза дю Шатлэ, которого казнили во время террора?
— Если и родственница, то только по мужу, сударь.
— Как же вас звали в девичестве?
— Сюзанна де ла Тремуйль де Тальмон.
Взмахом руки он предложил мне сесть.
— Вы богаты? — последовал неожиданный вопрос.
«Аристократ, — подумала я рассеянно, — должен знать, что спрашивать о таком неприлично. Просто невежливо». К тому же начало встречи очень смахивало на допрос.
— Что… что вы имеете в виду?
— Я хочу знать, не из тех ли вы дворян, у которых гораздо больше благородных предков, чем звонких монет в кармане.
Я была поражена. И, честно говоря, не знала, как отвечать.
— Не думайте, что я питаю неприязнь к таким аристократам, — произнес он. — Я сам из таких. Ну так что же, мадам, вы богаты?
Перечислять то, что мы имеем, было бы глупо. Я улыбнулась и ответила так же дерзко, как дерзок был его допрос:
— Если то, как я одета, ничего не сказало вам, сударь, сделайте два шага к окну и поглядите вниз — там стоит моя карета. Она, я полагаю, разрешит ваши сомнения.
Талейран какой-то миг молча смотрел на меня. Потом улыбка тронула его губы.
— Мне думается, мадам, я знаю, почему вы приехали. Едва прочитав ваше письмо, я навел справки.
— Я хочу хлопотать за мужа.
— Да. Я понял. Счастливчик он, этот ваш муж.
Быстро взглянув на меня, он спросил:
— Могу я узнать, чем обусловлен ваш выбор?
— Выбор чего?
— Выбор меня, мадам. Как посредника в этом деле. Вы же знаете, что я отвечаю лишь за внешние сношения Республики.
— Ну, я думаю, это не так, господин министр. Мне кажется, сфера вашего влияния куда обширнее.
Поразмыслив, я честно добавила:
— Конечно же, я пришла к вам потому, что между нами есть хоть что-то общее. Когда-то мы были представителями одного и того же сословия.
— Были? — Его брови поползли вверх. — Уж не хотите ли вы сказать, что я потерял право быть дворянином?
Я поняла, что сказала лишнее. То есть я сказала правду, но говорить ее не стоило… Что было делать? Как выпутаться? Солгать? Я не произносила ни слова. И как меня угораздило задеть Талейрана?
— Ну, так что же вы молчите? Сударыня! Вы полагаете, что я предал своих друзей?
«Поль Алэн был прав, — подумала я с горечью. — Любое обращение к этим революционерам сопряжено с унижением». На миг мне стало очень больно: я полагала, что уже потеряла всякую надежду найти помощь, во всяком случае в этом доме. Но солгать я тоже не могла. Мои губы резко и внятно произнесли:
— Да, сударь.
Я была уверена, что он выставит меня за дверь. Я просто в глаза назвала его предателем. Талейран невозмутимо смотрел на меня.
— Видите ли, сударыня… Друзья… э-э, друзья ведь только для того и существуют, чтобы предавать их. Или чтобы они предавали вас. Не так ли?
Его тон — сдержанный, даже холодный — навел меня на мысль, что сейчас он мне откажет. Я поднялась с места. Талейран поднял на меня глаза и, будто не заметив того, что я стою, произнес:
— Вы взялись за очень трудное дело, мадам. Нельзя сказать, что в Париже любят вашего мужа. Он мятежник. Да и ваше имя каждому напоминает о том, сколько услуг вы оказали королеве. Так что будьте благоразумны, не говорите никому, кроме меня, о том, как вас звали в девичестве. Пусть вас знают только в вашем новом качестве.
Воцарилось молчание. Я поняла уже, что разговор не закончен и что Талейран не намерен прощаться со мной. В этот миг в кабинет тихо вошел лакей. На стол перед нами был водружен поднос с дымящимся кофе, сыром и сладким печеньем.
— Что вы стоите, герцогиня? Садитесь, прошу вас.
Лакей удалился. Я снова села. Талейран, будто решив поухаживать за мной, сам принялся разливать кофе.
— Вам сливки? Лимон? Сколько сахару?
— Одну ложечку, спасибо, — пробормотала я.
Занимаясь всем этим, Талейран уже не смотрел на меня так пристально, как прежде, и я решила воспользоваться этой минутой. У Талейрана на столе лежала раскрытая толстая книга, я сунула под нее изящный вышитый кошелек с двадцатью тысячами ливров и быстро отдернула руку. Ну вот, наконец все сделано… Румянец залил мне щеки, я поглядела на Талейрана и перевела дыхание, убедившись, что он ничего не заметил. Слава Богу, самое трудное позади.
— Тогда, когда я спросил вас, богаты ли вы, мною руководило не любопытство. И даже не жадность, как вы, вероятно, подумали.
Он посмотрел на меня чуть насмешливо, но насмешка эта не была злой. Скорее, ласковой, и это меня приободрило. Я начинала испытывать симпатию к этому человеку. Даже его циничные выпады не производили на меня неприятного впечатления.
— Едва вы вошли, я прочитал у вас на лице твердое желание довести дело до конца. А чтобы сделать это, вам придется потратить немало средств. Вот почему вы должны быть богаты. Увы, деньги правят миром. А уж Францией и подавно.
— Вы… вы думаете, — спросила я с надеждой, — что деньги это все? Больше от меня ничего не потребуется?
Он на пальцах пересчитал:
— Вам потребуются: деньги, терпение и очарование.
— Вот как? — Я заулыбалась. — Очарование тоже?
— В большей степени, чем вы думаете.
— Надеюсь, до известных пределов?
— Не могу вам сказать. Вы это увидите сами. Впрочем, это зависит еще и от того, до какой степени вы намерены жертвовать собой. Ради мужа.
— Я… я очень многим готова пожертвовать, — проговорила я. — Скажите, господин Талейран, чего я могу добиться?
— Я вам обо всем расскажу. Я согласен быть посредником. И даже советчиком. Причем, — он поставил чашечку на стол, — я могу вам сказать очень искренне, что вы можете мне доверять.
Складка между его бровями разгладилась. И если у меня еще оставались сомнения на его счет, то сейчас они исчезли. Он действительно не обманывал меня. Он был готов помочь.
— Ах, господин Талейран, я с таким трудом верю в удачу! У меня были надежды на вас, это правда… но я даже предположить не могла…
— Что человек, предавший короля и аристократию, способен помочь? Ах, мадам, не всегда следует верить слухам.
— Порой слухи характеризуют вас с лестной стороны, господин де Талейран.
Он улыбнулся.
— Возможно… Однако даже эти слухи не скажут, что я сентиментален. А тем не менее это так. Меня мучает ностальгия, сударыня. Тоска по старым временам. По королю. Вам, пожалуй, это чувство знакомо…
— Да. Старые времена были вовсе не плохи для нас. Да и Людовик XVI желал Франции только добра.
Талейран несколько раздраженно произнес:
— Людовик XVI всю жизнь хотел только добра и всю жизнь делал только зло. Именно он вдребезги разбил аристократию. И мы с вами сейчас, мадам, — всего лишь жалкие осколки. Мы можем стать мятежниками, как ваш муж… или приспособиться к новой власти, как, например, я, но мы чужие в новом времени. Оно не для нас. И тоска, — сказал он с усмешкой, — тоска — это отныне вечное наше проклятие.
Жалкие осколки… Так ли это? Его слова задели меня. Нет, он не прав. Он сравнивает себя с нами, а этого делать нельзя. Нас притесняют, но мы ничему не изменили. У нас нет в душе того разлада с совестью, как у него. Нам нечего стыдиться. Мы живем, может быть, во вражде с властью, но в согласии с самими собой.
Талейран резким движением подался ко мне.
— Ну, а теперь поговорим о том, что вам следует делать.
Его советы разъяснили мне мою задачу. Мою стратегию и тактику. Следует пожить в Париже, побывать на приемах. Он, Талейран, окажет мне в этом содействие. Не стоит брезговать новым буржуазным светом. Полезно завести важные знакомства. Дело продвигаться будет медленно, потребует терпения и затрат — из этого я поняла, что расчеты мои были правильны, что мне придется задержаться в Париже до самого лета. Люди, в руках которых судьба моего мужа, — это военный министр Шерер и, конечно же, сам Баррас.
— Им и придется платить, — повторил Талейран. — Я сведу вас с ними.
— Нет слов, как я вам благодарна, господин министр.
— Благодарить пока не за что. Еще ничего не сделано.
— Нет. Сделано. Я уже получила надежду. Теперь меня ничто не остановит.
Он улыбнулся.
— Любопытно было бы взглянуть на этого человека, вашего мужа… ради которого вы так стараетесь. Впрочем, о его подвигах я уже наслышан. Безумный он человек.
— Безумный?
— На мой взгляд, ни одна идея не стоит разлуки с вами. Если чудо свершится и он вернется к вам, первое, что вам надо сделать, — это дать ему хорошенько понять, что вами следует дорожить.
Когда я, распрощавшись с министром, уже спускалась по парадной лестнице и лакей сопровождал меня, холодный голос окликнул меня:
— Мадам дю Шатлэ!
Я остановилась. Талейран, прихрамывая, — я только сейчас заметила, что он хромой, — спустился на несколько ступенек.
— Вы забыли, мадам.
С этими словами он протянул мне мой вышитый кошелек.
Кровь прихлынула к моему лицу. Дрожащими пальцами я взяла то, что теперь превратилось в источник моего стыда и смущения. Я едва смогла пробормотать:
— Да-да, я так забывчива…
— Неприятный недостаток, мадам. Он может привести к большим убыткам. Не все возвращают то… э-э, то, что забыто.
Голос его прозвучал лениво и чуть небрежно. Мы еще раз раскланялись, и я пошла к выходу, вне себя от смущения.
…Даже вернувшись домой, я еще долго не могла опомниться. Конечно, я неопытна в такого рода делах, но уж мою глупость никак объяснить нельзя. Как я могла вообразить, что Талейран так прост? Взяла и сунула ему двадцать тысяч! Может быть, Талейран и взяточник, но взяточник изысканный… не какой-нибудь продажный чиновник из министерства. Я должна была поступить тоньше, деликатнее. В том, что отблагодарить его необходимо, я не сомневалась. Вот только надо учиться находить к людям верный подход.
Поразмыслив, я достала свою шкатулку с драгоценностями и долго перебирала их. Из Белых Лип я привезла богатейшую коллекцию великолепных изумрудов — пожалуй, в Европе было не много таких. Я выбрала среди них самый лучший — десятикаратный травянисто-зеленый камень изумительной чистоты. Потом села к бюро и набросала несколько строк:
«Господин де Талейран, я наслышана о вашей коллекции драгоценных камней. Если этот скромный изумруд хоть в малой степени обогатит ее и сделает вам приятное, я буду искренне рада. Не лишайте меня этой радости. Это лишь малая благодарность за то, чем я вам обязана».
Я позвонила. На зов явилась горничная.
— Эжени, немедленно разыщите ювелира. Мне нужен изящный футляр для камня.
Все это, включая и футляр, было отправлено в дом министра следующим утром. Я ждала, ждала… Кто мог бы предугадать реакцию Талейрана?
Изумруд стоимостью по меньшей мере сто тысяч франков не вернулся.
4
Отныне я жила, ожидая указаний Талейрана, и, помня о его совете заводить знакомства, решила каждый день куда-нибудь выезжать: то в театр, заказывая заранее одну из лучших лож, то в Булонский лес для прогулок верхом, то в Сен-Клу. Всюду меня сопровождала Аврора. Правда, особенных знакомств я не завела — если не считать нескольких не слишком важных персон, которые пытались за мной ухаживать и от которых я быстро избавлялась, — но, по крайней мере, я была на виду и могла краем уха слушать сплетни. С визитами я пока не ездила, хотя и успела узнать, что в Париже живут несколько знакомых мне аристократок, которые каким-то образом связали свою жизнь с буржуа. Так, на мой взгляд, совсем бесцельно шли дни, но я вспомнила второй совет Талейрана: терпение — и успокоила себя этим.
Понемногу обретал свой прежний блестящий вид отель дю Шатлэ. Семья Джакомо, поселившаяся здесь, не нуждалась во всей его огромной площади и занимала лишь несколько комнат на первом этаже и кухню. Остальные апартаменты были закрыты, мебель была затянута в чехлы — словом, все оставалось точно таким же, каким было после последнего визита сюда старых герцога и герцогини, родителей Александра. Джакомо нанял лишь одну служанку в помощь Стефании, но этого было явно недостаточно для полнокровной жизни дома. Едва приехав, я стала набирать штат прислуги. Когда армия лакеев и служанок была собрана, они принялись приводить в порядок все комнаты дворца.
К Рождеству он сиял, как новенькая игрушка, и в нем было бы не стыдно принять самое блестящее общество.
Семья моего брата жила в согласии, как и прежде. Джакомо, которого все теперь называли не иначе как «господин Риджи», даже внешне стал выглядеть лучше. Он ходил теперь в сюртуке и галстуке, у него была изящная трость, редингот и строгая высокая шляпа — всем своим видом он напоминал учителя. Прожитые в нищете годы стали причиной того, что волосы его поредели и побелели уже в сорок лет, но теперь, выбритый, прилично одетый и надушенный, он выглядел весьма импозантно. Даже в его походке появилось что-то уверенное, более смелое, раскрепощенное. Всем своим видом он внушал почтение.
Я знала, его тревожит нынче только одно: то, что Флери исчезла, как в воду канула. Полиция либо не хотела, либо не могла ее отыскать. Опасаясь за младшую дочь, пятнадцатилетнюю Жоржетту, он теперь почти не выпускал ее из дому, особенно боясь посылать ее в лавки. Флери увезли именно из цветочного магазина. Так что за покупками ходила или служанка, или Стефания.
Жоржетта если и была огорчена этим, то виду не показывала. Она вообще казалась не по возрасту угрюмой и нелюдимой девушкой. Привлекательностью сестры она не обладала. Невысокая, плотно сбитая, с чуть нахмуренными бровями и волосами, беспощадно стянутыми назад, она почти все время молчала, а если и говорила, то односложно. Книги ее не занимали. Она возилась на кухне с матерью и ничего другого не требовала.
Я пыталась немного преобразить ее, заказала ей несколько красивых платьев, но она так дичилась и не проявляла никакого интереса к этому, что я оставила свои попытки. В конце концов, не все созданы для того, чтобы пленять, блистать и очаровывать.
А Аврора… Вот кто расцветал с каждым днем и час от часу становился краше. Жизнь в столице действовала на нее так же ошеломляюще, как на меня когда-то Версаль. Она хотела бы везде побывать, всех увидеть, со всеми пококетничать. За ней многие пытались ухаживать; она такие попытки воспринимать еще не умела и краснела от каждого комплимента, но румянец на ее щеках и смущение в фиалковых огромных глазах были так привлекательны, что я даже побаивалась за нее. Лишь бы она не совершила глупость! Мне было слишком хорошо видно, что ей очень-очень нравятся знаки мужского внимания.
Я не хотела ее ограничивать и стеснять ее свободу, но взяла за правило всякий раз, когда она хотела поехать на прогулку, отвечать:
— Подожди, дорогая, я поеду с тобой.
Между нами была полная гармония. Она прислушивалась к любому моему совету, следовала всем замечаниям — особенно тем, что касались ее гардероба. С тех пор как у модисток ей были заказаны наряды, в комнате Авроры все стояло вверх дном: платья, чулки, шляпные коробки, ленты валялись повсюду. Она то и дело бегала ко мне с вопросами:
— Мама, голубая лента будет хорошо смотреться на шляпе, которую я надену завтра?
— Мама, пойдет ли мне чепчик, в каком мы видели мадам Рекамье?
— А перчатки? А кружева? А шаль? Она непременно должна быть из кашемира!
Однажды, когда мы собирались в Оперу, она вошла в мою туалетную комнату и спросила, можно ли ей для сегодняшнего выезда сделать высокую прическу, как у взрослых женщин.
— Право, мне кажется, не стоит, — сказала я. — Тебе ведь нет еще и шестнадцати. Тебе слишком рано, Аврора.
— Ну, мама, пожалуйста!
Она, быстрым движением собрав волосы, подняла их вверх и, залившись румянцем, посмотрела на меня; при этом она до того похорошела, что я растеряла все слова для отказа.
— Хорошо, но это лишь один раз, — сказала я, сдавшись. — Честное слово, не знаю, что мы будем делать, если к тебе кто-нибудь посватается.
Она ответила — важно, как в парламенте:
— Мы будем рассматривать предложения в порядке поступления, мама.
Что я могла ей сказать? Она выросла. Скоро она станет совсем взрослой и самостоятельной.
Рождество прошло очень по-домашнему. Этот праздник, мирный, светлый, радостный, помог мне найти общий язык даже со Стефанией. Мы полностью простили друг другу все обиды, Моя невестка, немного оправившаяся от тягот прежней жизни, стала хоть чем-то напоминать молодую мадемуазель Старди, мою гувернантку. Рождество она встречала в платье приятного сиреневого оттенка, и, глядя на нее, разрумянившуюся, радостную, с весело сверкающими голубыми глазами, я подумала, что и она еще может быть привлекательна… и что деньги, достаток, благополучие обладают волшебной силой порой избавлять человека даже от таких пороков, как сварливость, злопамятность и обидчивость.
Перед Новым годом, устав от предпраздничной суеты, я отдыхала в мягком кресле-шезлонге и просматривала почту. Покончив со счетами и письмами, я взялась за газеты. Все они были республиканские, и все кричали о победах Бонапарта: о пользе покорения Италии, унижении Австрии…
Кроме этого, сообщалось, что Институт внес генерала в список «бессмертных». Надо же, за то, что человек лучше других умеет убивать и разорять итальянские города, его делают академиком!
Статьи все еще пестрели упоминаниями о том, как торжественно встречала Директория генерала в Люксембургском дворце, и это была ложь, потому что я знала, что эта церемония — сплошное лицемерие. Тогда все будто следили друг за другом. Да и чего иного можно было ожидать? Ни для кого не секрет, что директоры ненавидят Бонапарта, а он — директоров. Просто удивительно, как эти газеты ухитряются восхвалять и его, и их. Кроме того, и самим газетам не позавидуешь — недавно их было закрыто аж шестнадцать. Был установлен надзор над печатью, театрами, повсюду проводились домашние обыски, ссылки, повсюду вскрывали письма — словом, налицо были все атрибуты полицейского режима. Об этом, разумеется, не упоминали, но это было всем известно.
Еще я узнала, что установлен новый поразительный налог — налог на окна и двери, исчисляемый в зависимости от внешнего вида жилищ… Поистине там, наверху, — сплошные безумцы. О подобном налоге еще со времен средневековья никто и не слышал.
И тут я заметила в конце страницы следующие строки:
«Национальное агентство прямых налогов имеет честь объявить…»
Глаза у меня расширились. Резко подавшись вперед, я склонилась над газетой и быстро прочла объявление. Потом газета выпала из моих рук, и я откинулась назад, сжимая виски пальцами.
Это было сообщение о том, что 5 января 1798 года, в пятницу, в полдень, состоится продажа так называемого «национального имущества». К нему в этот день были отнесены отель де Санс, отель Карнавале и отель на Вандомской площади.
Этот последний был когда-то моим. Именно там я жила до первого замужества, там испытала волнение перед первым своим появлением в Версале.
«Так, значит, он еще не продан, — подумала я тупо. — Он конфискован у меня, но еще никому не продан. Кто бы мог вообразить? Целых шесть лет прошло, а он еще остается собственностью государства».
Я снова склонилась над газетой и прочла о том, что, вероятно, будет много покупателей — банкиров, финансистов и поставщиков. Да, у них это теперь в моде — покупать незаконно конфискованные дома и жить в них. Слова о «банкирах и финансистах» навели меня на мысль об одном банкире — Рене Клавьере. Впервые за все время пребывания в Париже я вспомнила о нем, и ярость переполнила меня.
— Мерзавец! — пробормотала я в бешенстве. — Можно не сомневаться, что он будет на торгах. Да еще и переиграет всех!
Ну, нет… Я должна бороться. На этот раз я не сдамся так легко. Теперь не август 1792 года, когда меня могли убить лишь за то, что я назову свое имя, и когда у меня не было ни гроша, чтобы противостоять Клавьеру. Теперь многое изменилось. Ах, мне лучше умереть, чем дать ему снова насладиться моим поражением, снова восторжествовать. Я должна что-то предпринять. Непременно.
Но как? Меня охватило волнение. Я ведь и сейчас не могу открыто выступить на торгах. Если я туда явлюсь, это будет для Клавьера вызовом. Своим появлением я подстегну его азарт. Он не постоит за ценой; предложит самую фантастическую сумму, лишь бы иметь удовольствие посмеяться надо мной. С влиятельнейшим банкиром Франции и даже Европы я не могла состязаться. Это было бы безумием. Вести войну с открытым забралом равнозначно поражению. Но что же тогда делать? Что можно придумать в этой ситуации?
— Впрочем, какая разница! — яростно прошептала я. — Первое, что я должна сделать, — это найти деньги! Много денег! Об остальном я подумаю потом!
Денег-то как раз и не было. То есть они были, но не при мне. Из Бретани я увезла достаточную сумму, но гардероб Авроры и восстановление дома немалого стоили. А сейчас мне надо было располагать очень значительным количеством денег. Это не шутка. И послать за ними в Белые Липы я тоже не могу — торги назначены на 5 января, ни один человек не сможет преодолеть такое расстояние туда и обратно за пять дней. Стало быть, надо искать выход в Париже.
Надо найти деньги… А потом найти человека, который заменил бы меня. Подставное лицо, которое не вызовет подозрений у Клавьера. Господи, если бы только мне это удалось!
Я лихорадочно ходила из угла в угол, ломая руки. Вопросов было много, но ни на один я не находила ответа. Положение казалось мне безвыходным. Я уже готова была предаться отчаянию, сесть и заплакать, как мой взгляд остановился на ларце с драгоценностями.
— Мои изумруды!.. — выдохнула я облегченно.
Да, целая коллекция, привезенная из Голконды и подаренная мне Александром… Он хотел, чтобы я отдала их в отделку, чтобы ювелиры сделали для меня великолепный изумрудный гарнитур. Что ж, с этой мечтой придется распрощаться. Я готова пожертвовать и большим, лишь бы не видеть Клавьера хозяином того дома. Достаточно и особняка на площади Карусель — я всегда бываю унижена, когда проезжаю мимо него и сознаю, что там хозяйничает Клавьер. Да еще и перестраивает его.
Боже мой, как мне хотелось, чтобы поскорее наступил Новый год, а особенно — следующее утро. Я так хотела начать действовать.
5
Было еще совсем рано, когда я приехала на улицу Сантонж, в респектабельное заведение известного ювелира Гюстава Бонтрана.
Я сразу заявила, что желаю соблюдать полное инкогнито. Никаких имен, никаких лишних вопросов. Гербы на моей карете были скрыты под слоем краски. Я была в черном строгом наряде, который не позволял судить о том, насколько я богата. Темная вуаль была так густа, что даже я, глядя в зеркало, своего лица не различала, а шляпа была надета так, что никто не смог бы догадаться о цвете моих волос.
Клавьер ни за что не должен знать, что я что-то продавала и нуждалась в большой сумме денег. Лучше, если бы он вообще не слышал о том, что я в Париже. Пусть никакие вести обо мне не тревожат его, не возбуждают подозрений — это было залогом моего выигрыша.
Ювелир принимал меня сам и был вежлив и предупредителен. Я показала ему изумруды, и он долго изучал их.
— Что ж, — заявил наконец Бонтран. — Если эти камни еще хорошенько почистить, им цены не будет.
— Как вы думаете, сколько я могу получить за них?
— Полтора миллиона, сударыня.
Поглядев на меня из-под очков, Бонтран сказал:
— Я бы купил их у вас за эту сумму.
Сама я полагала, что изумруды стоят тысяч на сто дороже, но перечить не стала. У меня теперь было другое условие.
— Здесь не хватает главного камня, сударыня. Так сказать, венца…
Я прервала его:
— Мэтр Бонтран, мне нужны деньги немедленно.
— Я не заставлю вас ждать. Я передам вам деньги через неделю.
— Вы не поняли. В моем распоряжении нет недели, нет даже пяти дней.
— Чего же вы хотите?
— Я хочу получить деньги самое большее через три дня.
— Утром четвертого января?
— Да.
— Я смогу дать вам ответ через минуту.
Он аккуратно сложил камни в футляр, отдал его мне и с поклоном удалился, попросив меня подождать. Я опустилась в кресло, задумчиво подперла подбородок рукой. Потом поглядела на часы. Хоть бы он поскорее возвратился! Лихорадка нетерпения просто сжигала меня. Я чувствовала, что успокоюсь только тогда, когда буду иметь в своих руках эти самые полтора миллиона.
Большой зал блестящего ювелирного магазина понемногу оживал. Появлялись посетители, все как на подбор одетые богато, но слегка безвкусно. Буржуа, решила я. Новые хозяева. Равнодушно следя за ними глазами, я подумала, что, если Бонтран не сможет выполнить мое условие, еще не все потеряно. Я отправлюсь к другим ювелирам. У кого-нибудь мне повезет.
Мое внимание невольно привлекла молодая дама в теплом меховом манто и высокой шляпке с перьями. Она была одета безупречно, и это заинтересовало меня. Я инстинктивно почувствовала в ней свою. Дверь перед женщиной распахнул служащий магазина. За дамой шла горничная. На миг они остановились посреди вестибюля и о чем-то перемолвились, потом хозяйка направилась к витрине. Через миг я увидела, что она беседует с приказчиком и поглядывает на меня так же заинтересованно, как я только что поглядывала на нее.
Кто она? Аристократка? Может быть, даже моя знакомая? Женщина, как и я, была под вуалью, конечно, не такой густой, как у меня, но увидеть ее лицо издали было трудно.
— Мадам!
Этот голос вывел меня из задумчивости. Подняв голову, я увидела рядом с собой служанку заинтересовавшей меня женщины.
— Что такое?
— Мадам, моя госпожа спрашивает, действительно ли вы собираетесь продавать изумруды.
Несколько удивленная, я подтвердила это.
— И правда ли то, что эти изумруды из самой Индии, из Голконды?
— Да.
— В таком случае, мадам, моя госпожа очень хотела бы взглянуть на них. Она бы могла заплатить немного больше, если бы ваши изумруды подошли ей.
— Да, но меня ждет разговор, и сейчас ко мне выйдет мэтр Бонтран. Боюсь, я…
Я посмотрела на даму, стоявшую у витрины. Что-то подсказало мне не отказываться от предложения. В конце концов, это лишь увеличит мои шансы на удачу.
— Как имя вашей госпожи?
— Ее зовут мадам Брюман.
Я качнула головой. Вот как… Брюман! Это имя принадлежало одному довольно известному коммерсанту, владельцу многочисленной недвижимости в Париже, ресторанов, игорных домов и пансионов.
— Передайте вашей хозяйке, что я согласна поговорить с ней.
Мадам Брюман приблизилась, поклонилась, и я приветливо кивнула ей. Когда она садилась рядом, на меня повеяло свежим ароматом лилий. У нее и в отношении духов был неплохой вкус.
— Понимаю, что мое предложение неожиданно, — сказала она, улыбаясь чуть виновато. — Но я так мечтала об изумрудах… о настоящих «индийцах». Это такая редкость.
Я машинально передала ей футляр, а сама уже чувствовала, как холодеют у меня руки. Она сидела чуть наклонив голову, в профиль ко мне, а ее вуаль была достаточно прозрачной, чтобы я могла видеть черты ее лица. Смуглая кожа, большие карие глаза с янтарным оттенком. Вьющийся черный локон касается щеки, в мочку уха вставлена неяркая бриллиантовая сережка.
Я узнала ее. Теперь я не сомневалась. Я знала, почему с первого же взгляда она завоевала мое внимание. Мы ведь были знакомы. Мы пережили вместе самые жестокие испытания: штурм Тюильри, ужасы сентябрьских дней 1792 года. Подумать только, она стала мадам Брюман, сменила свое имя… И какое имя — Валентина де Сейян де Сен-Мерри!
Я давно взяла себе за правило никого не судить. Да и откуда мне было знать, что приключилось с Валентиной за эти годы, каковы были обстоятельства ее жизни. Всякое могло случиться. Женщины чаще всего становились жертвами этой многолетней смуты, но не каждая женщина смирялась с этим. Иные предпочитали измениться, чем погибнуть. И не всем же аристократкам повезло на встречу с Александром.
Она восхищенно разглядывала камни.
— Клянусь Богом, мадам, это восхитительно! Через неделю мой день рожденья, муж просил меня подобрать себе подарок. Но что может быть лучше этого?
— А кто ваш муж? — спросила я. — Брюман — это тот самый владелец недвижимости?
— Да, можно так сказать.
— Давно вы замужем?
— Четыре года.
— То есть вы повстречались с Брюманом еще во время террора.
Она взглянула на меня чуть удивленно и ответила уже гораздо сдержаннее:
— Да.
Видимо, ей мои расспросы показались неуместными. Я ведь даже имени своего не назвала. Еще раз полюбовавшись переливами изумрудов в блеске зимнего солнца, мадам Брюман сказала:
— Мне известно, что ювелир предложил вам полтора миллиона франков за эти камни. Если вы будете столь любезны и уступите мне их, я заплачу на сто или двести тысяч больше. Мне еще надо уточнить, какой именно суммой я располагаю.
Я ничего не ответила. Потом подняла вуаль.
— Валентина, это же я. Вы помните меня?
Какой-то миг она непонимающе смотрела на меня, потом чуть зажмурилась, словно хотела проверить зрение, и бледность разлилась по ее лицу. Негромко и очень нерешительно она спросила:
— Сюзанна?
Я кивнула. Она хотела еще что-то сказать, но, похоже, не могла собраться с мыслями, и я, боясь, что меня узнает не только подруга, сжала руку Валентины.
— Ради Бога, молчите. Давайте уйдем отсюда! Нас не должны видеть вместе.
Она ничего не понимала, но послушно поднялась и пошла за мной к выходу. В этот миг за конторкой появился ювелир.
— Мадам, — произнес он мне, — имею честь сообщить вам…
— Нет-нет, — сказала я поспешно, снова опуская вуаль. — Сделка не состоится. Мои планы изменились, мэтр Бонтран.
Я затащила Валентину в свою карету — благо, что она шла за мной послушно, как ребенок, сама захлопнула дверцу и приказала кучеру ехать в самое спокойное и безлюдное место.
— В парк Монсо, может быть? — осведомился он.
— Да, да, именно туда!
Я повернулась к вновь обретенной подруге.
— Вы согласны? Согласны ехать туда?
— Но почему именно туда? — кротко возразила она. — Я бы так охотно пригласила вас к себе!
— Дорогая моя, вы, быть может, удивитесь, но оставаться с вами у всех на виду — это самое ужасное для меня в нынешнее время.
— Почему?
— Потому что мне необходима ваша помощь.
Ничего необыкновенного не было в том, что бывшая мадемуазель де Сейян, чей отец был растерзан за роялизм, чей жених воевал за короля на юге Франции, стала женой буржуа. Это лишь на первый взгляд могло показаться возмутительным. Покинутая всеми, даже мной, Валентина не имела ни денег, ни определенных намерений. 1793 год. То было время, когда Франция захлебывалась в крови. Чтобы выжить, нужно было уметь драться, пускаться в авантюры, изворачиваться. Валентина ничего этого не умела. Комитеты в те дни охотились за всеми, кто своими манерами хотя бы отдаленно напоминал аристократа. Нужно было искать прикрытие. И оно нашлось в лице Жака Брюмана, сделавшего мадемуазель де Сейян предложение. Она стала мадам Брюман, а это имя уже не внушало подозрений. А преуспевающий буржуа лишь потом оценил, до чего удачный сделал выбор: при Директории было ужасно модно жениться на аристократках и украшать свое богатство еще и блеском титула жены — пусть не столь важного сейчас, но приятного для честолюбия.
— Я должна была думать не о чести и даже не о том, что совершаю мезальянс[12],— проговорила Валентина, словно пыталась защититься от моих еще невысказанных упреков. — Я даже об отце не думала. Возможно, это звучит эгоистично, но мне хотелось жить — именно мне…
— Вам незачем оправдываться. Я понимаю вас лучше, чем вы думаете.
Парк Монсо был безлюден сегодня. Погода была чудесная. Даже солнце скупо светило из-за туч. И все же я, опасаясь, что мы находимся слишком на виду, увлекла Валентину в «Лилльскую красавицу», то самое бистро, где мы с Изабеллой еще в ужасные времена Робеспьера пили лимонад. Сейчас нам подали кофе и ванильные пирожные.
Валентина спросила:
— Понимаете ли вы, с кем связываетесь, Сюзанна?
— Кого вы имеете в виду?
— Клавьера.
Я не ответила, ожидая, что скажет по этому поводу Валентина.
— Мой муж дружен с ним. Хотя «дружен» — слишком сильное слово… Клавьер несколько раз обедал в нашем доме. Он до того бесстыден, что осмеливался ухаживать за мной, а через минуту называл Жака «друг мой». Я не люблю этого человека. Он не нравится мне. Я… я даже немного боюсь его. А вы?
— Я знаю его куда лучше, чем вы, Валентина, но нисколько не боюсь. Его надо бить его же оружием — только этим его остановишь. Клавьер коварен, стало быть, я тоже должна стать коварной.
Валентина, немного помолчав, выразила сомнение насчет того, что у нас обеих есть способность к коварству. К тому же она жила со мной, когда мой роман с Клавьером только начинался. Ну, когда он обольщал меня грудинкой, банками кофе, апельсинами и цветами. Пару раз она даже открывала ему дверь.
Я решительно отвергла все эти опасения.
— Он вас не запомнил, Валентина, просто не мог запомнить. Вы понравились ему сейчас, потому что вы расцвели, стали хорошо одеваться… Если бы вы понравились ему тогда, он тотчас бы стал к вам приставать, будьте уверены.
— Но ведь он любил вас тогда.
— Что за чушь! Ему просто было по вкусу сражаться за меня как за приз. Это у него вроде спорта… Разве он намекал вам когда-либо, что знал вас прежде?
— Нет.
— Ну вот видите.
Я усмехнулась, вспомнив слова Валентины о том, что Клавьер пытался добиться ее расположения. Это у него в крови — погоня за аристократками. Ах, до чего же мелкая душа у этого человека! Как он несчастен, должно быть!
— Я рада, что он ухаживал за вами.
— Почему?
— Потому что вы теперь сделаете вид, что меняете свое отношение к нему. Вы подобреете и намекнете, что не прочь приобрести отель на Вандомской площади. Вы попросите его не составлять вам конкуренции.
Глаза Валентины расширились от ужаса.
— Я хотела бы помочь вам, но если…
— Что?
— Если он потребует платы прежде, чем окажет мне эту услугу?
Я вздохнула. Что это за вопрос! Разве я с девочкой разговариваю? Право, как трудно иметь дело со столь добродетельными дамами!
— Валентина, но вы же женщина! Вспомните об этом! Неужто вы не сумеете выпутаться? Немного ласковых слов, пленительная улыбка, уступчивость, неопределенное обещание…
Я с отчаянием добавила:
— В крайнем случае он вас поцелует! Только-то!
— Вам легко говорить. Но я-то никогда не была похожа на вас. Мне бы не хотелось, чтобы меня целовал чужой мужчина. Это грешно.
Я почувствовала, как во мне закипает гнев. Заставляя меня убеждать ее, уговаривать, она поступала не слишком по-дружески. Мне нужна ее помощь, но помощь невозможна без некоторых усилий! Или она хотела бы помогать, не шевеля и пальцем?
С тоской поглядев на меня, мадам Брюман произнесла:
— Совершив все это, я навлеку неисчислимые неприятности на своего мужа. Клавьер не поверит, что это сделано без его ведома. Я причиню вред Жаку, а он так помог мне! Это будет уже дважды грешно.
Я метнула на нее убийственный взгляд. Хотела сдержаться, но не смогла.
— Знаете, милая Валентина, наш разговор кажется мне весьма удивительным… Я не хотела напоминать вам, но, раз уж мы заговорили о грехе и добродетели, я скажу: если бы во время сражения за Тюильри, когда за вами гнались санкюлоты и когда вы бросились ко мне с криком о помощи, я стала размышлять о том, что убийство — грех, и не убила бы ваших преследователей… мне кажется, вы не сидели бы сейчас рядом со мной. Как вы полагаете, дорогая?
Мои слова сразили ее. Она даже слегка отшатнулась, закрывая лицо руками. Я была зла на нее за то, что она заставила себя уговаривать. Когда я защищала ее, мне не нужны были уговоры! И я, не обращая внимания на чувство чести, заставлявшее меня сдерживаться, просто-таки добила Валентину фразой:
— Вам понравились мои изумруды. Я отдам их вам… даже если стоимость дома будет ниже, чем стоимость камней. Впрочем, если вы колеблетесь…
Я резко поднялась, быстро взяла со стола свои перчатки. Валентина схватила меня за руку.
— Бог с вами! — сказала она. — Я согласна. Простите меня. Я забыла, чем вам обязана… Расскажите, что я должна сделать.
Пристально глядя на нее, я села. «Нет, — подумала я. — Это не настоящая подруга. Это не Изабелла… Да и есть ли вторая Изабелла на свете?»
Изабелла, искренне любившая меня, никогда не потратила бы столько слов на объяснения. Да она и не была обязана мне так, как эта… эта мадам Брюман, сидевшая рядом.
Приехав домой, я обнаружила письмо от Талейрана:
«Любезнейшая мадам дю Шатлэ, Вы слышали, вероятно, о том приеме, который я даю в честь генерала Бонапарта. Более трех тысяч человек приглашены ко мне — как говорится, весь свет. У меня будут люди, знакомство с которыми было бы крайне Вам полезно. Буду рад представить их Вам.
Остаюсь Вашим покорным слугой и проч.».
Огорченная донельзя, я села. Как неудачно все сложилось! Как жаль, что Талейран, молчавший так долго, начал заниматься мною именно тогда, когда я скрываюсь от Клавьера. Всего до 5 января мне надо не попадаться ему на глаза. А прием состоится третьего. Могу ли я не пойти? Мне приходилось выбирать: судьба мужа или дом.
Я обязана пойти, это необходимо… Талейран обещает познакомить меня с людьми, которые имеют власть и могут изменить жизнь семьи дю Шатлэ. Вероятно, среди приглашенных будет и Клавьер. Но кто знает, может быть, мне посчастливится не встретиться с ним. Сам Талейран пишет, что на прием приедут три тысячи человек.
А если я и встречусь с Клавьером, это еще не значит, что такая встреча сразу наведет его на мысль о доме. Самое главное — не дать ему понять, что я и Валентина знакомы. Все прочее можно пережить.
6
День 3 января нового года выдался дождливым и сумрачным. К вечеру Париж и вовсе был окутан густым туманом. И все же особняк на Рю-дю-Бак, где находилось министерство иностранных дел и где был назначен прием, сиял иллюминацией: каждый огонек был словно спрятан под защитным колпачком и светил сквозь непогоду. Разливали дымчатый мерцающий свет газовые фонари — невиданная новинка, пришедшая из Англии.
Множество гостей поднималось по широкой мраморной лестнице, расходившейся во все стороны, а я, на миг замерев на ступеньках, подумала, что редко можно встретить особняк такого убранства и роскоши. На фоне белого потолка и голубых стен выделялись посеребренные цветы, фрукты, раковины, струи фонтанов; ниши были затянуты шелком с рисунками Моннуайе, там же стояли вазы с тюльпанами, флоксами, лилиями. Уже была слышна музыка, пожалуй, уже начались и танцы. Мы ведь приехали на два часа позже назначенного.
Лестница закончилась, и огромное золоченое зеркало отразило меня с ног до головы. Я сама невольно залюбовалась собой. На мне было узкое, почти облегающее платье из струящегося алого шелка, яркого, почти цвета пламени, — оно обтекало меня, обрисовывало, резко подчеркивало белизну кожи, пламенело, а на изгибах ткани просто пылало золотом, которым были вышиты пальмовые листья на незаметных вертикальных разводах. Я казалась в этом пламенеющем туалете высокой, но хрупкой и тонкой, как девочка. Кроваво-красными розами были убраны ярко-золотистые волосы. Если не считать цветов, на мне не было украшений.
Аврора тоже украдкой поглядывала в зеркало, незаметно поправляла то локон, то оборку. Она была в наряде из нежно-сиреневого муслина — он окутывал ее фигурку, как облако, и так шел к ее глазам, что от нее трудно было отвести взгляд. Нынче она снова смогла меня уговорить, и ей была сделана взрослая, высокая прическа: темно-русые волосы подняты, чуть завиты и с изяществом сколоты гребнем. Ее тонкая шея, обвитая топазовым ожерельем, казалась благодаря этой прическе лебединой. Да и вся она была необыкновенно мила.
— Я так завидую тебе! — шепнула она. — Ты такая уверенная. А у меня внутри даже холодно становится от волнения…
— Волноваться нечего. Среди публики, которую ты увидишь, большинство людей еще вчера были либо конюхами, либо солдатами. Что-то в этом роде… Ты увидишь, они даже разговаривать правильно не умеют.
Лакей, стоявший у дверей, громко объявил:
— Гражданка дю Шатлэ с дочерью.
Обилие окон и зеркал наполняло светом зал, в который мы вошли. Потолок был покрыт росписями. Бросалась в глаза золоченая резьба — фигурки амуров, короны, рокайли и диски образовывали пышные резные композиции.
Нас встретила любовница Талейрана, мадам Грант, женщина, находившаяся при министре на положении, как говорил граф д’Артуа, «почти что жены». Я уже успела узнать, что ее считают дурочкой, и едва послушав то, что она говорила, согласилась с этим мнением. Мадам Грант не скрывала того, что восхищается сама собой, и была чрезвычайно горда своей ролью на столь важном приеме. Она несколько раз повторила нам, сколько денег было затрачено на создание великолепия, ныне нас окружающего. Натянуто улыбаясь, я поспешила расстаться с ней, сказав, что ее внимания ожидают другие гости.
— Какая она забавная, — сказала Аврора. — Она знает тебя?
— Нет. И я ее не знаю. Я вообще здесь ни с кем не знакома.
Это была правда. Пока мы с Авророй, мило беседуя, шли по залу, я вдруг очень ясно ощутила всю степень нашего одиночества. Аврора говорила, что я выгляжу уверенной. Возможно, это и так, но это только видимость. Внутренне я была растеряна. Я глядела вокруг и не видела ни одного знакомого лица. Люди на балу, честно говоря, были мне слегка неприятны. Я сама была недовольна тем, что замечаю все мелочи: взрывы слишком громкого смеха, развязные манеры мужчин, женщин, одетых в платья, на которые пошло совсем немного ткани… то, что офицеры — республиканские офицеры, разумеется, — даже не отцепили сабли, и те, вероятно, бьют дам и их самих по ногам во время танца… На меня кое-кто поглядывал с явным интересом, но я лишь плотнее сжимала губы в ответ на эти взгляды. Внимание не слишком воспитанных синих было для меня почему-то унизительным. Как они смеют смотреть столь нагло, так, будто я уже обещала им что-то? Лучше бы выучились для начала правильно произносить слова, а не гнусавить, как простолюдины из Сент-Антуанского квартала!
Один из них приблизился, приглашая меня на танец, но я ответила так резко, что он не посмел настаивать. Ну уж нет, танцевать с этими людьми я не буду… Мне вообще казалось предательством то, что я пришла сюда. Конечно, я пришла ради Александра… Ах, поскорее бы объявился Талейран!
Я вовсе не была закоренелой ретроградкой. Я понимала, что прошлого не вернуть. Но, Боже мой, даже при том, что я была готова к миру, годы революции не прошли для меня даром. Эти люди, одетые нынче в шелк и бархат, танцующие котильон, — это ведь те самые люди, что совсем недавно убивали нас! Ни за что! Просто так! Лишь из-за того, что фамилия у меня была не такая, как у них, и я знала своих предков до двадцатого колена!
Я с треском захлопнула веер, и гримаса ярости исказила мое лицо. Мне показалось, что Аврора обращается ко мне.
— Что ты говоришь, дорогая? Прости, я прослушала тебя.
— Мама, погляди, вот тот человек… — Голос ее прозвучал робко. — Он наверняка пригласит меня. Можно?
— Что?
— Можно ли мне танцевать с ним?
Я вздохнула.
— Почему же нет, дорогая? Это только от тебя зависит. От того, нравится ли тебе этот человек.
Аврора упорхнула от меня через две секунды после того, как я произнесла это. Я посмотрела ей вслед, подумала о том, что вовсе не следует внушать таким юным девочкам ожесточение, свойственное мне, и медленно двинулась дальше, машинально разворачивая веер.
Звучала музыка, и, казалось, с каждым новым тактом на меня смотрело все больше и больше мужчин. Я сознавала, как притягательно и ярко выглядит мое пламенеющее платье в этом зале, полном бледных женщин и вульгарных офицеров, и уже сожалела, что надела его. Лучше было бы предпочесть что-то менее заметное. И Талейрана нигде не было видно… Мне вовсе не хотелось пробыть здесь до полуночи, занимаясь поисками министра!
Я приблизилась к киоску и взяла стакан лимонада. Становилось жарко. Аврора не спешила возвращаться. И в тот миг, когда я почувствовала, что начинаю злиться, позади меня раздался голос, который я сразу узнала:
— Вы опоздали, мадам. Я… э-э, можно сказать, я уже начинал досадовать.
Я чуть склонила голову в ответ на поклон Талейрана.
— Мне казалось, что и вы, господин министр, не слишком стремились со мной встретиться.
— Я? Вы полагаете, что после столь восхитительного внимания с вашей стороны я могу быть столь неучтив и забывчив? Похоже, вы крепко меня презираете, госпожа дю Шатлэ.
У него в руках была роскошная, редкой работы табакерка; он открыл ее, собираясь, видимо, нюхать табак, и мне стал виден мой изумруд, вделанный в крышку. Более чудесного украшения для такой красивой вещи и придумать было нельзя. Я поняла, о каком внимании толковал Талейран, и невольная улыбка скользнула у меня по губам.
Талейран, сразу взяв деловой тон, произнес:
— Сейчас я представлю вам человека, который нынче занимает важный пост, но в будущем, несомненно, добьется большего. Вы уж найдите способ поговорить с ним.
— Какое влияние он имеет? Он министр?
— Он из военного министерства. Правая рука военного министра Шерера; именно в его компетенции судьба мятежников — казнить их или миловать…
Взглядом он попросил меня повернуться. Я повиновалась, поглядела и, честно говоря, остолбенела.
Это был Доминик Порри, которого я не видела уже год с лишним. В светлом сюртуке неплохого покроя, белом галстуке, жилете и кремовых кюлотах, с каким-то республиканским орденом на груди, он выглядел весьма солидно. Он вообще внушал уважение — высокий, уверенный в себе. Я даже подумала, уж не заважничал ли он. Его русые волосы были напудрены, чего я не замечала раньше. Он тоже смотрел на меня и тоже был поражен. Хотя, вероятно, его предупредили о предстоящем знакомстве так же, как и меня.
Я с невольным ужасом поглядела на Талейрана и прошептала:
— Вы полагаете, этот человек продажен?
— Все окружение Шерера продажно, верьте мне, моя дорогая.
Он произнес это таким тоном, что у меня появились основания рассчитывать, что Талейран на моей стороне, и это меня чуточку приободрило.
Доминик приблизился. Лишь краем уха слышала я обычные слова, произносимые Талейраном: «Мадам, позвольте вам представить гражданина Порри, чрезвычайно приятного человека… Гражданин Порри, это — гражданка дю Шатлэ, она наслышана о вас и давно хотела познакомиться…»
— Да, давно, — повторила я без всякого выражения.
Встреча с Порри подействовала на меня ошеломляюще. Я вдруг вспомнила тот день в Ренне, после того как Александр стрелял в Гоша. Доминик освободил меня тогда, но что это было за освобождение! Он мне прямо заявил, что быть добрым самаритянином ему надоело. Тогда мне было безразлично, что он хотел этим сказать. Возможно, он просто злился? Ах, черт бы его побрал! Этот человек делал мне только добро, но сейчас я бы предпочла видеть на его месте любого, только не Порри!
Талейран ушел, сказав еще несколько любезных фраз. Доминик предложил мне руку; от меня не ускользнуло то, что вид у него при этом был несколько угрюмый.
— Думаю, мы оба понимаем, что то, что говорил сейчас Талейран, — не более, чем слова, — произнес мой старый знакомый.
— Да, наша встреча не случайна. Я приехала сюда с ясно определенной целью.
— Честно говоря, нечего было вмешивать министра. Если уж вы хотите чего-то добиться, могли бы приехать прямо ко мне.
— Боже мой, но ведь я даже не знала, где вы живете, Доминик.
Его лицо исказилось.
— О, конечно. Вы предпочли узнавать адрес Талейрана, а не мой. Как там у вас говорится? Он ваш собрат по сословию.
Я передернула плечами. Потом ясно, в упор поглядела на Доминика.
— Гражданин Порри, отвечайте прямо: намерены вы со мной разговаривать или нет?
— Да. Намерен, — произнес он отрывисто и едва заметно глотнул.
— В таком случае идемте туда, где потише и поспокойнее. Вы знаете здесь такой уголок?
— Не пытайтесь уверить меня, что вы здесь впервые.
Его тон мне не нравился, и я решила хоть как-то одернуть этого слишком возомнившего о себе чиновника.
— Сдается мне, гражданин комиссар секции, вы хотите меня обидеть, — сказала я и гневно, и колко, и чуть насмешливо.
Он молча забрал у меня стакан лимонада, который я все еще сжимала пальцами, и произнес:
— Мне жаль, что вы продолжаете считать меня болваном.
В зимнем саду было тихо и сильно пахло зеленью — словно наперекор непогоде. Звуки музыки и шум зала почти не доносились сюда. Остановившись возле зарослей рододендронов и розового амаранта, я повернулась к спутнику.
— Вы, вероятно, знаете, чего я хочу. Можете ли вы помочь мне?
Он вдруг резко, сильно взял меня за талию, привлек к себе так, что я на миг утратила способность дышать и не смогла даже выставить вперед локоть, чтобы защититься.
— Чего вы хотите! — повторил он угрюмо. — А вы когда-нибудь думали, чего хочу я?
Он был гораздо выше меня, но сейчас его лицо оказалось совсем близко к моему. Я видела его глаза, его полные губы, чувствовала запах довольно крепкого одеколона — все это вызвало у меня легкую неприязнь.
— И чего же хотите вы? — спросила я безучастно, размышляя и продумывая свои действия на ход вперед.
Чувства этого человека никогда не были для меня тайной. И никогда не находили у меня ответа. Но отталкивать его сейчас, отталкивать резко, возмущенно, неделикатно — это означало бы подвергать риску успех моей задачи.
— Я хочу вас! Неужели это так непонятно!
«Как он стал смел! — подумала я даже с легким презрением. — И все потому, что я от него завишу!» Мне не нравилось, когда на меня смотрели так по-животному, как сейчас. Он порывисто наклонился, припал к моим губам, но я с недовольным вздохом отвернула голову, и поцелуй получился весьма краткий, скользящий.
Он обнял меня сильнее, просто сдавил в объятиях.
— Как же вы прекрасны! — прошептал Доминик, касаясь губами моего уха. — В этом платье, сейчас… Я знаю, вы — мое проклятье, но вам стоит только слово сказать, только попросить… Попросите меня так, как только вы можете! Нет ничего такого… чего я бы не выполнил для вас… для того, чтобы иметь повод быть с вами!
Я выскользнула из его рук, находя шепот Порри немного безумным. Честно говоря, его поведение вообще вызывало у меня тревогу. Я очень жалела, что что-то внушила ему. Как было бы приятно иметь дело с человеком совершенно равнодушным!
— Доминик, довольно, — сказала я резко, поправляя волосы и платье, изрядно помятое им. — Все эти страсти достойны детей — вы не находите?
— Детей? — переспросил он с каким-то тупым гневом.
— Да. А мы уже взрослые люди и вести себя должны куда более уравновешенно.
— О да, разумеется! — воскликнул он с яростью, взмахнув кулаком. — Лишь когда речь идет обо мне, вам приходит в голову, что мое поведение неуравновешенно!
Кусая губы, я посмотрела на него.
— Доминик, мне нужно поговорить о деле.
Я хотела поскорее оборвать все эти излияния и поговорить о деле. В конце концов, почему этот чиновник полагает, что меня непременно должна заботить его страсть ко мне? Это только его проблемы! И, правду говоря, его манера ухаживать слишком мало пригодна для обольщения женщины.
Я присела на мраморную скамью у журчащего фонтана, какой-то миг молча прислушивалась к воркованию струй во внутренностях каменной чаши. Доминик стоял рядом, заложив руки за спину.
— Садитесь, — сказала я, поднимая на него глаза.
— Нет, мне угодно постоять.
— Как хотите… Вы женаты, Доминик?
— И это спрашиваете вы! — произнес он негодующе.
— Ну, не хотите же вы сказать, что так долго грезите лишь обо мне. Я знаю немного мужские привычки. Мимолетные встречи редко когда рождают крепкую привязанность…
— Что вы можете знать о мужчинах? Вы всегда заняты только собой. Вы используете их и бросаете, когда их помощь или услуги уже не нужны. Вы даже не считаете нужным платить им… хотя бы самым малым.
Я вспыхнула. Наверняка он намекает на то, что я сбежала от него после того, как выздоровела.
— Вы делаете добро лишь тогда, когда ожидаете за него платы? — спросила я резко, считая необходимым как-то ответить на оскорбление.
— А я вам уже говорил, что уже давно ничего не хочу делать даром.
Он задумчиво прошелся мимо клумбы. Обошел фонтан, снова приблизился ко мне и произнес:
— Талейран разъяснил мне, по какому делу вы явились в Париж. Мой патрон, министр Шерер, заинтересовался вами и был бы совсем не прочь получить с вас деньги. Разумеется, если я сперва проведу разведку и поддержу его намерение.
— Какую разведку?
— Если я доложу ему, что подвоха нет… и что взятку можно получить безопасно, не боясь компрометации.
«Какая компрометация? — подумала я насмешливо. — По-моему, ни одно министерство не славится взяточничеством так, как военное».
Вслух я сказала:
— Мне кажется, Доминик, вы вполне можете успокоить своего патрона. Никакой ловушки я ему не устраиваю. Я люблю мужа больше жизни. Я согласна заплатить любые деньги, лишь бы он не был на положении вне закона. Можете так и передать Шереру.
— Конечно. Непременно. Но прежде чем я это сделаю, я должен кое-что обдумать.
— Что?
Он быстро, резко бросил мне в лицо:
— Я спас вас от гильотины, я вызволил вас из Консьержери, я возился с вами, когда вы были при смерти, я пускал вам кровь и лечил вас — так вот, дорогая мадам, я думаю, что имею право на некоторую часть того золотого дождя щедрости, который вы готовы пролить на моего патрона.
Некоторое время я недоуменно смотрела на него, потом вздох облегчения вырвался у меня из груди. Я тихо рассмеялась и, набрав в маленький стаканчик воды, сделала один глоток. Я так волновалась, а этот чиновник просто-напросто хочет денег!
— Имейте в виду, что если я не буду удовлетворен, Шерер и пальцем не пошевельнет ради вас, — проговорил Доминик угрожающе. — Он доверяет мне. Он откажет вам, если я буду против.
— Но вы не будете против. По крайней мере, я постараюсь сделать так, чтобы вы были довольны, мой друг.
— Вы на многое готовы ради мужа? — спросил он с кривой усмешкой.
— На многое.
Он снова трудно глотнул, потом сжал челюсти и, ступив шаг вперед, протянул мне какой-то предмет.
— Возьмите!
Я взяла и с изумлением поглядела на то, что лежало на моей ладони. Это был большой железный ключ довольно грубого вида.
— Что это значит? — спросила я, вскидывая голову.
— Это ключ от меблированных комнат в гостинице на улице Шартр.
Я пожала плечами и тревожно поглядела ему в глаза.
— Не понимаю, — сказала я холодно. — Объяснитесь.
Честно говоря, я уже догадалась, но мне не хотелось верить… в то, что он до такой степени изменился. Что он осмелился даже на подобное бесстыдство…
— Здесь нет ничего непонятного, — произнес он слегка раздраженно, видимо, предчувствуя отказ. — Я буду ждать вас там завтра вечером. Завтра, послезавтра, через неделю — когда угодно!
И, будто желая запугать, он яростно напомнил:
— Это не шутка, предупреждаю вас! Мне надоело быть дураком, каким-то сумасшедшим Пьеро… Я вовсе не таков. Мое намерение решительно. Если вы хотите достичь цели…
Бледность разлилась по моему лицу. В этот миг мне страстно захотелось, чтобы Александр был рядом и хорошенько проучил бы этого наглеца. Этого шантажиста. Этого вымогателя, чье вожделение мне просто противно… Все-таки годы достойной жизни в Белых Липах отучили меня от подобных предложений, и я уже не воспринимала их так спокойно, как во время террора.
— Такова плата, которую вы мне назначили? — спросила я сухо.
— Да! — почти выкрикнул он. — Такова плата, если вам угодно так это называть! Все должно быть оплачено. Не думаете же вы, что…
Он не договорил. Я плеснула ему в лицо водой из стакана, который еще был у меня в руках. Я просто не могла больше терпеть. Эта наглость должна была быть остановлена.
Он умолк, сразу как-то сникнув. Я швырнула к его ногам ключ и, глядя на бывшего комиссара секции с крайним отвращением, произнесла:
— Мне жаль, что я была знакома с вами, сударь. — И ледяным тоном добавила, удаляясь: — Надеюсь, наша встреча больше никогда не повторится.
Вернувшись в зал, я поначалу замерла на месте, оглушенная музыкой, сиянием огромных люстр и тем, что только что случилось. Пальцы у меня немного дрожали. Я дважды глубоко вдохнула воздух, призывая себя успокоиться и все забыть. Да и что было помнить? Наглую выходку какого-то буржуа? Мне пора привыкать к их бесстыдству. Похоже, для всех них связь с аристократкой — просто какая-то мания, способ самоутверждения. И все-таки — какое нахальство!
Все еще кипя от возмущения, я прошла в уборную и привела в порядок платье и волосы. Словом, вновь приобрела безупречный вид. Я подумывала о том, не уехать ли домой. Этого мне хотелось больше всего: уехать, успокоиться, подумать… Но это были чувства, а умом я понимала, что необходимо остаться. Надо обо всем рассказать Талейрану, попросить его поискать иные пути. Жаль только, что в нынешнем скопище людей его так трудно встретить.
Я снова пришла в танцевальный зал и стала взглядом искать одновременно и Талейрана, и Аврору. Отсутствие девочки уже начинало меня тревожить. Я даже сердилась на нее. Что касается министра, то его окружала такая толпа, что я не знала, как к нему приблизиться.
В этот миг лакей провозгласил — громко, перекрыв даже игру оркестра:
— Гражданин Клавьер с супругой.
Эти слова заставили меня вздрогнуть всем телом. Я обернулась и в конце зала действительно заметила Клавьера и Флору, которые только что вошли. Их сразу окружили какие-то люди. Я стала подумывать, куда бы уйти, но тут ко мне подлетела нарядная мадам Грант.
— Куда же вы пропали? Целый вечер вас не видно, и это очень жаль. Ваше платье произвело фурор даже среди дам… Пойдемте, я введу вас в самый блестящий кружок на нынешнем вечере!
Я легко позволила себя увести, и мадам Грант, легкомысленно щебеча и расточая улыбки, повела меня туда, где пили чай.
Я взяла с подноса, поднесенного лакеем, крошечное блюдце и неохотно стала ковырять ложечкой кусочек воздушного пирога. Общество, где я сейчас оказалась, было почти полностью женским; приглядевшись, я заметила не одно знакомое мне лицо.
Совсем рядом со мной, изящно спустив с одного плеча прозрачную накидку, в платье достаточно коротком для того, чтобы показать ноги в туфельках, сидела изумительно красивая Тереза Кабаррюс — женщина, с которой я часто в своей жизни встречалась, но с которой не перемолвилась даже словом. Она обожгла меня внимательным взглядом черных глаз. Я повернулась к лакею:
— Чашку чая, пожалуйста.
Здесь же была Жозефина Бонапарт, супруга виновника нынешнего торжества и моя соседка по тюрьме Консьержери. Успехи мужа и ее совершенно преобразили: она словно помолодела лет на пять, ожила, расцвела, стала еще улыбчивей и приветливей, чем прежде. Талейран, как я поняла, сознательно сделал ее центром приема. Он и сейчас был рядом с ней: осыпал комплиментами, льстил так тонко, что я даже могла бы упрекнуть его в излишней деликатности — эта женщина весьма пуста и проглотила бы и менее изысканные комплименты.
Краем уха я прислушивалась к разговору.
— Вы слышали? — спросила женщина, сидевшая неподалеку от меня. — Только что объявили, что Клавьер приехал.
— На месте его жены я бы лучше сидела дома, — с недовольной гримасой произнесла мадам Тальен, бывшая Кабаррюс.
— Почему, душенька?
— Мне достоверно известно, что она беременна. Ей следовало бы беречься, а не таскаться по балам. Вот, полюбуйтесь! — Тереза гневным кивком указала на танцующих. — Она веселится. И было бы кому! Ей уже за сорок, а этот ребенок — первый. На ее месте я не вставала бы с постели.
Я невольно передернула плечами, скрывая раздражение. Я почему-то верила, что хотя бы в этом отношении судьба Клавьера будет незавидна. Я думала, у него не будет детей, и он поймет когда-нибудь, сколь много потерял. Так нет же — этому спекулянту во всем везет: в махинациях, в финансах, даже в семейной жизни…
После того что я узнала о Флоре, люди, среди которых я находилась, с каждой минутой стали казаться мне все несимпатичнее. Я поглядывала на Талейрана, но его лицо оставалось непроницаемым. В это время началась какая-то суета; дамы вскочили с мест и с возгласами ринулись в зал, кого-то окружая. Никуда не двинулись только я, Талейран и Жозефина, и, как оказалось, не напрасно.
Человек, вокруг которого было поднято столько шума, не спеша, но решительно шел туда, где сидели прежде дамы; женщины следовали за ним, что-то щебеча и осыпая его поздравлениями. Он подошел, с едва заметной улыбкой поцеловал руку Жозефине, сказал что-то Талейрану. Человек был в блестящей генеральской форме. Я узнала его. Это был Бонапарт.
Впервые я имела возможность лицезреть этого нового кумира так близко и так свободно. У него была оливковая кожа корсиканца, большой лоб, прикрытый небрежно упавшими редкими темными волосами, серые, очень пристальные глаза, и рот, то сжатый в одну линию, то кривящийся в непонятной, полупрезрительной гримасе. Он был угловат, скован, неуклюж, держался без блеска и говорил с довольно сильным акцентом, так, что надо было привыкнуть к его выговору. Крайне неприятным показался мне его взгляд. «Черт возьми, — подумала я. — Этот низкорослый дикарь смотрит на людей, как на навоз…»
Дамы были в восторге. Буржуазки ловили каждое слово генерала и оглушали его своим щебетом. Мадам де Сталь, дочь знаменитого Неккера, имевшая репутацию женщины весьма неглупой, низким голосом спросила, прервав на миг общий гам:
— Генерал, было бы интересно узнать ваше мнение о нас. О женщинах. Какая из них наиболее вас привлекает?
— Моя жена, — резко ответил Бонапарт.
— Ну а какая заслуживает вашего уважения?
Генерал поглядел на мадам де Сталь в упор и отчеканил так резко, будто намеренно хотел быть грубым:
— Та, которая родила больше всего детей, сударыня.
«Боже, — подумала я в ужасе. — До чего мерзкий солдафон. Он, видно, считает нас чем-то вроде служанок и племенных кобыл. Бедная Жозефина!»
Я поднялась и вышла, находя, что нынешний вечер приносит мне одни неприятности. Было уже за полночь. Я взяла себе стакан лимонада, подумав, что так и не выпила его в прошлый раз. За этим стаканом меня и застал Талейран.
— Я не мог раньше уделить вам внимание, — сказал он.
— Да. Понимаю. У вас много забот. Этот генерал, генеральша, генеральские поклонники — всех их надо развлекать…
Мой голос прозвучал и зло, и насмешливо. Я злилась на себя за то, что слезы поневоле выступают у меня на глазах. Я чувствовала себя как никогда одинокой. Смогу ли я добиться уступки от этого чужого, враждебного буржуазного мира? Смешно было даже мечтать о таком!
— Что сказал вам Порри, сударыня?
— Я не договорилась с ним.
— Надо было употребить все усилия. Не отчаивайтесь. Я устрою вам еще одну встречу.
— Нет, — сказала я резко, сверкнув глазами. — Этот человек предложил мне счет, который я не могу оплатить.
— Вы уверяли, что готовы тратить деньги.
— На этот раз плата выражалась не в деньгах.
Синие глаза Талейрана испытующе смотрели на меня. Он осторожно сжал мне руку.
— Мне показалось, вы знали друг друга. Это правда?
— Как вы проницательны, — пробормотала я, горько усмехаясь.
— Это моя работа. Ну же, расскажите мне все.
Я покачала головой, чувствуя, что вот-вот расплачусь. Его предложение все рассказать прозвучало не то что мягко, но с таким дружеским спокойствием, что это расслабило меня, вызвало непреодолимое желание поделиться с кем-то, попросить совета… Пересилив себя и подумав о том, что не следует слишком доверяться взяточнику и карьеристу, я произнесла:
— Ах, сударь, в этом нет ничего примечательного… Да, мы были знакомы. По тюрьме Консьержери. Никаких иных отношений я с ним не имела. Одному Богу известно, почему он решил, что может домогаться меня.
Талейран весьма задумчиво проговорил:
— Стало быть, придется обойти Шерера. Я выведу вас на Барраса. Готовы вы к этому?
— Я ко всему готова, — сказала я, сразу воспрянув духом. — По крайней мере, с ним я не знакома.
Талейран еще раз осторожно сжал мою руку.
— Ну, а теперь поезжайте домой. Вам надо отдохнуть.
И, уже уходя, вполголоса добавил:
— Безумец ваш муж. Совершенный безумец!
В поисках Авроры я обошла все комнаты, поднялась даже на этаж выше, охваченная тревожным подозрением, что она, может быть, поддалась на уговоры какого-нибудь проходимца и где-то уединилась с ним. Мои опасения не подтверждались, но тревога усиливалась. Я быстро спускалась по лестнице вниз, намереваясь поискать ее еще и в красной столовой, и на одной из ступенек столкнулась с высоким плечистым мужчиной.
Я отступила, поправляя сползшую с плеч шаль.
— Ба! — приветствовал меня Клавьер. — Что за невероятное совпадение!
Я сжала зубы, проклиная на чем свет стоит и этот прием, и всех приглашенных сюда, и банкира в особенности.
— Что за совпадение? — процедила я.
— Вы здесь, и я здесь. Это любопытно.
Он отступил чуть назад и окинул меня внимательным взором.
— Вы стали просто прелесть. Поздравляю вас.
Я молчала. В его тоне не было враждебности, и это меня настораживало.
— Ну, полно вам дуться! К чему вспоминать прошлые обиды? Мы оба немало накуролесили.
— Оба? — переспросила я. — Да я проклинаю день, когда вы появились на свет!
Он нахмурился.
— А вот это уже дурно. Нехорошо рассыпать повсюду проклятия. Это кончится плохо прежде всего для вас. И будет жаль. Я ведь, моя дорогая, все забыл.
— Легко забыть обиды, нанесенные тобой, а не тебе, — процитировала я Сенеку.
— А вы по-прежнему уверены, что я виновен во всех ваших несчастьях? — Он рассмеялся. — Полноте! Виноваты только ваша распущенность да ваша голубая кровь… Никакого особенного зла я вам не причинял.
— Возможно, и так, — сказала я резко. — Поступки мужчины могут оскорбить наше достоинство лишь тогда, когда этот мужчина сам обладает достоинством.
Он широко мне улыбнулся.
— Ах, жаль, что вы так хмуро настроены… А вот я счастлив. Вы, наверное, слышали, какой сюрприз преподнесет мне Флора. Да и ваш дом… Совсем скоро он будет мой. Видите, как много у меня причин для радости.
— Еще не вечер, — сказала я так зловеще, что с лица Клавьера слетела улыбка.
Обойдя банкира, я стала спускаться по ступенькам. Благодушный вид сразу слетел с него. Он обернулся, больно схватил за руку.
— Еще не вечер? Это еще что такое? Вы смеете пророчить мне беду, вы, пустая кукла, набитая глупостями?!
Я резко выдернула свою руку и посмотрела на него сузившимися от бешенства глазами.
— Какая буржуазная непоследовательность! — произнесла я ледяным тоном. — Будучи пустой, я не могу быть набита глупостями, усвойте хотя бы это.
Разыскав, наконец, Аврору, я набросилась на нее с упреками.
— Как можно? Как можно так поступать, я тебя спрашиваю? Глупая девчонка! Ты пропала куда-то на целых шесть часов!
— Но, мама, тебя же тоже не было в танцевальном зале!
— Тоже? Я взрослая женщина и могу постоять за себя. Я знаю жизнь. А ты… Ты только добавляешь мне неприятностей! Где ты была?
— Нигде, — пробормотала она ошарашенно. — Я танцевала, меня многие приглашали… потом гражданин Лужер учил меня играть в пикет. Ничего плохого в этом не было.
— Гражданин Лужер! Уже и гражданин Лужер какой-то появился!
Была подана наша карета. Я втолкнула Аврору внутрь, уже успев понять, что ничего дурного не случилось. С чего бы мне так волноваться? Я просто срываю на девочке злость. Это несправедливо.
— У тебя… неприятности? — робко шепнула Аврора, прижимая мою руку к своей щеке.
— Да. Есть немного.
— Я бы так хотела тебе помочь. Но ты же ничего мне не рассказываешь.
— Ах, Боже мой! — прошептала я, привлекая ее к себе. — Не хватало еще и тебе задумываться над этим…
— Ты из-за господина герцога все это делаешь, да?
— Да.
— Я желаю тебе удачи… Я так люблю тебя.
Она была такая уставшая, что задремала у меня на плече. Домой мы вернулись уже в два часа ночи. Я поднялась к себе, с помощью горничной освободилась от бального туалета и накинула кружевной пеньюар. Эжени зажгла розовую лампу над мягким шезлонгом.
— Мадам еще чего-нибудь хочет?
— Нет, ничего. Ступайте спать, Эжени.
Я устало села, сбросила домашние туфельки, со вздохом откинулась назад. Несмотря на утомление, спать мне не хотелось. Некоторое время я смотрела на кольцо с изумрудом, украшавшее мой палец, — обручальное кольцо… Потом встала, разыскала коньяк и прямо из бутылки сделала глотков десять, не меньше. Захлебнулась и, отставив бутылку, снова села.
Мне было до того горько, что я едва сдерживала слезы. От гнетущего чувства одиночества было ужасно пусто внутри. Горничная не сдвинула портьеры, и за окном мерцал огнями ночной Париж. Не мой Париж, чужой. Непонятный мне. И я здесь абсолютно одна. Мне не везет. Меня снова пытаются преследовать. И я никогда, никогда к этому холодному деляческому миру не привыкну…
Коньяк действовал быстрее, чем я предполагала. Меня бросило в жар. Пламя лампы расплывалось перед глазами, превращаясь в розовый туман; я смахнула слезы с ресниц, но туман все ширился, и в нем все четче вырисовывался остров. Волшебная изумрудная земля между аквамариновым морем и нефритовым небом. Буйная кипень апельсиновых рощ. Долина среди гор, алеющая цветами цикламена. Александр помогает мне плыть, а вода теплая, как парное молоко, — она просто колышет меня… Потом тяжелый, пряный запах лилий на ночной дюне, жемчужный песок. Тогда я достигла высшего счастья. Мы с Александром словно растворились друг в друге — физически, душевно, мы даже дышали в унисон. И он сказал… он сказал мне, что…
Кровь застучала у меня в висках. Все это в прошлом! Даже до Корфу добралась напасть, мучившая меня всю жизнь! Уже не сдерживая слез, я зарыдала, уткнувшись лицом в сложенные на коленях руки.
7
Вид у Валентины, когда она рассказывала мне о торгах, был слегка испуганный.
Все получилось так просто, что даже я этого не ожидала. Торги, как и было объявлено, состоялись в пятницу. Клавьер прибыл позже, чем Валентина, и она в ответ на его поклон улыбнулась ему так приветливо, что он оставил приказчика и подошел к ней. Она предложила ему место подле себя. Он не без охоты согласился. Тогда Валентина робко шепнула ему о том, что хотела бы приобрести этот дом. При этом ее рука коснулась его руки.
Он слегка подозрительно посмотрел на нее.
— Чем же я могу помочь, гражданка?
— Не мешайте мне… Я прошу вас.
— Вы просите? А что вам дает на это право?
— То расположение, которое вы мне оказывали, — произнесла мадам Брюман слегка смущенно.
Он улыбнулся немного насмешливо.
— Кажется, я могу понять вас. Вы, как говорят, из «бывших», не так ли? Вам жаль вашу сестрицу по сословию.
— Какую сестрицу?
— Ту, которая жила здесь раньше.
Загоревшись вдруг какой-то мыслью, он сжал руку Валентины.
— Черт возьми, это недурная идея! Сидите-ка молча, моя дорогая. Обещаю, вы будете довольны.
Валентина повиновалась. Клавьер купил дом за миллион ливров и тут же, взмахом руки подозвав своего адвоката, написал дарственную на имя мадам Брюман. Сделав ошеломленной Валентине королевский подарок, он выразил надежду, что его рады будут видеть на обеде, который Брюманы на днях устраивают.
Валентина была бела как снег, когда рассказывала мне это. Выслушав, я некоторое время молчала, пораженная так же, как и она тремя днями раньше.
— Так, значит, дом достался вам совершенно бесплатно? — спросила я наконец.
— Да. И вам тоже…
Порывшись в сумочке, она достала бумагу.
— Возьмите. Это дарственная на ваше имя… Дом отныне ваш.
Я взглянула. Бумага была оформлена по всем правилам, и сомневаться ни в чем не приходилось. И все это досталось даром. Клавьер желал еще раз посмеяться надо мной, показать, что ему ничего не стоит выкинуть миллион на ветер ради того, чтобы сделать приятное мадам Брюман… и чтобы этим еще сильнее уязвить меня. Но, похоже, на этот раз он сам себя перехитрил.
— Валентина, мои изумруды… Вам привезут их уже сегодня вечером…
У нее вырвалось сдавленное рыдание. Она закрыла лицо руками.
— Боже мой, что вы говорите! Какие изумруды? Вы что, платите мне за мою услугу? Ведь я не отдала за дом ни одного су!
— Но вы же так хотели иметь эти камни, — произнесла я, растерявшись при виде ее слез. — Послушайте, у меня и в мыслях не было обижать вас…
— Ах, я так боюсь! Ведь когда Клавьер узнает, он пожелает в порошок стереть и меня, и моего мужа!
— Сомневаюсь, что ему это удастся.
— Пресвятая дева! Разве вы забыли, что он сделал с вами?
— Когда он уничтожал меня, я была очень глупа и неопытна. Я ничего не понимала в коммерции. А ваш муж — финансист. Кроме того, на всякий случай я могу дать вам совет.
— Какой?
— Следите за прислугой. По возможности увольте всех, в ком хоть немного сомневаетесь, и ни в коем случае не нанимайте новых людей. Клавьер очень любит засылать шпионов.
— Вы поможете мне? Сюзанна, у вас такой опыт!
— Конечно, — улыбнулась я. — Можно сказать, что я немного знаю, на что этот человек способен.
Она утерла слезы.
— Сюзанна, вы не сердитесь на меня за то, что я жалуюсь. Вы же знаете, я всем желаю только добра, и вам в особенности. Пожалуй, даже если меня ждут неприятности, я не вправе упрекать вас… Только мне, к сожалению, немного страшно.
— Мы объединимся, — пообещала я. — Я ведь за вас в ответе. Только рассказывайте мне обо всем, чтобы я была в курсе.
— Вы придете к нам на обед?
Я пораженно поглядела на Валентину.
— Как? Вы приглашаете меня, зная, что там будет Клавьер? Вы же говорили, что он напросился к вам в гости… Мое присутствие он расценит как насмешку с вашей стороны.
— Ах, он, вероятно, не придет, — пробормотала Валентина. — К тому времени ему наверняка станет известно о нашем заговоре. Да и ваш успех тоже надо как-то отметить… Я познакомлю вас с мужем и пасынком.
— И все-таки, Валентина… Если я не приеду к вам, у Клавьера еще будут сомнения насчет нашего заговора. А если приеду, ему все станет ясно.
— Не все ли равно? Снявши голову, по волосам не плачут…
Я приехала в дом на Вандомской площади сразу после этой беседы. Глухой сторож, приставленный к отелю мэрией и живший в будке возле ворот, взломал по моей просьбе входную дверь, так как ключ найти было невозможно. Вместе с Авророй мы прошли по комнатам.
Здесь царило запустение. Окна почти везде были выбиты либо хулиганами, либо непогодой, и внутри дома было холодно, как на улице. Мои догадки подтвердились: все было разграблено, растащено и утрачено навеки. Бархатные портьеры и те были кем-то унесены. Опрокинутые подсвечники валялись на полу. В гостиной ковер был прожжен окурками до неузнаваемости — видимо, здесь заседала комиссия по конфискации. Люк на чердак был распахнут, сквозь него с серого зимнего неба капли дождя падали прямо на клавесин. Клавесин, впрочем, был безнадежно испорчен. Исчезли все безделушки — статуэтки, шкатулки, вазочки. Исчезла даже мраморная ванна, а золотые краны в виде голов лебедей были сняты. Даже белье и то украли… Да и чего иного было ожидать? Шесть лет минуло с тех пор, как дом лишился хозяина. Мне достались теперь только стены и кое-что из мебели — так, самая малость.
— И все же я рада, — сказала я.
— Рада? Ах, мама, сколько средств понадобится, чтобы привести все это в порядок!
— А я не намерена сейчас этим заниматься. Я рада тому, что эти стены — мои. Никто не сможет их отнять. Если меня, конечно, не арестуют.
Я, впрочем, не очень-то верила в такую возможность. Как-никак, а времена изменились. Да и ничего антиреспубликанского я совершать не собиралась.
— Я помню этот дом, — сказала вдруг Аврора. — Помню, как звучал здесь клавесин…
Я еще раз прошлась по гостиной, приглядываясь к каждой мелочи. Нечищенный паркет заскрипел под моими ногами, и несколько капель сорвалось с сырых стен.
— Ну вот, — проговорила я решительно. — Теперь лишь остается ждать, чем все это закончится.
8
Не будучи знакомой с Жаком Брюманом и зная его только по словам Валентины, я и предположить не могла, что он так стар. Вернее, что он настолько — по крайней мере, лет на тридцать — старше жены. Это и поразило меня более всего в самый первый момент. В остальном Брюман был ничего себе: высокий, плотный, видимо, не знающий никаких болезней и цветущий, он вполне мог вызывать симпатию. Нрав его только усиливал это впечатление. Брюман-старший вел себя шумно, весело, раскованно, всем своим видом показывая, как играет в нем здоровая буржуазная кровь, трепал свою жену по щечке, хлопал по плечу сына, вытирал руки о скатерть и, заговорщически подмигивая, сообщил, что женился во второй раз лишь затем, чтобы досадить сыну, «прощелыге и балбесу».
— Сколько денег он из меня тянет, сколько денег, сударыня! — восклицал Брюман. — Шампанское, карты, девчонки — это ведь у него без счета. А Валентина? Знали бы вы, сколько средств уходит на одни только шляпки!
Я не могла понять, искренен ли он или просто дразнит своих близких. Валентина краснела от подобных нескромностей и нервно теребила салфетку. Я подумала, что, независимо от того, какая из версий верна, она не может быть счастлива с таким мужем.
— А завещание у меня еще не составлено ни на кого, — произнес старый Брюман, кладя себе кусок филе и поливая его кроваво-красным соусом. — Может, я еще лет тридцать протяну, как вы полагаете, сударыня? А то, может, и Валентина преподнесет мне нового сынка!
Я видела, что Дени, единственный сын этого человека, сжимает от гнева в кулаке вилку. Этому юноше было около двадцати трех лет. Одетый в мундир воспитанника Политехнической школы, белокурый, с серыми глазами, в которых плясали искры ярости, он, похоже, только в воображении отца существовал как «прощелыга». Я сразу заметила, что Аврора понравилась ему, и искренне посочувствовала молодому человеку: каково ему сознавать, что она слышит насмешливую болтовню отца.
Жак Брюман, спохватившись, обвел взглядом стол.
— А что же это такое, Валентина? Похоже, наш друг сегодня не прибыл?
— Да, как видите, — отвечала мадам Брюман слегка неровным голосом. — Клавьера нет.
— И он не прислал объяснения?
— Нет.
— Весьма невежливо с его стороны, дорогая моя. Мы нарочно поставили три прибора — для него, его жены и адвоката. Вы уж скажите ему при встрече, что он невежа.
— Скажите лучше вы, Жак.
— Мне нельзя, душенька. Мне надобно соблюдать дипломатическую выдержанность.
Мы с Валентиной переглянулись. Как я поняла, Жак Брюман пока что ничего не знал ни о нашей сделке, ни о неприятностях, которые она могла на него навлечь.
После обеда, весьма роскошного, но, пожалуй, чересчур обильного, я под благовидным предлогом заторопилась домой. Составлять компанию Жаку Брюману, играть с ним в карты или выслушивать его излияния мне вовсе не улыбалось. Но, едва сообщив о том, что мы должны уехать, я увидела, как омрачилось лицо Авроры.
Молодой Брюман сказал:
— Позвольте вашей дочери остаться, сударыня.
— Ах, мама, я совсем недолго! — взмолилась Аврора. — Ты можешь прислать за мной карету. А господин Дени…
— Да, — сказал он. — Я провожу мадемуазель.
«Она уже называет его по имени», — подумала я.
Старый Брюман шумно вмешался в разговор:
— Если желаете благополучия своей дочери, не пускайте ее с этим легкомысленным человеком ни в зимний сад, ни на прогулку, ни в театр — никуда!
Возникла неловкость. Все сделали вид, что не слышали этих слов, а Аврора так посмотрела на меня, что я кивнула.
— Хорошо. До вечера, дорогая.
Жак Брюман провожал меня до кареты и закончил тем, что ущипнул меня за локоть.
— Ба, да вы не худенькая! — сказал он на прощанье.
«Господи! — выдохнула я, едва дверца захлопнулась. — С кем только мне не приходится видеться! Уже за одно это мне должно повезти — в виде компенсации!»
Впрочем, мне уже повезло, и крупно. Я просто не ценю по достоинству своих успехов. Я встретила Талейрана и, можно сказать, мой дом вернулся ко мне даром. Я, разумеется, подарила свои изумруды Валентине в день ее рождения, но ведь дом-то, в сущности, купил мне Клавьер! А изумруды — я вольна была отдавать или не отдавать их…
Я была уже почти дома, когда карета, въехав под арку ворот Сен-Мартен, остановилась. Я потянула за шнур, но лошади не тронулись. Тогда я позвала кучера.
— Что такое? Вы заснули там, лентяй?
— Вовсе нет, мадам! Да только тут дороги нет.
— Как нет?
— А так. Чья-то карета загораживает. Пойду посмотрю.
Выглянув в окошко, я увидела, как кучер спрыгнул с козел, как высокие лакеи, видимо, имеющие отношение к помешавшей нам карете, идут ему навстречу, отстраняют, хватают под уздцы наших лошадей. Я возмутилась. Что еще за нахальство в центре Парижа? В этот миг чье-то лицо мелькнуло в окошке кареты, совсем рядом со мной; я вскрикнула от неожиданности и испуга, узнав лицо Клавьера.
Он дернул на себя дверцу и, бесцеремонно схватив меня за запястья, принудил выйти.
— Снова ваши штучки! — проговорила я в бешенстве, тщетно пытаясь освободиться. — Вы просто смешны!
— Смеется тот, кто смеется последний!
Он отпустил меня, и я сразу же отошла от него на два шага. Брови его сошлись к переносице.
— Что, вы от Брюманов? Поздравляю. Вероятно, вы славно повеселились, глядя, что мое место пустует.
— Ах, так вы уже знаете, — сказала я почти холодно. — А я-то думала известить вас письмом.
— Да я бы убил вас за это письмо!
Я едва сдержала злой смех: до того мне стало приятно, что наш с Валентиной заговор довел его до бешенства.
— Не слишком громко произносите такие слова, сударь, — произнесла я с крайним отвращением. — Вы, вероятно, слышали, что мой муж шуан. Не ровен час кто-то из его людей услышит вас, подумает, что вы грозите всерьез, и перережет вам горло прямо в вашей постели. Вы даже до звонка дотянуться не успеете. В Бретани умеют устраивать подобные дела.
— Вот как, мы теперь не довольствуемся только увещеваниями? Мы теперь можем показать и зубы?
— Я прошла вашу школу, милейший гражданин Клавьер, — сказала я, чувствуя, что на этот раз в дураках остается он, а не я.
Он смотрел на меня, скрипя зубами.
— А кто ваш муж? — спросил Клавьер, разыгрывая равнодушие. — Я имею в виду, кто ваш муж в данный момент?
Я вспыхнула.
— Его зовут герцог дю Шатлэ, гражданин Клавьер, и, если вы еще раз забудете это имя, я скажу мужу, и он научит вас произносить его по буквам. Не думаю, что этот урок вам понравится.
Он прищурился, и я заметила, что его рука в кармане сюртука сжалась в кулак.
— Что вы замышляете, моя прелесть? Зачем вы вернулись в Париж?
— А зачем вам знать это? — в тон ему спросила я.
— Для того чтобы помешать вам во всем, что бы вы ни делали! Черт возьми! Вы еще горько пожалеете, что напомнили мне о себе! Я грозный враг, вы могли в этом убедиться.
— Ах, милейший господин Клавьер! — сказала я почти ласково, не чувствуя никакого страха. — А ведь еще недавно вы уверяли, что счастливы и все забыли. По-видимому, после того как мой дом уплыл из ваших рук, предавать обиды забвению стало уже не так легко?
Он произнес сквозь зубы еще несколько угроз, не преминув сообщить, что отныне не спустит с меня глаз, и удалился. Его карета освободила проезд.
«Он не на шутку зол, — подумала я почти равнодушно. — Но если раньше для его угроз были основания, то что сейчас? Я не занимаюсь коммерцией, у меня нет ни долгов, ни кредитов, ни займов — ничего».
Стоило ли думать над всем этим? Я хотела только одного: помочь Александру.
ГЛАВА ВТОРАЯ МАДАМ КЛАВЬЕР
1
Весна в 1798 году была ранняя и очень теплая. Уже в начале марта набухли почки на деревьях, а в тех местах, где чаще светило солнце, пробивалась молодая травка. Погода была самая приятная, и всех в эти чудные дни, и богатых, и бедных, переполняли надежды.
Еще с весны прошлого года все почувствовали, что жизнь становится дешевле — впервые после взятия Бастилии. Цена пшеницы по причине изобилия понизилась, фунт говядины стоил всего 4 су при оптовой покупке и 8 су в розницу. Бедняки были довольны тем, что имеют, наконец, свои «три восьмерки», которых так добивались еще в 1789 году, то есть имеют хлеб по 8 су за три фунта, вино по 8 су за пинту и мясо по 8 су за фунт.
Но это облегчение совершенно иначе отражалось на Белых Липах. Я просматривала счета и доклады, приходившие из поместья, и видела, что наши доходы уменьшаются. Хлеб продавать было трудно. Мы даже несли убытки. Я написала Полю Алэну, горячо убеждая его с этого года заняться картофелем, но не могла ручаться, что он последует этому совету. Он наверняка не отдает все силы хозяйству. А я не могла отлучаться из Парижа. Деверь присылал мне деньги сюда. Кстати, в последний раз поступило на сто тысяч меньше, чем я рассчитывала.
Широкая терраса вся была залита солнечным светом. Я опустила белые легкие занавески и вернулась к письменному столику. Со счетами было покончено. Я снова взяла конверт с письмом сына и в десятый раз стала его перечитывать.
Жан писал из Итона, где учился уже шестой месяц. В этом привилегированном учебном заведении у него была комната, которую он делил с Джеймсом Говардом — английским мальчиком из очень знатной семьи. Жан уверял, что уже отлично выучился говорить по-английски и понимает все, что рассказывают учителя. Порядки в Итоне еще строже, чем в коллеже, воспитанников выводят в город только раз в месяц, остальные дни они проводят на территории заведения и живут по расписанию. Для разбора скверных поступков и шалостей здесь, бывает, устраивают «аристократический суд», «суд чести». Сын, вероятно в шутку, добавлял, что, по крайней мере, в Итоне ему никого еще не приходилось вызывать на дуэль. После Рождества в школу приезжала королева, обошлась со всеми очень милостиво, и по ее приказу всем воспитанникам было роздано по полфунта шоколада. Жану хотелось бы прислать мне подарок на Пасху, но он не знает, возможно ли это («Боже мой! — подумала я в который раз. — Я ведь тоже ничего не смогу ему послать. Счастье, что хоть письма доходят»).
Из письма сына я знала, что дед навещает его лишь раз в месяц, потому что служит не в Лондоне, а в Эдинбурге, служит графу д’Артуа. После Рождества в Итоне был герцог дю Шатлэ и привозил подарки. Летом принц де ла Тремуйль обещал определить Жана в артиллерию.
О том, собираются ли они летом хотя бы заглянуть в Бретань, Жан не писал. В заключение сын передавал привет Марку и «тысячу горячих поцелуев моей любимой мамочке».
А вот от Александра не было известий. Лишь один раз Поль Алэн как-то неуверенно сообщил о том, что герцог, видимо, в Лондоне. Письмо Жана подтверждало это. Но оно было написано еще месяц назад.
Я откинулась назад, погружаясь в не слишком веселые размышления. Стефания, сидевшая за рукоделием, подняла голову.
— Снова! — произнесла она не без упрека. — Хотелось бы хоть поглядеть на человека, из-за которого ты так мучаешься.
— На кого?
— На твоего мужа, милая. Это ведь из-за него лицо у тебя такое скучное.
— Еще бы. Я почти полгода его не видела.
В прошлом году было то же самое, день в день. Но тогда Александр вернулся благодаря некоторому смягчению режима. Теперь на это надежды не было. И дело, ради которого я приехала в столицу, продвигалось с черепашьей скоростью.
— Пойду погляжу, что там с ужином, — произнесла Стефания, откладывая вышивание в сторону.
Едва она ушла, со двора донеслись стук копыт и чьи-то веселые голоса. «Вероятно, Аврора вернулась», — подумала я. Через некоторое время она появилась на террасе — в нежно-зеленой амазонке с широкой разлетающейся юбкой, под которую были надеты узкие облегающие брюки для верховой езды. В руках Аврора еще держала хлыст, а сама была растрепанная, разрумянившаяся, веселая.
— Аврора, как можно? — спросила я укоризненно. — Ты уехала едва ли не на рассвете, а теперь уже почти вечер! Где вы были?
— Дени возил меня в Булонский лес. Да ведь я и не обещала вернуться скоро. День такой чудесный…
Взмахнув юбкой, она села рядом со мной и стала снимать перчатки. Улыбка не сходила с ее лица — видимо, она была просто не в силах не улыбаться.
— Знаешь, мама… — шепнула она чуть смущенно. — Дени такой милый, любезный, внимательный… Словом, хороший.
— Я рада. Правда, мне кажется, вы чересчур часто видитесь. Я даже не понимаю, когда он успевает учиться. Ведь он почти каждый день тебя приглашает.
— Да, — подтвердила она, кивая чуть лукаво. — Я подозреваю, что из-за меня он и не учится вовсе.
— У него будут неприятности.
— Зато сейчас мы так весело проводим время!
— Видимо, — сказала я осторожно, — нет смысла спрашивать, нравится ли он тебе.
— Да, мама! Еще как! Мне ни с кем не было так приятно!
Я внимательно смотрела на юную Аврору, стараясь вникнуть в ее настроение, понять и сделать правильные выводы. Я не могла ошибиться в догадках: она увлечена, и увлечена искренне. Она не строит каких-то расчетов, и ее зарождающееся чувство к молодому Брюману — это искреннее чувство. Вот почему я так боялась за нее. Это и заставило меня произнести следующие слова.
— Послушай меня, детка, — сказала я. — Послушай, это серьезно. Я не хочу обидеть тебя никакими подозрениями.
— О чем ты, мама?
— О том, что ты не знаешь жизни. Не знаешь Дени Брюмана. Ему двадцать три года, а в этом возрасте редко какой юноша способен оценить свои поступки. Редко кто из молодых людей думает о женщине больше, чем о себе. Я не говорила бы тебе этого, если бы не любила тебя. Ты очень юна, моя дорогая. Не допусти, чтобы тебя обидели.
— Да ведь я ничего ему и не позволяю!
— Охотно верю. Но никто не знает, как повернется дело. Ты так молода, что можешь совершать поступки, только потом осознавая их глупость. Я бы не хотела, чтобы этот юноша воспользовался тем, что ты неопытна, и тем… что тебе с ним, так сказать, весело.
— Дени не такой, мама… Он порядочный.
— Ты не можешь знать в точности, каков Дени, — сказала я мягко. — Поверь мне, Аврора. Я знакома со всем этим на собственном опыте.
Она даже с каким-то испугом смотрела на меня. Видимо, я разбудила в ней сильные подозрения насчет нового друга. И я не жалела об этом.
— Помнишь, что сказано в Евангелии, девочка? Не следует метать бисер перед свиньями. Твоя красота, юность, неопытность — это сокровище, Аврора. Подумай, как им распорядиться таким образом, чтобы это не заставило тебя страдать.
— А разве бывает любовь без страданий? Я вижу, как ты мучаешься из-за господина герцога!
— Если это вправду любовь, то, пожалуй, можно и пострадать, — сказала я улыбаясь. — Но страдать из-за коварства какого-нибудь мальчишки — это уж сущий кошмар, и я не хочу для тебя этого.
Я привлекла ее к себе и, поцеловав в висок, проговорила:
— Я хочу, чтобы ты была счастлива.
— Ты замечательная, — сказала она искренне. — Ты самая лучшая моя подруга.
Я рассмеялась, и мы вместе отправились на кухню, чтобы проследить за приготовлением сливочных вафель к ужину.
Я вспомнила об этом разговоре и невольно подумала: до чего же мои слова были похожи на слова матери аббатисы, когда она напутствовала четырнадцатилетнюю Сюзанну де ла Тремуйль перед поездкой в Бель-Этуаль.
В отличие от довольно-таки тревожного начала января февраль и март моей парижской жизни были очень спокойны. Я начинала свой день в десять утра с какого-нибудь визита, а до вечера успевала посетить многие людные места и побыть на виду. Я смирила свою гордыню и теперь была на дружеской ноге со многими известными буржуазками. Я даже принимала их у себя. Дважды мне удалось встретиться с самой Жозефиной Бонапарт. Нынешнее положение жены кумира ее не изменило: она лишь стала одеваться лучше, а в остальном ничуть не заважничала. Жозефина обожала общество аристократок и часто приглашала их к себе — разумеется, на свою половину, ибо ее муж-генерал веселого времяпрепровождения не любил, не танцевал и с дамами почти не разговаривал.
Ну а если мне удалось побывать гостьей самой гражданки Бонапарт, то о прочих дамах, таких, как супруги директоров и нуворишей, и говорить не приходилось. Их тешил блеск моего имени, возможность побыть в тени столь громкого титула. Насчет всего прочего я не обольщалась: они любили меня не больше, чем я их. Просто сейчас вздохи по монархии вошли в моду. Некоторые находили, что слова «гражданин» и «гражданка» звучат несколько грубо и даже, пожалуй, режут слух.
Для меня знакомство с нынешними хозяевами жизни давало возможность быть в курсе всех событий, знать сплетни, слухи, первой узнавать новости и, при случае, заставлять ветер дуть в мои паруса. Я использовала эту возможность, как только могла, хотя очень часто надежд моих она не оправдывала.
Мне мало удалось узнать. Я проведала о двух вещах: первая занимала всех женщин и состояла в том, что Флоре Клавьер пора перестать бывать в обществе. Ее беременность уже всем бросалась в глаза, а нынешние буржуазки считали, что это стыдно — показываться чужим мужчинам в таком виде. Флоре, видимо, было на это наплевать, поскольку она появлялась в самых разных местах Парижа.
Все прочие сплетни касались дальнейших планов генерала Бонапарта. Шумиха, поднятая вокруг его имени в декабре, слегка поутихла, и он сам, вероятно, чувствовал, что спокойная жизнь в Париже означает для него забвение и потерю популярности. Мир, которого все так ждали, для него был концом военного поприща. Спокойствие он воспринимал как истинное мучение. И когда, наконец, в феврале генерал совершил поездку на Западное побережье, все сразу предположили, что близится война с Англией. Вихрь англофобии пронесся по буржуазным кругам. «Бонапарт возьмет реванш за неудачу Гоша», — утверждали чиновники. Директория была одержима идеей продиктовать мир в Лондоне.
Вести эти приводили меня в уныние. Ведь если Бонапарту, доселе столь удачливому, и вправду удастся завоевать Англию подобно Вильгельму Нормандскому, то моему мужу придется искать убежища в другом месте, а это еще больше отдалит его от меня.
Потом прошел слух о том, что экспедиция против Англии — дело решенное, только на сей раз главный удар будет направлен не на Лондон и не на Ирландию, а на Египет и Сирию, богатейшие английские колонии. Официальным приказом Директории Бонапарт был назначен главнокомандующим армией, которая должна была воплотить эти фантастические прожекты в жизнь.
Я редко виделась с Талейраном. Служба министра и дипломатическое ведомство отнимали у него очень много времени, кроме того, бывший прелат принимал участие решительно во всех интригах, какие только можно вообразить. Он поистине был вездесущ, за всем следил и все успевал. Таких посетителей, как я, у него было много. Но мы все же встречались иногда — чаще в Люксембургском саду, где он прогуливался после обеда; и у меня складывалось впечатление, что он встречается со мной не без удовольствия.
— Неужели все эти слухи о Египте — правда? — спросила я как-то. — Неужели Директория действительно одобрила эту безумную авантюру?
Мы медленно шли по посыпанной песком дорожке, Талейран прихрамывал и опирался на трость. Погода была чудесная: солнце, весна, первые золотистые крокусы на обочине…
— Вы выпытываете у меня дипломатические секреты, сударыня, — ответил Талейран задумчиво, и мне показалось, что его рот чуть дрогнул в легкой улыбке.
— Я слышала, что вы горячо поддерживаете Бонапарта. Неужели ваши убеждения не противоречат его намерениям?
— Вряд ли можно говорить о каких-то моих убеждениях. Вы же знаете, любезная госпожа дю Шатлэ, что я человек без убеждений. Я карьерист.
— Я имела в виду, что убеждение ваше — это скептицизм.
— Да еще выгода, — подхватил Талейран. — Знаете, милочка, ведь если эта безумная авантюра удастся, мы будем иметь немало выгоды. Красное море, подрыв всемирного господства Англии, подрыв Оттоманской Порты, выход в Индию, причем сухопутный выход…
— Не понимаю, — сказала я честно. — Ведь это сказки. Какой выход в Индию? Мы живем не во времена Александра Македонского. Как может двадцатипятимиллионная Франция завоевать шестисотмиллионный Восток?
— Верно, — подтвердил Талейран. — Вряд ли может. Но мне хочется, чтобы Бонапарт знал, что я его поддерживаю. А ему хочется воевать, а не сидеть в Париже. Экспедиция против Египта — это совпадение наших интересов.
— Да почему же ему хочется воевать?
— Потому что для него бездеятельность — это лишь закрепление нынешнего положения, а нынешнего положения недостаточно, чтобы достичь большего. Египетская авантюра, чем бы она ни закончилась и как бы бесполезна для Франции ни была, несомненно, будет выгодна для генерала. Она даст ему занять чем-то время и позволит создать видимость лихорадочной деятельности на благо отечества.
Я встревожилась.
— А зачем ему нужно время? Чего он хочет? Почему вы так желаете быть его другом?
— «Друг» — фи, что за слово! Я лишь союзник… Не знаю, сударыня, чего хочет Бонапарт. Хочет он многого. А в остальном — поживем увидим…
— Значит, будет война?
— Бонапарт хочет воевать, я хочу войны, потому что этого хочет он, Директория хочет услать генерала подальше — все интересы сходятся на этом. Значит, моя милая, будет война.
Он мягко сжал мою руку.
— Ну а что касается вашего дела… Думаю, через три недели все устроится. Деньги у вас собраны?
— Да, сударь.
— Значит, можно считать, что вы готовы к разговору с гражданином директором.
2
В день вербного воскресенья, в «цветущую Пасху», в городе царило оживление. Несмотря на то что многие церкви после переворота 18 фрюктидора были отобраны у верующих и вновь превращены в храмы Земледелия, Согласия, Признательности, парижане толпами заполнили все молельные места, какие только оставались. Как и прежде, при Старом порядке, Париж пестрел веточками розмарина, лавра, пальмовыми ветвями. Не было разве что церковных процессий. Да и город все еще выглядел куда беднее, чем лет пятнадцать назад.
Мы с Авророй в церковь не ездили, потому что служба там велась присягнувшими священниками, но в остальном праздновали так же, как и все прочие. В Булонском лесу мы встретили Валентину Брюман и, поговорив немного, все вместе поехали на бывшую улицу Шантерен, переименованную в улицу Победы, — там жила гражданка Бонапарт.
У нее были гости. Мы, не заходя в салон, ограничились кратким разговором в небольшой гостиной. Я с сожалением сообщила, что не смогу быть у Жозефины в среду вечером, — как раз на это время у меня назначена встреча с Баррасом. Гражданка Бонапарт понимающе кивнула. Она, кстати, была единственная, кто мог бы сказать, что догадывается о целях моего пребывания в Париже. Способности к предательству в ней не было, и я, зная, что сердце у нее хотя и ветреное, но доброе, слегка приоткрыла перед ней свою тайну. В конце концов, она же была любовницей Барраса и, возможно, могла бы помочь. Ну, например, намекнув ему обо мне.
— Надеюсь, вам повезет, — сказала она.
Я отдала ей выкройки, полученные мною от синьоры Раньери из Флоренции. Жозефина засияла.
— Ах, как хорошо! — воскликнула она. — Как хорошо, что вы не забыли! Я в долгу перед вами.
— Бог с вами! Какой долг? Мы вместе сидели в тюрьме, вместе ждали казни, мы вместе спаслись, наши дети дружили между собой… Мы же почти родственниками стали тогда.
— Да, — протянула Жозефина задумчиво. — Тогда я была уверена, что вы выйдете за Клавьера.
Я сочла, что говорить об этом неуместно, и уклончиво ответила:
— Ну, вы же знаете, что все, что ни делается, — к лучшему.
Когда мы, уже распрощавшись, спустились в вестибюль, я обнаружила, что забыла наверху свой веер.
— Я схожу за ним, — сказала Аврора.
— Нет-нет, дорогая. Ты не найдешь его. Я сама не знаю, где его оставила.
— Может, позвать лакея?
— Слишком долго… Я сама схожу.
Слегка подобрав подол, я снова стала подниматься по ступенькам. Я не прошла и половины лестницы, когда увидела на верхней, начищенной до блеска площадке женщину.
Она была в очень просторном платье, скрывающем округлившуюся фигуру. Я сразу узнала Флору де Кризанж, ныне Флору Клавьер, и, хотя мы встречались с ней лицом к лицу впервые и эта встреча была неожиданна для меня, я находила, что не должна бледнеть, волноваться или, чего доброго, изменять свое намерение и не идти за веером. Ни один мускул не дрогнул у меня на лице. Я продолжала подниматься. Флора, напротив, словно застыла на верхней площадке, глядя на меня.
Наступил момент, когда мы поравнялись и я посмотрела ей в глаза. Она дурно выглядела. Лицо, отекшее, даже слегка распухшее, свидетельствовало, что она плохо переносит свое состояние. Она вообще сильно располнела. И постарела. Да что там говорить — она выглядела просто немолодой уже женщиной! Красота, которая когда-то так подавляла меня, пропала. «Нет, — подумала я, усмехаясь в душе, — когда мы встречались на Корсике, она выглядела лучше. Вряд ли Клавьеру нравится сейчас ее вид… Она куда старше его, а по виду так просто в матери годится».
Я взглянула на нее как можно более пренебрежительно, с мстительным высокомерием женщины, которая сознает, что намного красивее, и была удовлетворена, когда увидела, что лицо мадам Флоры почти позеленело, а русалочьи голубые глаза сузились. Я была готова пройти мимо, но она, вдруг резко повернувшись, так схватила меня за руку и с такой неожиданной силой рванула к себе, принуждая вернуться, что я вскрикнула от возмущения.
— Что вам угодно?
— Видимо, вас недостаточно проучили, белокурая дама?
Она спросила с хорошо знакомой мне интонацией: ласково, почти любезно, не повышая голоса, словом, хорошо маскируя свои истинные чувства. Пожалуй, со стороны мы могли показаться двумя мирно беседующими подругами.
Я резким движением высвободила свою руку из ее цепких пальцев, но ничего не ответила. Честно говоря, на какой-то миг мне стало страшно. Уж слишком ледяным был ее взгляд. Я помнила этот взгляд — взгляд кобры. Она так смотрела на меня, когда стреляла. И я вдруг ужасно испугалась того, что, быть может, эта Флора по-прежнему одержима демоном злобы и ревности и, чего доброго, способна подкараулить меня где-нибудь с пистолетом в руке.
— Вы вернулись в Париж. Вы строите козни против Рене. А ведь мы оба вас учили. Так что же вами движет? Надежды? Позвольте узнать какие? А, черноглазая красавица?
Весь мой страх вдруг исчез от звуков ее голоса. Я разозлилась так, что у меня потемнело в глазах; от злости меня даже затошнило. Подавшись вперед, я произнесла:
— Я надеюсь на то, что вас перекосит от ненависти, а ваш муж издохнет и попадет в ад. Я ежедневно молюсь об этом…
Сказать все, что хотела, я не успела. Флора вдруг шагнула ко мне с лицом, искаженным яростью, и замахнулась, будто хотела закатить пощечину. Инстинктивно желая избежать этого унижения, я резко выставила вперед руку.
И тут произошло непредвиденное. Ее рука с силой наткнулась на мою, и от этого толчка Флора потеряла равновесие. Кроме всего прочего, она, кажется, поскользнулась на начищенной до блеска ступеньке. Я не смогла ее удержать. Я лишь успела увидеть ее расширившиеся от ужаса глаза Она полетела по лестнице вниз головой, а я стояла, словно окаменев, не в силах пошевелиться.
Я очнулась, услышав, как трезвонят все звонки в доме. Над Флорой, лежавшей лицом вниз, склонились лакей и мои спутницы, ожидавшие меня в вестибюле. На лестницу выбежала Жозефина и ее многочисленные гости. Пораженные, все молча смотрели вниз, но ничего не делали.
— Что случилось? — спросила гражданка Бонапарт.
— Мадам Клавьер упала с лестницы, — сказала я как можно спокойнее. — Несчастный случай. Вероятно, надо вызвать врача.
Ничего больше не прибавляя, я стала спускаться. Жозефина дрожащим голосом велела позвать врача. Как оказалось, доктор нашелся и среди ее гостей — некий господин Биша, совсем еще юноша.
Он склонился над Флорой и несколько минут спустя констатировал:
— Она жива. Безусловно, она потеряет ребенка. У нее сломано несколько ребер. Возможно, и шея тоже.
— Но ведь тогда она умрет! — произнесла Жозефина со слезами. — Она была моей подругой…
— Ее нужно немедленно унести отсюда…
— Но как? Она может оставаться здесь…
Я сказала — громко, ясно, сама удивляясь, до чего холодно, бесчувственно и спокойно звучит мой голос:
— Сообщите ее мужу. Несомненно, он пришлет за ней карету или приедет сам. Таким образом, все проблемы будут решены.
— Как это случилось? — наперебой спрашивали меня. Среди вопрошающих я заметила даже журналиста «Монитёра».
— Вероятно, мадам Клавьер стало дурно. Это бывает с беременными. Мне трудно прибавить что-либо еще, граждане.
Сделав знак Авроре, я стала пробиваться к выходу. К счастью, наша карета была уже у крыльца.
— Ах, это ужасно! — произнесла Валентина. — Почему эта женщина хотела ударить вас?
— А вы все видели?
— Да. Мы наблюдали за вами. Она положительно хотела дать вам пощечину…
— Наверное, она поступила так из ревности, Валентина. Никак иначе ее поступок объяснить нельзя.
— Но вы, по крайней мере, не были знакомы раньше?
— Никогда, — отчеканила я. — Ума не приложу, чем я могла вызвать такую ненависть. Вы же знаете, я даже не вижусь с Клавьером.
Больше я ничего не объясняла. До самого дома я молчала, сжав губы и обдумывая случившееся. Как ни странно, никаких чувств это происшествие во мне не вызвало. Я была до ужаса холодна и спокойна. Пожалуй, даже вид страданий голодного пса порой вызывал у меня больше чувств.
Едва оказавшись дома, я позвала лакея:
— Жан Мари, ступайте к дому господина Клавьера на площади Карусель. Как только что-нибудь станет достоверно известно, вы сообщите мне.
Через два часа Жан Мари вернулся и сообщил, что мадам Клавьер умерла.
3
Парижские газеты были полны упоминаний об этом событии. «Монитёр» писала:
«Смерть гражданки Клавьер 25 марта пополудни произошла из-за значительной кровопотери и повреждений — следствия несчастного случая. Трудно описать отчаяние, в каком пребывает супруг ее, Рене Клавьер, видный гражданин, банкир, известный благотворитель. Многие граждане, пришедшие отдать последний долг этой во всех отношениях достойной женщине, видели слезы на глазах ее мужа, человека весьма сдержанного. Дабы успокоить читателей, можно заявить, что гражданин Клавьер собирается в скором времени вернуться к трудам на благо Республики, но между тем выражает надежду, что полиция проведет тщательное расследование всех обстоятельств этого прискорбного случая».
Я отложила газету, слегка помассировала виски пальцами. Со вчерашнего утра у меня была сильнейшая мигрень, заставившая меня лечь в постель. Я слишком много думала все эти дни. Сейчас было раннее-раннее утро. Головная боль, несмотря на принятые порошки, не проходила, и я с трудом представляла себе, как отправлюсь вечером в Люксембургский дворец на встречу с Баррасом.
Газетные сообщения вызывали у меня скептицизм. Клавьера пытались изобразить эдаким сентиментальным филантропом, добрым и кротким другом человечества. Я не знала, конечно, как он относился к Флоре и как переживал ее смерть, но говорить о том, что он «вскоре вернется к трудам на благо отечества» — это просто смешно! Всего вернее, разумеется, было упоминание о том, что он желает вмешать в дело полицию.
На душе у меня было тревожно. Я не сомневалась, что в воображении Клавьера все факты выстроятся таким образом, что он заподозрит меня в заранее продуманных планах мести. Первый факт — это то, что я ни с того ни с сего явилась в Париж (по крайней мере, он причины моего появления не знает). Второй — то, что я обманом вернула себе дом. Третий — несчастный случай с Флорой, как раз после того, как мы встретились. Это третье происшествие, несомненно, он сочтет ударом под дых. События теперь действительно выстроились в цепочку, свидетельствующую о моем коварном, ловком, невероятном умысле.
На самом деле, конечно, их связывала только случайность. Ни о доме, ни о Флоре я и не помышляла, а уж в Париж приехала вовсе не для того, чтобы мстить банкиру. Но Клавьер знает только видимость происшедшего. Он, вероятно, сейчас рвет и мечет. Потому-то я и тревожилась. Хорошо, конечно, если все это заставит его немного меня побаиваться, но плохо то, что могут возникнуть осложнения — совершенно ненужные перед встречей с директором.
«Я должна быть очень осторожна, — подумала я с опаской. — Ни одного лишнего слова не следует говорить… И мне нужна теперь охрана. Я буду ездить только с тремя лакеями».
Мысли мои вернулись к Флоре. Поначалу свою холодность я объясняла неожиданностью всего случившегося. Но прошло некоторое время, а никакие иные чувства не возникали. Хотя я сознавала, что некоторым образом причастна к ее смерти. Она натолкнулась на мою руку и после этого упала… Впрочем, моя рука, вероятно, в этом случае была рукой судьбы. Флора была злая, чудовищно коварная и вероломная женщина. Вот только ее ребенок…
Впрочем, какие глупости приходят мне в голову! Когда эта старая мегера стреляла в меня — да и не только стреляла, но явно хотела изуродовать, — я тоже была беременна. И я тоже потеряла ребенка. У меня до сих пор остался маленький шрам под правой грудью. И ведь мало кто знает, как это больно и тяжело — быть раненой, страдать, мучительно выздоравливать…
«Господи, — взмолилась я, — сделай так, чтобы Александр мог вернуться, чтобы он взял на себя все заботы, чтобы я не была такой одинокой».
Голова у меня болела все сильнее, кровь тугими ударами стучала в висках. Превозмогая боль, я поднялась, на ощупь нашла домашние туфельки, кое-как добралась до умывального столика и, дрожащими руками плеснув воды в стакан, всыпала туда порошок. Это должно принести облегчение. От недомогания и тяжелых мыслей мне вдруг ужасно захотелось выпить. Изрядно выпить, так, чтобы здорово захмелеть. В последнее время я часто обращалась к подобному средству, и оно помогало мне забываться, легче смотреть на вещи. Я стала искать коньяк, но никак не могла найти. «Черт, видимо, Стефания унесла, — мелькнула у меня мысль. — Или горничная. Они обе говорили, что пить не следует».
Я туго-натуго замотала голову черным шелковым шарфом, взяла свечку и стала спускаться вниз.
Я заперлась на ключ и поставила свечу на стол. В гостиной мне удалось найти спиртное — я не разобрала, что именно, кажется, коньяк. Я налила себе рюмку, резко, неженским движением опрокинула в рот — одну, потом другую. Жидкость оказалась жгучей, как пламя. «Хоть бы не пристраститься, — подумала я. — Я, конечно же, перестану пить. Но не сейчас. Сейчас мне это необходимо».
Я выпила еще и свернулась калачиком на диване. Голова болела меньше, сон одолевал меня, а алкоголь словно жаром разливался по телу. Мне стало удивительно тепло, и все думы отступили. Я задремала и, как обычно в такие минуты, ко мне пришли приятные грезы — воспоминания о Корфу, о летних вечерах под каштаном, об Александре.
Сильный стук в дверь разбудил меня. Сонная, я рывком села на диване. Свеча догорела уже до половины.
— Ритта! — Это был голос Стефании, громкий и резкий. — Ты здесь? Отвечай!
— Который час уже? — спросила я.
— Десять утра. К тебе пришли.
— Я никого не принимаю, так и передай. Я нездорова.
— Ритта, это какой-то чиновник из полиции.
Я тяжело вздохнула. Никого видеть мне не хотелось, но слово «полиция» так встряхнуло меня, что я полностью очнулась ото сна.
— Принеси мне воды и одеколона, — попросила я.
— Одеколона? Мужского одеколона?
— Да.
Пока она ходила, я отперла дверь, спрятала бутылку и потушила свечу. После сна я, вероятно, выглядела растрепанной, но приводить себя в порядок не хотела. Сойдет и так. Вот только опьянение еще осталось, но я живо с этим справлюсь.
Я умылась ледяной водой и энергично растерла лицо полотенцем. Это полностью отрезвило меня. Тогда я прополоскала рот одеколоном, чтобы окончательно прогнать запах алкоголя.
— Ну, вот, — сказала я. — Теперь можно звать сюда полицию.
Полицейский оказался молодым человеком лет тридцати, довольно аккуратным и обходительным.
— Я следователь, — представился он, — моя фамилия — Лерабль.
— Очень приятно, гражданин Лерабль. Могу сказать, что я ожидала вашего прихода.
Это была правда. С тех пор, как я прочла о желании Клавьера привлечь к делу полицию, у меня была уверенность, что подобной встречи не избежать. Правда, я не ожидала гражданина Лерабля так скоро. Ну, а если уж он стоял передо мной, я не хотела уклоняться от беседы.
— Садитесь, сударь, прошу вас, — сказала я как можно любезнее. — Я готова ответить на все ваши вопросы. Жаль только, что я дурно себя чувствую и, по-видимому, не смогу уделить вам много времени.
Он сел, предварительно откинув полы сюртука, деловито достал толстую записную книжку и попросил подать ему письменные принадлежности. Я позвонила горничной. Когда чернильный прибор и все прочие атрибуты были принесены, Лерабль вскинул голову и, ловко очинив перо, произнес:
— Я приехал по заявлению гражданина Клавьера.
— Да. Я поняла, сударь. Уж насчет этого у меня не было никаких сомнений, — сказала я любезно.
Слегка изменившись в лице, Лерабль сказал:
— Мне очень жаль, гражданка, но я вынужден просить вас не называть меня «сударь». Я на службе.
— Вы государственный человек, — уточнила я, вспоминая почему-то Франсуа де Колонна.
— Да. Именно так.
— Я буду называть вас так, как вам угодно, для меня это никакого значения не имеет.
Он обмакнул перо в чернильницу.
— Итак, — торжественно начал он. — Вы — гражданка Сюзанна дю Шатлэ?
— Да.
— Вам двадцать семь лет, вы француженка и живете на площади Неделимости в доме номер двадцать пять?
— Да.
— Ваш муж мятежник, объявленный вне закона?
— Да.
Эти мои три «да» прозвучали одинаково ровно и сухо, но начало беседы мне не нравилось. Уж слишком оно смахивало на допрос.
— Расскажите, что произошло третьего дня на улице Победы.
Я пожала плечами. Версия моя была уже давно готова, и изложить ее для меня не представляло труда.
— Гражданин Лерабль, я посетила Жозефину Бонапарт с коротким визитом. У нее были гости, но я не задержалась надолго. Когда я спустилась вниз, обнаружилось, что у меня пропал мой веер. Предполагая, что забыла его наверху, я решила вернуться и, когда поднималась, увидела беременную женщину, идущую мне навстречу. Она была, вероятно, почти на сносях, и на ее месте, гражданин Лерабль, я бы оставалась дома. Или, по крайней мере, не ходила бы без служанки.
— Итак, гражданка Клавьер была одна. Вы с ней встретились. И что вы ей сказали?
— Не понимаю, гражданин, почему вы думаете, будто я что-то говорила. Не в моих привычках говорить с незнакомками.
— Вы утверждаете, что видели гражданку Клавьер впервые?
— Возможно, не впервые. Весьма вероятно, что мы виделись на каких-то приемах или в театре. Но мы никогда не разговаривали, и между нами не было никаких отношений.
— Вы уверены?
— Абсолютно уверена, — сказала я чуть раздраженно, настороженная тем, что этот полицейский пытается выяснить подоплеку моих отношений с Флорой.
Ничего… Пусть он еще попробует доказать, что я лгу. Никаких доказательств просто не существует. Но сам интерес Лерабля меня беспокоил. Он свидетельствовал, что его интересует не мое видение случившегося, а нечто иное.
— Когда мы поравнялись, ей, вероятно, стало дурно. Она упала. Все прочее вы и сами знаете.
— Она падала на ваших глазах и вы не попытались помочь ей?
— Мне льстит ваше мнение обо мне, гражданин полицейский, но на самом деле я не обладаю той силой, которую вы во мне предполагаете. Удержать мадам Клавьер я не могла. Кроме того, не вменяйте мне в обязанность того, чего я делать вовсе не обязана.
Эти слова произвели ошеломляющее впечатление на Лерабля, так, будто на него вылился ледяной душ. Следователь сразу вытянулся, сел прямо, будто проглотил аршин, и я заметила, как нервно заходил его кадык под плотным воротником.
— М-да… — протянул он. — Может ли кто-нибудь засвидетельствовать, что все было так, как вы рассказываете?
Я ответила, чувствуя, как враждебные чувства к следователю во мне все нарастают:
— Вы можете спросить Аврору, мою воспитанницу… Она была со мной в то время.
Следователь сделал гримасу — довольно непонятную в целом, но мне почему-то показалось, что он обрадовался своей удаче. Я нахмурилась.
— Ваша воспитанница, — заявил он с торжеством, — или ваша приемная дочь, уж не знаю, кто она точно, — но, так или иначе, она не может быть свидетельницей.
— Почему?
— Потому что состоит в слишком близких с вами отношениях и вполне может сказать неправду.
Я сжала зубы. Если раньше у меня возникала лишь смутная догадка о том, что, возможно, Лерабль просто куплен Клавьером, взят, так сказать, на службу, то теперь все сомнения исчезли и догадка переросла в убеждение.
— Неправду? — переспросила я, сердито сверкнув глазами. — Что это значит?
— Неправда — это то, что противоположно истине, — пояснил Лерабль, слегка ухмыляясь.
Я вспыхнула.
— Вы… вы имеете наглость сидеть передо мной и говорить мне в глаза, что я лгу, а Аврора лишь подтвердит мою ложь?!
— У меня есть основания для этого, гражданка!
Он повысил голос и даже чуть привстал с места. Эта его реакция и заставила меня прикусить язык. Сперва я намеревалась возмутиться и немедленно выставить нахального следователя за дверь, но теперь мне пришло в голову, что дело, возможно, серьезнее, чем я думаю. «Надо разобраться, — решила я. — Надо, по крайней мере, выслушать этого болвана».
Вот только мигрень снова усилилась, и в ушах слегка шумело. Для меня лучшим выходом сейчас было бы лечь в постель, положить в ноги нагретый кирпич и укрыться одеялом, а не отвечать на вопросы.
— Какие основания? — спросила я ледяным тоном.
— Гражданин Клавьер заявил, что вы имели причины ненавидеть его жену и, значит, желать ей смерти.
— Гражданин Клавьер заявил! — повторила я прерывисто. — И это все?
— Он проходит свидетелем по этому делу. Он свидетельствует, что вы ненавидели Флору Клавьер.
— Как же он это объясняет? Почему я должна была ее ненавидеть? По какой причине? Мы даже знакомы не были!
— А гражданин Клавьер говорит, что вы ревновали его к жене. А насчет вашего знакомства с Флорой… то это вы лжете, а не он. Вы были знакомы с погибшей. Вы мстили ей.
— За что?! — вскричала я.
— За то, что Рене Клавьер предпочел ее вам. У вас была связь с ним и, когда он отверг вас…
Я взглянула на Лерабля так, что он умолк. На миг мне стало дурно. Клавьер осмелился рассказать, что у нас была связь… Да в языке просто нет слова, которым следует назвать его после столь низкого поступка.
— Вы оскорбляете меня, — сказала я угрожающе.
— Гражданка, Клавьер заявляет…
— Мне нет дела до того, что заявляет этот подлец. Да и вы помолчите хотя бы минуту, я тоже имею право высказаться… — С нескрываемым презрением я посмотрела в лицо Лераблю и резко произнесла: — Столь мерзкий человек, как Клавьер, может заявлять все, что только взбредет ему в голову, и, конечно же, всегда найдутся люди, подобные вам, чтобы записывать все мерзости гражданина Клавьера. Но это еще ничего не значит. Никакой связи с Клавьером я не имела и сочла бы унижением даже помыслить о чем-либо подобном. С Флорой я знакома не была и даже не думала никогда о ней. Женщина, связавшая свою жизнь с таким подлым человеком, не заслуживала моего внимания.
Я произнесла все это очень громко и ясно, чеканя каждое слово, поклявшись в душе, что больше никогда не буду говорить на эту тему. На какое-то время между нами повисло молчание; я даже почувствовала, как быстро бьется у меня сердце. Потом Лерабль, подняв голову и глядя на меня не менее враждебно, чем я на него, сказал:
— Назовите какого-нибудь человека, который мог бы подтвердить ваши слова.
— Какие именно слова?
— О том, что произошло на лестнице.
— Гм, я говорила уже об Авроре. Если она вам не угодна, могу отослать вас к гражданке Брюман, моей подруге.
— Она утверждает, что ничего не видела.
Я усмехнулась.
— Вы ошибаетесь… Я говорила с ней.
— Это вы ошибаетесь, — с кривой усмешкой произнес Лерабль. — Я был у нее вчера вечером, и она дала показания. Она ничего не видела… и не может сказать ни слова в вашу защиту.
Тяжелый комок подступил мне к горлу. Я подумала, что, возможно, из-за мигрени воспринимаю все не так, как следует, и слышу всякие нелепые вещи. Дрожащей рукой я провела по лбу, пытаясь прийти в себя. Нет, вероятно, я все правильно поняла, и Лерабль сказал то, что сказал. Он был у Валентины. Произошло недоразумение. Непонятное, досадное недоразумение.
— Она не могла так сказать, — произнесла я почти уверенно. — Здесь, конечно же, какая-то ошибка.
— Здесь нет ошибки, уверяю вас, — убийственным тоном сказал Лерабль.
Он неторопливо вынул из кармана сюртука лист, сложенный вчетверо, и разложил его передо мной.
— Читайте, гражданка.
Я прочла — всего несколько слов, ибо читать остальное и нужды не было.
«Я, Валентина Брюман, жена Жака Брюмана, свидетельствую, что не видела ничего, касающегося обстоятельств падения гражданки Клавьер с лестницы, и застала ее уже лежащей у ступенек. Каждое мое слово — правда, и я готова подтвердить это под присягой, в чем и расписываюсь».
Я не знала, чьей рукой это написано, но понимала, что совершать подлог для Лерабля — это ненужная глупость. Подлог рано или поздно выяснился бы, и Валентина неизбежно взяла бы свои слова назад. Стало быть, пользы Клавьеру не было бы. Польза могла быть лишь в том случае, если Валентина действительно сказала то, что было здесь написано.
— Она не могла, — пробормотала я растерянно.
— Но она говорит именно это и ничто другое.
— Но как же… Посудите сами, как она могла не видеть? Она же стояла внизу, в вестибюле!
— Она стояла спиной к лестнице, ибо наблюдала за тем, как кучер подает к крыльцу карету. Это истинные слова гражданки Брюман. А вот вы… Что скажете на это вы?
Я в бешенстве произнесла:
— Не знаю, чем вы шантажировали Валентину и чем на нее повлияли, но то, что она ничего не видела, означает лишь полную ее неосведомленность и ничто другое. И конечно, не дает вам права смотреть на меня так обвиняюще.
О, я уже все поняла… Пока я три дня страдала от головной боли и предавалась раздумьям, Клавьер вовсе не проливал слезы и не грустил. Он развил лихорадочную деятельность: купил Лерабля и, без сомнения, еще дюжину полицейских, обвинил меня в своих показаниях, нашел какой-то дьявольский способ лишить меня свидетельницы. Он действовал. И вот результат — я по уши в сетях какой-то интриги. Впрочем, по виду Лерабля можно понять, что игра не закончена…
— Валентина ничего не знает, — повторила я решительно. — Стало быть, вы, как юрист, понимаете, что свидетелей происшествия нет. Вы не можете полностью верить ни Клавьеру, ни мне. Значит, дело зашло в тупик и…
— Не совсем.
Я молчала, предчувствуя какую-то каверзу.
— Есть еще один свидетель, гражданка. Это лакей, который был в то время в вестибюле.
У меня потемнело в глазах. Я сразу догадалась, что все это означает. Клавьер купил лакея. Лакей что угодно скажет за деньги. Я должна была это предвидеть.
— Он поливал цветы в это время и видел…
— Что?
— …видел, как вы умышленно, изо всей силы толкнули Флору Клавьер и сбросили ее с лестницы.
Я с криком возмущения вскочила на ноги.
— И вы… вы верите какому-то лакею?
Это был глупый, нелепый вопрос, я это и сама сразу осознала. Это был возглас отчаяния. Я же отлично понимала, что Лерабль — активный участник интриги, организованной Клавьером, и что спрашивать его, верит он или не верит, — совершенно не имеет смысла…
Ответ был пустой и бессмысленный, как я и рассчитывала:
— Гражданка, у нас в Республике все люди равны — и лакеи, и герцогини. Лакеи, может быть, даже больше достойны доверия.
Рука у меня сжалась в кулак. Ах, какое глупое положение — быть оболганной, обвиненной в том, чего не было и о чем даже не помышлялось!
Лерабль — уже спокойно, без злости и враждебности — проговорил:
— Вот теперь, пожалуй, дело становится ясным, гражданка. Налицо преступление — жестокое и продуманное.
— Чего вы хотите? — не выдержала я. — Уж не думаете ли вы и меня убедить во всех ваших измышлениях?
— То, что вы называете измышлениями, на языке правосудия называется правдой, — напыщенно ответил следователь.
— О, мне знакомо ваше правосудие! — вскричала я в ярости. — Ваше синее правосудие достойно уважения не больше, чем вы и ваша продажная шкура!
Он побагровел.
— Вы — убийца, гражданка. Да будет вам известно, я имею в кармане ордер на ваш арест… и я не потерплю, чтобы преступницы, подобные вам, бросали мне в лицо оскорбления!
Мне всегда была присуща какая-то дикая, звериная смелость. Я предчувствовала, что он заговорит об аресте. Так оно и случилось. И я еще раньше успела подумать о том, что ехать в тюрьму — это все равно что подписать себе приговор. В тюрьме я окажусь в руках чиновников, купленных Клавьером. Я не смогу защититься. Для защиты мне нужна свобода.
— Вы пришли арестовать меня? — спросила я сухо.
— Да. И, чтоб вы знали, меня сопровождают жандармы.
«Хорошо, что он сказал мне об этом», — подумала я.
— Могу ли я выпить порошок? — спросила я вслух.
— Вы больны?
— Да. Больна. Я уже говорила вам.
Голос у меня был колючий, сухой, прерывистый.
— Можете пить, — бросил Лерабль небрежно, снова усаживаясь и снова предварительно откинув полы сюртука.
Твердым шагом я отошла от следователя и распахнула дверцу резного шкафчика. Пальцы мои мгновенно оплели горлышко тяжелой бутылки, из которой я совсем недавно пила коньяк. Помедлив немного, я через плечо быстро поглядела на Лерабля. Он сидел неподвижно и, казалось, что-то писал. Я усмехнулась. Канцелярист, идиот, продажный полицейский… Прежде чем браться за такие дела, научился бы получше разбираться в людях. Он полагал, очевидно, что имеет дело с пугливой дамой, страдающей мигренью, и исходил из соображения, что все аристократки — изнеженные, слабые, кроткие созданья. Но он не знал, что я прошла через революцию. Я умела защищаться и не от таких болванов, как он.
Ступая неслышно, как кошка, я стремительно приблизилась к нему, сжимая в руке бутылку, и нанесла сильнейший удар прямо по его склоненной макушке.
Бутылка разбилась, осколки посыпались на стол. На миг я замерла: до того громким показался мне их звон. Вдруг прибегут жандармы?
Тишина успокоила меня. Жандармы прибегать не спешили. Лерабль лежал, раскинув руки и уткнувшись лицом в свои бумаги. Я рассчитывала свой удар так, чтобы на достаточно долгое время отправить Лерабля в обморок. Меня слегка испугала кровь — ее было больше, чем я предполагала, она все текла и заливала бумаги. Я присела, осторожно ощупала кисть следователя: пульс, к счастью, чувствовался. Тогда, облегченно вздохнув, я поднатужилась и сильно толкнула его. Он упал на пол лицом вниз.
Ножницами я быстро разрезала свой муслиновый пеньюар: полоски были прозрачные, но очень прочные. С ловкостью, которой я раньше в себе не подозревала, я связала Лераблю руки и ноги. А вдруг он очнется раньше, чем я рассчитываю, выйдет и позовет своих подручных? Ползая вокруг распростертого тела, я заметила, что Лерабль, когда я сталкивала его на пол, видимо, разбил себе нос. Лицо у него было в крови. Он явно мог задохнуться. Тогда, желая избежать подобного исхода, я собрала все силы, схватила его за воротник и стала тянуть к столу. После нескольких минут больших усилий мне удалось усадить своего неприятеля, прислонив его спиной к твердой опоре и наклонив вперед его голову. Немного подумав, я завязала ему и рот. Потом с трудом поднялась с пола. Ноги у меня дрожали, дыхание было прерывистым.
— У меня есть полчаса, — пробормотала я. — Или, может быть, минут сорок.
Ни за что я не согласилась бы оказаться вновь арестованной и посаженной в парижскую тюрьму. Злая усмешка появлялась на моих губах при одной лишь мысли об этом. Время тюрем для меня закончилось. Я должна либо уладить возникшую ситуацию здесь, в Париже, либо бежать в Бретань. Это в том случае, если уладить ничего не удастся.
Самые разные чувства переполняли меня. Едва мысли мои касались Клавьера, у меня перехватывало дыхание от ярости. Как может жить на свете такой человек? У него много врагов, так почему же ни один из них не набрался смелости и не убил его?
Потом я вспомнила об Александре, и невероятное отчаяние охватило меня. Слезы были готовы брызнуть из глаз. Пожалуй, я ничем не смогла ему помочь. Мне не удалось… Я сама оказалась почти арестованной… Потом меня захлестнул страх — боязнь того, что я, быть может, не успею скрыться. Почему я стою и ничего не делаю? Мне надо бежать, искать выход, действовать!
Я бросилась вон из комнаты, не помня себя от испуга. К счастью, инстинкт самосохранения не позволил мне выбежать в вестибюль или воспользоваться парадной лестницей, где меня непременно увидели бы жандармы. Я была уже почти у себя в комнате, когда меня окликнула Стефания.
— Что это с тобой? В каком ты виде?
Я была лишь в нижней рубашке, с оторванной полой пеньюара.
— Что сказал тебе полицейский?
Схватив ее за руку, я быстрым прерывистым шепотом произнесла:
— Послушай меня, Стефания. Там, в гостиной, лежит человек. Через час вы войдете туда — так, будто бы случайно. Вы войдете и освободите его.
— Освободите?
— Да. Он связан. Я связала его.
— Но зачем? — Лицо Стефании стало белее мела.
— Я должна была так поступить… Ах, не спрашивай лишнего, а лучше слушай!
— Я слушаю.
— Вы развяжете его, — лихорадочно зашептала я. — Вы, конечно же, ничего не подозревали о том, что он был связан. Если он спросит обо мне, вы скажете, что я уехала.
— А ты уезжаешь?
— Да. Ненадолго, я думаю. Прощай!
Я еще раз сжала ее руку и скрылась за дверью.
Как на грех, мне ничего не удавалось найти. Ключ от гардероба пропал, и у меня не было времени искать его или звать Эжени. Я наспех причесалась перед зеркалом, сколола волосы несколькими шпильками и нанесла немного румян на щеки. Завязала ленты шляпы и, не долго думая, набросила плащ своей горничной, Эжени. Кто знает, может, так даже будет удобнее.
Когда я через черный ход выбралась, наконец, из дома и быстро зашагала через Королевскую площадь по направлению к отелю де Куланж, было уже двенадцать часов дня.
4
Уже на площади Бастилии я поняла, что не взяла с собой денег. Отправилась искать спасения и защиты без единого су! Я сунула руки в карманы, только потом вспомнив, что одета в плащ горничной. В карманах зазвенела какая-то мелочь. Я разжала ладонь и пересчитала монеты — десять ливров четыре су два денье. Я вздохнула. Что ж, по крайней мере, на извозчика хватит.
Я остановила первую попавшуюся извозчичью карету и назвала адрес Валентины Брюман.
Мысли у меня мешались. Да и как им было оставаться ясными, если всего несколько часов я была гордой, важной, богатой дамой и ничего не боялась, а сейчас — оказалась на улице, спасаясь от ареста, и на мне нет ничего, кроме плаща Эжени… О том, что под плащом, я предпочитала не задумываться. На мне была нижняя рубашка и безобразно искромсанный пеньюар. Хорошо еще, что этого никто не видит.
Одно я понимала с предельной ясностью: Клавьер взъелся на меня, да так, что на этот раз мне будет стоить огромного труда от него избавиться. Честно говоря, сейчас я даже не представляла себе, как это сделаю. Я ехала к Валентине, чтобы все выяснить. Мало-помалу гнев переполнил меня. Надо же — она примкнула к моим преследователям… А ведь ей стоило лишь сказать правду, всего только правду, и все эти подлецы не выдвинули бы против меня ни одного обвинения!
А теперь — пожалуйста: я обвиняюсь в убийстве Флоры де Кризанж. Меня хотят арестовать. Меня будут искать. И Валентина внесла немалый вклад во все это!
— Приехали! — грубо сообщил кучер.
Он не считал нужным помочь мне выйти. Я так же грубо сунула ему деньги и сама спрыгнула на землю. Дом Валентины был в двух шагах от меня.
Я легко прошла через ворота, но в дверь мне пришлось звонить очень долго. Лакей, открывший мне, едва увидев меня, сразу сдвинул брови:
— Ты кто такая? Что тебе нужно?
Я вскинула голову, будто хотела показать ему лицо. «Этот человек просто не узнал меня, — подумала я. — Не может же быть, что ему приказали меня не впускать».
— Мне нужна госпожа Брюман, болван! Я ее подруга. Ты, должно быть, просто спятил, если не узнаешь меня.
Он лишь слегка посторонился, пребывая в явном замешательстве, и я сразу увидела Валентину, спешащую ко мне. Она подбежала, схватила меня за руку. Лицо у нее было просто безумное.
— Сюзанна, как только вам пришло в голову явиться ко мне?! Там, наверху, — полицейский, он с самого утра сидит у меня…
Ужас и злость захлестнули меня, сковали на миг все движения. Валентина настойчиво тянула меня за руку.
— Куда вы меня тащите?
— Идемте, я проведу вас через черный ход. Так будет безопаснее.
Мы торопливо пересекли прихожую, и Валентина повела меня через какие-то многочисленные комнаты, желая обойти парадный вход. У меня очень болела голова, и единственное, что я хорошо ощущала в тот миг, — это злость на Валентину.
— Вам нужно немедленно уйти, — говорила она испуганно. — Не приходите больше сюда. Они вас именно здесь и поджидают.
Я была убеждена, что она не так беспокоится о моем благополучии, как хочет поскорее от меня избавиться. Никто не уверил бы меня в обратном. Уж такова эта мадам Брюман. Конечно, ей нельзя быть такой добродетельной и самоотверженной, как раньше, теперь у нее есть богатый муж, деньги, достаток — словом, есть что терять.
Я остановилась, резко высвободила свою руку.
— Можете вы объяснить, почему унизились до лжи?
Белая как полотно, с глазами, в которых застыл ужас, Валентина протянула мне смятую бумажку.
— Взгляните… Он прислал мне это вчера в полдень.
Я бегло просмотрела написанное, сразу узнав руку Клавьера. «Дражайшая мадам Брюман, лишь одно слово в защиту вашей милой сестрицы — и мне надоест закрывать глаза на деятельность господина Брюмана. Как вы понимаете, еще со времени нашей с вами встречи на торгах само присутствие вашего мужа в Париже вызывает у меня величайшую досаду».
— И вы из-за пустой угрозы решили подвести меня под суд? — вскричала я, в ярости комкая записку.
— Это не пустая угроза… Он вел с Жаком много дел, он знает моего мужа и в два счета может его уничтожить.
— Может! Еще только может! А меня арестовывают уже сейчас!
Она молчала. По этому молчанию, невыносимому для меня, я поняла, что ничего иного от Валентины не добьешься.
— Почему же вы даже не предупредили меня? Почему не послали человека и не сообщили, что Клавьер угрожал вам? Почему не сделали хотя бы это?
Глаза Валентины расширились. Как я поняла, она даже не подумала ни о чем подобном.
— Сюзанна, если вам нужна какая-то помощь — деньги, например, я…
Меня до глубины души возмутил ее тон. Она словно записала меня в неудачницы, словно никакого сомнения не имела насчет того, что Клавьер выиграет, а я буду либо арестована, либо сбегу. Честно говоря, я и сама не знала, как выкручусь. Но почему она хотя бы для вида не верит в мою удачу?
— Деньги? — процедила я сквозь зубы. — Отдайте свои деньги бедным!
— Сюзанна, но…
— Идите вы к черту! Именно там вам и место!
Круто повернувшись, я выскочила за дверь и, оглянувшись по сторонам, выбралась на улицу. Быстро мчавшийся экипаж чуть не сбил меня. Я подумала, что мне снова следует нанять коляску и куда-то поехать, но исполнять свое намерение я не спешила. Тоска охватила меня. Я свернула на улицу Сен-Луи и медленно пошла вдоль домов, размышляя над своим положением.
Что и говорить, оно было незавидным. Чем дальше удалялась я от дома Валентины, тем тверже убеждалась, что я поступила неправильно. Гнев и презрение не позволили мне воспользоваться ситуацией и взять хотя бы то, что было мне крайне необходимо, — например, деньги и одежду. Я ведь под плащом была почти что в нижнем белье. И что теперь делать?
Погода, как в насмешку, была солнечная. В такое время только жизни радоваться, а не брести куда глаза глядят. Я остановилась, глядя в небо: оно было по-весеннему голубое, прозрачное, с медленно плывущими белыми кучевыми облаками. Ветер, долетавший с Сены, был теплый и приносил пряные ароматы свежих трав. Уже повсюду были слышны галки, грачи, иволги.
— Кого вы ждете, мадемуазель? Уж не меня ли?
Вздрогнув, я обернулась. Какой-то мужчина в довольно поношенном сюртуке и далеко не чистых панталонах обращался ко мне. Плащ Эжени был виной тому, что меня приняли не за ту, кем я была. Да еще мое странное поведение — я словно застыла посреди улицы.
Мужчина приблизился и, осклабясь, схватил меня за талию.
— Может, вам идти некуда? Так пойдемте ко мне.
Запах, исходивший от него, был далеко не приятен, и, вдобавок ко всему, его руки жадно зашарили по моему телу. Дикое возмущение овладело мной.
— Пошел прочь, убирайся! Глупый индюк, деревенщина!
— О, да мы из недотрог? А ведь почти голая под плащом!
Он оставил меня и отошел, злобно усмехаясь. Я не сразу смогла опомниться, но, желая поскорее уйти и забыть об этой встрече, быстро пошла по улице, нырнула в какую-то подворотню, прошла через двор, чуть не заплутав между домами, и, преодолев крутой спуск, оказалась на шумном, многолюдном бульваре. Здесь, в тени больших каштанов, возле какой-то лавчонки, я и пришла в себя.
«Надо что-то делать, — решила я. — Нет смысла бродить по Парижу, рискуя наткнуться на полицию». Хотя я и не знала, что именно следует предпринять, но решила для начала нанять извозчика. Я сунула руку в карман, чтобы достать деньги, и похолодела.
Денег не было. Подумав сначала, что это галлюцинация, я даже вывернула карман и проверила его швы. Нет, все правильно. Я потеряла свои десять ливров и осталась вообще без гроша. Хотя потеряла ли?
— Ах, мерзавец! — выдохнула я, сразу вспомнив о том вонючем типе, который пристал ко мне на улице Сен-Луи.
Без сомнения, это он украл деньги. Мне не следовало быть такой беспечной, я ведь слышала о необыкновенно ловких карманниках, виртуозно владеющих своим ремеслом, только и ждущих такую простофилю, как я.
Сознание того, что я ограблена, и неожиданный сильный приступ головной боли на миг сломили меня. Голова закружилась так, что я с испугом решила, что сейчас сяду прямо на тротуар; чтобы избежать этого, я оперлась рукой на витрину магазина. Надо было переждать эту слабость. Но почти в ту же секунду из двери лавки выскочил разъяренный приказчик:
— Как ты смеешь хвататься за стекло? Ты знаешь, что это я его вытираю? Ну-ка, пошла вон, девка!
Я чувствовала себя такой разбитой, что у меня недостало духу ответить ему даже полным ярости взглядом. Шатаясь, я побрела по бульвару, потом повернула к мосту О-Шу, сама не зная, зачем выбираю такое направление.
Мысли мои с каждой минутой становились все более неясными, но я все же вспомнила о Жозефине, подумала, не может ли она помочь мне, и сразу же решила, что не может. Она была более чем кто-либо замешана в связях с банкирами. Она постоянно брала в долг, подписывала какие-то контракты, выплачивала займы, вмешивалась во всякие финансовые операции — словом, ее имя было очень тесно связано со всевозможными денежными аферами. Значит, можно предположить, что она у Клавьера на крючке. А как же иначе? Он один из самых влиятельных банкиров. К тому же Жозефина и так ничем не могла бы помочь. Она ведь ничего не видела. Так она и скажет… Было бы безумием даже являться в их дом.
И в Бретань я вернуться не могу. Должно быть, меня будут ждать на заставах. Да что там говорить — у меня даже денег нет! Сознание безысходности так меня пришибло, что я опустила голову. Мне стало казаться, что я серьезно больна. Меня бросало то в жар, то в холод, и я шла, едва передвигая ноги.
Тогда я решила: первое, что мне следует сделать, чтобы спастись от полиции и не упасть от слабости прямо на улице, — это найти убежище. В гостиницу я пойти не могла. Был еще разграбленный дом на Вандомской площади, который я отвоевала у Клавьера. Вполне возможно, что там меня будет искать полиция. Но, поразмыслив, я решила рискнуть. Ведь больше мне некуда было идти.
«Будь он проклят, — подумала я, идя по улице. — Да, пусть он будет проклят и попадет в ад. Только этого Клавьер и заслуживает».
На этом мои мысли прервались. Мигрень, кажется, усиливалась с каждым сделанным мною шагом, в ушах шумела кровь, так что я не слышала ничего, что происходило вокруг. Я даже не замечала полицейских. Было очень жарко — то ли от погоды, то ли от болезни; испарина выступила у меня на лбу, губы пересохли. Я шла и порой на ходу бредила. Мне мерещился Корфу, апельсиновые рощи, чудесная прохлада нашего домика в Платитере… Потом перед глазами вдруг всплывала физиономия Клавьера; с жестокой ухмылкой он будто подталкивал меня к бездне, где бушевало пламя, — я уже чувствовала жар огня, он дышал мне в затылок, лизал платье, и вот я уже горю — с головы до ног…
Я остановилась, пошатываясь. Прошло несколько секунд, прежде чем я успела осознать, что стою на Вандомской площади. Я не знала, который сейчас час, скоро ли наступит вечер. И я до сих пор не понимала, каким чудом мне удалось добраться до места. Я ведь была больна и шла пешком. Я почти бредила… Должно быть, сам Бог привел меня сюда.
— Мне надо лечь, — проговорила я тупо.
Я знала, что, когда переживаешь приступ жестокой мигрени, лучшее лекарство — это уснуть. После сна все пройдет. Я снова буду здорова, смогу позаботиться о себе и еще всех переиграю. Они еще не знают, с кем связались.
Я прошла через ворота и остановилась у будки сторожа. Внутри никого не было. Зато я заметила на ящике кусок рогалика, прикрытый бумагой, и яблоко. Сейчас есть мне не хотелось, но я машинально собрала всю эту снедь и рассовала по карманам.
Дверь была заперта. В прошлый раз я сама позаботилась об этом. Я обошла дом и, заметив окно, разбитое ветром, решительно обернула руку плащом. Потом изо всех сил ударила по стеклу. Вот теперь у меня был вход, достаточный для того, чтобы я могла пролезть. Я убрала осколки, лишь слегка оцарапав руку. Шум меня не пугал: сторож глух, а со стороны площади меня вряд ли кто-то услышит. Я влезла в дом через окно, остановилась посреди комнаты, переводя дыхание, и только потом вспомнила, что даже не попыталась проверить, не поджидает ли меня здесь полиция.
«Мне везет, — мелькнула у меня мысль. — Я столько глупостей наделала, была так неосторожна, что без везения давно бы попалась. Видимо, правда на моей стороне».
Впрочем, как можно говорить «видимо»? Из-за этой проклятой мигрени в голову приходят совершенно нелепые вещи!
Держась за перила, я поднялась на второй этаж, где, как я помнила, должен был быть довольно удобный диван. Но, так и не дойдя до него, а лишь миновав ступеньки, я ощутила такую слабость, что рухнула ничком прямо на пол.
Наступила минута полного, абсолютного покоя. Тревоги, мысли, силы — все покинуло меня. Я забылась, наслаждаясь собственной неподвижностью, и на миг стала будто слепа и глуха ко всему. Но это продолжалось недолго. Сознание возвращалось, и я поняла, что нужно встать. Надо сделать еще несколько шагов. Всего два шага…
Кое-как я встала на колени и доползла до дивана. На нем было гораздо мягче, чем на полу, и блаженная истома охватила меня.
Я еще успела подумать о Баррасе. У меня ведь была назначена встреча с ним. Но разве я могла туда пойти? Без сомнения, он уже знает о том, что меня объявили убийцей Флоры, невинной порядочной гражданки. Да если бы и не знал, я бы все равно не могла к нему явиться в одной нижней рубашке. У меня ужасный вид.
И, кроме всего прочего, я была не в силах куда-либо идти, даже если бы от этого зависела моя жизнь.
5
Проснулась я от холода.
Дождь барабанил по крыше. Капли из открытого на чердак люка падали на пол, их брызги разлетались и касались даже меня. Я чувствовала себя изрядно замерзшей. Поглядев в люк, я сделала вывод, что сейчас, должно быть, раннее-раннее утро. Небо было еще почти темное, не залитое огнем рассвета. Ветер на улице был сильный, я слышала, как гнутся под ним деревья.
Боли больше не было. Я чувствовала себя здоровой. Я могла идти. И я даже ощущала голод. Вспомнив о еде, украденной у сторожа, я съела сперва рогалик, а потом сгрызла яблоко. Дождевая вода, падающая через люк, позволила мне умыться. Порывшись в вещах, которые чудом уцелели, я среди всяких мелочей отыскала гребень и стала причесываться. Мало-помалу события вчерашнего дня начинали вырисовываться в моем сознании. Да, конечно, подумала я, головная боль уже прошла, и это хорошо, но мое положение остается почти безвыходным. У меня нет даже одежды. Нет денег, чтобы эту одежду купить. Меня ищет полиция. Так что положение не «почти безвыходно», а безвыходно, и все тут.
Кто мне может помочь? Кто в силах сокрушить Клавьера? Никто. Этот негодяй давно уже всех купил. Он поставил меня в такое положение, что я даже деньгами своими не могу воспользоваться. Стало быть, я должна думать не о том, как оправдаться, а о побеге в Бретань. Но и это решение порождало многочисленные проблемы.
Ах, если бы у меня хоть пистолет был! Тогда бы я…
Не закончив своей мысли, я застыла на месте. Громкие голоса донеслись со двора, и луч фонаря прорезал темноту. К счастью, сторож был глух, и это заставляло всех, кто обращался к нему, говорить как можно громче. Разговор велся почти на уровне крика.
— Что? Что вы говорите? — переспрашивал сторож.
— Мы хотим осмотреть дом, болван! Подавай-ка ключ!
«Полиция», — решила я сразу, и кровь застучала у меня в висках. Впопыхах схватив свой плащ и шляпу, я, будто в лихорадке, стала спускаться по лестнице. С превеликим трудом мне удалось вспомнить, где же то окно, через которое я вчера проникла в дом. Я спрыгнула на землю и при этом так ушиблась, что на несколько секунд онемела от боли. Потом, когда первый шок прошел, я бросилась бежать не разбирая дороги.
Мало-помалу до меня дошло, что за мной никто не гонится, и это успокаивающе подействовало на мое сознание. Задыхаясь, я перестала бежать, а потом пошла еще тише. Дождь, кажется, прекращался, но я уже слегка промокла. Я стала оглядываться по сторонам, пытаясь определить, где нахожусь; из-за волнения мне это долго не удавалось.
И, как-то вдруг бросив это занятие, я подумала о Талейране.
Я не знала, где он сейчас, чем занимается, находится ли в Париже. Но я сразу поняла, что Талейран — единственный человек, который обладает большим влиянием, большими связями и большой властью, единственный, кто выказывал мне расположение. Я, конечно, не могла назвать его другом. Но что-то в нем вызывало у меня симпатию. Он был негодяй, но уж очень очаровательный негодяй. И, кроме этого, я больше не знала, к кому обратиться.
Надо отправляться к нему. Нельзя упустить эту последнюю ниточку. Сейчас раннее утро — Талейран, должно быть, еще дома, а не в министерстве. При условии, конечно, что он ночевал не у любовницы. Любовниц у него было множество.
Я снова стала оглядываться вокруг и снова не могла определить, по какой улице иду; тогда, отчаявшись понять это самостоятельно, я обратилась к первой попавшейся мне молочнице с нелепым вопросом:
— Скажите, сударыня, где я нахожусь?
— Да ведь это улица Эшель, милочка! Совсем рядом с Карусельной площадью!
Я вздрогнула. Да, так и есть… Вероятно, только волнение и утренний туман не позволили мне понять это самой. Я была почти на площади Карусель, так близко от своего врага — Клавьера, который жил в моем доме и организовал всю эту травлю. Я закусила губу, чувствуя, как ненависть подкатывает к горлу. Нет, в Бретань я просто не имею права убегать. Надо поставить этого подонка на место. Я была готова руками рыть землю, лишь бы он понял, что зря со мной связался.
Я могла передвигаться по Парижу только пешком, поэтому, когда добралась до улицы Варенн, было уже около девяти часов утра. Пожалуй, лучше было бы отправиться сразу в министерство. Но, может быть, мне повезет, и я все-таки застану Талейрана.
Я понимала, что одежда на мне такова, что я вряд ли могу надеяться, что меня пропустят в дом. Меня в подобном наряде примут в лучшем случае за горничную. Поэтому я остановилась у ворот и терпеливо стала ждать, когда проедет карета Талейрана.
Вокруг меня кипела жизнь. Париж давно уже проснулся, и улицы его были полны народа. Давно уже открылись магазины и лавки. На рассвете казалось, что день будет серый, дождливый и туманный, но с каждым часом погода становилась все приятнее. Сияло солнце, отражаясь в лужах. Воздух — он в Париже обычно оставляет желать лучшего — нынче был легкий и благоухающий, словно весь город полнился цветочными ароматами.
Прошел час, второй… Я начала понимать, что жду зря, что Талейран, вероятно, давно уехал на службу. По улице с громкими криками шел мальчишка — разносчик газет. Я долго не могла решиться подойти к нему — стыд за то, что у меня нет денег, не давал мне сдвинуться с места. Но любопытство в конце концов пересилило, я подошла и как можно тише произнесла:
— Дай мне посмотреть «Монитёр», дружок. Всего на одну минуту.
— А что, денег у вас нет? — спросил он, подмигивая.
— Нет.
— У меня тоже негусто. То-то мы друг друга поняли!
С этими словами он протянул мне газету, предупредив:
— Только на минуту, гражданка. Мне дальше надо идти.
Я поспешно просмотрела свежий, пахнущий краской номер, и сердце у меня упало. Да, так и есть, в верхнем углу было напечатано сенсационное сообщение: «Гражданке дю Шатлэ предъявлено обвинение в убийстве Флоры Клавьер». Далее следовали россказни о том, сколько бед натворил мой муж в Бретани, и всякие домыслы по поводу моей связи с Клавьером.
«А ведь это может прочитать и Поль Алэн, — подумала я с ужасом. — И даже Александр…» Внутри у меня все похолодело. Я молча отдала газету мальчишке. То, что о моей беде теперь станет всем известно, очень угнетающе на меня подействовало. Ведь многие поверят этим выдумкам. Но самое страшное будет тогда, когда об этом узнают в Белых Липах. Боже, да Анна Элоиза просто съест меня живьем. Оставалось надеяться только на то, что в Бретани не слишком любят газеты республиканского направления.
В этот миг из ворот выходил лакей, видимо, получивший какое-то задание, и я бросилась к нему с вопросом, где господин Талейран.
— Да где ж ему быть? В министерстве!
Не теряя ни минуты, я оставила свой пост на улице Варенн и решительно отправилась на Рю-дю-Бак, в министерство иностранных дел.
6
Фонарщик с длинным шестом шел вдоль домов, зажигая фонари, и улица, прежде окутанная сумерками, мало-помалу наполнялась тусклым мерцающим светом. Становилось холодно. Небо потемнело, тучи на нем казались чернильно-черными, и, похоже, снова собирался дождь.
Я поднялась со скамейки под липой, где сидела уже несколько часов и откуда отлично просматривался особняк министерства, и, перейдя бульвар, приблизилась к железной решетке. Вцепившись в ее прутья, я на какое-то время застыла, глядя, как гаснут огни в окнах особняка. Потом подошла к караульному.
— Он еще не уехал?
— Не беспокойтесь, красавица, — отвечал караульный, уже хорошо знакомый со мной. — Гражданин министр еще у себя.
— А что это за карета стоит у крыльца?
— Какая-то важная дама приехала к министру. Говорят, она англичанка.
Я догадалась, о ком идет речь. Талейран вообще питал слабость к англичанкам, чем давал повод для многочисленных подозрений. Сейчас речь, видимо, шла о герцогине Фитц-Джеймс, привлекательной тридцатипятилетней брюнетке, к которой Талейран был неравнодушен. Думая об этом, я почувствовала досаду. Хоть бы она не задержала его надолго!
Все сегодня складывалось не слишком удачно. В министерство меня не впускали, а называть себя я боялась. Я прождала весь день, а Талейран ни разу не вышел и никуда не поехал — хотя обычно всегда после обеда совершал променад в Люксембургском саду. Но на этот раз традиция была нарушена. Я прождала весь день. Я очень устала. Мне было холодно и хотелось есть. Порой меня охватывало отчаяние. Почему я решила, что Талейран поможет мне? Для него самым благоразумным было бы делать вид, что он и в глаза меня никогда не видел!
Мне повезло только с караульным. Он оказался доброжелательным малым и охотно отвечал на все мои вопросы. Он даже обещал подать мне знак, если бы министр вдруг появился, а я в это время отдыхала бы под липой.
Первые капли дождя упали мне на лицо. Я увидела, как из министерства вышла герцогиня и села в карету. Вздох облегчения вырвался у меня из груди. Когда карета проезжала мимо нас, я услышала голос англичанки. Она сказала:
— Мы едем в Сен-Клу, Джек.
Я порадовалась тому, что она уезжает. И радость была не напрасна: тотчас после того, как уехала герцогиня, к крыльцу была подана карета гражданина министра.
— О! Вот видите! — сказал караульный. — Вот вы и дождались.
Да, дождалась… Сейчас было уже восемь вечера. Дождь постепенно усиливался, но я была охвачена таким нетерпением, что ничего этого не замечала. Я переступала с ноги на ногу и была словно в лихорадке. Отчаяние испарилось, и кровь теплым, животворным потоком разлилась по телу. Когда на ступеньках особняка появился человек, одетый в черное, который прихрамывал и опирался на трость, я забыла обо всем на свете; я поднырнула под руку караульного, пробежала через двор, слыша позади угрожающие окрики, и бросилась к Талейрану.
— Господин министр! Ах, Боже мой! Вас так долго пришлось ждать!
Я увидела лицо Талейрана: сухое, бесстрастное, с насмешливыми складками у рта, и похолодела от невольного страха. Уж очень бесчувственным показался мне министр в эту минуту. И смотрел он на меня так спокойно-задумчиво…
— Сударь, пожалуйста… — проговорила я, умоляюще складывая руки. — Согласитесь выслушать меня!
Я понятия не имела, что он мне ответит, и ожидала только худшего. К нам подбежал караульный, схватил меня за руки, пытаясь оттащить в сторону.
— Вы уж простите меня, гражданин министр! Мы сейчас сдадим ее в полицию. Она, должно быть, какая-то безумная…
Талейран окинул солдата колючим взором.
— Отпустите эту женщину. Ступайте на свой пост и забудьте все, что вы видели.
Я не знала, что и сказать, до того поразительными были эти слова. Талейран надел шляпу и, оглянувшись, сердито постучал тростью по ступенькам — этот жест, видимо, адресовался лакею, потому что последний как из-под земли вырос, услышав стук, и распахнул перед нами дверцу кареты.
— Садитесь, сударыня.
Он подал мне руку, помогая занять место в карете, и этот его жест был точно таким, как и прежде, когда я еще не была объявлена преступницей и одевалась так, как соответствует герцогине. Стало быть, министр не боялся моего соседства… то есть не боялся скомпрометировать себя.
Когда карета тронулась, Талейран резким движением опустил занавески, и мы оказались в темноте, в которую не проникал даже свет уличных фонарей.
— Я все знаю, — прозвучал во мраке спокойный, но чуть ворчливый голос министра. — Наслышан уже о ваших деяниях… Где же вы были все это время?
— Ох, господин де Талейран, вы даже не представляете, что со мной случилось!
Запинаясь, очень сбивчиво я стала рассказывать ему все, начиная с того момента, как ко мне пришел инспектор Лерабль. Я не утаила даже приставаний вонючего типа и того, что у меня украли деньги. Талейран слушал, чуть изогнув бровь, и ирония проглядывала в его взгляде, направленном на меня. Он сидел, поставив перед собой трость и положив на нее руки; губы его чуть улыбались.
— М-да… — протянул он насмешливо, когда я закончила. — Теперь я могу понять, отчего вы явились ко мне в столь странном одеянии. И что, вы действительно проломили инспектору голову?
— Нет, — пробормотала я несколько обескураженно. — Он только потерял сознание. Возможно, ему придется немного полежать. В таких делах у меня есть опыт, и я…
Талейран разразился смехом. Пораженная, я подумала, что впервые слышу его смех.
— Поистине, дорогая, бретонцы сильно изменились, если стали производить цветы, подобные вам!
Внезапно прервав свой смех, он почти серьезно сказал:
— А ведь я почти горжусь знакомством с вами. Когда я уйду на покой, вы своими приключениями украсите мои мемуары.
Мне казалось, что разговор направился не в то русло, куда бы следовало. Я прервала собеседника:
— Господин де Талейран, вы, по крайней мере, верите, что я не убивала? Это все — дьявольская интрига, и ничего больше!
— Мне это известно, — сказал он, хмурясь.
— Известно? — переспросила я. — Откуда же?
— Потому что я знаю, как было дело у Бонапартов.
Вздохнув, он спокойно пояснил:
— Бонапарты, вся их семья, давно уже вызывают у меня интерес. Приходится наблюдать за ними, чтобы быть в курсе событий. И конечно же, такое громкое происшествие, как падение мадам Флоры с лестницы, не могло остаться без свидетеля. Моего свидетеля, — подчеркнул он.
— Но вы, разумеется, не можете назвать, кто это, — с горечью заметила я.
— Не могу. Я вообще стараюсь не раскрывать имен своих осведомителей. Поэтому мне хорошо служат.
— Может быть… вы как-то иначе поможете мне? — спросила я довольно робко.
Талейран долго молчал. Сердце у меня билось очень неровно во время этого молчания, и холодная дрожь пробегала по спине.
— У вас ведь нет больше друга, дорогая, э?
— Нет, — призналась я честно. — В Париже нет. Только вы.
— Так вот, то, что говорят обо мне злые языки, и то, как я сам отзываюсь о дружбе, — это болтовня. Видите ли, бывают столь трепетные чувства, что язык человеческий слишком слаб, чтобы выразить их. В нем просто нет таких слов. Дружба, любовь, преданность — это ведь то, что глубоко задевает нас, не так ли?
— Вероятно, — сказала я неуверенно.
— Об этом нельзя говорить без некоторой сдержанности. Как и при всякой атаке на наши чувства, мы стараемся отделаться молчанием или спрятаться за насмешкой, чтобы скрыть глубину своих переживаний. Вот и я насмешлив и зол оттого, что не хочу показаться слабым. А слабость моя — в сентиментальности.
Я слушала его и очень смутно понимала, к чему он клонит.
— Дорогая моя, я верю в дружбу. И настоящих друзей я не предаю, что бы я об этом ни говорил вслух. Иногда, конечно, я лишь прикидываюсь другом, но в отношениях с вами я искренен. Вы очень пришлись мне по душе, сударыня.
С улыбкой по-прежнему насмешливой — видимо, это вошло у него в привычку, — но лицом, на миг ставшим каким-то незащищенным, он повернулся ко мне и ласково коснулся завитка моих волос у щеки.
— Вы чистая душа, мадам дю Шатлэ. Вы искренне любите. Вы, как и я, совершенно этого нового мира не приемлете, но нам обоим приходится в нем жить. Вам лишь труднее в нем устроиться. Мне кажется, мы станем друзьями.
У меня перехватило дыхание. Я поняла, что он поможет мне. Я инстинктивно догадалась, что со стороны этого человека мне больше никогда не надо будет опасаться ни обмана, ни подвоха.
— Господин де Талейран, не знаю, как выразить, насколько я…
— Молчите, сударыня, — почти сурово прервал он меня, — мы приближаемся к заставе.
— А куда мы едем?
— В Сен-Клу.
— И меня не задержат?
— Черт побери! Разве я не приказал вам молчать?
Я замолчала, уяснив, что это самое лучшее. В карете министра меня никто не задержит. Такую карету никто даже остановить не посмеет. Я вспомнила, что герцогиня Фитц-Джеймс, уезжая от Талейрана, тоже отправлялась в Сен-Клу. Должно быть, у министра там какой-то дом, и сегодня я, кажется, испорчу Талейрану свидание с англичанкой. Впрочем… Мне ведь только бы уладить свое дело, и я нисколько не стала бы им мешать!
Мы благополучно, без всякой остановки, миновали заставу, а потом карета покатила по дороге, ведущей к мосту в Сен-Клу. Мы переехали Сену, и тогда Талейран, снова взглянув на меня, произнес:
— А теперь, мадам, прошу вас рассказать мне все о ваших отношениях с господином Клавьером, но, раз уж мы решили быть друзьями, прошу говорить правду, только правду и ничего, кроме правды.
У небольшого дома в Сен-Клу, сложенного из белого камня, стояла карета герцогини Фитц-Джеймс, и я поняла, что догадки мои были верны. Талейран, уже знавший о моих отношениях с банкиром все вплоть до нашей первой встречи на Мартинике, проводил меня в прихожую, где нас встретила аккуратная пожилая экономка.
— Шарлотта, приготовьте комнату для дамы, — распорядился Талейран.
— Как? Еще одна дама, монсеньор?
— Эта дама — моя посетительница. Она лишь переночует здесь.
Шарлотта, по всему видно, ничуть не поверила этим словам. Довольно сурово взглянув на хозяина, она спросила:
— А что передать той даме, которая уже ждет?
— Ничего, мой друг, ничего. К той даме я иду сам.
Он отдал свой подбитый мехом плащ лакею и, казалось, собирался уходить. Я сделала умоляющий жест рукой.
— Господин де Талейран! А как же… как же мое дело?
— Не думайте ни о чем, дорогая. Отдыхайте.
— И все будет улажено?
— И все будет улажено.
Почти успокоенная, я смотрела ему вслед. Этот человек казался мне всемогущим, просто волшебником. Он может справиться с Клавьером! Причем с такой легкостью, что это его даже не занимает. Почему я сразу не подумала о Талейране? Возможно, я провела бы ночь не здесь, а уже в своем доме.
Талейран, прихрамывая, поднимался по ступенькам. Одет он был, как и всегда после службы, в черный сюртук, белоснежную рубашку и ослепительно-белый тугой галстук. Врожденный аристократизм, века истории чувствовались за этой элегантностью. Каково же ему вращаться среди напыщенных манекенов, бывших конюхов и лакеев, не имеющих ни воспитания, ни вкуса, зачастую даже ума! Ему должно быть тягостно и смешно в таком обществе. Ему — такому насмешливому, умному, проницательному.
Даже немощь этого человека была притягательна. Он был хром, но и это придавало ему обаяние.
Меня проводили в комнату, обставленную с изяществом середины XVIII века. На меня так и повеяло Версалем от всех этих вычурных линий, изогнутых очертаний, пузатых пуфов на выгнутых ножках и воздушных золоченых столиков. Большая кровать красного дерева под овальным «польским» балдахином уже была расстелена, а подле нее был сервирован ужин.
Я была голодна, поэтому отдала должное и жареному цыпленку, и молочным блюдам, и сыру, и даже бутылке старого арманьяка. Потом, умывшись, легла в постель, убежденная, что не усну. Уж слишком чужим и необычным было это место.
Но я уснула, и последней моей мыслью было то, что я никогда и ни за что на свете не прощу Клавьеру унижений, которые я испытала за эти ужасные два дня — этих блужданий по Парижу, боязни полиции и особенно чувства отчаяния, заставлявшего меня иногда терять голову.
7
Проснувшись утром, я сразу посмотрела на часы. Было шесть утра. Я слышала, как от дома отъехала карета, а потом раздался унылый голос угольщика и стук обитых железом колес его повозки. Она громыхала по улице с ужасным шумом. Я поднялась, немного постояла, чтобы все вспомнить, потом накинула плащ и хотела выйти.
Дверь была заперта. Я и так и сяк пыталась повернуть ручку, но факт оставался фактом: дверь не поддавалась. Меня бросило в жар. Все подозрения мгновенно проснулись во мне, доверие к Талейрану исчезло. Уж не воспользовался ли он моим положением и не заманил ли меня в ловушку? Может, сюда сейчас придет полиция?
Охваченная самыми дурными предчувствиями, я забарабанила в дверь так, что у меня заболели ладони. Из-за двери не было никакого ответа. Обессиленная, я оперлась рукой о стену, прижалась лбом к ладони, переводя дыхание.
Наконец за дверью раздались шаги, потом ключ повернулся в замке, и передо мной предстала Шарлотта, еще в ночном чепце, но уже вполне одетая. Поправив очки, она сурово посмотрела на меня.
— Что это вы устроили такой шум?
Я в замешательстве взглянула на экономку. Она, кажется, готова была отчитать меня, как школьницу, за напрасное беспокойство и, похоже, вообще была склонна без особого почтения относиться как к хозяину, так и к его гостям.
— Но разве… разве меня не заперли? — спросила я озадаченно.
— Вас заперли, потому что на это были причины. Вас заперли, потому что это было разумно.
— Разумно?
— Да, иначе, сударыня, вы могли встретиться с той дамой, которая была в другой комнате. Монсеньор находил это нежелательным.
Она называла Талейрана «монсеньор», словно тот еще был епископом.
— Теперь эта дама уехала. Можете не беспокоиться.
— А где сейчас господин де Талейран?
— Монсеньор вот уже полчаса как работает. Он просил вас зайти к нему в кабинет после того, как вы приведете себя в порядок.
Шарлотта принесла мне воды и еще целый ворох одежды: платье, шелковые чулки с подвязками, изящные туфельки из мягкой кожи. Я обратила внимание на платье: модное, из дорогого темного бархата, очень хорошего покроя. Оно почти подошло мне.
— Когда вы будете уезжать, найдется приличный плащ и шляпа, — сказала Шарлотта.
— А чья это одежда? — спросила я, забеспокоившись.
— Госпожи герцогини Фитц-Джеймс.
— И она… она не обидится, что я взяла ее вещи?
— Не обидится. Она ездит по всяким домам, и у нее так много вещей, что она даже не знает толком, что ей принадлежит.
Она развернула зеркало так, чтобы я лучше себя видела.
— Ну-ка, давайте я вас причешу.
Руки этой служанки были так ловки, что, пожалуй, даже Маргарита с ней не сравнилась бы. Она уложила мои волосы, завила, надушила и потратила на все это едва ли пятнадцать минут.
— Это невероятно, — сказала я с улыбкой.
— Еще бы! Монсеньор знает, кого нанять!
Часы показывали уже семь утра, когда я с сильно бьющимся сердцем приоткрыла дверь кабинета.
Талейран, такой же аккуратный и собранный, как и вчера, сидел за своим рабочим столом и быстро что-то писал. Перо брызгало и рвало бумагу. Чуть в стороне лежал незапечатанный пакет. Министр, едва подняв голову, кивнул мне, приглашая сесть и подождать. Я опустилась на жесткий стул с высокой спинкой, но сидела очень прямо, напряженно сложив руки на коленях. Несмотря на то что все обстоятельства мне благоприятствовали, я не могла избавиться от волнения. Как-никак, сейчас я узнаю, как сложится моя судьба. Придется ли мне уезжать в Бретань, оставив после себя славу преступницы, или я буду жить в Париже, и посрамлю своего врага.
Ждать пришлось долго. Талейран работал, не отрываясь от бумаг ни на минуту. Я украдкой наблюдала за ним, вспоминала наш вчерашний разговор и, как ни пыталась, все равно не могла до конца понять, почему же он помогает мне тогда, когда все от меня отвернулись. Он говорил о симпатии, дружбе, происхождении. Но, глядя на него сейчас, такого холодного, напряженного, бесстрастного, я не могла поверить, что все это может быть для него важным.
Он поднял голову.
— Вы хорошо спали?
Я кивнула. Его холодные синие глаза внимательно окинули меня взглядом, и он улыбнулся.
— Ба, да вы просто восхитительно выглядите, мадам дю Шатлэ. Вам не следует подолгу жить в Бретани. Я по привычке полагал, что эта унылая земля производит только вереск и дрок, а там, оказывается, бывают розы не хуже наших. Э?
— Это первый комплимент, который я от вас услышала, господин де Талейран, — сказала я.
— Стало быть, это только начало.
Мне было легко с этим человеком. Возможно, это чувство было вызвано благодарностью, но я успокаивалась уже от того, что слышала звук его голоса. Похоже, мне еще предстоит оценить, до какой степени мне повезло, что Талейран взял мою сторону.
— Господин министр, простите, но я все-таки хотела бы знать, как быть с Клавьером и тем, что…
— С Клавьером? Клавьер, моя дорогая, очень скоро пожалеет о том, что имел неосторожность досадить вам, ибо это ему придется улаживать то, что им же и было начато.
— Почему вы так уверены?
— Потому что многие люди находятся в моих руках, друг мой, а Клавьер — в особенности. Взгляните-ка.
Он взял тот самый незапечатанный пакет и протянул его мне. Внутри было какое-то письмо.
— Я могу прочитать?
— Да, разумеется! Вы должны прочитать.
Я осторожно развернула письмо. Оно было короткое и весьма сухое.
«Господин Клавьер, весьма неприятное дело вынуждает меня писать вам. Женщина, пользующаяся моим искренним уважением и симпатией, попала в тяжелое положение, суть которого и мне, и вам хорошо известна. Мне известно также и то, что ваше участие в вышеупомянутом деле сыграло решающую роль. Не сомневаясь в том, что вы участвовали в нем лишь по недоразумению, а не по злому умыслу, я вынужден настоятельно просить вас прекратить причинять неприятности знакомой нам обоим особе, иначе вы поставите меня перед необходимостью предать гласности факты, касающиеся ваших связей с Англией, ваших депеш сэру Уильяму Питту и вашего сотрудничества с английской разведкой.
Дабы вы поверили в серьезность моих намерений, довожу до вашего сведения, что знаю, каким образом вашим судам удавалось свободно проходить английскую блокаду, какой ценой вы заслужили столь редкое расположение английского правительства и какой была ваша ему благодарность.
Учитывая наши общие проанглийские симпатии, давайте поступим с дамой по-джентльменски. Услуга за услугу, господин Клавьер. Вы забываете о своих претензиях, а я забываю о вас».
Потрясенная, я подняла на Талейрана глаза.
— Клавьер был английским шпионом?
— Я не удивлюсь, если он и сейчас им остается. Имея близкие с ним отношения, вы должны знать, что и мрамор, и золото, и кофе, на которых он богатеет, ему привозят из Вест-Индии, а Вест-Индия, друг мой, — это, увы, вотчина Англии… Клавьер вынужден дружить с этой страной, и я хорошо его понимаю.
— И если… если о его связях с Англией станет известно… Господин де Талейран, да при нынешних намерениях Бонапарта воевать с Англией Клавьера приговорили бы к вечной каторге!
— Да, но ведь мы не будем столь кровожадны, правда? Зачем уничтожать человека, если можно просто держать его в руках и иногда пользоваться его влиянием.
— Вы хитры. И на многих людей у вас есть такие досье?
— На многих. Когда я был в эмиграции в Англии, я не терял времени даром. Думаю, вы понимаете, что все это должно остаться между нами.
— Господин де Талейран, — сказала я искренне, — вы можете быть уверены, что у вас нет лучшего друга, чем я. Я, конечно, влияния в политике не имею, но…
— Да будь она проклята, эта политика! — сказал он, улыбнувшись одними глазами. — Я люблю поговорить откровенно, но не всегда имею такую возможность. Вы, друг мой, для меня просто как глоток свежего воздуха. Я не слишком патетичен, э?
Я покачала головой, снова и снова перечитывая письмо. И мне вдруг стало ясно, что я ведь и раньше могла догадаться, что Клавьер имеет какие-то связи с английской разведкой. Достаточно вспомнить замок Шато-Гонтье и разговор между Флорой и Лескюром, подслушанный мною. «За то, что Рене делает для Англии, во вред Республике, любой король возвел бы его в герцоги!» — сказала Флора. «Кузина, — ответил Лескюр, — вы сами хорошо знаете, что он делает это не за так. За его услуги Англия позволяет его кораблям проходить сквозь блокаду…» Да-да, именно так он и сказал.
Радость — бурная, безумная — охватила меня. Я готова была заплакать и засмеяться одновременно; мне ужасно захотелось расцеловать Талейрана в обе щеки, но стеснительность удержала меня. Впрочем, глаза у меня сияли так, что министр и без поцелуев все понял.
— Господин де Талейран, вы возвращаете меня к жизни!
— Гм… По крайней мере, я могу сказать, что сделал в своей жизни хоть одно доброе дело.
— Здесь нет подписи, — сказала я, разглядывая письмо.
— А она и не нужна. Он и без того поймет. Впрочем…
Он забрал у меня письмо, вложил его в конверт и запечатал.
— Впрочем, мы украсим его министерской печатью, и это придаст нашему шантажу более респектабельный вид.
— А вы не боитесь, что это письмо может повредить вам самому? Вы тут пишете об «общих проанглийских симпатиях»…
Насмешливо качая головой, министр произнес:
— Выбросьте это из головы. Я знаю людей. Едва господин банкир прочтет эти строки, то первым делом бросится предавать их огню. Так что я никоим образом не пострадаю. Впрочем, мне приятно, что вы вспомнили обо мне.
Он позвонил. Явившийся на зов камердинер получил приказ подавать к крыльцу карету.
— Я сейчас еду на службу, сударыня. Вы побудете здесь после моего отъезда, я пришлю вам свою карету. В ней вы беспрепятственно проедете через заставу в Париж. Кстати, это письмо… Каким образом мы доведем его до сведения Клавьера? Мне послать человека?
— Нет! — воскликнула я, вскакивая. — Нет, ни в коем случае!
— Что же вы предлагаете?
— Я сама его отвезу. Я хочу видеть лицо этого мерзавца, когда он все это прочтет… Прошу вас, господин де Талейран, не лишайте меня этой радости.
— Действительно, радость невиннейшая, — заметил он с ироничной усмешкой. — Хорошо. Я лишь советую вам быть осторожной.
— Я всегда осторожна, когда имею дело с ним… Спасибо вам еще раз, господин министр.
Он поднялся, взял трость и медленно двинулся к выходу. У самой двери обернулся, лицо его было обеспокоено.
— Да, вот еще что… — протянул он, делая небрежный жест. — При встрече с мадам Грант не упоминайте об этом доме… и о герцогине Фитц-Джеймс тоже. Договорились?
Улыбаясь, я быстро подошла к нему и очень искренне протянула ему руку — не для поцелуя, а именно для пожатия, как другу.
— Господин де Талейран, спасибо… Я теперь вечная ваша должница. И мне так жаль, что во время нашей первой встречи… ну, словом, я была непростительно невежлива.
— Вы имеете в виду то, что назвали меня предателем? Да, вы были смелы.
— О! Да я проклинаю себя за эту смелость!
— Вы были более чем смелы. Вы были правы.
Вконец растерявшись, я не находила ответа. Потом прошептала:
— Но ведь это ничего не меняет.
— Я рад.
Он еще раз осторожно пожал мне руку и, прихрамывая, вышел на лестницу.
8
Едва проехав заставу, я вышла из кареты Талейрана и приказала кучеру возвращаться в министерство. Карета министра всем бросалась в глаза, и ее мелькание по городу непременно было бы замечено, а я не хотела компрометировать своего спасителя.
Впрочем, карета была мне уже не нужна. Любой извозчик, видя меня в моей теперешней одежде, не спрашивал наперед, сколько у меня денег, а покорно вез меня туда, куда я приказывала. Я назвала кучеру адрес: площадь Карусель, одиннадцать. Когда мы приехали туда, был уже полдень. Я приказала извозчику ждать, а сама отправилась в дом Клавьера.
Торжество переполняло меня. Торжество, смешанное с ненавистью и гневом, все еще не утоленным. Впрочем, я вряд ли смогу когда-нибудь забыть или простить Клавьеру эти последние два дня. Я не знала, что такое можно сделать, чтобы расквитаться с ним за этот сплошной кошмар.
Я уже не пыталась понять, что руководило им, что заставляло преследовать меня. Вероятно, это были любовь и ненависть одновременно, но сейчас я не хотела над этим задумываться. Не хотела вникать в смысл поступков Клавьера, а тем более жалеть его. Мне хотелось только одного: унизить его, оскорбить… может быть, плюнуть ему в лицо, как тогда, в Консьержери. Пожалуй, если бы я сделала это, ярость, терзающая меня, была бы хоть наполовину утолена.
Я подумала о своих близняшках и вспыхнула. Теперь я даже умом не хотела воспринимать того, что Клавьер — их отец. Физической связи между нами я давно не признавала. Да и не надо признавать. Близняшки — только мои, я одна их выносила и родила, а причастность к этому Клавьера надо забыть и вычеркнуть из памяти навсегда.
Дом банкира, к моему удивлению, не был отмечен даже ритуальными знаками траура, а в левом крыле здания, как и прежде, продолжались какие-то строительные работы. Правда, у лакея, встретившего меня в вестибюле, рукав был украшен черным бантом.
Он поклонился мне и почтительно застыл на месте, придерживая дверь и ожидая, что же я скажу.
— Дома ли господин Клавьер? — спросила я сухо.
— Нет, сударыня. Желаете подождать?
— Нет. Желаю узнать, где он. В банке?
Лакей сделал отрицательный жест.
— Господин банкир всегда по пятницам уезжает в клуб. Знаете клуб «Старина Роули»? Правда, осмелюсь заметить, что дамам лучше туда не ездить.
Не слушая его, я вышла и направилась к карете. То, что я услышала, мне совсем не понравилось. Я знала заведение, о котором говорил лакей: это было нечто вроде кабака, публичного дома, бильярдного зала и мужского клуба, собранных воедино. Там нувориши заказывали себе отдельные кабинеты и наслаждались жизнью. Даже название говорило само за себя: Старина Роули — это была кличка жеребца Карла II. Словом, это было крайне неприличное заведение, куда порядочным женщинам лучше не ходить.
Когда я назвала извозчику адрес, он изумленно обернулся.
— Вы уверены, что вам надо именно туда, сударыня?
— Да! Уверена! И советовала бы вам не болтать, а ехать туда, куда приказано.
Приехав на место, я отпустила извозчика и быстро подошла к ограде. Взялась за ввинченное в дубовую дверь кольцо и сильно постучала. В двери открылось окошко, и привратник долго разглядывал меня.
— Что вам надо? — спросил он наконец.
— Я пришла к господину Клавьеру, — сказала я.
— О! Так вам же на час позже назначено.
Этот ответ я поняла так: видимо, какая-то женщина должна приехать к банкиру, привратник об этом предупрежден, но в лицо ее не знает.
— Ничего, — сказала я резко. — Пропустите-ка меня.
Он отворил, я быстро вошла, и дверь тут же была захлопнута. Какую-то долю секунды я постояла в нерешительности: оказавшись на просторном дворе, я не знала, куда следует идти. Не желая дать пищу для подозрений привратнику, который, без сомнения, полагал, что я здесь не впервые, я наугад повернула влево и зашагала к нарядному зданию под черепичной крышей, увитой лозами винограда и плющом.
Мне повезло. Пройдя через несколько пустынных комнат, я оказалась в зале, который готовили, вероятно, к какому-то банкету. Стол уже был сервирован фарфором и хрусталем, а из узкого коридора, который вел, очевидно, на кухню, доносились прямо-таки умопомрачительные запахи. Выскочивший оттуда человек в малиновом жилете мельком взглянул на меня и бросил на ходу:
— Вы уже пришли? Так ступайте в кабинет.
Он сделал довольно неопределенный жест, указывая направление, и я решила этим руководствоваться. Галерея, задрапированная голубыми шпалерами, привела меня к чуть приоткрытой дубовой двери. Я заглянула внутрь, и сразу поняла, что пришла туда, куда надо.
Это был большой, роскошный кабинет с окнами, выходящими на тихую заводь Сены, заросшую вербами. Китайская лакированная ширма отделяла альков от остальной части комнаты. Клавьер в рубашке, расстегнутом жилете и кюлотах сидел спиной ко мне — сидел в очень небрежной позе, положив ноги на стол, и курил, стряхивая пепел на ковер. На столе стояли несколько бутылок вина, графин с водой и фрукты.
— Эй, — сказала я холодно, входя и плотно прикрывая за собой дверь.
Какой-то миг он оставался неподвижен. Потом повернул голову и, увидев меня, сразу поднялся.
— Ну что же? — сказала я. — Разве вы не рады меня видеть?
Он не ответил. Потом рассмеялся, разводя руками.
— Поразительно!
— Что поразительно?
— Да то, что вы нашли меня здесь. Какая наглость! Уж не думаете ли вы, что и меня сможете оглушить бутылкой, как беднягу Лерабля?
— Ну что вы, — сказала я, проходя на середину кабинета и присаживаясь к столу. — Для вас я нашла кое-что более убедительное.
Он тоже сел, и в его насмешливо-злом взгляде, направленном на меня, нет-нет да и проглядывала тревога. Я не чувствовала ни малейшего беспокойства. Меня привлекло яблоко в вазе: большое, румяное; я взяла его и с наслаждением откусила кусочек.
— Имейте в виду, — предупредил он меня, — вам ничего не удастся добиться. Что бы вы ни говорили, наш разговор закончится тем, что вас задержат. То, что вы сотворили с Лераблем, только подтвердило вашу способность на что угодно.
— Способность, вами же выдуманную, — уточнила я.
— Возможно. Но я давно отучил себя от благородства по отношению к своим врагам.
Со вздохом я откинулась на спинку стула и долгим взглядом посмотрела на Клавьера. Зеркало отражало меня: изящные линии полной груди и талии, белизну плеч, угадывающуюся под плотными кружевами корсажа, золотистого оттенка кожу, алые нежные губы. Я была довольна собой. В голове у меня уже вырисовывался дерзкий план того, чего я потребую от Клавьера, и мысли эти были так приятны, что я улыбнулась ему: загадочно, завлекающе, маняще.
Он нахмурился, заметив эту улыбку.
— Дело становится интересным, дорогая… Может быть, вы пришли соблазнить меня?
— Вынуждена разочаровать вас. Сегодня я исполняю лишь небольшую роль курьера.
— Уловки вам не помогут. Вам вообще ничто не поможет. Я вас предупреждал, но вы не сделали из этого правильных выводов. Вся предыстория наших с вами отношений свидетельствует, что мы не можем сосуществовать мирно.
— Ах, бедный, бедный Рене Клавьер, — проговорила я с улыбкой. — Это вы не хотите мира. И все потому, что я слишком вам нравлюсь, а вы мне нет.
Я поднялась и, покачивая бедрами, подошла к нему почти вплотную. Его взгляд, по-прежнему настороженный, остановился на моем лице, потом скользнул ниже, к груди, обрисованной тугим бархатом и чуть вздымающейся от дыхания. Брови его хмурились, но я заметила, как чаще заходил его кадык под плотным воротником.
— Черт возьми, — пробормотал он.
— Не чертыхайтесь при даме, господин Клавьер. Да еще при даме, которая вам так безумно нравится. Было время, когда вы просто с ума по мне сходили, — помните? Вы шли на самые ужасные выходки. И судьба улыбнулась вам. Я заметила ваши достоинства и отдала вам то, о чем вы так мечтали…
Если бы он заглянул мне в душу, то ужаснулся бы: таким гневом и отвращением она была переполнена. Но играть с этим человеком мне теперь было легко; впервые за много лет я была уверена, что разгадала его. Я находила какое-то жестокое удовлетворение в том, что говорила и как себя вела. Впервые я вела его за собой, а не он меня.
Моя рука ласково коснулась его щеки, чуть погладила, и мои пальцы почувствовали всю напряженность его мускулов. Я наклонилась к нему, на миг обожгла душистым дыханием ухо, и голос мой прозвучал так обволакивающе-мягко, почти бархатисто:
— Но вы не поняли. Не поняли, до какой степени вам повезло. К побежденному противнику вы потеряли интерес. Ведь уже не было надежды на азарт и острые ощущения. Но вы их снова обрели, когда я вернулась в Париж, когда я снова стала богата и независима, когда вы узнали, что у меня есть муж… Ну, не так ли? Бедняга, вы предпочли бы убить меня, но не дать мне возможности быть счастливой.
Мои руки мягко скользнули по его плечам. Он сделал попытку резко оттолкнуть меня, но, едва его пальцы коснулись моих обнаженных локтей, он отказался от своего намерения, и я испытала мстительное удовольствие, заметив это. Кольцо его рук становилось все более плотным, я заметила испарину у него на лбу. Наклонившись вперед, почти коснувшись грудью его лица, я жарко, страстно прошептала:
— А ведь вы мне нравились когда-то. Очень нравились. Я ночи не спала из-за вас… А вы так долго, целые недели, не приходили. Какая ошибка с вашей стороны! Как дурно вы потратили это время!
Он сильно, резко схватил меня за плечи, почти прижав к столу, и поднялся со стула. Взгляд его в этот миг был просто бешеный.
— Черт возьми, ты пришла продаться… Я сразу это понял. Ты едва вошла, а уже вела себя, как кошка. Ты сильно изменилась.
— В чем?
— Раньше ты не продавалась.
— А какая разница? Я все та же. Если бы я была такой тогда, разве не облегчило бы это вам задачу?
Я заметила, что он мне говорит «ты», как шлюхе, и злая усмешка тронула мои губы. Наши лица почти соприкасались. Я прошептала, касаясь губами его щеки:
— Вы изменились тоже… Куда делся тот мужчина, который мне нравился? Будьте же мужчиной, господин банкир! Умейте купить женщину, когда она продается!
Настоящий призыв, страстный и томный, вибрировал в моем голосе, да и вся я была в этот миг дрожащей, истомленной и жаркой, как воплощенное желание. Все мое тело, гибкое и сильное, просто дышало страстью. Я заметила, что подозрительности больше не под силу удерживать Клавьера. Взгляд его был жадно прикован к моим полуоткрытым губам, его колено протиснулось между моих ног, его руки коснулись моей груди.
— Тысяча чертей… — пробормотал он, словно прощаясь с последними колебаниями. — Тысяча чертей, а почему бы и нет…
Он все сильнее откидывал меня назад и почти рвал на мне одежду. Его рука, зарывшаяся в мои волосы, запрокидывала мне голову. Он прильнул к моим губам таким бешеным, жадным, терзающим поцелуем, словно в этом поцелуе воплотилась вся сила его желания и ненависти. В этот миг я осторожно высвободила свою руку, дотянулась до графина, с усилием подняла его и, резко отстранившись, вылила его содержимое на голову Клавьера.
Это был настоящий холодный душ. Я зло расхохоталась. Для меня не было ничего смешнее и отвратительнее теперешнего вида Клавьера: мокрого, на миг ослепленного, даже жалкого. Он сделал шаг ко мне, в его глазах полыхнула такая ярость, что я мигом отскочила и угрожающе коснулась веревки звонка.
— Ну-ка, стойте на месте! Не то я живо позвоню, и все увидят вас в столь неприглядном виде.
Глаза мои метали молнии. Вот теперь я считала возможным вести себя с ним естественно: резко, враждебно, грубо. Губы мои были сжаты, а вся фигура выражала такое презрение и ненависть, что, видимо, не только моя угроза, но и мой вид удержали Клавьера.
— Клянусь дьяволом, сударыня, вы кончите на гильотине, — произнес он, вытираясь салфеткой.
— Честное слово, это становится утомительным, — сказала я. — Надо поскорее заканчивать этот разговор.
— Разговор? Моя дорогая, вы не уйдете отсюда. Вы уедете. Но только в полицейской карете.
Как бы я к нему ни относилась, сила его самообладания меня поразила. Я только что посмеялась над ним, унизила его как мужчину, а он, можно сказать, даже бровью не повел. Ожидая куда более яростной реакции, я была слегка озадачена. Но стоило ли придавать этому значение?
— Если я уеду в полицейской карете, вы, сударь, уедете со мной, ибо я не доставлю вам удовольствия видеть за решеткой меня одну. И предупреждаю вас, мой приговор не будет так суров, как ваш.
— Что это с вами? Вы вздумали угрожать мне?
— Возможно, и так. Я принесла вам письмо.
— Еще одна уловка? Я вам клянусь, что…
— Не клянитесь, — сказала я язвительно. — Письмо от его превосходительства министра иностранных дел, и я, как старый друг, очень советую вам его прочитать.
Я протянула ему конверт. Взъерошив мокрые волосы полотенцем, он с усмешкой взял его и некоторое время вертел в руках.
— О ком вы говорите? О Талейране?
— Да.
— Вы знакомы с ним?
— Очень близко.
— Занятно… И что же, он просит за вас? Я никаких просьб удовлетворять не желаю.
— Он не просит, — бросила я презрительно. — Он лишь напоминает вам о вашем прошлом. Интересно, под каким псевдонимом значится ваше имя в картотеке на Даунинг-стрит, десять?
Его лицо исказилось, стало на миг таким злобным, что я испытала легкий страх. Клавьер быстро вскрыл конверт и пробежал письмо глазами. Шумный вздох вырвался у него из груди. Комкая бумагу, он подошел к камину, нашел огниво и трут и зажег свечу. Не говоря ни слова, он поднес письмо к пламени и наблюдал, как оно горит. «Талейран как в воду глядел, — подумала я. — Клавьер первым делом обратился к огню».
Наступило долгое молчание. Клавьер глядел куда-то вдаль, его глаза были устремлены за Сену, а сам он тяжело опирался на камин. Я впервые заметила, что он стал дороднее, чем прежде. Дороднее и как-то массивнее. Сколько ему лет? Сорок? Да, сорок или около этого.
— Флора была права, — сказал он наконец.
— В чем?
— В том, что вам кто-то покровительствует. Без важного покровителя вы не смогли бы так легко попасть в парижское общество и получить столько приглашений на все приемы.
— О, ваша Флора была права, — согласилась я любезно. — Жаль только, что ей не хватило ума понять, что я и без покровительства кое-чего стою.
— Вы говорите о покойнице, сударыня! Потрудитесь хотя бы подбирать слова.
Ни один мускул не дрогнул на моем лице.
— Флора сделала мне немало зла. Но своей смертью она причинила мне куда больше неприятностей, чем жизнью. Так что не пытайтесь остановить меня лицемерными упреками. Жива Флора или мертва — безразлично; и тогда и сейчас я сказала бы, что она была довольно мерзкой женщиной, к это сущая правда.
Помедлив, я презрительно бросила:
— Вы ведь даже не тоскуете по ней. Вы просто были рады досадить мне. Знаете, почему я вылила вам на голову графин воды? Да потому что мне хотелось дать вам почувствовать, до чего вы мерзкий и жалкий человек, Рене Клавьер… Какая женщина, обладающая достоинством, унизится до связи с вами?
Его губы дрогнули в кривой усмешке.
— А что, Талейран хорош в постели?
— Талейран?
— Не хотите же вы убедить меня, что не спите с ним.
— Вы… как вы смеете говорить так?
— Я говорю со шлюхой, которая продалась министру… которая до того научилась продаваться, что теперь может даже разыгрывать сцены. Я говорю то, что думаю.
— Но, по-видимому, не всегда думаете, что говорите, — сказала я холодно.
Он взмахнул рукой.
— Ну, хорошо! Я побежден. На этот раз. Вы довольны, милочка?
— Я вам не милочка! — огрызнулась я. — И я вовсе не довольна одним лишь вашим поражением…
— Чего же вы хотите?
— Того, чтобы вы немного послужили мне, господин Клавьер.
— Немного?
— Пока я не сочту, что обруч поднят на достаточную высоту, и не отпущу вас.
— Черт побери! — Он усмехнулся. — Это вас Талейран подучил? Проклятый хромой дьявол!
— Меня не надо учить. Я сама знаю, чего потребовать от такого негодяя, как вы.
Мы оба замолчали. Клавьер был в бешенстве, он едва сдерживался. Я стояла напротив него, ежеминутно ожидая, что он ударит меня. Уже раза два он взмахнул кулаком, и два раза опустил руку, взглянув на меня с кривой усмешкой. Я знала, что все это мне даром не пройдет, что рано или поздно он попытается отомстить мне и за графин с водой, и за дом, и за Флору, но сейчас победа была на моей стороне, и я должна была в полной мере ею воспользоваться. Так, чтобы извлечь из ситуации максимум пользы.
— Вы пожалеете, — проговорил он сквозь зубы.
— Не сомневаюсь. Но прежде чем мы поменяемся ролями, вы выполните мои условия, даже если вас разорвет от злости.
Он молчал. Я не отказала себе в удовольствии еще раз уколоть его:
— Как видите, сударь, деньги не всегда всевластны. Бывают положения, когда они приносят пользы не больше, чем песок.
— Быть может, хватит зря сотрясать воздух? Чего вы хотите?
— Вы немедленно прекратите все дела, начатые против меня. Вы напечатаете во всех газетах о том, что произошло недоразумение, так, чтобы весь Париж знал, что на мне нет вины. Это первое.
— Первое! А что на второе?
— А на второе вы замолвите перед вашим другом Баррасом слово за моего мужа. Вы избавите герцога от клейма «вне закона». Если за дело возьметесь вы, оно тронется с места.
Клавьер снова поднял руку. И снова опустил.
— Вы смешны, — сказал он.
— Не настолько, как вы, мокрый с головы до пояса.
— Вы всерьез полагаете, что можете меня заставить?
— Не знаю, как я, но Талейран может. Как вы думаете, если господин министр намекнет Бонапарту, этой новой синей звезде и надежде Франции, о работе, которую ведет Клавьер в пользу нашего врага, — как вы думаете, это понравится Бонапарту? А Директории? А самому Баррасу? Вы даже дружбой с Баррасом рискуете.
— Послушайте, — сказал он свирепо, — ну-ка, убирайтесь отсюда.
— Наши желания совпадают, гражданин Клавьер. Я тоже не хочу видеть вас ни минутой дольше.
— Что же вы не уходите?
— Я хочу еще раз напомнить вам о том, что вы должны сделать для моего мужа.
— Вы, похоже, имеете наглость мне приказывать?
— Я не приказываю. Я советую.
— Советуйте тогда, когда вашего совета просят.
— Я так обычно и поступаю. Но вы, гражданин Клавьер, иногда поступаете так опрометчиво, что я просто вынуждена просить вас не поступить так на этот раз.
— Вы воображаете, что полностью держите меня в руках?
— Да, — сказала я уверенно. — Впервые, гражданин Клавьер, я полностью держу вас в руках. И я не намерена быть слишком милостивой. Я буду ждать два месяца. Если по истечении этого срока я не буду удовлетворена, Талейран сам потребует у вас удовлетворения. Вы уже имели возможность убедиться, до какой степени мы дружны.
Я вышла, хлопнув дверью. Внутри у меня все вибрировало. Я не знала, удастся ли полностью мой шантаж, поверит ли Клавьер в выдумку о моих преувеличенно близких отношениях с Талейраном, но все равно ощущение успеха несло меня, как на крыльях. Ошеломленная, я даже немного заблудилась в переплетении галерей клуба, но потом сориентировалась и уверенно направилась к выходу.
Уходить действительно было пора. Клуб был не так тих и безлюден, как два часа назад; теперь здесь появились посетители, и мне хотелось поскорее уйти, чтобы, не дай Бог, не быть узнанной. Я и так поступила достаточно рискованно, когда решила явиться сюда.
У самого выхода я столкнулась с каким-то невысоким офицером. Столкновение было сильным, и сумочка оказалась выбитой из моих рук. Мужчина бросился ее поднимать, потом протянул мне с несколько вольным жестом:
— Не теряйте, моя красавица…
Мы буквально отшатнулись друг от друга. Я с ужасом узнала Ле Пикара. А он, без сомнения, узнал меня.
— Вот так встреча! — протянул он с непонятным мне выражением.
Я сжала зубы, проклиная на чем свет стоит свою неудачливость. Ле Пикар был в форме синего офицера, с розой в петлице. Его взгляд, устремленный на меня, был просто пронизывающий, и я невольно смутилась.
— Как странно, — пробормотала я в замешательстве.
— Что?
— Ну, встретиться вот так, неожиданно…
— …Да еще в таком месте, — подчеркнул он, подозрительно меня разглядывая. — Честно говоря, не думал, что вас можно здесь встретить.
— Но вы же тоже здесь, — попробовала защититься я. — Почему вы считаете, что быть здесь странно только для меня?
— Я мужчина. И я не женат, — ледяным тоном возразил он. — Мне трудно поверить, что в то время, когда ваш супруг рискует жизнью за короля, вы вот так запросто ходите по мужским клубам.
— Вы ошибаетесь, если в чем-то подозреваете меня.
— В чем-то?
— Ну, в чем-то плохом.
— Коль уж вы сами об этом заговорили, стало быть, для этого есть основания.
Я нетерпеливо передернула плечами. Тон Ле Пикара меня раздражал. Кто он такой, чтобы смотреть на меня, как судья?
— Послушайте, Антуан, уж не думаете ли вы всерьез… — Оборвав сама себя, я решила перевести разговор на другую тему. — Что вы делаете в Париже?
— Вряд ли я могу посвятить вас в тайны моей деятельности, — оскорбительно грубым тоном произнес он. — Но, помимо всего прочего, я намеревался передать вам письмо мужа.
— Ну, так давайте же его, — сказала я поспешно, сразу почувствовав, как накатывает на меня теплая, благотворная волна радости.
— К сожалению, я не знаю, нужно ли оно вам.
— Что вы имеете в виду? — спросила я раздраженно.
Его лицо стало каменным.
— Увидев вас здесь, я считаю себя обязанным прежде всего выяснить, что вы здесь делали. Александр — мой друг.
Кровь прихлынула к моему лицу. В этот миг я почти ненавидела Ле Пикара. Он, похоже, требует, чтобы я оправдывалась? Но что он знает обо мне? Что он знает об этих кошмарных днях, выпавших на мою долю? Какой болван!
— Это уже слишком, — проговорила я негодующе. — Мне остается надеяться, что в следующий раз Александр, чтобы передать письмо, выберет не такого глупца, как вы.
Я ушла, чувствуя, что меня душит злость. Подумать только, я так ждала известий… хотя бы записки! Я полгода ничего не знала об Александре толком! В кои-то веки так совпало, что и я, и Ле Пикар в Париже, и вот пожалуйста: этот идиот выделывает всякие выкрутасы! Допрашивать меня вздумал! Бывают же такие недоумки!
От отчаяния я готова была заплакать. Отсутствие Александра и собственное одиночество я ощущала теперь особенно сильно, и радость победы почти растаяла.
Когда на следующий день в газетах появилось сообщение о том, что известие о предъявлении гражданке дю Шатлэ обвинения «было результатом чистейшего недоразумения» и что «полиция приносит в связи с этим самые искренние извинения», я поняла, что мне из гостиницы можно вернуться домой. Там уже нет полиции. Я заплатила за номер и съехала.
Дома был настоящий переполох. Джакомо, Аврора, Стефания забросали меня вопросами, но я никого не торопилась посвящать в то, как провела последние дни. Уж слишком они были неприятны. Поэтому я деликатно попросила своих близких отложить вопросы и приказала подать себе обед: до того мне хотелось снова вернуться к домашней кухне.
Ко мне явилась Эжени и робко напомнила о своем плаще и деньгах.
— Милая моя, — сказала я, — честно говоря, я сейчас не могу вспомнить, где оставила ваш плащ. Но вы оказали мне такую услугу, что я считаю себя очень вам обязанной. Я вдвое увеличу вам жалованье, Эжени, и мне кажется, что вы скоро купите себе новый плащ, куда лучше прежнего.
А вообще, все эти бурные события очень странно на меня повлияли. Некоторые изменения произошли в моем сознании. Если раньше, думая об Александре, я ощущала только горечь и тоску, то теперь к таким мыслям неизменно примешивалась обида. Я так любила его, так надеялась, а его не было со мной в это неприятное время. И он ведь сам сделал так, чтобы его не было.
А еще я полностью осознала то, что раньше дремало в подсознании, — осознала свое одиночество. Чисто физическое, женское. Как ни странно, разговор с Клавьером был тому причиной. К Клавьеру я чувствовала только неприязнь, но его объятия дали мне понять, чего мне особенно не хватает. Я уже начинала уставать от своего затворничества. Я досадовала, когда понимала, что образ Александра как-то расплывается в моей памяти. Я начинала забывать, как звучит его голос. Забывала даже черты лица. Шли месяцы, а время разрушительно действует на память. Стирались в моем сознании, утрачивали четкость воспоминания о чудесных минутах, пережитых нами вместе. Я начинала побаиваться, что, если наша разлука продлится еще на полгода, не любовь и нежность будут побуждать меня стремиться воссоединиться с Александром, а лишь благодарность и чувство долга. Мне было хорошо известно, с какой легкостью время может превратить пылких влюбленных просто в хороших друзей. Я боялась этого, Я не хотела терять то волшебное чувство, которое не каждому дано пережить и которым я так дорожила.
Я не хотела больше быть одна… У меня не было желания что-либо понимать. Нам следует немедленно воссоединиться, хотя бы некоторое время пожить вместе, иначе нас ждет беда. Мы рискуем стать чужими друг другу, потерять то общее, что нас связывало.
Я плохо спала по ночам, думая обо всем этом и глядя на роскошный балдахин кровати. Временами какие-то новые опасения охватывали меня. Я думала: верен ли мне Александр? В Лондоне, в Вене, во Флоренции (я ведь не знала точно, где он находится) — словом, в любой европейской столице его будут окружать самые красивые и обольстительные женщины. Что он делает? Как себя ведет? Думает ли хоть иногда обо мне? Я не могла об этом судить, так как даже писем от него не получала.
Я вспоминала об истории с Эммой Гамильтон, и мне приходило в голову, что я не знаю, что в точности произошло между этой женщиной и моим мужем. Тогда я была удовлетворена тем, что мы уехали из Неаполя. Кроме того, тогда был наш медовый месяц и я могла надеяться, что вполне заменяю Александру всех женщин мира. Впрочем, ни тогда, ни сейчас я не сомневалась, что он любит меня. Но только ли меня? Я не могла ответить на этот вопрос утвердительно и мучилась этим. Без сомнения, он изменял мне. Я знала его темперамент: горячий, порывистый, необузданный. Мужчина такого склада не может прожить целых шесть месяцев без женщины. Я бы никогда в такое не поверила.
Все это лишь углубляло мою обиду. Он уехал, он живет теперь в нормальной стране, где уважают аристократов, он пользуется почетом и вниманием, а я прозябаю в этом ужасном Париже, веду битвы за его реабилитацию да еще и подвергаюсь унижениям со стороны Клавьера. Более того, меня еще и обвиняют люди вроде Ле Пикара. И, подумать только, Александр даже не зовет меня к себе! Если на то пошло, я бы могла все бросить и вместе с детьми эмигрировать в Англию. Здесь, во Франции, не было ничего такого, чего бы я не согласилась оставить ради счастья быть с Александром. Но он не звал. Поль Алэн тоже был против этого. Филипп, видите ли, должен понять, что он француз… Но почему именно на меня возложена обязанность позаботиться об этом? Почему мы не делим эту роль надвое?
Словом, я начинала злиться, и мне хотелось поскорее уехать из Парижа. Возможно, в Бретани я почувствую себя спокойнее. Париж только усугублял те мои мысли, которых я и так боялась.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ ВЕЧЕР В РЕНСИ
1
19 мая 1798 года ранним солнечным утром армада французских кораблей — больших линейных во главе с флагманом «Орион», фрегатов, корветов, бригов — снялась с рейда Тулонского порта и двинулась на восток. На кораблях было тридцать восемь тысяч отборных солдат, артиллерия, снаряды, лошади, книги. Прославленные ученые — Монж, Бертолле, Конте, Доломье — сопровождали эту таинственную экспедицию.
При выходе в море огромный, перегруженный флагман «Орион» задел дно. Многим показалось это недобрым знаком.
Так началось предприятие, будоражившее всю Европу еще за несколько месяцев до этого.
Никто толком не знал, куда направляется эта армада. Некоторые утверждали, что ее целью является завоевание Сицилии или Мальты. В начале мая возникли слухи, будто экспедиция, пройдя Гибралтарский пролив, повернет на запад, к Англии. Но особенно настойчиво муссировалась версия о желании Бонапарта победить Англию не на берегах Темзы, а на берегах Нила, — словом, утверждалось, что речь идет о захвате Египта.
Истина была известна лишь узкому кругу лиц. Но зато многие видели крайнюю авантюристичность задуманного предприятия. Куда бы Бонапарт ни отправлялся — в Англию или в Египет, все было против него. Англия господствовала на море, и соперничать с ней где-либо еще, кроме суши, — это значило вести сумасбродную игру, и даже успех не мог бы оправдать жертв, которые она за собой повлечет.
Спокойствие было для Бонапарта мучением, и он говорил об этом в открытую. Он полагал, что его предыдущие победы не могут побудить людей восхищаться им постоянно; для усиления славы надобно совершить еще что-то необычайное. «Если я останусь в Париже надолго, — говорил он друзьям, — все потеряно. В этом великом Вавилоне одна слава затмевает другую: достаточно было бы увидеть меня три раза в театре, как на меня перестали бы смотреть».
Кроме этого, за время пребывания в Париже Бонапарт достиг такой степени напряженности в отношениях с директорами, что дальше так продолжаться не могло. Когда во время одной из стычек он прибегнул к самому сильному, давно испытанному средству воздействия — пригрозил своей отставкой, — директор Ребель не дал ему даже договорить до конца:
— Не теряйте времени, генерал. Вот вам перо и бумага. Директория ожидает ваше заявление.
Бонапарт не стал писать заявления об отставке. Но его конфликт с правительством зашел в тупик. Исход борьбы оставался ничейным. И генералу было ясно, что бездействие приведет его к проигрышу партии.
Надо было воевать. Экспедиция во главе с Бонапартом отплыла из Тулона, и многие недели после этого о ней не было никаких вестей.
Все прочие события были как-то затенены этой авантюрой. В полнейшем спокойствии были проведены очередные выборы в Советы, а потом — при таком же равнодушии французов — уже ставшая традиционной кассация выборов, вследствие чего было достигнуто послушное большинство в органах законодательной власти. Никто даже не протестовал. Все с каким-то усталым презрением наблюдали, как Директория во главе с Баррасом делает еще один шаг к полной своей диктатуре. Директоры уже сделали так много невероятного и бесстыдного, что удивить кого-либо очередным бесстыдством было трудно. Баррас забирал в свои руки все больше власти, все большие суммы государственных денег пускал по ветру, приобретал все больше врагов — но, какую бы наглость он ни проявлял, это уже никого всерьез не задевало: все инстинктивно чувствовали, что режим исчерпал себя и что нужно лишь подождать, и он падет сам, без всякого вмешательства, потому что опираться отныне может лишь на самого себя. У нынешней власти не было абсолютно никаких сторонников; все пятеро директоров представляли в правительстве не какие-то слои населения, а исключительно самих себя.
«Люди, которые не могут обеспечить выплату жалованья даже клеркам, не продержатся долго» — таково было всеобщее мнение. Правда, никто толком не представлял себе, что будет тогда, когда Директория падет.
После всех неприятных событий, имевших место в конце марта, я круто переменила образ жизни. Я больше не разъезжала по Парижу, не посещала буржуазок и отвергала все приглашения. Если кто-либо приезжал ко мне, я сказывалась больной и не принимала. Упрямо придерживаясь такой тактики, я достигла того, что недели через две растеряла всех своих «друзей». Буржуа забыли обо мне и больше меня не беспокоили.
Я добивалась этого, чтобы немного укротить тот вихрь сплетен, что взвился вокруг моего имени вследствие смерти Флоры де Кризанж и моего последующего обвинения, напечатанного во многих газетах. Казалось бы, авантюра Клавьера была непродолжительной, всего каких-то три дня, но я пришла в ужас, когда обнаружила, сколько небылиц насочиняли журналисты. Похоже, Клавьер не скупился на интервью и нарочно повсюду рассказывал о нашей связи. Он предал гласности все: наши встречи в тюрьме, наши отношения, даже то, что я ждала ребенка. Даже если бы он говорил правду, это было бы крайне вредно для меня и крайне низко с его стороны, но к правде он присоединил столько выдумок, что я оказалась в свете его рассказов женщиной весьма непривлекательного поведения и прямо-таки бешеного темперамента, фанатичной роялисткой, врагом нынешнего режима, а особенно тех людей, что раньше назывались «бывшими», а нынче приняли Республику. Таким образом, моя ненависть к Флоре якобы была личной и политической, а сама я разрывалась между самыми различными страстями: обидой, любовью и ненавистью. Эти страсти будто бы и привели меня к преступлению.
Весь этот бред, конечно же, был очень скоро опровергнут, но краткие сообщения об опровержении не могли погасить тот скандал, который раньше Клавьер так старательно разжигал. Тут уж исходили из того, что «дыма без огня не бывает» и что раз уж обо мне писали в таком духе, стало быть, для этого были какие-то основания. Бороться с этим мнением я не хотела. Я просто порвала все связи с нынешним светом. Исключение было сделано лишь для Талейрана, к которому я продолжала чувствовать симпатию и благодарность и который все больше меня очаровывал.
И все-таки после того скандала я хотела лишь одного: поскорее закончить все дела в Париже и уехать в Бретань — так чтобы по возможности никогда в столицу не возвращаться.
2
Был чудесный майский полдень, и я, высунувшись из окна, с наслаждением вдыхала дурманяще-сладкий аромат цветущей сирени, когда Эжени, тихо подойдя ко мне, произнесла:
— Мадам, к вам посетитель.
— Кто?
— Дени Брюман, мадам.
Я с неохотой оторвалась от сирени.
— Эжени, он, должно быть, пришел к Авроре. Ступайте позовите ее.
— Нет, мадам, — возразила горничная. — Он пришел к вам. Я хоть и бретонка, но французский понимаю хорошо.
Я кивнула.
— Так и быть, Эжени, я сейчас спущусь. Приготовьте мне тем временем чего-нибудь прохладительного.
Визит молодого Брюмана был для меня неожиданностью. Он был приятелем Авроры, но мне казалось, что с наступлением весны их дружба пошла на убыль и что Аврора уже далеко не так охотно и часто отправляется с ним на прогулки в Булонский лес. Я была этому даже рада. На мой взгляд, Дени был недостоин ее.
Визит молодого человека был неожиданным и с другой стороны. Вот уже два месяца, с марта, я не поддерживала никаких отношений с Брюманами, а с Валентиной даже не здоровалась. В этом семействе я полностью разочаровалась и ни с одним его членом дружить не хотела.
Но раз уж Дени Брюман пришел, я решила хотя бы узнать, зачем он это сделал.
Он ждал меня в гостиной, стоя у окна. Войдя, я заметила, как нервно он сжимает в руках перчатки. Жарко было неимоверно. Я позвонила, желая этим поторопить Эжени.
Дени Брюман обернулся, на мгновение застыл в замешательстве, глядя на меня, потом поклонился.
— Садитесь, прошу вас, — пригласила я, отвечая на поклон. — Чем обязана чести вашего посещения?
В этот миг вошла Эжени с подносом. Я взяла себе один бокал, второй предложила юноше. Сделав два быстрых глотка, он отставил его и решительно произнес:
— Мадам, я к вам по важному делу.
— Какому?
— Мадам, я хочу жениться на Авроре.
Я замерла с бокалом в руке. Меня даже не так поразил сам факт этого сватовства, как форма, в которой оно было выражено. «Я хочу жениться» — так, пожалуй, говорят своим родителям, а не родителям невесты.
— Вы хотите сказать, что просите руки Авроры, — поправила я его мягко.
— Да. Я хочу жениться на ней, — повторил он, не замечая моей поправки.
Честно говоря, у меня и в мыслях не было относиться ко всему этому серьезно. Не то чтобы Дени Брюман мне не нравился. Я просто не считала его достойным Авроры. Да и Аврора — она же еще ребенок.
— Как вы это себе представляете, сударь? — спросила я.
— Что именно?
— Сколько вам лет, можете вы сказать?
— Скоро будет двадцать четыре, — настороженно ответил он, слегка краснея.
«На четыре года младше меня, — подумала я. — Нет, он не для Авроры».
— Итак, сударь, вам только двадцать четыре года. Вы, насколько мне известно, еще не закончили свой курс в Политехнической школе. У вас нет ни занятия, ни состояния.
— У меня есть отец, мадам, — сказал он.
— А у вашего отца есть молодая жена и, возможно, будут еще дети. Кроме того, встречаясь с вашим отцом, я поневоле думала, что он пока не горит желанием оставить все вам. Простите меня, если я говорю слишком откровенно. Только любовь к Авроре принуждает меня к этому.
— Мы будем жить у нас, мадам, — решительно заявил он. — В нашем доме. Мадемуазель Аврора никому не помешает.
— Я и не хочу, чтобы она кому-то мешала. Когда я выходила замуж, муж приводил меня в свой дом.
— Но дом отца будет моим! — воскликнул он, взъерошив волосы. — И состояние, и имущество… Я ведь единственный сын.
— Сударь, я уже говорила вам, что думаю по этому поводу.
Помолчав, я спросила:
— Кстати, где же он? Ваш отец? Почему он не пришел с вами? Это было бы так естественно.
Наступила пауза. По молчанию Дени я поняла, что его отец, возможно, и не знает о том, что делает сын. Возможно, Дени хочет просто досадить отцу. Впрочем, кто знает… Все это, в сущности, не имело никакого значения. Согласиться на брак Авроры сейчас, когда ей нет и шестнадцати, я бы могла лишь в случае исключительном. Случай с Дени мне таковым не казался.
— Отец отдаст мне мою долю, — сказал Дени после долгой паузы. — Если сложить ее вместе с деньгами Авроры…
Я сухо прервала его:
— Аврора — бесприданница, сударь. Революция лишила ее того, что она могла бы иметь. У нее есть лишь несколько драгоценностей, которые я ей передам. В Авроре, милостивый государь, следует ценить прежде всего ее саму, ее воспитание и имя — имя, впрочем, такое громкое и уважаемое, что я не каждому соглашусь доверить его.
Эти резкие слова прозвучали как явный намек. Этого я и добивалась. Меня просто передернуло, когда я услышала, что этот юноша говорит о деньгах Авроры.
— Это, конечно же, меня касается, — пробормотал Дени. — Значит, я — тот самый, которому ее имя нельзя доверить?
— Думаю, вам легче судить об том, сударь.
— Ах, полноте… Я знаю, отчего вы так отвечаете! — воскликнул он, вспыхнув от гнева. — Прежде, когда у моего отца никаких неприятностей не было, вы охотно позволяли Авроре со мной встречаться — видно, надеялись на богатого жениха, а теперь, когда наши дела пошатнулись, вы живо изменили свое мнение! Вот в чем причина. Вот почему вы говорите так холодно!
Я впервые слышала о том, что их дела пошатнулись. Но, честно говоря, не это задело меня. Мгновение я стояла, размышляя, как поступить: за такие слова этот дерзкий буржуазный мальчишка заслуживал хорошей оплеухи. Надо же, этот сопляк смеет обвинять меня в расчетливости — и это в то время, когда я даже не думала никогда ни о нем, ни об его отце! Сдержанность победила гнев. Смерив юношу холодным взглядом, я прикоснулась к звонку.
На зов явилась Марианна, служанка Авроры.
— Прошу вас, пригласите сюда мадемуазель, — сказала я кратко. — Это поможет нам выяснить все до конца.
Я больше не разговаривала с Дени Брюманом и прихода Авроры ожидала молча, с ледяным выражением лица. Я сознавала, что поступаю, может быть, опрометчиво. Может быть, вовсе и не надо спрашивать ее мнения, может, не надо вообще ей знать, зачем Дени приходил… Я помнила, как восторженно она относилась к нему, и немного опасалась. Она еще так молода и глупа. Она может сказать «да» лишь потому, что ей интересно побыть немного невестой и почувствовать себя в столь важном качестве! И все-таки… Нельзя же было всерьез допустить, что моя умная, чувствительная, романтичная девочка согласится на предложение человека, который в разговоре со мной ни разу не упомянул о самом главном — о своих чувствах к ней.
Вошла Аврора: серьезная, задумчивая, в белом легком платье, с распущенными темно-русыми волосами. Взгляд ее фиалковых глаз скользнул по Дени, потом она подошла ко мне, стала рядом и осторожно взяла меня за руку.
— Аврора, милая, — сказала я решительно, — ты видишь, здесь находится господин Брюман. Он просит твоей руки.
Аврора и Дени некоторое время глядели друг на друга и оба молчали. Потом она снова посмотрела на меня.
— Что я должна делать, мама?
— Я бы хотела знать, что ты думаешь по поводу этого предложения.
Она не задумалась ни на секунду.
— Но, мама, ты же знаешь, что я не собираюсь выходить замуж, — сказала Аврора, тряхнув волосами, и голос ее прозвучал так спокойно, словно она не в первый, а в сотый раз отказывала докучливым женихам. — Полагаю, господину. Брюману следовало бы прежде всего осведомиться об этом.
— Ты отказываешь ему?
— Да.
— Решительно?
— Да. Господин Брюман, я благодарю вас за честь, которую вы мне оказали, но слишком хорошо понимаю, что я ничем ее не заслуживаю. Именно этим и обусловлен мой отказ.
— Черт возьми, что все это значит… — начал Дени, в бешенстве поднимаясь с места.
Я не узнавала Аврору. Отступив на шаг, она вскинула голову, задиристо выставив вперед подбородок, и дерзко произнесла:
— Вам следовало бы сперва поговорить со мной, господин Брюман. Тогда бы мы все были избавлены от столь неловкого положения.
Впрочем, по виду Авроры нельзя было сказать, что она чувствует себя неловко. Да и о чести, которой она «не заслуживает», она говорила в таком тоне, что ее слова заслуживали лишь обратного толкования.
Взбешенный Дени стоял посреди гостиной, поглядывая то на меня, то на Аврору. Я тоже поднялась.
— Как видите, милостивый государь, все неясности разрешились.
— Да! Я вижу! Правда, я полагал, что, как честный человек, просто обязан жениться, но, раз уж мне оказывают здесь такой прием, упаси меня Господь от такой жены!
Он не мог уйти без какого-нибудь оскорбления, сохраняя достоинство, — и в этом было новое свидетельство того, что он не аристократ. Дверь с треском за ним захлопнулась. Я повернулась к Авроре.
— Что это значит?
— О чем ты, мама?
— Что значит «обязан жениться»? Что он хотел этим сказать?
Бледная, но совершенно невозмутимая, Аврора спокойно ответила:
— Откуда же мне знать, что хотел сказать этот человек? Он хотел обидеть нас.
— Аврора, ты ничего от меня не скрываешь? — вскричала я встревоженно. — Ты понимаешь, что у тебя могут быть неприятности? Я предупреждала тебя!
— Я ничего не скрываю, мама.
— Какие у вас были отношения? Что ты ему позволяла?
— Ничего.
Мгновение мы молча глядели друг на друга. Я поняла, что не добьюсь от нее большего, если буду продолжать допрос. Может быть, в другой раз. Ах, какая же она все-таки дурочка… Неужели она думает, что я не смогу понять ее?
В ее характере действительно появились черты, которых я раньше не замечала. Взять хотя бы ее недавнее обращение с молодым Брюманом. Она была как ледяная статуя — и это она, которая три месяца назад и дня не могла провести без Дени!
Словно угадав мои мысли, она спросила:
— Тебе понравилось, как я ответила?
— Мне очень понравилось. Ты проявила здравый смысл, на который не всякая девушка в твоем возрасте способна.
Глядя куда-то вдаль, Аврора произнесла:
— Не понимаю, почему он решил, что может делать подобные предложения. Я никогда замуж за буржуа не выйду.
— Только за аристократа? — спросила я, невольно улыбаясь.
— Только за аристократа. Даже если мне придется долго-долго ждать…
— Ждать надо не аристократа, а любви, Аврора.
— А это почти одно и то же…
Она мечтательно вздохнула. Потом спросила, когда мы возвращаемся в Белые Липы, и, узнав, что скоро, снова вздохнула, но уже радостно.
— И он мне совсем разонравился, этот Дени. Особенно тогда…
— Что?
— …когда я поняла, как неприятно он целуется. Он просто сопливый студент, мама! И как я могла думать, что влюбилась в него?
— Я тоже не раз спрашивала себя об этом.
Я обняла ее, решив не донимать расспросами. Едва-едва касаясь губами моей щеки, она шаловливо прошептала:
— Ах, мадам Изабелла была права, когда говорила, что буржуа ни на что не годятся. Даже для поцелуев…
— Она не совсем так говорила, Аврора.
— Но я поняла именно так. Мадам Изабелла знала, о чем говорила…
Я молча гладила ее плечи, чувствуя, что никак не могу полностью распрощаться с беспокойством, охватившим меня, в отношении Авроры.
— Надеюсь, ты будешь благоразумна, — сказала я наконец.
— Да, мама. Не бойся за меня. Я уже не такая маленькая, как ты думаешь.
— Хотелось бы в это верить, дорогая.
…Раз в неделю из Белых Лип приходило письмо, написанное почерком управляющего. Поль Алэн лишь изредка делал в конце небольшую приписку. Для меня не было секретом, чем он занимается. Наверняка его не так уж часто можно увидеть в поместье. Я знала его занятия: блуждание по лесам, поездки туда-сюда в качестве адъютанта Жоржа Кадудаля, нападения на республиканские патрули, совещания и споры с друзьями-роялистами по поводу тактики дальнейшей борьбы. Когда выпадает свободная минута, он ездит к молодой привлекательной вдове, которая жила где-то под Понтиви и о существовании которой я была наслышана. Стало быть, если мой деверь появляется в Белых Липах хотя бы раз в месяц — это уже хорошо.
Итак, поместье было брошено на управляющего. Да еще на старую Анну Элоизу, которой уже давно не под силу за всем уследить. Кто проверяет счета? Кто наблюдает за проведением работ на полях? Кто ведет записи и учет продуктов и денег? Я не сомневалась, что, вернувшись, застану все в самом скверном состоянии. Если хозяин в Лондоне, хозяйка в Париже, а брат хозяина неизвестно где, чего же ждать? Я все понимала по суммам, которые присылались мне в Париж: они уменьшались с каждым месяцем.
А ведь сейчас была весна — тот самый сезон, от которого будет зависеть наше благополучие в течение всего года. Управляющий писал о посевах пшеницы, гречихи, овса, льна, но о картофеле ни слова не было сказано. Я готова была чертыхаться, понимая, что к моим советам никто не прислушался и что в следующем году нас ожидают еще большие убытки, чем сейчас. Время шло, драгоценные дни весны уходили в песок, а я не могла вырваться из Парижа и только строго отчитывала управляющего в каждом письме, заранее зная, что это не произведет особенного впечатления.
Только за детей я была спокойна. Маргарита в своих письмах, написанных крупным кривым почерком, подробно описывала все их шалости, успехи, происшествия. Благодаря ей я знала, что Филипп вполне здоров, что в конце марта он сделал первые шаги, что он довольно мужественно переносил появление очередных зубов. Впрочем, все это было уже в прошлом. Теперь малышу Филиппу пошел уже второй год. Маргарита сообщала, что он такой же светленький, как и прежде, а глаза с каждым днем становятся все голубее.
Я очень тосковала, читая эти письма. Мне так хотелось самой наблюдать за своим ребенком, видеть его, чувствовать рядом, а не узнавать о нем с чужих слов. А мои милые девочки? Как они изменились, должно быть! Как выросли! И почему я не взяла их с собой в Париж? Впрочем, я сама понимала, что они отнимали бы у меня слишком много времени. Я не смогла бы сделать столько визитов, побывать на стольких приемах, если бы у меня на руках были эти своенравные непоседы.
Словом, мне очень хотелось вернуться в Бретань. Это желание усиливалось с каждым днем, превратившись наконец в настоящую страсть. Я не хотела больше ничего. Только этого.
3
Я часто виделась с Талейраном — через каждые два-три дня, лучше узнавала его и, пожалуй, начинала понимать, что то, что он говорил мне о дружбе, — правда. Он был очень странный человек: хитрый, проницательный, циничный, беспринципный. Вернее, его принципом стала именно беспринципность. Казалось, он ничего не делает без умысла. Остряки, наблюдая за ним, говорили, что, когда Талейран умрет, все спросят: «Интересно, для чего ему это понадобилось?» Он не брезговал ни взятками, ни предательством. Уж мне-то было хорошо известно, как в 1789 году он предал и короля, и церковь, к которой тогда принадлежал. Впрочем, даже предательство он оправдывал. «Король не принял моих услуг, так был ли я вправе предложить свои услуги другим?» — говорил он, на миг обезоруживая собеседника.
Его обожали женщины, даже те, с которыми он давно расстался и изменил им, становились навсегда его восторженными почитательницами. Настоящий сибарит, с неотразимыми манерами вельможи Старого порядка, галантный, остроумный, умеющий тонко льстить и столь же тонко высмеивать, он кружил головы многим аристократкам, а уж о новоявленных буржуазных светских дамах и говорить нечего. Он был необыкновенно умен и проницателен. Он понимал лучше всех, куда дует ветер и за кем в данный момент следует идти. И что странно для карьериста и взяточника, он обладал чувством собственного достоинства и ни перед кем не заискивал. Он умел убеждать. У него были друзья, и те, с кем он дружил, никогда не имели оснований на него жаловаться. Пожалуй, дружба с ним означала немного и влюбленность. Он и мне порой кружил голову, и я не могла в этом не признаться.
Но сейчас, весной 1798 года, он переживал трудные дни. Он не так давно получил должность министра иностранных дел, и в третий раз ему приходилось начинать все сначала. Он снова должен был зарабатывать доверие — на сей раз Директории. Это давалось ему туго: он льстил Баррасу, но не мог преодолеть антипатии Ребеля и подозрительности, с которой относились к нему остальные члены Директории. Им нужен был его ум, но к нему они не могли привыкнуть. Даже возглавив «синее» министерство, он в чем-то оставался белым, и они это чувствовали.
С помощью Бонапарта, как я понимала, Талейран надеялся вновь начать восхождение наверх. Но Бонапарт отплыл в Египет, и бывший епископ Отенский снова остался один на один с враждебными ему директорами, зная, что в случае очередной перетасовки в правительстве легко может потерять свой пост.
Я опасалась просить его о чем-либо. Все-таки он и так безмерно помог мне, можно сказать, спас. Ему однажды удалось уговорить Барраса встретиться со мной, но встреча сорвалась, и об еще одной попытке я просить не осмеливалась, зная, как много у Талейрана своих собственных проблем. Я полагалась на угрозы, высказанные мною Клавьеру, но Талейрану ничего об этом не рассказывала. Мне было достаточно просто видеться с ним, гулять в Люксембургском саду, получать приглашения в его дом. Я беседовала с ним, и после этих бесед мне всегда казалось, что я побывала в старом Версале.
Я рассказала ему, что Дени Брюман просил руки Авроры, а потом спросила:
— Господин де Талейран, вы слышали что-нибудь о затруднениях, постигших эту семью?
Мы были в уютном уголке Люксембургского сада, неподалеку от дворца. Талейран прохаживался взад-вперед, опираясь на трость с золотым набалдашником, а я сидела на скамейке, наслаждаясь теплом и солнечными лучами, льющимися сквозь листву. Все вокруг пропахло цветущей черемухой, ее ароматные цветы белым туманом стелились над лужайками.
Талейран остановился, пристально глядя на меня.
— Вы полагаете, я интересуюсь этим?
— Я полагаю, вы интересуетесь всем. Вы знаете все, господин де Талейран. Так неужели вы ничего не слышали о Брюманах?
— Я слышал, что Жак Брюман изрядно погорел на лицензиях, данных ему Директорией. Он потерял, пожалуй, половину состояния.
— Каким образом погорел?
— Его лишили лицензий, моя дорогая, стало быть, лишили того, на чем нынче все богатеют.
— А почему лишили?
— Потому что эти лицензии пожелал забрать себе Клавьер. Он, пожалуй, решил стать главным военным поставщиком во Франции. Теперь он монополист, дорогая. Клавьер и Баррас — большие друзья. Они кормят друг друга.
Я задумалась. Без сомнения, почти полное разорение Брюмана было делом рук Клавьера. Он не может отомстить мне, поэтому мстит Валентине.
Талейран чуть иронично спросил:
— Вам не кажется, что и вы виновны в несчастьях, постигших Брюмана?
Я вспыхнула.
— Если и виновна, то невольно.
— Вы многим стали поперек горла, мадам дю Шатлэ, с тех пор, как приехали в Париж.
— Господин де Талейран, не могли бы вы…
Я была взбешена тем, что слышу от него такие обвинения. Уж он-то знает, что я никому не хотела зла. Он прервал меня:
— А не могли бы вы согласиться на обмен?
— Какой обмен? — спросила я озадаченно.
— Обмен «господина де Талейрана» на просто Мориса.
Я невольно улыбнулась. Нельзя сказать, что я ожидала такое предложение, но оно польстило мне. Оно словно усилило то взаимопонимание, которое между нами установилось.
— А прилично ли это будет? — спросила я чуть лукаво. — Никому не известная бретонская дама называет министра иностранных дел просто Морис?
— Скажите лучше, что бретонская дама желает подчеркнуть свою молодость, а мою старость.
Ему было сорок пять, и он, конечно же, шутил. Он и сам не считал себя старым, а я и подавно.
— Хорошо, — сказала я. — Вы тоже можете называть меня Сюзанной.
— Друг мой, да ведь я уже раз десять это сделал.
Он опустился рядом со мной на скамейку. В руках у него была веточка белой сирени. Он осторожно положил ее мне на колени, при этом его рука задержалась на моей руке, затянутой в кружевную митенку.
— Сирень, — проговорил он задумчиво. — Застывшее эхо мая.
— Кто это сказал?
— Это сказал я, моя дорогая. Я тоже немного поэт.
Он вдруг сжал мою руку, потом отпустил, и вздох вырвался у него из груди. Какое-то легкое волнение вдруг охватило меня. Я впервые почувствовала, что очень нравлюсь ему как женщина. Сознание этого, смешанное с благодарностью, которую я испытывала к Талейрану, поразило меня.
— Морис, — прошептала я, коснувшись пальцами его локтя. — Я хочу сказать, что вы мне очень симпатичны.
— М-да? — протянул он иронично. — Я мало кому симпатичен.
— Вы клевещете на себя. Вы сами знаете, как обаятельны.
— Это слова друга? Или, может быть, женщины?
Я невольно смутилась, ибо совсем не ожидала столь дерзкого вопроса. Он не стал настаивать на ответе. Его взгляд очень внимательно изучал мое лицо.
— Знаете, моя милая, очень трудно, будучи в вашем обществе, не замечать того, как вы хороши. Вы просто прекрасны. И я все думаю…
— Что?
— Я думаю, откуда у вас эти глаза? Ну не могут в Бретани появиться такие глаза… Или бретонцы до такой степени изменились?
Я засмеялась.
— А как же ваши досье, дорогой Морис, неужели в них нет данных обо мне?
— Насчет ваших глаз — никаких… Вы же не в отца, в этом нет сомнения.
— Я могу гордиться, сударь. Я для вас загадка. Этим не каждый в Париже может похвастать.
Он продолжал так же внимательно, почти зачарованно смотреть на меня, и я почувствовала, что легкий румянец появляется у меня на щеках.
— Да, эти глаза, — повторил Талейран. — А эти губы…
Его взгляд действительно был прикован к моим губам. Он говорил, и в его голосе была и искренность, и вместе с тем легкая ирония.
— Что это вы так краснеете, дорогая? Не подозревал, что вас так легко смутить. Боже мой, как, должно быть, спокоен за вас муж. Вы так целомудренны.
Я покачала головой, сдерживая смех.
— Ах, Морис, вы иногда бываете дерзки просто до невозможности. Недаром вас называют дьяволом!
— Хромым дьяволом, друг мой, не пытайтесь смягчить применяемые ко мне эпитеты. Или даже хромым бесом.
Помолчав, он скромно добавил:
— А ведь я просто очень влюбчив. И все.
«Надо остановиться, — мелькнула у меня тревожная мысль. — Надо остановиться, иначе действительно можно далеко зайти. Я ведь очень уязвима сейчас — одинокая, несчастная, словом, соломенная вдова… Не исключено, что этот хромой дьявол этим пользуется. Надо сохранять спокойствие. Но, Боже мой, он действительно слишком симпатичен!»
Останавливаться мне не пришлось. Талейран остановился сам. Выражение его лица изменилось. Он стал серьезным, брови его нахмурились, он снова взялся за трость и поднялся. Потом, метнув на меня довольно колючий взгляд, небрежно спросил:
— Кстати, не могли бы вы дать мне некоторые объяснения по поводу того, что делает Клавьер?
— А что делает Клавьер? — спросила я безмятежно.
— Он хлопочет за вас у Барраса.
— За меня?
— За вашего мужа. Что бы это значило, э?
Я тяжело вздохнула.
— Морис, от вас невозможно ничего скрыть.
— Правильное наблюдение, — сказал он, настороженно глядя на меня. — Ну-ка, объяснитесь.
— Хорошо. Я объяснюсь. Я просто не хотела вам докучать, поэтому не объяснилась раньше.
Полагая, что мне нечего скрывать, я довольно честно рассказала Талейрану о том, что шантажировала Клавьера чуточку больше, чем было условлено. Я хотела спасти не только себя, но и своего мужа.
— Я не могла не воспользоваться ситуацией! — сказала я горячо. — Поймите меня, Морис. Я должна была так поступить. Я же знала, что вам трудно иметь дело с Баррасом. А Клавьеру легко. Да и почему бы мне щадить Клавьера? Я только об одном сожалею…
— О чем?
— Морис, я преувеличила наши с вами отношения. Мне пришлось. Я… словом, я объявила себя вашей любовницей, чтобы он понял, что вы всерьез за меня вступитесь. Повторяю, я сожалею… Если это как-то повлияет на мадам Грант, я…
— Не сожалейте, — резко сказал Талейран. — Мне кажется, весь Париж уверен в том, что вы сказали Клавьеру, и мадам Грант устроила мне не одну сцену по этому поводу.
— Да? — Я ужаснулась. — О, сударь, я не знала, что наши встречи приносят вам столько неприятностей! Может быть…
Для меня и вправду была ужасна мысль о том, что я причиняю вред человеку, который так мне помог.
— Успокойтесь, — прервал он меня. — Мадам Грант покричит и перестанет, я привык к этому. Не думайте больше об этом и не оправдывайтесь. Ваши оправдания задевают меня больше, чем молчание.
Я умолкла, обдумывая последнее замечание. Талейран долго молчал, опираясь на трость и хмурясь. Потом наконец спросил:
— Вы слышали, Клавьер приобрел новый дом в Ренси? На днях там будет большой пикник.
— Да, знаю.
— Вы поедете?
Я рассмеялась.
— Трудно представить, что он пригласит меня.
— Я имею в виду, вы поедете туда со мной?
— С вами? А мадам Грант?
— А мадам Грант вовсе не обязательно об этом знать, э?
Я поняла, что он имеет в виду. Если я под руку с Талейраном появлюсь в новом загородном поместье Клавьера… О, если это произойдет, ни у кого больше не будет сомнений, что министр иностранных дел очень ко мне расположен и его расположение зашло довольно далеко. Для Клавьера это будет предупреждением. Он придет к выводу, что Талейран готов защитить меня.
— Я поеду туда с вами, — произнесла я. — Я так хочу, чтобы Александр мог хотя бы на время вернуться.
Лицо Талейрана было непроницаемым. Он поднялся, сделал знак лакею.
— Мне пора на службу, мадам. Мы слишком долго сегодня говорили.
Я протянула ему руку. Он склонился передо мной и прикоснулся к ней губами в том месте, где кружевная митенка обнажала пальцы.
Я невольно ощутила легкую волнующую дрожь, пробежавшую по телу от этого поцелуя. Он почувствовал ее: я поняла это по внимательному взгляду, которым он меня окинул. Мы попрощались.
Я долго еще сидела на скамейке, глядя, как, прихрамывая, удаляется Талейран. Мне было страшно за саму себя. Я слишком долго была одна, слишком долго. Я почти беззащитна. А плоть… Плоть напрасно называют слабой. Она сильна, порой куда сильнее духа. По крайней мере, именно это я сейчас ощущала.
«Боже, сделай так, чтобы Александр приехал», — подумала я напоследок, находя в этой мысли единственную опору. Потом взяла свой белый кружевной зонтик, раскрыла его и медленно пошла по аллее к карете, давно меня ожидавшей.
4
Ранним майским утром, когда я, допивая кофе и совершенно не ожидая никаких гостей, перебирала почту и, в ворохе бумаг заметив письмо Талейрана, уже готова была взяться за чтение, в столовую вошел граф Ле Пикар де Фелиппо.
Без предупреждения, без доклада… Я даже привстала с места от возмущения. Мало того, что этот человек почти оскорбил меня в прошлый раз, он снова является ко мне как невежа!
За спиной графа застыл смущенный дворецкий, а сам граф был одет как человек, собирающийся в долгое путешествие, и изрядно вооружен.
— Полагаю, — сказал Ле Пикар решительно, — вы простите меня за внезапное вторжение, сударыня.
— Без особого желания, — холодно проговорила я, не слишком приязненно глядя на графа. — Возможно, сударь, времена не располагают к соблюдению приличий. Тем не менее мне не настолько плохо служат, чтобы посетители являлись сюда без доклада.
Граф направился к столу, зазвенев шпорами.
— Припишите неожиданность моего визита весьма важным вещам, которые я должен вам высказать. И которые, — добавил он, поглядев на Аврору, — могут быть высказаны только вам.
Аврора поднялась и вышла, сразу поняв намек. Я сделала знак дворецкому, и он прикрыл за собой обе створки дверей. Мы с графом остались в столовой одни. Я отложила письмо Талейрана и со вздохом поднялась, не предлагая Ле Пикару сесть.
— Сударь, я надеюсь все-таки, что вы пришли в себя и после двухмесячного раздумья передадите мне письмо мужа.
— Да. Я передам. А после того как вы его прочтете, я считаю себя обязанным высказать некоторые соображения.
— По поводу письма?
— По поводу вашего пребывания в Париже.
Его тон, сухой и даже слегка гневный, не располагал к тому, чтобы я вспомнила о дружеских отношениях, прежде существовавших между нами. Теперь мне уже не хотелось называть его Антуан. Если бы он вел себя не так холодно, я бы охотно рассказала ему, что делаю в Париже. Мне ведь особенно не с кем было поделиться. Но он сразу взял на себя роль судьи, и объясняться перед ним — это значило признать его право судить меня.
— Какая дерзость, — произнесла я, сдерживая гнев. — Что дает вам основания думать, что я выслушаю вас? Вы слишком много на себя берете! Кто позволил вам распоряжаться письмами герцога дю Шатлэ?
— Моя привязанность к нему, сударыня. Я имею честь быть другом Александра. И в то время когда он не имеет над вами власти, я считаю себя обязанным позаботиться о сохранении его чести и его доброго имени.
Все во мне вскипело от этих слов. Я сжала зубы, понимая, что должна призвать на помощь все силы, чтобы сдержаться. Никогда в жизни, пожалуй, мне еще не хотелось выругаться — так, чтобы этого нахала просто в жар бросило.
— Сударь, — произнесла я с гневом в голосе, — предупреждаю, если вы будете продолжать в том же тоне, вас выведут. Я не намерена терпеть так называемую власть любого, кому взбредет на ум назваться другом герцога! Давайте письмо… Пожалуй, только оно заставляет меня так долго быть в одной комнате с вами.
Я распечатала письмо, полагая, что оно будет довольно длинным. Каким же жестоким было мое разочарование, когда я увидела всего несколько строк, написанных торопливым почерком:
«Пишу вам из Лондона, carissima mia, и оттого буду краток, что уже сегодня вечером меня ждет судно, отплывающее в Данию. Через две недели я буду в Митаве, а после вернусь к графу д’Артуа в Эдинбург.
Очень скучаю. Милая моя, возможно, в середине лета будет счастливая оказия побывать в Бретани. Верьте, что я использую любую возможность, если она представится.
Как там Филипп? Закажите его портрет, если в Бретани вам встретится какой-нибудь художник. Да и вас пусть изобразят рядом с малышом. Тогда ваше лицо всегда будет со мной.
Я люблю вас. Очень надеюсь, что третью годовщину нашей свадьбы мы встретим вместе.
Александр.
5 марта 1798 года, Лондон».
Я разочарованно посмотрела на графа. Разочарование заставило меня забыть о чувствах, которые я к нему питала.
— И это все? Пятнадцать строк за девять месяцев отсутствия?!
— У Александра было мало времени. Мы встретились случайно, и он так же случайно узнал, что я с минуты на минуту уезжаю во Францию.
— М-да… — сказала я без всякого выражения. — Это, без сомнения, утешает.
— Вы будете отвечать? — спросил Ле Пикар резко.
— Нет! Через вас не буду.
— Так я и думал, — произнес он тоном, показавшимся мне оскорбительным.
Наступило молчание. Я не намерена была отвечать на этот странный выпад, поглощенная иными мыслями. К чему отвечать? Я была почти уверена, что вскоре мы сможем встретиться, что вскоре Александр сам вернется в Бретань. И, честно говоря, столь краткое письмо уязвило меня. Все-таки девять месяцев разлуки… Неужели не было никакой другой оказии, кроме поездки Ле Пикара? Должно быть, Александр так занят, что просто не ищет иных возможностей!
Ле Пикар напряженно-дрожащим голосом произнес:
— Сударыня, я уезжаю в Англию, а потом в Египет. Я покидаю Париж. И вас настоятельно прошу последовать моему примеру.
— Поехать в Египет? — насмешливо спросила я.
— Нет. Покинуть Париж.
Я смерила графа неприязненным взглядом.
— Не знаю, почему вы мне это предлагаете. Отъезд пока не входит в мои планы.
— Сударыня, я настаиваю.
— Вы добьетесь только того, что я сочту вас помешанным. Только повредившиеся умом могут доходить до такой наглости и вмешиваться в жизнь совершенно чужих людей.
— Вы можете считать меня кем угодно, — произнес он сухо. — Но с Александром я связан тысячью уз. Он спас мне жизнь на Корсике. А я пытаюсь спасти его честь в Париже.
— У вас галлюцинации, сударь! Кто, по-вашему, посягает в Париже на его честь?!
— Вы!
Этот громовой голос и безапелляционный, обвиняющий тон ошеломили меня. Я отступила на шаг, глядя на графа почти с испугом. Что случилось? Возможно, он и вправду помешался?
— Послушайте меня, сударыня, — произнес Ле Пикар, задыхаясь от гнева. — Я встретил вас в заведении, о котором в приличном обществе не принято упоминать. Признаться честно, я прежде даже не слыхивал, чтобы аристократка и герцогиня посещала вот так запросто подобные места. Я навел справки Я расспросил о вас. И, черт возьми, я выяснил, что вы два часа провели в кабинете мошенника, спекулянта, жулика иначе говоря, — банкира Клавьера!
— И что же? — спросила я презрительно. — Совершенно не обязательно было так утруждаться. Я бы сама вам сказала, если бы вы спросили.
— Черта с два! Вы несколько лет дурачите Александра, а уж меня и подавно обвели бы вокруг пальца!
Я возмутилась.
— Какая чушь! Откуда вы почерпнули все эти сплетни!
— Вот откуда! — взревел он, швыряя на стол какие-то газеты. Чашка с кофе, звякнув, полетела на пол. — Именно это мне все разъяснило… И вы наверняка знаете, что там написано!
Я молча перебрала газеты. Это были те самые выпуски, где писалось о Флоре де Кризанж, Клавьере и обо мне. А еще — о нашей связи в Консьержери, о моем характере, моем муже…
— Я все понял, все! Александр совершил ужасную ошибку, женившись на вас. Его жена — любовница буржуа! Этим все сказано… Мало того, что она была любовницей буржуа в прошлом, она и сейчас бегает к нему в кабинеты, как самая последняя шлюха!
— Вы с ума сошли! — вскричала я, со злостью сжимая газеты.
— Я?! Может быть, вы станете меня убеждать, что это были не вы — там, в «Старине Роули»? Вы это скажете? Или, может быть, вы станете доказывать, что ваши дочери, которым Александр дал свое имя, — не дочери Клавьера?
Я похолодела. Меньше всего на свете я ожидала упоминания о близняшках. Ле Пикар словно угадал мои мысли.
— Я всегда знал, сударыня, что ваши дочери не могут быть от Александра… В то время, когда они были зачаты, он был в Англии. Это понимали только он, я да еще Поль Алэн. Но, честно говоря, я знал о том, что вы были в тюрьме и думал, что там всякое могло случиться. Насилие тоже нельзя было исключать. Я уважал вас как мученицу! И никогда, ни разу мне даже в голову не приходило, что вы унизились до связи с буржуа! До незаконной, мерзкой связи! Черт побери! Если бы я знал это раньше!
Я очень долго молчала, холодно глядя на Ле Пикара. Он был в бешенстве, которое трудно выразить словами. Возможно, он и вправду испытывал ко мне отвращение. По крайней мере, я видела, что он искренен. Но как же он жесток! Что он знает о моей жизни? Он мужчина, и именно поэтому ему меньше достается во время больших смут. Мужчин не насилуют и не унижают, как женщин. Кроме того, где была его смелость, его благородное презрение во время террора? Почему он не обличал якобинцев так, как сейчас обличает меня? Почему он предпочитал совершать подвиги за границей?
Я уже не чувствовала к Ле Пикару зла. Я лишь понимала, что моя дружба с ним навеки кончена. Он слишком жесток и непонятлив. Он оскорбил меня так, как еще никто не оскорблял.
Я вскинула голову. Взгляд моих глаз был ясен и холоден.
— Сударь, — сказала я очень спокойно. — Единственное, что может вас оправдать, — это ваша искренность.
— Я не нуждаюсь в оправданиях.
— Я тоже. Вы сейчас совершили большую, трагическую ошибку. К сожалению, ваш тон и ваше поведение совершенно исключают возможность каких-либо объяснений с моей стороны. Повторяю: вы глубоко ошиблись, когда сделали все эти выводы.
Мой голос, совершенно ровный и спокойный, без возмущения, дрожи и ненависти, похоже, подействовал более ошеломляюще, чем пощечина, которой Ле Пикар, без сомнения, заслуживал. Его взгляд оставался суровым, но в нем промелькнуло что-то похожее на сомнение.
— Что вы еще имеете мне сказать? — спросила я.
— Я требую, чтобы вы немедленно уехали из Парижа и прекратили всякие связи с Клавьером.
— Вы повторяетесь.
— Об истине нельзя сказать, что ее повторяют слишком часто.
— О лжи — тоже, сударь.
Помолчав, я добавила:
— Отъезд пока не входит в мои планы.
— Сударыня, — произнес граф угрожающе, — вы ставите меня перед необходимостью довести то, что я понял, до сведения Александра.
— Вы угрожаете мне?
— Я пытаюсь заставить вас сохранять хотя бы внешние приличия, если уж вы бесчестны внутренне!
Кровь прихлынула к моему лицу. На миг от возмущения я лишилась дара речи. Но мне удалось овладеть собой.
— Господин граф, — проговорила я спокойно, — я могу сказать вам лишь одно: если вы поведаете все эти измышления Александру и этим внесете смятение в нашу семейную жизнь, на вашей совести будет просто-таки преступление. Подумайте еще раз, прежде чем будете принимать решение.
— Вы что же, изображаете оскорбленную невинность?
— Я ничего не изображаю. Это вы явились в мой дом и изображаете судью.
— Вы отрицаете, что имели связь с Клавьером? Будьте любезны, объяснитесь.
Я заметила, что он начинает сомневаться. Но именно его колебания и возмутили меня больше всего. Надо же, не будучи полностью уверенным, он является сюда, оскорбляет, чего-то требует, осуждает, вносит смятение в мою душу, портит настроение на целую неделю! Да он просто мальчишка — сам не знает, что творит! Но черт бы побрал таких мальчишек!
— Я ничего не намерена объяснять такому глупцу, как вы! — вскричала я, не в силах сдержаться. — Вы сами должны были бы знать, что видимость не всегда отвечает сути! Мне неизвестно, какую напраслину возводят на Александра, но я…
— Да, потому что это действительно напраслина! Все эти слухи о леди Мелинде — ложь. Но вот в вашем случае я в этом совсем не уверен.
Меня нисколько не задели последние слова — я их просто не расслышала. Случайно вырвавшееся у Ле Пикара имя какой-то Мелинды поразило меня в самое сердце. Бледность разлилась по моему лицу.
— Ах вот как… — протянула я без всякого выражения. — Значит, есть некая леди у Александра в Англии?
— Это все ложь.
— О, без сомнения… Вы хорошо знаете, где ложь и где истина… — Гнев и ревность закипали во мне, я уже не могла сдерживаться. — Так как же вы осмеливаетесь обвинять меня? Ведь если у Александра есть леди, а у меня Клавьер — разве мы не квиты?!
— Черт побери, сударыня! — взревел он. — Вы самая бесстыдная женщина из всех, кого я знаю!
— Это еще ничего! Вы — самый глупый из всех известных мне мужчин, и это куда хуже!
Мы оба опустились уже до заурядного скандала, до личных оскорблений. Я знала, что мне это не идет. И была очень рада, когда граф, скрипя зубами, бросил на меня последний яростный взгляд и вышел, хлопнув дверью так, что задребезжали стекла в окнах.
Потрясенная, я опустилась на стул. Мысли мои путались. Я не знала, с чего начать обдумывать создавшееся положение. Наглое требование Ле Пикара уехать я не принимала в расчет. Я не настолько глупа, чтобы из-за нелепой выходки графа бросить все в тот самый миг, когда до успеха — рукой подать. Вот-вот Александр будет амнистирован. Только добившись удачи, я уеду.
Угрозы Ле Пикара рассказать обо всем герцогу меня тоже сейчас не беспокоили — возможно, потому, что я была слишком уязвлена иными известиями. Известиями о некой леди Мелинде. Я узнала об этом совершенно случайно. И, узнав, не сомневалась, что Александр изменил мне.
Подумать только, в то время когда я пытаюсь добиться у синих снисхождения для своего мужа, он ухаживает за англичанкой. Он вообще избрал для себя очаровательный образ жизни: несколько недель в году проводит с женой, остальное время он полностью свободен, он развлекается и наслаждается приятным обществом англичанок. И он даже не задумывается, каково мне было в Париже! Последние шесть месяцев я жила среди врагов. Я делала столько неприятных вещей, я шла на многие жертвы — ради него, ради Александра! Я была монахиней. Я почти потеряла свою женскую суть. И вот благодарность — в лице леди Мелинды.
Злые слезы душили меня. Задыхаясь от обиды, я дрожащими пальцами распечатала конверт от Талейрана, порвав при этом письмо. Какое-то время я тупо смотрела на строки, не понимая их смысла, буквы расплывались перед моими глазами. Потом слезы отступили и я смогла читать. Тон Талейрана даже как-то успокоил меня. Министр писал:
«Милейшая мадам дю Шатлэ, прежде всего прошу прощения за то, что вмешиваюсь в дела, меня не касающиеся. И все же, зная, что вы в любом туалете выглядите восхитительно, я осмеливаюсь просить вас выбрать для поездки в Ренси голубой цвет. Небесно-голубой, аквамариново-голубой — какой угодно голубой. Учтите это мое пожелание.
Я буду иметь честь заехать за вами в четыре часа пополудни».
Я невольно улыбнулась, узнав, какую заботу проявляет министр о моем внешнем виде. Я знала, что голубой цвет он любит больше всего. Действительно, почему бы мне не сделать ему приятное? Тем более что у меня есть одно великолепное платье, сшитое совсем недавно.
Я утерла слезы и пошла отдавать соответствующие распоряжения. «Все-таки, — решила я, — следует смотреть в будущее. Надо две вещи забыть, а одну исполнить. Забыть о Ле Пикаре и леди Мелинде. Исполнить свою задачу до конца. Именно об этом и стоит сейчас думать».
А потом меня ждет Бретань, и только Бретань. Одно это слово было огромным утешением.
5
Карета быстро мчалась по дороге, петляющей между ярко зеленеющими хлебами. Утром был дождь, но, хотя земля высохла, в воздухе оставалась прохлада — очень приятная в нынешний жаркий май. Голубые цветы льна и васильки мелькали то тут, то там на обочине. Ласточки с писком реяли над полями. Солнце было мягкое, ласковое — как раз для пикника.
Мне, впрочем, было все равно, удастся этот пикник у Клавьера или не удастся. Я ехала туда лишь затем, чтобы про демонстрировать банкиру мою дружбу с министром, да еще потому, что Талейран сообщил мне, что, возможно, на приеме будет сам Баррас. Это позволяло надеяться, что все будет решено именно сегодня. Ради этого стоило поехать даже к Клавьеру.
— Нам сразу станет ясна обстановка, — произнес Талейран, мягко пожимая мне руку, которую я вот уже полчаса не отнимала. — Мы оглядимся вокруг и поймем, удался ли тот шантаж, который вы замыслили. С вашей стороны это было рискованно — грозить Клавьеру мной, в то время как я ни о чем подобном не думал.
Внимательно присматриваясь к нему, я сделала вывод, что Морис сегодня не в духе. Он вел себя любезно, как и прежде, но что-то напряженное было в его обращении. Он говорил со мной и в то же время думал еще о чем-то.
— Вас что-то тревожит? Скажите мне, — попросила я.
Пожав плечами, он медленно рассказал о том, как на днях обнаружил, что его собственный секретарь играет роль шпиона в министерстве и приставлен к нему, Талейрану, кем-то из директоров. Министр давно подозревал, что кто-то доносит на него, и был настороже. Он и предположить не мог, что доносчиком является сам секретарь.
— И что же вы сделали с ним? — спросила я.
— О, дорогая моя, что же я мог сделать? Я вызвал его, пожурил, выплатил ему жалованье и уволил.
— По крайней мере, он не нанес вам большого вреда?
Талейран усмехнулся.
— Друг мой, у меня дело поставлено солидно. То, что я имею причины скрывать, известно только мне и никому другому.
Помолчав, он с раздражением добавил:
— Черт бы побрал этих господ директоров. Я таких вещей не прощаю.
Эта фраза прозвучала довольно зловеще, и я даже слегка пожалела «господ директоров», предвидя, что в недалеком будущем они станут жертвами коварства Талейрана.
— Мне очень жаль, Морис… — сказала я искренне. — Впрочем, если говорить честно, господа директоры куда больше теряют, чем приобретают, подозревая вас.
Талейран улыбнулся, поднося мою руку к губам.
— Это верное замечание, друг мой. Боюсь только, я наскучил вам, говоря все время о своих делах на службе.
— Это напрасные опасения. Не знаю, верите ли вы мне, но благодарность, которую я к вам испытываю, переросла в симпатию, и меня волнует все, что касается вас. Я искренне желаю вам добра. Вы мне нравитесь. За эти шесть месяцев вы меня просто очаровали.
— Вы смелы в выражениях, милая Сюзанна.
Легкое смущение повисло между нами. Чуть покраснев и уже слегка сожалея о том, что высказала то, что чувствовала, я отвернулась к окну. Мы как раз проезжали Роменвиль. Моя рука лежала в руке Талейрана, довольно сильной, несмотря на далеко не исполинское телосложение министра; и я вдруг снова почувствовала какое-то легкое волнение, охватывающее меня. Сердце забилось чаще. Я напряглась, пытаясь перебороть себя, и в то же время понимала, что не хочу делать этого. Я хотела поддаться чувствам. Рядом со мной был человек — единственный в Париже, — с которым я вела себе искренно, который был мне очень симпатичен, который понимал меня. Мне с ним было неимоверно легко и приятно. Порой я всем существом тянулась к нему, не понимая даже толком, чего именно хочу. Или не решаясь себе в этом признаться.
Я обернулась, бросила на Талейрана взгляд из-под опущенных длинных ресниц:
— Вы действительно очаровательны, господин де Талейран.
— Берегитесь, сударыня. Вы вскружите мне голову.
Прошло еще несколько секунд, и я увидела, что он протягивает мне небольшую коробочку из слоновой кости. Я взглянула: это была изящная брошь в виде цветка лилии, крупный великолепный сапфир в окружении нескольких бриллиантов. Я едва сдержала смех.
— Вот как? Значит, Морис, вы напоминаете мне о моем изумруде?
— Нет, я просто оправдываю свою репутацию дамского угодника.
— Но это же лилия! — сказала я. — Роялистский символ!
— Сейчас среди буржуазии модны такие символы.
— Благодарю вас… Но как вы угадали, что…
— Я не угадывал. Я нарочно попросил вас быть в голубом, потому что сапфир был уже для вас приготовлен.
На мне было узкое облегающее платье из легкого муслина цвета морской волны — довольно простого покроя, как и требуется для пикника, перехваченное под грудью серебристым поясом, с пышными рукавами фонариком, отделанное аппликациями из Дамаска, имитирующего кружево путем создания белого тонкого рисунка на более темном фоне. Золотистые волосы, зачесанные наверх, были украшены легким сооружением из кружев и лент — подобное украшение вошло в моду, напоминало прежние чепцы и называлось «барб». Легкий зонтик из голубой ткани был неотделимым атрибутом моего сегодняшнего туалета.
Взгляд Талейрана в который раз изучил все это, начиная от волос и заканчивая подолом юбки, потом протянул руку и, едва коснувшись самой нижней точки декольте, медленно произнес:
— Именно здесь ей и место. Приколите ее сюда.
Жест был более чем вольный, но я не рассердилась. Да и как было сердиться, если в глубине души я почувствовала облегчение. Я приколола брошь к вырезу платья.
— Ну как?
— Великолепно.
Через полчаса мы были на месте, вернее, оказались в Ренси — небольшом городке, утопающем в зелени каштанов. Еще немного — и мы въехали в новое поместье Клавьера. Яркий бордюр из цветов красочной лентой повторял контур аллеи. Через причудливо изогнутые сучья могучих дубов проглядывала архитектура дома, а перед ним под деревьями на яркой зелени лужаек кое-где алел шиповник. Мы прибыли с опозданием: там уже было людно и пахло жареным мясом — видимо, приближался час барбекю.
Талейран повернулся ко мне и сказал, что, к большому своему сожалению, вероятно, не сможет все свое время посвятить мне — сегодня вечером ему необходимо переговорить с аббатом Монтескью и прусским посланником, но он советует мне прежде всего встретиться и переговорить с Баррасом — если он, конечно, здесь, в Ренси, будет.
Когда Талейран под руку с незнакомым мне аббатом ушел, чтобы обсуждать какие-то интриги, и оставил меня одну прогуливаться по лужайкам нового великолепного поместья Клавьера, уставленным столами и плетеными стульями, я сразу почувствовала себя незащищенной, почти беспомощной. Одиночество среди буржуа страшило меня. Я знала многих гостей, но мне ни с кем не хотелось говорить. К тому же я замечала, как некоторые приглашенные глядят на меня, даже вытягивают шеи, чтобы видеть лучше, и шепчутся втихомолку — видимо, еще помнят о том, какой скандал имел место в марте. Все это было мне ненавистно и до того напоминало о Ле Пикаре, что я начинала чувствовать злость.
Я встретила Жозефину Бонапарт и перемолвилась с ней несколькими словами. Она была в обществе некоего капитана Шарля, ранее выгнанного Бонапартом из армии. Шарль был молод и хорош собой. О нем и Жозефине ходило уже столько сплетен, что никто в Париже не сомневался, что они любовники и что, пока генерал завоевывает Египет, жена наставляет ему рога во Франции.
Я на секунду присела к столу и отведала кусочек жареного мяса; тут ко мне прицепился какой-то офицер весьма развязного вида, которому, очевидно, казалось, что я нуждаюсь в том, чтобы меня развлекали. Я встала, желая отвязаться от него, но он устремился за мной следом и стал говорить дерзости. Я оборвала его так грубо, как только могла, и едва ли не приказала убираться вон. Это помогло, и меня оставили в покое.
В этот миг я увидела Клавьера, направляющегося ко мне. Он был в сером сюртуке, белом галстуке, в мягких светлых сапогах и с хлыстом в руке. Лицо его было крайне свирепо, и я отдала должное своему мужеству: мне довольно спокойно удалось выдержать его взгляд.
— Вы что-то хотите мне сказать? — спросила я безмятежно, когда он подошел, и поднесла ко рту кусочек мяса.
— Первое, что я хочу сделать, — это избить вас хорошенько.
— Отлично, — так же любезно сказала я. — Но поскольку сейчас это вряд ли возможно, давайте поговорим о втором.
— Бросьте эту вашу тарелку, — приказал он резко. — Ступайте за мной.
— И я увижу то самое второе?
— Увидите, — сказал он зловеще.
Он повел меня по дорожке между дубами к спуску, за которым сияла под солнцем гладь искусственного озера. Вид отсюда открывался великолепный: грациозные лебеди, величаво плывущие по зеркальной поверхности пруда, белый мост, заросли сосняка. Запах хвои и пение птиц… Там тоже гуляли гости, но их было гораздо меньше, чем на лужайках.
— Надо же, — пробормотал Клавьер. — Вы саму себя перещеголяли! Какое бесстыдство: просить за мужа и спать с Талейраном! Должно быть, муж будет вам благодарен.
Я презрительно бросила:
— Клавьер — в роли моралиста! Если уж кому говорить о бесстыдстве, то не вам!
Клавьер резко обернулся и грозно поднял кулак.
— Ну-ка, молчать! Посмейте сказать еще хоть слово!
«Похоже, он грозится, что будет бить меня», — подумала я ошеломленно. Мне хотелось сказать ему многое, но по его лицу я поняла, что он не шутит, и решила не испытывать судьбу. В конце концов, грубой силе я ничего не могла противопоставить, а быть избитой мне вовсе не улыбалось.
Я затаила в душе ненависть и не сказала больше ни слова.
Обходя веселые стайки нарядных дам и офицеров, он подвел меня к высокому мужчине, который стоял на берегу, сунув руку в карман и попивая вино. Незнакомец обернулся, заметив наше приближение. У него была желтая, обтягивающая скулы и подбородок кожа, презрительные черные глаза. Я переводила взгляд с одного на другого: Клавьер и незнакомец были в чем-то очень похожи. Даже рост у них абсолютно одинаковый…
— Я — Баррас, — надменно сообщил незнакомец, не спуская с меня глаз и делая новый глоток из бокала.
Растерявшись, я сделала реверанс. Сердце у меня забилось так сильно, что я на миг онемела.
— Ну, так я оставлю вас, — произнес Клавьер.
— Да, но не надолго. Наш разговор с гражданкой дю Шатлэ не затянется.
Клавьер ушел. Я молчала, не зная, с чего начать беседу. Наглый взгляд Барраса — циничный, почти раздевающий — оскорблял меня. Пересилив себя, я спросила:
— Может быть, здесь неудобное место для разговора?
— Неудобное? Да я же солдат, моя милая. Порой я не только стоял, но и спал на груди матери-земли. — Усмехнувшись, он добавил: — Разумеется, я не хочу этим сказать, что не предпочел бы чью-нибудь другую грудь.
«И это говорит самый главный человек в Республике», — подумала я. Последний выпад Барраса, честно говоря, привел меня в ужас. Этот намек на грудь… Уж не взбрело ли ему в голову требовать от меня каких-то любовных услуг? Ах, только не это! Все тогда полетит кувырком!
— А вы знаете, моя прелесть, что я служил в одном полку с вашим супругом?
— Что? — переспросила я, не совсем понимая.
— Да-да, мы оба были в Индии в составе Австразийской бригады и вместе сражались под Куддалуром. Правда, потом я перешел под начало адмирала Сюффрена и меня перевели на мыс Доброй Надежды, но вашего мужа я хорошо знал. Полагаю, и он хорошо помнит маркиза де Барраса — а?
Тон его был какой-то странный. Я со страхом подумала, что, возможно, в Индии он ссорился или даже дрался на дуэли с Александром, и тогда прощай все надежды…
Опасения были напрасны. Допив вино, Баррас развязным тоном заговорил обо мне:
— И вас я хорошо знаю, красавица. По газетам и по рассказам нашего друга Рене.
— Да? — переспросила я. — И что же он обо мне говорил?
— То же самое, что писали газеты. Черт возьми, гражданка! Вы это ловко проделали! Мне нравятся женщины, способные столкнуть соперницу с лестницы.
— Но, гражданин Баррас… — произнесла я нерешительно.
— Ладно, ладно, не будем об этом.
Он выбросил бокал прямо в траву и, фамильярно ущипнув меня за щеку, спросил, заглядывая мне в глаза:
— Милочка, вы одолжите мне двести тысяч ливров?
— О, конечно, — сказала я.
— Значит, ваше дело будет улажено.
— Вы обещаете? — вырвалось у меня.
— Черт побери! Я даю слово. Вы увидите, как я его сдержу, когда одолжите мне деньги.
Слово «одолжите» скрывало совсем иную, довольно неблаговидную суть, и я не питала на этот счет никаких иллюзий. У меня было восемьдесят тысяч наличными, остальную сумму надо будет собрать во что бы то ни стало. И все-таки как это гнусно. Как гнусен сам Баррас. Он словно торгует своей властью. Пожалуй, если отвалить ему миллионов двадцать, можно и реставрацию монархии устроить.
Уходя, Баррас обернулся:
— Кстати, я забыл вам сказать, что вы прехорошенькая… Советую вам вернуться к дому — там сейчас начнется представление и будет весело.
Я проигнорировала это предложение. Мне было не до представлений. Мгновение я стояла не двигаясь, не в силах поверить в то, что чудо свершилось. Мне наконец-то удалось то, чего я добивалась почти полгода. На миг мне стало холодно, потом бросило в жар, сердце застучало оглушительно гулко — пожалуй, в какую-то секунду от неожиданного облегчения я была на грани обморока. Пересилив себя и пытаясь унять дрожь, охватившую меня, я оглянулась по сторонам и среди толпы заметила Талейрана.
Не в силах не улыбаться, я пошла к нему, но вскоре заметила, что он сосредоточенно беседует о чем-то с Жозефиной. До меня долетали некоторые фразы.
— Сударыня, — услышала я голос министра иностранных дел, — простите меня, но ваш выбор крайне неудачен. Кто такой этот Шарль? Человек, изгнанный из армии и торгующий теперь съестными припасами! Простите меня еще раз, но вы совершаете ошибку.
Жозефина, крайне растерянная, пыталась защититься:
— Господин де Талейран, но у нас с Шарлем только дружба!
— Охотно верю, сударыня, но если эта дружба настолько исключительна, что заставляет вас пренебрегать светскими приличиями, я скажу вам так, как если бы это была любовь: разведитесь, потому что дружба заменит вам все остальное. Поверьте, вы испытаете из-за всего этого достаточно горя.
«Почему его так интересует семейство Бонапартов? — подумала я не без досады, удаляясь. — Пусть Жозефина заведет хоть десять любовников — что ему за дело? Почему он так заботится о чести этого корсиканца?»
Даже Талейран был сейчас занят, и я не могла с ним поговорить. Уже смеркалось. Гости понемногу покидали берег, направляясь к дому. Оттуда доносился шум и, видимо, там действительно происходило что-то веселое. А я почему-то чувствовала, как все сильнее охватывает меня тоска.
Чего-то не хватало мне… Общения, ласки, тепла. Ощущение чего-то запретного, смутно желаемого мучило меня. Я ступила на мост и пошла вперед, сама не зная, куда направляюсь. Может быть, к той прелестной башенке в виде руины, поставленной в излучине озера на пригорке среди сосняка. Всех этих людей — гостей Клавьера — я просто не могла видеть. Как на грех, поместье в Ренси своим воздухом, растительностью немного напоминало Белые Липы, и мне стало еще тоскливее. Я подняла голову и, глядя на звезды, подумала о том, что отдала бы все на свете, лишь бы избавиться от этой тоски и одиночества, мучивших меня уже много месяцев.
Я женщина… В конце концов, у меня есть желания. Они, может быть, греховны, но они есть, и противиться им я устала. Александр пренебрег мною. Он выбрал войну, а не меня. Война ему нужнее. Теперь он вернется, но вернется ли он к прежней Сюзанне? Моя душа теперь была полна обиды и ожесточения. За два с половиной года брака с герцогом я не так уж часто удостаивалась его внимания. Мною уже было подсчитано: он был со мной семь месяцев во время свадебного путешествия и шесть месяцев после рождения Филиппа. Остальное время я коротала одна. И это — счастье?
Слезы закипали у меня на глазах. Александр отсутствовал так долго, что я почти перестала ждать. Что-то перегорело у меня в душе — по крайней мере, так я думала нынче. А если он вернется, это не значит, что надолго. Он не послушает меня и снова выкинет какую-нибудь штуку. Его снова захотят арестовать. Я знала, что так будет. Он поступит лишь так, как считает нужным, даже если будет знать об усилиях, приложенных мною тут, в Париже.
А если вспомнить о леди Мелинде, то можно и вовсе загрустить. Я смахнула слезы с ресниц, и в этот миг чья-то рука осторожно коснулась моего плеча.
Я обернулась и, увидев Талейрана, облегченно вздохнула.
— Ах! Вы так напугали меня!
— Этого я хотел меньше всего…
Лицо его было задумчиво, холодные голубые глаза казались в сумерках темными. Мне показалось, он любуется мной.
— С вас бы, друг мой, писать сейчас картину… — Оборвав сам себя, он спросил: — Как я понимаю, все получилось?
— Да. Если бы я рассказала вам, Морис…
— Вы мне многое расскажете, но сперва давайте отметим нашу удачу.
— Чем же?
— А вот тем, что у меня в руках.
Я только теперь заметила, что он пришел с бутылкой шампанского и двумя бокалами. Вокруг было совершенно безлюдно. Местность была очаровательна, как сама поэзия, а воздух казался по-майски томным. Где-то заливались соловьи.
— Согласна, — сказала я.
— Ну так пойдемте выпьем.
Он посторонился, пропуская меня чуть вперед, и мы направились к скамейке под одной из арок моста. К вечеру становилось чуть прохладнее. Шампанское шипело и пенилось в бокалах.
— Выпьем за вашего мужа, Сюзанна, — предложил Талейран.
В его голосе мне почудилась скрытая ирония. Да и вообще этот тост казался мне невозможным в данный момент. Я поспешно произнесла:
— Нет, Морис, это не подходит. Придумайте что-нибудь другое.
С легкой усмешкой он произнес:
— Тогда выпьем за здоровье мадам Грант. Идет?
— О да, — сказала я, поднося бокал к губам.
Вино не принесло облегчения, как я на то надеялась, а, наоборот, усилило возбуждение, обострило чувства. Мы долго молчали, но это молчание не было неловким. Какое-то предчувствие, ожидание повисло между нами. Талейран не сводил с меня глаз, и легкая дрожь пробежала у меня по спине.
— Послушайте, — сказал он наконец, беря меня за руку. — Мне кажется, вы очень опечалены. Что с вами?
В его взгляде было столько теплоты, что я произнесла, вздохнув почти страдальчески:
— Морис, если бы вы знали, как я одинока.
— Друг мой, вы не созданы для одиночества.
— И тем не менее обречена на него. Такова воля рока.
Улыбаясь, он произнес:
— С роком надо бороться.
— Увы, господин министр. Этому искусству я не обучена.
Его взгляд, устремленный прежде на мои губы, скользнул ниже, на грудь. Я ощутила, как мне становится жарко. Он смотрел на меня дерзко, но, однако, в этом не было ничего грубого. Его взгляд не шокировал меня и не смущал, но волновал.
— Дорогая моя, той, что наделена вашими достоинствами, нечему учиться. Желать — значит владеть.
Я метнула на него застенчивый взгляд из-под дрогнувших ресниц, и сама не заметила, как с моих губ сорвалось:
— Такому человеку, как вы, Морис, я готова поверить.
И опять какая-то неопределенность повисла между нами. Бокалы вновь были наполнены. Мне казалось, с каждой секундой становится все жарче. Шампанское ударило в голову, туманило рассудок. И соловьи пели так сладко…
— Вы были так добры ко мне, Морис.
— Я буду так добр, что усмотрю в ваших словах и нечто большее, — сказал он иронично.
Помолчав, он добавил:
— Нет, милая моя. Я вовсе не добр. Мне кажется ужасной ваша сдержанность… Впрочем, в создавшейся ситуации один из нас, вероятно, должен проявить это качество.
— Меня необходимость призывает к этому, Морис.
— Ах! О какой необходимости вы говорите?
От шампанского, волнения и прочих чувств я была словно не в себе и ответила весьма туманно, потому что сама не знала, что говорю:
— Морис, есть вещи, о которых я сейчас не хочу задумываться.
— Вот как? Отлично.
Опираясь на трость, он подошел к перилам моста. С бокалом в руке я последовала за ним. Ночь казалась мне волшебной. Опьяняюще благоухали душистые травы, пахло мятой, душицей, майораном. Глядя в воду, можно было видеть, как меняются в ней зыбкие отражения моста. Сейчас, поздним вечером, были неподвижны полные мрака кущи парка, отбросившие тень на озеро, а в серебряном свете луны арки моста казались призрачными, как обитель русалок. Серебристые ясени, как великаны, застыли вдоль берега.
— Ваши волосы, — произнес Талейран.
— Что? — спросила я почти трепетно.
— Они нежны как шелк. Они сияют.
Он протянул руку, и я не уклонилась. Он коснулся моих волос, его пальцы медленно спустились ниже и погладили щеку. Голова у меня кружилась, от дрожи, охватившей все тело, я, похоже, могла упасть в обморок. Я сама не знала, чего хочу. Я знала лишь то, что мы заходим слишком далеко, но остановиться не могла. Это было не в моих силах.
— Вы кажетесь такой невинной. Как девочка…
«Нет, — сквозь звон, раздающийся в ушах, услышала я свой внутренний голос. — Это не так. Это совсем не так…» Потом сознание умолкло. Чисто физически, каждой клеточкой тела я наслаждалась близостью человеческого тепла, этой мужской лаской. Рука Талейрана, коснувшись моего подбородка, решительно привлекла меня к себе. Я не противилась даже тогда, когда ощутила на своих губах его поцелуй.
Мне было приятно. Я не чувствовала плотского волнения, но одно сознание того, что ко мне прикасается мужчина, дарило необыкновенное наслаждение. Он был очень спокоен и не делал никаких попыток продвинуться дальше. Он просто поцеловал меня. Да и поцелуй был короток — я встретила его полуоткрытыми губами, и все. Потом, на миг обессилев, я припала к плечу Талейрана, предчувствуя, что вот-вот могу заплакать.
Он гладил мои волосы, но не произносил ни слова. От него пахло шампанским. Я всхлипнула, и на этом мои рыдания прервались. Кровь тугими ударами стучала в висках, мне снова становилось очень жарко. Я поступаю плохо? Ну и пусть. Я тоже имею право иногда поступить плохо. Я не ангел. Я хочу быть нужной кому-нибудь. Хочу отдаться — даже не потому, что меня сжигает страсть, а лишь бы ощутить свою необходимость и преодолеть одиночество! И Александр сам виноват, что не дал мне почувствовать, что я ему нужна! Одно письмо, пятнадцать строк за девять месяцев — тьфу!
— Вы любите меня хоть немного? — прошептала я одними губами.
— Конечно, дорогая моя. Я очень вас люблю. Разве можно столько заниматься женщиной, которую совсем не любишь?
Мы оба понимали, что речь сейчас идет не о любви в самом высоком смысле слова. Мы говорили о симпатии, желании, какой-то зыбкой и странной грани между дружбой и любовью.
Я посмотрела на него, и в его глазах увидела свое миниатюрное отражение.
— Поцелуйте меня, — прошептала я почти сквозь слезы.
Он сделал это так, что я ахнула. В этом человеке самым удивительным образом сочетались холодность и страстность. Он поцеловал меня так, что на миг ноги у меня подогнулись, а вся я будто попала в поток расплавленного металла и сгорала там. Я чувствовала его руку у себя на груди, потом его губы на щеке, за ухом, на шее. Меня словно бросило в омут чувств — там были радость, волнение, желание, невыносимая сладость и невыносимый ужас. Я не хотела ничего иного, кроме как хоть одну ночь прожить во всей полноте ощущений. Я была рада тому, что слегка пьяна. Наконец меня охватило такое возбуждение, что никакие укоры совести не могли бы удержать меня от наслаждений, которые сулила эта ночь.
То, что они будут, я знала уже по поцелую. Этот мужчина был мне необыкновенно приятен. Его рука у меня на груди, его прикосновения, его возраст, имя, хромота — все это возбуждало меня, делало покорной, дрожащей и истомленной. Он оторвался от меня, кратко спросил:
— Да?
— Да, — прошептала я утвердительно.
— Тогда идемте.
Слова оказались не нужны, и это только облегчило положение. Взяв меня за талию и опираясь на трость, он повел меня — а куда, это было только ему известно.
6
Проснувшись, я некоторое время лежала, уставившись в потолок. Надо мной нависал роскошный «польский» балдахин овальной формы. Мебель розового дерева, постель, шпалеры на стенах — все это было мне знакомо. Я не терялась в догадках, где нахожусь, где встречаю новый день. Это был тот самый дом в Сен-Клу. Здесь я была уже во второй раз.
Я чувствовала себя усталой. Легкая ломота ощущалась в спине, лицо было бледно, под глазами залегла синева, губы чуть распухли. И слабость — везде, во всех членах… Я помнила, что произошло прошлой ночью, помнила до мельчайших подробностей.
Он овладел мною еще в карете, когда мы ехали сюда, и сделал это решительно, уверенно, даже грубо — такого обращения трудно было ожидать, но я ничему не противилась. Он словно опасался, что я могу передумать, и поэтому поспешил воспользоваться возможностью, но я не собиралась менять решение и даже была рада убедить в этом его. Там, в карете, меня впервые за долгое время покинуло чувство брошенности, ненужности. Меня желали. Во мне нуждались. Это было самое главное. И, кроме этого, ко мне пришло физическое облегчение. Это ощущение полноты внутри, чьей-то власти над собой, соединения с мужчиной в самых трепетных конвульсиях страсти и совместного наслаждения — это было именно то, чего я хотела.
Здесь, в Сен-Клу, все было иначе. В вестибюле и перед экономкой он вел себя так, как и во время моего первого приезда сюда, — я даже усмехнулась, подумав, что мы выглядим как благопристойные супруги, вернувшиеся из театра. Решения своего я не изменила. Я поднялась в уже знакомую комнату и ждала его здесь, облачившись в пеньюар одной из многочисленных любовниц Талейрана. Появившись, он показал себя совсем другим, чем тогда, в карете. Он был деликатен, даже почтителен. Впрочем, как любовник он бывал самым разным: то нежным, то хищным и грубым. Я даже не предполагала, что он может так железно контролировать себя и так долго держать себя в напряжении. Как любовник он был отнюдь не хрупок, и мне было очень хорошо с ним. Он дал мне все, чего я хотела как женщина. Ни о чем не жалея и ничего не стыдясь, я задремала у него на плече и уже сквозь сон услышала, как он встал, сказав, что ему необходимо составить ноту австрийскому императору. С тех пор я оставалась в этой комнате одна и спала столько, сколько мне хотелось.
Итак, это не был каприз или минутное помешательство с моей стороны. Я сделала это сознательно. Я хотела провести с Талейраном ночь, и я сделала это. У меня теперь есть любовник. Я изменила Александру. Возможно, я сошла с ума, но мне не хотелось искать для себя оправданий в шампанском или в собственной безответственности. Да и что скрывать? Если говорить грубо, я не хотела больше быть монахиней и хотела переспать с мужчиной. Вероятно, это грешно, но я ни в чем не раскаивалась.
Женщин нельзя бросать надолго. Пусть мужчины усвоят это прежде всего. Впрочем, для меня все случившееся было лишь увлечением, которое не нарушило моих настоящих чувств к Александру. Так, кажется, говорят мужчины, когда жены узнают об их измене: «Я лишь увлекся, но люблю только тебя». Пожалуй, со мной произошло то же самое. Разве я виновата, что в моих жилах течет такая горячая кровь, что у меня был не только отец-француз, но и мать-итальянка? Разве я виновата, что не ледышка, что мне время от времени нужна подобная разрядка, внимание, тепло, ласка?!
Я впала в грех, причем какой-то воинствующий грех — воинствующий оттого, что я не ощущала ни стыда, ни раскаяния. Я села на постели и, слегка краснея, коснулась пальцев на ногах, потом лодыжек, колен, бедер вплоть до лона. Ощущение было такое, будто я заново родилась на свет. Видимо, слишком долго я подавляла свои желания, слишком долго боялась сама себе признаться, что испытываю их. Я чувствовала себя Афродитой, вышедшей из кипрских вод. Несмотря на усталость, в теле затеплился какой-то огонек, побуждающий к жизни. Тоску как рукой сняло.
Некоторое время я сидела на разоренной постели, с полузакрытыми глазами вспоминала все подробности, и румянец заливал мне щеки. Было что-то очень необычное в прошлой ночи. Морису сорок пять лет. Не то чтобы он был стар или я считала его таким… Просто люди его возраста — это было поколение отцов. Людовик XVI был из того поколения, а на него я никогда не смотрела как на ровесника. Я так привыкла. И вот один мужчина из того поколения стал моим любовником. Это и возбуждало, и слегка смущало.
А еще я была ему благодарна. Я сознавала, что он, возможно, нарочно вызывал у меня симпатию к своей особе, и вся его помощь — это тщательно продуманное соблазнение. Но даже если это было так, он проявил невероятный такт, невероятную проницательность и невероятное терпение. Я не сердилась. Эта ночь была счастливой. Кроме того, я знала, что она будет последней.
«Надо объясниться с Морисом, — подумала я, впервые после пробуждения ощущая какую-то боязнь. — Мы должны договориться, что продолжения никогда не будет. Я скоро уеду из Парижа. Я обо всем забуду. И он должен сделать то же самое. Ибо если Александр узнает, последствия будут страшны. Просто ужасны». В последнем предположении я ничуть не сомневалась.
«Нет, я не раскаиваюсь, — решила я напоследок. — Я просто все забуду. Если бы я умирала от жажды, я бы приняла стакан воды, даже зная, что вода не из моего колодца. Так и эта ночь…»
Отбросив все тревожные мысли, я дотянулась до звонка, и через несколько секунд в комнате появилась Шарлотта — аккуратная, опрятная и деловитая.
— Ванна сейчас будет готова, — сообщила она. — Прикажете ли подавать к крыльцу карету?
— А что, и карета есть?
— Карета принадлежит монсеньору.
Ответы Шарлотта давала сухие, но исчерпывающие.
— Послушайте, милейшая, — сказала я, — прежде всего я хотела бы повидаться с господином министром. Где он сейчас — в кабинете?
— Монсеньора никогда в такое время здесь не бывает.
— В какое такое время?
— Сейчас три часа пополудни, мадам. Господин министр еще в восемь утра уехал на службу.
«Ничего себе, — подумала я ошеломленно. — У него просто-таки железный организм. Целый день, целая ночь, а потом — работа!»
— Вам сейчас подадут завтрак, мадам. Впрочем, это уже нельзя назвать завтраком.
— Шарлотта, мне непременно нужно поговорить с господином министром, — сказала я, поднимаясь.
— Вы хотите воспользоваться моими услугами, мадам?
— Я хочу, чтобы вы нашли способ уведомить его о моем желании.
Шарлотта, деловито сдергивая простыни с постели — видимо, она так делала каждый раз после подобных ночей, — произнесла:
— Я сделаю так, как хочет мадам. Как только монсеньор посетит этот дом, ему немедленно передадут вашу просьбу.
— Как вы полагаете, он посетит его уже сегодня?
— Сегодня? О, мадам, вы слишком многого хотите от монсеньора.
Я отказалась от завтрака, но воспользовалась всем остальным, что было для меня приготовлено, и ванной в том числе. В этом месте все было сделано для того, чтобы подобные мне женщины чувствовали себя как дома. Здесь было все, начиная от домашних туфелек и кончая щеткой для волос. И, как ни странно, даже ощущая, что подобные мелочи приравнивают меня ко всем прочим посетительницам этого дома, я не чувствовала себя оскорбленной и не ревновала. Я признавала право Талейрана жить так, как ему угодно. Следует признать, что он никогда и ни в чем мне не клялся. Разве что в дружбе.
Через час я уже ехала в министерской карете в Париж. Несмотря на то что я успокаивала себя, какое-то время меня терзали угрызения совести. Все-таки некрасиво получилось. Я понимала, что хлопотать за мужа и одновременно изменить ему — это нехорошо. Как-то странно. Но, черт возьми, человек слаб. Я же не святая! А он, Александр? Хотела бы я посчитать, сколько женщин было у него за девять месяцев — и это помимо леди Мелинды.
Мне стал вспоминаться даже Ле Пикар, но потом я задумалась о вчерашней встрече с Баррасом, и граф вылетел у меня из головы. Следовало подумать, где взять недостающие сто двадцать тысяч. Директор высказался недвусмысленно: я даю деньги, он устраивает дело с амнистией. Стало быть, все сейчас зависит только от меня. Надо продать что-нибудь. Например, несколько камней… Правда, я должна признать, что моя коллекция драгоценностей — тех, что я привезла в Париж, — уже изрядно оскудела.
Я выскочила из кареты, не дожидаясь помощи кучера, и побежала к дому. Мне не терпелось поскорее устроить ревизию своим камням. На ходу развязывая ленты шляпы, я шла через вестибюль к лестнице.
— Сюзанна! — Этот голос остановил меня.
Я обернулась и увидела в дверях гостиной Поля Алэна.
7
Честно говоря, в первый момент сердце у меня ушло в пятки, так, будто я была поймана на чем-то нехорошем. Возвращаясь домой, я меньше всего ожидала увидеть здесь своего деверя. И нельзя было сказать, что меня так уж обрадовала эта встреча. Но, преодолев минутное замешательство, я с улыбкой направилась к Полю Алэну.
— Вы приехали? Боже мой, я совсем не знала, что вы способны на такие сюрпризы! Давно вы здесь?
— Я прибыл вчера вечером.
— Почему же вы не сообщили о своем приезде заранее? — спросила я, прикидывая, что, раз Поль Алэн явился в Париж еще вчера, значит, он знает, что ночью меня не было дома.
— Это заняло бы слишком много времени.
— А как вы добрались?
— Верхом. На это ушло всего три дня.
— Верхом до самого Парижа? Вы большой оригинал. Что же так подгоняло вас?
Я было уже решила, что Ле Пикар сдержал угрозу, и бледность разлилась по моему лицу.
Лицо Поля Алэна, напротив, ничего не выразило.
— Вы знаете, Сюзанна, что я не люблю ездить в карете.
— И это все?
— И это все.
Помедлив немного, я спросила:
— Надеюсь, в Белых Липах ничего плохого не произошло?
— Там все в порядке, мадам. Я приехал, чтобы увезти вас из Парижа.
— По-вашему, я слишком долго здесь нахожусь?
— Не то чтобы долго. Просто Белые Липы нуждаются в вас. Без вас мне трудно со всем справляться. Я и так выдержал целых шесть месяцев.
Я не сдержала вздоха облегчения. Слава Богу, ничего страшного не произошло. Можно не волноваться.
— Поль Алэн, я сама думаю возвращаться. Вы приехали как раз тогда, когда я надумала собираться к отъезду.
Внимательно глядя на меня, он спросил:
— Могу я узнать, где вы были всю ночь?
— На приеме в Ренси, — сказала я беззаботно. — В поместье Клавьера.
— Что же вы там делали?
— Развлекалась.
— Целую ночь?
— Ренси находится далеко от Парижа. Кроме того, по дороге я задержалась у ювелира.
— Что же вы купили?
— А вот это, — смело сказала я, указывая на брошь, подаренную мне Талейраном.
Наступило молчание. Мы смотрели друг на друга. Вопросы Поля Алэна больше не пугали меня, ибо я нашла бы ответ на любой из них. Конечно, было бы лучше, если бы Поль Алэн приехал в иное время… и не знал бы, что я отсутствовала ночью. Но раз уж так получилось, надо примириться с ситуацией и по возможности исправить ее.
— А что за карета привезла вас, Сюзанна? — спросил он вдруг.
— Ах, так вы и это заметили, — произнесла я чуть раздраженно, ибо эта беседа уже начинала мне не нравиться.
— Ответьте мне.
— Это карета Мориса де Талейрана, моего хорошего знакомого, — сказала я решительно. — Я очень ему обязана.
— Вы? Я это слышу от вас? Вы называете предателя своим хорошим знакомым? Да что вы себе думаете?
— Можно подумать, вы мой опекун, — сказала я чуть насмешливо. — Поль Алэн, прежде чем упрекать меня, вспомните, что мы с вами абсолютно равны. Вы не мой начальник.
Брови его были нахмурены. Не выдержав, я улыбнулась:
— Ну, что за глупости? Не стоит до такой степени быть в плену предубеждений. Позже я расскажу вам все, и вы поймете, что я была права, когда хорошо отзывалась о Талейране. А теперь идемте обедать. Я ужасно голодна.
В этот миг на лестнице появилась Аврора. Она быстро сбежала вниз, и я заметила, что при взгляде на Поля Алэна лицо ее засияло.
— Поль Алэн, мне кажется, вы еще не видели лошади, которую мне купила мама. Пойдемте, вы просто обязаны посмотреть!
— Мадемуазель, я уже видел ее, — терпеливо произнес виконт дю Шатлэ. — Гнедая английская кобыла, не так ли?
— Так. Но если мне хочется еще раз похвастаться ею перед вами, неужели вы мне откажете?
— Ваша улыбка, Аврора, лишает меня мужества, необходимого для отказа.
Они ушли. И, честно говоря, я была этому очень рада, потому что сейчас нуждалась в покое и хотела побыть одна, чтобы все обдумать.
…После того как я узнала, что Поль Алэн приехал в Париж, и после разговора, весьма похожего на допрос, я опасалась, что Талейран, узнав от Шарлотты, что я просила его зайти ко мне, исполнит мою просьбу. Его визит мог бы иметь самые неожиданные последствия. Поль Алэн на дух не переносил людей, подобных ему. Трудно было даже сказать, кого он больше презирает: просто якобинцев или аристократов, которые к ним примкнули. Я раздумывала над тем, как избежать неприятностей, и решила написать Талейрану письмо. Я уже присела к секретеру и взяла перо, как вдруг услышала звонок, раздавшийся в прихожей.
Я вышла из комнаты и, подойдя к лестнице, наблюдала, как Марианна направляется к двери. Вслед за ней из гостиной вышел Поль Алэн. Дверь отворилась, и на пороге застыл мальчик лет пятнадцати с письмом в руке.
— Для мадам дю Шатлэ, — произнес он.
— От кого? — спросил Поль Алэн.
— Мадам сама поймет, когда прочитает.
Я видела, как мой деверь забрал у мальчика конверт, и, ужаснувшись, бросилась вниз по лестнице.
— Отдайте письмо! Что еще за шутки? Вы отлично слышали, что оно адресовано мне.
Поль Алэн, не возражая, протянул мне конверт. Я заперла дверь и, мельком взглянув на письмо, сразу поняла, что оно от Талейрана. Я уже хорошо запомнила печать министерства иностранных дел. Тем временем Марианна удалилась, оставив нас одних.
Поль Алэн настороженно смотрел на меня.
— Вы очень изменились, — сказал он резко. — Сперва вы с неохотой ехали в Париж, потом задержались здесь на полгода. Эти приемы у буржуа, этот Талейран, эти письма, которые передаются через посыльных, а не посылаются по почте…
— Всего одно письмо! — возразила я сухо. — И пожалуйста, оставьте меня в покое.
Письмо сейчас занимало меня куда больше, чем то, что думает о моем поведении Поль Алэн. В конце концов, почему я должна всех успокаивать? Почему все требуют у меня отчета? Ко мне совершенно бесполезно приставать, я никому не собираюсь давать объяснений!
Письмо Талейрана, небольшое и очень деликатное, успокоило меня, едва я увидела первые его строки.
«Милый друг, я не заехал к вам потому, что хорошо представлял себе, о чем будет наша беседа, и хотел избавить нас обоих от тягостных объяснений. Вряд ли вы более меня понимаете, что у случившегося нет будущего. Вероятно, некоторое время нам лучше не видеться. Будьте уверены, что ничто не сможет поколебать моего восхищения вами и моей нежной симпатии к вам. Я желаю вам счастья.
Что касается дела вашего мужа, то советую вам не терять ни минуты, ибо нынче Баррас негодует на левых и более расположен к правым, но, вполне возможно, что настроение его может измениться.
Ваш покорный слуга
Морис де Талейран-Перигор».
Меня поразил его такт, его почтительность, его невероятное понимание того, что произошло. Словно камень свалился с моих плеч, когда я обнаружила, что наши мысли совершенно одинаковы. Мы останемся друзьями, и на этом точка. Обо всем остальном надо просто забыть.
Я сожгла письмо, потом вышла и направилась в комнату Поля Алэна. Из-за двери уже не пробивался свет, но я все равно постучала. И еще сказала вслух:
— Поль Алэн, откройте, я пришла сообщить вам нечто очень важное.
Дверь отворилась, и я вошла.
— Вы узнали об этом «важном» из письма? — спросил Поль Алэн, зажигая свечу.
— Да. Именно из письма. И письмо это от Талейрана.
В комнате было почти темно и, глядя на своего деверя, я никак не могла понять, что же он думает и какое выражение имеет его лицо.
— Что же вам пишет сей достойный государственный муж? — спокойно, но слегка насмешливо спросил Поль Алэн.
— Александр скоро сможет вернуться! Дней через пять, самое большее через неделю, его амнистируют!
От радости и торжества даже у меня, хотя я давно знала об этом, перехватило дыхание. Я с вызовом спросила:
— Ну, что же вы теперь скажете о Талейране?
— Талейран устроил амнистию для Александра?
— Ее устроила я! Но на меня одну никто даже смотреть бы не захотел! Талейран помог мне! Он познакомил меня со всеми — даже с Баррасом… Он подсказывал, как надо поступать!
— И что же, он делал это из-за ваших прекрасных глаз?
В голосе Поля Алэна слышалась настороженность. Я задохнулась от возмущения.
— Ах вот как? Стало быть, вы нисколько не рады за брата?
— Я унижен, черт побери!
— Что-что? — переспросила я, не веря своим ушам.
— Я унижен тем, что вы ходили с протянутой рукой к нашим врагам! Представляю, как это их забавляло!
У меня пропал дар речи. Впервые я засомневалась, так ли уж умен Поль Алэн, как я думала. И так ли уж он любит брата.
— Знаете, — сказала я холодно, — Бретань очень плохо на вас действует. Вы совсем отстали от жизни. Слушая вас, можно подумать, что мы живем еще при Старом порядке!
— Я всегда живу при Старом порядке и горжусь этим. Я никогда не признавал всех этих ничтожных республиканских учреждений.
— Это свидетельствует лишь о том, как вы слепы.
— Я не слеп, черт побери! И именно потому, что я не слеп, меня мучает мысль: почему республиканцы отнеслись к вам с такой симпатией?
— За то, что Баррас сделает для Александра, мне придется заплатить двести тысяч ливров, — произнесла я сухо. — Теперь вы понимаете? Может быть, теперь вы хоть для приличия изобразите радость!
Он долго не отвечал. Потом воскликнул, хватаясь за голову:
— Баррас! Подумать только, Баррас! Да еще Талейран! Вы думаете, Александр будет рад, узнав, что обязан своим возвращением таким подонкам?
— Дай Бог, сударь, чтобы наши друзья-роялисты помогли нам так, как эти подонки.
Помолчав, я добавила:
— Кроме того, мне кажется, Александру незачем обо всем этом знать.
— Похоже, вы боитесь его реакции.
— Нет. Не боюсь. Я уверена, что он не так глуп, как вы. И был бы более благодарен. А вам… вам я вообще поражаюсь. Вы повсюду твердите, что любите брата, а сами даже пальцем не пошевелили, чтобы помочь ему! Вы хотели бы, чтобы он вернулся, но боитесь замарать руки. Вы предпочли, чтобы грязную работу взяла на себя я, а потом дошли до того, что стали обливать меня презрением!
— Не выдумывайте чепухи. Вам следовало бы помнить, что сохранять достоинство следует даже в оковах, и не идти ни на какие соглашения с врагами.
— Вероятно, Поль Алэн, у вас будет возможность последовать этим очаровательным принципам. Когда вы будете нуждаться в помощи, ваша будущая жена, несомненно, ограничится лишь молитвами за вас.
Уже выходя, я добавила:
— Подозрительность — плохая черта характера, Поль Алэн. Мне жаль, что я обнаружила ее в вас.
Мне удалось собрать двести тысяч ливров — благодаря еще и тому, что Поль Алэн привез из Белых Лип некоторую сумму денег. Через пять дней вышло постановление об амнистии, и среди самых разных имен, мне неизвестных, было и имя Александра дю Шатлэ. Я знала адрес адвоката Александра в Лондоне и тотчас же отправила в его контору все сведения о вышедшем постановлении. Я надеялась, что очень скоро герцог обо всем узнает.
Мне оставалось радоваться в одиночку. Я давно поняла, что ожидать какой-либо благодарности бесполезно. Поль Алэн после того памятного разговора много потерял в моих глазах. Я сделала вывод, что он либо не дорос до понимания важных вещей, либо не способен их понимать. И вообще, все эти громкие фразы мне до смерти надоели. Я терпеть не могла таких мужчин, как Поль Алэн, — фразеров, которые сражаются за благородные идеалы, проливают кровь ради какой-то высшей цели, а близким своим доставляют беды и неприятности. Готовы заставить родного брата всю жизнь жить за морем, но не упасть в глазах друзей-шуанов и быть непреклонными до конца. Словом, прежней нежности к Полю Алэну я не чувствовала.
10 июня 1798 года мы все вместе вернулись в Белые Липы, и дела поначалу поглотили меня так, что я уже ни о чем не задумывалась.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ КОГДА ТАЙНОЕ СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ
1
Филипп, крепко обхватив мой указательный палец всеми пятью своими пальчиками, гордо топал рядом со мной, то и дело задирая головку и будто спрашивая взглядом: ну, как я — хорош? Я кивала:
— Ты хорошо идешь, малыш. Ты моя прелесть.
Тенистая аллея, ведущая вдоль речки в глубь парка, состояла из старых лип, каштанов, грабов, которые своими распростертыми ветвями образовали зеленый свод, а в просветах между ними открывались каменные нагромождения и гранитные скалы. Одуряюще пахло липами.
— Смотри, мой милый, — сказала я. — Это ели. Видишь, какая у них хвоя? Зеленая, сизая, голубая, золотистая… Их привез твой прадед из Америки. Это было более ста лет назад.
Филипп смотрел на меня совершенно безмятежно. Я знала, что он вряд ли что-нибудь понял, но все равно говорила. Говорила обо всем, что только приходило в голову. Я хотела, чтобы он запомнил мой голос, чтобы полюбил его. Мы ведь так долго были разлучены.
Он подергал меня за палец.
— Ма! — сказал он, — махнув ручонкой. — Туда, ма!
— Конечно. Мы пойдем только туда.
Он хотел к Чарующему озеру, чьи воды сейчас сияли под солнцем. Когда Филипп смотрел на меня так, как сейчас, у меня появлялось почти непреодолимое желание подхватить его на руки, прижать к себе, осыпать поцелуями — словом, сделать что угодно, лишь бы поближе ощущать его. Но я со вздохом сдерживала такие порывы, зная, что Филипп будет яростно протестовать. Он хотел ходить сам. И он уже довольно хорошо ходил. Его ножки, обутые в легкие вышитые башмачки, то и дело топали по дому и дорожкам вокруг дворца.
Но, честно говоря, сегодня мы впервые совершали столь длительное путешествие. Филипп сам определил, где ему угодно остановиться. Он сел в траву, явно заинтересовавшись шмелем с полосатой бархатной спинкой, который полз по стеблю повилики.
— Будь осторожен, — сказала я, присаживаясь в отдалении. — Шмель может укусить.
— Это звей? — спросил Филипп.
Где-то громко прокуковала кукушка. Филипп повернул ко мне личико и, весь сияя, в восторге произнес:
— Птичка волона кукает «ку-ку». Да?
— Да, — прошептала я. — Да, любовь моя, да.
Я обожала своего сынишку. И гордилась им. Он был такой прелестный ребенок, что с него вполне можно было бы рисовать рождественские открытки. Пухленький, светленький, кудрявый, с голубыми, как небо в июле, глазами, с румянцем и длинными золотистыми ресницами — словом, хорошенький, как ангелочек. Сегодня он был в длинной рубашечке, панталончиках, чулочках, которые я сама ему связала, и башмачках. Правда, сейчас я его почти не видела: трава была слишком высока, и в ней мелькала только его белокурая головка.
Мы сидели неподалеку от статуи купающейся Венеры. Чуть ниже из гранитной скалы нежно струилась ключевая вода, наполняя бронзовую получашу, украшенную изваяниями ужей, и, переливаясь через ее края, стекала по узкому желобу в Чарующее озеро. Вдоль берега ковром расстелил свои стебли луговой чай, а вокруг чаши фонтана росли кусты коричнево-красной лещины. Здесь, возле озера, высились столетние тюльпанные деревья с крупными бокаловидными желтыми цветами. Эти деревья считались гордостью поместья, за ними ухаживали с особой тщательностью. Они были очень велики в обхвате, а в высоту достигали ста футов.
Я следила за сыном и думала о том, на кого же он все-таки похож. Выходило так, что ни на кого. Волосы у него были мои, глаза отцовские, но это сходство основывалось лишь на цвете. Если уж говорить о сходстве, то Филипп похож на Жана — Жан тоже был раньше такой кудрявый и миленький.
На этом мои мысли прервались, потому что Филипп, который две последние минуты занимался тем, что полз на четвереньках за каким-то муравьем, попытался подняться, но откос был слишком крут, и малыш кубарем покатился вниз. С испуганным возгласом я вскочила на ноги, побежала и подхватила Филиппа.
— Ты не ушибся? Нет, радость моя?
Впрочем, было ясно, что нет. О боли или ушибе речь не шла, и глаза Филиппа выражали лишь бесконечное изумление. Он, пожалуй, и сам не понимал, как это все произошло.
— Почему бы тебе не быть рядом с мамой? Видишь, ты весь испачкался.
Я вытерла ему ручки и личико и поставила на ножки. В этот миг чья-то фигура мелькнула в конце аллеи. Настороженно вглядываясь, я узнала Эжени. Она отчаянно махала руками:
— Ваше сиятельство! Мадам!
— Что случилось?
— Господину герцогу плохо! Вы нужны в доме!
— Вы послали за врачом?
— Брике только что отправился на поиски.
«Ах, как скверно! — подумала я мельком. — Похоже, на всю Бретань есть только один врач!» Подхватив Филиппа на руки, я побежала по аллее к замку.
Такое случалось уже не раз. У старого герцога была грудная жаба, и это вызывало частые приступы. Я любила этого старика и поэтому волновалась за него. Я знала, что одно мое присутствие может успокоить его и принести облегчение.
Когда я добежала до дома, казалось, сердце вырвется у меня из груди. Как всегда в таких случаях, все были в панике. Служанки как угорелые метались из угла в угол, все были уверены, что старик умирает, и даже у Маргариты лицо было почти безумное. Я поспешно передала ей Филиппа и побежала наверх.
— За доктором послали, не так ли? — спрашивала я на ходу.
— Да, мадам.
— А капли? Вы дали герцогу капли?
— Мадам, разве мы знаем, как и сколько давать?
— Нужна колодная вода и примочки. Ну-ка, поворачивайтесь!
Отослав служанок, я принялась искать капли. Честно говоря, знание медицины никогда не было одним из моих достоинств. Я боялась крови и вообще в этом смысле была мало к чему способна. Кроме того, приступы грудной жабы были страшны сами по себе: старик синел, задыхался, ему сдавливало грудь и порой он действительно имел вид умирающего. Но я видела все это не впервые и уже знала по опыту, что главное — это сохранить присутствие духа.
И все же руки у меня дрожали, и, когда я наливала в склянку воды, послышался дробный звон. Чуть не расплескав лекарство, я подошла к постели, еще раз прикинула, правильно ли исполнила совет доктора д’Арбалестье, потом с помощью Поля Алэна чуть приподняла старого герцога и, разжав ему рот, стала поить. Он сперва поперхнулся, потом глотнул. Через полминуты с этим было покончено.
Я распахнула окна, чтобы в комнате было побольше воздуха и прохлады. Служанки принесли лед и воду и сделали примочки.
— Все, теперь ему надо просто полежать, — проговорила я.
— Как вы думаете, Сюзанна, он выкарабкается? — спросил Поль Алэн.
На мой взгляд, говорить о таком прямо тут, в комнате, было неуместно. Я ответила как можно спокойнее:
— Конечно, да. Это же не впервые. Надо ждать доктора, вот и все.
Д’Арбалестье прибыл через четверть часа после этого и освободил меня. Я вышла, чувствуя, что ноги у меня подгибаются, и, подойдя к окну в галерее, сбросила чепец. От волнения меня бросило в жар. Пока все это продолжалось, я ничего не чувствовала и только теперь поняла, как испугалась. Руки у меня до сих пор дрожали, испарина выступила на лбу. Я глубоко вдыхала воздух, стараясь успокоиться. Потом легкая тошнота подступила к горлу.
Эта тошнота… Я ощущала ее уже не в первый раз и не во второй. Почувствовав, что меня тошнит, я забыла и о волнении, и о старом герцоге; все отступило на второй план перед этим ужасным фактом. Подсознательно я понимала, что эта самая тошнота может значить. Да еще в соединении с двухнедельной задержкой.
Я пыталась пересилить себя, но меня все еще тошнило. Июльский день потерял всю свою прелесть, яркие краски лета погасли, когда я попробовала ясно представить себе, что со мной происходит. Эта ночь с Талейраном в конце мая… Неужели судьба может так отомстить мне за мимолетное легкомыслие? Неужели я…
— Сюзанна, я хочу вам кое-что сказать.
Я содрогнулась всем телом, услышав голос Поля Алэна, и, когда повернулась к нему, в моих глазах все еще стоял ужас. Мне показалось, что он слышал мои мысли. Румянец разлился по моему лицу.
— Как тихо вы подошли! — сказала я резко.
— Я напугал вас?
— Да! Напугали!
Мое поведение было не слишком естественно, я это и сама видела. Пожав плечами, виконт произнес:
— Простите, если это так.
— Что вы хотели сказать?
— Утром я получил совершенно точное известие о том, что через две недели Александр возвращается. Мы можем поехать встречать его в бухту Сен-Мало.
Теперь, наоборот, кровь отхлынула от моего лица, и я побледнела. Подумать только, я чуть ли не год мечтала услышать такое известие. И вот когда наконец услышала, мне кажется, что ничего ужаснее этого и быть не может!
— Через две недели? — переспросила я, и в моем голосе было скорее отчаяние, чем радость. — Уже? Так скоро?
— Что вы имеете в виду? Что значит «скоро»?
— Ничего. Я просто обмолвилась.
Поль Алэн пристально разглядывал меня. Меня его взгляд злил, но я терпела, не желая какой-нибудь вспышкой усилить его встревоженность. Я была очень уязвима сейчас, мне казалось, что все, что я думаю, можно прочесть у меня на лице. Я пыталась взять себя в руки, но чем больше пыталась, тем больше теряла власть над собой.
— Что с вами? — спросил наконец виконт. — Вам, может быть, дурно?
— Мне хорошо!
Помолчав, я выпалила — резко, почти разгневанно:
— Я еду на поля! Будьте любезны, если вам не трудно, прикажите подать мне лошадь к крыльцу!
Уже прошло целых пять дней, как повсюду в Бретани закипела работа. Началась жатва. В этом году хлеба созрели быстро. Мягкие, но тяжелые и налитые колосья давно были готовы пасть под серпом. А на очереди уже была гречиха. Необозримые гречишные поля вот-вот должны были зарозоветь от Бреста до Нанта. После цветения этого излюбленного бретонского растения будет первая откачка меда, а потом, 15 августа, в день успения Богоматери, можно будет нести плоды лета в храм.
Стрела, легкая, нетерпеливая, мчалась по дороге между полями. Я ехала быстро, надеясь, что скачка поможет мне развеяться. Мало-помалу прелестный бретонский полдень очаровывал меня и отвлекал от мыслей. Лето было замечательное — в меру жаркое, в меру влажное. Небо синело почти так же, как в Италии. Воздух был невыразимо сладок: повсюду цвел кипрей-медонос. А еще, как всегда во время жатвы, пахло свежей соломой, горячей землей и особым духом растертого колоса.
Я замечала, как изменилась Бретань за последние три года, с тех пор как я приехала сюда на постоянное жительство. Если вспомнить лето 1795 года, этот край был убог и нищ, повсюду были видны страшные следы двух вандейских войн. Тогда поля никто не возделывал, деревни с домами, сложенными из грязной глины, без стекол, стояли пустые, а на пути между Ренном и Сен-Мало на многие лье простиралась заболоченная пустыня, где цвел один можжевельник да изредка виднелись одинокие каменные столбы.
Три года мира, хотя и неполного, сделали свое дело. С тех пор как провинция завоевала себе право жить обособленно и оружием отбила все попытки Республики нарушить старые традиции, жизнь здесь возрождалась. По крайней мере, становилась хоть немного похожей на ту, что была здесь при короле. Нельзя сказать, что этот край при монархии процветал, но все-таки тогда в деревнях жили люди, выращивали хлеб, ловили рыбу, плавали за ней до самой Исландии. Годы революции уничтожили все. И я была рада видеть, как прежняя пустыня начинает возрождаться.
Я останавливалась то в одном месте, то в другом, расспрашивала, проверяла. Крестьяне уже хорошо знали меня. Большая часть земель сдавалась в аренду, но остальные мы обрабатывали сами, с помощью батраков, и за ними приходилось следить. Да и не только за ними, но и за тем, принесли ли им обед, привезли ли воду. В основном, конечно, этим занимался управляющий, но я тоже часто наведывалась в самые горячие места. Сейчас дела шли отлично. Урожай был великолепный, а глядя на небо, нельзя было заметить ни одного облачка: значит, дождя не будет, и за две недели наверняка удастся с жатвой управиться.
Я закончила свой объезд, но возвращаться домой мне не хотелось. Тропинкой, бежавшей вдоль опушки небольшой рощи, я выехала к сверкающей на солнце реке и, приглядевшись, увидела широкую, покрытую зыбью отмель. Я пустила Стрелу в воду и, преодолев бурный натиск течения, сквозь заросли кувшинок перебралась на другой берег.
Неужели я беременна?!
Только сейчас я решилась подумать об этом. Не было смысла гнать от себя подобные мысли. Если не тратить силы на испуг и отчаяние, следует трезво признать, что, скорее всего, догадка моя правильна. Задержки у меня случались именно в таких случаях. А еще тошнота… А еще такой скорый приезд Александра!
Последнее испугало меня больше всего. Мне оставалось совсем мало времени, чтобы что-то предпринять. Покачиваясь в седле и размышляя, я почему-то вспомнила случай с герцогом де Лозеном. Это было давно, еще в Версале. При дворе все знали, что он не видится с женой годами. Какой-то шутник спросил: «Герцог, представьте себе, что ваша супруга, которую вы в глаза не видели лет десять, вдруг извещает вас письмом, что скоро преподнесет вам наследника. Что вы сделаете? Возмутитесь?» — «Вздор! — отвечал герцог. — Я слишком деликатен для того, чтобы возмущаться поступком дамы». — «Так как же вы поступите?» — «Я напишу ей, что счастлив тем, что Бог благословил нас детьми после стольких лет брака!»
Страдальческий вздох вырвался у меня из груди. Эта история была, конечно, шуткой, но ситуация казалась сходной. Что было делать? Версальские дамы первым делом провели бы с мужем ночь, а потом бы и сам дьявол не разобрался, чей ребенок. Что ни говори, легкий выход, но вот мне он нисколько не подходил. Я бы не могла жить с такой ложью. Я привыкла быть искренней с Александром. Мне и без того надо будет скрывать то, что случилось в Париже. Ту майскую ночь, которую я проклинала теперь. Мне казалось ужасно несправедливым то положение, в какое я попала. Те мимолетные удовольствия не заслуживали такой расплаты! Такого отчаяния, что охватило меня теперь!
Так что же делать? Признаться? Но если бы хоть один из дю Шатлэ узнал, что со мной происходит, меня убили бы на месте, и в этом я нисколько не сомневалась. По крайней мере, Поль Алэн поступил бы именно так. Я не знала, убил бы меня Александр или нет, но в том, что между нами произошел бы непременный разрыв, я не сомневалась. И боялась этого.
Признаваться нельзя. И скрывать нельзя. У меня просто нет мужества нести еще и этот крест! Я обязана избавиться от этого как можно скорее, любым способом. Это единственный выход, который у меня есть: избавиться от ребенка. Это тоже грех, мне было об этом известно. Но что же делать, если я так труслива, если у меня нет сил смело отдаться на волю судьбы и позволить событиям идти своим чередом! Пусть лучше грех, чем что-либо другое! Этот ребенок должен исчезнуть, и еще следует радоваться, что до приезда Александра остается целых четырнадцать дней!
— Эй-эй! Сюзанна! Подождите!
Я остановилась, увидев за деревьями гнедую лошадь графини де Лораге. Констанс подскакала — румяная, с сияющими глазами, очень красивая сейчас. «Вот счастливая женщина, — подумала я невольно. — Уж ей-то никогда не приходилось бывать в таком положении».
Я сошла с лошади. Констанс, маленькая, решительная, сразу осыпала меня упреками:
— Ну, как вам не стыдно? А еще подруга! Вы целую неделю у нас не были!
— Я была занята, — оправдывалась я. — И Филипп так много времени отнимает.
— Да, Филипп… — протянула она мечтательно. — Какая же вы счастливая!
Я не сдержала улыбки, услышав это от нее. Потом искренне и нежно обняла подругу.
— Констанс, вы же знаете, как я вас люблю. Я как раз хотела сообщить вам, что Александр приезжает.
— О! Поздравляю! Вы заслуживаете этого!
Мы обе, не сговариваясь, опустились на траву под большим дубом. Целые заросли ежевики разрослись в его тени. Я сорвала ягоду и поднесла ко рту. Констанс, нервно покусывая соломинку, смотрела на меня.
— Почему вы молчите? Рассказывайте! Когда приезжает герцог?
— Через две недели, — ответила я без всякого энтузиазма.
— Так почему же у вас такое лицо? Моя дорогая! Неужели есть что-то такое, что вас тревожит?
Я не только тревожилась, у меня слезы закипали на глазах. Я отвернула лицо, чтобы Констанс не видела этого. Мне казалось чудовищным то, что я должна все скрывать в себе, мучиться этим одна, без всякого сочувствия! Это невыносимо! Рыдание вырвалось у меня из груди. Испуганная, Констанс подалась ко мне, коснулась ладонью моей щеки.
— Что произошло? Что с вами?
Неосознанно, непроизвольно с моих губ сорвалось — с болью и мукой:
— Констанс, я в отчаянии! Я не знаю, что мне делать! Уж лучше бы я умерла!
— Боже мой, неужели что-то случилось с Жаном?
— Нет! Со мной! И мне кажется, что это непоправимо!
— Но что вы сделали?
— Я изменила Александру и теперь беременна! Можно ли придумать что-либо ужаснее?!
Она отшатнулась. Да я и сама успела испугаться того, что сказала. Может быть, получится, как в истории с царем Мидасом: тростник услышал мои слова и разнесет их по всему миру? Мягко говоря, я почувствовала себя неловко, не зная, как отреагирует Констанс. Мне ведь было совсем неизвестно, что она думает по поводу супружеской неверности.
Она тихо спросила:
— Это случилось в Париже?
— Да, — ответила я сдавленно, чувствуя, что вот-вот разрыдаюсь.
Слезы застилали мне глаза. Я снова отвернулась, готовая упасть лицом в траву и заплакать в голос. Может быть, хоть это принесет облегчение! В этот миг теплая рука Констанс легла на мою руку, и я услышала ее необычно решительный голос:
— Первое, что вы должны сделать, дорогая, — это не изводить себя так. Мужья изменяют нам чаще, чем мы им. Но когда вы видели, чтобы они так переживали по этому поводу?
Этими словами я была ошеломлена.
— К-кажется, вы становитесь на мою защиту? — пробормотала я.
— Да! И не сомневайтесь в этом!
— Но ведь измена — это еще не все!
Заикаясь, я произнесла:
— К-Констанс, что же делать со всем остальным?
Графиня де Лораге серьезно смотрела на меня, светлые брови ее были нахмурены. Мы обе долго молчали. Для меня становилось очевидным, что помочь она не может. Да и кто может? Это только моя проблема!
— Сюзанна, — сказала она решительно, — не стану притворяться, что я знакома с тем, что требуется в вашем случае. Не скрою, я всегда находилась в совершенно обратном положении. Но мне приходилось слышать кое о чем.
— О знахарках, может быть? — спросила я с горькой усмешкой.
— В некоторых случаях можно обойтись без них.
— Как?
— Вы, верно, просто забыли. Вы наверняка знаете.
Она наклонилась и прошептала кое-что мне на ухо. Потом, помолчав, добавила:
— Но надо все-таки немного подождать. Может быть, вы ошибаетесь.
Я с сомнением спросила:
— Вы думаете, ваш способ поможет?
— Попытайтесь. Таким изнеженным и хрупким созданиям, как мы, это помогает. Кроме того, это не опасно. Вы здоровы?
— Вполне.
— Значит, можете ничего не бояться.
2
Неделя, стоившая мне многих часов тревоги и раздумий, никаких изменений не принесла. Напротив, с каждым днем подозрения становились все более обоснованными. Я поняла, что надо что-то предпринимать. До приезда Александра оставалось не так уж много времени. Точнее, совсем немного!
— Маргарита, на сегодня мне нужна амазонка, — сказала я в пятницу утром.
— Разве мы не собирались сегодня варить варенье?
— Мне нужна амазонка! — почти выкрикнула я, не в силах сдержать дрожь. — Я уезжаю. Я буду кататься верхом!
Она удалилась. У меня на туалетном столике был флакон с белладонной. Несколько капель я налила в воду и поставила стакан, чтобы раствор настоялся. Должен был получиться необыкновенно возбуждающий напиток. Он обостряет чувства, нервы, все мышцы тела. А в таком состоянии человек становится особенно слабым.
Люк подвел к крыльцу Стрелу. Я вскочила в седло, изо всех сил пришпорила лошадь. Почувствовав мое нетерпение, она рванула вперед так, что меня сильно отбросило назад. Я удержалась и только сильнее погоняла ее.
За какие-то секунды я пролетела по длинной подъездной аллее, и передо мной открылся лес. Почти не разбирая дороги, я пустила Стрелу в самый бешеный карьер, какой только можно представить. Ветер свистел в ушах так, что я ничего не слышала. Как в калейдоскопе, мелькали передо мной разлетающиеся ветки, сосны, овраги, тропинки, сучья. Я сегодня правила лошадью так твердо, что она даже в самом малом не смела ослушаться и, почти так же обезумев, как я, преодолевала все препятствия, какие только встречались на пути — кучи поваленных бурей деревьев, овраги и рвы. Меня так встряхивало, что, казалось, сердце подскакивает к горлу.
Я не ездила с такой скоростью никогда. Стрела, разгорячившись, мчалась так, будто в нее бес вселился, и остановить ее было бы трудно. Это была не скачка, а настоящий полет, — со свистом в ушах, толчками, встрясками и бьющим в лицо ветром. Порой меня охватывал ужас: слишком уж рискованно все это было. Пожалуй, если бы на пути встретился обрыв, мы бы обрушились туда, не успев даже ничего понять. А еще трудно было дышать. Но исступление подогревало меня, заглушало страх, и я мчалась дальше, страстно желая того, чтобы все во мне перевернулось.
Когда три часа спустя взмыленная, измученная Стрела влетела во двор перед замком и Люк, бросившись наперерез, помог мне ее остановить, я обнаружила, что почти не могу идти. Да, я без сил выскользнула из седла, сделала несколько шагов, и ноги у меня подогнулись. Конюх поддержал меня.
— Ваше сиятельство! — сказал он укоряюще. — Что это вы такое делаете? Золотая ведь лошадь! Зачем ради прогулки так над ней издеваться?
Помолчав, он хмуро спросил:
— Прикажете довести вас до дома?
— Нет! — сказала я резко. — Займись Стрелой. Мне не нужна помощь.
Я постояла еще несколько секунд, опираясь на Люка и переводя дыхание, потом медленно побрела к дому. Сердце у меня в груди билось тяжелыми гулкими ударами, во рту было абсолютно сухо, в глазах темно. Я едва могла идти, чувствуя себя разбитой, почти умирающей. У меня ныло все тело, я не ощущала толком ни рук, ни ног. Похоже, я отбила себе все внутренности.
На лестнице мне встретилась Маргарита.
— Ступай! — сказала я прерывисто. — Мне нужна ванна, такая горячая, какую только можно терпеть.
— Милочка! — воскликнула она. — Да что это с вами?
— Мне не до рассуждений! Мне нужна ванна!
Оттолкнув ее, я сама стала взбираться по лестнице и минут через пять дотащилась до своих комнат. Пока Маргарита хлопотала над ванной, я выпила настой белладонны, который приготовила раньше. Время тянулось очень медленно, мне казалось, Маргарита слишком долго копается. Кроме того, мне до ужаса хотелось сесть, а еще лучше — растянуться на кушетке, но я сдерживала себя, стояла, переминаясь с ноги на ногу, и, кусая губы, ждала.
— Готово, мадам, — сурово сообщила Маргарита.
Я прошла в ванную комнату и попробовала воду. Она показалась мне недостаточно горячей.
— Черт возьми! — воскликнула я, выходя из себя. — Я же просила!
— Но ведь сейчас лето! Что вы себе думаете!
— Принеси еще дров! Принеси, говорят тебе!
Я стала торопливо срывать с себя одежду. Мало-помалу от воды повалил такой пар, что зеркала в ванной запотели, да и я сама стала красной, как кумач. Когда Маргарита, исполнившая мое приказание, вернулась, я стала выталкивать ее из комнаты.
— Оставь меня одну, пожалуйста! Ты сделала все, что могла. И не приходи, пока я тебя не позову!
— Что вы задумали? — спросила Маргарита. — Что все это значит? Неужели даже мне ничего нельзя сказать?
Я, не отвечая, закрыла за ней дверь. В данную минуту мне было невыносимо с кем-либо объясняться. На меня накатывала такая слабость, что я едва удерживалась на ногах, а головокружение усиливалось с каждой минутой — начинала действовать белладонна. Вода казалась мне горячей, как кипяток; пересиливая себя, я опустилась в ванну, сразу почувствовав, что у меня перехватывает дыхание от невероятного жара, охватившего тело. Оставалось надеяться, что сердце у меня здоровое и я все выдержу. Сделав усилие, я придвинулась к зеркалу и заглянула в него: яркий румянец был у меня на лице и разливался едва ли не до ушей, зрачки были расширены, как у кошки, дыхание прерывалось. Что и говорить, все это было настоящей пыткой.
У меня не хватило мужества потерпеть более десяти минут. Да и не надо было. Боль пронзила меня изнутри, дошла, казалось, до самого сердца, и я, предчувствуя, что цель достигнута, стала подниматься. Перед глазами у меня было почти темно; шаря повсюду руками, я нащупала простыню и кое-как завернулась в нее. Туфли мне найти не удалось, да я и не предпринимала особых усилий. Сразу забыв об этом, я босиком побрела к двери, насилу нашла задвижку и отодвинула ее. Я была готова уже переступить порог, но в этот миг новый приступ боли сломил меня. От головокружения комната перевернулась перед моими глазами. Я рухнула на пол и, не помня себя, громко застонала. Мне казалось в этот миг, что я умираю.
Дверь в спальню распахнулась, и надо мной склонилась Элизабет.
— Боже мой! Что происходит, ваше сиятельство?
Я с усилием подняла голову, ставшую необыкновенно тяжелой. Испуганное лицо экономки расплывалось перед моими глазами. С искаженным от гнева лицом я оттолкнула протянутую мне руку.
— Кто… кто позволил? Кто позволил вам войти? — произнесла я яростно, запинаясь на каждом слове.
— Я услышала ваш голос. Вы как будто кричали. Может быть, позвать доктора? Вы, безусловно, больны!
— Мне не нужна ваша помощь, убирай…
Не договорив, я стала подниматься, цепляясь руками за косяк и ручку двери. Я ничего не понимала в тот миг; единственная мысль была у меня в голове: «Нельзя допустить, чтобы кто-то это видел. Я должна сама… только сама!» Но как только я встала на ноги, боль вернулась, спазмы пронзили меня изнутри, и из меня хлынула кровь.
Застыв от ужаса, Элизабет смотрела на меня, уже не решаясь подать мне руку. Сжав зубы, я решила: будь что будет! Мне с этим не справиться одной. Будет куда хуже, если я упаду в обморок прямо посреди спальни.
— Что же вы, не видите, что со мной происходит? — пробормотала я сдавленно и гневно. — Мне нужно лечь. Ну-ка, помогите!
Совершенно ошеломленная, Элизабет довела меня до постели, помогла лечь и стала рядом, словно окаменев. Страдая от невыносимой боли, я на некоторое время забыла об ее присутствии. Эта боль смешивалась с облегчением, ибо я знала, что, истекая кровью, я вместе с тем освобождаюсь от того, чего так страшилась. Я кусала губы, стараясь не стонать, понимая, что стоны могут привлечь и других служанок.
— Так что же делать, мадам? Позвать доктора?
Спазмы утихли. Я открыла глаза и поглядела на экономку. Лицо ее уже не было испуганным, напротив, оно приобрело какое-то каменное, непроницаемое и даже осуждающее выражение. Я не сомневалась, что она понимает, что со мной произошло. Но у меня сейчас не было сил заниматься всем этим. Я была слишком больна. Я лишь сказала, пытаясь придать голосу необходимую твердость:
— Вы никого не позовете. И никому не расскажете. Вы сейчас уйдете и… и позовете сюда Маргариту. Вы поняли?
— Да, мадам, — сухо ответила Элизабет.
— Ступайте. И помните, что вам приказано.
После ухода экономки я забылась и снова закрыла глаза. Кровь все еще текла, я, вероятно, лежала уже в луже. Но самое страшное было позади, и это придавало мне мужества. Будто сквозь сон, я слышала, как приоткрылась дверь, как со вздохами приблизилась к моей постели Маргарита, как ее руки откинули простыню и как она сдавленно ахнула, когда поняла, в чем дело. Потом я ощущала прикосновения теплой губки, холодный компресс на лбу и стакан с водой у моих губ. Я напилась, влага живительной прохладой разлилась по телу. Маргарита переменила простыни и снова склонилась надо мной.
— Что же вы молчали, мадам? Какая же вы глупенькая! Ну зачем было скрывать? Разве я не люблю вас? — В этот миг что-то горячее капнуло мне на руку, и я догадалась, что Маргарита плачет. — Да если бы вы мне сказали, мы бы обошлись без Элизабет! Что же вы ведете себя, как ребенок? Вы бы и умереть могли!
Я открыла глаза и невнятно прошептала:
— Прости. Прости меня, пожалуйста. Я была так груба с тобой.
— Это все пустяки! Что мы теперь-то будем делать?
— Надо все это уничтожить, Маргарита. Ну, простыни и все остальное… Так, чтобы никто не знал.
— А Элизабет?
— С ней я сама поговорю. Потом. А сейчас я слишком устала.
— Но ведь доктор все-таки нужен, мадам! Я-то во всем этом не разбираюсь!
— Найди какую-нибудь повитуху из деревни, такую, что не знает нашей семьи. Этого будет достаточно.
— Вы уверены?
— Да, — сказала я как можно тверже. — К доктору я не обращусь ни за что.
Помолчав, я шепотом добавила:
— Главное, чтобы Анна Элоиза не входила сюда. Пожалуйста, Маргарита, позаботься об этом.
— Не бойтесь. Уж это я беру на себя.
Маргарита взяла на себя не только это. Ночью она привела ко мне какую-то старуху, которая жила в лесу и пользовалась репутацией ведьмы. По крайней мере, она понятия не имела о том, что происходит в Белых Липах. Старуха, получившая сотню ливров и еще какие-то съестные припасы из нашей кухни, обещала молчать. Я, в свою очередь, получила уверенность в том, что все прошло благополучно. Старуха даже сказала, что мне очень повезло: не на всех женщин подобные способы действуют. Ну, раз на меня подействовали, мне оставалось только благодарить Бога… нет, не Бога. Дьявола.
Но, во всяком случае, я добилась своей цели и избавилась от страха. Хотя я и понимала, что совершила преступление, иначе говоря — грех, но чувство вины в значительной мере искупалось страданиями, которые я перенесла. Они словно очистили меня.
Проснувшись на следующее утро, я чувствовала себя слабой, разбитой, словно обескровленной. Зная, что мне нужно поправляться, я заставила себя съесть завтрак, принесенный Маргаритой. Подняться я была не в состоянии.
Чуть погодя Маргарита, доселе никого не пускавшая ко мне, подошла к постели и встревоженно прошептала:
— Господин виконт хочет видеть вас, мадам.
— Поль Алэн?
— Да. Что вы на это скажете?
— А зачем ему меня видеть?
— Ну как же? Все в поместье знают, что вы нездоровы.
— Ты говорила, чем я больна?
— Сказала, что вы ушиблись, когда катались на лошади.
Подумав и оценив обстановку, я произнесла:
— Пусть он войдет.
— Вы думаете, это вам не повредит?
— Поль Алэн ни о чем не догадается. Я в этом уверена.
Маргарита кивнула и не спеша отправилась сообщать виконту о моем приглашении войти.
Мое бледное, как лист бумаги, без единой кровинки лицо, глубокая синева под глазами и запекшиеся губы произвели на Поля Алэна впечатление.
— Сюзанна, послушайте… Вам непременно нужен врач.
— Нет-нет, — сказала я, пытаясь улыбнуться. — Самое страшное позади. Нет смысла понапрасну тревожить д’Арбалестье. В нем так много людей нуждаются.
— Много людей? Да к черту их! Александр не простит мне, если я оставлю вас без медицинской помощи.
Упоминание имени Александра кольнуло меня в самое сердце. Я едва нашла в себе силы произнести:
— Вы же просто считаетесь с моим желанием. А я хочу обойтись без доктора. С меня хватит и Маргариты, она очень хорошо за мной ухаживает.
— Люк вчера видел вас. Вы едва могли идти. И вы говорите, что это несерьезно?
— Да, уверяю вас. Сделайте так, как хочется мне, а не вам.
Он ушел, поцеловав мне руку и пожелав скорейшего выздоровления. Я не забыла ему напомнить о том, что следует в то время, когда я лежу в постели, хотя бы раз в два дня выезжать на поля. Он обещал заняться этим.
Когда дверь за моим деверем закрылась, я приказала позвать экономку. Элизабет очень тревожила меня. Она знала такое, от чего зависела моя честь, судьба, сама жизнь. Я же знала, что ее нельзя ни запугать, ни подкупить. Она была так же верна дому дю Шатлэ, как мне Маргарита. Поэтому договориться с ней представлялось мне весьма трудным. Но, по крайней мере, тот факт, что она до сих пор ничего не рассказала, настраивал на оптимистичный лад.
Она вошла, стала перед моей постелью — прямая, строгая, аккуратная, с каменным лицом. Я горько подумала, что раньше у нее было совсем другое лицо, когда она говорила со мной.
— Элизабет, — сказала я, подавляя дрожь в голосе, — вы ничего не хотите мне сказать?
— Ничего, мадам, — ответила она сурово.
Наступило молчание. Я лихорадочно подбирала слова, которые могли бы пробудить в ней если не сочувствие, то хотя бы понимание. Она же женщина, в конце концов.
— Элизабет, я знаю, вы умны. Вы, конечно же, поняли, что случилось. Я лишена возможности обмануть вас. Так уж получилось.
— Да, мадам, — сказала она сухо.
— Могу я узнать, что вы намерены теперь делать?
— Я лишь исполняю приказания, мадам.
Ее тон сбивал меня с толку. Я торопливо произнесла:
— Поймите, Элизабет, никто не застрахован от ошибок. Человек слаб и грешен. В ваших руках сейчас все наше благополучие. Если вы… словом, если вы вслух осудите меня, в этом доме все пойдет кувырком. Вы же любите Филиппа — так вот, он в первую очередь пострадает!
Отчаяние заставило меня обратиться к малышу, которого Элизабет действительно любила. Экономка подняла на меня глаза и сухо, но почтительно произнесла:
— Мадам, я никогда не говорю первая. Пока господа меня не спрашивают, я молчу. Я хорошо знаю, что слуги существуют не для того, чтобы решать судьбы хозяев.
— Вы… вы хотите сказать, что…
— Ваше сиятельство, все в руках Бога. Я никому не судья.
Я почувствовала такое облегчение, будто с моих плеч свалился огромный груз. Я поняла, что Элизабет ничего не расскажет — до тех пор, по крайней мере, пока ее не спросят. Но кто спросит? О случившемся знаем только я и Маргарита!
— Элизабет, спасибо вам, — сказала я, робко беря ее за руку.
Она осторожно высвободила свою руку.
— Мадам, если мне будет позволено высказать одну просьбу…
— Я слушаю.
— Я бы очень просила освободить меня от обязанности лично прислуживать вашему сиятельству. У мадам достаточно служанок и без меня, а я становлюсь слишком стара и больше пригожусь госпоже Анне Элоизе.
Это было высказанное в почтительной форме пренебрежение. Она словно ударила меня по лицу. Подобное презрение со стороны служанки задело меня. Надо же, и она меня втайне осуждает! Ей теперь стыдно прислуживать мне лично, менять мое белье и причесывать! Ну и черт с ней! Я тоже буду рада, если освобожусь от этой ледяной статуи! Пожалуй, для Анны Элоизы она будет самой лучшей компанией.
— Что ж, — сказала я холодно. — Поскольку вы имеете теперь надо мной определенную власть, я не в силах противиться любой вашей просьбе.
Элизабет поклонилась и вышла, не сказав ни слова.
— Да это же просто змея, мадам! — вскричала Маргарита, едва мы остались одни. Лицо моей старой горничной пылало от возмущения. — Недаром я ее с первого дня невзлюбила!
— Оставь ее, дорогая. Я рада, что она уходит.
Маргарита принялась вытирать пыль в спальне и долго еще не могла успокоиться.
— Служить она вам не желает! Подумаешь! Если уж на то пошло, то еще поразмыслить надо, достойна ли она была вам служить! А мы и без нее обойдемся. Слава Богу, много лет ее не знали и отлично обходились… А с той сварливой старой дамой они отлично споются. Два сапога пара!
Я мало-помалу погружалась в сон, слушая это ворчание. Честно говоря, поведение Элизабет уже меня не трогало. Меня вообще ничто из прошлого не трогало. Я хотела смотреть только вперед, забыть все плохое и жить дальше. Мне еще многое надо было решить. Надо было набраться мужества, чтобы встретить Александра и жить с ним, как прежде Ради этого стоило собрать все силы.
3
День, когда должен был вернуться Александр, начался с яркого солнца, ворвавшегося в мою спальню, едва Эжени раздвинула ставни. Жмурясь, я села на постели, потом поднялась и подошла к окну. Рассвет был жаркий и светлый, все было пронизано солнечным светом — сияющая вода в фонтанах, шумливая листва дубов рядом с домом, двор, зеленые лужайки, липовые аллеи. «Какое чистое утро, — подумала я невольно. — Погода словно создана для того, чтобы я снова стала счастливой».
В белом домашнем платье я спустилась в вестибюль, чтобы проводить Поля Алэна — он собирался ехать встречать Александра, и, к своему удивлению, увидела рядом с ним Аврору в голубой амазонке и с хлыстом в руке.
— Вот как, ты тоже собираешься ехать? — спросила я. — А не слишком ли длинная дорога для тебя?
— Но ведь ты бы поехала, если бы не была больна.
— Я — другое дело… У меня большой опыт езды верхом. Ты знаешь, что дорога до Сен-Мало и обратно — это более двенадцати лье?
Меня, впрочем, не это больше всего удивляло. С чего бы Авроре так рваться встречать герцога?
— Мама, я просто хочу составить господину виконту компанию.
— Так и быть, — сказала я. — Тебе и вправду нечего сидеть взаперти.
Я повернулась к Полю Алэну.
— Когда вы вернетесь?
— Пожалуй, к вечеру.
— Найдите способ объяснить Александру, почему я не приехала. Я при всем желании не смогла бы сейчас держаться в седле.
— Сюзанна, полагаю, он не станет доискиваться причин. Он даже нас не ожидает увидеть в Сен-Мало.
— Вы не договорились с ним заранее? Но вы же просто можете разминуться.
— Думаю, счастье будет сопутствовать нам и этого не произойдет.
Я провожала их взглядом до тех пор, пока они не скрылись за поворотом длинной подъездной аллеи. Позади меня послышалось постукивание трости. Я обернулась. Анна Элоиза в сером старомодном платье внимательно смотрела на меня.
— Ну, — сказала она наконец. — Что же вы не радуетесь?
— С чего вы взяли? Я радуюсь.
— Вы скорее волнуетесь.
— Вы правы. Но, по-моему, это естественно.
Я оставила старую герцогиню, недовольная тем, что она так легко разгадала мое состояние. Я и вправду волновалась и поэтому искала возможность остаться одной. Час завтрака еще не наступил, и я поднялась к себе. Звать Эжени мне не хотелось, Маргарита была занята туалетом близняшек. Я села перед зеркалом и сама стала приводить себя в порядок. Сегодня мне надо было выглядеть особенно красивой. Сегодня приезжает мой муж после одиннадцати месяцев отсутствия.
Я долго расчесывала искрящиеся в свете солнца золотистые волосы, укладывала их то так, то эдак, выбирая прическу, потом решила оставить их распущенными и лишь украсила легкой кружевной лентой. Румяна, краска для глаз и немного кармина на губы помогли мне справиться со следами, оставшимися после недавнего недомогания. Теперь из зеркала на меня смотрела привлекательная молодая женщина, черноглазая и светловолосая, с прекрасным тонким лицом, по которому разливался легкий румянец. Платье я оставила то же, в каком была: белое, воздушное, полупрозрачное, оно идеально подходило для такого солнечного утра, как нынче. Полностью удовлетворенная своим видом, даже улыбающаяся, я спустилась к завтраку.
Да и почему бы мне было не улыбаться? В Белые Липы возвращался Александр. То плохое, что было, я погребла в своей памяти и была уверена, что навсегда. Сейчас, когда до приезда герцога оставались считанные часы, я поняла, как люблю его. Теперь даже казалось странным, как я смогла почти год жить без него. У меня замирало сердце, когда я пыталась представить себе, каким он стал. Его глаза… а особенно его улыбка, белозубая, светлая, — она просто возвращала меня к жизни. Да, я люблю его… я необыкновенно счастлива уже потому, что Господь Бог подарил мне возможность испытать это чувство. Оно не каждому дается.
Я вошла в белую столовую, залитую солнечным светом, радостно обняла своих милых дочек, которые уже ерзали на стульях, ожидая завтрака. Они, впрочем, не так давно получили право сидеть за одним столом со взрослыми, и все потому, что научились прилично обращаться с ложкой, вилкой и ножом. Изабелле это далось труднее: она долгое время норовила подносить ложку к уху, а не ко рту. Потом они всему научились, но я все равно садилась рядом с ними, чтобы в случае чего помочь.
Вероника сразу пожаловалась:
— Мама, Бель укусила меня за щеку!
Изабелла не дала себя в обиду. Потрясая зажатой в кулачке вилкой, она разгневанно вскричала:
— Ах ты противная ябеда! Мама, она кидала в меня печеньем!
Смеясь, я расцеловала их обеих.
— Похоже, мои дорогие, вы друг друга стоите. И все-таки вам следует дружить и любить друг друга. Вы сестры. Вы близняшки. Вас кто угодно спутает.
На первый взгляд они были милейшими созданиями. У обеих были волосы цвета кипящего золота, серые глаза, чуть вздернутые нахальные носики и изящно вылепленные подбородки. Если бы не эта родинка у Вероники, они были бы точной копией друг друга. Помимо прелестнейшей внешности, они были очень способными девочками: говорили не шепелявя, все схватывали на лету и в свои неполные четыре года уже знали много букв. Но в последнее время я замечала за ними такое, что слегка меня беспокоило.
Между ними не было дружбы. Скорее, постоянное соперничество. Они все время ссорились, дрались, царапали друг друга, и каждая отстаивала свое право на превосходство. Они совершенно не желали носить даже что-нибудь одинаковое. Похвалив Веронику, следовало тотчас похвалить Изабеллу, иначе вспыхнет размолвка. Веронике, более мирной и менее бойкой по характеру, было трудно соперничать с сестрой, но она не сдавалась.
Вот и сейчас: едва им подали молоко, вышла новая ссора, причину которой я проглядела. Главное было в том, что Бель вцепилась сестре в волосы, а сестра изо всех сил отбивалась от нее кулачками.
Я рассердилась не на шутку, особенно потому, что все это происходило перед глазами Анны Элоизы. С силой ударив ладонью по столу, я разгневанно вскричала:
— Ну-ка, прекратить! Предупреждаю, ты будешь наказана, Изабелла!
Бель повиновалась, но, умоляюще поглядывая на меня из-под длинных ресниц, заныла:
— А почему я? Почему всегда я?
— Потому что ты непослушная дерзкая девчонка, и ты всегда начинаешь первая!
К концу завтрака, впрочем, впечатление об этом неприятном происшествии сгладилось, и, когда близняшки в один голос стали просить меня повести их в лес, я не долго сопротивлялась.
— Ну хорошо, хорошо. Только надо позвать Эжени, одна я с вами не справлюсь.
Девочки убежали разыскивать горничную. Пока я допивала кофе, Анна Элоиза сурово произнесла:
— Не могу сказать, что вы правильно их воспитываете. В этих девчонках нет ни капли благонравия. Для того чтобы исправить это, нужна строгость, а вы идете у них на поводу.
— Я просто очень люблю их, мадам. Это единственный просчет, который я допускаю.
— Они вырастут и выйдут замуж. И будет стыдно, если девушки, которые носят имя дю Шатлэ, окажутся невоспитанными, вздорными созданиями!
Не отвечая, я сделала реверанс и со словами «с вашего позволения, мадам» вышла из столовой.
Мы гуляли в лесу до полудня. Изабелла и Вероника за это время успели дважды поссориться и помириться, покататься по земле, выпачкать носы в землянике и изрядно измазать свои светлые платьица. Волосы у них растрепались, чепчики сбились набок, а Вероника к тому же потеряла туфельку где-то в траве. Мы все устали. Я попыталась по возможности привести их в порядок: поправила чепчики, подтянула чулочки. Эжени тем временем расстелила скатерть на траве и стала распаковывать корзину, чтобы устроить сладкий стол. На запахи пирожных, суфле и лимонада сразу слетелись пчелы.
— Я хочу вот то, с розочкой! — заявила Изабелла, указывая на пирожное.
— А я бланманже! — пискнула Вероника. — И шоколадную помадку!
Я отошла, чтобы нарвать ежевики. В этот миг какая-то черная огромная тень мелькнула за кустами, так что я в испуге отшатнулась. Раздался оглушительный лай, и через секунду на опушку выскочил громадный черный дог.
Трудно описать визг, который подняли мои перепуганные дочери. Эжени вскочила, но не успела удержать Веронику, которая бросилась наутек. Изабелла застыла на месте не шевелясь, будто увидела кобру. А мой первоначальный испуг как рукой сняло.
— Слугги… Да это же Слугги! Ну-ка, ко мне!
Я узнала этого дога. Он бросился ко мне и едва не сбил с ног. Я обнимала его, трепала по загривку и за ушами. Потом, резко оставив собаку, оглянулась по сторонам. Раз Слугги здесь, значит… значит, Александр тоже должен быть поблизости!
— Эжени, успокойте детей! — крикнула я машинально.
Позади меня раздался голос:
— Сюзанна!
Я порывисто обернулась. Герцог был совсем рядом, полускрытый ветвями ольхи, стоял и смотрел на меня. Потрясенная, я пошла ему навстречу. Он казался мне выше, чем прежде, и вообще каким-то… не совсем таким, как раньше. Он стал более худощавым. И загорел так, будто вернулся из пустынь Египта. На смуглом лице глаза казались совсем голубыми. Сапоги, кюлоты, сюртук, шляпа — все это было пропылено и заляпано грязью.
— Я удивлен, — произнес он улыбаясь. — Я возвращаюсь домой, а меня, оказывается, никто не ждет. Не слышно фанфар, не видно знамен. Где, я вас спрашиваю, торжественная встреча?
— Александр, — проговорила я, совершенно ошеломленная. — Но это… это так неожиданно…
Он притянул меня к себе, сжал в объятиях, жарким поцелуем разомкнул мне губы. Он прижимал меня к себе так, что я не сомневалась: будь это возможно, он овладел бы мною прямо тут, на траве. Я была изумлена этой страстью, этим невероятно жадным, требовательным поцелуем. Сжав меня в последний раз так, что у меня захватило дух, он спросил, немного отстраняясь:
— Я, кажется, всех тут распугал?
— Да нет… Сейчас Эжени приведет малышек.
Я прижалась лбом к его кожаной портупее, стремясь ощутить знакомый запах: пороха, табака, конской упряжи. Все было так, как прежде. Я прошептала:
— Как это могло случиться? Я ждала вас к вечеру. И ваш брат… Вы с ним встретились?
— Нет, я даже не видел его.
— Но ведь он должен был встретить вас в Сен-Мало!
— Мы ни о чем таком не договаривались.
— Ах, к черту это! — воскликнула я, обрадованная тем, что он так спешил ко мне, что разминулся с братом. — Ведь это намного лучше — то, что вы приехали сейчас, а не вечером!
Он взял мое лицо в ладони, еще раз поцеловал в губы.
— А вы еще красивее стали. Без сомнения, это все чары, которыми вы владеете…
Прежде чем я успела опомниться, он подхватил меня на руки, закружил по поляне, потом остановился, прижимая меня к себе, осыпал поцелуями мои щеки, губы, волосы.
— Ax, Сюзанна! Сю-зан-на! Черт возьми, да я же жить не могу без вас!
«Никогда еще у нас не было такой встречи», — подумала я. Меня просто поразили его радость, его страсть, его счастье. Поразили и передались мне. Гладя его по щеке, я прошептала:
— Надеюсь, прежде чем совершить новое безумство, вы вспомните о том, что сказали только что.
Мы снова стали целоваться, шепча какие-то слова и улыбаясь. Мне и самой очень захотелось близости — большей, чем сейчас, намного большей. Ах, если бы я была здесь, в лесу, одна… Но я была не одна, и мы уже слышали тоненькие голоса близняшек, которые бежали к нам, восклицая:
— Папа! Папа приехал!
Александр оставил меня и, схватив их в охапку, поднял на руки, посадил на плечи — каждую на одно плечо. Они теребили ему шляпу, волосы.
— Ах, папочка! Мы так тебя любим!
Изабелла наклонилась и, рискуя упасть, потянулась рукой вниз. Я только сейчас поняла, что ее привлекло: орден на груди Александра.
— А что это такое, папочка?
— И правда, — подхватила я. — Что это?
Я подошла ближе и пригляделась. Это был золотой мальтийский крест с белой окантовкой и золотыми лилиями в углах.
— Александр, не может быть… Орден святого Людовика?
— Почему не может быть? Я же стрелял в Гоша. За это и награжден.
Это был орден, который более других почитался аристократами. Его вручали за боевые заслуги военным, прослужившим не менее двадцати восьми лет. Его девизом было «Награда воинскому мужеству».
— Александр, но что же вы молчите? Рассказывайте!
— Святого Людовика мне пожаловал король. В этом году исполняется ровно двадцать восемь лет, с тех пор как я вступил в армию.
Я зачарованно смотрела на мужа. Мне было известно, что в армию его зачислили десятилетним мальчиком.
— Я поздравляю вас, милый. И так горжусь… Надо же, мой муж — кавалер ордена святого Людовика!
Помолчав, я нежно упрекнула его:
— И вы молчали! Вы допустили, чтобы я узнала об этом только сейчас.
— Папочка, — вмешалась Вероника, — а кто такой Гош, в которого ты стрелял?
— Это хороший генерал, дорогая. К сожалению, он был синий и очень мешал нам. Теперь он умер.
— Умер? А что такое умер?
Я решила прервать эту беседу:
— Полно, полно! Александр, если вы будете отвечать на все их вопросы, мы до вечера отсюда не уйдем.
Он ссадил девочек на землю, взял их за руки и произнес:
— Пойдемте-ка лучше домой. Мне кажется, вам понравится то, что я привез вам из Англии.
Они не хотели ждать, услышав о таком. Чинно пройдя вместе с Александром несколько шагов, они вырвались и побежали к дому так, что их светлые чепчики быстро исчезли за деревьями. Я отправила Эжени проследить за ними. Потом взглянула на мужа.
— Вы такой хороший отец. Я никогда даже не мечтала, что эти бедные малышки получат такого отца.
— Я вас просил не говорить об этом. Если я взял на себя обязательства, я должен их исполнять. Что может быть естественнее.
— Всякий добрый поступок заслуживает оценки, — прошептала я. — И вы не заставите меня не видеть всех ваших достоинств.
Улыбаясь, он снова поцеловал меня. Я прильнула к нему всем телом, отвечая на поцелуй. Его руки, сжимавшие мою голову, жадно скользнули ниже, на грудь, рванули шнуровку корсажа. Он наклонился, его губы, лаская шею, спускались все ниже, пока не сошлись вокруг напрягшегося соска. Я подчинилась его нетерпению, позволила опрокинуть себя на траву. Им владело такое желание, что он не мог терпеть. Все еще целуя мой рот, он вздернул вверх мои юбки, одним резким движением расправился с нижним бельем, и я с содроганием ощутила у самого входа в мои глубины его плоть — большую, налитую силой и мощью. Он проник внутрь так неистово, что с моих губ сорвался невольный крик, и я на миг задохнулась и даже изогнулась под ним. Видимо, после того, что случилось недавно, я еще не совсем оправилась. Он, вероятно, заметил, что что-то не так, но остановиться не мог. Впрочем, дальше все было как обычно: я уступила его натиску, открылась ему вся, без остатка и, повлажнев, почувствовала даже что-то приятное.
Он выскользнул из меня, устало лег рядом. Я слышала его прерывистое дыхание. У меня по ногам ползали муравьи, и я поспешила подняться, чтобы оправить платье. Он удержал меня за руку.
— Что случилось? Я был слишком груб?
— Нет, все хорошо, — прошептала я улыбаясь.
Александр привлек меня к себе и так внимательно заглянул в глаза, что я невольно смутилась.
— Впрочем, я же знаю, что вы никогда не признаетесь, даже если действительно все было плохо. Не грустите, дорогая. Я просто слишком хотел вас, поэтому был невнимателен. Простите, если я был груб.
Я убрала соломинку из его волос. Потом наклонилась и поцеловала его — долгим, жарким поцелуем, чувствуя ответное тепло, его язык у себя во рту. Сдавленный стон сорвался с его губ.
— Нет уж, давайте лучше уйдем отсюда, Сюзанна. Иначе я превращусь в пепел.
— Я только хотела сказать вам, что люблю.
— Я тоже вас люблю. Но давайте уйдем, пока еще есть возможность.
Он помог мне подняться, даже отряхнул мне платье. Сейчас, по возвращении, он казался мне даже заботливее, нежнее, влюбленнее, чем раньше. Стыд и тоска охватили меня. «Господи, — подумала я невольно, — как было бы хорошо, если бы я могла наслаждаться всем этим без задних мыслей, без воспоминаний о том, что сделала плохого!»
Мы пошли к дому. Александр прижимал меня к себе, обхватив за талию.
— Есть еще кое-что, что я хочу сделать больше всего на свете.
— Что же? — спросила я.
— Мне хочется увидеть сына.
Близняшки и Эжени, вернувшиеся раньше нас, подняли в доме переполох. Когда мы показались на главной аллее, целая армия лакеев и служанок в фартуках встречала нас на крыльце. Явился встречать хозяина управляющий, даже Люк и тот прибежал из конюшен. Я видела, как медленно выходит из дома восьмидесятилетняя Анна Элоиза. Не было только старого герцога, ему не рекомендовали подниматься с постели. Кроме того, его надо было осторожно подготовить к мысли о возвращении сына.
Александр склонился перед старой герцогиней де Сен-Мегрен, поцеловал ее морщинистую руку. Она потрепала его по щеке и долго разглядывала. Я с удивлением заметила в ее бесцветных глазах слезы.
— Что я вижу, Александр? — спросила она наконец. — Орден святого Людовика? Неужели его величество удостоил вас такой чести?
— Да, мадам, удостоил.
— Я рада, рада за вас… Ваш отец не имел подобного отличия, ваш дед — тоже. Только ваш прадед мог похвастать таким орденом! Надеюсь, вы понимаете, к чему это вас обязывает?
— Теперь передо мной новая цель, — произнес герцог смеясь. — Получить орден святого Духа.
— Это хорошая цель, но не главная. Если уж король так высоко оценил ваши заслуги, вы должны и в дальнейшем подтверждать свою преданность его величеству.
Меня это возмутило. Не выдержав, я едко произнесла:
— Похоже, мадам, вы считаете, что Александр слишком много времени проводит в родном доме. Вы готовы снова отправить его под пули. Какой поразительный пример любви к внуку!
Анна Элоиза разгневанно ударила тростью по ступенькам.
— Александр, научится ли ваша жена когда-нибудь понимать, что такое честь дворянина и долг перед королем?
— Сюзанна хорошо понимает это, мадам, — терпеливо произнес герцог. — И вряд ли ее можно упрекать. Ей просто хочется, чтобы я больше уделял ей внимания. Да и какой женщине не хочется личного счастья?
Анна Элоиза презрительно бросила, не глядя на меня:
— Существуют вещи неизмеримо более благородные, чем личные интересы, за них и следует сражаться. Кто не понимает этого, тот достоин только сожаления.
Она повернулась к внуку и что-то спросила о дальнейших планах принцев. Толпа слуг окружала их. Я знаком подозвала к себе Марианну, приказала принести шампанское, а сама быстро поднялась наверх, в детскую, чтобы найти Филиппа Антуана.
Он забавлялся со своими игрушками, а присматривала за ним Элизабет. За последнюю неделю между нами установились крайне натянутые отношения. Я не могла простить ей того, что она отказалась служить мне лично. Вот и сейчас — едва я вошла, Элизабет сразу напряглась и встала. Лицо у нее стало каменным.
— Мне нужен Филипп, — сказала я резко. — Отец хочет видеть его.
— Сию минуту, мадам.
Наблюдая, как она переодевает ребенка, я вдруг подумала, что неплохо было бы найти предлог как-то удалить Элизабет от Филиппа и найти малышу постоянную няньку, а экономку навсегда отправить к старой герцогине; пусть вместе изливают свою злость на меня.
Александр осторожно взял у меня из рук Филиппа, поцеловал, и я поразилась, до чего нежное выражение было на лице у герцога. Да и держал он сына так осторожно и трепетно, словно боялся причинить ему даже малейшую боль. Филипп, не узнавая отца, беспокойно поглядывал на меня. Я подошла ближе, поднесла пухленькую ручку малыша к губам и, чтобы успокоить его, прошептала:
— Это твой папа, милый. Он любит тебя больше всех на свете.
Филипп настороженно хмурил крохотные светлые брови, и внимательным взглядом голубых глаз разглядывал отца. Александр нежно погладил его белокурую кудрявую головку и снова поцеловал. Малыш улыбнулся.
— Браво, он признал вас! — воскликнула я радостно.
— Да у него уже все зубы есть, — заметил Александр. — Знаете, Сюзанна, ни за что не скажешь, что он родился семимесячным. Он такой крепыш сейчас.
Я со смехом вспомнила:
— Когда он родился, повивальная бабка сказала: «Были бы кости, а мясо нарастет». Так и случилось. Наш Филипп вырастет отменным мужчиной. Да что там говорить: у меня все дети вырастают отменными — красивыми и здоровыми. Ни на кого я не могу пожаловаться.
Александр вполголоса произнес:
— Возможно, нам пора задуматься еще об одном наследнике?
Я впервые слышала, чтобы он высказывал такое желание. Раньше об этом говорила только я.
— Это уж как Господу Богу угодно, — сказала я, поднимаясь на цыпочки и снова целуя малыша Филиппа.
В этот миг явилась Марианна, исполнившая мое приказание. Бутылки с отличным шампанским были откупорены, вино запенилось в бокалах, и подобное угощение получил сегодня каждый обитатель Белых Лип.
— За возвращение господина герцога! — заявила я, поднимая свой бокал.
— За орден святого Людовика, — властно произнесла Анна Элоиза.
— За молодого хозяина Филиппа, — раздался голос с акцентом.
Я обернулась и увидела Гариба.
— Да, да, вы правы! — подхватила я. — За Филиппа!
Все выпили шампанское до дна. Я, сделав несколько глотков, поднесла бокал к губам Филиппа. Малыш, привыкший мне доверять, попробовал, скривился и плюнул. Все расхохотались.
— Не переживай, мой маленький, — проговорила я, успокаивая слегка обиженного сынишку. — Мы ведь пили за тебя. И ты тоже к нам присоединился.
Вскорости явились Поль Алэн и Аврора, напрасно потратившие несколько часов в поисках Александра. Встреча братьев была бурной. Впрочем, я была недовольна таким скорым возвращением деверя, ибо случилось так, как я и предвидела: братья заперлись в герцогской зале и беседовали о чем-то тайном часа два, не меньше, пока я, разгневанная и раздосадованная, не постучала изо всех сил в дверь и не заявила:
— Обед уже ждет вас, господа. И во второй раз я повторять не буду!
Наступил тихий августовский вечер. Разливал золотистый свет изящный светильник у изголовья моей кровати. Освежившись после прохладной душистой ванны, я набросила прозрачный розовый пеньюар, распахнула окна и села к туалетному столику.
Я ждала Александра. Он обещал рассказать мне кое-что важное о Жанно и принце де ла Тремуйле. В ожидании время текло медленно. Сквозь распахнутые окна в спальню лились запахи цветущих левкоев, пурпурных амарантов, желтых ноготков. Я расчесывала серебряной щеткой волосы. Крылья носа у меня трепетали от волнения. Да и как могло быть иначе — целый год прошел с тех пор, как Александр переступал порог моей спальни.
Дверь была не заперта, и герцог вошел очень тихо. Я услышала шаги Александра уже тогда, когда он был совсем рядом. Он осторожно забрал у меня щетку, взял за руку, заставил подняться. Потом медленно повел к постели, уложил и нежно, почти зачарованно поцеловал.
— Вы так красивы, — сказал он.
— Спасибо…
— Вы не устали?
— Может быть, слегка.
— Вы устали, я знаю. Да и я устал. Слишком бурным был этот день. Особенно, конечно, вам досталось: этот обед, дети, угощение прислуги.
Я нетерпеливо напомнила:
— Вы хотели мне что-то сказать о Жане. Я уже месяц не получала от него никаких вестей.
— У меня есть две новости, дорогая. Жан довольно хорошо кончил курс в Итоне.
— Довольно хорошо? — переспросила я. — Должно быть, так же, как и курс в коллеже?
— Гораздо лучше. Он сдал все экзамены. Дед взял для него отпуск на целый год.
— Отпуск? Они собираются вернуться во Францию?
— Нет, не собираются. Они поехали в другое место.
Я настороженно смотрела на мужа, чувствуя, что меня начинает пробирать дрожь от беспокойства.
— Сюзанна, — мягко сказал Александр, — вы должны смириться с этим хотя бы потому, что их уже не остановишь.
— Смириться! Что это значит? Да говорите же, вы просто мучаете меня своим молчанием!
Я предчувствовала, что все мои надежды увидеть Жана в этом году вот-вот будут разбиты вдребезги. Да и вообще, положение складывалось невероятное. Мой старший сын уехал год назад. Какая мать спокойно согласится на такую разлуку? Моя тоска усиливалась с каждой неделей. Как часто по утрам, когда еще все спят, я входила в комнату Жана — пустую, осиротевшую, — перебирала книги, прикасалась к его охотничьим трофеям, к камешкам, которые он собрал в лесу… А как горько мне было в июне, когда ему исполнилось одиннадцать лет, а я могла поздравить его только мысленно!
Сдавленным голосом я яростно произнесла:
— Какую ошибку я совершила, когда позволила принцу увезти Жана! Как я была неосторожна!
— Вы поступили совершенно правильно. И прошедший год только доказал это. Жан скучает по вас, но в целом он счастлив.
Я метнула на мужа осуждающий взгляд.
— Ну, Александр? Выкладывайте поскорее все дурные новости, я ко всему приготовилась.
— В июне Жан побывал у графа д’Артуа. И был определен в артиллерию с чином подпоручика.
Я вскинулась на постели. Улыбка поневоле показалась на моих губах.
— Жан — подпоручик? Ах Боже мой! И я не могу его поздравить!
— У вас еще будет такая возможность.
— Почему он выбрал артиллерию?
— Это выбор деда. А то, что выбрал дед, Жан принимает с восторгом. Мальчик пока не делает разницы между войсками.
— Да, хорошо еще, что его не определили во флот.
— Флота у короля нет. Так что такого и быть не могло.
— А какая следующая новость?
— В июле они оба — дед и внук — отплыли в Египет, чтобы защищать от Бонапарта крепость Сен-Жан-д’Акр в Сирии. Там как раз будет работа для артиллерии.
У меня от ужаса кровь отхлынула от лица.
— Жан отправлен… в Египет?
— Да.
— Александр, вы, должно быть, разыгрываете меня!
— Нет, ничуть. Это сущая правда.
— Но надо быть безумцем, чтобы увезти мальчика на войну! Я запрещала это отцу!
— Мальчик сам хотел. Ему одиннадцать лет, он получит первое боевое крещение. Таков порядок вещей, дорогая.
— Крещение! Вы, верно, не в себе! Речь идет о ребенке!
— Дед проследит, чтобы Жану ничто не угрожало. К тому же ваш сын — мужчина.
— О да… Все мужчины сговорились, чтобы причинять мне неприятности — вы, отец, граф д’Артуа, даже Жан! И, подумать только, меня даже не спрашивают, будто я не мать, а неизвестно кто!
— Мы были лишены возможности вас спросить. Нас разделяло море.
— Нет уж! Вы не спрашивали, потому что отлично знали, что я никогда не соглашусь! И вы… вы тоже на их стороне! Вы, видимо, полагаете, что я вечно буду мириться с подобными выходками! Но я не создана для такого, и вы меня больше не поставите перед свершившимся фактом. Я тоже имею право на голос, в конце концов!
Я была на грани истерики. Мне действительно все это смертельно надоело. Вот Александр — он же отлично знал, как я отнесусь к намерению поехать в Египет! Он мог бы сделать хоть что-то, чтобы уменьшить мои переживания. А он ограничивается утешениями, словно считает меня дурочкой, которую в конечном итоге можно уговорить на что угодно. Как это все противно — войны, поездки! Пожалуй, правы те женщины, которые никого не любят, — им, по крайней мере, ни за кого не приходится тревожиться!
В бешенстве повернувшись к Александру, я выпалила:
— Филиппа… Филиппа я вам никогда не отдам! Я вообще не хочу, чтобы он стал военным! Я рожаю детей для того, чтобы они были счастливы, а не для того, чтобы их убивали на войне!
Воцарилось молчание. Сидя на постели, подтянув колени к подбородку и уткнувшись в них лицом, я едва удерживалась от рыданий. Александр ничего не отвечал. Это молчание убеждало меня в том, как тщетны мои протесты. Еще не создан тот мир, в котором слово женщины хоть что-то будет значить. Сейчас всем заправляют мужчины. Они могут любить нас, ухаживать за нами, воздавать нам хвалу, даже сочинять оды в нашу честь, но поступают они всегда по-своему. И они даже не понимают, до чего глупы эти их честолюбивые войны! Это вечное кровопролитие! Эта жестокость, агрессия, насилие!
Герцог правильно сказал: мне следует смириться хотя бы потому, что ничего уже не изменишь. Что значат мои возражения? В глубине души я знала, что Филипп так или иначе станет военным — для старшего сына в семье нет другого пути. Так принято в течение многих веков. Разве что сам Филипп не захочет того, что ему предназначено. Но на это надежда была небольшая — недаром он сын Александра.
Я ощутила руку мужа у себя на плече. Он нежно, но настойчиво тянул меня к себе, опрокинул навзничь, склонился надо мной и губами осушил слезы у меня на ресницах.
— Не плачьте, carissima. Я хочу, чтобы мы были счастливы.
Я пробормотала, запинаясь:
— Но ведь этого… этого мало, только хотеть…
— Конечно. Скажите, что я должен сделать, чтобы вы улыбнулись? Помчаться в Египет и остановить принца?
— Ах, вам бы только смеяться… А вот мне вовсе не смешно!
— Вы измучены, я понимаю. Вам надо отдохнуть. Я теперь буду с вами. Я сделаю все, чтобы вы больше ни о чем не тревожились.
Он гладил мои волосы, шептал что-то на ухо, целовал. Эти ласки успокаивали меня. Дурные мысли улетали прочь. Мы оба были слегка расстроены и утомлены, но то, что мы вместе, приносило облегчение. Мы так и уснули в объятиях друг друга, как два голубка в гнездышке.
Ранним утром я еще сквозь сон почувствовала, как Александр целует меня, медленно стягивает пеньюар. Я была еще не в силах разомкнуть веки. Он стал ласкать меня, слегка сжимая груди и поглаживая по бедрам, потом его рука скользнула между ними, и через секунду стон сорвался с моих губ. Я открыла глаза, удивляясь, до чего быстро откликается мое тело на его прикосновения. Внутри у меня полыхнуло жаром. Он стал целовать соски, и я вся изогнулась под его губами. Мои ноги томно раздвинулись. Это было восхитительно: дремота, все еще владевшая мною, и теплые ласки, от которых все вибрировало внутри. Целуя меня, глубоко проникнув языком мне в рот, он вошел внутрь, я почувствовала глубоко в себе толчки, которые побуждали все ближе и ближе стремиться к Александру, идти ему навстречу, соединяться до конца, так близко, как это возможно.
Потом, не размыкая объятий, он прошептал:
— Доброе утро, госпожа герцогиня.
— Доброе утро, господин герцог. Ах, Александр, я так люблю вас.
Было еще очень рано, и я снова уснула в его объятиях. В девять утра кто-то начал ходить по спальне — я узнала шаги Маргариты. С трудом открыв глаза, я оглянулась по сторонам. Александра, разумеется, рядом уже не было. Зато на соседней подушке лежал большой букет великолепных золотых хризантем, перевязанный лентой.
— Ах, как славно, — прошептала я, растроганная до глубины души. — Как тогда, в Италии…
Я прижала цветы к груди. На лепестках хризантем еще дрожала прозрачная холодная роса. Стало быть, они совсем недавно срезаны — может быть, полчаса назад.
Маргарита, готовя для меня умывальный столик, громко произнесла:
— Ах, мадам, я так рада за вас. Вам очень повезло.
— Ты считаешь?
— Он так любит вас. Это ли не счастье? Я вот помню, как ваш отец жил с вашей мачехой: ничего подобного и в помине не было.
4
К августу 1798 года тайна, окружавшая экспедицию Бонапарта, начала развеиваться. Вся Европа уже знала, что отправился генерал в Египет, и только туда, что обходной маневр, предпринятый генералом Эмбером, поплывшим в Ирландию, был только трюком, целью которого было направить Англию по ложному следу.
Первое время об экспедиции много говорили, много писали. Потом интерес стал ослабевать, и, наконец, о Бонапарте все забыли. Все-таки Сирия, Египет — это была мировая периферия, и никого нельзя было особенно взволновать тем, что там происходит. Так было до тех пор, пока из Африки не поступили новые ошеломляющие сведения.
Поначалу авантюре сопутствовал успех. Солдаты, плывшие на судах, мечтали о завоевании сказочно богатой страны, о легком, бескровном завоевании. Надо было лишь преодолеть отрезок пути по морю — самый опасный отрезок, ибо на море господствовала Англия, а в частности — знаменитый адмирал Гораций Нельсон. Но его пока не было видно, и флотилия легко скользила по волнам.
9 июня французы подошли к Мальте и заняли ее почти без сопротивления. Над крепостью Ла Валетта поднялся французский трехцветный флаг. 2 июля флотилия подошла к берегам Северной Африки. Солдаты в крайне сжатые сроки высадились в поселке Марабу. Тогда же впервые на горизонте показалась конница мамелюков. Они уходили на юг. Совершенно беспрепятственно армия вступила в Александрию. Самое опасное осталось позади. Флотилия прошла через все Средиземное море, не встретив англичан.
Бонапарт двинулся на Каир, разъясняя повсюду, что явился в Египет для того, чтобы освободить арабов от беев. Население плохо понимало его слова. По мере приближения генерала жители деревень покидали дома и, убегая, отравляли колодцы. Французская армия страдала от недостатка воды. Почти сразу же, как французы ступили на землю Египта, отвращение, беспокойство, тревога, тоска овладели почти всеми. Очаровательная мечта об этом походе исчезала в самом начале.
Бонапарт, как все замечали, сохранял энергию и бодрость духа. Он повел солдат вперед. После изнурительного похода по раскаленным пескам пустыни, когда вдалеке уже были видны минареты Каира, перед французами выросла конница мамелюков. В сражении у подножия пирамид восточный противник был разбит наголову. Армия французов вступила в Каир. Население встретило Бонапарта молча: оно не только ничего о нем не слышало, но ему было даже и теперь еще невдомек, кто он такой, зачем явился и с кем воюет.
Самое главное, в Каире было вдоволь пищи, и армия отдохнула. Как и прежде в Италии, Бонапарт установил в Египте жестокий оккупационный режим. Неподчинившиеся деревни сжигались, жителей гнали в Каир и рубили им головы. От богачей требовали денег.
Тем временем становилось ясно, почему адмирал Нельсон не появился на театре военных действий тогда, когда это было нужно.
Лишь только Бонапарт отправился в плавание, Нельсон занял позицию, преградив своими кораблями Гибралтарский пролив. Адмирал был готов в любой момент двинуться на запад или восток. Но случилось так, что в день выхода флотилии Бонапарта из Тулона в западной части Средиземного моря разыгралась буря и корабли Нельсона изрядно потрепало. Выход французских кораблей в море остался незамеченным. Едва до Нельсона дошли сведения о том, что французы заняли Мальту, он бросился за ними в погоню. Адмирал так горел желанием настигнуть и разгромить противника, что его эскадра, подняв паруса, промчалась по морю с такой быстротой, что опередила французов; ночью английские корабли пронеслись мимо медленно плывшей французской флотилии, проходившей севернее Крита.
Эскадра Нельсона примчалась в Александрию, но там о Бонапарте и французах никто ничего не знал. Английский адмирал решил, что французский флот направился в Александретту или Константинополь, и устремился туда.
Это была лишь отсрочка. Надо было ожидать, что Нельсон вернется и будет битва.
В шесть часов вечера 1 августа перед французским флотом, стоявшим в Абукирском заливе, внезапно предстала ожидаемая давно, но все же не в этот момент (в это время три тысячи человек из экипажа были на берегу) эскадра адмирала Нельсона. Через полчаса началось морское сражение. Хотя силы сторон были почти равны и французы даже имели перевес в количестве орудий, Нельсон, захвативший инициативу и обнаруживший превосходство в руководстве морским сражением над французским адмиралом Брюэсом, склонил ход боя в свою пользу. Он отрезал французские корабли от берега и открыл огонь с двух сторон. К одиннадцати часам утра 2 августа французский флот перестал существовать.
Все суда, в том числе и флагман «Орион», были уничтожены, только два корабля и два фрегата спаслись бегством. Погиб в битве адмирал Брюэс. Погибло много людей, увлеченных сумасбродным генералом в Египет ради неизвестно каких целей. Абукирская катастрофа влекла за собой трагические последствия для французской армии в Египте. Она сделала Бонапарта пленником своей победы.
Известие об Абукире подорвало моральный дух французской армии. Разочарование усиливалось. Уж слишком непохож был Египет на волшебный мир красот и чудес, которые рисовало воображение на пути из Тулона в Александрию. Для солдат, привыкших грабить богатую плодородную Италию, то был разительный контраст. Бесплодные, выжженные солнцем пустыни, раскаленный песок, нищета, постоянно мучающая жажда и испепеляющий зной — вот что нашли победители Италии в Египте. Пораженческие настроения множились не только среди солдат, но и среди офицеров.
Тем временем султан двинул войска в Сирию, и Бонапарту не оставалось ничего другого, кроме как идти ему навстречу.
В Италии тоже было неспокойно. Едва Бонапарт покинул завоеванные области, там началось брожение. Новоиспеченные республики и остальные перетасованные генералом провинции глухо волновались. Население было обобрано. Вся Италия только и ждала, как свергнуть господство французов. Некоторые города приходилось усмирять снова и снова. На них обрушивались кары и тяжелейшие контрибуции.
Недовольство и ожесточение против французов росло не только в Италии. Со времени начала революции Франция внушала враждебные чувства и Англии, и Австрии, и Пруссии, и России. Пожалуй, не было страны, которой было бы по вкусу то, что творится во Франции. Революция, террор, беспорядки да еще постоянная завоевательная политика возмутили против себя всю Европу. Это выливалось порой в убийства французских уполномоченных, как это было, например, во время Раштаттского конгресса. В Вене толпа, разъяренная слишком открыто проявляемым якобинизмом французского посла Бернадотта (он посмел вывесить трехцветный республиканский флаг), ворвалась в посольство, сорвала знамя и чуть не убила его самого. Франция требовала чрезвычайного удовлетворения. Австрия совершенно не расположена была давать его.
Было очевидно, что вскорости будет составлена новая, уже третья коалиция европейских держав против республиканской Франции. Это означало бы новый виток войны, длившейся уже шесть лет, и новые многочисленные жертвы.
5
В начале второй недели сентября, как-то вечером, возвращаясь с фермы, я увидела, что Люк уводит под уздцы двух незнакомых мне лошадей.
— Эй! — окликнула я конюха. — Кто-то приехал?
— Да, госпожа герцогиня.
— Кто же?
— Господин Кадудаль и господин граф де Буагарди.
Графа я не знала, но вот имя Кадудаля заставило мое сердце забиться сильнее. Испуг подкатил к горлу. Я поспешно сунула корзину в руки служанке и устремилась в дом. Я была уверена, что они заперлись и обсуждают что-то безумное. Возмущение мое достигло предела. Да как он может… после того, как я выхлопотала ему прощение… Черт возьми, я совершенно не намерена допустить, чтобы весь этот ужас пошел по второму кругу!
Мои предположения были не совсем точны, ибо, едва войдя, я прямо в вестибюле столкнулась со всеми тремя заговорщиками. Помимо Александра и Кадудаля, которого я знала, здесь был человек лет тридцати со смуглым аристократическим лицом. На нем был серый бархатный камзол с серебряными пуговицами и изображением пламенеющего сердца на груди. Его темные блестящие волосы были тщательно причесаны, на богатом кружевном жабо сверкал бриллиант, второй украшал холеную узкую руку, лежавшую на эфесе шпаги.
Александр произнес:
— Мадам, позвольте представить вам: граф де Буагарди, один из моих новых друзей.
Я сурово поглядела на «нового друга», не произнося даже полагающихся в таких случаях слов «очень приятно» или тому подобного. Наступило неловкое молчание. Я выдерживала паузу так долго, чтобы оба гостя поняли, насколько мне неприятен их приезд. Александр, желая сгладить впечатление, произнес:
— Дорогая, позаботьтесь о кофе, вине и сигарах для нас. Нам предстоит обсудить одно очень важное дело. И распорядитесь приготовить комнату для господина де Буагарди — он останется у нас на некоторое время.
Я сухо сказала:
— Хорошо. Полагаю, господа не посчитают меня невежливой, если я попрошу на несколько минут оставить меня наедине с мужем.
— Да, господа, — сказал герцог. — Прошу вас в кабинет. Очень скоро я присоединюсь к вам.
Кадудаль и Буагарди удалились. Мы с Александром посмотрели друг на друга, и наши взгляды скрестились, выражаясь фигурально, как мечи.
— Что же это все значит? — спросила я наконец.
— Это значит только то, что вы вели себя как прачка.
— Смело сказано, сударь. Как же ведете себя вы, когда намереваетесь снова пожертвовать не только своим счастьем, но и счастьем своей семьи? У вас жена и сын, не забывайте об этом!
— На основании чего вы делаете такие выводы о моих намерениях?
— На основании опыта. Я знаю, зачем приехали эти люди. А Кадудаль — он уж наверняка намерен послать вас в самое пекло!
— Я служу королю.
— Вы служите ему до такой степени, что забываете о том, что совсем недавно вас амнистировали.
— Амнистия, мадам, — это лишь средство, которое дало мне возможность вернуться на родину и продолжать борьбу. Неужели вы так плохо знаете меня, что думаете, будто амнистия меня переродила?
— Увы, я знаю вас слишком хорошо, чтобы не ждать такого счастья. Послушайте, Александр… — В голосе у меня звучало отчаяние, я едва удерживалась от слез. — Подумайте хоть раз, чем вы рискуете! Вы совершите преступление против Республики, и вас снова объявят вне закона. И тогда уж вас никто не амнистирует! Вы принуждены будете оставить свою семью на долгие-долгие годы! Я не выдержу этого! Подумайте, значим ли мы для вас что-то — я и Филипп? Подумайте, прежде чем совершать новые сумасбродства!
Он побледнел, брови его сошлись к переносице.
— На все ваши слова, мадам, я могу сказать только одно.
— Что же?
— Не вмешивайтесь в мужские дела, ибо это вас не касается!
Резко, по-военному повернувшись на каблуках и не бросив на меня даже взгляда, он вышел. Ошеломленная, я смотрела ему вслед. У меня не укладывались в голове слова, которые я от него услышала. Он словно ставил меня на место — место служанки, в компетенцию которой входит только кухня. «Мужские дела», — повторила я со злой иронией, и в глазах у меня стояли слезы. Как они меня измучили, эти мужские дела! Я потратила шесть месяцев в Париже, чтобы вымолить прощение для Александра. Оно стоило мне стольких трудностей, стольких унизительных встреч. А он явился на все готовое и даже не интересуется, кому обязан этой амнистией, словно все случилось так, как и должно было случиться. Более того, он готов все мои усилия превратить в ничто!
Ну, допустим, после первого дела его не арестуют. Но заподозрят. И в конце концов арест будет неизбежен. Арест или эмиграция в Англию. И еще неизвестно, как все это отразится на мне и детях. Это сейчас режим в Республике сравнительно мягок, а что будет, если снова объявят террор? Тогда уж никто не будет разбираться, причастны мы к действиям Александра или нет.
Я смахнула слезы с ресниц, вспоминая, что герцог просил меня позаботиться о кофе и сигарах. Нет уж, пусть об этом кто угодно заботится, только не я. Ублажать безумцев — только этого мне и недоставало… Я поднялась наверх, в детскую, немного поиграла с Филиппом, но мысли мои были далеко. Когда наступило время ужина, гости спустились к столу, но трапеза была немая, как три года назад. Оскорбленная, я не произносила ни слова и смотрела только в свою тарелку. Александр тоже молчал. Потом все разошлись по своим комнатам.
Я еще долго ломала себе голову над тем, что же все-таки следует предпринять и почему Александр так резко и грубо оборвал разговор. Возможно, я тоже была недостаточно тактична. Поразмыслив, я решила, что не надо было демонстрировать свою враждебность гостям. Он ведь называл их друзьями. Стало быть, был оскорблен за них. Что поделаешь, у меня тоже не всегда хватает сдержанности. И, по-моему, это естественно — то, что я не хочу снова стать не женой и не вдовой. Надо еще раз поговорить с Александром. Мы всегда так понимали друг друга. Невозможно, чтобы мы не договорились.
Когда наступил поздний вечер и часы пробили десять, я взяла свечу и стала спускаться по полуосвещенной лестнице. К моему удивлению, на втором этаже из музыкального салона доносился шум. Вернее, не шум, а голоса и звуки музыки. Мои ноги в мягких туфельках ступали бесшумно. Я осторожно подошла и заглянула в приоткрытую дверь. Салон был ярко освещен, за клавесином сидела Аврора и пела, сама себе аккомпанируя. Она была в белом вечернем платье, с розой в волосах. Она смеялась, краснела, словом, вся сияла. Рядом с ней, касаясь рукой клавесина, стоял граф де Буагарди, а чуть дальше — Поль Алэн. Оба, похоже, были от нее в восторге. Оставалось только удивляться, откуда у шестнадцатилетней девочки столько кокетства взрослой женщины.
Это, впрочем, сейчас меньше всего меня занимало. Я хотела найти Александра и для начала спустилась в индийский кабинет. У его порога, растянувшись, как пес, на подстилке лежал индус и курил трубку.
— Гариб, где хозяин? — шепотом спросила я, наклоняясь.
— Его нет в доме, госпожа.
— Нет в доме? В такой час?
— Хозяин в беседке. Там, где заканчивается правая липовая аллея.
Я пошла туда, куда мне было сказано. Сентябрьская ночь была прохладна. Свет луны заливал двор, на небе мерцали мириады звезд. Как дымчато-голубые кварцы… От их сияния ночь казалась совсем светлой, а на небе хорошо угадывался Млечный Путь. Липы уже начали ронять листья, аллея была вся усыпана ими. «Ах, — подумала я, — такая ночь создана вовсе не для того, чтобы вести неприятные разговоры».
Липы затеняли беседку, но я сразу догадалась, что Александр там, и помог мне в этом его голос. Я услышала довольно фривольную песенку, которую он напевал. Голос у него был хриплый и какой-то уж слишком развязный. Ничего подобного я еще не слышала.
Я уехал на время, и вскоре Вы, Розетта, пленились другим. Но не стал предаваться я горю, И теперь я другою любим.Я вошла в беседку, но он никак на это не отреагировал. Он словно не заметил меня. Глаза его были полузакрыты. Рубашка на нем была разорвана едва ли не до пояса, я видела, как поблескивает на его груди крестик. В довольно развязной позе развалившись на скамейке, он монотонно напевал что-то о Розетте и ее любовнике. Рядом с ним стояли две пустые бутылки; я поняла, что он пил вино. Третья, початая бутылка стояла на столе.
— Вы пьяны, — сказала я резко.
Он посмотрел на меня, но ничего не ответил. Его рука потянулась к бутылке, и он сделал еще несколько глотков.
— Чем вы тут занимаетесь? — спросила я сухо.
— Я? Я, можно сказать, оплакиваю свою участь.
— Вы пьянствуете. Вы что, все это выпили?
— Это вас удивляет? Я, может быть, просто проверяю, какое вино… в моих фамильных погребах.
— Я никогда раньше не видела вас пьяным.
— Полноте! Оставьте свои выговоры. Сейчас не до них.
Задетая этим пренебрежительным тоном, я произнесла:
— Мне кажется, сударь, вы могли бы говорить более уважительно.
Он долго смотрел на меня. Потом пробормотал:
— Наше время, сударыня, ни к кому не проявляет уважения. Я тоже оскорблен. И что же? Я смирился.
— Кто вас оскорбил? Уж не я ли?
— Вы? О нет!
Он рассмеялся. Потом сел более прямо и, обхватив голову руками, взъерошил себе волосы.
— Вы женщина, вам легче. Над вами не висит этот дамоклов меч, вы можете не бояться, что в один прекрасный день вас назовут предателем.
— У меня много других забот, — произнесла я в гневе. — Которые, возможно, более важны, чем ваши.
Не обращая на меня ни малейшего внимания, он пропел:
Я изменницы знать не желаю. Мнится, пыл в моем сердце угас. Что ж, посмотрим, пастушка младая, Кто раскается первым из нас.Прервав себя так же резко, как перед тем меня, он снова взялся за бутылку. Я уже понимала, что никакого серьезного разговора не получится. Но все происходящее казалось мне чрезвычайно возмутительным. Я каким угодно видела Александра, только не таким.
Он поднял голову.
— Знаете, я ведь никогда не пил. Но слышал от других, что это помогает. Облегчает, так сказать, душу. И, представьте себе, они были правы. Я выпил и уже совсем иначе смотрю на вещи.
— О чем вы говорите?
— Я говорю, мадам, что то, что меня поначалу оскорбило, сейчас кажется мне вполне приемлемым. Черт возьми, действительно! Если мы загнаны в угол, почему бы не использовать все средства, даже самые гнусные?
Для человека, выпившего две бутылки вина и заканчивающего третью, он говорил довольно связно. Только я все равно ничего не понимала.
— Что именно вас оскорбило?
— Предложение моих друзей.
— Они сделали вам оскорбительное предложение?
— Да. И, что всего удивительнее, я согласился. Так что, мадам, — он снова хрипло рассмеялся, — вам придется смириться с тем, что ваш муж станет грабителем.
— Грабителем?
— Да! Грабителем! А как иначе назвать нападение на почтовый дилижанс, которое мы завтра совершим вместе с доблестным графом де Буагарди?
Глаза у меня расширились, лицо побелело.
— Что вы говорите? Вы не в себе, Александр!
— Нет! Я в себе! Очень даже в себе! Я все отлично понимаю. Шуанам нужны деньги. А поскольку Республика, чеканящая их, состоит из узурпаторов, то это будет не ограбление, а конфискация. По крайней мере, так мне объяснил Кадудаль.
Наступило молчание. Я стояла, натянутая как струна. Чувство негодования дошло во мне до такой степени, что я не могла говорить. Да и поверить в то, что слышала, я не могла. Похоже, Кадудаль просто рехнулся. Грабеж — это грабеж, и все эти благородные разглагольствования — только флер, не больше. Я вообще впервые слышала, чтобы дворянина посылали грабить дилижанс, перевозящий деньги. Это было просто недоступно моему пониманию!
— Сударь, — сказала я холодно, — мне остается только надеяться, что у вас хватит здравого смысла не делать ничего подобного. Я говорю даже не о том, что это опасно…
— А о чем же? — язвительно спросил он, и я заметила, что все тело его напряглось.
— А о том, что это неслыханно, бесчестно!
— Черт возьми! Да разве вам не должно быть это безразлично?!
— Мне это не может быть безразлично, потому что ваше бесчестье — это и мое бесчестье.
— Вот как! Теперь мы заговорили о чести! О том, о чем даже понятия не имеем!
Я стала бледная как полотно. Столь жестоких слов я от него не ожидала. Он вскочил, широким шагом приблизился ко мне. Лицо его было искажено яростью, а руки сжимались в кулаки, будто он готов был ударить меня.
— Почему бы вам не порассуждать о том, что вы понимаете? Черт подери, сударыня! Занимайтесь тем, что вас касается. Ступайте на кухню, к детям. И не берите на себя труд судить о моем бесчестье.
— Александр! — взмолилась я. — Да вы просто с ума сошли!
— Судить об этом — тоже не ваша задача. Тысяча чертей! Какого дьявола вы вмешиваетесь? Кто вам позволил осуждать то, в чем вы ничего не смыслите? Уходите отсюда!
Я стояла, словно окаменев. Он раздраженно повторил:
— Уходите! У меня нет желания слушать ваши упреки!
Он говорил, как будто бил по лицу. Я сознавала, конечно, что он пьян и не владеет собой. Но эта грубая выходка превосходила все мыслимое. Только какой-нибудь грузчик мог вести себя так. То, что он переживает из-за возложенной на него постыдной задачи, — еще не причина, чтобы свое бешенство вымещать на мне! И такая обида поднялась у меня внутри, что я не выдержала: я упала на скамейку, закрывая лицо руками, и слезы хлынули у меня из глаз.
Александр переступил с ноги на ногу.
— Вы что, вознамерились брать меня измором?
Я не отвечала, задыхаясь от рыданий. Обида, стыд и жалость к самой себе не давали мне поднять голову. В душе я сознавала, что плакать перед ним — это значит проявлять слабость. Надо плакать в одиночестве, в своей спальне. Но остановиться я не могла, это было сильнее меня.
Он потоптался на месте, потом коснулся моего плеча. Возможно, за эти минуты он слегка протрезвел.
— Сюзанна, ну в конце-то концов…
— Ах, оставьте меня! — вскричала я со слезами, отбрасывая его руку. — Вы просто пьяный грубиян! И вы отвратительны мне сейчас!
Не глядя на него, я слышала, как герцог вышел. Я осталась одна. И, словно обессилев, снова зарыдала — теперь уже в голос, ибо знала, что меня никто не услышит и я могу спокойно облегчить свои обиду и отчаяние слезами.
Где-то в кустах еще пели соловьи. Прислушиваясь к ним, я с тоской подумала, что это была наша первая крупная ссора за почти три года знакомства. И как мы помиримся, я не представляла.
6
Это было нечто новое в наших отношениях. Впервые мы поссорились так, что я затаила в душе обиду на Александра. Все эти слова о кухне, детях, о том, что только он, герцог, знает, что я понимаю, а что нет, больно ранили меня. По моему представлению, так мог бы поучать свою жену какой-нибудь лавочник. Я не знала ни одного случая, когда бы аристократ заявлял, что место его жены — на кухне. Это было крайне странно. И обидно. Я не знала, как мы встретимся после той безобразной сцены.
Видимо, он тоже не знал, ибо не зашел ко мне объясниться или извиниться за грубость. Вечером следующего дня герцог вместе с графом де Буагарди и Гарибом ускакали в неизвестном направлении. Я не вышла, чтобы проводить их. Но меня, возможно, никто и не ждал.
Новое неприятное событие заставило меня забыть на время обо всем этом. У Маргариты случился такой приступ ревматизма, что она слегла в постель. Застарелый недуг поразил плечи, поясницу, руки, ноги, а пальцы у нее так просто скрючило. Я почти не отходила от нее, делала примочки, ванночки — все так, как советовал доктор д’Арбалестье. По его мнению, болезнь была не смертельна, но я порой впадала в такое отчаяние, что не могла сдержать слез. Только в подобные минуты я до конца понимала, как дорога мне Маргарита. Я любила ее, как мать. Я была без нее как без рук. Я так привыкла слышать ее голос, что не представляла себе, как можно обойтись без него.
Мое отношение ее немного тревожило.
— Вы не должны так переживать, мадам, — заявила Маргарита решительно. — Когда-нибудь я все равно умру, такова уж судьба, и вы должны примириться, что так и будет.
— Ах, лучше бы ты так не говорила!
— Нет. Вы должны привыкнуть, что когда-нибудь будете и без меня обходиться. Надо смотреть в глаза правде, милочка.
Это ее обращение «милочка» сломило меня. Упав на колени рядом с ее постелью, я взяла теплую большую руку горничной, прижала к щеке и залилась слезами.
— Боже мой, только не это! Хотя бы ты не оставляй меня!
Я только в эти дни заметила, как побелели ее волосы. Но она бодро ответила:
— Не бойтесь, мадам. Я еще чувствую в себе силы и еще десяток лет вам послужу.
Вскоре ей стало лучше, болезнь отступила, и, увидев, что Маргарита поднимается, я слегка успокоилась.
В ночь на святого Матфея во дворе раздался шум, и я, еще лежа в постели, поняла: вероятно, герцог вернулся. У меня была мысль спуститься вниз, но я раздумала. Я еще не забыла того, что между нами случилось, а лицемерить не могла. Упрекать его я тоже не хотела. Он же сказал, что не желает слушать моих упреков. А ничего иного я ему предложить не могла.
Я решила остаться в постели и только прислушивалась к тому, что происходит внизу. Тихий стук раздался в дверь.
— Войдите, — сказала я настороженно и села на постели.
Вошла Эжени и робко произнесла:
— Ваше сиятельство, господин герцог вернулся.
— Это он послал вас?
— Нет. Но я подумала, что вашему сиятельству необходимо знать. Мне кажется, господин герцог ранен.
Я вскочила на ноги, принялась искать домашние туфли, но от волнения никак не могла найти. Эжени услужливо помогла мне.
— Мадам не следует так волноваться. Господин герцог не умирает.
— Он шел сам? Его не несли?
— Нет, мадам. Он приехал сам, верхом.
Я уже стала понимать, что мой первоначальный испуг не имеет оснований. Если Александра и ранили, то он знал, куда отправляется. Он сам виноват, черт возьми! Он никого не слушает! А потом еще заставляет всех волноваться.
Жмурясь от яркого света, я вошла в гостиную. Александр сидел на стуле, сжимая зубы, рукав его сорочки был разорван, а чуть пониже плеча зияла рана. Она кровоточила. Над ней колдовал Гариб — похоже, промывал спиртом и готовился перевязывать.
Герцог повернул голову и посмотрел на меня.
— Вы поднялись? Мне жаль. Я не хотел вас беспокоить.
Я подошла ближе, отметив про себя, что этот сухой любезный тон отнюдь не врачует мои обиды.
— Как вы думаете, Гариб, доктор нужен? — спросила я.
— Нет, госпожа. Я знаю, что делать. Пуля прошла навылет, а это самое лучшее, чего можно желать.
— Да уж, — протянула я. — Надеюсь, вы правы.
Повернувшись, я посмотрела на Александра.
— Можно ли мне обратиться к вам, сударь?
— Вы спрашиваете, прямо как солдат на плацу.
— Вы не оставили мне выбора, сударь. Я теперь десять раз думаю, прежде чем спросить.
— Не играйте комедию. Спрашивайте.
— Каковы будут последствия этой авантюры? Могу я узнать, когда вам придется бежать в Англию?
Герцог сжал челюсти, в уголках его рта появились две белые черточки.
— Мне не придется никуда убегать. Самое большее, что может мне грозить — это визит жандармов. Да и они не смогут сделать ничего иного, кроме как допросить меня.
— Что ж, поздравляю. Стало быть, на этот раз все обошлось. Все главные тревоги теперь отложены до следующего безумства.
Наступило молчание. Потом я произнесла:
— В Париже сейчас проходит выставка.
— Что вы хотите этим сказать?
— Сударь, я хочу посетить эту выставку. Она может быть очень полезна для Белых Лип и нашего хозяйства.
— Вы можете ехать куда вам угодно, если у вас есть желание. В эти дни я буду слишком занят, чтобы уделять вам соответствующее внимание.
В сущности, я ожидала такого ответа. Теперь мне надо было, конечно, уйти, чтобы сыграть роль оскорбленной жены до конца. Но я вдруг почувствовала, что не в силах играть никакой роли. Наши отношения стали до неестественности сухими, официальными. Как у моего отца с его женой. Но для меня это было совершенно неприемлемо. К тому же, забывая о собственных обидах, я так волновалась за него. Он же снова был готов куда-то ехать, исполнять приказы тех командиров, которые сами преспокойно сидят в Лондоне. Разве это было правильно?
Уже дойдя до двери, я вернулась, опустилась на колени рядом со стулом Александра, взяла его за руку.
— Неужели вы не понимаете? — вырвалось у меня. — Ради кого вы рискуете жизнью? Ради кого забываете обо мне и сыне? Ради трусливых принцев? Да ведь ни один из них не набрался смелости лично явиться в Бретань и возглавить сопротивление. Они просто используют вас, вашу преданность, ваше благородство…
Он спокойно посмотрел на меня, и в его глазах уже не было того раздражения, что прежде.
— Я дал присягу, Сюзанна, — сказал он вполголоса. — И вы знаете, что два раза я не присягаю.
— Но те, кому вы присягали, возможно, вовсе не стоят вашей присяги!
— Это смело сказано, Сюзанна. Разговаривая с мужчиной, я бы даже сказал: так смело, что граничит с изменой.
Я была не в силах возражать, сдерживая слезы. В этот миг Гариб залил рану герцога йодом. Александр скрипнул зубами, превозмогая боль, а через минуту заговорил снова:
— Я часто думал об этом, Сюзанна. Возможно, вы и правы. Но я исхожу из других соображений.
— Каких? — спросила я сдавленным голосом.
— Должно быть, за полторы тысячи лет короли и принцы бывали разные: мудрые и глупые, смелые и трусливые. Но ни один из дю Шатлэ не изменил ни одному королю, каким бы скверным этот король ни был. Иные дю Шатлэ предпочитали умереть на эшафоте, но не изменить. Почему же вы думаете, что я впишу в тысячелетнюю историю рода дю Шатлэ новые страницы? Нет уж, если это когда-нибудь и случится, то начнется не с меня.
— Боже мой, но ведь это все слова… Взгляните на вещи реально! — воскликнула я, чувствуя, что во мне снова закипает возмущение. — Вас либо арестуют, либо убьют! Последнее наиболее вероятно! Неужели вы думаете, что республиканцы будут терпеть вас вечно?
— Если господа республиканцы считают мое существование на этом свете неуместным, я намерен сколь возможно долго докучать им этой неуместностью, а любая их попытка положить этому конец дорого им обойдется.
Ну, можно ли было разговаривать с человеком, преисполненным столь непомерной гордыни и безрассудства? Я покачала головой, понимая, что разговор опять не удался, хотя и был более мирным, чем предыдущий. Гариб тем временем закончил свою работу и скромно отошел в сторону. Александр пошевелил раненой рукой, потом взглянул на меня и, видимо, заметил в моих глазах слезы.
— Не плачьте, — сказал он неожиданно мягко. — Меньше всего на свете я хотел бы заставлять вас плакать. Поверьте, вовсе не моя вина в том, что я делаю. Я лишь подчиняюсь тому, что довлеет над любым человеком чести.
Я молчала, слишком хорошо зная, какой несчастной делает меня эта самая честь. Александр погладил меня по волосам. И сказал с легкой задумчивой печалью в голосе:
— Поезжайте в Париж. Вероятно, нам нужно некоторое время побыть в разных местах. Надо, чтобы все утряслось. Мы оба сейчас слишком раздражены. То, что я был вынужден недавно совершить, мне не слишком нравится. Я должен еще привыкнуть к мысли, что, следуя долгу, совершил ограбление. Я буду плохим утешителем в эти дни. Вы будете более счастливы, если уедете на это время в Париж.
Он поднес мою руку к губам, поцеловал и сразу же отпустил. Я поднялась и направилась к двери. Мне тоже было ясно, что на некоторое время нам нужно расстаться.
Я уже почти вышла, как Александр обернулся и знаком остановил меня.
— Еще одно, дорогая.
— Что?
— Простите меня за ту сцену в беседке. Единственное оправдание, если только моя выходка вообще заслуживает оправдания, заключается в том, что я был пьян. В этом причина моей грубости. Я вовсе не думал того, что говорил. Я очень вас люблю, вы же знаете.
Я вышла, ничего не ответив. Но, честно говоря, от этих слов мне стало намного легче на душе.
Мы не прощались перед моим отъездом. Мы вообще не виделись, свято исполняя договоренность отдохнуть друг от друга. Вечером следующего дня к крыльцу была подана дорожная карета. Вещи уже были собраны. Держа за руки близняшек, я вышла из дома, села в карету, и Люк захлопнул дверцу. Лошади тронулись с места, и голубые ели медленно поплыли за окошком.
Я взяла с собой дочерей, чтобы не скучать в дороге. Аврора от второй поездки в Париж отказалась, Филипп был еще слишком мал для такого путешествия. А четырехлетние близняшки были как раз кстати. Они и сами были чрезвычайно рады тому, что отправляются в путь. Они еще ни разу не бывали в городе, да еще таком большом, как Париж. Я много рассказывала им о нем; они слушали, открыв рты, как слушают сказку.
Совершенно неожиданно изъявила желание ехать со мной и Маргарита, еще не совсем оправившаяся от болезни. Я отговаривала ее, но она не слушала моих возражений и твердо уверяла, что ей стало значительно лучше. Я сдалась. Мне было ясно, почему она так стремится сопровождать меня. Она просто не хотела, чтобы повторилось то, что случилось во время моей предыдущей поездки в столицу. Она не знала, с кем я там имела дело, но хорошо понимала, что сбил меня с пути истинного именно Париж.
Я уезжала, очень надеясь, что за время моего отсутствия ничего дурного не произойдет, и я, вернувшись, увижу мужа целым и невредимым. Впрочем, я не намеревалась отсутствовать больше трех недель.
ГЛАВА ПЯТАЯ ПРАЗДНИК В ГРАН-ШЭН
1
Выставка, организованная осенью 1798 года на Марсовом поле в Париже, явилась событием очень новым и необычным в экономической жизни Франции. Четыре года, минувшие со времени прекращения робеспьеровского террора, для фермеров и землевладельцев были в целом удачными: по крайней мере, их никто не грабил, не казнил и не реквизировал у них зерно. Кроме того, и погода все эти четыре года была благоприятная. Богатые урожаи, собиравшиеся каждое лето, сбили цены на пшеницу, рожь, ячмень и усилили конкуренцию. Поэтому каждому хотелось заполучить место на выставке и показать себя в самом лучшем свете.
Сразу после своего открытия выставка была популярнейшим местом для встреч. Сюда съезжался весь новый буржуазный свет, здесь можно было видеть и министров, и директоров, и банкиров. Дамы приезжали просто для того, чтобы похвастать новыми нарядами или красотой. Здесь было множество лавок, торговцев, маленьких кафе. В часы пик из фонтанов лилось шампанское. Но мало-помалу интерес к машинам, пшенице и хлопку стал угасать; многим начало казаться, что все-таки удобнее собираться в гостиных, а после того, как погода испортилась и наступила дождливая пора, выставка и вовсе потеряла популярность и даже сошла с первых страниц газет. Помимо этого, становилось ясно, что она не принесет той пользы, на которую рассчитывали ее устроители. Что толку было хвастать достижениями хозяйства, если внешняя торговля была полностью парализована и масса французских продуктов не находила рынков сбыта? Война и блокада сильно затрудняли внешние торговые сношения. Торговый флот дальнего плавания сократился до одной десятой своей численности 1789 года. Связи с колониями были порваны, а многие колонии так и вовсе потеряны. Новые заморские культуры — картофель, корнеплоды, — которые могли бы стать перспективными, внедрялись медленно.
Но я в первые дни пребывания в столице была чрезвычайно занята. Я посещала выставку с чисто практическими целями: мне хотелось закупить изрядное количество клубней картофеля, чтобы на следующий год высадить их на какой-то части наших земель. Это улучшило бы наши дела. Да и климат в Бретани казался мне подходящим для картофеля. Кроме того, на выставке была масса вещей, которые меня интересовали. Я везде бывала, ко всему присматривалась. Результатом моих наблюдений стала закупка нескольких пар знаменитых йоркширских свиней, считавшихся лучшими, и коров шортгорнской породы — красной, белой и чалой масти, с широким массивным телом на коротких ногах. Мясо у таких коров было вкусное, нежное, с тонкими прослойками жира — «мраморное». Мне понравились и джерсийские коровы, маленькие, желто-бурой масти, а молоко у них было — почти как сливки, и я сама в этом убедилась. Таким образом, в хозяйстве Белых Лип ожидался переворот. В довершение всего я приметила очень хорошую чистокровную верховую лошадь английских кровей, и, подумав немного, купила ее для Жана. Его Нептун издох прошлым летом от карбункула.
Для того чтобы отправить всю эту живность в Белые Липы, потребовалось много денег, и, честно говоря, расходы, оказавшиеся выше, чем я предполагала, сильно меня напугали. Я на миг даже пожалела, что решилась на них. Но, в конце концов, все это было к лучшему.
Близняшки сопровождали меня повсюду, куда бы я ни пошла. Они чувствовали себя отлично в любом обществе и были так обаятельны, что всех сразу располагали к себе. Они вызывали самое искреннее восхищение хотя бы потому, что были похожи, как две капли воды. И, кстати, они часто этим пользовались, чтобы разыгрывать взрослых. Они могли бы обмануть любого, кроме, пожалуй, меня.
С того времени как мы приехали в Париж, коллекция кукол у моих дочерей увеличилась вдвое, а уж о нарядах, посуде и мебели для них и говорить не приходилось. Кроме того, мои дочери и сами любили наряжаться и им очень нравилось слышать слова о том, какие они милые и очаровательные. Они, к счастью, стали более дружны. Каждое утро я расчесывала их золотистые волосы, завивала и повязывала им банты — так вот они даже не возражали, если их причесывали одинаково.
4 октября у Вероники и Изабеллы был день рождения, а у Вероники — еще и именины. Им исполнялось четыре года. Я с утра была вынуждена уехать из дома по делам и, к несчастью, взяла с собой Маргариту. Близняшки, оставшись на попечении доброй и мягкой Эжени и убедив ее, что в день рождения им все позволено, сами распаковали приготовленные для них подарки, добрались до шоколада и конфет и, не долго думая, стали их есть. Когда я приехала, у них началась рвота, а чуть позже — желудочные колики. Я была вынуждена позвать доктора. День рождения прошел очень грустно, потому что и Вероника, и Изабелла, бледные, лежали в постели и пили горькую английскую соль — единственное лекарство в таких случаях. Мне было их так жалко, что я даже не стала упрекать их за содеянное и не сказала, что они вели себя глупо для своего возраста. Да и какой у них был возраст? Четыре года всего.
Оказавшись в Париже, я долго думала, надо ли мне встречаться с Талейраном. Приехать к нему я как-то не решалась. Мне мешало смущение. Я с трудом представляла себе, как мы встретимся. Но, с другой стороны, в конце концов он должен был узнать, что я в Париже. Не покажется ли ему грубым и неблагодарным то, что я не известила его даже запиской о своем приезде? Ведь он был моим единственным другом. Ему одному в Париже я доверяла. Словом, положение казалось мне затруднительным, и я долго не приходила ни к какому решению.
Дела Талейрана за те месяцы, что мы не виделись, значительно ухудшились. Он и раньше не мог сказать, что ему доверяют директоры: они все, как один, считали его взяточником, вором и изменником. Но летом разразился большой скандал, в котором был замешан министр иностранных дел. Слухи ходили самые противоречивые, ясно было только одно: Талейран потребовал у американских уполномоченных, явившихся в Париж устроить какое-то дело о навигации, огромную взятку, а американцы не поняли и не стали платить. Более того, они возмутились так, что предали гласности сие чудное дипломатическое предложение и пожаловались своему президенту. Президент Адамс, в свою очередь, протестовал специальной нотой — словом, скандал был громкий. Причастность Талейрана к нему не была доказана, вину свалили на мелких чиновников. Утверждалось, будто бы пятьдесят тысяч фунтов стерлингов из взятки предназначались в подарок директорам. Тем не менее они-то сейчас больше всего и раздували этот скандал. Я только улыбалась, слушая все эти сплетни. Они меня искренне забавляли. Да и с какой стати мне было печалиться по поводу того, что Республика себя компрометирует? Меня больше волновала судьба Талейрана. Но он, паче чаяния, удержал за собой пост министра, стало быть, опасаться больше не стоило.
Но однажды утром я узнала ошеломляющее известие о том, что Келли Грант, его любовница, «почти что жена», очень красивая и изящная и очень глупая, была арестована в доме Талейрана в Отейле. Ее будто бы подозревали в причастности к роялистскому заговору. Я узнала об этом, когда сидела на скамейке в Люксембургском саду. Рядом со мной играли в песке Вероника и Изабелла. Отложив газету, я подумала: «Надо навестить его. Будет крайне некрасиво, если я этого не сделаю. Я искала его, когда была в отчаянном положении, и он выручил меня. Нельзя оставить его сейчас, когда у него неприятности».
Я подумала об этом, подняла голову и, взглянув в конец аллеи, увидела его собственной персоной. «Надо же, как бывает!» — мелькнула у меня мысль. Впрочем, этого можно было ожидать: в полдень министр всегда прогуливался в Люксембургском саду.
Дамы и офицеры, которые заполняли сейчас аллею, поглядывали на опального министра с нескрываемым любопытством: как же он себя поведет? Он шел, будто не замечая этих взглядов, — высокий, величавый, слегка надменный, с абсолютно невозмутимым лицом. Одет он бы, как всегда, в черный сюртук, белую рубашку с манишкой и тугой высокий галстук, повязанный с необычайной элегантностью. Чуть склоняя голову, увенчанную густыми светлыми, зачесанными назад волосами, он приветствовал дам, некоторым целовал руки, но ни перед кем не останавливался и не спеша шел дальше, опираясь на трость. Сейчас, когда на него было устремлено столько глаз, его хромота была даже менее заметна, чем всегда.
Он еще не подошел ко мне, а я уже бессознательно улыбалась, наблюдая за ним. Когда Талейран приблизился, я с самой искренней улыбкой протянула ему руку, думая про себя: как я могла бояться встречи с этим человеком? Да ведь ни с кем я не чувствую себя здесь легче и естественнее, чем с ним!
Я жестом пригласила его сесть рядом. Он сел, положил ладони на поставленную перед собой трость.
— Ну, как вам нравится этот спектакль? — спросил он, иронично изогнув бровь.
— Вы имеете в виду это всеобщее любопытство?
— Это любопытство, милый друг, становится просто вселенским. Я стал первой фигурой в Париже, Ни у кого нет более запятнанной репутации.
— Но вы остаетесь у власти. Я поздравляю вас с этим. Полагаю, больше нечего желать.
Он вздохнул. Потом быстро спросил:
— Вы слышали об этом деле с американцами?
— О, конечно, — сказала я с улыбкой.
— Что поделаешь — глупые люди! Дикари! Пуритане! Как развратила их Республика! Нет, я решительно предпочитаю иметь дело с европейцами. Они, по крайней мере, понятливее.
Я едва сдерживала смех.
— Меня тоже все это весьма забавляет, — сказал Талейран. — Но в последнее время как-то уж слишком много стало поводов для смеха. Этот Бонапарт… Вы себе представить не можете, до чего он меня измучил!
— Он зовет вас в Турцию? Хочет, чтобы вы помогали ему завоевывать Египет в Константинополе?
— Да.
— Но ведь вы обещали ему это.
Талейран покачал головой.
— Ах, Сюзанна, я ведь обещал только то, что он хотел от меня слышать. Не настолько же он наивен, чтобы предполагать, что я действительно отправлюсь с дипломатической миссией на край света. Вы слышали что-нибудь о турках, милая моя? Они под сердитую руку сажают посланников в Семибашенный замок и держат их там годами. Я не считаю себя человеком неискусным и неловким, но моей ловкости явно не хватит на то, чтобы убедить султана в том, что Бонапарт, отбирая у него Египет, хочет ему добра.
— И как же вы оправдываетесь перед генералом?
— Я пишу ему, что слишком долгое время был вдали от Отечества и не хотел бы покинуть его вновь. Впрочем, Бонапарт сейчас лишен возможности успешно возражать мне.
— Да, он слишком далеко…
Переменившись в лице, я серьезно спросила:
— Что это за слухи о мадам Грант, Морис? Это правда?
— Да.
— О, я так вам сочувствую. Надеюсь, будет какая-нибудь возможность помочь ей.
— Я уже попытался сделать это.
— Как?
— Я обратился с открытым письмом к Директории. Я написал, что мадам Грант глупа до крайней степени вероятия и не в состоянии ничего понимать, а тем более участвовать в заговоре. Полагаю, они освободят ее.
Усмехнувшись, он добавил:
— Я написал им, что люблю ее. Я написал это, хотя и знал, как это их позабавит. Я, конечно же, понимаю, что то, что они совершили с Келли, — это лишь для того, чтобы досадить мне.
Злость и досада прозвучали в этих словах. Я знала, что Талейран не в лучших отношениях с директорами, но сейчас поняла, что между ними, пожалуй, существует ненависть. Похоже, они больно ранили Талейрана, когда арестовали Келли Грант. Несмотря на ее пресловутую глупость, он был привязан к ней. Он даже щадил ее и скрывал свои похождения. Кроме того, еще в мае, собираясь уезжать, я слышала, что Келли беременна. Ей, наверное, скоро рожать, а ее посадили в тюрьму.
Мягко коснувшись рукой локтя Талейрана, я проговорила:
— Я очень надеюсь, Морис, что все обойдется и что мадам Грант не причинят там особых неприятностей. Но, Боже мой, как мне жаль, что все это доставило вам столько беспокойств. И то, что вы написали директорам, делает вам честь. Я знаю, как вы привязаны к Келли. Она такая наивная и простодушная.
— Вы, пожалуй, первая, кто не говорит о ее самом главном качестве.
— Я никогда не смеюсь над этим, Морис. Тем более в такие минуты.
Некоторое время прошло в молчании. Талейран, казалось, приходил в себя, пытался вернуть тот обычный облик невозмутимого и важного министра иностранных дел, какой имел только что. Потом его взгляд упал на Веронику и Изабеллу, которые, забыв обо всем, строили башни из песка.
— Кто эти очаровательные дамы?
— Мои дочери, — сказала я с нескрываемым удовольствием.
— Сколько им?
— Четыре года.
— Прелестные дети… Как я полагаю, незаконнорожденные?
— Это что, упрек?
— Нет. Кого я могу упрекать в этом, если сам грешен?
Улыбаясь, я сообщила ему, что близняшки, хотя и были незаконнорожденными, теперь удочерены Александром. Талейран задумчиво разглядывал малышек. Услышав имя Александра, он спросил:
— Ну, а как же ваши семейные дела? Все наладилось?
— Если бы… Мой муж готов в любую минуту уничтожить то, чего я добивалась целых шесть месяцев.
Талейран убежденно произнес:
— Вы вышли замуж за безумца, это я сразу понял. К сожалению, очень часто женщины любят именно тех, кто ими меньше всего дорожит. Вероятно, в этом есть смысл. Всегда дороже ценишь то, что трудно дается.
Быстро и пытливо взглянув на меня, он спросил:
— Надеюсь, иного рода неприятностей не было?
Румянец разлился у меня по щекам под влиянием этого взгляда. Привыкнув быть искренней с Талейраном, я чуть не рассказала ему обо всем. К счастью, доводы разума оказались сильнее. Помедлив мгновение, я сказала, что все обошлось.
— Я так и думал, — сказал он с улыбкой. — Иначе бы вас не отпустили снова в Париж. Что ж, если когда-нибудь вам понадобится моя помощь — безразлично, какого рода…
Эти слова прозвучали так двусмысленно, что я не сдержала смеха. Нет, я и сейчас не раскаивалась в том, что совершила. Общаться с Талейраном мне было очень приятно. Улыбаясь вместе со мной, он закончил:
— …знайте, что я всегда к вашим услугам.
— Ах, Морис, я каждый день молюсь о том, чтобы мне не довелось вас больше беспокоить.
Моя рука оказалась в его ладони. Он поднес ее к губам, поцеловал мои пальцы.
— Милая моя, вы замечательная женщина. Я просто отдыхаю, разговаривая с вами.
— Вы мне льстите. Мне ли не знать, сколько у вас приятельниц. Вы разве забыли мадам де Сталь?
— Мадам де Сталь! — повторил он насмешливо. — Да ведь это приятель, а не приятельница.
— Как это «приятель»?
— Именно так, Она должна была родиться не в юбке, а в панталонах. Но в остальном она — настоящий мужчина. А я, друг мой, так грешен, что более всего ценю в женщине именно женщину.
Отпуская мою руку, он сказал:
— Когда я с вами, я часто забываю свое основное правило.
— Какое?
— То, что язык человеку дан для того, чтобы скрывать свои мысли. Вы умеете слушать.
— Вот это действительно ценный комплимент! — сказала я смеясь. — В устах Мориса де Талейрана это — высшая похвала.
— Вы правы.
Он еще раз поглядел на близняшек и вдруг спросил:
— Вы не обидитесь, если я еще раз изменю своему правилу?
— Вы хотите сказать что-то нескромное?
— Весьма нескромное. Ужасающе нескромное. Я хочу сказать, что лучше вам держать этих маленьких барышень подальше от глаз Клавьера.
— Почему?
— Потому что он захочет причинить вам массу неприятностей, если узнает, что это его дочери. А не узнать этого он не сможет, если увидит их.
Слова Талейрана зародили во мне тревогу. Меньше всего на свете я хотела бы иметь какие-то дела с Клавьером. Я была бы весьма довольна, если бы не встретила его больше никогда. Возможно, я действительно совершала ошибку, вывозя детей в людные места. Клавьер может использовать все, чтобы досадить мне. Даже моих дочерей. А я не хотела ни малейших неприятностей.
Мы с Талейраном стали прощаться, весьма довольные этой встречей. Я еще раз высказала надежду, что мадам Грант будет освобождена. Потом спросила — осторожно, почти робко:
— Морис, может быть, вам нужны деньги?
Наступило молчание. Он внимательно смотрел на меня, но не спешил отвечать. Тогда я поспешно сказала:
— Я ведь понимаю, как трудно бывает… когда нужно иметь дело с директорами. А тем более чего-то просить у них. Я могу помочь. Я буду просто счастлива, если хоть чем-то смогу отблагодарить вас.
— Я помогал не потому, что ждал благодарности, а…
— Да, я знаю! И я тоже. Я тоже хочу помочь из чувства дружбы. Если вы доказали свое расположение ко мне, почему я не могу сделать то же самое?
Он склонился передо мной, все еще улыбаясь. Не зная, как расценивать его молчание, я протянула ему руку. Он поцеловал ее, а потом, взглянув на меня, мягко произнес:
— Благодарю вас. Мне известно, что самое трудное, — это любить своих друзей до глубины своего кармана.
— Так каков же ваш ответ?
— Ответ один: благодарю. А деньги, милый друг, мне не нужны — по крайней мере, от вас. Директоры отдадут мне мадам Грант без всяких денег. И я даже полагаю, что когда-нибудь сам предъявлю им счет.
2
Я провела в Париже две недели, и за это время закончила все дела, какие только здесь у меня были. Выставка близилась к завершению. Покупки давно были отправлены в Белые Липы. Даже Келли Грант и та была отпущена на свободу, а ее арест объявили недоразумением. Я посетила дом Талейрана два или три раза, мы с Морисом приятно побеседовали, он подружился с моими дочками, а мадам Грант весьма неплохо относилась ко мне, но она была уже почти на сносях, и ей было не по силам развлекать гостей. Я решила, что больше не буду ездить к ним, чтобы не доставлять ей беспокойства. Заранее попрощавшись с Талейраном и объявив о своем скором отъезде, я ехала из предместья Отейль домой, имея намерение уже завтра отправиться в Бретань.
По пути мне встретился оружейный магазин. Как-то совершенно неожиданно я подумала о том, что не купила никакого подарка Александру. А ведь я ехала мириться с ним и жить с ним душа в душу. Надо, чтобы он понял, что я помнила о нем в Париже. Я приказала кучеру остановиться, вышла и отправилась в магазин, чтобы выбрать для Александра какой-нибудь подарок.
Мне приглянулся английский карманный пистолет, так называемый «терцероль», что по-итальянски значит «ястреб». Курок у него был расположен не справа, как обычно, а посередине. Я попросила хозяина выгравировать на рукоятке дарственную надпись и прислать пистолет ко мне домой — желательно к завтрашнему утру. В этот миг чья-то рука властно тронула меня за локоть.
Удивленная столь бесцеремонным обращением, я оглянулась и увидела графа Ле Пикара де Фелиппо.
Я уже открыла рот, чтобы выразить возмущение, но тут мне бросился в глаза изможденный вид графа. Ле Пикара словно с креста сняли: он осунулся, побледнел, черты лица заострились до невозможности. Должно быть, он болен, решила я в замешательстве.
— Вы снова здесь? — спросил он вполголоса.
Я заметила, что от напряжения капли пота выступили у него на лбу. Похоже, он собирался устроить мне такую же сцену, как тогда, в мае.
— Почему бы мне не быть здесь?
— Вы сами отлично знаете, что порядочная женщина не должна поступать так, как поступаете вы.
— Я не совершаю ничего предосудительного. Я вошла в лавку и купила пистолет… Кто позволил вам играть роль моей дуэньи?
Он в упор смотрел на меня, его глаза пылали сухим блеском.
— Будьте уверены, сударыня, что все, что известно мне, станет известно и вашему мужу.
Щелкнув по-военному каблуками, он направился к выходу. Минуту я стояла неподвижно, раздумывая над всеми этими нелепостями; потом я нашла, что Ле Пикар, по всей видимости, не шутил. Неужели он действительно отправится в Белые Липы и сообщит Александру о Клавьере — и правду, и неправду? Это была бы катастрофа! Я бросилась к двери, намереваясь задержать полковника, но его уже нигде не было видно.
— Гражданка! — окликнул меня приказчик. — Гражданка, вы не сообщили своего адреса! Или вы уже забыли о пистолете?
Я вернулась, машинально продиктовала приказчику адрес. Настроение у меня после этой встречи было испорчено. «Только-только все начало налаживаться, — подумала я угрюмо, — я возвращалась домой, намереваясь помириться с герцогом, и вот — новая проблема! Они все — и Анна Элоиза, и Поль Алэн — просто живьем съедят меня, если узнают!»
И все-таки я решила поскорее вернуться домой, чтобы, по крайней мере, присутствовать на поле сражения, если боевые действия начнутся и половина дома дю Шатлэ объявит мне войну.
3
До сих пор наступление осени, надвигающейся, будто лесной пожар, с севера, было едва заметно, и далекие склоны холмов были едва подернуты розово-рыжим отблеском. Внезапно пожар настиг и нас. Мы ехали, осененные пунцовой листвой кленов, а когда выезжали из кроваво-красного подлеска на поляны, то оказывались словно под пурпурно-розовым куполом роскошного собора, сквозь который косо пробивались солнечные лучи и который сиял тысячами огней, как изумительной красоты витраж.
Была самая середина октября, но стояла необычная жара, почти как в августе. Вероника и Изабелла, сидевшие рядом со мной в карете, совершенно разомлели и были сонные от тепла и солнца. Дорога, пожалуй, была чересчур утомительной для четырехлетних девочек. Я поправила чулочки на обеих близняшках, несколько раз обмахнула их носовым платком, но, конечно, не сделала им прохладнее. Вот дома — там можно будет их выкупать в чуть теплой воде. Они, кстати, обожают купаться.
Я бросила взгляд на Эжени, сидевшую в самом углу. Она мне очень помогла во время этой поездки. Мало того, что эта молодая бретонка исполняла обязанности горничной, она еще и стала настоящей нянькой для близняшек. И кажется, сама полюбила их, хотя они и донимали ее непослушанием и шалостями. Однажды утром Вероника, когда пила молоко, обожгла язычок, и я заметила, как нежно Эжени ее успокаивала. Словом, к этой девушке, которую я раньше считала немного диковатой и не слишком умелой, я вполне искренне привязывалась.
«Надо найти ей жениха и дать приданое», — подумала я, полагая, что это первейшая моя обязанность. Сделать это будет нетрудно, надо только найти время. Эжени было лет девятнадцать; сирота, взятая в замок из деревни, она переняла у господ кое-какие манеры и научилась говорить по-французски. Она и собой была недурна; хрупкая, кареглазая шатенка с длинными ресницами. Невысокая, но хорошо сложенная. Словом, надо заняться ее судьбой — она это заслужила.
Был жаркий полуденный час, когда карета въехала во двор перед замком. Я никого не предупреждала о приезде, поэтому нас встретили лишь две слегка удивленные служанки. Обычно в такое время все здесь отдыхали. Приложив палец к губам, я шепотом приказала отнести Веронику и Изабеллу в дом, но не будить их: пусть отдохнут. Сама быстро побежала по лестнице наверх в детскую. Мне безумно хотелось увидеть маленького Филиппа.
Я осторожно вытащила его, сонного, из колыбели, прижала к себе, радостно ткнулась лицом в теплую шейку ребенка. Он только сонно хлопал длинными загнутыми ресницами, глядя на меня. Шепча слова любви и нежности, я осыпала поцелуями его белокурую головку, розовые щечки и пяточки, маленькие пальчики и ручки в перетяжках, наслаждаясь молочным запахом его кожи и теплотой этого маленького существа. Голубые глаза Филиппа были как два озера. Он сперва доверчиво улыбнулся мне, потом зевнул и припал головкой к моему плечу.
— Ты спать хочешь? — прошептала я, снова укладывая его. — Спи, мой маленький, мой ребенок! Спи и расти побыстрее!
Я вышла и в коридоре встретила Элизабет.
— Вы знаете господина Ле Пикара? — спросила я.
— Да, мадам, — ответила она сдержанно.
— Он здесь не появлялся? Не приезжал?
— Нет, мадам.
Я вздохнула с облегчением. Потом спросила:
— А господин герцог? Где он?
— Он как будто читал книгу в беседке, мадам.
Я потратила несколько минут, чтобы взглянуть в зеркало и оценить, достаточно ли хорошо выгляжу, а потом побежала в парк разыскивать мужа. Увидеть его мне хотелось невероятно. Я была счастлива уже потому, что он дома. А его раненая рука? Как она?
Помня любимые места Александра, я знала, где надо его искать. Через рощу к беседке совсем недавно проложили дорогу, мощенную кирпичом. Я прошла по венецианскому мостику через ручей, и теперь мне уже был виден Западный грот, сложенный из розового гранита и окруженный зарослями хрупких деревцов с ажурными ветвями и перистыми шершавыми листьями, окрашенными осенью в багряный цвет. Здесь бил хрустально чистый источник, распадающийся на три перекликающихся между собой ручейка, которые с журчанием неуловимо исчезали под беспорядочно нагроможденными камнями. Я шла среди густой высокой травы, совсем как летом, и увидела Александра.
Было похоже, он спал, закрыв рукой лицо. Лучи солнца слабо пробивались сквозь листву и бликами плясали по траве. Муравей полз по рубашке Александра, срывался и снова полз. В волосах герцога запутались травинки. Чуть поодаль лежала раскрытая книга. Ветер шевелил ее страницы.
Я взглянула: это были записки маркизы де Севинье. Улыбаясь, я склонилась над мужем, длинной травинкой пощекотала ему щеку. Он отмахнулся, будто прогонял муравья. Мне так хотелось услышать его голос, что я наклонилась, намереваясь разбудить его поцелуями, но, едва лишь мое дыхание коснулось его, он вздрогнул и наши глаза встретились — близко-близко, так, что, кроме глаз друг друга, мы ничего не видели.
— Боже праведный… Сюзанна?
Я кивнула, улыбаясь и покусывая травинку. Он обнял меня за талию, потом осторожно отобрал травинку и нежно поцеловал в губы.
— С приездом, дорогая. Знаете, что удивительно…
— Что?
— Я думаю о вас. Вы мне снились. Я открываю глаза и вижу вас во плоти и крови. Это материализация мысли, прямо как у Калиостро!
Мы оба рассмеялись, чувствуя себя счастливыми. Я подумала: а что было бы, если бы я так и не встретила Александра? Ну, если бы я в тот сентябрьский день не увидела его на берегу? Как пуста была бы жизнь! Мне казалось сейчас, что до Александра я и не жила вовсе.
— Александр, любовь моя, — прошептала я, припадая щекой к его груди. — Что у вас с рукой?
— Уже все в порядке. Не думайте об этом.
— Вы… вы, надеюсь, на меня не сердитесь?
— За что?
— Я тогда… была так несдержанна. Так недостойно вас упрекала.
Он погладил мои волосы.
— Мне кажется, просить прощения следует мне, а не вам.
— Какие мы все-таки любящие супруги, — улыбнулась я.
Он долго смотрел на меня, не произнося ни слова. Взгляд его был нежный, мягкий, зачарованный.
— Как я люблю вас, cara… Я скажу вам — не потому, что вы моя жена, а потому, что это правда: я не встречал такого благородного совершенства черт и линий, как у вас. Этот чистый лоб… — прошептал он, осторожно обводя округлость моего лба. — Эти чудные ресницы в полщеки, это чистое сияние глаз, глубина взгляда… Шелковые волны волос вокруг изящного овала лица… Я такой представляю себе мадонну — такой же ясной и светлой, как вы.
— Я земная, Александр. Во мне нет ни капли небесного.
— Я знаю, что вы земная. Я, как мужчина, это очень хорошо чувствую.
Мне были приятны эти слова. Тем более что я уже давно их не слышала. Хорошо, что три года, прожитые в браке, не отучили Александра от ласковых слов, которые нужны женщине, как воздух. Не все супруги так поступают. Да и не у всех такие отношения, как у нас. Я невольно подумала о своем отце и мадам Сесилии. Любопытно было бы узнать, что заставило их пожениться?
Александр погладил меня по щеке, возвращая к действительности, и неожиданно спросил:
— Вы хотели бы иметь еще ребенка, Сюзанна?
— Да, — прошептала я, не раздумывая ни секунды. — И мне приятно, что вы первый заговорили об этом.
— А как же наше неопределенное будущее? — чуть поддразнивая, спросил он. — Мое безрассудство? То, что я готов рисковать и собой, и вами? То, что меня могут арестовать?
— Вы зря шутите этим, — сказала я серьезно. — Все это возможно, но мне кажется, что ребенок ни при каких обстоятельствах не может быть лишним. Он приносит радость, а не неприятности. С годами я это поняла. И мне…
— Что?
— Мне бы так хотелось, чтобы у нас была дочка.
Подавшись вперед, он схватил меня в объятия, опрокинул на траву и, смеясь, долгим поцелуем прильнул к губам.
— Дочка? Мне бы хотелось еще одного сына.
— Нет-нет, — сказала я, защищаясь. — С сыновьями одно беспокойство!
Он осторожно стаскивал мое платье с плеч. Его руки мягко сжали мою грудь. Он обнял меня сильнее, и я почувствовала, что он возбужден, но, шутливо сопротивляясь, воскликнула:
— Вы напрасно так спешите! Сегодня все равно ничего не получится!
— В данный момент я преследую не только эту цель, — прошептал он, зарываясь лицом в кружева моего корсажа.
Он снимал с меня нижнее белье, и его руки были так горячи, что мне казалось, ткань плавится под его прикосновениями — плавится и тает. Сердце у меня застучало чаще, во рту пересохло, и я трудно глотнула, когда он чуть-чуть приподнял мои бедра, снимая панталоны. Его пальцы медленно двигались, добираясь до самого чувствительного места между бедрами; я часто-часто дышала, и внутри у меня становилось влажно от одних мыслей о том, что сейчас произойдет. Я согнула ноги в коленях, чтобы сильнее открыться ему навстречу. Он коснулся меня там, внутри; каждая клеточка моего тела наливалась мучительно-сладкой страстью, и, внезапно подавшись вперед, я сама рванула пояс его кюлотов, прошептав пересохшими губами:
— Хватит! Я уже готова… Пожалуйста!
Он снова опрокинул меня на спину, с силой завел мне руки за голову, так, что я оказалась в положении насилуемой.
— Теперь вы торопитесь, госпожа герцогиня? Ну, держитесь! Как бы вам не вылететь из седла!
Я была так возбуждена, что не могла воспринимать его шуток, изнывая от ожидания. Он не опирался на локти, как обычно, а лег на меня, удерживая мои руки за головой, прижавшись лицом к моему плечу. Я уже ощущала его на какой-то дюйм в себе и ожидала, что он будет входить медленно, продлевая обоюдное наслаждение, но он погрузился в меня яростно, одним сильным толчком проникнув до боли глубоко, и его последующие движения были так резки, быстры и безжалостны, точно он хотел растерзать меня. Я откликнулась на эти усилия почти тотчас же сладкими спазмами лона; возбудившись снова, задыхаясь от ожидания, я сомкнула ноги у него на бедрах и сильно сжала его изнутри — теперь мы кончили вместе. Он замер глубоко во мне, и мне физически больно было думать о том, что скоро он выскользнет из меня, уйдет, мы разъединимся и не будет этого восхитительного ощущения полноты внутри.
На этот раз я первая пришла в себя, прошептав:
— Мне так плохо было там, в Париже! Без вас! Я просто изголодалась!
Он не отвечал, прижимая мою ладонь к своим губам. Я проговорила, не особенно, впрочем, настойчиво:
— Надо идти… Нас могут увидеть.
— Кто?
— Анна Элоиза пошлет за нами служанку и…
Я не договорила. Мы оба понимали, что уходить нам не хочется.
Потом он негромко спросил, хороши ли были мои дела в Париже. Я немного рассказала Александру о выставке, но разговор оставался вялым: мы были слишком полны друг другом, чтобы всерьез задумываться о таких скучных вещах, как коровы и свиньи. Он прошептал, с бесконечной нежностью прослеживая кончиками пальцев линию моих губ:
— Есть две вещи, которые я вам еще не сказал.
— Какие?
— Семь дней назад было три года, как мы поженились.
— Я помню.
— Я приготовил вам подарок, Сюзанна: жемчужные серьги и подвески. Дома вы их увидите.
— Спасибо… — Потом, обрадованная, я воскликнула: — Я ведь тоже кое-что для вас купила! И дома вы тоже это увидите.
Он обнял меня, поцеловал в волосы.
— А вторая новость, Александр?
— Графиня де Лораге приглашает нас на небольшой бал. У нее день рождения.
— Вот как? Я рада.
— Так мы пойдем?
— Почему же нет? Я люблю Констанс. К тому же это единственная возможность потанцевать. Мой дорогой, ведь я ни разу еще с вами не танцевала!
— Да, — сказал он, — революция изменила все…
— Только не мою любовь к танцам.
Подумав, я простодушно добавила:
— Мне кажется, даже когда мне будет шестьдесят, я буду любить танцевать. И, подумать только, я столько лет провела даже не слыша музыки!
Улыбаясь, он сказал:
— Хорошо, мы пойдем, только с одним условием…
— Каким?
— Не вздумайте там чересчур кокетничать и кружить головы. Я так привык, что вы моя, что невольно буду ревновать.
Я прошептала — нежно, как только могла:
— Мой друг, вам не придется отвыкать. Я ваша. Я только ваша. И всегда буду такой.
4
День рождения Констанс был 11 ноября — в день святого Мартена, когда повсюду заканчиваются посевы озимых. Считалось, что в этот день начинается зима: «Si l’hiver va son chemin il commencce à la Saint-Martin» — «Если зима идет своим путем, она начинается на день святого Мартена».
Моей подруге исполнялось двадцать девять лет. Чета де Лораге не слыла богатой, и обычно приемов супруги не устраивали, но в этот раз граф, вероятно, решил хоть чем-то развеять тоску Констанс. Она была безутешна после потери ребенка. Возможно, Пьер Анж надеялся развеселить ее. Во всяком случае, на праздник было приглашено очень много, по нынешним меркам, гостей. Хотя сам граф в шуанском движении не участвовал, в Гран-Шэн, его поместье, прибыло много известных шуанов — граф де Бурмон, маркиз де Ларошжаклен, даже граф де Фротте. Предстояло богатое угощение, много музыки и танцев — словом, почти как в старые времена.
К сожалению, в назначенный день с самого утра зарядил дождь, не прекращавшийся ни на минуту. «Вероятно, — подумала я, садясь в карету, — иллюминации не будет».
— Ничего, — сказал Александр, словно утешая меня. — Танцуют, насколько мне известно, под крышей. Кстати, а что именно сейчас танцуют?
— Вальс, — сказала я, гордясь тем, что побывала в Париже и поэтому знаю толк в моде.
— Никогда даже слова такого не слышал.
— Это очень неприличный танец: танцуя, партнер прижимает к себе партнершу. Многих это шокирует. Но вы не бойтесь. Вероятно, в Гран-Шэн ничего подобного не будет. Вероятно, все будет, как раньше: контрданс, павана, котильон…
Я вспомнила об Авроре, и тревога отразилась у меня на лице.
— Александр, как вы думаете, это прилично — позволить графу де Буагарди сопровождать Аврору?
— Не знаю, дорогая. Мне кажется, ничего дурного в этом нет.
— Вы… вы ручаетесь за него?
— Да. Он благородный человек.
Помолчав, он с иронией добавил:
— А вот можете ли вы ручаться за Аврору? Вы только поглядите, как она улыбается! Она не знает еще, что мужчины, даже самые благородные, — слабые существа в этом отношении. Разве вы не объясняли ей этого?
Я не ответила, но в душе подумала, что он, пожалуй, прав. Мне тоже казалось, что Аврора слишком маняще улыбается и слишком кокетничает. В сочетании с ее прелестной внешностью это не так уж безопасно. Я не сомневалась, что несколькими днями раньше она устроила целое соревнование между Полем Алэном и графом де Буагарди, и призом в этом состязании было право сопровождать ее на вечер в Гран-Шэн. И виконт, и граф заглядывались на нее. Она отдала предпочтение Буагарди… Словом, она отчаянно интриговала и кокетничала, эта шестнадцатилетняя Психея.
Мы приехали одними из первых. Граф де Лораге встречал гостей на крыльце дома. Меня он приветствовал сердечно, как всегда, но, задержавшись на миг и оглянувшись на мужа, я вдруг заметила, как холодно, если не сказать враждебно, раскланялись друг с другом граф и герцог. Лицо Александра было бесстрастно и холодно. Лицо Пьера Анжа отразило что-то весьма похожее на гнев.
Недоумевая, я прошла в комнату Констанс. Ей заканчивали делать прическу, и служанка завивала последний рыжий локон графини. Констанс оглянулась, увидела меня и вся засияла:
— О, как я рада! А ваш супруг? Он приехал?
— Да.
— Слава Богу!
— Разве вы опасались, что он не приедет? Что вам дало повод так думать?
Я в этот миг про себя заметила, что Александр никогда не бывает с визитами в Гран-Шэн. Раньше я не обращала на это внимания.
Констанс слегка смутилась.
— Да нет, просто… просто эти мужчины всегда так заняты. А в наше время — особенно.
Я вспомнила, что пока не сказала самого главного, и принялась поздравлять Констанс. Потом раскрыла перед ней бархатный футляр и показала наш подарок — бирюзовое ожерелье.
— Оно так пойдет к твоим глазам, дорогая.
— О, спасибо! Я надену его сегодня же!
Она была очень хорошенькая сейчас — веселая, улыбающаяся, с сияющими синими глазами и пышными рыжими волосами. Я крепко обняла ее за плечи:
— О, Констанс, я так люблю тебя! Ты моя единственная подруга!
Она сказала мне то же самое, потом восхищенно заметила, что платье на мне сегодня отличное — такое изящное, узкое. И цвет чудесный — сочетание медового с черным. Это действительно был яркий, открытый бальный наряд, со шлейфом и смелым декольте. В золотистых волосах у меня сияла бриллиантовая диадема.
Я спросила, стараясь выражаться осторожнее:
— Констанс, ваш муж и мой — они, надеюсь, не в ссоре?
Она вздрогнула так, будто ее пронзил электрический ток. И потихоньку высвободила свои пальцы из моей руки. Уже что-то подозревая, я настороженно смотрела на нее. Мне пришло в голову, что здесь кроется какая-то тайна — нечто такое, что произошло между семейством де Лораге и герцогами дю Шатлэ еще до моего появления в этих местах. Но, к моему удивлению, когда графиня заговорила, голос ее прозвучал ровно:
— Что навело вас на такие мысли, дорогая?
— Я заметила, как холодно они приветствовали друг друга, Констанс. Холодно или даже, скорее, враждебно. И я вдруг подумала…
— Что?
— Александр никогда не ездит к вам, и вы его тоже не приглашаете, а ведь мы соседи!
Графиня как-то болезненно улыбнулась.
— Но вот сейчас… сейчас мы пригласили вас обоих, Сюзанна. Возможно, раньше это была невежливость с нашей стороны, но…
— Оставим этот разговор, — сказала я поспешно, понимая, что рассказывать она не намерена. — Вы не испытываете желания быть откровенной, а я уже сожалею, что испортила вам настроение в такой день. Улыбнитесь, дорогая, и простите меня. Я еще раз вас поздравляю.
Она ничего не ответила и даже не попыталась задержать меня, когда я выходила.
Проходя через анфиладу комнат, я услышала голосок Авроры и слегка умерила шаг. Моя девочка стояла, чуть упираясь на перила лестницы; узкое золотистое платье изящно обрисовывало ее фигурку, фиалковые глаза сейчас сияли как звезды. На две ступеньки ниже стоял граф де Буагарди, сжимая ее руку, и смотрел на Аврору полунасмешливо-полуочарованно.
— Не стыдитесь признаться, милейшая мадемуазель д’Энен! Ответьте! Долг за проигранное пари — святейшая обязанность! Признайтесь, кто вам больше всех нравится на этом празднике?
Он словно и поддразнивал ее, и любовался ею.
— Так кто же? Поль Алэн дю Шатлэ?
— Может быть! — выпалила она дерзко.
— Так я и думал! Ну, а кто не нравится? Не забывайте, вы должны сказать правду!
— Кто не нравится?
— Да. Кто?
— Вы! — воскликнула она, сверкнув глазами. — Вы ужасный человек, господин де Буагарди!
— Весьма польщен, дорогая. А что вы скажете, если…
Какой-то мужской голос окликнул графа, и Буагарди развел руками:
— Прошу прощения, мадемуазель. Чем вы очаровательнее, тем больше я сожалею, что еще существуют дела, способные отвлечь меня от ваших чар.
Я покачала головой, слушая этот разговор. Аврора рассеянно спустилась по лестнице и присоединилась к небольшому кружку незамужних девушек, таких, как она. Подслушанная мною беседа оставляла двоякое впечатление. На первый взгляд в ней не было ничего предосудительного — легкий флирт, так свойственный молодости, легкомыслие и ирония. Но меня не покидала мысль, что граф слегка забавлялся Авророй. Уж слишком большой он насмешник. Хотелось бы знать, что у него на уме! «Надеюсь, — подумала я, — он отдает себе отчет в том, что такой девушке, как Аврора, сперва делают предложение, а потом говорят о любви».
Впрочем, я совершенно точно знала, что Аврора неравнодушна к Полю Алэну, стало быть, мои мысли должны быть направлены в другое русло.
Праздник во всех отношениях был удачным. Веселая, общительная, улыбчивая, Констанс своей теплой улыбкой дарила радость всем окружающим, умела каждого гостя окружить вниманием и заботой, вносила оживление и придавала приятность любой компании. Сегодня она по праву была королевой бала. Сперва я помогала ей занимать гостей, но потом все пошло само собой, и даже необходимость в постоянном присутствии хозяйки отпала. Приглашенные вошли во вкус и уже развлекали себя сами.
После девяти вечера начались танцы. Меня пригласил граф де Фротте, знаменитый роялист из Нормандии; пройдя с ним тур котильона, я вспомнила, что больше всего мне хотелось бы хоть раз потанцевать с мужем. А как раз мужа-то я и не видела. Мы потеряли друг друга сразу после приезда, у крыльца. В главном зале его не было. Я спустилась вниз, надеясь найти его играющим в ландскнехт, но за ломберным столом Александра тоже не было. Я обошла все комнаты на первом этаже, мельком заглянула в женскую туалетную комнату: там Аврора и еще какая-то девушка, оживленно болтая, поправляли цветы в волосах.
— Аврора, не видела ли ты господина герцога?
— Только что видела у парадного входа, мама! Приехал какой-то человек, видимо, приятель господина герцога. Они пожали друг другу руки и куда-то пошли.
Помолчав, она уже тише добавила:
— Мне они показались очень серьезными.
— Это был не Кадудаль? — спросила я встревоженно.
— Нет. Я забыла имя этого человека… но он бывал у нас в доме, я уверена, мама.
Девушка, прежде щебетавшая с Авророй, вдруг произнесла:
— Я знаю, что это за человек, мадам!
— Кто же он?
— Граф Ле Пикар. Это весьма удивительно, что он появился здесь, — мне говорили, он на днях отплывает в Египет и…
Я уже не слушала. При упоминании имени Ле Пикара все внутри меня похолодело. Я вышла из туалетной комнаты и на миг прислонилась плечом к стене, пытаясь взять себя в руки. Мне было страшно. И, честно говоря, я немного струсила.
«Итак, — подумала я, сжимая зубы, — он все-таки решился приехать. Да будь он проклят! Сколько глупостей он наговорит Александру и скольких усилий будет стоить уладить то, что он наделал!»
Аврора выбежала вслед за мной:
— Мама, с тобой все в порядке?
Я кивнула.
— Да, дорогая. Ступай. Тебе не следует за меня волноваться.
Подобрав подол платья и шлейф, я быстро поднималась по лестнице. Кто-то остановил меня, спросил, буду ли я танцевать кадриль, я на ходу ответила, что не буду. Музыка, звучавшая в зале, показалась мне сейчас до головокружения громкой. Я остановилась у самого входа, внимательно окинула взглядом все пары, все группы гостей, все углы, но нигде не заметила ни герцога, ни графа. «Боже мой, где же они?» — подумала я в крайнем волнении.
— Вы ищете своего мужа, мадам?
— Да, — сказала я, не глядя даже, с кем разговариваю.
— Он в гостиной. Да-да, сразу после зала.
Направляясь туда, я на ходу взяла с подноса бокал с холодным бургундским, чтобы немного освежиться: у меня от беспокойства даже во рту пересохло. Наскоро сделав несколько глотков, я вошла в гостиную. Здесь было несколько старых дам и кавалеров, которые пили кофе. Но на фоне окна я ясно увидела два силуэта: герцога и Ле Пикара.
Они яростно спорили о чем-то, а Ле Пикар жестикулировал так, словно был родом из Италии. Я уже сделала шаг, намереваясь подойти к ним, но в этот миг увидела, как Александр резко, наотмашь ударил друга по лицу.
Наступила тишина. Все присутствующие невольно повернулись в их сторону. Я испугалась так, что у меня разжались пальцы; бокал со звоном упал и разбился, недопитое вино растеклось по паркету как кровавая лужица. Бледный как полотно Ле Пикар отшатнулся, потом подался назад и, даром что имел крайне болезненный вид, молниеносным движением выхватил шпагу из ножен. Я услышала его голос, вибрирующий от гнева:
— Сатисфакции! В позицию, сударь! Защищайтесь!
Этого не пришлось повторять дважды. В ту же секунду герцог последовал примеру противника. Скрестились, зазвенев, шпаги. Выражения лиц и Ле Пикара, и Александра не оставляли надежд на мирный исход всего этого; к тому же Ле Пикар атаковал с такой энергией и яростью, какие трудно было в нем заподозрить. Герцог парировал удар и отбросил противника, едва коснувшись острием шпаги его горла. Взбешенный неудачей, Ле Пикар снова бросился в атаку, проявляя при этом почти невероятную в нем силу и быстроту. Клинки скрещивались, описывали круги и поблескивали при свете люстры. Наконец, уже во второй раз, Ле Пикар, тяжело дыша от ярости, отступил на несколько шагов и опустил шпагу.
Трудно описать, что творилось поблизости. Музыка давно уже умолкла. Старые дамы и кавалеры бросились врассыпную, а потом, не видя выхода, в страхе прижались к стенам, образовав для дуэлянтов широкий коридор. Одна я застыла в проеме дверей, совершенно ошеломленная тем, что видела. В зале, позади меня, царило замешательство; танцы прекратились, но все гости стояли и наблюдали, ничего не предпринимая.
У меня не оставалось сомнений насчет того, что все это случилось из-за меня. Я обернулась, рассчитывая хоть к кому-то обратиться за помощью, но не увидела ни одного знакомого лица.
— Александр! — насилу произнесла я, пытаясь воспользоваться краткой передышкой в дуэли, но голос мой прозвучал очень слабо, так как даже голосовые связки мне плохо повиновались. — Послушайте, все это надо прекратить! Вы сошли с ума!
Я в ту же секунду поняла, что все испортила. Противники доселе стояли, тяжело дыша и с яростью глядя друг на друга; но, услышав мой голос, герцог содрогнулся, будто его ударило громом, и метнул на меня взгляд, от которого я похолодела. Сразу после этого дуэль возобновилась.
Александр атаковал, быстрый, как молния, и какое-то мгновение казалось, что острие его шпаги находится повсюду. Я закрыла глаза от ужаса, а когда открыла, то увидела, что Ле Пикар в самую последнюю секунду отбил удар, направленный в его грудь, и острие, отклонившись, вонзилось в его правую руку чуть пониже плеча. Все ахнули. В тот же миг Ле Пикар, невзирая на ранение, сделал мощный искусный выпад, и Александр едва успел отскочить.
У меня все помутилось в голове. Вскрикнув, я подхватила юбки и побежала прочь, расталкивая сбившихся в кучу наблюдателей. У меня была только одна мысль: найти Поля Алэна. Только он в силах все это прекратить! То, что я видела, дышало такой ненавистью, что я не представляла себе вмешательства кого-либо другого.
Как безумная я спускалась по лестнице и вслепую ткнулась в чью-то грудь.
— Что произошло?
Это был граф де Буагарди. Я закричала, в отчаянии хватаясь руками за его перевязь:
— Да идите же, успокойте их! Они хотят убить друг друга!
— Кто?
— Мой муж и этот… этот…
В волнении я забыла имя Ле Пикара. Буагарди не дослушал меня, бросившись наверх. Я побежала дальше и в каком-то углу, наконец, нашла Поля Алэна и Аврору.
— Ваш брат! — воскликнула я, задыхаясь. — Его могут убить!
Виконт молча смотрел на меня.
— Что вы такое говорите?
— Они затеяли дуэль, вот что! Да ступайте же! Они готовы разорвать друг друга в клочья!
К счастью, он не потребовал больше объяснений. Я все равно была не способна говорить связно. Аврора, оставшись со мной, обняла меня за плечи и довела до софы. Я села, сжимая руки. Плечи у меня вздрагивали. Аврора что-то спрашивала, но я пребывала в полной прострации и смогла выдавить только одно:
— Это ужасно! Это настоящая катастрофа!
— Что такое, мама? Что ты говоришь? Какая катастрофа?
— Да как же… ведь он наговорил ему столько чепухи о Клавьере и о том, что было в Париже. А еще…
Я увидела глаза Авроры: большие, испуганные. Мой голос прервался. Боже мой, я ведь говорю с девочкой, которая ничего не должна знать! И которая ничего не знает. Пересилив себя, я погладила волосы Авроры:
— Тебе, моя милая, лучше всего сейчас уехать домой.
— Так что же все-таки произошло?
— Это очень скверная история, Аврора. Господин герцог повздорил с графом Ле Пикаром.
— Они, кажется, дрались? Я правильно поняла?
— Да, у них была дуэль. Все это совершенно безобразно… да еще в чужом доме!
Помолчав, я настойчиво повторила:
— Будь добра, ступай распорядись насчет кареты. Мы должны уехать отсюда. Ступай, ты же видишь, что я сейчас не в силах заниматься этим.
— И ты мне ничего не объяснишь?
— Это трудно объяснить. Тем более что тебе это не нужно.
Я облегченно вздохнула, когда она ушла. Меня продолжала бить дрожь, и тошнота подкатывала к горлу. Я обхватила руками локти и вся сжалась, пытаясь умерить эту проклятую дрожь. Мне становилось дурно при мысли, что с Александром случилось что-то серьезное. Чем окончилась эта неожиданная дуэль? Я могла только гадать, ибо сама подняться наверх была не в состоянии. У меня не хватало смелости. Я сидела, стуча зубами, и очень надеялась, что кто-нибудь найдет меня здесь, успокоит и все расскажет.
А какой переполох случился из-за нас в этом милом доме! День рождения Констанс оказался испорченным. И настроение всех гостей — тоже… А все это из-за Ле Пикара! Я не представляла себе, что буду делать и как из этого выпутаюсь. Больше всего меня страшила реакция Александра. Ах, если бы знать, что он подумает!
— Сюзанна! Сюзанна, вы здесь?
Я содрогнулась, словно меня застигли за чем-то нехорошим. Ко мне бросилась Констанс со словами сочувствия, которых я поначалу не разбирала. Она обняла меня. Я припала лицом к ее плечу, позволив себе роскошь несколько секунд провести, наслаждаясь ее теплом и спокойствием. Потом сдавленным голосом спросила:
— Как там… они?
— Не тревожьтесь по этому поводу.
— Но что же случилось с Александром?
— Он был легко ранен.
— Ранен?
— Да, они оба прокололи друг другу правые руки.
Я вздрогнула. Потом прошептала с отчаянием в голосе:
— Правая рука! Снова! Констанс, совсем недавно он был ранен пулей в правую руку…
— Не тревожьтесь, прошу вас. Его жизни ничто не угрожает. Дуэль была остановлена, им обоим сделали перевязку.
Наступила пауза. Я молчала, пытаясь собрать самые разные мысли воедино, чтобы получше представить картину случившегося. Констанс осторожно взяла в ладони мое лицо, подняла мне голову и заглянула в глаза:
— Сюзанна, скажите… если только я не покажусь вам неприлично любопытной…
— Что вы хотите узнать?
— Это — следствие того, что было в Париже?
Я покачала головой, с трудом сдерживая стон:
— Нет, Констанс, нет! О том, что было в Париже, не знает никто. Ле Пикар — он знает другое. Ему известно о Клавьере и еще…
Я хотела сказать «и еще о моих дочках», но вдруг вспомнила, что Констанс не знает, кто такой Клавьер, а уж о моих близняшках и подавно ничего не должна знать. Я сказала, следя за каждым своим словом:
— Ле Пикар придумал то, чего не было, Констанс. Он приписывает мне связь, которой не существует… по крайней мере, с тех пор, как я вышла замуж. Он полагает, что я ездила в Париж только ради этой связи. Словом, мне будет очень трудно оправдаться.
Графиня де Лораге сказала, решительно вскидывая подбородок:
— Вы должны вести себя спокойно. Это самое главное.
— Да, верно. Но где же его взять, это спокойствие?
— У вас будет время. Герцог не станет требовать объяснений здесь, в нашем доме. Вы поедете в Белые Липы, а это целый час пути. Вы успеете взять себя в руки.
— Да, может быть, но…
В этот миг до нас донеслись голоса. С того места, где мы сидели, была немного видна парадная лестница. Я даже слегка привстала с места, увидев Александра. Его окружали какие-то люди, в том числе Поль Алэн и Буагарди. Ему, кажется, задавали вопросы, но он отвечал скупо. Раненая рука герцога была на импровизированной перевязи, сделанной из портупеи его брата. Если бы не пустой правый рукав камзола и не бледность, герцог выглядел бы как обычно.
Они направлялись в одну из комнат на первом этаже и скрылись из поля нашего зрения.
Я вопросительно взглянула на подругу:
— Констанс, как вы думаете, что я должна делать в такой ситуации? Пойти к мужу? Но как это сделать после того, что он услышал от Ле Пикара?
— Я думаю, вам следует дождаться указаний. Он сам скажет вам, что делать.
Она была права. Через пять минут перед нами предстал Поль Алэн — бледный, гневный, хмурый.
— Вы здесь? — спросил он ледяным тоном. — Вам приказано сию же минуту отправляться домой.
В другой раз и его тон, и это словечко «приказано» вызвали бы целую бурю с моей стороны — разве я служанка, чтобы мне приказывали? Но сейчас была ситуация совершенно особенная, и все эти возражения даже не пришли мне в голову. Я послушно поднялась, комкая в руках платок.
— А вы? — осмелилась спросить я.
— Не беспокойтесь. Мы приедем позже.
Несмотря на суровость его тона, я почувствовала облегчение, узнав, что я поеду с Авророй, а не с Александром. Последнее представлялось мне крайне затруднительным.
Констанс накинула мне на плечи шаль и едва слышно прошептала на ухо:
— Будьте хладнокровны. И, пожалуйста, помните, что я всегда рада буду оказать вам помощь.
5
Была полночь, когда наша карета остановилась перед замком Белые Липы. Я, всю дорогу пребывавшая в каком-то безмолвном замешательстве, теперь вдруг очнулась и поторопила Аврору:
— Выходи, дорогая. И ступай к себе.
— А ты?
— За меня не беспокойся. Я все улажу.
— Вы поссорились с господином герцогом, да?
— Пока нет.
Последние фразы услышала Маргарита, встречавшая меня на лестнице. Она молчала до тех пор, пока Аврора не поднялась в свою комнату. Потом сказала вполголоса:
— Вы очень бледны, мадам. Что это еще за ссора?
— Пойдем наверх, — сказала я шепотом. — Мне нужно прийти в себя и освободиться, наконец, от этого проклятого платья — оно сковывает меня, как футляр.
— Вот как? Должно быть, я чересчур сильно вас затянула!
Она говорила о том о сем, раздевая меня и возясь с одеждой. Ни слова не сказав, я бросилась в одном корсете и панталонах на постель лицом вниз и какое-то время лежала неподвижно. Со двора донесся топот копыт. «Ну все, — подумала я, чувствуя, как у меня холодеет под ложечкой. — Они приехали. Сейчас-то все и начнется».
— Маргарита, взгляни в окно: это герцог приехал, да?
Она не спеша взглянула.
— Да, мадам. Так что же случилось?
Я рывком села на постели, поспешно накинула на плечи пеньюар. Потом вспомнила о тугом корсете и попыталась расшнуровать его. Маргарита помогла мне.
— Вы места себе не находите, душечка! Что случилось? Я полагаю, уж мне-то можно сказать?
Я сбивчиво стала рассказывать ей все, начиная с того, что случилось в Париже. О том, как Ле Пикар встретил меня в неприличном заведении и узнал, что я посещала там Клавьера. О том, как наводил справки. О том, какие сцены устраивал мне…
Маргарита тревожно спросила:
— Но правды-то он не знает?
— Не знает. О Талейране никто не знает, Маргарита. Но мне от этого не легче. Представляешь, как они будут ко мне относиться, если узнают, что я была любовницей банкира и родила от него близняшек!
— Но господин герцог — он же так любит вас!
— Да, любит, но ему тоже тяжело будет об этом узнать, а тем более тяжело смириться с этим. Потребуется время, чтобы он успокоился. — Я сжала руки так, что хрустнули суставы. — Ах, этот проклятый Ле Пикар — зачем только он появился!
Мне, конечно, далеко было сейчас до того хладнокровного состояния, о котором толковала Констанс, но внешнее спокойствие мало-помалу возвращалось ко мне. По крайней мере, я чувствовала себя способной говорить спокойным ровным голосом, трезво размышлять, управлять своими поступками и выражением лица. Словом, я взяла себя в руки. Опасения хотя и оставались, но страх — весьма схожий с трусостью — прошел. Я несколько раз глубоко вдохнула, старясь полностью вернуть себе самообладание.
У меня был выбор: сразу отправиться к Александру или остаться здесь. Я выбрала второе. Честно говоря, для первого мне не хватало смелости. И все потому, что я хотя и знала, что обвинения насчет моей недавней связи с Клавьером беспочвенны, все-таки чувствовала свою вину. Подспудно, но чувствовала. Ведь та ночь с Талейраном все-таки существовала. Об этом никто не знал, но знала я, и это не позволяло мне избавиться от тоскливого ощущения вины.
Я поднялась, подошла к умывальному столику и тщательно умылась, а потом энергично растерла лицо полотенцем. Маргарита помогла мне распустить прическу, вынуть шпильки и расчесать волосы. Я облачилась в ночную шелковую кофту, потом снова надела пеньюар и покрыла волосы ночным белым чепчиком — словом, приобрела вид женщины, собирающейся ложиться спать. Все эти приготовления, обычные для каждого вечера, тоже пошли мне на пользу и придали уверенности. Покончив с ними, я сказала горничной:
— Маргарита, может быть, ты спустишься вниз и…
Она поняла меня с полуслова.
— Конечно, непременно! — заверила она, махая руками. — Нам надо хоть что-то узнать. Я спущусь вниз и попытаюсь что-нибудь разузнать. Уж вы не беспокойтесь.
Это было крайне необходимо. Я ведь даже не знала, где сейчас Александр, с кем говорит и что собирается делать. Следовало хотя бы приблизительно узнать о его намерениях. «Если он говорил с Полем Алэном насчет всего этого, — подумала я, вышагивая из угла в угол по комнате, — если он расспрашивал его, то брат, очевидно, сказал, что одну ночь в Париже я не была дома. Ведь тогда, когда я была с Талейраном, Поль Алэн явился в Париж и не застал меня. Да, меня не было всю ночь. Это, конечно же, лишь усилит мою вину. Надо как-то оправдаться. Надо сказать, наконец, как все было на самом деле, как Клавьер чуть не засадил меня в тюрьму, как я дала взятку Баррасу!»
В этот миг в дверях показалась Маргарита. Я окинула ее удивленным взглядом.
— Ты уже вернулась? Так скоро?
— Мне не позволили спуститься вниз, мадам! — вскричала она разгневанно.
— Как это?
— А вот так. Уже на самых ступеньках меня остановил этот дикарь, Гариб, и сказал, что хозяин, дескать, не позволяет мне выходить из комнаты. Я спрашиваю: «Почему?»
— Ну?
— А он мне ответил, что я, мол, слишком вам предана и что хозяину это сейчас нежелательно.
Мы обе замолчали, глядя друг на друга. Эти репрессии против моей горничной заставили меня насторожиться. Похоже, меня уже заранее считают виновной. Мне приказано сидеть в заключении, а за моей спиной проводится следствие!
— Не переживайте, — сказала Маргарита, — я пойду к другой, кафельной, лестнице и еще раз попробую…
— Нет-нет, — сказала я поспешно, — не надо. Тебя все равно заметят, и это будет чересчур унизительно.
Маргарита проворчала, готовя для меня постель:
— Надо же! До чего уже дошло! Я теперь не имею права ходить по дому, как мне заблагорассудится! И за что же? За преданность! Впервые слышу, чтобы служанке ставили такое в упрек!
Я молчала, кусая губы. В доме стояла полнейшая тишина. Я невольно подумала, что так, кажется, бывает перед грозой. Эта тишина действовала на редкость угнетающе. Я уже готова была, чтобы не мучиться этой неизвестностью, выйти и самой отправиться к Александру — уж меня-то Гариб не посмеет остановить! Но в этот миг голос индуса донесся с лестницы:
— Эжени и Элизабет! — повелительно прокричал он. — Быстро! К хозяину!
Через несколько секунд тихо хлопнула дверь и раздались звуки шагов, — видимо, вызванные Гарибом служанки отправились выполнять волю герцога.
Я повернулась к Маргарите, у меня побелели даже губы.
— Элизабет?! — переспросила я в крайнем ужасе, запинаясь на каждом слоге. — Он позвал Элизабет?!
Маргарита кивнула, и выражение ее лица было почти такое же, как у меня.
Мы обе понимали, что это значит. Элизабет знала такое, о чем я даже подумать боялась. Это было моим кошмаром. Та беременность, тот выкидыш, весь тот злосчастный случай… В какой-то миг я даже подумала, не убежать ли мне из этого дома. Такой выход, пожалуй, был бы самым удачным!
— Маргарита, но почему же он позвал Элизабет? Что навело его на мысль спросить у нее? Почему?
— Должно быть, он решил спросить у служанок, не знают ли они чего. Они ведь при вас находились. Он и Эжени позвал, стало быть, особых надежд на Элизабет у него нет.
— Эжени ничего не знает, но экономка…
Я вдруг в этот миг поняла, что ничего уже исправить нельзя. Я не знала, чем все это кончится, но случившееся навсегда наложит отпечаток на наши отношения — в этом не могло быть сомнений. Он не сможет забыть. Такое не забывается. Он так верил мне. Он даже сравнивал меня с мадонной. И я уверяла его: «Я ваша, только ваша!» И ведь я говорила правду. То, что я чувствовала в мае, когда изменила ему, было уже в прошлом. А теперь… теперь то, что расскажет экономка, будет связано с именем Клавьера. Ложь переплетется с правдой. И, честно говоря, я не видела способа, с помощью которого можно было бы все поставить на свои места.
Я едва сдержала стон, сжимая виски пальцами. Мучительно болела голова. Я открыла рот, чтобы попросить у Маргариты воды, но в эту минуту раздался стук в дверь, и голос Гариба среди мертвой тишины произнес:
— Госпожа, хозяин просит вас спуститься.
6
Держась за перила, я преодолевала ступеньку за ступенькой, и поступь у меня была медленная, словно я шла на казнь. Пеньюар все время распахивался, и я придерживала его рукой. Чуть впереди шел Гариб — замкнутый, молчаливый — и освещал мне путь канделябром.
— Куда мы идем? — насилу спросила я. — Где герцог?
— В кабинете.
Этот верный слуга, похоже, уже разделял возмущение своего господина. И все-таки я заставила себя задать еще один вопрос:
— Что с его раной, Гариб?
Индус остановился на миг и сверкнул белками:
— Она перевязана платком, госпожа. Он не позволил мне осмотреть ее. Ему сейчас не до этого.
Я прикусила язык. В ответе индуса мне послышался какой-то скрытый намек, едва ли не обвинение. И, честно говоря, я порадовалась своей выдержке. Я взяла себя в руки: мне уже не хотелось ни убегать, ни плакать, ни падать на колени. В конце концов, Александр благородный человек, имеющий понятие о воспитании. Так почему же я представляю его каким-то Отелло? Почему мне должно казаться, что он либо задушит, либо — в лучшем случае — изобьет меня? Без сомнения, все случившееся крайне неприятно, но со временем он поймет меня… ведь он, насколько я знала, совершил таких грехов раз в десять больше!
Гариб пропустил меня вперед и корректно замер за дверью, едва я вошла.
Мои надежды на то, что мы будем одни, развеялись. Я увидела Александра, напряженно замершего у стола, а чуть поодаль скромно застыла Элизабет. Мне стало страшно. В кабинете было темно, и, если бы не свет факелов, проникающий со двора, здесь вообще была бы кромешная тьма. Мрак не позволял видеть лица. Лицо Александра, например, сколько я в него ни всматривалась, казалось сплошным темным пятном. Я невольно передернула плечами, чувствуя, как страх снова охватывает меня, и пытаясь прогнать его.
Он заговорил, и я вздрогнула, едва услышав звук его голоса. Я очень хорошо знала этот тембр — он скрывал угрозу. Александр сказал:
— Элизабет, повторите то, что я только что слышал.
Было видно, что экономке не по вкусу это приказание.
— Ваше сиятельство, надо ли? Возможно, мне лучше уйти? Разве я тот человек, который может решать, как вам жить с ее сиятельством?
Александр прервал ее — резко, безапелляционно, даже презрительно:
— Здесь никто не спрашивает вашего мнения, Элизабет. Вы должны повторить то, что сказали. Это единственное, что вам позволено.
Я очень надеялась, что у экономки не хватит духу снова сказать то, что она уже сказала. Я желала этого всеми силами души. Но она подняла голову, взглянула сначала на меня, потом на герцога, и, словно убедившись в его поддержке, произнесла:
— Видит Бог, мадам, мне трудно об этом говорить. Иной раз даже правда жжет язык.
— Вы зря тянете время, — раздраженно прервал ее Александр. — Говорите. Или, может быть, вы солгали?
Этот вопрос подействовал на Элизабет лучше всяких приказов. Она встрепенулась, услышав подобное обвинение.
— Я солгала? Да разве бы у меня хватило смелости о таком солгать! Я собственными глазами видела, что было с ее сиятельством, и было это ничто иное, как выкидыш. Я обещала молчать, но, видно, шила в мешке не утаишь. Я хорошо понимаю, господин герцог, как это неприлично для вашей семьи, и я, конечно же…
— Довольно. Замолчите. Ваши причитания здесь никому не нужны.
Его голос прозвучал так угрожающе, что, похоже, мы обе — и я, и Элизабет — почувствовали себя не слишком уютно. Александр повернул голову и, пожалуй, впервые за весь этот разговор взглянул на меня.
— Может быть, вы мне подскажете, что делают в таких случаях мужья? Я теряюсь в догадках. Ситуация просто неслыханная. Я впервые слышу о ребенке, которого вы ждали и который никак не мог быть моим. Это помимо того, что сказал мне Ле Пикар. Не скрою, я впервые столкнулся лицом к лицу с таким фактом.
Я подавленно молчала, чувствуя, что не могу произнести ни слова. Он снова негромко спросил:
— Так что же мне делать? Убить вас? Так, кажется, поступают в романах?
Элизабет приглушенно вскрикнула и, похоже, снова порывалась попросить разрешения уйти, но герцог осадил ее одним взглядом. Выйдя из-за стола, он сделал два шага ко мне. Правая рука его по-прежнему была на перевязи.
— Или, может быть, мне следует сначала спросить вас?
Я опустила глаза, понимая, что спрашивать меня ни к чему, но чувствуя себя не в состоянии объяснить ему это вслух. У меня не было для этого смелости. Он смотрел на меня так пристально, что я ощущала физическую тяжесть этого взгляда. И глаза у него были какие-то черные, жуткие.
Он медленно спросил:
— Это — правда?
Мои губы без всякого участия голоса через силу произнесли:
— Да.
Он скорее угадал, чем услышал, что именно я сказала. Я даже в малой степени не представляла себе, что будет дальше. Я видела, как судорожно сжаты в кулаки его руки, как искажено лицо. Можно было ожидать, что он убьет меня. Или станет осыпать самыми кошмарными ругательствами, смешивать с грязью — и, честно говоря, я была сейчас так подавлена чувством своей вины и болью за него, что ничему бы не противилась.
Но как только прозвучало это мое «да», подтверждающее слова Элизабет, он ударил меня по лицу.
Ударил кулаком, наотмашь, с такой силой, что сбил меня с ног и я полетела на пол, стукнувшись виском о ручку двери и так ушибив локоть, что на первый миг мне показалось, что рука у меня сломана. Несмотря на все это, я ни на минуту не потеряла сознания. Я очень ясно видела Александра, грозно возвышавшегося надо мной, видела, как Элизабет с возгласом ужаса бросилась ко мне и как герцог с силой оттолкнул ее:
— Убирайтесь отсюда! Оставьте нас вдвоем.
Она приоткрыла дверь, поглядывая то на меня, то на герцога. Он сквозь зубы бросил:
— Разумеется, вы понимаете, что никто не должен знать о том, что знаете вы.
Она испуганно кивнула и вышла. Наступила тишина. Александр медленно отошел от меня, видимо к окну, ибо полностью исчез из моего поля зрения. Раньше мне казалось, он изобьет меня, может быть очень жестоко, и именно для этого отсылает Элизабет. Зная его характер, я ни на минуту не усомнилась бы в том, что он на такое способен. В гневе он мог быть совершенно неистов. Но он отошел, значит, сдержался, и невольный вздох облегчения вырвался у меня из груди.
Я приподнялась. Ушибленного локтя было больно даже коснуться. Что-то теплое заливало мне лицо: я поняла, что у меня в кровь разбиты и нос, и губы. От удара у меня шумело в ушах; пожалуй, стоило еще радоваться, что у меня целы все зубы. Я запрокинула голову, чтобы остановить кровь, затем стала на ощупь искать носовой платок и, не найдя его, решила воспользоваться рукавом, потом чепчиком. Когда мне удалось с этим покончить, у меня и руки, и одежда, и лицо были в крови.
Он все так же молчал. Я села на пол, глядя на него. Он не оборачивался.
— Александр, — проговорила я срывающимся голосом, чувствуя, что слезы закипают у меня на глазах, — послушайте меня, я все объясню…
Еще не договорив, я поняла всю беспомощность этой фразы. Почему я выбрала эти слова? «Я все объясню» — так говорили герои во всех известных мне книгах, и мне, конечно, не стоило сейчас это повторять. Слишком банально и фальшиво это прозвучало.
Он спросил, все так же не оборачиваясь:
— Вы полагаете, сударыня, что дело все еще нуждается в каких-то пояснениях?
Я насилу выговорила:
— Вы могли бы хоть послушать меня. Я…
— Нет, теперь вы меня послушаете.
Он снова подошел ко мне и стоял надо мной, заложив руки за спину, не делая ни малейшей попытки помочь мне подняться. У него не было той чисто машинальной галантности, которая была свойственна иным дворянам. Я поднялась сама, цепляясь за ручку двери. Вид у меня, конечно, был жалкий. Он презрительно произнес, смерив меня полным отвращения взглядом:
— Подумать только, я даже не подозревал. Да и кто мог бы подозревать? Такое хрупкое, нежное создание — и такая гнусная ложь.
— Я вам не лгала, — возразила я, уязвленная этим пренебрежением.
— Возможно. После того, что случилось, в это особенно легко верить.
Я поднесла руку к лицу, опасаясь, что у меня снова потечет кровь. Он сказал — напряженным резким голосом:
— Конечно же, мы разведемся. Ничего подобного у меня в планах не было, но иного выхода я сейчас не вижу. Совместной жизни с вами я больше не представляю.
— Разведемся? — переспросила я с нескрываемым ужасом. — А не слишком ли это поспешно?
Он поднял сжатую в кулак руку и стиснул зубы, словно пытался сдержаться.
— Вы… вы еще станете говорить, что поспешно, а что нет? Вы шлюха! Вам надлежит молчать и слушать, ничего иного вам не позволено!
Я отступила на шаг, пораженная его жестом и тоном. Сейчас Александр внушал мне страх.
— Убирайтесь, — сказал он прерывисто.
Я смотрела на него, ничего не понимая. Глаза у меня были расширены от ужаса. Он крикнул, сверкнув глазами:
— Вы думаете, я позволю вам быть в этом доме? Вы уйдете такой, какой вошли сюда впервые. Я желаю вычеркнуть вас из жизни и не вспоминать о вас никогда!
Я попятилась, хватаясь за ручку двери. В его виде и голосе сейчас было столько гнева, столько самой искренней ненависти, что мне даже показалось, что мой проступок такой жестокой оценки не заслуживает. Он говорит так, будто я убийца. Я осмелилась сказать, желая слегка привести его в чувство:
— Александр, но как же…
— Убирайтесь, — повторил он с крайним отвращением.
Я поежилась, но все еще медлила и уходить не спешила. Он взглянул на меня и тихим, напряженным голосом произнес:
— Убирайтесь, иначе я придушу вас.
7
Я шла, ничего не видя перед собой и держась рукой за стену. Слишком ошеломленная недавней сценой, я была не в состоянии понять, как намерен поступить со мной Александр. Честно говоря, поначалу у меня была надежда, что тот удар по лицу станет для меня самым главным наказанием. Но, похоже, дело оборачивалось хуже, чем я надеялась. Он приказал мне убираться. Значит, я должна снова подняться в свою комнату, поговорить с Маргаритой — словом, сделать что угодно, лишь бы не попадаться ему на глаза сейчас, когда ему невыносимо меня видеть.
Я подсознательно чувствовала, что обманываю себя. На самом деле все обстояло еще хуже. Я поняла это, когда, остановившись у лестницы, в замешательстве поднесла руку к лицу: у меня снова пошла кровь. Кто-то грубо взял меня за локоть. Я оглянулась и увидела Гариба.
— Что такое? — спросила я неприязненно.
— Госпожа, надо исполнить волю хозяина.
Запинаясь, я спросила, что он имеет в виду.
— Он приказал вам уйти, госпожа.
— Но я же ушла. Я…
— Он приказал вам уйти из дома.
Еще не желая во все это верить, я попросила у индуса платок. Странно, что он у него был. Я запрокинула голову, пытаясь остановить кровь. Гариб невозмутимо ждал, потом снова тронул меня за локоть.
— Госпожа, вам надо уйти.
— Уйти! Но куда? Куда, по-твоему, я могу отправиться? Сейчас ночь!
Он не отвечал, прикрыв крупные сверкающие белки веками. Я разозлилась.
— Ты молчишь? Хорошо, я пойду к хозяину! Он отлично знает, что мне некуда идти! Тот дом, откуда он увез меня, находится в тридцати пяти лье отсюда!
Хищная гримаса исказила черты индуса.
— Госпожа, не вина Гариба в том, что вы были плохой женой. Гариб должен лишь исполнить приказ своего хозяина.
— Так он приказал тебе выгнать меня на улицу, под дождь? — спросила я в бешенстве. — Ночью? Не может быть, чтобы он хотел этого, я должна сама у него спросить!
Гариб преградил мне дорогу, но это, в сущности, было излишне: я только грозила, а в самом деле отправиться снова к Александру у меня никогда бы не хватило смелости. Мы некоторое время стояли, поглядывая друг на друга; в конце концов мне пришлось поверить, что все это не шутка.
— Хорошо, — сказала я подавленно. — Я уйду. Мне только нужно одеться.
— Нет, госпожа.
— Что «нет»? — переспросила я раздраженно, униженная уже тем, что меня поставили перед необходимостью объясняться со слугой.
— Хозяин сказал: «Пусть она убирается такой, как пришла». Я хорошо помню, какой вы тогда были.
Я вспыхнула, ибо и сама хорошо это помнила. Я приехала сюда в одном платье.
— Не может быть, чтобы он так сказал, — пробормотала я. — Гариб, ведь сейчас поздняя осень. Сейчас холодно. Да и как я могу уйти в одной ночной рубашке?
Индус молчал, и я очень быстро поняла, что не добьюсь у него никакого ответа. Вероятно, подумала я, не стоит спорить. Александр зол на меня. Он хочет меня наказать. Хочет сделать мне так же больно, как я сделала ему. Это понятно. Ничего иного сейчас от него нельзя ожидать. Надо уйти… Уж как-нибудь я доберусь до Констанс и поживу у нее немного. Со временем — через несколько недель — все утрясется. Просто в данный момент Александр слишком уязвлен. И одному Богу было известно, как я проклинала себя за то, что допустила все это!
— Так и быть, — сказала я хмуро. — Не мне сейчас протестовать. Я уйду, так и передайте хозяину.
Запахнув на груди пеньюар, я решительно двинулась к двери, ибо понимала, что иного выхода у меня нет. И все-таки, оказавшись на ступеньках парадного входа, я не смогла сдержать слез унижения, хлынувших из глаз.
Завтра вся округа узнает, как со мной поступили. Казалось бы, чего худшего можно ожидать?
Всхлипывая, я бежала по дороге между полями, по щиколотку утопая в грязи. Честно говоря, с каждым шагом поступок Александра становился все менее оправдываемым в моих глазах. Я замерзла так, что у меня зуб на зуб не попадал, к тому же промокла насквозь и была вся в грязи. Разве созданы домашние туфельки для того, чтобы в них бродить по проселочным дорогам? Температура же сейчас была близка к нулю. К тому же у меня никак не останавливалось кровотечение. Дошло до того, что я просто перестала обращать на это внимание. Уже почти взобравшись на холм, я провалилась в какую-то яму по колено, и мне с трудом удалось выбраться. Чертыхаясь, я посмотрела вниз: в направлении Сен-Брие передо мной простиралась унылая вересковая пустошь, кое-где поросшая кустарником, а далеко на горизонте виднелся густой, темный лес. В самом низу можно было увидеть одинокие серые строения. Это была ферма Фан-Лера, одного из людей герцога. Шмыгнув носом и снова вытерев кровь, я с надеждой подумала: лишь бы хозяина не было дома! Он так предан Александру, что, чего доброго, откажется помочь мне. А я не могла добраться до Констанс пешком.
Вообще, все случившееся было невероятно. Меня выгнали! Я снова зарыдала, закрывая лицо руками и готовая упасть лицом в грязь. Холод усиливал усталость и навевал сонливость. Но я помнила, что, если я не хочу замерзнуть, надо двигаться, и поэтому побрела вперед, вытирая слезы и проклиная все на свете.
Когда я остановилась перед приземистой постройкой из камня с низко опускающимися скатами крыши, домашняя птица с шумом разлетелась, собака злобно залаяла. Я сильно постучала. И мне очень долго пришлось ждать ответа.
— Кто там, за дверью? — раздался, наконец, гнусавый женский голос, говорящий по-бретонски. Это, по-видимому, говорила жена Фан-Лера. Я пожалела, что не знаю, как ее зовут.
Честно говоря, ее вопрос поставил меня в тупик. Было как-то неловко назвать себя. Мое появление выглядело бы просто нелепым! Не в силах преодолеть стыд, я пробормотала на том же бретонском наречии:
— Мне нужен ночлег… всего лишь на одну ночь! До рассвета уже недалеко. Впустите меня!
— Да кто вы такая?
— Я… я путешествую, — сказала я первое, что пришло в голову, и, конечно же, это прозвучало весьма странно.
— Путешествуете? Этот дом не таверна.
Я в отчаянии воскликнула:
— Ну хорошо! Хорошо! Я не путешествую. Я — герцогиня дю Шатлэ, жена вашего герцога, того самого, кому служит ваш муж…
Женский голос загнусавил, не вникая, видимо, в смысл моих слов:
— Кто-кто? Герцог? Герцогиня… Вы что-то путаете, приятельница. Наш дом стоит на отшибе. Сюда никто не заезжает. Герцогиня? Да я в жизни не видела ни одной герцогини.
— Черт бы вас побрал! — вскричала я в ярости. — Не врите, вы меня двадцать раз видели! Я — герцогиня! Я — хозяйка Белых Лип! Вы получили от меня два буассо хлеба на Рождество!
Наступила тишина. Потом заскрипели петли, и из-за двери осторожно выглянуло сначала лицо, потом показалась и вся женщина. Она была неопрятная, смуглая, как цыганка, а за ее подол держались два грязных мальчика, один меньше другого.
— Гм, — сказала она. — Да ведь вы и вправду наша герцогиня.
— Давно бы так! Впустите меня поскорее, если вы не хотите, чтобы я умерла от холода!
Уже не спрашивая разрешения, а решив сама брать все, что посылает судьба, я прошла внутрь дома. Я уже и забыла, когда в последний раз бывала в таком убогом месте. Пол здесь был земляной, а весь дом состоял из единственной жилой комнаты, разделенной перегородкой, за которой чувствовалось присутствие скота. Здесь было темно, грязно и очень дурно пахло. Мебель состояла из стола, скамьи, массивной деревянной кровати и полок для кухонной утвари, повешенных над очагом. Я огляделась, размышляя, куда бы сесть, и заметила две колыбели: в одной из них был малыш одного года от роду, в другой — совсем еще младенец, кажется, новорожденный.
— Я заплачу вам, — бросила я резко, желая этим успокоить хозяйку.
Она уложила детей и повернулась ко мне.
— На вас кто-то напал, ваше сиятельство?
— Нет. Не будем об этом говорить.
— А есть вы хотите?
Я передернула плечами:
— Единственное, что я хочу, — это чтобы вы дали мне возможность добраться до Гран-Шэн. Есть у вас лошадь?
— Утром вернется муж, он отвезет вас. Да что же все-таки случилось? Вы на меня не сердитесь, вас бы и сам Господь Бог сейчас не узнал. Ведь никогда такого не бывало. Это впервые к нам среди ночи приходит сама герцогиня.
Я поморщилась: она говорила именно то, что я и сама хорошо сознавала. Это-то и было досадно. Разумеется, лучше всего было бы отправиться прямо к Констанс, а не заходить в этот дом: сделав это, я, можно считать, сразу оповестила о том, что случилось, все ближайшие фермы и хутора. Но иначе я поступить не могла. До Гран-Шэн слишком далеко, а я почти раздета!
Бретонка поставила передо мной миску с водой. Видимо, ей хорошо было видно то, что случилось с моим лицом. Недаром она спросила, не напал ли кто на меня. Я кое-как умылась, но окончательный туалет решила отложить на потом, когда окажусь у Констанс. Здесь, в этом доме, все казалось таким грязным, что внушало брезгливость.
— Так я вам приготовлю что-нибудь, ваше сиятельство?
— Ах, ради Бога! — проговорила я раздраженно. — Делайте что хотите, только не донимайте меня вопросами!
Она поджарила мне омлет и поставила передо мной кружку сидра. У меня комок стоял в горле, но я заставила себя поесть. Перед этим я еще раз сказала бретонке, что заплачу за все.
— Где ваш муж? — спросила я, снова поморщившись: сидр был какой-то… какой-то не слишком удавшийся.
— Не знаю, ваше сиятельство. На рассвете он должен вернуться. Мне-то ведь он не говорит, куда его посылают.
Помолчав, она живо предложила:
— Давайте я вас спать уложу! И переодеться… может быть, вы переодеться хотите? Я найду для вас что-нибудь, а то вы вся мокрая…
Я решительно отказалась от переодевания, полагая, что, чего доброго, в случае согласия могу получить в подарок вшей. Но согреться мне было крайне необходимо: у меня до сих пор зуб на зуб не попадал. Очаг горел слабо, поэтому я согласилась лечь в постель и укрылась всем, что дала мне хозяйка, хотя, честно говоря, ее тряпки не внушали мне доверия. Кровать была типично бретонская — настоящий сундук с раздвижными дверцами, украшенными резьбой. Я понимала, что заняла единственное место для сна в этом доме и согнала с него хозяйку, но она уверяла меня, что найдет для себя уголок. Мне, в сущности, сейчас было безразлично, где она будет спать, и я выбросила из головы все мысли об этом. Дрожа от холода, я вся сжалась под одеялами, положила руку под голову и, хотя все во мне изнывало от тоски и напряжения, приготовилась терпеливо ждать.
Когда я проснулась, вернее, очнулась от полудремы, за окном уже брезжил рассвет, а неподалеку от кровати сидел здоровяк в куртке из козьей шкуры, серых штанах, настолько широких, что они больше напоминали юбку, и деревянных башмаках. Не глядя на меня, он жадно уплетал омлет. Его ноги так заросли волосами, что казалось, будто он в чулках. Я узнала это плоское обветренное лицо.
— Фан-Лер, — воскликнула я, спохватываясь, — отвезите меня в поместье графа де Лораге!
— А! Вы уже проснулись!
Он проглотил последний кусок и сказал:
— Мне бы не надо этого делать, мадам. Нынче нам всем приказано не пускать вас в Белые Липы.
У меня перехватило дыхание. Неужели Александр дошел уже до того, что раздает своим людям такие указания?
— Да ведь я прошу отвезти меня в Гран-Шэн! При чем же тут Белые Липы?
Он долго молчал, и, честно говоря, его физиономия своей тупостью производила зловещее впечатление. Испустив шумный вздох, он наконец сказал:
— Верно. Только вы уж нам заплатите.
— Вам заплатят, заплатят, только сделайте все побыстрее!
Жена Фан-Лера набросила на меня длинный козий мех до самых пят, игравший в этих местах роль верхней одежды, но я была благодарна и за это. Я уже чувствовала, что простудилась: у меня болело горло и ломило затылок. Это помимо того, что вчера мне до крови разбили лицо и я не знала еще, что из этого выйдет. Словом, мне было необходимо как можно скорее добраться до цивилизованного жилья, переодеться и согреться. Я была уверена, что Констанс мне не откажет.
Кляча, запряженная в телегу, не проявляла особой резвости, а Фан-Лер, погонявший ее, был так же нетороплив, как и его лошадь. В Гран-Шэн мы насилу притащились в восемь часов утра. Констанс, которая еще спала, была разбужена и вышла мне навстречу в пеньюаре.
Увидев меня, она даже попятилась.
— Боже! Что с вами такое?
Я не выдержала, потеряла самообладание и прокричала почти в истерике:
— Что! Что! Он выгнал меня, вот что! Избил и выгнал! Вы когда-нибудь слышали о чем-нибудь подобном?
Констанс приложила палец к губам, взглядом умоляя меня не говорить об этом при служанках. Я понимала, что она права. Подавив рыдания, я уже спокойнее проговорила:
— Пожалуйста, Констанс, дайте несколько монет тому болвану, который привез меня сюда.
— Не беспокойтесь об этом. Я все улажу. Что вы еще хотите, дорогая?
Я попыталась улыбнуться.
— Честно говоря, я не хочу ничего, кроме ванны и теплой постели, а то от всего случившегося у меня уже голова раскалывается.
8
Проснувшись вечером, после десяти часов беспробудного сна, я долго лежала неподвижно, чувствуя себя на редкость усталой и разбитой. Вся правая щека у меня горела, лицо отекло, разбитые губы распухли. Мне даже говорить сейчас было бы трудно. Саднило горло и, ко всему прочему, у меня был жар. Еще бы — пройти полураздетой под ноябрьским дождем!
Тихо вошла Констанс, поставила передо мной поднос с какой-то едой.
— Вы проснулись уже? Поешьте. Это придаст вам сил.
Она принесла горячее вино и печенье. С трудом приподнявшись, я стала вяло есть, не чувствуя ни малейшего аппетита. Констанс внимательно смотрела на меня, потом, словно не выдержав, воскликнула:
— Он сошел с ума! Он очень сильно вас ударил! Как мужчину! У вас лицо прямо почернело. Надо будет сделать примочки.
— Да, надо… Мне даже трудно представить, сколько всего еще надо будет сделать.
Я благодарно пожала руку Констанс. Если бы не она, мне вообще некуда было бы идти. До Сент-Элуа было слишком далеко.
— Он был в ярости, — сказала я, пытаясь хоть чем-то оправдать Александра. — Он не контролировал себя.
— Все равно. — Констанс была сейчас на редкость упряма. — Благородные люди не должны бить женщин. Все это… все это слишком жестоко для вас!
Что-то в тоне графини меня насторожило. Сейчас она была возмущена даже больше, чем утром. С чего бы это?
— Констанс, вы что-то скрываете?
— Я не скрываю. Я ищу слова, чтобы деликатнее высказаться.
— Что-то произошло? — спросила я тревожно.
— Два часа назад приезжал ваш главный конюх — его, кажется, зовут Люк — и…
— Что же?
— Он привез ваши вещи.
— Вещи? Какие вещи?
— Не могу сказать точно. Похоже, это ваши платья и драгоценности.
Она хотела добавить еще что-то, но я прервала ее:
— Нет, Констанс. Не надо меня утешать. Я сама во всем виновата.
— Да, но даже преступник имеет право на прощение.
— Не знаю, — пробормотала я с мукой в голосе. — Не знаю, чем все это закончится. Мне так жаль! Это все так глупо!
Констанс постояла надо мной еще немного, потом сделала шаг к двери.
— Сюзанна, там, рядом с вами, стоит стакан со снотворным. Вам нужно много спать. Вы больны. У вас сильная простуда. Пожалуйста, постарайтесь не плакать.
Она бесшумно вышла. Я застонала, переворачиваясь на бок, и прикусила костяшки пальцев.
Неверная жена. Даже сейчас мне казалось странным, что эти слова могут быть отнесены ко мне. Разве можно было обвинять меня в неверности, если мое сердце и моя любовь всегда принадлежали Александру? Разве сам он не знает, как мало значит тело?
Конечно же, я понимала, что виновата. Я сделала ему больно. Но разве можно требовать от человека безупречности и совершенства? Я ведь сделана не из камня, а он так надолго оставлял меня одну. Разве для меня нет оправдания? Да, я забеременела, и это всегда считалось позором. Но разве моя вина в том, что Бог устроил женщину иначе, чем мужчину, и то, что для него проходит бесследно, создает неудобства для нее? К тому же я столько вытерпела, чтобы избавиться от всех нежелательных последствий.
Я корила и проклинала себя за глупость, но все-таки, рассуждая здраво, допускала, что меня стоило хотя бы выслушать. Не так уж страшна моя вина, чтобы нельзя было понять причин, мною руководивших. Я была готова на что угодно, лишь бы убедить его, что я не хотела ни унизить его, ни причинить ему боль. Но он не хотел слушать ни одного моего слова. Он выгнал меня. Более того, выгнал в уверенности, что у меня была связь с Клавьером, с буржуа, и что это ради него я ездила в Париж.
А теперь мне были присланы мои вещи. Я вспомнила, что он говорил о разводе, и передернула плечами. Даже сейчас, после всего, что случилось, такой исход казался мне невероятным. Возможно, я бы думала иначе, если бы мы с Александром и прежде все время ссорились, если бы мы не любили друг друга. Но все произошло слишком неожиданно, чтобы я могла поверить в возможность бесповоротного разрыва.
Да и кто может нас развести? Разве что Папа Римский. Во Франции, кажется, не осталось неприсягнувших архиепископов. Ну нельзя же было всерьез подумать, что Александр поедет в Рим для того, чтобы порвать со мной. Он не сделает так. Он простит меня. Надо только подождать. Нельзя требовать от него понимания сейчас, когда слишком свежо случившееся.
Я снова тихо заплакала, уткнувшись лицом в подушку. Я и физически была больна, но сейчас гораздо сильнее страдала от того, что переживала в душе. Это были и боль, и отчаяние, и унижение, и стыд. А еще мне не давали покоя воспоминания. Я вдруг вспомнила тот солнечный июльский день, когда мы гуляли по Марселю, возвратившись из свадебного путешествия. Это было, кажется, в тенистом парке перед церковью Сен-Виктор — там так чудесно пахло цветущим шиповником… Александр срывал спелые темные вишни, а я губами брала их у него из рук. А еще была клубника на Корфу… А цветы? Я вспомнила Виллу-под-Оливами в Сорренто: просыпаясь, я неизменно обнаруживала на соседней подушке букет. Подушка была смята и еще хранила углубление от его головы. Случалось, я снова засыпала, обнимая эту подушку. Он читал мне стихи. Он любил меня. Каждый день, проведенный с ним, был источником радости. Все эти три года, что я знала его, я была счастлива — да, несмотря ни на что! Если бы не он, мне вообще нечего было бы вспомнить!
Я заплакала навзрыд, проклиная себя за то, что поставила все это на грань разрушения. Да, я виновата! Я не ценила того, что имела! Я, как всегда, оценила свою удачу только тогда, когда осталась ни с чем! Так мне и надо! Но все-таки… все-таки… неужели уже все закончилось? Не может быть! Ведь ему тоже должно быть жаль! Нельзя же быть настолько безрассудным, чтобы сломать наш брак из-за пустяка, в котором я тысячу раз раскаялась!
Нет. Не надо верить в это. У него хватит и доброты, и благоразумия, чтобы не сделать ошибки гораздо худшей, чем та, которую совершила я. Он, как и я, должен чувствовать, что мы созданы друг для друга. Мы рождены для того, чтобы быть вместе. Это же ясно как Божий день.
Единственное, что приносило мне облегчение, — это мысль о том, что сейчас совершенно невозможно добиться развода. Это всегда было трудно, а нынче особенно. Даже короли не всегда этого добивались. Да и как он может обосновать свое желание? Я не бесплодна и не душевнобольна, а измена — это не та причина, из-за которой позволяют развод.
Та ночь, когда я брела под дождем, явилась причиной того, что я сильно простудилась и несколько дней пролежала в жару. Меня совершенно измучил кашель. Констанс послала за доктором. Врач посоветовал мне лежать в постели, пить порошки и не допускать переохлаждения. Все были согласны с тем, что мне очень повезло в том смысле, что я не подхватила воспаление легких и отделалась только лихорадкой.
Гран-Шэн — это было самое подходящее место для того, чтобы обрести душевное равновесие. Супруги де Лораге вели себя в высшей степени тактично и с пониманием. Констанс не донимала меня расспросами, а довольствовалась теми обрывочными сведениями, которые могла почерпнуть из наших недолгих разговоров. Главное, она не спрашивала меня, что я думаю делать дальше.
Что касается графа де Лораге, то он лишь раз заговорил о том, что случилось. Когда я, немного окрепнув, впервые спустилась к общему столу, он поцеловал мне руку и невольно остановил взгляд на моем лице. Я понимала, что следы той поистине сильнейшей пощечины еще долго будут меня уродовать, и не удивлялась этому взгляду.
— М-да, — сказал Пьер Анж с непонятным мне выражением. — Этого следовало ожидать. Этот человек может допустить что угодно по отношению к женщине, и тому есть подтверждения.
Несмотря на то что в каком-то смысле я была с ним согласна и полагала, что Александр позволил себе слишком много, я сейчас подумала не о том. Меня удивили его слова.
— Разве вы знаете других женщин, с которыми он поступил точно так же? — спросила я настороженно.
Едва прозвучали мои слова, в столовой повисло неловкое молчание. Констанс смотрела только в свою тарелку. Пьер Анж нервно катал по скатерти хлебный шарик.
— Нет, — сказал он наконец. — Нет, мадам, таких женщин я не знаю, но мне вполне достаточно видеть вас, чтобы сделать выводы.
Мы принялись за еду, и я больше не затрагивала эту тему, хотя подозревала, что Пьер Анж не сказал того, что думал. Впрочем, взаимная неприязнь графа и моего мужа уже была мне известна.
Сразу после этого завтрака вошел лакей и доложил, что явились Маргарита и Аврора.
Вне себя от нетерпения, я выбежала к ним в вестибюль. Они прибыли в Гран-Шэн с тюками и чемоданами, и я с первого взгляда поняла, что возвращаться они не намерены.
Маргарита просто окаменела, увидев мое лицо.
— Боже мой! — вскричала она в крайнем негодовании. — Что же это такое? Да ведь это почти убийство!
— Успокойся. Пойдем лучше в гостиную. Здесь неудобно разговаривать.
Я провела их в комнаты и усадила, но Маргарита никак не желала успокаиваться. Она оглядывала меня то так, то эдак, приглядывалась с разных сторон, и вздохи так и срывались с ее губ.
— Один Бог знает, как я разочарована, мадам! Как я разочарована! Ваш муж — он много потерял в моих глазах. Никогда раньше я даже не слышала, чтобы аристократ поднял руку на свою супругу. А ведь я жила в то время, когда нравы при дворе были хуже некуда. Все изменяли друг другу. Да когда господин герцог де Полиньяк вздумал ревновать свою супругу, от него ушла даже любовница — так это было неприлично! А что сказали бы, если бы он отделал жену так, как это сделали с вами?
Я зажала уши пальцами, желая хоть этим жестом умерить поток ее негодования.
— Ах, Маргарита, не время говорить об этом. Скажи лучше, что происходит дома?
— Дом будто вымер, мадам. Все сидят в своих комнатах. Слуги боятся попасться на глаза хозяину. Старая герцогиня смотрит на меня так, точно хочет убить взглядом.
— Так они всё знают? — подавленно ахнула я. — Александр рассказал им?
— Не знаю, милочка. Может, и не рассказал, но все и так ясно. Шила в мешке не утаишь. Они все — и старуха, и брат его — нас теперь ненавидят. Я даже думаю, лучше вам туда не возвращаться: слишком опасное это место!
Я молчала, ломая пальцы. Маргарита, едва не плача, пробормотала:
— А вы такая худенькая стали, мадам! Худенькая и бледная. Забудьте вы обо всем, не страдайте! Позаботьтесь лучше о своем здоровье. А переживать — это себе дороже…
Я взглянула на Аврору.
— А ты? Тебя тоже выгнали?
Она покачала головой. По ее виду нельзя было сказать, что она подавлена. Напротив, она, как и Маргарита, была исполнена негодования.
— Нет. Но пока ты здесь, я туда не вернусь.
— Почему?
— Мама, неужели ты не понимаешь? Я там никто без тебя. За эти дни мне много раз дали это понять. И потом… неужели ты думаешь, что я оставлю тебя? Мадам де Лораге любит тебя, но ведь я тебе роднее.
Судорожно вздохнув, она прерывисто прошептала:
— Я же твоя дочь. Я люблю тебя. Да я лучше буду голодать, чем оставлю тебя одну!
Я жестом подозвала ее к себе. Она села рядом со мной, и мы обнялись.
— Спасибо, — прошептала я, прижимая к себе ее голову. — Только, вероятно, нам теперь будет трудно. Если…
— Что «если»? — вмешалась Маргарита.
— Если он действительно решил порвать со мной навсегда.
Наступило тягостное молчание. Маргарита порывалась что-то сказать, но все время сдерживалась. Аврора нервно теребила оборку на платье.
— Маргарита, тебя, надеюсь, не выгнали? — спросила я наконец.
— Нет.
— Тогда ты должна вернуться. Мне нужен хотя бы один верный человек в этом доме. И мне нужно, чтобы ты была рядом с детьми, до тех пор… — Мой голос на миг прервался. — Ну, словом, если мы окончательно разойдемся, тогда я заберу детей и ты тоже вернешься ко мне.
— Я должна снова отправиться в Белые Липы?!
— Да.
— А как это будет выглядеть, душечка? Я ведь уже вещи собрала.
— Сейчас не время размышлять о том, как это будет выглядеть и что о тебе подумают другие. Ты должна быть там, только тогда я буду спокойна за сына и близняшек — разве это непонятно?
Она не отвечала, нахмурив брови. Я понимала, что ей неприятно поступать так, как говорю я, но была уверена, что она согласится со мной.
— Пойми, Маргарита, если ты уйдешь, я вообще лишусь возможности что-либо узнавать… Все слуги — они преданы герцогу, а не мне. Они слушались меня только до тех пор, пока он им это приказывал. Без него я для них ничего не значу.
Маргарита кивнула.
— А деньги? Мадам, я полагаю, ваш муж должен давать вам некоторое содержание.
— Не надо пока об этом говорить. Я надеюсь, что все еще изменится и я… я, может быть, вернусь в Белые Липы. Надо только подождать.
Маргарита шмыгнула носом и стала искать платок.
— А ведь герцог сегодня уехал, — сообщила она подавленно.
— Куда?
— Бог его знает. Теперь в замке всем заправляет его брат, а я его терпеть не могу. Он злой и жестокий. Вот уж не пойму, что такого нашла в нем Аврора!
Аврора рядом со мной вздохнула. Я понимала, что ей нравится Поль Алэн, и ее поступок в силу этого приобретал даже некоторую жертвенность. Впрочем, я была рада тому, что она будет находиться вдали от моего деверя, — я не считала, что он подходящая для нее партия.
Уходя, Маргарита посоветовала:
— Напишите письмо своему отцу, мадам. Пусть он приедет и все уладит. Его, я полагаю, не посмеют выгнать!
Я покачала головой. Если бы хоть кто-нибудь знал, где сейчас отец. Он и Жан были в Сирии, в крепости Сен-Жан-д’Акр — но это приблизительно, ибо никаких известий оттуда я не получала.
Кроме того, отец мог бы помочь во многих случаях, только не в этом.
9
Я внимательно разглядывала себя в зеркале. Овал лица уже утратил отечность, чернота прошла, и губы, слава Богу, уже не казались распухшими. Оставался еще большой синяк, уродующий правую щеку вплоть до виска. Было больно дотронуться до этого места. Но в целом, если надеть вуаль, можно вполне показываться людям.
Впрочем, все это было сущей чепухой по сравнению с тем, как я себя чувствовала внутренне. Положение казалось невыносимым: ни туда, ни сюда. Я ни в чем не была окончательно уверена. Или просто не хотела верить в худшее. Да, Александр выгнал меня, но после этого не подавал никаких известий. Я очень надеялась, что он еще ничего для себя не решил, а те слова о разводе вырвались у него в минуту ярости.
Я не могла, не хотела верить в то, что все между нами кончено. Жизнь стала бы абсолютно пустой. Я так привыкла к тому, что у меня есть дом, муж. Есть плечо, на которое можно опереться. А теперь я оказывалась словно на пепелище, с совершенно пустыми руками. Сент-Элуа уже не казался мне таким родным, как раньше. Я привыкла жить здесь, в Белых Липах. Нынче мне казалось, что меня лишили чего-то основного, основополагающего… без чего и жить-то невозможно.
Да, это было даже больше, чем просто любовь к Александру. Это был весь смысл, вся соль жизни. Я понимала, как ужасно мое нынешнее положение, и изнывала от страшной тоски. Она поселилась внутри меня, как болезнь, и мучила даже во сне. Я ничего не могла делать спокойно: ни спать, ни есть. Целыми днями ходила из комнаты в комнату как потерянная, и у меня все валилось из рук. Мне было ясно, что даже в этом доме для меня, в сущности, нет места: не могли же мы с Авророй вечно пользоваться гостеприимством Констанс.
— Вы одеты?
Это была как раз Констанс, осторожно заглядывавшая в комнату. Я действительно была одета: в амазонку и плащ, а теперь, когда появилась графиня, опустила на лицо вуаль.
— Да. Я думаю… пора туда съездить.
— Пора? Еще только десять дней прошло. Послушайте, Сюзанна, если вы думаете, что в тягость мне, то, уверяю вас…
— Нет-нет, — мягко остановила я ее. — Я бесконечно вам благодарна и ничего такого о вас не думала. Но мне кажется, уже пора.
— Ваша горничная говорила, что Александр уехал. К кому же вы поедете? С кем будете говорить?
— Все равно. Я хочу хотя бы увидеть детей. Уж они-то точно дома.
— А Александр? Где вы станете искать его?
— Если бы я знала!
Мне приходилось признаться себе, что в этом деле я могу надеяться только на счастливый случай. Наверняка мне не удастся узнать, где Александр. А без разговора с ним ничто не будет решено окончательно.
— Может быть, он вскоре вернется, — сказала я вслух. — И я случайно встречу его. Но это будет позже. Сейчас было бы слишком рано говорить с ним: он даже смотреть на меня не захочет.
Сегодня, в день святого Клемента, землю впервые покрыла легкая пороша. Зима была уже совсем близко. Я медленно ехала, ощущая, как замер в предчувствии холодов лес. Не слышно было ни звука. Улетели даже самые храбрые птицы — пеночки, сорокопуты, коростели. И люди сворачивали свою деятельность. Вот-вот, на святую Катрин, должны были закончить работу водяные мельницы. Сеять было уже не принято, а тот, кто припозднился, теперь ломал плуг в замерзшей земле.
В глазах у меня стояли слезы. Я никогда не любила эту пору года в Бретани: осень здесь всегда была унылая, скучная. А сейчас все усугублялось еще и обстоятельствами моей жизни. Все вокруг было опечалено, так же, как и я. Все словно сознавало свою обреченность — лес, листья на земле, серое небо. А мне даже от того, что я еду верхом на чужой лошади, не имея возможности взять свою Стрелу, было грустно.
«Хоть бы детей повидать, — подумала я тоскливо. — Я бы сразу приободрилась. Особенно хотелось бы увидеть Филиппа: он такой милый, голубоглазый, хорошенький. И он так доверчиво тянул ко мне ручонки. Ах, скорее бы поцеловать его!»
Я проехала мимо водовзводной башни, питающей фонтаны, но сейчас бездействовавшей, и среди деревьев мелькнула колонна из розового гранита — одна из колонн ограды. Приподнявшись в седле, я уже могла видеть золоченое переплетение прутьев на воротах; в этот миг передо мной как из-под земли вырос шуан и схватил лошадь под уздцы.
Я едва удержала животное: оно вот-вот могло встать на дыбы. Шуан держал поводья твердой рукой. Заподозрив недоброе, я не сразу стала выяснять отношения. Я знала этого бретонца в лицо, но, как ни старалась, не могла вспомнить прозвища.
— Вам запрещено сюда приезжать, — промычал он на бретонском наречии, которое в его устах стало почти нечленораздельным.
— Мне? Запрещено?
— Его сиятельство так приказал.
— Что приказал? Можешь ты объясниться?
— Так и приказал: не пускать вас в дом. И не ездите тут, мадам. Нам не хотелось бы вас обижать.
Взбешенная, я вырвала поводья из рук шуана. Он отступил, но упрямо сверкнул глазами:
— Все это зря, мадам. Здесь не я один. Через каждые два шага тут стоят мои приятели.
— Но я хочу увидеть детей! — вскричала я в ярости.
Он молчал, давая понять, что мои слова не произвели на него никакого впечатления.
— Я хочу поговорить с кем-нибудь из замка, — сказала я твердо. — Ступай позови кого-нибудь.
— А некого звать.
— Как это некого? — спросила я, проклиная на чем свет стоит тупость этих бретонских воинов.
— А так. Герцога нет. А кто с вами еще будет разговаривать?
Скрытое презрение, прорвавшееся-таки в голосе бретонца, задело меня до глубины души. Ну вот, пожалуйста, — они уже все знают. Каждый ублюдок теперь считает себя вправе обвинять меня!
— Мне нужен брат герцога, — сказала я, в порыве отчаяния решаясь на последний шаг, ибо прекрасно знала, как опасна для меня встреча с Полем Алэном.
— Да не выйдет он к вам.
— Ты откуда знаешь?
— Знаю, и все тут. Не любит он вас. Да и кто станет вас любить, если вы такого человека, как его сиятельство…
Я подняла было хлыст и насилу сдержала себя. Мне до ужаса хотелось ударить этого болвана по физиономии. Я опустила руку, ограничившись полным пренебрежения взглядом.
— Кто позволил тебе рассуждать? Что ты понимаешь? — бросила я презрительно. — Ступай позови Поля Алэна, не то я лягу тут посреди дороги и не встану, пока ты не пойдешь!
Потоптавшись на месте, он скрылся среди кустарника. Я не рисковала ехать дальше, зная, что меня могут в любую минуту остановить, а объясняться с кем-то таким же наглым, как этот бретонец, казалось мне невыносимым. Но и ожидание тоже было кошмарным. Мне казалось, за мной следят десятки глаз. Вероятно, так оно и было. Я кусала губы, насилу удерживаясь от желания уехать.
Что и говорить, встреча с Полем Алэном не сулила мне ничего хорошего. После всего случившегося он, скорее всего, меня ненавидит. К тому же еще неизвестно было, отправился ли шуан вправду его звать или, может быть, из упрямства и злобы потопчется где-нибудь поблизости и вернется с сообщением, что виконт не хочет меня видеть. Все можно было предполагать. Но я хотела увидеть Филиппа и девочек: у меня просто сердце изнывало от этого желания. Поэтому я ждала.
Жаль, что Александра нет… Эти тупые бретонцы все наверняка перепутали. Не мог же он не пускать меня к детям. А они и на это распространили запрет.
Я видела, как отворились ворота, и из них вышел шуан в сопровождении управляющего. Глядя, как они приближаются, я в бешенстве покачала головой. Так, значит, Поль Алэн и вправду отказался выйти. Что ж, управляющий, по крайней мере, умеет читать и писать и с ним можно говорить более-менее цивилизованно. К тому же у меня с ним были дружеские отношения.
Он приветствовал меня довольно почтительным поклоном и, когда я сошла с лошади, поцеловал мне руку. Потом протянул какой-то пакет.
— Хорошо, что вы приехали, мадам. Герцог оставил некоторые распоряжения насчет вас, и я должен переговорить с вами.
— Что это? — спросила я, разглядывая пакет.
— Это деньги, мадам. Десять тысяч. Это выдается вам на тот срок, который остается до развода.
Развод! Снова прозвучало это слово. Я вполголоса спросила:
— Так он уехал именно об этом хлопотать? О разводе?
— Не знаю, мадам. Я передаю только то, что мне приказано. Герцог сказал, что и в дальнейшем вы будете получать некоторые суммы.
— Нет, — сказала я, уязвленная до глубины души, и вернула управляющему деньги. — Если он хочет развестись, так горячо хочет, мне не нужны его деньги. Я проживу без них, как жила раньше. А сегодня я приехала вовсе не за деньгами.
— А зачем же?
— Я хочу увидеть сына и дочерей.
— Это запрещено.
Я непонимающе смотрела на собеседника.
— Запрещено? То же самое сказал мне и шуан. Кто же может мне запретить повидаться с моими собственными детьми?
— Герцог, уезжая, распорядился, чтобы вас не подпускали к ним ближе чем на лье. Простите меня, мадам. Мне искренне жаль.
У меня задрожали губы, и бледность разлилась по лицу.
— Господин управляющий, как же это? Ведь это переходит все границы! Я имею право!
— Согласен с вами. Но хозяин здесь — герцог, ему все повинуются и…
— И он действует по праву сильного, вы это хотите сказать? Черт возьми! Какая гнусность!
— Но, мадам… — сказал управляющий, словно желая оправдать хозяина.
Я вскричала, в бешенстве сжимая хлыст:
— Да, гнусность, низость! Если я была плохой женой, это не значит, что я была плохой матерью! Я люблю своих детей! Нет-нет, мне даже трудно поверить, что он поступил так низко… Может быть, вы что-то не так поняли?
— Я все отлично понял. Он не разрешает вам видеться.
У меня перехватило дыхание. Пожалуй, со времен революции я не ощущала такого гнева и ненависти. Да, я в этот миг ненавидела Александра. Да он просто мерзавец! Он что, полагает, я буду мириться с этим? Я на что угодно пойду, но дети будут со мной! Черт возьми, ну а близняшки — какое он имеет право на них? Как он может распоряжаться ими, если они ему никто? Это смешно, да, просто смешно!
— И что же, сударь, он объяснил как-то эту мелочную месть?
— Нет, мадам. Должно быть, вы сами это понимаете.
— Ничего я не понимаю. Я теперь даже рада, что все так случилось. Если он способен на такой поступок, если он смог оставить такие распоряжения, значит, я совсем не знала его!
Управляющий молчал. Я понимала, что позволяю себе слишком откровенные излияния, но удержаться от них не могла. Когда дело касалось детей, я не могла сохранять хладнокровие. Я могла бы признать за Александром право наказывать как угодно меня лично, но сейчас он посягал на то, что принадлежало не только ему. С этим я мириться не желала. Это было несправедливо, потому что я всегда была хорошей матерью, и дети составляли смысл моей жизни. Это было, наконец, просто неосторожно и глупо, потому что он желал наказать не только меня, но и совершенно невиновных детей, которым я нужна независимо от того, что думает обо мне Александр!
Что было делать? Вымаливать у управляющего тайные свидания? Он не согласился бы, да и для меня это было бы слишком унизительно.
Голосом, прерывающимся от гнева, я спросила:
— Сударь, вы поддерживаете какие-нибудь связи с герцогом?
— Он должен присылать мне свои распоряжения, но, повторяю вам, я…
— Успокойтесь, я не собираюсь снова спрашивать вас, где он находится. Я лишь прошу вас при случае сообщить ему о том, что, если он не изменит своего мнения и не разрешит мне видеться с детьми, я сама начну дело о разводе.
Управляющий недоверчиво смотрел на меня.
— Да, я обращусь в республиканский суд, в суд синих! — вскричала я в ярости. — Я пожалуюсь республиканцам на своего мужа-роялиста. Я на что угодно пойду, лишь бы вернуть детей! И, по-моему, не вызывает сомнения, на чью сторону встанет Республика, — на мою или на сторону шуана и заговорщика!
Последние слова я почти выкрикнула. После этого мне нечего было добавить. Я пошла к лошади, вскочила в седло и скрылась в чаще.
Все, что я узнала, причинило мне боль, которую я уже очень давно не испытывала. Эту боль можно было сравнить разве что с болью утраты Розарио или Изабеллы. Я ехала не разбирая дороги, и слезы застилали мне глаза. Он пожелал отомстить мне именно таким способом! Пожелал уязвить побольнее! Уж он-то знал мое самое слабое место и ударил так сильно, как только мог. Да, возможно, я зря доверилась этому человеку. Я открыла ему всю душу, а он воспользовался этим. Надо никому не доверять, чтобы потом не разочаровываться. Раньше я жила, следуя этому правилу. Он убедил меня, что это не так… но в конечном итоге повернул мою доверчивость против меня самой.
Мои дети… Нет, я все-таки не хотела верить! На близняшек он вообще не имел права — он им не отец! А Филипп… Ведь не он же один создал его! Он проводил с Филиппом две-три минуты в день, а я растила его с пеленок. Доселе он вообще не воспитывал сына. А я болтала с ним, гуляла, баюкала. Филипп обожает меня. Так за что же причинять боль и мне, и малышу?
Впервые после той ужасной сцены в кабинете я почувствовала, как испаряется ощущение вины, испытываемое мной раньше, а на смену ему приходит возмущение. И тоска, и горе от потери его, самого дорогого и любимого, — все отступило на второй план перед мыслью о детях. Даже самые скверные предчувствия не предвещали такого поворота дела. Что и говорить, он поступил несправедливо! И я отказывалась оправдать его поступок даже гневом!
Констанс была поражена, когда я рассказала ей о том, что узнала. Она сказала, что умерла бы, если бы кто-то отобрал у нее Марка.
— Вот-вот! — подхватила я со слезами. — Только уж я-то не умру! Я так просто не сдамся! Не сдамся, потому что не заслуживаю того, что он сделал! Поступать по праву сильного — это просто мерзость! Я не знала его! Он дикарь!
Я рыдала на плече подруги. Самые отчаянные мысли приходили мне в голову. Управляющему я сказала, что пожалуюсь на Александра и выберу в арбитры синих. Конечно же, республиканцы будут рады встать на мою защиту. Будут рады хоть чем-то уязвить человека, который так яростно боролся против Республики. Но я-то, я… могла ли я, если рассуждать всерьез, выбрать такой способ? Могла ли я вовлечь в это дело людей, которые мне самой противны? Мои отношения с Александром были мне дороги, слишком дороги для того, чтобы опуститься до такого. Что сказал бы мне мой сын, узнав, как я поступила с его отцом?
Стало быть, выхода у меня и вовсе не было. Действовать я пока не осмеливалась — у меня не хватало низости, а бездействие означало для меня потерю детей. Впрочем, нет, был еще один выход: ждать.
— Что же вы будете делать, дорогая? — шепнула Констанс.
Я подняла залитое слезами лицо, вытерла слезы и высморкалась.
— Я могу только ждать, Констанс.
Помолчав, я добавила:
— А пока… пока я поеду в Сент-Элуа. Я слишком давно не была дома. Может быть, от этого все мои неприятности.
ГЛАВА ШЕСТАЯ ЛЕДИ МЕЛИНДА ДЭЙЛ
1
Надо было начинать новую жизнь. Как-то устраиваться, становиться на ноги. Надо было поскорее избавляться от этого невыносимого ощущения пустоты и бессмысленности существования. Именно об этом я думала с тех пор, как приехала в Сент-Элуа.
Возвращение сюда, в Нижнюю Бретань, очень меня успокоило, вернуло душевное равновесие. По крайней мере, я была уверена, что это мой дом, что здесь я никому не в тягость и что отсюда никто не посмеет меня выгнать. Я почувствовала себя почти исцеленной уже тогда, когда, подъезжая, увидела цепь нескончаемых холмов на горизонте, плавные линии лесов, уходящие в бесконечность, рощицы фруктовых деревьев, выросших вдоль разрушенных древних укреплений, и извилистую ленту дороги, петляющей вдоль реки к замку. На холме раскинули крылья ветряные мельницы: среди них была и моя, заново отстроенная. У меня чаще забилось сердце, дыхание стало взволнованным, и я со слезами на глазах поняла, что эта земля еще раз подарит мне успокоение, как это было четыре года назад.
— Аврора, понимаешь ли ты? — вскричала я, прижимая ее к себе. — Это же наша земля, наш дом! И отсюда нас никто не может выгнать!
Аврора улыбнулась, но без особого энтузиазма: самые счастливые годы она все-таки провела не здесь, а в Белых Липах. Там, кроме всего прочего, у нее был и некий романтический интерес. Там можно было встретить мужчин, достойных внимания, да и Поль Алэн явно не был равнодушен к ее улыбке. А здесь ее вообще никто не сможет увидеть. Впрочем, стоит ли грустить по этому поводу? Она еще такая юная. Если на то пошло, то она для своего возраста видела даже слишком много света. Я была представлена ко двору, когда была на полгода старше.
Самым главным было то, что я здесь обрела надежду. Мне перестало казаться, что все в моей жизни кончено. Все-таки там, в Белых Липах, я была слишком зависима, а потому уязвима. Я лишь теперь, когда случилось самое худшее, поняла, каким шатким было мое положение: я что-то значила только благодаря благосклонности Александра. Как рабыня, попавшая в милость. Теперь я в немилости — и меня разом лишили всего. Здесь, в Сент-Элуа, я знала, что такого произойти не может. Здесь я не завишу ни от чьей доброй воли, ни от чьих капризов. Здесь у меня появится ощущение твердой почвы под ногами.
Я еще не знала, что будет дальше и как сложится моя жизнь. В моей душе, конечно же, оставалось очень много боли и горя. Я ведь любила Александра. Я понимала, что смогу жить без него, но понимала с тоской. Кроме того, я не думала отказываться от детей. Словом, будущее оставалось зыбким, неопределенным. Но, по крайней мере, настоящее я здесь получила.
Была построена половина первого этажа замка и значительно обновлена еще та, старая, башня, которая так выручала нас когда-то. На зиму, как всегда, работы были прерваны, и человек, заведующий строительством, уехал к себе в Ванн. С десяток работников вместе с семьями жили сейчас в домах возле ручья, — хижинах, наспех сложенных из камня. Эти люди уже обзавелись небольшим хозяйством, имели живность и занимались огородничеством. Впрочем, я понимала, что рано или поздно придется от них избавиться: присутствие нескольких ферм так близко от замка создаст много неудобств, особенно если замок будет закончен. Я хотела, чтобы все было, как раньше: замок, стена ограды и живописные луга, сбегающие к речке, — словом, без всяких хижин, огородов и барахтающихся в пыли индюшек.
Те слуги, которых я считала непременными обитателями Сент-Элуа, жили в башне, которая все еще выполняла роль жилого помещения и кухни, а не библиотеки, как это было раньше. Впрочем, изменять что-либо я пока не хотела. Еще было так далеко до полного восстановления поместья, а теперь, когда я вроде бы больше не жена герцога дю Шатлэ, завершение работ вообще казалось сомнительным. Нам с Авророй подготовили комнату в уже отстроенной части дворца. Там было пока неуютно, сыро, сильно пахло камнем, раствором и древесиной. Камин приходилось жарко топить весь день напролет, но все равно мы зябли. Я теперь поняла, что отстроенные стены — это еще далеко не все. Сент-Элуа потому был так мил и уютен, что здесь была великолепная старинная мебель, ковры, сосновый паркет, стены были покрыты обшивкой из дерева редких пород. Повсюду были драгоценные вещицы, статуэтки, светильники, повсюду струился шелк портьер, занавесок, шпалер и гобеленов… Чего стоили хотя бы столовое серебро и фарфор! Я не представляла себе, как это все можно вернуть. В моем воображении рисовались такие суммы, что я приходила в ужас и говорила себе, что все это не вернется никогда.
Действительно, чуть ли не семьсот лет род де ла Тремуйлей создавал свое фамильное гнездо, его великолепие и изящество. А я хочу добиться чего-то уже при своей жизни — это смешно!
Здесь, в Сент-Элуа, я была ближе к земле, к традициям. Пытаясь полностью изменить свою жизнь, я охотно повязала вокруг талии фартук и взялась за работу; убирала дом, пекла пироги, жарила рыбу, ну разве что в хлев не заглядывала. Я ведь была теперь не та, что десять лет назад, и все умела. Сама работа приносила мне удовольствие и как-то обновляла. Мне не хотелось читать романов или сидеть за рукоделием: это только добавляло изнеженности, экзальтированности, мнительности и склоняло к горьким мыслям. Более грубая работа, напротив, давала выход силам и энергии. Я ведь никогда не была нежным, кротким созданием. Кто-кто, а уж я-то помнила, что не всегда была аристократкой.
Время летело быстро, почти незаметно. На святого Андре выпал снег — стало быть, пришла зима. Этот снег был очень полезен посевам и, как говорила поговорка, «стоил ста экю». В тот же день начался адвент — предрождественский пост. Три последующие недели внушали крестьянам суеверный ужас: в это время колдуны имели особую власть, повсюду бродили души умерших насильственной смертью, бродили даже оборотни по полям и якобы мешали людям идти к вечерней мессе.
В день святой Барбы зерна пшеницы были положены в блюдца и залиты водой, с тем, чтобы к Рождеству появились ростки. Я не успела оглянуться, как наступило 8 декабря, праздник святой Девы. Бретонские дети зажигали на полях огни, которые должны были изгонять вредителей, и нараспев приговаривали:
Кроты, гусеницы, полевые мыши, Уходите, уходите с моего участка. Или я вам сожгу бороду и кости. Деревья и деревца, дайте мне яблок.Я сильно загрустила двумя днями раньше, в праздник святого Никола — детский праздник. Я всегда дарила своим малышам подарки. И сейчас они, наверное, выставляли у камина свои башмачки и чулочки — найдут ли они там что-нибудь утром? Помнит ли об этом Александр? Да как он может помнить, если его, скорее всего, нет дома! Дети наверняка заброшены. Если Маргарита не позаботилась о подарках, значит, не позаботится никто, ведь нельзя же предположить, что у Анны Элоизы хватит на это воображения. Она даже Филиппа не очень-то жалует, и все потому, что я его мать. Вероника и Изабелла — они уже многое понимают, они привыкли, что я делаю им подарки. Что они подумают обо мне на этот раз? Что им вообще сказали о моем исчезновении? Я смахнула слезы с ресниц, вспомнив, что еще летом, в августе, сама вышила Филиппу башмачки на день святого Никола. О них, конечно же, все забыли.
Нет, на Рождество я просто обязана поехать в Белые Липы. Нельзя допустить, чтобы все это продолжалось. На Рождество Александр в любом случае появится — хотя бы для того, чтобы поцеловать руку своей старой бабке. Мне надо улучить момент и встретиться с ним. Если он не изменит решения, я, черт возьми, все-таки пожалуюсь на него, ибо больше терпеть я не намерена!
В лице Селестэна Моана, который был нынче управляющим Сент-Элуа и командовал всеми работниками, Франсина Коттро, прежде не дававшая покоя ни себе, ни другим, нашла, наконец, опору и мужа. Они были уже почти два года женаты. Франсина ходила с таким большим животом, что было даже удивительно, как она еще двигается. Все были уверены, что у нее родятся близнецы. Она тем не менее выполняла ту же самую работу, что делала раньше: всюду ходила, готовила пищу, даже белила потолки. Силы для такой бодрости может дать только счастье, я это знала по опыту. Они с Селестэном жили очень неплохо, лучше, чем прочие бретонские семьи, потому что поженились не для того, чтобы соединить свои земли, а по взаимному влечению.
Белила потолки, впрочем, не только Франсина, но и я, и даже Аврора, которая вообще-то не была склонна к таким занятиям. В одну из подходящих минут я осторожно спросила ее, какие отношения сложились у нее с графом де Буагарди.
— Он ухаживал за мной.
— О, это я видела, — сказала я улыбаясь. — Ну а точнее? У него были серьезные намерения?
Аврора закусила губу, взглянула на меня и ответила почти сердито:
— Ни у одного человека, кроме несчастного Дени Брюмана, не было в отношении меня серьезных намерений. Ты же знаешь, мама, эти дворяне — из них редко кто меня ценит.
— Что ты имеешь в виду? Ты такая красивая, воспитанная… Не думай так, моя девочка, ты ошибаешься!
— Нет, мама, — сказала она горько. — Не ошибаюсь. Мало кто верит в благородство моего происхождения. А если и верят, то все равно считают, что я не для них.
Скривив губы, она передразнила:
— Как же виконту или графу связать свою судьбу с девушкой, которая неизвестно откуда взялась! Им нужны невесты безупречные во всех отношениях. Я нравлюсь им, но жениться на мне они не хотят. По крайней мере, никто, кроме Брюмана, не хотел!
— Боже мой, — проговорила я, — так чего же они хотят?
Я имела в виду: что же им надо, если даже такая девушка, как Аврора, красивая и умная, им не подходит? Аврора поняла меня совсем не так.
— Мама, они хотят что угодно, только не брака. Мы обе понимаем, какие неделикатные вещи под этим кроются.
— Они тебе так и говорили? — спросила я в ужасе.
— Нет. Но я и так понимаю.
Она соскочила с табурета и некоторое время опечаленно глядела в окно, дергая сама себя за локон.
— А ты говоришь о графе де Буагарди… он относился ко мне как к дурочке.
— Он просто считал тебя слишком юной. Он относился к тебе как к ребенку, — мягко поправила я ее.
— Ему бы только иронизировать… Да и Поль Алэн не лучше. Ах, мама, у меня ужасная судьба!
Я невольно улыбнулась, слыша такие отчаянные слова из уст девушки, которой нет еще и семнадцати.
— Успокойся, Аврора. У тебя перед ними есть одно неоспоримое преимущество. Ведь ты не влюблена в них, нет?
— Нет. А какое такое преимущество? — спросила она, сразу заинтересовавшись.
— Если ты не увлечена, а они увлечены, то именно они у тебя в руках, а не ты у них. Мне кажется, ты сама отлично это понимаешь.
Она рассмеялась и сказала, что отлично умеет этим пользоваться, по крайней мере она насквозь видит, чего хотят от нее эти молодые люди, и ни одному еще не удалось ее провести. Мы обнялись, и я, понимая, что Аврора уже не ребенок, позволила себе небольшой откровенный порыв. Я рассказала ей о себе.
— Ты знаешь, Аврора, — сказала я наконец, — я не хочу тебя стеснять. Когда я была в твоем возрасте, я наделала немало ошибок. Жан у меня появился только по недоразумению. И все-таки, вспоминая все это, я думаю, что ничего не хотела бы менять. Даже от самого плохого я не отказываюсь. Ошибки, знаешь ли, делают жизнь полнокровной. А иногда даже оказывается, что то была вовсе не ошибка.
— Что ты хочешь этим сказать? — шепнула она.
— Я имею в виду то, что даже если ты ошибешься, это не так страшно. Это просто жизнь. Поступай так, как тебе велит сердце.
Она надула губы и сказала, что сердце ей пока еще ничего не велит.
Вынув яйца из-под наседок и собрав их в корзину, я приготовилась уходить. Я подняла корзину, показавшуюся мне довольно тяжелой, и прикрыла за собой дверь курятника. В этот миг кто-то окликнул меня:
— Мадам!
Голосок был тонкий, несмелый, детский. Я оглянулась. В пяти шагах от меня стояла худенькая девочка, одетая в очень нарядный бретонский костюм: яркая юбка, корсет со шнуровкой, белые чулки, козья шубка. Кружевной чепчик, явно новый и впервые надетый, прикрывал завитки светлых кос, скрученных, как улитки, за ушами. А из-под чепчика на меня вопросительно смотрели два зеленых глаза — прямо как два изумруда.
— Ты Берта! — сказала я обрадованно. — Что ж, здравствуйте, милейшая мадемуазель Бельвинь!
Она зарделась, переступила с ноги на ногу и неловко сделала реверанс. Потом природная живость взяла верх над налетом благовоспитанности; она улыбнулась мне прямо-таки ослепительно. Зубы у нее были белые, как жемчуг, и улыбка делала ее круглое личико очень хорошеньким.
— Ах, как хорошо, мадам, что вы меня не забыли! — воскликнула она на не слишком правильном французском. — А маленький сеньор тоже меня помнит?
— Ты говоришь о Жане?
— Да.
— Он очень хорошо тебя помнит, моя дорогая, но он сейчас далеко. Дед увез его из Франции.
— Ах, — сказала она опечаленно. Потом несмело спросила: — Может быть, вы передадите ему мои куплеты?
— Куплеты?
— Да, мадам, — проговорила она быстро, — ведь нынче адвент, и все девочки и мальчики посылают друг другу куплеты.
Я улыбнулась. Потом жестом подозвала ее к себе. Она подбежала. Наклонившись, я расцеловала ее в обе щеки.
— Конечно же, милочка, я передам их ему. Мне кажется, ты даже более любезна, чем Жан. Ты лучше помнишь вашу дружбу. Сколько тебе лет, Берта?
— Было десять на святую Катрин.
— Так ты уже барышня! Тебя, того гляди, скоро обручат.
Она прыснула со смеху, но тут же зажала себе рот рукой.
— Пойдем к нам, — сказала я ласково. — У нас на обед отличный рыбный суп, и, кроме того, я расскажу тебе о Жане.
— Правда? Вы меня приглашаете?
Мы вместе пошли к дому, и она щебетала мне что-то о своем первом причастии, белом платье и козочках, родившихся на ферме. Потом, внезапно запнувшись, она умолкла и со страхом посмотрела на меня.
— Ах, Боже мой! Ведь папа не позволяет мне ходить к вам!
— Почему? — спросила я, впервые слыша о таком. Я в этот свой приезд уже несколько раз видела Бельвиня, и он вел себя довольно почтительно по отношению ко мне.
— Не знаю, мадам. Но я спрашивала… и он не разрешил.
Помолчав, она так же испуганно добавила:
— Я лучше пойду, а то как бы он меня тут не увидел.
Она еще раз присела в реверансе и, так и не поглядев на меня, бросилась бежать к воротам так, что только белые чулки замелькали.
Эта встреча сильно задела меня, потому что напомнила о Жане. Я не видела сына почти полтора года. И с тех пор, как я узнала, что он вместе с дедом уехал в Сен-Жан-д’Акр, я не получила даже клочка бумаги, исписанного почерком Жана. Я не знала не то что подробностей, я не знала даже, ни когда мой сын вернется, ни где он сейчас находится. Помимо этого, я чувствовала себя бессильной что-либо изменить. Мне оставалось только ждать и надеяться, что с ним ничего не случится и что у моего отца хватит благоразумия, чтобы привезти Жана домой хотя бы на это лето. Единственное, что я сделаю тогда, — это уже никуда не отпущу Жана. Разве что в коллеж в Итоне.
И я снова, уже в который раз, подумала: но ведь у меня есть другие дети. И они-то не в Сирии, я могла бы их видеть, потому что имею на это полное право. В конце концов, это чудовищная несправедливость — то, что Александр выдумал мне именно такое наказание. Я должна бороться хотя бы за дочерей, и, черт побери, если он будет непреклонен, я тоже перестану обращать внимание на условности и перестану быть щепетильной. Если он действует любыми способами, лишь бы досадить мне, почему я должна сдерживать себя от обращения в республиканский суд?
А еще… Очень тяжелы были ночи. Просыпаясь, я часто воображала, что Александр рядом, иногда даже протягивала руку, чтобы через несколько секунд очнуться и убедиться в том, что все это мне только кажется. Его присутствия мне не хватало просто физически. Ушло из моей жизни что-то такое, что позволяло мне чувствовать себя спокойно каждую минуту. Я понимала, что со временем это пройдет, но сейчас мне было трудно. И так не хотелось расставаться с тем, что я имела раньше.
Словом, накануне Рождества я сказала Авроре, что уезжаю, и через десять часов пути была уже у Констанс. Там я узнала, что Александр, видимо, домой еще не возвращался. Я решила подождать, потому что была уверена, что к празднику он непременно явится.
Там же, у графини де Лораге, я вдруг вспомнила о Брике и подумала, что если кто и поможет мне, так это он.
2
Прожив несколько дней у Констанс, я узнала, что Александр, предположительно, находится в Ренне, и, не выдержав, поехала туда, надеясь, что встречу его хотя бы случайно. Ведь нам все-таки надо было объясниться: наши отношения я считала невыясненными, и многое еще не было решено. В частности, вопрос о детях. Я понимала, что поступаю не слишком гордо, когда пытаюсь гоняться за своим — бывшим или теперешним? — мужем, но, честно говоря, сейчас мне было не до гордости. Кроме того, у меня был повод, надо было навестить племянника в коллеже.
Я проведала Ренцо, привезла ему рождественские подарки и пообещала забрать его из коллежа на святки. По пути оттуда я зашла в лавку и совершенно машинально приобрела золотые ножнички для обрезания сигар — как бы в подарок Александру на Рождество. Я понимала, что это, наверное, ни к чему. Просто мне хотелось это сделать. Эта покупка как-то уменьшала боль в душе и создавала иллюзию того, что я еще могу все наладить.
Правда, найти Александра в Ренне оказалось делом невозможным. Я побывала в отеле дю Шатлэ на улице Шапитр и выяснила только то, что и тамошним слугам меня впускать в дом не велено. Но, по крайней мере, я поняла, что Александр сейчас там не живет. Может быть, конечно, он находится у друзей или где-нибудь в гостинице, но все это показалось мне слишком запутанным, и я прекратила поиски. В конце концов, пора было вспомнить о чувстве собственного достоинства.
Брике, узнав, что я хотела бы его видеть, явился в Гран-Шэн в сочельник, когда уже начало смеркаться.
Я давно его не видела. Я даже как-то забыла о нем и теперь сожалела об этом. Поэтому, увидев его, я первое время внимательно его разглядывала, отмечая происшедшие с ним перемены.
Ему был почти двадцать один год, он, конечно же, сильно возмужал и теперь больше походил на юношу, а не на мальчишку, но все равно оставался нескладным, долговязым и очень тощим. Как и прежде, была изрядно взлохмачена его густая шевелюра. И, честно говоря, вид у него был такой неухоженный и неприкаянный, что я, прежде чем начать говорить, по-матерински пожалела его и усадила за стол. Он с жадностью набросился на суп с шалфеем и чесноком, отведал жареной рыбы и цветной капусты — словом, воздал должное всем блюдам, принятым в сочельник. Потом, уже доедая треску, приправленную перцем, он насилу проговорил:
— Как хорошо, ваше сиятельство, что вы обо мне вспомнили! И нехорошо, что вы ушли и бросили меня. Я ведь без вас никто в Белых Липах.
Я усмехнулась.
— Разве ты не знаешь, как я ушла? Мне было не до тебя, Брике. Я шла почти босиком.
— А что вы хотите теперь?
Прежде чем ответить, я некоторое время наблюдала, как он расправляется с улитками, а потом намазывает конфитюр на круглую сдобную лепешку.
— Герцог сейчас в замке? — спросила я, уверенная, что ответ будет отрицательный.
— Приехал нынче утром, — пробормотал Брике с набитым ртом.
Я даже приподнялась с места от неожиданности.
— В замке? Ты говоришь, он в замке?
— Да. А что такое? Если вы хотите вернуться, то это, я думаю, зря. Он совсем плохо к вам настроен.
— А что он делает, ты знаешь? Где он был все это время?
— В Ренне, мадам.
— Я была там, но не нашла его в нашем отеле.
Брови Брике поползли вверх, и он на миг даже поперхнулся.
— Вы искали его?
— Да.
— Напрасно. Напрасно вы это делали.
В глазах Брике было что-то мне непонятное.
— Что ты имеешь в виду?
— Знаете, мадам, не мне вам это говорить… но, похоже, у него в Ренне женщина и он живет с ней в гостинице.
Нельзя сказать, что это сообщение оставило меня безразличной. Я напряглась так, что у меня побелели сжатые в кулак пальцы.
— Женщина? Что еще за женщина?
— Не знаю, мадам.
— Стало быть, это сплетни.
Он ничего не ответил. Может быть, был согласен со мной, но, может быть, просто не хотел меня тревожить. Чертыхнувшись в душе, я подумала, что мне не об этом следует сейчас размышлять. Я ведь позвала Брике не для того, чтобы выуживать сведения о какой-то любовнице герцога.
— Брике, ты знаешь, я просто умираю — так мне хочется повидать сына и близняшек.
Это прозвучало весьма многозначительно. Брике, прежде чем ответить, расправился с лепешкой, потом отрезал напоследок кусок кровяной колбасы и сунул себе в карман.
— Брике, только ты можешь мне помочь, — сказала я снова.
Он все еще не отвечал. Тогда я произнесла:
— Брике, если тебе нужны деньги, я готова запла…
Он прервал меня:
— Вы хотите, чтобы я провел вас в замок?
Я кивнула.
— Ваше сиятельство, меня выгонят, если узнают, что я вам помог, и я потеряю даже это место.
— Но кто узнает? — спросила я горячо. — Ты лишь проведешь меня через лес, где стоят эти проклятые шуаны, а дальше, в доме, я и сама разберусь. Брике, пожалуйста! Мы ведь друзья. И если… если тебя все-таки выгонят, я никогда не откажу тебе в помощи.
Он, казалось, колебался, и я произнесла со слезами в голосе:
— Брике, я больше не могу так! Я должна их увидеть! Ну что я совершила такого ужасного, чтобы меня лишили права навещать их? Ты же знаешь, как я люблю своих малышей. Пожалей меня хоть ты, а то все в Белых Липах — и старуха, и виконт, и даже герцог — меня ненавидят!
Он тоскливо посмотрел на меня, взъерошил себе волосы. И сказал:
— Ясное дело… Пойдемте.
Я вскочила на ноги.
— Ты прелесть, Брике! Ты самый лучший друг. Подожди минуту, я только заберу подарки.
В Ренне я продала одно из колец, подаренных мне Александром, и на эти деньги сделала много покупок. Иных-то возможностей у меня не было. Я представляла себе, как обрадуются близняшки, как улыбнется Филипп, и перед этим меркло чувство грусти, которое я испытала, расставаясь с подарком герцога дю Шатлэ.
Было уже совсем темно, когда мы подошли к дому. Авантюра пока удавалась нам без всяких приключений. Брике, распрощавшись со мной, сразу нырнул в какие-то кусты, а я, ступая тихо, как кошка, проскользнула в дом.
Как тихо здесь было… Как тогда, когда я впервые сюда приехала. Парадная лестница была освещена тускло, а с этажей и вовсе не пробивался свет. И это в сочельник — накануне Рождества! Интересно, поставили ли хоть елку в белой столовой? Я была уверена, что нет, и ощутила даже злорадную радость от того, что без меня тут все так нарушилось. Без меня здесь снова стало безмолвно, холодно и мрачно. Все сидят в своих комнатах. И трапезы, наверное, снова стали немыми.
Любопытно, улыбается ли когда-нибудь Александр?
Я сразу же одернула себя, решив не злорадствовать по этому поводу. Если он и не улыбается, если он снова стал замкнут и молчалив, это в какой-то мере и моя вина. Другое дело то, что и он повел себя чересчур круто и этим только все усугубил. Впрочем, об этом ли я должна была сейчас думать?
Я поднялась на третий этаж, никем не замеченная, и, только когда открывала дверь детской, мне показалось, что я вижу в глубине коридора силуэт Элизабет. Я решила не обращать на это внимания и воспользоваться каждой минутой, которая была в моем распоряжении. Элизабет не выгонит меня из детской. Я воспользуюсь своим правом и даже сам дьявол меня не остановит!
Для меня было неприятным сюрпризом обнаружить, что в детской нет Филиппа. Здесь спали девочки, но даже кроватки своего сына я не увидела. Я закусила губу, понимая, что мне не удастся его повидать: для поисков в доме у меня не было времени. Потом, пытаясь справиться с огорчением, я стала ласково будить дочерей.
Они толкались, сопротивлялись, но в конце концов открыли глаза, и встреча наша была самой бурной. В белых ночных рубашках и чепчиках, из-под которых струились волосы цвета кипящего золота, они соскочили с кроватей, бросились ко мне, обнимали, смеялись, целовали и щебетали так возбужденно, что одна не давала мне понять другую.
— Почему ты не живешь с нами, мамочка?
— Почему папа все время уезжает и тебя тоже нет?
— Мы всегда одни.
— А госпожа старая герцогиня нас не любит, и Элизабет тоже.
— И господин виконт сказал, что папа нам вовсе не папа!
Я задохнулась от злости, услышав о таком высказывании Поля Алэна. Да будь он проклят — ему даже малышек не жалко! Мерзавец! Прижав обе золотистые головки к груди, осыпая их поцелуями, я пробормотала:
— Дорогие мои, я все вам объясню. Потом. А сейчас… сейчас ведь праздник. И я с вами. Давайте будем радоваться.
Они заглядывали мне в глаза, прижимались щекой к моим ладоням, теребили платье и было видно, как им хочется, чтобы их обняли. Я делала это, с горечью понимая, что им не хватает ласки. Они же девочки! И они такие еще маленькие! Им мало только того, что их вовремя кормят и вовремя укладывают спать!
— Герцог — это ваш папа, поверьте, — проговорила я настойчиво, снова и снова целуя их, прижимая к себе, обнимая и баюкая. — Не слушайте того, что вам говорят. Я люблю вас, и папа тоже любит.
— Почему же ты теперь не с нами? Мамочка! Оставайся здесь!
Они сами не понимали, что доводят меня до слез. Я ласково погладила их волосы, поцеловала в висок сначала одну, потом другую.
— Видите, у меня на пальце два бриллианта? Один камешек это Вероника, другой — Изабелла. Вы всегда со мной. И теперь, мои милые, скажите, где Филипп?
Все так же ласкаясь ко мне, приглядываясь к бриллиантам, они путано рассказали мне, что Филипп живет теперь на втором этаже и что у него теперь новая нянька.
— Завтра Рождество, — сказала я, пытаясь справиться с собой и добиваясь, чтобы голос звучал весело и ровно. — Я привезла вам подарки. Они из Ренна.
— Наверное, мамы потому и не было, — благоразумно рассудила Вероника. — Ты ездила за подарками, правда, мама?
— Глупая! — перебила ее Изабелла. — Ренн совсем близко, и оттуда быстро возвращаются.
— Ну, хватит, хватит, Бель! — остановила я ее. — Не называй Веронику глупой. Браниться девочкам не к лицу. Вы должны быть особенно дружны теперь, когда все так изменилось.
Изабелла сделала гримасу, из которой трудно было понять, что она думает по поводу моих слов.
Подарков действительно было много: две куклы с полным гардеробом, серебряные сережки, коробки шоколадных конфет — разумеется, для каждой девочки разные, ибо я помнила их соперничество. Заботясь о том, все ли есть у моих дочек, я купила несколько платьев, наборы лент и чулочков, панталончиков и корсажиков. Отдельно я положила коробки с подарками для Филиппа, и близняшки обещали мне, что все это передадут брату. Потом мы уселись прямо на полу и открыли одну из коробок с конфетами.
— Ну-ка, птички, откройте свои клювики, — сказала я весело.
Они разевали рот, как галчата, и я кормила их конфетами, угощая по очереди то Веронику, то Изабеллу, приговаривала что-то, загадывала загадки и в награду за правильный ответ одаривала поцелуем.
Именно во время всего этого дверь отворилась, и я увидела Александра.
На фоне темного коридора, в проеме двери, его силуэт казался особенно высоким и мрачным. Внутри у меня все похолодело. Я поднялась с колен, а вслед за мной, почувствовав, что что-то не так, поднялись и девочки.
— К нам пришла мама, — осмелилась пискнуть Вероника.
— Пожалуйста, не прогоняйте ее, — прошептала Изабелла, бледная от испуга.
Как она догадались, что он захочет прогнать меня? Я не задумывалась над этим, но вот страха, так откровенно написанного на лице дочери, я не могла вынести. Я наклонилась, торопливо поцеловала их обеих, прошептав:
— Ступайте в постель, мои ангелочки. Вы должны уснуть, и я обязательно приду к вам во сне.
— Правда?
Они не очень-то верили мне, но, потоптавшись на месте, побрели к своим кроватям, то и дело оглядываясь. Я вскинула голову и смело поглядела на герцога. Александр, доселе не сказавший ни одного слова, произнес:
— Спокойной ночи.
С этими словами он посторонился, ожидая, пока я выйду, и закрыл дверь.
Сердце у меня сжималось. Смогу ли я все это вынести? Казалось, только-только звучали вокруг меня голоса моих близняшек, и вот я снова не знаю, когда увижу дочерей в следующий раз. Александр стоял у лестницы и смотрел как бы мимо меня. Боль от разлуки с детьми так задела меня, что я резко бросила:
— Нам надо поговорить.
— О чем?
— О моих дочерях. Я намерена забрать их.
— Вы их не заберете.
Наступило молчание. Я прижала руку к груди, пытаясь умерить бешеный стук сердца. Мне трудно было даже дышать.
— Я должна их видеть хотя бы изредка, поймите это, сударь.
— Все будет так, как решил я, и нынешнего промаха прислуга больше не допустит.
Я прошептала с истинной мукой в голосе:
— Вы понимаете, что это бесчеловечно, чудовищно? Вы просто убиваете меня!
Он ответил с таким презрением, что я похолодела:
— А с чего вы взяли, что заслуживаете иной участи?
Я чувствовала, как злые слезы закипают у меня на глазах. Ни капли любви я не ощущала сейчас к Александру и ни капли сожаления по поводу того, что мы расстались, — только злость и возмущение. Я пылала желанием бросить ему в лицо все те негативные чувства, что обуревали меня, сказать ему, что он поступает несправедливо и необдуманно. Но я хорошо понимала, что исход дела зависит от него, и не хотела обострять ситуацию. Да что там говорить, я готова была забыть о себе и на коленях умолять его.
— Вы сами видели, — прошептала я едва слышно, — они любят меня и хотят, чтобы я осталась… Вы же не монстр… Подумайте! За что наказывать детей? Я понимаю, что вы ко мне чувствуете, но как можно их приносить в жертву своей ненависти?
— Вы воображаете, что я вас ненавижу? Черт возьми, какое самомнение.
Мне вдруг пришло в голову, что все это уже было. Когда-то, более одиннадцати лет назад, на Мартинике. Тогда я так же умоляла своего отца. Ему мои слова казались нелепыми и смешными. Вероятно, сейчас мне стоило прекратить унижаться и начать говорить твердо и требовательно. Но что поделаешь: одна мысль о том, что я на долгое время буду лишена возможности видеть своих дочек, слушать их голоса, смеяться вместе с ними, лишала меня твердости, заставляла трепетать. И поэтому я сделала еще одну попытку.
— Сударь, но будьте же справедливы. Близняшки — они ведь больше мои, чем ваши. То, как вы с ними поступаете, вообще необъяснимо. Я прошу вас…
— Довольно, — прервал он меня. — Боже праведный, как мне все это надоело.
Я беспомощно умолкла, и слезы дрожали у меня на ресницах. Он сделал шаг мне навстречу; лицо у него было искажено, у твердо сжатых губ появились белые черточки.
— Послушайте, я сейчас заговорю о другом… Вы стоите здесь и даже не подозреваете, как мне отвратительно говорить с вами. Черт побери, да ни одна женщина не была мне так отвратительна! Вы шлюха, глупая и сентиментальная шлюха! Ничего отвратительнее и быть не может! Вы думаете, такой особе, как вы, я отдам детей, чья судьба мне доверена? Да вы с ума сошли. Для вас же будет безопаснее, если вы уберетесь и не появитесь здесь больше никогда. Лейте свои слезы где угодно, только не здесь, и свои причитания адресуйте кому угодно, только не мне. Это единственный ответ, который я могу вам дать.
Он говорил спокойно, ну, может быть, лишь несколько ноток гнева прорвалось в его тоне. Я слушала его, потрясенная до глубины души. Больше всего меня поразило даже не то, что он говорил, а его тон. Если бы он кричал и бранился, это еще можно было бы вынести, как-то понять, оправдать гневом. Но он был спокоен. Он, стало быть, говорил сознательно. И такое негодование охватило меня, что я не могла больше сдерживаться. Я чувствовала, что он несправедлив, что он приписывает мне больше вины, чем следует.
— Ах вот как, — проговорила я с яростью, клокотавшей в голосе, и глаза у меня сузились от гнева. — Вы, быть может, воображаете, что мне приятно говорить с вами? Что же приятного в беседе с куском железа, который настолько обезумел от ревности, что даже детей заставляет мстить своей матери! А пришла я вовсе не для того, чтобы видеть вас… Я уже передавала вам, что намерена делать. Я обращусь в суд!
— Вы и до этого дойдете?
— Дойду. Я вас ненавижу теперь, да, ненавижу! И нельзя сказать, что это новое для меня чувство. Я просто вернулась к тому, что чувствовала к вам в начале нашего проклятого брака.
В этот миг я нисколько не лгала. Я говорила именно то, что клокотало в душе, и была искренна. Он шагнул ко мне, рука его была поднята и сжата в кулак, но, несмотря на то что его лицо сейчас могло навести ужас на любого (и на меня прежде, три года назад, наводило), я не испугалась. Подняв руку в ответ, я выкрикнула:
— Хватит! Довольно! Ваших побоев я больше терпеть не намерена, вы мне больше не муж! Вы мне вообще никто! И суд вскоре это докажет!
Он произнес сдавленным голосом, сквозь зубы:
— Нет такого суда в мире, который был бы способен заставить меня хоть в чем-то пойти вам навстречу. А теперь убирайтесь.
— Мы еще посмотрим, есть такой суд или нет, — пробормотала я в бешенстве.
— Убирайтесь вон, — повторил он.
— С удовольствием, — бросила я через плечо, уже спускаясь по лестнице.
3
Я так долго плакала после этого разговора, что мне стало казаться, что я ослепла и выплакала все глаза. Уже очень давно у меня не было таких горьких и горючих слез. Даже тогда, когда он меня выгнал. Мне та ситуация казалась не такой тяжелой, как нынешняя: тогда, по крайней мере, он не говорил, что я ему так отвратительна. Словом, не говорил того, что высказал сейчас. Это было так унизительно, что я даже не верила, смогу ли оправиться после того, что услышала. Я, конечно, тоже многое ему сказала. И, что самое страшное, мы оба добились только того, что наш полный разрыв стал неизбежен.
Да, вот теперь я понимала, что нам уже не жить вместе. Разве это возможно после этого разговора? Я впервые стала допускать мысль, что он уже вовсе не любит меня. Да, такое вполне могло быть. Я сама убила его любовь тем, что не дорожила ею. Может быть, теперь он вполне искренне не хочет иметь со мной ничего общего. Может быть, я действительно стала ему противна. Ах, Боже мой, как ужасно было сознавать это! И зачем только он мне все сказал? Уж лучше бы я не знала и не мучилась бы так!
О своих чувствах я затруднялась говорить. Вероятнее всего, я еще очень любила герцога, иначе бы все случившееся меня не огорчило до такой степени. Будь он мне безразличен, я бы пропустила его слова мимо ушей или, по крайней мере, не слишком сильно беспокоилась. Но все было иначе. У меня так сосало под ложечкой от тоски, что я не находила себе места. Сердцем я не могла смириться с тем, что потеряла мужа навсегда. Сердцем я надеялась, что те слова он сказал мне в порыве гнева и ревности, так же, как сказала я. Возможно, это мои иллюзии. Возможно, со временем я успокоюсь и примирюсь с тем, что произошло. Но сейчас, через полтора месяца после разрыва, рана была даже более свежа, чем в самый первый день.
Обессилев от слез, я уснула и проснулась утром с сильнейшей головной болью. Мигрень, впрочем, не помешала мне подумать о том, о чем я не вспоминала вчера, когда плакала: о детях. Они, в сущности, были самым важным. Важнее, чем Александр. Уж с потерей детей я не примирюсь никогда. Пусть меня даже тысячу раз будут презирать за обращение в республиканский суд, я сделаю это, ибо не вижу другого выхода. Правда, я немного повременю.
Может быть, все само собой изменится. Ведь в мире столько случайностей, так неужели не найдется хоть одна, чтобы помочь мне?
Брике был выгнан и едва не избит на следующий день после того, как я посетила Белые Липы. Конечно, вычислить того, кто помог мне, не составляло труда. Брике присоединился к моей немногочисленной прислуге и стал жить в Гран-Шэн, повторяя при каждом удобном случае, что легко отделался: в прошлый раз за неповиновение слуги герцога всадили ему в спину целый заряд дроби.
Рождество и святки я провела в семье Констанс. В Гран-Шэн приехали Ренцо и сын графини Марк, ставшие очень большими друзьями; и я коротала вечера за тем, что подгоняла племянника по литературе и французскому. Жить в Гран-Шэн было спокойно и уютно. Сюда часто наведывалась Маргарита и рассказывала мне обо всем, что происходит в Белых Липах. Так я узнала, что герцог уехал из поместья еще перед днем святого Сильвестра, а чуть позже случился новый приступ у старого герцога, отца Александра. Старик, похоже, надолго слег в постель. Маргарита шепотом мне сообщила, будто доктор сказал, что нового приступа старый герцог не переживет.
Наступил 1799 год — последний год в этом столетии, и, поскольку он начался для меня плохо, я опасалась, что так же он и продолжится. Констанс утешала меня, развлекала, отвлекала от тяжелых мыслей, но я с каждым днем хуже поддавалась на ее уловки. Кроме того, меня снова мучила мысль, что мы слишком загостились в Гран-Шэн. Я подумывала, не съездить ли мне в Сент-Элуа снова, но прежде хотела встретиться и поговорить с отцом Ансельмом. Как знать, может быть, священник имеет влияние на Александра и поможет разрешить вопрос с детьми. Я намеревалась посетить кюре в пятницу, а в четверг вечером встревоженная Констанс принесла мне большое письмо.
— Это для вас, Сюзанна.
— Странно, — сказала я. — Кто же знает, что я здесь?
Конверт был увесистый, внушительный, и, честно говоря, сам его вид вызвал у меня тревогу. Я инстинктивно почувствовала какую-то неприятность. По печатям ничего нельзя было разобрать; набравшись смелости, я распечатала письмо и достала послание на дорогой бумаге. Я взглянула, и у меня задрожали губы.
— Что такое? — спросила Констанс.
— Он решил развестись со мной! Он это серьезно решил! Кто бы мог подумать!
Это было письмо от епископа Вьеннского монсеньора д’Авио, совсем недавно вернувшегося во Францию и жившего пока в Анже. Прелат этот был неприсягнувший и принадлежал к старому, роялистскому дворянству мантии. Он, стало быть, мог принимать любые решения… Я полагала, что Александру надо будет обращаться за разводом в Рим, а на самом деле приезд монсеньора д’Авио облегчил ему задачу. Теперь развод можно было получить в Анже.
— Разве здесь есть причины для такого большого беспокойства? — спросила Констанс. — Письмо не содержит ничего определенного.
— Да, но то, что герцог серьезно угрожал мне разводом, — это определенно. Ничего определеннее и быть не может.
Я рассерженно забрала у графини письмо и еще раз перечитала его. В сущности, Констанс была права. Епископ лишь сообщал мне, что накануне нового года Александр получил у него аудиенцию и, сказав о своем желании развестись, поведал о причинах, толкнувших его на этот шаг. «Причины эти, — замечал епископ, — нельзя счесть ни достаточными, ни недостаточными перед лицом Господа; а разрыв священных уз брака кажется мне решением настолько исключительным и нежелательным, что я не вправе принять его, выслушав лишь одну сторону. Я желал бы узнать ваше мнение и выслушать ваши доводы. Лишь после этого епископский совет примет решение в деле, начатом герцогом дю Шатлэ, вашим супругом».
— Вам просто придется поехать туда, — сказала Констанс. — Вы встретитесь с епископом и, уверена, он поймет, что вы не так уж виноваты, как считает Александр.
— Да, поехать… Но ведь надо знать, что ответить на самый главный вопрос.
— Какой?
— Согласна или не согласна я на развод. Об этом меня обязательно спросят.
— А разве вы не знаете, что отвечать?
Я покачала головой, с тоской глядя на Констанс. Да, я не знала. Я понимала, что в случае моего несогласия церковь вряд ли разведет нас. Я помнила историю: даже Филиппу Августу, знаменитому и могущественному королю, понадобилось восемь лет, чтобы добиться развода с Изамбурой Датской. А с тех пор такие дела решались еще более туго, особенно если речь шла не о королях, а о простых смертных. Стало быть, я могу воздвигнуть перед Александром преграду, которую он вряд ли сможет преодолеть. Своим несогласием я гарантирую для себя сохранение титула, состояния, права на детей и доброго имени.
Но что все это значило? Имя у меня было и свое, а за состоянием я никогда не гонялась. Нет сомнения, что отношения наши останутся скверными, даже если епископ не даст развода. А я буду выглядеть так, будто цепляюсь за Александра. Нет, унижений с меня хватит. Я никому ни себя, ни своей руки навязывать не собираюсь.
— Если уж ему и вправду так невыносимо даже видеть меня, пусть катится ко всем чертям! — воскликнула я, сама не замечая, что говорю вслух. — Я не намерена его удерживать! Я развяжу ему руки, и пусть делает что хочет!
— Вы дадите согласие? — спросила ошеломленная Констанс. — Но ведь это безумие! Вы ведь любите его!
— Ах, дорогая, если бы вы знали, как я ожесточена! Может быть, я и люблю его, но, мне кажется, жить с ним я уже никогда не смогу. Он в своем негодовании перешел через край. Я не удивлюсь, если он и детей забрал у меня для того, чтобы заставить согласиться на развод…
— Я так не думаю, Сюзанна. Он просто слишком оскорблен, в этом вся причина. Со временем все наладится, и вы сможете видеть детей…
— Со временем? Нет, Констанс. Уже два месяца прошло, а он не изменил решения. Я поеду к епископу и скажу: я согласна, я виновата, только отдайте мне моих детей. Лишь в этом случае я подпишу бумаги, если только там что-то надо подписывать.
Размышляя об этом, я впервые подумала о нашей первой встрече, там, на берегу, как о крайне злосчастном событии. Как жаль, что я вообще узнала Александра дю Шатлэ. Возможно, я была с ним счастлива, но уж слишком горько все это кончилось. Уж лучше бы я жила эти три года спокойно, скромно, бедно, но без этих треволнений. Я бы приняла помощь графа д’Артуа, и мне с ним было бы легче хоть потому, что я не любила его так сильно, как Александра.
Да, то была большая ошибка. Он заставил меня поверить ему, можно сказать, приручил, а теперь так безжалостно отталкивает. Кроме того, если уж он желает выгнать меня такой, какой я впервые к нему пришла, он должен отдать мне близняшек, потому что они тогда были со мной. Уж на близняшек он никакого права не имеет! Я не намерена была отступаться от них и надеялась вернуть дочерей, даже используя дело о разводе.
Пьер Анж и Констанс, впрочем, всячески отговаривали меня и советовали ни за что не соглашаться на развод, по крайней мере пока.
— Вам надо подождать, — сказал Пьер Анж, впервые отказавшийся от некоторой предубежденности по отношению к Александру. — Сейчас все еще слишком свежо. Кто знает, какие картины рисует воображение вашего мужа? Может быть, он представляет вас… ну, словом, представляет вас с другим и, вполне естественно, чувствует к вам презрение. Такое бывает. И в такие минуты он, возможно, готов на что угодно, лишь бы причинить вам боль.
— Но ведь он и детей в это втягивает, господин граф!
— Разумеется, он же понимает, что этим сделает вам особенно больно. Так, пожалуй, поступил бы любой. Он хочет развестись — так подождите хотя бы полгода, чтобы убедиться, тверд ли он в своем намерении.
— Вы не знаете этого человека. Он никогда не отступается от решений.
— Убедитесь в этом еще раз. Может быть, он сам будет сожалеть, что поступил так, а вы своим согласием усугубите его поспешность.
Я задумчиво катала по скатерти хлебный шарик. Кажется, граф де Лораге был прав, но когда я вспомнила лицо Александра во время нашей последней встречи, я уже не так была в этом уверена. Невозможно, чтобы человек, говоривший с таким отвращением в голосе, мог изменить мнение. И тому человеку — жестокому, непреклонному, сухому — я не хотела навязываться.
— Что даст это выжидание? — проговорила я негромко. — Я и сама теперь, вероятно, не смогу быть ему женой — даже если случится чудо и мы снова съедемся…
Пьер Анж покачал головой.
— Вы колеблетесь, госпожа герцогиня. Так не ездите к епископу хотя бы до тех пор, пока не примете окончательное решение.
Вот с этим я была согласна, полностью и всецело, и решила отложить поездку к монсеньору д’Авио хотя бы до весны — под тем предлогом, что дороги сейчас были в крайне плохом состоянии…
4
3 февраля 1799 года, сразу после сретения, я намерена была уехать в Сент-Элуа: близилось начало весенней пахоты, начало работ в поле, в саду, на виноградниках, и я хотела, чтобы эти работы прошли под моим наблюдением. Да и Аврору мне хотелось увидеть: она, наверное, совсем заскучала в Сент-Элуа.
И все-таки я уезжала с тяжелым сердцем. Александра и его брата в поместье не было, но зато у Анны Элоизы хватило жестокости вернуть мне назад свечи, которые я послала близняшкам и Филиппу на сретенье с пожеланием, чтобы они защитили их от болезни и несчастья. Уж казалось бы, в столь важный католический праздник так нельзя поступать. Тем не менее свечи были возвращены назад, так же, как и крестик, который я послала старому герцогу, зная, что он уже второй месяц болен.
Я сердилась, кричала, топала ногами, но понимала уже в который раз, что изменить ничего не могу. Мне оставалось только ждать, надеясь, что со временем все изменится; но с каждым прожитым днем терпения у меня становилось все меньше, и однажды я дала себе зарок: подождать до марта и, если положение не улучшится, начать действовать. Я и так дождалась до того, что Филипп, должно быть, вообще забыл меня.
Лошади были уже запряжены, а я, поглядывая в окно, застегивала пуговицы на амазонке. Все было уже собрано для отъезда. Час был ранний, и я, чтобы не будить Констанс, попрощалась с ней еще вчера вечером.
— Мадам, — заглянула в комнату служанка, — вас спрашивает какая-то девушка.
— Кто?
— Похоже, она из Белых Лип, мадам. Впустить?
Я кивнула, повязывая шарф. Кто-то быстро вошел в комнату, и я услышала какой-то тихий звук, похожий на всхлип. Я обернулась и увидела Эжени, свою бывшую горничную.
Она, похоже, была в крайнем волнении и едва сдерживала слезы. Вся растрепанная, видимо, бежала всю дорогу до Гран-Шэн, она сделал шаг ко мне, и на ее лице было написано такое отчаяние, что я сама заволновалась.
— Что случилось, Эжени? Что с вами?
— Мадам… Мадам, я услышала, что вы сегодня уезжаете, и сразу же прибежала… Мадам, я уж и не знаю, что мне делать!
Она залилась слезами. Я смотрела на нее, ничего не понимая, и подумывала, не дать ли ей воды. Но это слишком затянуло бы дело, а мне надо было ехать уже сейчас, чтобы успеть приехать в Сент-Элуа хотя бы засветло.
— Эжени, — сказала я нетерпеливо, — чем я могу вам помочь?
Лицо у нее было пунцовое. Запинаясь, она проговорила:
— Видит Бог, мадам, мне так стыдно… Я вам святой Анной Орейской клянусь, что…
— Да перестаньте клясться! В чем дело?
— Мне больше некому признаться! — воскликнула она, разразившись рыданиями. — И больше не у кого спросить! Господина герцога уже который месяц нет дома, а я не знаю, где его искать!
— Да что же это такое? Искать? Зачем вам его искать? Говорите, не то я уеду!
Совершенно бессвязно, сквозь душившие ее рыдания, она стала что-то бормотать, закрывая лицо руками, путая французские слова с бретонскими, так, что я едва ее понимала и в конце концов пораженно разобрала то, что она беременна, причем уже третий месяц, и не знает, что ей теперь делать.
— Это ведь ужасно, мадам! Это ведь позор, стыд… Как я смогу показаться людям? Меня выгонят со службы и в деревне тоже засмеют. Куда я пойду? Где буду жить? Я ведь ничего не умею, кроме как быть горничной! Вы добрая, мадам, помогите Мне!
Я слушала ее, абсолютно не понимая, почему она обращается именно ко мне. Я была не против ей помочь, но уж слишком все это было некстати.
— Так из-за кого же все это случилось? — спросила я, наконец, устав слушать ее жалобы. — Кто ваш любовник?
— Да разве вы не поняли?
— Нет, не поняла. Кто?
— Да кто же, как не его сиятельство! — воскликнула она и отчаянно, и раздраженно одновременно.
Вся кровь отхлынула от моего лица.
— Вы смеете утверждать, что герцог вас соблазнил?
— Соблазнил? Господь с вами, мадам, разве я говорила такое? И я даже не знаю, что это значит. Он пришел, сказал мне, а я не могла отказать. Я боялась, он меня со службы выгонит! Он ведь тогда суровый был — ну, вскоре после вашего ухода, и ему никто перечить не мог. Что же с меня спрашивать? Я всегда была хорошего поведения, это кто угодно скажет, и у меня никогда и мыслей не было о господине герцоге. Это все он, мадам, поверьте мне!
Я слушала ее, и в глазах у меня застыл ужас. Слова горничной были искренни, кроме того, Эжени была слишком глупа, чтобы намеренно все это выдумать. Из ее слов я поняла то, что Александр не терял времени даром после того, как я ушла. Вернее, после того как он меня выгнал. Он использовал Эжени как орудие мести. Платил мне той же монетой. И, черт возьми, получилось все так, как и со мной: необдуманный поступок повлек неожиданные последствия.
Я вполголоса спросила, яростно комкая в руках платок:
— И вы набрались бесстыдства, чтобы прийти и сказать все это мне?
Она побледнела, и слезы снова хлынули ручьем.
— Боже мой, прекратите! — вскричала я, топая ногами. — Я сойду с ума от этих ваших рыданий! Перестаньте, не то я прогоню вас!
— Ваше сиятельство! — пробормотала она. — Госпожа герцогиня! Ей-Богу, я не виновата. Я бы не пришла к вам, но ведь больше идти не к кому. Я даже господину герцогу ничего не могу сказать, а время идет и…
— Чего вы хотите? — почти враждебно прервала я ее.
— Мне надо как-то выйти из этого положения, мадам. Вот я и подумала: может, вы знаете, где находится нынче его сиятельство! Пусть меня хоть замуж выдадут или еще что-то… Я же одна ничего не могу!
Отвернувшись, я молчала, глядя в окно. Конечно, не мне следует всем этим заниматься. И вообще, это смешно — то, что именно мне приходится выслушивать жалобы Эжени на Александра. Ко мне это вовсе не должно иметь отношения. Пусть сам распутывает свои дела с женщинами… И Эжени пусть сама выкручивается — в другой раз не будет так глупа!
Но когда первый порыв возмущения миновал, я подумала, что на Эжени сердиться нет смысла. Мы с Александром ссорились, а пострадала она. Если она не слишком умна, это не значит, что она заслужила такое обращение. Александр должен был найти ей жениха или, может быть, дать ей в приданое маленькую ферму, — словом, сделать хоть что-то, чтобы наладить ее жизнь. Здесь, в Бретани, крестьяне скверно относились к девушкам, заимевшим ребенка вне брака. Их даже преследовали. И Эжени, конечно, имеет право что-то требовать.
Я окинула неприязненным взглядом ее фигурку. Подумать только, она ждет ребенка… и этот ребенок будет братом или сестрой Филиппа. Я вся содрогнулась от этой мысли, почувствовав неожиданное отвращение. Мне невольно представилось, как это все произошло. Как он поступил? Приказал ей? Обольстил? Дал денег? Просто воспользовался ее робостью? Фи, какая пакость — связаться со служанкой, с девушкой, которая всецело от тебя зависит! Он наверняка воспользовался страхом перед сеньором, который внушал всем, на соблазнение у него просто времени не было. Он ведь очень скоро после нашего разрыва уехал.
Я сжала зубы, пытаясь отогнать все эти крайне болезненные мысли, и сухо спросила:
— Вы ничего не выдумали? Не солгали?
— Да провалиться мне сквозь землю, мадам! Я и отцу Ансельму то же самое сказала.
— Вы говорили со священником?
— Говорила. Он обещал написать его сиятельству. Да только уже полтора месяца прошло, а толку никакого.
— Хорошо, — сказала я сдержанно. — А теперь уходите.
Она медлила, умоляюще на меня поглядывая.
— Уходите, — повторила я сурово, — мне невыносимо вас видеть.
— Куда же мне идти? Назад в Белые Липы?
— Да. Ступайте.
Помолчав, я добавила:
— Я попытаюсь чем-то помочь вам, хоть ничего и не обещаю.
5
Когда я ехала в Ренн, настроение у меня было самое скверное. «Теперь мы квиты, — думала я. — Да, теперь мы уж точно квиты. Теперь у него даже будет внебрачный ребенок, которого у меня не было». Оставалось ли еще что-то от моей вины? Он отплатил мне той же монетой. Правда, я, по крайней мере, Талейрана несчастным не сделала. А Эжени была несчастна, и, кроме того, мне пришлось взять на себя совершенно нелепую роль по улаживанию любовных дел моего мужа.
Теперь, когда я увидела Эжени и узнала, как все было, мне казалось, что любовь, которую я еще испытывала к Александру, испаряется. Да, теперь я тоже вполне серьезно полагала, что у нас нет будущего. Мы оба слишком много натворили, слишком много сделали для разрыва. Надо начинать новую жизнь. Уже без Александра. Кто знает, может быть, я еще встречу человека, с которым буду счастлива. Все бывает в этой жизни, а мне всегда везло на случайности.
Приехав в три часа пополудни в Ренн, я первым делом посетила отель дю Шатлэ на улице Шапитр и выяснила, что там герцог не останавливался. Я спросила у кучера Констанс, знает ли он какие-либо гостиницы в городе. Он повез меня в «Гран-салон» на улице Лис.
Честно говоря, после посещения этого места я уже никуда не намеревалась ехать. Я и так сделала для Эжени все, что могла. Да и как можно было быть уверенной, что герцог дю Шатлэ находится в Ренне? Достоверных сведений я не имела, потому что не общалась ни с Полем Алэном, ни с Анной Элоизой и руководствовалась слухами. Каково же было мое удивление, когда на мой вопрос, живет ли в гостинице господин дю Шатлэ, хозяин ответил утвердительно и добавил:
— Его сиятельство пятую неделю оказывает мне честь и снимает номер на втором этаже, номер из трех комнат.
— Можно ли мне поговорить с ним? — спросила я, слегка придя в себя от неожиданности.
— Его нынче нет дома, мадам. Здесь только его жена.
— Его жена? — переспросила я ошеломленно.
— Ну да, госпожа дю Шатлэ.
Услышав такое, я сразу перестала задумываться над тем, почему Александр не живет в собственном доме и поселился здесь; другое обстоятельство заслонило для меня все — эти слова о «жене». Что еще за жена такая? Вторая Эжени? Этого можно было ожидать. Но все-таки кто бы мог подумать, что он дойдет до такой наглости и запишет ту свою таинственную особу в книгах гостиницы как жену!
— Вы не ошибаетесь? — спросила я напряженно. — Вы хоть видели ее?
— Еще бы, мадам, и даже говорил не раз. Она, должно быть, иностранка.
— И она называла себя госпожой дю Шатлэ?
— Да, мадам.
— Но этого не может быть! — вскричала я в бешенстве. — Это уж слишком, это уже чересчур.
— Почему?
— Потому что его жена — я!
Хозяин остолбенел и молчал, глядя на меня. Я сжимала в руках муфту, не зная, как поступить, уехать или остаться. Почти в тот же миг громкий голос раздался с лестницы:
— Вы уверены?
Что-то такое самоуверенное звучало в этом голосе, что я разозлилась до крайней степени и, дерзко вскинув голову, в упор взглянула на незнакомку, окинула ее пренебрежительным взором. Впрочем, мне тут же стало ясно, что по крайней мере внешность ее пренебрежения не заслуживает.
Это была среднего роста женщина лет двадцати пяти, с пышной копной медвяных волос, разметавшихся по плечам, и карими огромными глазами. Тонкая, изящная, обольстительная, с кожей цвета чайной розы и гордо вскинутой головой, она напоминала изысканную статуэтку. Я бы не назвала ее безупречной, писаной красавицей, но, безусловно, она была очень привлекательна и соблазнить могла бы многих.
— Вы уверены, что вы его жена? — повторила она медленно, холодно глядя на меня.
У меня перехватило дыхание. Я сразу поняла, как напрасна была моя ревность к Эжени в то время, когда здесь, в «Гран-салоне», под моим именем, жила такая женщина. Я услышала акцент в ее французской речи, и в голове у меня мелькнуло неясное воспоминание о некой англичанке, о которой упоминал Ле Пикар. Нет, решила я, не может быть. Она приехала из Англии? Но кто позволил ей? Кто выдал паспорт подданной враждебного государства?
— Абсолютно уверена, — произнесла я, внимательно изучая ее взглядом. — Должно быть, у вас есть веские причины стыдиться своего имени, иначе бы вы не жили здесь под чужим.
С ее капризно изогнутых губ сорвалось:
— Я графиня Дэйл и не стыжусь в этом признаться. А если меня и называют мадам дю Шатлэ, то только потому, что я надеюсь очень скоро ею стать.
Из того, как она говорила, я почувствовала, что она не владеет французским достаточно бегло. Она подбирала слова и потому говорила медленно.
— Вам Александр обещал это? — спросила я насмешливо.
— Он уже сделал первый шаг к этому. Я больше чем уверена, что вы получили письмо монсеньора д’Авио.
Я закусила губу, впервые подумав о том, что ни за что на развод не соглашусь. Хотя бы для того, чтобы эта английская красотка не торжествовала победу. Я буду стоять до последнего, и Александр ничего не сможет сделать. Мною овладело такое мстительное чувство, что я высказала все это английской графине.
— Вы, леди Дэйл, можете называться любым именем и лелеять любые планы на будущее, только, уверяю вас, реальность останется реальностью, точно так же, как я останусь герцогиней дю Шатлэ. Вы пока обладаете привилегий жить вместе с герцогом в гостинице, но, безусловно, перед вами никогда не откроются двери его дома.
Она, усмехаясь, откинула назад пряди оттенка меди:
— Мне кажется, сударыня, что и вы к этому дому не имеете доступа.
Это была правда. Она знала это. Стало быть, он ей рассказывал. Он даже посвятил ее в дело о разводе. Кровь отхлынула от моего лица.
— Невозможно описать, сколько у герцога было любовниц, — отчеканила я сухо. — Но женился он только на мне и не женится больше ни на ком.
— Время покажет, — сказала леди Дэйл спокойно. — И если бы вы знали о том, что говорил мне герцог, когда был в Лондоне, вы бы не были так самоуверены.
Напоминание о Лондоне и о том, о чем я давно подозревала, больно задело меня. Топнув ногой, я вскричала:
— У вас нет ни капли чести, графиня, ибо я даже не слышала об аристократке, достойной такого названия, которая открыто жила бы с женатым человеком и на весь свет выставляла себя как его любовницу!
Она рассмеялась, блеснув ослепительно белыми, как жемчуг, зубами.
— Зачем же мне стыдиться любви Александра, если его любовь — это единственное, что имеет для меня значение?
Я понимала, что в споре, со мной она имеет все преимущества, ибо сейчас Александр был с ней, а не со мной, а роль мне была отведена достойная сожаления. Мне можно было утешаться только тем, что я сделаю все, лишь бы не дать ей стать герцогиней.
— Мелинда, ступайте сюда! — раздался голос.
Это был Александр. Он, видимо, только что откуда-то вернулся и стоял сейчас в проеме двери, глядя на меня. Лицо его не выразило даже удивления. Бросив беглый взгляд на застывшую на лестнице англичанку, он негромко спросил, обращаясь ко мне:
— Вы что, приехали говорить о разводе?
— Нет, — выпалила я в бешенстве, — я приехала говорить об Эжени.
Я заметила в его руках небольшой букет роз, принесенный, видимо, для леди Дэйл, которую, как я теперь выяснила, звали Мелинда; меня это так уязвило, что я на миг лишилась дара речи. Он и ей дарит цветы, как и мне, ее так же балует. Недаром еще Казанова говорил: мужчины, у которых много женщин, обращаются со всеми своими возлюбленными одинаково… Я с сарказмом сказала:
— За это время вы успели натворить столько дел, что принудили меня познакомиться с двумя вашими любовницами и даже приехать хлопотать за одну из них.
Он не отвечал. Мелинда спросила:
— Александр, о чем идет речь?
— Вам лучше уйти, — сказал он ей довольно сухо.
— Нет уж, — вмешалась я. — Леди Дэйл показала себя женщиной весьма свободных взглядов, и уж то, что не шокировало меня, ее и подавно не шокирует.
Наступила пауза. Потом Александр произнес:
— Если вы имеете что-то сказать, говорите и не тяните время.
— Тянуть время? Да вы с ума сошли. Вы полагаете, для меня самое приятное — это коротать время с вами и вашими шлюхами?
— Что происходит, можете вы объяснить? — снова спросила Мелинда. — О чем, наконец, идет речь?
Я взглянула на нее и произнесла с нескрываемой неприязнью:
— Милочка, речь идет о третьем члене нашей чудесной компании, о девушке, которая была для господина герцога тем же, чем и мы с вами, и которая целый час плакала у меня под дверью. Так что же, — спросила я, с усмешкой поглядев на Александра, — можем мы, ваши любовницы, надеяться, что ее судьба устроится?
— Ваш сарказм ни на кого не произведет впечатления, — произнес он, безразлично пожимая плечами. — Что с Эжени? Она приходила к вам? Зачем?
— Затем, чтобы сказать, что герцога дю Шатлэ ожидают не только развод и новая свадьба, но и крестины, — процедила я сквозь зубы. — Надеюсь, теперь вы доставите себе труд самостоятельно узнать подробности. Возможно, у вас хватит для этого благородства.
Невозможно описать, как я была унижена, разгневана, задета. Уже то, что я вынуждена была говорить, видя рядом эту шлюху-англичанку, гоняющуюся за Александром даже через море, — уже одно это было невыносимо. Это неслыханно! Отец вызвал бы его на дуэль, если бы узнал! Да будь я проклята, если когда-нибудь хоть еще раз захочу встретиться с герцогом!
Мелинда и Александр переглянулись. И это было новое издевательство: она теперь была ему ближе, чем я!
— Это правда или вы все это выдумали? — спросил Александр.
Более странного вопроса и придумать было нельзя. Он, может быть, полагал, что я выдумала сказку об Эжени для того, чтобы иметь предлог его увидеть?
— Идите вы к черту, — пробормотала я, направляясь к выходу, и громко хлопнула дверью.
Оказавшись на подушках кареты, я стала дрожащими пальцами искать платок. Слезы горьким комком подкатили к горлу. Я вспомнила весь этот разговор, вспомнила леди Мелинду, вспомнила то унижение, которое мне пришлось пережить, и ощутила невыносимую горечь. Так и не найдя в волнении платок, я заплакала, закрывая лицо руками и припав щекой к холодному стеклу окошка.
6
Секретарем епископа Вьеннского оказался отец Медар, аббат де Говэн, тот самый, который когда-то служил кюре в глухом приходе Сент-Элуа и сопровождал меня к принцу крови на остров Йе. Я была удивлена, встретив его здесь, в Анже, во дворце архиепископа. А он, похоже, все еще полагая, что я вместе с герцогом дю Шатлэ обманула графа д’Артуа и выманила у него деньги, приветствовал меня крайне холодно и без лишних слов предложил следовать за ним.
Я очутилась в небольшой комнате перед кабинетом монсеньора д’Авио и, присев на краешек стула, стала ждать.
Было 25 марта 1799 года, день благовещенья, и в Анже в честь праздника даже звонили некоторые колокола, хотя по республиканским законам это было строжайше запрещено. Я только что отстояла утреннюю мессу, которую служил епископ; надо было полагать, что устали и он, и я. Я присутствовала там для того, чтобы обо мне не сложилось впечатление как о неверующей. Как-никак, а я нуждалась если не в расположении епископа, то, по крайней мере, в непредубежденности.
— Прошу вас, сударыня, — раздался голос отца Медара.
Я вошла. Первое, что меня удивило, — это то, что епископ оказался не таким уж старым, как я представляла. Я могла дать ему от силы сорок лет. Высокий, подтянутый, широкоплечий, он мог бы носить военный костюм не хуже, чем сутану. Он выглядел таким уверенным и светским человеком, что я даже подумала, что он напоминает мне иезуитов семнадцатого столетия, которым правила ордена предписывали одинаково владеть как словом, так и оружием.
Видя, что я стою в замешательстве, он первый приветствовал меня, и я, опомнившись, подошла и поцеловала епископский перстень.
— Мне долго пришлось ждать вашего посещения, — заметил монсеньор д’Авио.
Я пробормотала что-то насчет весенней распутицы, плохих дорог и занятости.
— Вы живете теперь раздельно с супругом, не так ли?
— Да, — сказала я. — Он выгнал меня.
— Заслуженно или незаслуженно?
Я молчала, не зная, что он имеет в виду. Он уточнил:
— Есть ли на вас какая-либо вина, дитя мое? Виноваты ли вы перед ним так, как он это утверждает?
— Видите ли, монсеньор… — начала я нерешительно.
— Ответьте коротко, сударыня.
— Да, — сказала я. — Я была виновата.
— Что значит «была»?
— То, что теперь, пожалуй, он виноват передо мной больше, чем я перед ним.
Видя, что епископ готов слушать сколь угодно долго, я ничего не скрывала: ни того, что узнала об Эжени, ни приезда Мелинды Дэйл. Чувства, немного заглушенные временем, снова всколыхнулись во мне, и голос мой звучал сдавленно. Да и какой женщине было бы легко рассказывать даже лицу духовному о том, что ее муж поселил любовницу под именем своей жены.
— Но это, — проговорила я едва слышно, — это все не имеет значения. Монсеньор, ведь он не позволяет мне видеться с детьми. Это никакими законами, ни божескими, ни человеческими, объяснить нельзя. Он пользуется тем, что имеет шуанов в своем распоряжении и этим препятствует мне видеть дочек и сына.
Епископ Вьеннский слушал, полузакрыв глаза и сложив руки перед собой на столе.
— Вы говорили с ним об этом, дитя мое?
— Да. Говорила.
— И что же?
— Он… не меняет решения. Он сказал, что ему невыносимо даже видеть меня… что я недостойна воспитывать детей или что-то в этом роде.
Наступило молчание. Я едва сдерживала рыдания, подступившие к горлу. Потом, пересилив себя, произнесла:
— Я подозреваю, ваше преосвященство, что он просто хочет вынудить меня на развод.
— И вы?
— И я на что угодно соглашусь, лишь бы мне было дано право хотя бы раз в месяц видеть своих малышей!
У меня из глаз невольно брызнули слезы. В этот миг я готова была на коленях умолять епископа: пусть он даст Александру развод, только обусловит и мои права. Ведь я их имею, не так ли?
— Детям будет плохо без матери, — неторопливо произнес епископ. — Вы ведь понимаете, что в случае развода они все равно останутся с отцом. Церковь в этом случае становится на сторону мужчины.
— Да, да, я знаю… Но я предпочитаю иметь хотя бы небольшое право, чем вовсе никакого.
— Я могу вас понять. И я подозреваю, что ваш муж в вопросе о детях руководствуется не заботой о них, а желанием досадить вам.
Это заявление меня поразило. Впервые в тоне епископа прорвалась нотка, свидетельствующая в мою пользу. Я даже подалась вперед.
— Ваше преосвященство, вы… вы хотите сказать, что я могу надеяться на большее, чем просто свидания с детьми?
— Я хочу сказать, дочь моя, что, если бы наша святая церковь удовлетворяла все прошения о разводе, основанные на обвинении в прелюбодеянии, распадался бы каждый второй брак и люди потеряли бы к венчанию всякое уважение.
Пока я соображала, пытаясь получше понять его слова и уяснить выгоду, которая воспоследует из неожиданного расположения епископа к моей особе, он быстро и властно спросил:
— Какую сумму выдает на ваше содержание ваш супруг?
— Никакую, — пробормотала я ошеломленно.
— Он не дает вам никакого содержания? На что же вы живете?
Меня так и подмывало сказать: «Да, он ничего не дает» и этим еще больше очернить Александра, но я сдержала этот порыв.
— Ваше преосвященство, он пытался мне что-то дать, но я отказалась. А живу я на те средства, которые приносит мне мой замок и земли вокруг него.
— Вы, стало быть, богаты?
— Нет, отец мой, вовсе не богата. Но я вполне могу содержать себя, так что на этот счет меня ничто не беспокоит.
Епископ больше ни о чем не спрашивал. Он подал мне какие-то бумаги, и я подписала их с поистине христианским смирением, хотя и заметила, что своей подписью даю согласие на развод. Потом, отложив в сторону перо, я робко взглянула на прелата:
— Монсеньор, могу ли я…
— Что?
— Могу ли я хоть приблизительно узнать, какое мнение сложилось у вас по поводу всего этого?
Улыбка на миг показалась в углах его губ, и, хотя ответил он сурово, его слова меня не напугали:
— Я выяснил со всей определенностью лишь то, что вы оба — вы и ваш супруг — допустили значительное нарушение Божьих заповедей. Вы даже нарушили клятвы, которые дали перед алтарем: вы изменили верности, а он — любви.
Я так давно не общалась со столь значительными князьями церкви, а тем более такими, от которых зависела моя судьба, что теперь слушала епископа почти с благоговением, и уж во всяком случае с робостью. Каждое слово казалось мне законом. Видимо, это был тот школьнический трепет, внушенный мне еще в монастыре.
— И… что же вы решили? — пролепетала я.
— Я еще ничего не решил.
Взглянув на меня, он сказал уже чуть мягче:
— Решать этот вопрос будет епископский совет. Ступайте с миром, дочь моя. Да хранит вас Господь.
Я поцеловала его перстень, вышла и, увидев в приемной отца Медара, не удержалась, чтобы не сообщить ему о столь неожиданном повороте дела.
— Похоже, сударь, он не склонен давать нам развод. Да, я именно это почувствовала, уверяю вас.
Холодно улыбнувшись, аббат спросил:
— Вы что же, столь наивны, что видите причину лишь в расположении к вам его преосвященства?
— Да, — проговорила я, несколько сбитая с толку. — А что?
— Он просто не хочет ссориться с вашим отцом, сударыня. Ваш брак — это был союз двух могучих роялистских кланов, и уничтожить его — значит нанести удар по королю. А епископ, который сам искренний роялист, этого допустить не может.
Я медленно соображала, обдумывая эти слова.
— Нет, не может быть, — сказала я наконец. — Ведь, стремясь угодить моему отцу, епископ тем самым настраивает против себя Александра! И никак у него не получится, чтобы и овцы были целы, и волки сыты. Вы ошибаетесь, господин аббат.
Отец Медар усмехнулся.
— Видимо, его преосвященство, увидев вас, понял, что вы со временем убедите своего супруга в том, что то, что раньше казалось ему неприятным, на самом деле является приятнейшей вещью.
— Что вы имеете в виду? — спросила я настороженно.
— Видимо, то, что ваш муж, при известных усилиях с вашей стороны, сам будет рад, что ему не дали развода.
Мне оставалось ждать заседания епископата и решения, которое он вынесет. Я не думала, что просьба Александра будет удовлетворена. Ему не дадут развода даже при том, что я не ставила ему палок в колеса. Не дадут просто потому, что брак является нерушимым и вечным союзом. Радовалась ли я? Безусловно, я испытывала облегчение при мысли, что графиня Дэйл не войдет в Белые Липы на правах хозяйки и не станет мачехой моему сыну.
Но я была по-прежнему лишена возможности встречаться с детьми, и мне, как и прежде, оставалось только ждать, что же скажет епископ по этому поводу.
7
После поездки в Анже я пробыла в Сент-Элуа всего неделю, и однажды утром, накануне вербного воскресенья, мне сообщили неожиданную новость: приехал какой-то человек из Белых Лип и хочет мне что-то передать от моего мужа, герцога дю Шатлэ.
Известие было невеселое. Я узнала, что старый герцог серьезно болен, что жить ему, по всей видимости, остается считанные дни и что Александр очень просит меня приехать.
— Вы не ошибаетесь? — спросила я у посланца после долгой паузы. — Герцог действительно просит меня приехать?
— Да, мадам, очень просит.
— А чем это вызвано?
— Говорят, старик страсть как хочет с вами повидаться. Видно, ему есть что вам сказать перед смертью.
— Он так плох?
— Да, мадам. И лет ему уже немало.
Как это было несправедливо — то, что злая, склочная, мстительная старуха Анна Элоиза живет и почти не болеет, а старый герцог умирает. Справившись с волнением, я стала собирать вещи. Несколько минут я простояла в сомнении перед черным траурным платьем. Уж не преждевременно ли брать его? Кто знает, может, старик не умрет, а я словно заранее хороню его.
Аврора рассудила иначе.
— Конечно, мама, следует захватить это платье. Старый герцог давно болел, и никого нельзя упрекнуть в том, что его смерть считали возможной. Будет хуже, если во время похорон у тебя не окажется траурного платья и крепа и придется ехать за ними в Ренн.
— Да, ты права, — сказала я, укладывая платье.
Один Бог знал, до чего мне трудно было решиться на эту поездку. Конечно, я обязана была ехать: меня к этому призывал долг и теплые чувства, которые я питала к старику, а еще больше — понимание, что уж в этот раз я непременно увижусь с детьми. Но мысль о встрече с Полем Алэном или старухой отравляла мне сознание. Ах, Боже мой, лучше бы они презирали меня до такой степени, что даже не вышли бы из своих комнат. Право, это было бы самым для меня лучшим.
Да и встреча с Александром, безусловно неизбежная, казалась мне трудной. Что он чувствует сейчас? Стал ли он ранимее, чем прежде, под влиянием того, что случилось с отцом? Что он вообще переживает по этому поводу и как мне с ним разговаривать? Я ни на один вопрос не находила ответа и решила поступать только так, как хочется мне самой. А мне сейчас хотелось говорить с герцогом как можно меньше. Я даже любви к нему уже не чувствовала. Все как-то заглохло, замерзло, улеглось в душе, и я была этому даже рада.
Я спросила Аврору, хочет ли она сопровождать меня, но она сделала гримасу и отказалась. В Сент-Элуа ей было скучно, но страх увидеть смерть и присутствовать на тягостной церемонии похорон оказался сильнее, тем более что возраст пока позволял ей такие отказы.
Уже ближе к ночи, слегка проплутав в лесу, наш дряхлый сент-элуаский шарабан покатил, наконец, по подъездной аллее к замку. Никто не остановил нас, но и не встретил. Не слишком дивясь такому приему, я соскочила на землю и направилась в дом. Ни прислуги, ни хозяев не было видно. Смертельно уставшая после двенадцатичасового переезда, я подумывала, что мне следует сделать в первую очередь: повидать старика или найти детей. Раздумья разрешились сами собой, ибо на лестнице я столкнулась с управляющим.
— Вы приехали, мадам? Как хорошо! Почему же никто не встречает вас?
— Я не задумываюсь над этим, сударь, потому что не знаю, считают ли меня здесь достойной такого приема.
Помолчав, я спросила:
— Почему так тихо и темно в доме?
— От господина герцога только что ушел священник.
— Старик причащался?
— Да. Он очень плох.
Отбросив все сомнения, я решительно сказала:
— Пойдемте к нему. Остальное может подождать.
Он повел меня на третий этаж, и я дважды споткнулась в потемках. Пока мы шли, я шепотом спросила:
— Так кто же все-таки посылал за мной? Александр или его отец?
— Можно сказать, оба, мадам. Старик высказал пожелание увидеть вас, а сын, разумеется, не мог ему отказать.
— Так, значит, это только старику я обязана… А женщина? Александр не привез сюда женщину?
— Какую женщину? — удивленно переспросил управляющий.
— Женщину, англичанку, свою любовницу!
Управляющий какой-то миг ошарашенно смотрел на меня, а потом пробормотал, что впервые обо всем этом слышит. Я успокоилась, потому что для себя еще раньше решила: если Александр нагло притащит эту авантюристку в дом, я сразу же уеду, ибо никаких издевательств терпеть больше не намерена. После слов управляющего можно было успокоиться.
В дубовой гостиной перед комнатой умирающего было тихо и темно, как в могиле; слабый огонек одной-единственной свечи выхватывал из мрака то резные деревянные панели, то фигуры людей, стоявших в полном молчании. Я насилу узнала Александра, Поля Алэна и Кадудаля, который, как мне показалось, был здесь совсем лишним. Поль Алэн никак не отреагировал на мое появление, не то что не поклонился, но даже не кивнул. Я повела себя точно так же. Александр некоторое время смотрел на меня, потом качнул головой — это я расценила как подобие приветствия — и сказал:
— Пойдемте, он давно ждет вас.
Не говоря ни слова, я прошла в комнату. Обстановка была такая, что я чувствовала себя входящей в помещение, где лежит мертвец, и, честно говоря, мне стало легче, когда я услышала, что Александр вошел вслед за мной.
Подавив внутреннюю дрожь, я приблизилась к кровати, увидела утонувшее в подушке бледное лицо и опустилась на колени перед постелью.
— Господин герцог, — прошептала я дрогнувшим голосом. — Господин герцог, я здесь.
Он смотрел на меня, но глаза его ничего не выражали, и только губы дрогнули в неком подобии улыбки:
— Я вижу. Я рад, что вы навестили меня.
Он был худ и слаб, но, похоже, пребывал в совершенно здравом рассудке. Я задержала дыхание, когда он поднял руку и погладил меня по голове, потом поцеловала пальцы герцога. Александр стоял чуть позади меня, не произнося ни слова.
— Знаете ли вы…
Шепот, сорвавшийся с прозрачных губ, был так тих, что я невольно подалась вперед, желая лучше слышать.
— Что?
— Знаете ли вы, как вы похожи на Эмили?
Я кивнула.
— Мы же, как-никак, сестры, господин герцог.
— Скажите, было ли вам хорошо у нас в доме, Сюзанна?
Слезы горьким комком подкатили мне к горлу. Я не смогла произнести ни звука и лишь неопределенно кивнула в ответ.
— Сюзанна, — сказал он, — обещайте, что останетесь здесь, пока… Словом, пока все не кончится.
Слова снова застыли у меня на губах. Было больно видеть человека, отнесшегося ко мне так тепло, умирающим. От него теперь осталась лишь половина. Он действительно умирал от старости, от того, что прожил предначертанный ему срок.
— Мне было приятно повидать вас напоследок… потому что я, в отличие от других, благодарен вам.
— Благодарны? — переспросила я пораженно.
— Да. Вы так много сделали для Александра.
Словно превозмогая что-то, он добавил:
— Он был счастлив, когда вы были рядом.
— Я тоже была счастлива, — невольно вырвалось у меня.
— Я рад. А еще я благодарен вам за Филиппа. Это славный мальчик. Жаль, что…
Он не договорил, закрыв на мгновение глаза. Потом прерывающимся, едва слышным голосом сказал, что ему не нравится то, что случилось между мной и Александром.
— Увы, — прошептала я, — я не могу вас обрадовать. От меня ничто не зависит.
Он вдруг спросил:
— Почему вы так долго не появлялись у нас?
Я была застигнута врасплох этим вопросом и даже невольно оглянулась на Александра. Мне не хотелось огорчать старика тем, что его сын намеренно не пускал меня, но в то же время я не хотела, чтобы старый герцог считал меня плохой матерью.
Я еще только раздумывала над ответом, как старик произнес:
— Сюзанна, Александр обещал мне, что вы сможете навещать детей. Не так ли, сын мой, вы обещали?
Не вслушиваясь в ответ, я смахнула слезы с ресниц и припала губами к руке старого герцога. Могла ли я ожидать, что именно он мне поможет? Я на него всегда так мало внимания обращала — меньше, чем на Анну Элоизу или Поля Алэна. Заслужила ли я такую помощь с его стороны?
— Спасибо, — прошептала я со слезами в голосе. — Вы не представляете, что сделали для меня.
Он медленно перекрестил меня, и рука его в это время чуть дрожала; потом сделал знак, словно просил приблизиться. Я наклонилась, и он поцеловал меня в лоб.
— А теперь ступайте, моя дорогая.
— Вы… вы не хотите, чтобы я…
— Нет, дитя, не хочу. Вам созерцать все это ни к чему.
Я медленно поднялась с колен, едва сдерживая слезы.
— А вы, сын мой, останьтесь со мной на минуту.
Слегка придерживаясь рукой за стену, я вышла, тихо прикрыв за собой дверь, и на минуту остановилась в нерешительности. Сперва мне показалось, что в гостиной никого нет; потом мои глаза мало-помалу различили силуэт Поля Алэна. Он не поворачивался в мою сторону. Мне хотелось пить, но обратиться с просьбой о стакане воды было не к кому, а идти сама я не могла — у меня подгибались ноги. Слишком тягостное впечатление осталось от этого разговора. Я присела на краешек стула и, сдержав вздох, на минуту закрыла глаза.
Снова открылась дверь.
— Поль Алэн, — раздался голос Александра.
— Он зовет меня?
— Да.
Мы с герцогом остались одни. Я, честно говоря, не знала, правильно ли сделала, что осталась в гостиной: возможно, он велит мне немедленно уезжать, и я даром потратила время здесь, вместо того чтобы повидать детей. Безучастно поглядев на Александра, я спросила:
— Мне уехать?
— Нет. Прошу вас, не надо уезжать.
Не то чтобы мягкие, но совсем не враждебные интонации были в его голосе. Я даже не ожидала такого. Пораженная, я тихо спросила:
— Я могу остаться?
— Да. Он очень просил. Вероятно, мадам, он недолго протянет, похоже, что жить ему осталось не больше суток. Он очень хотел, чтобы вы были здесь, и я опасался, что вы не приедете.
— Почему же? — шепотом спросила я. — Разве я давала повод подозревать меня в черствости?
Кажется, он испытывал затруднения в выборе ответа. Наступило молчание. Лицо герцога, как мне показалось, стало замкнутым, и ответил он уже сухо:
— Потому что мой отец и вся моя семья уже как бы не имеют к вам отношения.
Это было как удар по лицу. Зачем же он так резко поменял тон? Зачем беспричинно намекает на то, что я претендую на какое-то отношение к его семье? Я, впрочем, уже почти привыкла к таким выпадам. Мой голос, когда я заговорила, был просто ледяным:
— Я останусь, но вовсе не потому, что мне приятно видеть кого-либо из вашей семьи. Я останусь только ради герцога. Надеюсь, то, что он говорил о детях, — правда?
— Я не меняю своего слова.
— О каком слове вы говорите — том, что сказали раньше, или теперешнем?
Он холодно произнес:
— О слове, которое я дал отцу. Мы еще обсудим с вами условия.
— Вас все еще терзает желание отомстить мне посильнее, — сказала я, усмехнувшись, на миг забыв о том, в каком он сейчас состоянии в связи с болезнью отца.
Не отвечая, он взялся за звонок.
— Вам сейчас приготовят комнату.
— Только ту, в которой я жила раньше, — предупредила я.
— В той комнате может жить только герцогиня.
Сверкнув глазами, я произнесла:
— Отлично. Стало быть, я имею на нее все права.
Его лицо исказилось.
— Вы что, пользуетесь тем, что я из-за отца вынужден терпеть вас в этом доме?
— Я намерена воспользоваться всем, что есть в моем распоряжении, — парировала я холодно. Презрение в его голосе меня уже не задевало.
Он неторопливо произнес:
— Как я вижу, вы стали нахальны.
Я устало и безразлично проговорила:
— Ради Бога, вспомните о том, сколько времени я провела в дороге и распорядитесь, наконец, насчет комнаты. А что касается вашего мнения обо мне, то оно уже давно меня не интересует.
Может быть, целую минуту длилось молчание. Я не поднимала голову и, в сущности, равнодушно ждала, что же он решит. Если он не пустит меня в мою комнату, я ни на какую другую не соглашусь: просто уеду и не буду унижаться. И, честно говоря, мне даже стало легче, когда я подумала, что ни от кого сейчас не завишу и сама решаю свою судьбу.
— Хорошо, — сказал он. — Будет по-вашему.
Не сказав ни слова, я поднялась и, подобрав подол, направилась к лестнице.
Утром весь замок проснулся от истошного визга сиделки, которая обнаружила, что старый герцог умер во сне. Я слышала переполох за дверью, крики, беготню служанок. Потом, видимо, властная Анна Элоиза пресекла эту панику и взяла все в свои руки. Суета затихла. Все пошло, похоже, так, как бывает в подобных случаях.
Я пребывала в сомнениях: показываться мне или нет? Пожалуй, стоило выбрать первое, но мне была так неприятна мысль о встрече с теткой и деверем, о том, как мне все станут давать понять, что я здесь лишняя, что я осталась в комнате и никуда не выходила. Маргарита приносила мне новости. Она привела в порядок мое черное платье, а потом мы вместе занялись приготовлением траурных нарядов для близняшек.
Несмотря на то что пора эта в целом была горестная и скорбная, я не могла не чувствовать радости и счастья, встретившись, наконец, со своими детьми. Если близняшек я видела хоть на Рождество, то с Филиппом я была разлучена уже шестой месяц. Он почти не узнавал меня и называл мамой лишь потому, что верил на слово Маргарите. Я расцеловала его с ног до головы и, желая с ним не расставаться, не спускала его с рук. Даже когда мы мастерили наряды, он сидел и играл у моих ног.
— Как ты думаешь, мне следует остаться на похороны? — вполголоса спросила я у Маргариты.
— А ваш муж — он разве ничего вам насчет этого не сказал?
— Ничего. Все очень неопределенно, Маргарита.
Она пытливо смотрела на меня. Не скрывая горечи, я добавила:
— Больше всего я боюсь не угадать, чего он от меня ждет. Вдруг он увидит меня и спросит: что, мол, вы здесь делаете? Я больше не желаю слышать таких вопросов.
— Да нет, — сказала она уверенно. — Все будет не так. Уж на этот раз вы должны остаться — потому хотя бы, что бедный старик просил вас об этом.
Она перекрестилась и негромко пробормотала молитву.
Филипп вдруг громко заплакал, испугав нас обеих. Я бросилась к нему; он протягивал мне пальчик и заливался слезами.
— Что такое? Что с тобой, мой мальчик, мой ребенок? Ты ушибся? Поранился? Сам укусил себе пальчик?
Последнее, кажется, было самым вероятным, потому что Филипп заплакал громче и такая обида отразилась на его личике, что я схватила его в объятия, вытерла ему слезы, тысячу раз поцеловала укушенный пальчик.
— Все? Уже не больно, ведь правда? Мама поцеловала, и уже не может быть больно. Мама сделает все, лишь бы мой маленький, мой ангелочек, мой милый мальчик не плакал!
Филипп, всхлипывая, затих, уткнувшись мне в грудь. Я гладила его волосы и что-то шептала на ухо. Маргарита тронула меня за плечо:
— Мадам! Мадам, голову-то поднимите!
Вздрогнув, я поглядела туда, куда она указывала подбородком. В проеме двери стоял Александр и смотрел на меня. Похоже, он созерцал всю эту сцену.
Он был очень бледен сейчас — видно, не спал всю ночь. Сердце у меня сжалось, когда я заметила, как устало он выглядит. Все-таки этот человек был мне в чем-то родным, я не могла быть к нему совершенно безразлична. Я заметила траурную ленту у него на рукаве. И в тот же миг, уяснив, что он смотрит на Филиппа, я инстинктивно прижала к себе мальчика, будто боялась, что герцог снова его отберет, и такой ужас отразился у меня на лице, что Александр не мог этого не заметить.
Он вполголоса произнес:
— Я зашел, чтобы просить вас остаться на похороны. Отец хотел этого.
— Я останусь, — пробормотала я машинально.
Филипп протянул Александру пальчик и пискнул:
— Па! Было больно!
Это меня так тронуло, что я завладела пухленькой ручкой сына и еще раз поцеловала ее. Он заулыбался, хотя слезы еще не высохли на его щечках.
— Ему не хватало ласки, — произнесла я почти с укором.
Александр приблизился, на миг наклонился и ласково взъерошил белокурые кудри Филиппа. Наши глаза невольно встретились, и я впервые поняла, как сильно сын объединяет нас. Что бы между нами ни произошло, всегда останется он, Филипп, — наше общее создание, наш сын.
— Мне кажется, — глухо произнес герцог, — не надо облачать его в эти черные одежды, он слишком мал для этого.
— Это как раз то, о чем я хотела спросить вас, — произнесла я.
Он качнул головой и сделал шаг, собираясь уходить. Я протянула руку и коснулась его локтя:
— Сударь! Еще одно слово…
— Что? — спросил он, оборачиваясь.
— Мне больно… почти так же, как вам, может быть. И еще… мне жаль, что я не могу вас сейчас утешить.
Он не задержался ни на миг, даже не поблагодарил, как этого требует вежливость, и вышел, не сказав ни слова.
— Не переживайте, — утешала меня Маргарита. — Он слишком расстроен сейчас.
— Ах, дорогая моя, с каждым таким случаем меня все меньше задевает его пренебрежение.
Это была только часть правды. Я не сказала Маргарите, как открывается моя душа навстречу Александру, едва я слышу хоть одно более-менее человеческое слово или встречаю какое-то подобие теплого отношения. У меня что-то таяло внутри, но он всякий раз одергивал меня, обрывал все ростки этого чувства, и я до сих пор ощущала боль от этого.
Филипп тянулся ко мне, заглядывая в глаза, просил сказку. Я вздохнула, отбрасывая эти мысли, и залюбовалась сынишкой. Все-таки, черт возьми, я не так несчастна, как думаю: у меня есть этот очаровательный малыш, и со вчерашнего дня я получила право видеть его и быть с ним.
И едва я подумала об этом, на меня с умопомрачительной силой нахлынули те чувства стыда и унижения, которые я испытывала все эти месяцы, будучи по прихоти Александра лишена возможности видеть своих малюток. Меня охватила неприязнь к нему — сильная, непреодолимая. Нет, я никогда не прощу ему. Все — и удар, и ненависть — я могла забыть, только не это. А леди Мелинда? А Эжени? Как я все это вытерпела и еще приехала в этот дом? Нет, я сразу же после похорон уберусь отсюда, я не хочу иметь с этим человеком ничего общего, он сделал мне слишком много зла!
Словом, я ощущала по отношению к Александру то то, то это — самые противоречивые чувства — и даже не представляла, как можно придать гармонию Моим переживаниям.
8
Последующие дни и похороны были очень для меня тягостны. Церемония, на которой я присутствовала, сама по себе была скорбная, а мне, помимо этого, приходилось выносить ненависть всего семейства дю Шатлэ и утешаться только тем, что ненависть эта, из уважения к памяти покойного, была пока молчаливая. Я не могла бы сосчитать полных презрения взглядов, брошенных на меня. У меня, к счастью, хватило терпения все это выдержать; во время церемонии я стояла прямо, подняв голову и дерзко вскинув подбородок, так, чтобы все видели, что вести себя смиренно я не намерена и готова дать отпор любому. Я лишь опустила на лицо густую черную вуаль, ибо не хотела, чтобы кто-то наблюдал за выражением моего лица.
На поминальном обеде я не присутствовала, и вообще уже к вечеру этого дня мне стало ясно, что пора уезжать.
Я уложила детей, успокоила их, подождала, пока они уснут — им ведь тоже было тревожно. Дом стал очень мрачен; все было увито черным крепом, свечи горели тускло, а обитатели замка хранили молчание. Даже прислуга и та была в черном. Я подумывала, что лучше всего было бы увезти детей отсюда на время. Зачем им все это видеть в столь раннем возрасте? Впрочем, мои соображения здесь никого не интересовали.
Я немного побродила по дому, пользуясь тем, что все сейчас были в своих комнатах, и, уже направляясь к лестнице, заметила свет в конце галереи. Похоже, кто-то был там, в картинном зале. Я пошла туда и осторожно заглянула внутрь.
Александр был один во всем этом громадном помещении. Спустив правую руку с локотника, он машинально трепал по загривку дога, растянувшегося у его ног. Выглядело все это, честно говоря, тоскливо. Огни свечей отражались в зеркальном полу. Тишина здесь была гулкая, пронзительная, невыносимая, и, едва я сделала шаг вперед, стук каблуков выдал мое присутствие.
Герцог поднял голову и посмотрел на меня.
— Что вы здесь делаете? — спросил он безразлично.
Меня задел этот вопрос.
— На ваш взгляд, я уже должна была уехать?
Он не ответил. Слугги заворчал и чуть приподнялся, словно приветствовал меня. Я с досадой подумала, что даже собака дольше сохраняет привязанность ко мне, чем все обитатели Белых Лип вместе взятые.
— Александр, я пришла сказать вам, что уезжаю завтра утром.
— Отлично, — сказал он, не глядя на меня.
— Я тоже так считаю. Однако остаются вопросы, которые мы еще не уладили.
Он долго молчал. Потом поднялся, будто уяснил, наконец, до какой степени невежливо говорить сидя с женщиной, которая стоит и которой сесть некуда. Поднялся, небрежным движением поправил галстук. Лицо его было непроницаемо. Он смотрел на меня так пристально, что я невольно поднесла руку ко лбу, откинула непослушный золотистый завиток, выбившийся из прически.
— Вы все так же красивы, — сказал он вдруг. — И впервые в жизни мне жаль, что вы так похожи на мою мать.
Я резко спросила, прерывая его:
— Что мы будем делать с детьми?
— Что? Они останутся здесь.
— Это я поняла, — сказала я раздраженно. — Я имела в виду: когда я смогу навещать их?
Заложив руки за спину, он подошел ко мне. Он был такой высокий, что мне теперь приходилось смотреть на него снизу вверх, и это разозлило меня.
— Надеюсь, вы не столь бесчестны, чтобы нарушить слово, данное отцу? — спросила я язвительно.
— Не столь бесчестен? То есть бесчестен, но не столь? Смелое заявление. Смелое и необычное.
Закусив губу, я смотрела на него с неприязнью. Мне даже показалось, что у него сейчас приступ головной боли, и именно это заставляет его мучить меня. Все можно было предполагать.
— Вы, сударыня, можете видеть детей, когда пожелаете. Все зависит от того, как часто вы сможете сюда приезжать.
У меня словно гора свалилась с плеч. Я шумно вздохнула, чувствуя огромное облегчение.
— Похоже, я вас обрадовал, — сказал он сухо. — Черт возьми, меньше всего я хотел бы доставлять вам радость.
Я едва слышно выговорила:
— Мне жаль вас.
— Вы сегодня проявляете оригинальность. Вы уже во второй раз говорите мне такое, что я никак не ожидал услышать.
— И все же мне жаль вас. Вы слишком много сил тратите на ненависть. Куда проще было бы подружиться со мной.
— М-да, — сказал он непонятным тоном. — Вы предлагаете мне такое, что я просто теряюсь.
— Это самое приятное, что я могу предложить. Между нами все кончено, Александр, мы выяснили отношения, мы разделались друг с другом, и теперь совершенно незачем друг друга ненавидеть. У нас есть Филипп, так давайте хоть ради него сохранять дружеские отношения.
— Между нами наблюдается удивительное совпадение мнений. Я думал то же самое, когда принял решение вернуть Филиппу мать.
Помолчав, он спросил негромко, но яростно:
— Почему же, черт возьми, если между нами все кончено, вы так упорно мешаете мне получить развод?
Я вздрогнула, у меня побелели даже губы.
— Мешаю? Да вы просто не в себе. Я подписала все бумаги, которые предложил мне монсеньор д’Авио!
— И, однако, два дня назад он прислал мне сообщение о том, что прошение мое отклонено.
После короткой паузы он напряженным голосом спросил:
— Чем это объяснить?
— Не моя вина в том, что епископ отказал вам, — сказала я холодно. — Кроме того, мне кажется, что ваш отец не одобрил бы того, чего вы добивались.
Скрипнув зубами, он спросил, окинув меня холодным взглядом:
— Послушайте, сударыня, а вы часом не думаете, что сможете сюда вернуться? Я подозреваю, что все интриги вокруг епископа вы строили, преследуя именно эту цель!
— А вы не хотите, чтобы я вернулась? — спросила я дерзко.
— Боже праведный! — Он рассмеялся. — Сударыня, для вас же самой это было бы небезопасно, ибо бывают моменты, такие, как, например, сейчас, когда мне хочется изуродовать это ваше прекрасное лицо, лишь бы оно не напоминало мне о том, что было! Черт подери, для вас самой это было бы хлопотно.
Его тон к концу фразы стал просто зловещим. Он грозил мне, и это была не шутка. Мурашки пробежали у меня по спине.
— Да, — произнес он более спокойно, — я ничего не забыл.
— Я тоже.
Мой голос прозвучал очень громко. Я сказала с яростью:
— Я тоже ничего не забыла — ни того, как вы ударили меня, ни того, как выгнали из дома в одной рубашке, ни того, с какой легкостью я могла бы умереть от всего этого, если бы не Констанс.
— В одной рубашке? — переспросил он задумчиво.
— Да, и почти босиком. Это не считая того, как вы меня мучили до этого.
Насмешливо глядя на меня, он спросил:
— А зачем, позвольте узнать, вы ушли в одной рубашке? Чтобы убедительнее разыграть мученицу перед мадам де Лораге?
— Черт возьми, да ведь вы сами не позволили мне одеться! — вскричала я, пораженная таким лицемерием, и кулаки у меня невольно сжались.
— Я?
Он покачал головой.
— Вы что-то выдумываете. Зачем мне было выгонять вас в одной рубашке, если уже на следующий день вы получили весь свой гардероб?
— Вы можете говорить что угодно, — сказала я с отвращением, — но было так, как говорю я, и Гариб не посмел бы всего этого сделать, если бы вы ему не приказали. Вы хотели убить меня, и этого я никогда не забуду. И Эжени не забуду, и эту англичанку, и детей!
Медленным тоном, он с насмешкой произнес:
— Похоже, я из жертвы превратился в кровожадного преступника. А ведь все гораздо проще, сударыня.
— Проще — для вас, потому что вы сидели дома и здесь изобретали способы, как бы посильнее уязвить беззащитную женщину, у которой нет ни денег, ни шуанов.
— Эта беззащитная женщина нанесла мне удар более точный, чем любой опытный дуэлянт. Я слишком любил вас и слишком вам верил. В этом вся причина.
Я безразлично произнесла:
— Надеюсь, по мере уменьшения вашей любви уменьшатся и кары, которые обрушиваются на мою голову.
— Не надейтесь. Если епископ Дольский приедет в мае в Бретань, он, возможно, иначе посмотрит на дело о разводе.
9
Весной 1799 года в Бретань и Вандею снова пришла война.
Шуанерия, затихшая было в продолжение трех последних лет, снова вспыхнула, и шуаны не ограничивались теперь лишь нападением на дилижансы. Само число повстанцев невероятным образом увеличилось раза в три; летучие отряды синих испарились, республиканцы боялись даже показываться на дорогах и спасались за стенами городов, где их защищали гарнизоны. Жители деревень, ферм, хуторов, усадеб надели белые кокарды; исчезла всякая власть, кроме власти роялистских предводителей, назначенных Людовиком XVIII из Митавы. Главным человеком в Бретани стал Кадудаль. Снова заговорили о десанте эмигрантов из Англии; английские корабли выбрасывали на бретонский берег оружие и тюки с фальшивыми ассигнатами, предназначенными для того, чтобы вызвать финансовый хаос в Республике.
Положение режима было очень сложным. С тех пор как в декабре прошлого года Англия, Неаполь и Россия вступили в новую коалицию, каждый день можно было ожидать, что начнется новая война за Италию. Австрия разрешила русским войскам пройти по своей территории. Ссылаясь на это, Директория объявила этим странам войну.
Объединенная русская и австрийская армия под командованием Суворова выступила в поход и 26 апреля в сражении на реке Адда нанесла поражение французской армии генерала Моро, на следующий день вступила в Милан, а позже захватила всю Ломбардию. Стремительным маршем продвигаясь с востока на запад Италии, Суворов отбрасывал откатывавшиеся под его ударами французские войска. В конце мая союзные армии вступили в Турин, овладели Касале и Валенцой. Чуть позже в сражении на реке Треббиа Суворов разбил армию Макдональда.
Все, что завоевал Бонапарт в 1796 году, было потеряно в два-три месяца. Хотя правительственная печать скрывала истинное положение дела и даже сообщала какие-то мифические сведения о том, что русско-австрийская армия окружена войсками французов, роялисты получили правдивую информацию из Англии, и отныне повстанцы воевали под единым девизом: помочь Суворову! Суворов, даром что был иностранец, нес сюда то, что все здесь так страстно желали увидеть: реставрацию монархии, изменение узурпаторского режима, возвращение законного государя на престол. А поскольку республиканские войска отступали на всех фронтах, такая перспектива сейчас не казалась фантастической.
Я, впрочем, была так занята своими собственными проблемами, что внимания на это почти не обращала, тем более что шуаны и их война ничем мне грозить не могли. Все требовало моей заботы — и дети, и Сент-Элуа, и даже работы в поле.
Я продала все драгоценности до единой, подаренные мне Александром, за исключением обручального кольца, и это дало мне возможность продолжить отстройку Сент-Элуа. По крайней мере, летом работы не остановятся. На все остальное денег уже не было, на мебель и обстановку — тоже. Но пока некогда было думать о мебели. В Сент-Элуа кипела работа, здесь трудились каменщики, кровельщики, столяры — всего двадцать человек, не считая батраков, которые могли работать, лишь следуя чьим-то указаниям, и никакого ремесла толком не знали. Подоткнув юбку до колен, засучив рукава, я бегала из одного конца стройки в другой, покрикивала, отдавала приказания, помогала, делала все, что было в моих силах, и мои щиколотки всегда теперь были забрызганы известкой.
Невозможно описать, как это шло мне на пользу. Я словно воскресла за эти весенние месяцы. Я снова чувствовала себя сильной, уверенной, самостоятельной, независимой; ко мне вернулось убеждение, что я все могу и всего добьюсь сама, если только приложу усилия. Я как-то повзрослела душевно. Мне уже не казалось, что я ребенок, брошенный на произвол судьбы.
И вот однажды, 3 мая, в день обретения святого креста, когда я, стоя на табурете, белила потолок, мне показалось, будто кто-то на меня смотрит. Медленно обернувшись, я взглянула и онемела от неожиданности.
В проеме двери стоял высокий ладный подросток лет двенадцати, смуглый, загорелый до черноты, с синими глазами на красивом аристократическом лице, решительным подбородком и твердой линией губ. Он был одет в светло-серый, военного покроя сюртук, сапоги выше колен, небрежно завязанный галстук — словом, почти как мужчина. Он был без шляпы, и вьющиеся черные волосы его были взъерошены. Выправка у него была, как у настоящего военного, а аристократизм чувствовался во всем — в осанке, посадке головы, в чуть надменной линии еще детски пухлых губ.
У меня все задрожало внутри. Глаза у меня расширились, еще не веря тому, что вижу, я пошатнулась от волнения и, если бы мальчик не подбежал и не поддержал меня, я бы упала с табурета.
— Боже мой, — только и смогла я прошептать, спрыгивая на пол.
Ведь это был Жан. Мой сын.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ ПРИНЦ ДЕ ЛА ТРЕМУЙЛЬ
1
Они приехали оба — дед и внук.
Мой отец изменился так, что я с трудом его узнавала: стал худощав, даже худ, волосы его, совершенно побелевшие, были резким контрастом смуглой-смуглой коже — этим он напоминал мне дядюшку Агатино, моего крестного из тосканской деревни. Лицо было морщинистое, но живое и даже как бы помолодевшее, а в целом он казался таким энергичным и полным сил, что не всякий молодой человек мог бы с ним тягаться.
Но, конечно же, никто не занимал меня так, как Жан.
Я не сразу отпустила его. Я разглядывала его с разных сторон, тормошила, обнимала, даже заливалась слезами.
— Жанно, мальчик мой, неужели это ты?
— А разве я не похож на себя, ма? — спросил он, улыбаясь чуть застенчиво, видимо, слегка отвыкший от столь нежных ласк и теперь немного смущенный.
— Ты так вырос… Стал настоящим кавалером.
— Подпоручик королевской армии Жан де ла Тремуйль к вашим услугам! — отчеканил он гордо и задиристо, по-военному щелкнув каблуками.
Я улыбалась, привлекая его к себе. Каким красавцем он стал: голубоглазый, черноволосый, смуглый мальчуган с ослепительной белозубой улыбкой.
— Ты загорел, прямо как негр… Только вот очень худенький. Разве ты плохо ешь, Жанно?
— Я ем за двоих, ма, — признался он простодушно. — Честное слово! Там иначе нельзя.
Он рассказал мне о нещадном солнце Египта и Сирии, стоявшем в безоблачном небе, обжигающем жаром. Нестерпимый зной, казалось, расплавлял кожу, кости; экспедиция с трудом волочила ноги по горячим пескам, по растрескавшимся дорогам пустыни. Мучения жажды тоже были невыносимы.
— Подумай, ма: рядом шумит море, такое большое, бескрайнее, а напиться нельзя. Наши, французы-роялисты, были очень мужественны; некоторые выбивались из сил, но продолжали идти. Главное было не падать, потому что кто падал — погибал.
— Боже, — прошептала я в ужасе, — мальчик мой, похоже, ты побывал в настоящем аду!
Он обнял меня, словно желал успокоить, и обнял так сильно, что я впервые поняла, что даже по силе он уже не ребенок.
— Нет, ма, я там многому научился.
— И ты совсем… совсем не боялся?
Он не сразу ответил, нерешительно поглядывая на деда.
— Боялся… там были какие-то страшные птицы с огромными крыльями и острым клювом. У них еще такие длинные голые шеи. Они кружили над нами и набрасывались на тех, кто падал.
Я слушала, все еще не в силах поверить, что это говорит мой сын, мой ребенок, тот самый, которого я держала на руках и который когда-то барахтался среди пеленок. Я до сих пор проклинала себя за то, что отпустила его, что позволила втолкнуть его во взрослую жизнь так преждевременно. Мне стало так жаль его, что я снова заплакала, прижимая голову Жана к груди почти с неистовой нежностью.
— Мальчик мой, я ведь вовсе не этого хотела для тебя! Ты же сам еще не понимаешь, что тебе грозило!
— Я тебя люблю больше всех, ма. Но я же мужчина. И мне надо поступать по-мужски. Я теперь подпоручик. Я военный!
— Я понимаю, милый. И все-таки мне было очень страшно за тебя. Маму нельзя упрекать в том, что она слишком боится за своего сына, не так ли?
— Но ведь теперь я вернулся.
Он рассказал мне о том, как оборонялась древняя крепость Сен-Жан-д’Акр от армии Наполеона Бонапарта, о тяжелейшей двухмесячной осаде, о том, как они копали рвы и вручную возводили укрепления.
— И ты брал в руки лопату?
— У меня до сих пор не сошли мозоли! — сказал он, не скрывая гордости, показывая свои руки как лучшие трофеи. — И все-таки нам в крепости было легче. У солдат Бонапарта не было ни воды, ни еды, ни пороха, ни снарядов, а еще среди них была чума…
— Чума?!
— Да, — сказал Жан уверенно. — У них очень много человек умерло. Потому Бонапарт и снял осаду.
Старая крепость, ставшая в XIII веке оплотом крестоносцев, не давалась в руки Наполеону Бонапарту. Путь в Индию был прегражден, и энергия завоевателя разбилась об эту ветхую твердыню, жалкую скорлупу, на которую, казалось бы, и внимания обращать не стоит. Наш старый знакомый Сидней Смит обеспечил непрерывное пополнение гарнизона крепости снарядами, людьми, продовольствием. Ле Пикар превосходно руководил обороной, но, к сожалению, его подорванное здоровье не выдержало, и уже в самом конце осады он умер от переутомления.
— Граф Ле Пикар умер? — спросила я настороженно.
— Да. Мы все очень сожалели о нем.
Что-то вспомнив и сразу загоревшись этим воспоминанием, Жан воскликнул:
— Ах, ма, люди Бонапарта тоже неплохо сражались! Я помню, как было страшно, когда они подложили мину под стену и сделали пролом, а потом с помощью лестниц преодолели ров. Турки и даже некоторые наши бросились бежать — все боялись, что с ними сделают то же, что было в Яффе…
— И что же?
— Их остановил паша Джезар. Он бросился врагу навстречу, и мы опрокинули атаку!
— Мы? — вскричала я. — Ради Бога, Жан, что ты-то там делал?
Он на миг смутился, потом решительно сказал:
— Ну, конечно, я не воевал. Но я сидел в крепости и стрелял.
— Ты стрелял?!
— Да! — выпалил он, упрямо сверкнув глазами. — Я даже одному пробил мундир и галстук, и мне сказали потом, что это был сам генерал Мюрат!
Я на миг онемела. Ну как можно было сразу поверить, что мой ребенок вот этими самыми руками стрелял в людей?
— И что… тебе не было страшно?
— Что же тут страшного? — спросил он простодушно.
— Ну, я, например, не смогла бы так.
— Ма, но ведь тебе и не надо.
Со вздохом, горестным и радостным одновременно, я обняла его и, повеселев, сказала:
— Ты, наверно, соскучился по домашней кухне. Чем тебя там кормили? Солдатской солониной и хлебом?
— Ой, ма, я так хочу блинов — таких, знаешь, как делают в жирный вторник! И еще… еще чашку бульона!
Я засмеялась, довольная этим чисто детским порывом, и пригласила всех пойти на кухню, где, может быть, и не будет блинов, но уж чашка бульона обязательно найдется.
2
— Ма, а почему ты здесь?
Я вздрогнула, услышав этот вопрос, хотя давно ожидала его, и, не отвечая, внимательно посмотрела на Жана. Он шумно вздохнул.
— Мы ведь искали тебя там, в Белых Липах, а нам сказали, что ты там больше не живешь. А сестры — они ведь там остались. И Филипп тоже…
— Ты видел его?
— Ага. Он так вырос.
Я не сумела перевести разговор на другую тему. Жан снова тревожно посмотрел на меня, и я поняла, что вопросы его не разрешишь замалчиванием.
— Разве тебе там не нравилось, ма?
— Это все слишком сложно, малыш.
В дверях показался мой отец, и Жан сразу высвободился из моих объятий.
— Вам, похоже, пора спать, — произнес принц негромко.
— Вы не хотите говорить при мне? — спросил Жан, оглядываясь на меня.
Я с усилием произнесла:
— Не сейчас, мой милый. Не сейчас. Позволь нам сначала обсудить все это вдвоем.
Я погладила его волосы. Он быстро поцеловал меня в щеку, потом коснулся губами моей руки и, поклонившись совсем по-взрослому, вышел. Принц проводил внука взглядом, потом медленно опустился в кресло напротив меня.
За распахнутым окном шумел свежий майский дождь. Весна пробудила к жизни умытое теплой водой племя трав. Начался карнавал цветов: даже отсюда, из замка, были видны корзинки мать-и-мачехи, золотыми монетами раскиданные по обрывам, берегам и осыпям, и пучки сиреневых цветочков на верхушках волчьего лыка. Цветущая серая ольха сыпала пыльцой. Лес стоял в разливах шоколадно-пунцовых тонов с темными островками хвойников.
Мы с отцом некоторое время молча смотрели друг на друга. Я знала, что за разговор нам предстоит, и уже готовилась дать объяснения. Принц заговорил первый.
— Что ж, дорогая моя, — сказал он, — мне кажется, я все понимаю.
— То, почему я здесь, а не там?
— Да.
Как выяснилось, после того, как они с Жаном обнаружили, что я в Белых Липах больше не живу, отцу пришло в голову заехать в Гран-Шэн и получить какие-то объяснения у Констанс, которую он знал как мою хорошую подругу. Она рассказала ему все, начиная еще с дуэли во время бала.
— Сюзанна, я никак не мог такого ожидать.
Слова отца показались мне не совсем ясными. Он осуждает меня? Сожалеет о случившемся? Да и на Констанс я слегка досадовала: она ведь дала мне слово ни о чем не говорить. Уж лучше бы я объяснила все сама.
— Ожидать чего?
— Того, что этот сопляк осмелится поднять руку на мою дочь.
Я, честно говоря, не сразу поняла, кого он имеет в виду. Голос отца звучал раздраженно, даже разгневанно, и, конечно же, говорил он о герцоге.
— Констанс сказала вам и это?
— Мадам де Лораге утверждала, что вы пришли к ней почти нагая, с изуродованным лицом. Это правда?
— Возможно, она слегка преувеличила. Но в основном все так и было.
Подняв глаза на отца, я добавила:
— Все это уже в прошлом. Меня задело даже не то, что он меня избил и выгнал, а то, что он не давал мне видеть детей. Отец, я ведь полгода не имела к ним доступа.
— Это насилие, которое ничем нельзя оправдать. Я не намерен мириться с создавшимся положением.
Я заметила, что его совершенно не интересует, была ли я в чем-то виновата, заслужила ли такое обращение со стороны Александра, — для отца это все было неважно. Он видел только то, что его дочь, одну из де ла Тремуйлей, кто-то ударил, — его дочь, которую не смеет бить никто, даже король.
— Что же вы хотите делать? — спросила я нерешительно.
— Сюзанна, мы на следующей неделе отправимся туда, и этот человек поймет, что вы не столь беззащитны, как он полагает.
— Вы хотите заставить меня вернуться к нему? — вскричала я, даже приподнимаясь в кресле.
— Нет.
Сжав руку в кулак, он разъяренно произнес:
— Не могу утверждать, что мне удастся забрать у него Филиппа, но внучек он мне отдаст — рано или поздно, это только вопрос времени. Я добьюсь специального эдикта короля, если будет нужно. А уж этому он не сможет противиться.
— Вы думаете? У него тоже есть вес в роялистских кругах.
— Он слишком военный, Сюзанна, а я в некотором роде дипломат. Каким бы влиянием этот человек ни обладал, ему никогда не встретиться с королем, а я, быть может, увижу Людовика XVIII уже в августе.
Поглядев на меня, он уже мягче спросил:
— Ну, разве я когда-нибудь давал пустые обещания? Я выполню все, что сказал. Девочки вернутся к вам. А развод… я сам теперь желаю развода.
Я слушала его, чувствуя, как воскресает во мне надежда. То, что Александр разрешил мне видеться с детьми, — этого все-таки было мало. Я нуждалась в большем. Я хотела, чтобы дети всегда были со мной. Теперь я думала, что это не так уж невозможно. Когда-то отец пообещал мне, что добьется для Жана имени де ла Тремуйля, и добился.
— Да, но Филипп, — пробормотала я неуверенно. — Он ведь такой маленький.
— Филиппа я вам не обещаю, дорогая. Пожалуй, будь у меня сын, я бы никому его не отдал. А Филипп — единственный наследник дю Шатлэ. К сожалению, надо что-то оставить и этому роду. Хотя, признаю, я не уверен, что человек, поднимающий руку на аристократку, может дать своему сыну достойное воспитание.
Я сдавленным голосом спросила:
— А что мы будем делать потом? Добиваться развода?
— Если вы оба будете этого добиваться, вас разведут.
Придвинув свое кресло к моему, чуть наклонившись вперед, отец сразу взял деловой тон и поведал о своих планах на будущее. Они состояли из бесконечных поездок, в которые он непременно включал и Жана. Но самым невероятным оказалось то, что за услуги, оказанные трону, мой отец был награжден небольшим поместьем в графстве Йоркшир — это был подарок короля Англии. Стало быть, мы теперь имели постоянный источник дохода — наш, принадлежащий только нам. Отныне через банк в Руане мы каждый год будем получать переведенные из Англии девяносто тысяч ливров.
— Значит… значит, Жан теперь не беден? — переспросила я, не веря своим ушам. — Значит, он владеет не только Сент-Элуа?
— Сент-Элуа всегда на первом месте, — поправил меня принц. — Тем более когда у нас есть деньги для его восстановления. Но, конечно же, он теперь будет служить в армии не за жалованье. Это уже не будет иметь для него значения. Я переписал поместье на его имя.
После недолгой паузы принц добавил:
— Вы теперь тоже стали состоятельной женщиной. Ведь деньгами Жана до тех пор, пока ему не исполнится двадцать один год, распоряжаетесь вы.
— Я распоряжусь ими только ему на пользу, — прошептала я с улыбкой. — Я попытаюсь отстроить Сент-Элуа. Я думаю, еще лет шесть-семь — и он станет почти таким, как прежде.
Он осторожно сжал мою руку.
— Знаете, Сюзанна, вы только теперь становитесь настоящей.
— Как это?
— Настоящей дамой из нашего рода — решительной, сильной, гордой. Раньше, честно говоря, я не так был в этом уверен.
Ничуть не обиженная, я рассмеялась:
— Что поделаешь, даже я взрослею, отец.
Я ощутила, как воскресло между нами трепетное чувство родства — как тогда, когда шесть лет назад мы расставались в замке Шато-Гонтье. В нашу прошлую встречу такого чувства не было. А вот теперь мы были объединены — общим будущим, общими интересами, общими взглядами. А Жан? Любовь к нему объединяла нас сильнее всего.
Чуть хмурясь, отец вдруг спросил:
— Что же все-таки случилось с вами в Париже, Сюзанна?
Я вздрогнула, мгновенно уяснив, что он имеет в виду. Вопрос можно было истолковать так: что за любовник у вас там был — любовник настолько исключительный, что вы из-за него подвергли риску свой брак?
— Эти россказни, касающиеся Клавьера, я уже слышал. Я знаю, что это неправда. Но правды, кроме вас, не знает никто.
— Да, не знает, но…
Назвать имя Талейрана казалось мне немыслимым. К тому же разве само имя что-то значило? Я в замешательстве пробормотала:
— Отец, это был дворянин, весьма, впрочем, незначительный, и я не считала его достойным большого внимания. Можно сказать, все случившееся — сущее недоразумение. Не спрашивайте меня больше об этом.
— Я больше ничего не спрошу, потому что уверен, что вы не способны совершить ничего недостойного вас.
Я медленно встала, обошла кресло отца и вдруг сделала то, что не делала никогда в жизни, — наклонившись, ласково обняла, обвив его шею руками, коснувшись губами его щеки. Мне впервые пришло в голову, что уже не он, а я в какой-то мере должна беречь его. Он ведь уже стар. А я приношу ему сплошные хлопоты. Я прошептала, каждой клеточкой тела ощущая, как мне радостно видеть его:
— Спасибо.
Он коснулся рукой моего локтя.
— За что вы меня благодарите, Сюзанна?
Я с улыбкой произнесла:
— За то, что вы вернулись. Когда я увидела вас, я поняла, что собираются мои сторонники, мои верные рыцари — вы и Жанно.
Он ласково потрепал меня по щеке:
— Не спешите благодарить. Подождите, пока я выполню свои обещания и девочки окажутся здесь.
— Есть вещи, за которые можно благодарить уже сейчас.
Помолчав, я шепнула:
— Жан, например, — он стал настоящим мужчиной. Это ваша заслуга, я знаю. Мне бы это никогда не удалось, я слишком люблю его… люблю по-женски.
— А разве я не говорил, что вы будете гордиться, когда увидите его после разлуки?
— Я очень горжусь. А еще я очень люблю вас.
Он отстранил меня, потянув за руку, усадил на локотник кресла, внимательно посмотрел в глаза.
— А я, Сюзанна, впервые до конца понял, какая удача пришла ко мне тогда, когда у меня родилась дочь.
3
Через два дня, развернув газету и невнимательно ее просматривая, я наткнулась на сообщение в конце страницы, и, прочитав его, выронила листок из рук.
Какую-то минуту я была поражена так, что у меня замерло сердце. Потом, бросившись к окну, я взглядом разыскала отца и громко окликнула его, махнув рукой.
— Вы представляете?! Александр объявлен вне закона! Снова!
Пока принц читал и раздумывал над всем этим, я стояла, окаменев и кусая губы. У меня в голове не укладывалось то, о чем я узнала. Да, вот и случилось то, что я предвидела. Мои усилия, о которых Александр так и не узнал, пошли насмарку, и теперь и узнавать-то о них нет смысла.
— Все, — прошептала я одними губами, — теперь его уже никто не амнистирует. Теперь не поможет даже чудо.
Отец внимательно посмотрел на меня.
— Вас это огорчает?
— Да, безусловно, — насилу произнесла я. — Это принесет горе многим людям.
— Если вы беспокоитесь о его родственниках, — насмешливо сказал принц, — то могу вас успокоить: сейчас повсюду ширится восстание и до тех пор, пока шуанов не разобьют, вашему супругу не будет нужды уезжать в Англию.
Слово «Англия» напомнило мне о леди Мелинде. Я вся внутренне сжалась, подумав о ней, и меня снова охватило ожесточение. К черту этого Александра! Мне ли думать о его судьбе? Пусть об этом думает графиня Дэйл!
Отец окинул меня пытливым взглядом:
— Похоже, вас не только это волнует?
Я качнула головой, прогоняя мысли об Александре.
— Меня, честно говоря, это уже не должно волновать. Я должна вернуть себе Изабеллу и Веронику, и это единственное, что я хочу!
Из леса прибежал Жан, протянул мне букетик ландышей, на стебельках которых еще была земля, осыпал поцелуями мои руки.
— Ма, я так рад, что мы здесь!
— В Сент-Элуа?
— Ну, конечно, в Сент-Элуа! Мне так нравится это место.
Он оглянулся на деда, потом посмотрел на меня уже серьезнее.
— Ты такая грустная. Что случилось?
— Господин герцог снова объявлен вне закона, — произнесла я, гладя волосы сына.
— Господин герцог? Ну и что же? Разве ты можешь об этом грустить?
— Почему же нет, Жанно?
Закусив губу, он упрямо сверкнул глазами.
— Он же причинил тебе зло, ма. Я больше не люблю его так, как раньше.
Я прижала голову Жана к груди, ласково перебирала волосы. Потом, коснувшись губами его лба, прошептала:
— Ты не должен так говорить. Ты не имеешь права.
— Почему?
— Потому что тебе, малыш, он спас жизнь. Ты не можешь забыть об этом, и я не могу. Это долг чести.
— Все равно, все равно, я могу помнить об этом, но любить герцога меня никто не заставит!
Он был упрям и вспыльчив — более вспыльчив, чем дед. Со временем у него будет прямо-таки крутой нрав. С ним будет нелегко ужиться. Хорошо еще, что мы оба — отец и я — пока сохраняем на Жана кое-какое влияние.
— Ну а разве для прощения у тебя в душе нет места? — спросила я шутливо.
— Ах, ма! — вскричал он с досадой, освобождаясь из моих объятий. — Я мужчина, и мне совсем не подходит то, что ты говоришь!
Мы с отцом остались одни, глядя вслед Жану. Потом я нерешительно произнесла:
— Вам не кажется…
— Что?
— Что будет слишком жестоко давить на Александра сейчас, когда он объявлен вне закона?
Отец напряженным голосом произнес:
— Не вижу связи между общественным и личным.
— Да, но… я все-таки прошу вас вести себя не слишком круто.
— Не воображайте своего супруга эдаким несчастным человеком, которого преследуют со всех сторон. Он вполне способен любому дать сдачи. А за то, что он совершил с вами, он должен ответить хотя бы самым малым, и это мое непреложное убеждение.
Не отвечая, я задумчиво смотрела на отца. Конечно же, он был прав. Только разговаривая с Александром твердо, можно чего-то добиться. Ни в коем случае нельзя становиться в позу просителя — я по опыту знала, что, действуя таким образом, ничего не добьешься. А я хотела во что бы то ни стало вернуть себе дочек.
Я со вздохом сказала:
— Так и быть. Поступайте так, как вам кажется необходимым.
Мы прожили в Сент-Элуа еще несколько дней, в продолжение которых крестьяне непрерывным потоком шли в замок, чтобы засвидетельствовать свое почтение старому сеньору. Жан на эти несколько дней предпочел лишиться того военного лоска, который приобрел, пока был под присмотром деда; в полотняных штанах, парусиновой рубашке, босой, со спутанными волосами, он надолго пропадал среди местных лесов — уходил на рассвете, а возвращался вечером со связкой наловленных раков или пойманным в силки перепелом, голодный как волк. Он хорошо ел, спал как убитый, делал что хотел — словом, жил в свое удовольствие, отдыхал и был очень доволен тем, что мальчишки из окрестных деревень еще помнят его и теперь побаиваются его кулаков.
Друзей среди местных мальчишек он не завел и вообще относился к ним высокомерно, а если и позволял им ходить за ним следом, то только в качестве командира. Он теперь хорошо стрелял, недурно для своего возраста владел шпагой и отлично сидел в седле, словом, мог бы многому научить своих сверстников; но, сколько они ни просили, ни разу никому из них не дал даже подержать свой пистолет — благородное оружие, которого может касаться только он, Жан де ла Тремуйль, сеньор Сент-Элуа. А в целом Жан нетерпеливо ждал, когда можно будет увидеться с Марком — единственным мальчиком, которого считал другом.
Изменились и его отношения с Бертой. Она прибежала, едва услышала о его приезде, но Жан обошелся с ней слегка насмешливо, хотя и вполне галантно. Он не воспринимал ее всерьез. Девочки его не интересовали, и пока ни улыбка Берты, ни ее симпатичное личико не имели над Жаном власти. У него сейчас было слишком много других увлечений. Берта почувствовала это, не смирилась с ролью, которую отводил ей старый знакомый; они поссорились, она даже поцарапала ему щеку от злости, и на этом дружба закончилась.
Отец говорил, что все де ла Тремуйли могут чувствовать себя по-настоящему хорошо только в Сент-Элуа. В отношении отца и Жана это было верно, но вот я сейчас хотела поскорее отсюда уехать и поскорее уладить дело с близняшками. С тех пор как приехал отец, мне не было покоя в Сент-Элуа. Кто знает, может быть, я была уже не настолько принцессой де ла Тремуйль, как раньше.
Отец, впрочем, не затягивал с отъездом: как только нам пришли деньги из Руана и у принца состоялась в Гравеле встреча с Сен-Режаном, одним из роялистских предводителей, мы выехали и в полночь уже были в Гран-Шэн, где нас радушно встретило семейство де Лораге. Все без разговоров согласились, что такие приятели, как Жан и Марк, должны жить в одной комнате.
От исхода предстоящего визита в Белые Липы зависело очень многое, и я почти не спала в эту ночь.
4
Комкая в руках платок, я расхаживала взад-вперед по комнате, не в силах больше сдерживать волнение. Теплый майский день заканчивался, заходящее солнце затопило жарким светом гостиную, и в этом свете призрачно плавали лепестки тополиного пуха.
Граф, сидевший на диване, лениво отозвался:
— Будет вам, мадам. Сядьте. Ведь у них не дуэль.
Констанс поддержала мужа:
— Действительно, нет причин так волноваться.
— Нет? — переспросила я, останавливаясь. — Но ведь отец уехал еще утром, а сейчас уже вечер. Что они делают там? Мне кажется, эта задержка может предвещать лишь что-то нехорошее.
— Почему?
— Если бы герцог был согласен, беседа не заняла бы столько времени.
— Вы преувеличиваете и во всем видите только плохое. Не будьте суеверны, — сказал Пьер Анж.
Констанс, выглядывая в окно, спросила:
— Знает ли кто-нибудь, куда отправились наши мальчишки?
Я покачала головой, не воспринимая этой попытки повернуть мои мысли в другое русло. В конце концов, Жан побывал в местах настолько отдаленных, что вряд ли стоит тревожиться за него сейчас, когда он всего-навсего ушел в лес.
Констанс продолжила:
— Удивительно, как хорошо Жан научился говорить по-английски. Было бы славно, если бы и Марк последовал его примеру. Сюзанна, вы…
Стук копыт донесся со двора. Констанс снова выглянула и произнесла:
— Ну вот, вы зря тревожились. Ваш отец вернулся.
Я почти выбежала из гостиной, направляясь к лестнице. Отец, прихрамывая, входил в дом. Я бросилась к нему.
— Ну, как? — вырвалось у меня. — Он согласился? Он отдаст близняшек?
Отец обнял меня.
— Пойдемте к вам, дорогая. Там мы спокойно все обсудим.
Мы уже прошли несколько ступенек, когда я снова не выдержала. Мне не терпелось услышать хоть что-то, и я взмолилась:
— Отец, так что же все-таки — да или нет?
Остановившись на миг, он серьезно произнес:
— Скорее всего, дорогая, предстоит борьба.
— Он не согласился? — прошептала я.
— Говорю же вам, идемте. Я расскажу все по порядку.
Теперь, зная исход этой беседы, я слушала отца спокойно, даже слегка безучастно. Я взяла себя в руки, потому что поняла, что легко, в результате одного визита, не верну дочерей. Как сказал отец, предстоит борьба. Что ж, я буду бороться и именно для этого стану хладнокровной, сильной и решительной.
— Если говорить об итоге нашей встречи, — неторопливо произнес отец, расстегивая ворот камзола, — то ваш муж сделал вам предложение, которое, как мне кажется, вы не примете.
— Как он встретил вас? Что говорил?
— Он был само хладнокровие и бесстрастие.
— Да, он умеет таким быть… Надеюсь, никаких выпадов в мой адрес не было?
— Нет. А если бы и были, то не остались бы без ответа. Я ни с кем не обсуждаю ваше поведение, Сюзанна, даже с вашим мужем.
Александр встретил принца с холодной любезностью, корректно, как истинный джентльмен. Того, что случилось осенью, и причин нашего разрыва они не касались. Когда речь зашла о детях, герцог был непреклонен.
— Он считает, Сюзанна, что вам просто некуда увезти их, что Сент-Элуа, неуютный и недостроенный, не может быть для них хорошим домом, что вы не в силах дать им надлежащее образование и вообще материально они будут с вами не так защищены, как с ним.
— Надеюсь, вы рассказали ему, что все изменилось?
— Это было унизительно, Сюзанна. Я ничего не рассказал. Я лишь заметил, что рассуждать о таких вопросах — не дело дворянина.
— Вы пытались оскорбить его, отец. А он, может быть, узнав, что теперь у нас есть средства…
— Если бы он и узнал, это ни на что не повлияло бы, ибо истинные причины отказа — это не ваше материальное положение.
Вспыхивая, я зло сказала:
— Да, да, конечно! Он до сих пор мстит мне! Ну, а он сам? Кто будет воспитывать трех малышей теперь, когда он сам объявлен вне закона и его положение стало таким шатким?
Усмехнувшись, принц произнес:
— Как ни странно, он сказал мне то же самое.
— О шаткости своего положения? — переспросила я ошеломленно.
— Да. Он отлично сознает, что дети и с ним незащищены. Филиппа он искренне любит, как я понял; насчет близняшек сказать трудно, но им он тоже хочет быть отцом. Я не питаю добрых чувств к вашему супругу, Сюзанна, но правды скрывать тоже не хочу.
— Похоже, его любовью к детям вы оправдываете то, что он не отдает их мне.
— Не оправдываю. Ничуть не оправдываю. Я лишь говорю о том, что я понял.
— Значит, надо детей делить, — сказала я решительно. — Как это ни было бы больно, но мы оба должны быть удовлетворены!
— Подождите.
Закуривая сигару, отец проговорил:
— Он предлагает вам вернуться в его дом и жить там на правах матери и жены.
Я откинулась на спинку стула. Вначале мне показалось, что я что-то не так поняла. Не может такого быть. Раньше я и подумать не могла, что Александр склонится к такому решению. Выговаривая слова почти по слогам, я спросила:
— Он больше не хочет развода?
— Он хочет, чтобы вы вернулись. Разве такое при разводе бывает?
Я молчала, хмурясь и раздумывая над всем этим. Принц вполголоса произнес:
— Я сказал ему, что вы не согласитесь. Что слишком много проблем возникнет для вас, если вы туда вернетесь. Герцог ответил, что все и не может быть как прежде, но вы будете иметь возможность воспитывать детей и пользоваться всеми правами хозяйки. Вам будут оказывать уважение. Выслушав это, я все же повторил, что для вас такой выход неприемлем. Он посоветовал мне передать его условие вам. Он, похоже, был уверен, что перед возможностью вернуться к детям вы не устоите.
Я удивлялась своему спокойствию в данный момент. Я трезво размышляла над достоинствами и недостатками этого предложения. Достоинства были видны как на ладони. Недостатки заставляли меня трепетать. Как я смогу войти в Белые Липы, зная, что на каждом шагу меня будет останавливать взгляд Анны Элоизы и презрение Поля Алэна! Слуги из числа самых преданных никогда не забудут того, что случилось. У меня будет слишком много врагов. Да и Александр…
— Меня крайне удивляет это его условие! — вскричала я, резко поднимаясь. — Совсем недавно он говорил, что возвращение в его дом для меня же будет опасным, потому что он может не сдержаться и сделать что-то со мной — изуродовать меня или избить…
— Он говорил так?
— Да, и весьма недвусмысленно! Что же, он думает, что я теперь меньше боюсь его расправы? Мне вовсе не улыбается быть задушенной!
— Значит, — сказал отец, — я был прав. Мы будем искать иные способы. Я против вашего возвращения. Жаль, что он не поддался на уговоры, но процесс, в сущности, еще только начинается. Мы обратимся к королю. Я уже в следующем месяце выеду в Митаву.
— А мои малыши в это время будут жить в Белых Липах в полнейшей заброшенности? — спросила я упавшим голосом. — С ними не то что матери, но и отца не будет, если Александр уедет воевать…
Я снова опустилась на стул, нервно потеребила оборку платья. Шальная, невероятная мысль вдруг пришла мне в голову: что, если Александр переменился ко мне? Что, если он все же любит меня, что какая-то частичка его любви все еще сохранилась, и теперь он просто хочет восстановить то, что разрушил? На миг почти поверив в это, я ощутила, как теплая волна радости плывет по телу.
И тут же лед воспоминаний уничтожил это ощущение. Кто знает, если эта догадка верна, то, быть может, мое положение даже хуже, чем если бы Александр уже ничего ко мне не чувствовал. Ибо возобновлять супружеские отношения я совсем не стремилась. За прошедшие месяцы я научилась обходиться без его присутствия, его ласк, его объятий. Все это было мне уже не нужно, уже не действовало на меня, как наркотик. Мне было так легко сейчас. Что ни говори, а независимость имеет много преимуществ.
Я не хотела сейчас подолгу быть с ним, спать или есть, словом, не хотела привыкать и прощать. Да и могла ли я простить? Он отомстил мне сильнее, чем я того заслуживала. Он до сих пор еще мстил. Он унизил меня, как рабыню, выбросил из дома, как вещь, — меня, принцессу, герцогиню, женщину, с которой он был счастлив и которая родила ему сына. Он все растоптал в один миг из-за какого-то пустяка. Я знала: что бы ни произошло, это всегда будет стоять между нами. Слишком больно и стыдно мне было вспоминать о том, как со мной поступили.
И все-таки, повинуясь скорее инстинкту, чем разуму, я прошептала:
— Отец… я, наверно… вернусь.
Наступило долгое молчание. Я понимала, что отцу не по вкусу такое мое решение, и приготовилась к обороне. Переубедить меня было нельзя. Я сделала выбор. Я хотела иметь еще один шанс… Для чего? Я и сама не знала. Просто для того, чтобы дети меня не забывали.
— Как бы там ни было, отец, а я хоть некоторое время поживу с ними. Трудно передать, как я соскучилась. Эти встречи, которые он мне наконец позволил, — это же так мало…
— И вы будете жить с ним, помня о таком унижении? — резко спросил принц.
Я тоже подумала об этом. Смогу ли я?
— Я постараюсь… не вспоминать. Я буду счастливее, чем сейчас, уже потому, что рядом будут дочки и Филипп. Все остальное неважно.
Я помолчала, и глаза у меня сверкнули:
— А если он попробует еще раз выгнать меня, я не уйду одна! Я украду детей и не буду так глупа, как раньше!
Отец невольно усмехнулся, услышав столь воинственное заявление, сорвавшееся с моих губ, потом с гневом, клокотавшим в голосе, произнес:
— Если он позволит себе что-то подобное еще раз, я убью его. По крайней мере, приложу все силы для этого. Так ему и передайте, Сюзанна.
5
Ворота были распахнуты. Карета, присланная за мною в Гран-Шэн, проехала между двумя колоннами из розового гранита и загрохотала по аллее, обсаженной ломбардскими тополями. Тополя сменились американскими соснами, голубыми елями и низкими кустами самшита, потом послышался шум фонтанов и показался фасад землянично-розового дворца с белыми колоннами и золочеными решетками. Целый каскад ниспадающей из фонтанов воды открылся передо мной. Море цветов — тюльпанов, гиацинтов, нарциссов — разливалось вокруг каменных рам, в которые были заключены гладкие водные зеркала. Это были Белые Липы.
Я вышла из кареты. Ни одного человека не было видно поблизости. Было три часа пополудни; я вернулась в этот дом после мессы, которую прослушала в часовне Гран-Шэн. Сегодня была Троица. Заранее известив о том, когда приеду, я надеялась, что никто из моих недоброжелателей мне на глаза не попадется. Так и случилось. Теперь, вернувшись и оглядываясь по сторонам, я полагала, что в моей памяти этот день останется надолго.
Отправляясь сюда, я хотела явиться во всем блеске, чтобы ничем не походить на наказанную жену, которой наконец-то позволено вернуться в дом. Траур, правда, сильно ограничивал мои возможности. Узкое платье из черного струящегося шелка живописными складками падало вниз, облегая полную грудь, тонкую талию, обрисовывая точеные линии рук и стройные очертания бедер, подчеркивая теплый золотистый тон кожи. За последний год я приобрела шарм зрелой, взрослой женщины в расцвете своей красоты и догадывалась об этом. Волосы, приобретающие под солнцем ослепительный оттенок кипящего золота, были густыми волнами зачесаны вверх, что открывало длинную нежную шею; высокая прическа была украшена черным кружевом, еще более оттенявшим ярко-золотистый цвет кудрей.
Черное мне шло. Я это помнила. Оно делало меня стройнее, выше, изящнее. Оно даже придавало мне загадочности.
— Вас проводить, мадам? — спросил кучер.
— Нет. Займитесь лучше лошадьми.
Карета отъехала от крыльца. Я медленно поднялась по ступенькам и вошла в дом. Сердце у меня предательски екнуло. Все было очень похоже на тот день, когда я впервые явилась сюда. Тогда мне все пришлось завоевывать. Теперь, возможно, история повторится. На миг остановившись, я дала себе зарок: думать только о детях, а все прочие мысли оставить на потом. Затем, подняв голову, я увидела у подножия лестницы Александра.
Легкий вздох сорвался с моих губ. Мы какой-то миг смотрели друг на друга, потом он сделал шаг мне навстречу. Он был в рубашке, галстуке, темном сюртуке, кюлотах и туфлях — словом, при полном параде, значит, либо ходил в часовню, либо дожидался меня. Я решила не задумываться над этим. Мельком я перехватила его взгляд: непонятный, холодный. Он окинул им меня с ног до головы. Мне показалось, он осуждает меня за то, что я даже трауру попыталась придать кокетства.
Он поклонился мне, чуть склонив голову. Я тоже кивнула ему.
— Где же все? — спросила я тихо.
— Торжественная встреча состоится вечером, за ужином.
— Я приготовлюсь, — сказала я холодно.
— Вас ждет Маргарита в ваших покоях.
— А дети?
— Должно быть, спят. Или играют. Вы имеете возможность сами об этом узнать.
Он сделал такое движение, словно собирался уходить. Я жестом остановила его.
— Еще одно слово, сударь. Или, вернее, несколько вопросов.
— Слушаю вас, — сказал он безразлично.
— Кто отдаст мне ключи? Анна Элоиза?
— Да. Говорите с ней об этом.
— Это затруднит дело, — возразила я. — Если вы хотите, чтобы я осталась, возьмите эту задачу на себя.
Его лицо на миг исказилось. Помедлив, он ответил:
— Предпочитаю оставить все как есть, сударыня.
— Что ж, — сказала я. — Вероятно, девяностолетняя старуха лучше уследит за хозяйством, чем я.
Сама говорить со старой герцогиней насчет ключей я не намеревалась. Я вообще не была намерена делать ничего такого, что трепало бы мне нервы. Мне с Анной Элоизой было весьма тяжело до случившегося, что же говорить теперь?
Я почти враждебно спросила:
— Куда вы дели свою английскую шлюху?
Не дожидаясь ответа, я воскликнула:
— Если я хоть раз увижу ее здесь, я уеду и больше никогда на ваши условия не соглашусь.
— Советую вам не думать об этом, мадам.
— Об отъезде или об англичанке? — спросила я язвительно.
Он снова окинул меня тяжелым взглядом, повернулся и направился к выходу. Я некоторое время стояла, кусая губы. Мысль о графине Дэйл отравляла мне сознание. Я не сомневалась, что она не уехала. Он оставил ее в Ренне, он платит за то, что она живет в гостинице. И, без сомнения, он будет к ней ездить. Боже мой, с чем мне только не придется мириться!
Потом, призвав на помощь все свое христианское смирение и подавив гордыню, я стала подниматься по лестнице. Стоило ли думать о леди Мелинде? Ведь не она вошла в Белые Липы, а я. Ее мечты о браке с Александром разбиты в прах. А я сохранила за собой титул герцогини и имя дю Шатлэ и еще нахожу причины жаловаться. Что мне за дело до Александра? Я буду жить не с ним, а с детьми.
Через минуту, распахнув дверь, я уже была в объятиях Маргариты. Филипп требовательно дергал меня за юбку, близняшки просто душили поцелуями. Я обнимала сразу всех, схватив малышей в охапку, пока мы все не повалились на пол и не расхохотались.
— Вы вернулись? Он позволил вам? — допытывалась Маргарита.
— Да. Я только ради них согласилась, ради малышей.
— А отец ваш? Отчего его сиятельство сюда не приехал? А Жанно? Видит Бог, как бы я хотела увидеть мальчика!
Отбиваясь от близняшек, я терпеливо объясняла:
— Я приехала одна, чтобы оценить обстановку. Насчет отца не знаю — он слишком ожесточен против герцога, поэтому, возможно, поживет пока у Констанс. А Жан, Маргарита, — он передает тебе привет.
— Так он приедет сюда?
— Да. На днях. Как только я дам знать.
Близняшки, не давая мне говорить, наперебой спрашивали:
— Ты теперь останешься с нами, мамочка?
— Я хочу новую куклу! — восклицала Изабелла.
— Бель нарочно оторвала у моего зайчишки ухо! — пожаловалась Вероника. — Мамочка, ты купишь мне что-нибудь взамен?
— Ты правда будешь теперь с нами, и папа уже не будет такой печальный?
— А он был печальный? — спросила я, гладя их золотистые головки.
— Да. Он так мало говорит с нами. И даже Филиппу не позволяют входить в его кабинет!
Филипп, широко открыв голубые глаза — ресницы у него были длинные, золотистые, — пролепетал:
— Я сказал: «Сто ты глустный, пап? Не надо пелесывать!»
— Ты так сказал? Ты утешал папу? Ах ты мой добрый мальчик!
Я посадила малыша себе на колени, обняла. Мне все время казалось, что я недостаточно была с ним, что он за свои два с небольшим года жизни получил от меня меньше, чем мог бы рассчитывать. Минувшие шесть месяцев вообще разлучили меня с ним. Кто заботился о мальчике? Няньки? И как после этого можно забыть то, что сделал Александр?
Маргарита решительно вмешалась и оттащила от меня близняшек:
— Полно вам, полно, барышни! Вы совсем замучили мадам. Нельзя так галдеть! Ступайте-ка лучше в сад и поиграйте.
Попротестовав немного, они убежали. С нами остался только Филипп. Маргарита прикрыла дверь, пытливо поглядела на меня и, после недолгого колебания, спросила:
— Так что же, мадам? То, что вы вернулись, вовсе не значит, что вы решили снова стать женой?
— Повторяю, я приехала только ради малышей. Он не оставил мне выбора.
— А ваш отец? Чего он требовал, когда приходил сюда?
— Он пытался защитить меня. Но это был бы слишком долгий путь — суд, епископат, обращение к королю…
— Вам это показалось трудным? — Маргарита покачала головой. — По мне, так тут вам тоже будет не легче. Как же вы сможете жить в Белых Липах, если старая герцогиня вас не выносит, брат герцога даже знать не желает, да и сам герцог тоже не слишком к вам расположен?
— Спасибо, — сказала я с сарказмом. — Вообще-то совершенно незачем напоминать мне об этом. А если ты хочешь, чтобы я ответила, я скажу: когда я шла сюда, то хорошо представляла, как меня встретят. Это меня уже не пугает. Я ни перед кем голову опускать не собираюсь. А в остальном… остальное мне заменят дети.
Я ласково приголубила Филиппа. Он уже несколько минут пыхтел, пытаясь слезть с моих колен на пол; теперь я отпустила его и сама поставила на ножки.
Маргарита, закалывая булавками чепец, бормотала:
— А ваш муж — я ума не приложу, что он себе думает. Он словно обезумел. Ведь если здраво рассудить, вы вовсе того не заслужили — того, что он с вами сделал! Я бы на вашем месте не вернулась. Не очень-то это прилично для дамы из семьи де ла Тремуйль.
Я прошептала — тихо, задумчиво, даже робко:
— Как ты думаешь, что он ко мне чувствует?
— Это уж одному Богу известно, милочка. Ваш муж молчаливый стал, разговаривает только с роялистами, которые к нему приезжают, да и разговоры эти лишь о делах. Видимо, они сговариваются насчет чего-то опасного. А еще он пить стал.
— Пить?
— Да. Раньше-то за ним это не замечалось. А теперь раза два или три в неделю запирается у себя и пьет. Вероятно, и для него все случившееся даром не прошло!
Помолчав, она добавила:
— Нет, я не скажу, конечно, что он бывает пьян. Дворянин вообще не может быть пьяным. Но то, что он пьет, — это уж точно.
— Это я его довела, — невольно вырвалось у меня.
— Э-э, какая чепуха! Он перед вами куда больше виноват.
— Но ведь с меня все это началось. С меня. С этим не поспоришь. Если бы я…
— Вот глупость какая! Почему это с вас? Любовницу в Англии кто завел — разве вы? Он обманывал вас самым бесстыдным образом, потом приехал, и ой как ему не понравилось, когда вы точно так же поступили!
Я усмехнулась, глядя в окно. На эти слова Маргариты я ничего не могла возразить, и у меня в душе снова зашевелилось ощущение несправедливости того, как со мной поступили, и враждебности по отношению к Александру.
Уже перед самым ужином в дверь моих покоев постучали. Маргарита повернула ключ в замке и впустила на порог Гариба.
— Что такое? — спросила я неприязненно.
— Я пришел передать вам слова хозяина, госпожа, — произнес он невозмутимо.
— Говори. Я жду.
— Хозяин сказал, что вам сегодня лучше не выходить к столу. Вам принесут ужин сюда, госпожа.
— Таков его совет?
— Да.
Я ничего не отвечала, в упор глядя на индуса, и брови у меня были нахмурены. Мне не хватало слов, чтобы выразить возмущение. Мало того, что этот дикарь неприятен мне сам по себе, — я помнила, как он выгнал меня в одной рубашке, он еще и передает мне столь унизительный приказ. Может быть, они вместе с хозяином полагают, что я буду здесь жить, прячась в своей комнате? Мне нечего стыдиться! И прятаться я ни от кого не собираюсь! А если кто-то попробует пристать ко мне, тот получит отпор вдесятеро больший, чем нападение!
Я уже готова была высказать все это вслух, но конец моему молчанию положила Маргарита. Распахнув дверь, она проговорила:
— Ну-ка, убирайся отсюда.
Индус бросил на нее кошмарный взгляд и блеснул белками. Это не произвело на Маргариту впечатления. Ступив шаг вперед, она взревела:
— Убирайся вон, и нечего мне тут глазами вертеть, обезьяна поганая!
Когда он, наконец, ушел, мы взглянули друг на друга и, не выдержав, я рассмеялась.
И все-таки предстоящая задача выйти к ужину казалась мне весьма проблематичной.
Да, думала я с иронией, от этого первого появления зависит то, как будет проходить моя последующая жизнь в этом доме. После этого, первого, ужина мое присутствие уже не будет восприниматься так остро и болезненно. Меня не будут любить, но меня привыкнут видеть. Это будет потом. А сейчас…
Я предвидела все: насмешки, злые выпады, оскорбления. Я знала, что Александр не встанет на мою защиту: он и раньше не вмешивался во все эти дрязги, и предполагать, что он сделает это теперь, было бы смешно. Слава Богу, он хоть нападать не будет — в этом я тоже была уверена. Я ценила и своего союзника — отца Ансельма, который, несомненно, попытается смягчить происходящее. И все-таки мне было тошно, тоскливо и страшновато.
Зачем я вернулась сюда? Эта мысль возникла в моей голове в момент короткого трусливого отчаяния. Что хорошего жить в доме, где все тебя ненавидят? В этом нет ничего привлекательного, и я напрасно храбрилась, говоря, что дети заменят мне все остальное! Я ведь совсем не скандалистка, не интриганка, у меня нет душевных сил для того, чтобы выдерживать постоянные семейные склоки и давать достойный отпор каждой атаке, направленной на меня.
Маргарита очень потрудилась над моей прической, уложив густые золотистые волосы наподобие пышной короны; я выбрала для предстоящего испытания узкое платье из черной тафты, края лифа которого и манжеты были расшиты серебром. Мне не хотелось появляться в совершенно черном наряде, как кающаяся грешница, и поэтому пошла на отступление от строгих рамок, которые предписывал траур. Немного серебра не повредит. Из украшений на мне был только аграф, которым застегивалось декольте у своей нижней точки. Да еще обручальное кольцо с изумрудом.
Оборачиваясь к Маргарите, я спросила:
— Может быть, мне действительно лучше не идти?
— Идите! Только не являйтесь самая первая. Придите туда с опозданием.
— Они сочтут это вызовом.
— Кто знает! Может, они вовсе не ожидают увидеть вас.
Я оглянулась, увидела Филиппа, который возился на полу и потрясал погремушками, и вдруг решительно взяла его на руки. Он оказался неожиданно легким для своих двух лет.
— Знаешь что, Маргарита?
— Что?
— Я пойду туда с Филиппом. Он защитит меня.
Посмотрев на мальчика, я спросила:
— Правда, мой маленький, ты меня защитишь, как настоящий мужчина?
— Да! — ответил он без всяких колебаний.
— Ну, вот и славно. Тебе пора уже сидеть за взрослым столом. Мама о тебе позаботится.
Маргарита занялась малышом: причесала его, умыла, переодела. Он был очень мил в белой рубашечке, в крошечных башмачках на ножках, — мил, как ангелочек. Я взяла его на руки, еще раз прижалась губами к его пухленькой щечке, вдохнула молочный запах детской кожи и все это словно придало мне мужества. В чем дело, в конце концов? Филипп — будущий герцог дю Шатлэ, наследник, и я родила его! Я имею все права быть в этом доме!
— Мы идем, — сказала я решительно.
Впервые за долгое время я оказалась в белой столовой — святая святых этого поместья, и меня вновь поразила торжественность и пышность ее белоснежного убранства. Все здесь сияло белизной: белая лепка стен и потолка, фарфоровая отделка пилястров, белый шелк, которым были затянуты промежутки между зеркалами. Контрастом были лишь люди, сидевшие за длинным белоснежным столом, все, как один, одетые в черное.
Я тоже была в черном. Держа на руках Филиппа, прижимая к себе его головку, я остановилась, не доходя двух шагов до стола, и все взоры обратились ко мне. Закуски и салаты мы уже пропустили; мы явились к основному блюду, и такое опоздание, я была уверена, нам не простят.
Бегло оглядев стол, я заметила, что на месте по правую руку от Александра, — месте, полагавшемся мне по праву как герцогине, — сидит Анна Элоиза. Невозможно описать, как она смотрела на меня. Ее бесцветные глаза, казалось, метали молнии, старческая рука машинально искала трость, словно старуха хотела подняться, потом, наконец, нашла, и ее тощие пальцы обхватили набалдашник.
— Что это значит? — выговорила она голосом, в котором клокотало негодование.
Поль Алэн встал, громыхнув стулом. Лишь только Александр и отец Ансельм остались неподвижны: первый молча смотрел на меня через плечо, второй, продолжая есть, воскликнул:
— Полно, дети мои! Я первый готов высказать радость по поводу того, что супруги помирились.
— По-ми-ри-лись? — по слогам выговорила Анна Элоиза таким тоном, словно речь шла о чем-то необычайно гнусном. — Так что же это значит, я вас спрашиваю, сударь?!
Филипп беспокойно заерзал, встревоженный таким приемом. Потом заметил отца и, протянув к нему ручонки, вскричал, вне себя от радости:
— Па-па-па!
Ни на минуту не теряя самообладания, я подошла совсем близко, и меня не удивило бы, если бы от меня отшатнулись, как от чумной. Взглянув на Александра, я резко спросила:
— Как же это случилось, сударь, что вы не предупредили своих родственников о том, что я снова буду жить здесь?
Взгляд Поля Алэна жег мне затылок. С уст Анны Элоизы сорвался просто-таки стон агонии.
— Вы слышите? — спросила я, обращаясь к герцогу. — Ваша бабушка уже так стара, что вполне может умереть от неожиданности. Зачем вам понадобилось устраивать ей сюрпризы?
— Я просил вас остаться у себя, — раздраженно бросил он.
— А я пришла. Но, честное слово, если бы я знала, что все обитатели Белых Лип находятся в неведении о моем возвращении, я осталась бы в своих покоях.
— Своих покоях! — повторила Анна Элоиза. — Вы только послушайте!
Служанка помогла ей, поддержала под руку, и старуха поднялась и стояла теперь передо мной, сжимая в руке трость. В упор глядя на нее, я холодно произнесла:
— Не стоило так беспокоиться, сударыня. Я не собираюсь сгонять вас с этого места. Так что можете сидеть здесь и дальше.
— Черт возьми! — раздался голос Поля Алэна. — Все это слишком далеко заходит! Александр, почему ты молчишь?
Я оглянулась на мужа. Его лицо просто почернело в этот миг. Происходящее, разумеется, удовольствия ему не доставляло. Он поднялся, ударив костяшками пальцев по столу.
— Господа, — произнес он, обращаясь к Полю Алэну и священнику. — Мадам, — повернулся он к Анне Элоизе. — Возможно, я допустил ошибку, когда не известил вас заранее. Я собирался сделать это после ужина. Но коль скоро все уже известно, я скажу: моя жена вернулась жить в мой дом. Это может кому-то не нравиться, но это так.
— Что же тебя заставило? — спросил Поль Алэн, с презрением глядя на меня.
— Я объясню это позже.
Смакуя вино, отец Ансельм добродушно заметил:
— Вам всем, дети мои, следует быть добрее друг к другу. Что значат эти гневные лица? Простите и забудьте все обиды, и жизнь станет гораздо приятнее!
Александр сел, весьма раздраженным движением налил себе вина. Поль Алэн, быстро поклонившись своей бабке, вышел. Наступило молчание. Я не сомневалась, что самое главное еще далеко не кончилось, но сделала шаг к свободному месту, чтобы сесть. Филипп был не такой легонький, как мне казалось раньше, к тому же он все время ерзал у меня на руках, тянулся то к отцу, то к пирожным, которые видел на столе.
— Зачем вы привели ребенка? — отрывисто спросил Александр мрачно глядя на меня. — Чтобы замаскироваться под мадонну?
— О нет, — сказала я равнодушно. — Просто мне хотелось иметь хоть одно доброе сердечко рядом с собой.
— Садитесь, наконец, куда-нибудь, — бросил он раздраженно.
Раздался скрипучий старческий голос:
— Постойте.
Я замерла. Потом, обернувшись, посмотрела на Анну Элоизу. Нервный тик заставлял дергаться ее левое веко, и вообще она выглядела как перед обмороком. Похоже, впервые хладнокровие изменяло ей.
— Александр, я требую, чтобы эта недостойная особа была немедленно удалена из-за стола.
Наступило молчание. Александр, казалось, обдумывал ее слова и продолжал резать мясо. Потом, подняв голову, произнес:
— Мадам, моя жена вернулась в мой дом с моего ведома. Как бы мне ни было жаль, но ей нельзя отказать в праве есть вместе с нами.
— Вы сошли с ума!
Анна Элоиза изо всех сил грохнула клюкой о паркет.
— Александр, значу ли я что-то в этом доме — я, которая столько лет посвятила и вам, и Белым Липам?
— Мадам, — мрачно сказал Александр. — Вы значите очень много. Но есть причины, от меня не зависящие, которые сделали необходимым пребывание этой женщины в моем доме.
То, как он меня назвал — «эта женщина», — задело меня до глубины души. Ярость всколыхнулась во мне. Я сквозь зубы произнесла:
— Я нужна ему, чтобы быть с детьми, вот что, мадам! Что же делать, если ни он, ни даже вы, столь великая блюстительница порядка, не смогли с ними справиться!
Анна Элоиза, не глядя на меня, возвысила голос:
— Александр, я, старая, достойная женщина, ваша бабушка, требую, чтобы эта особа удалилась, иначе вы заставите уйти меня.
— Мадам, я не желал бы допустить ни того, ни другого.
Лицо Александра сделалось каменным. Было ясно, что он считает спор законченным и что от него по этому поводу не добьешься больше ни слова. Но вот что касается меня, то я не могла успокоиться. Слишком возмутительным мне все это казалось. Почему она так ненавидит меня? Почему ее презрение даже больше, чем презрение Александра? Разве я причинила ей какое-нибудь личное зло? Что за странные мотивы руководят поведением этой старухи?
Не выдержав, потеряв всякое самообладание, я с отвращением воскликнула:
— Что касается меня, то я была бы весьма удовлетворена, если бы вы ушли, потому как вид злой брюзжащей старухи никому радости доставить не может, а единственное, что может, — так это испортить аппетит!
Хриплый возглас вырвался из груди старой герцогини. Она на миг отшатнулась, и глаза ее сверкнули поистине молодым гневом. Я опомниться не успела, как взлетела вверх ее толстая трость, и старуха просто-таки рванулась вперед, чтобы разбить мне голову.
Мужчины вскочили с мест. Только каким-то чудом мне удалось отпрянуть, уйти в сторону, спасая таким образом малыша от сокрушительного удара по голове. Трость задела меня по плечу, и хотя удар был скользящий, кожа у меня на плече была оцарапана до крови. Не удержавшись на ногах, я упала на колени, спрятав голову, прижимая к себе Филиппа и, чтобы удержаться от дальнейшего падения, уцепившись за отодвинутый стул.
— Довольно! Довольно, говорю вам, мадам!
Прикрываясь локтем, я решилась посмотреть. Александр удерживал Анну Элоизу за плечи. Старуха тяжело дышала и, глядя на меня, явно сожалела о том, что не имеет возможности ударить еще раз. Филипп разразился слезами у меня на руках. Я вспомнила о малыше, вспомнила, какой опасности он подвергся, и лихорадочно ощупала сынишку. К счастью, он был цел, только очень испуган. Я вскочила на ноги, дыхание у меня перехватило от гнева.
— Вы старая ведьма! Вы отвратительны! Вы могли убить ребенка, разбить ему голову!
Филипп сквозь слезы яростно прокричал вслед за мной:
— Ста-ла-я ведь-ма! Ведь-ма! Отвлатительная!
— Ох уж эти мне женские скандалы, — с сопением отозвался отец Ансельм. — И все-таки, мадам, вам не следовало бить невестку. Вы стары, вам надлежит быть более мудрой.
Сдерживая дыхание, Анна Элоиза поднесла руку к груди.
— Мне дурно, — отрывисто сказала она, обращаясь к служанке. — Я поднимусь к себе.
— Да, и постарайтесь успокоиться, — холодно произнес Александр.
Я затопала ногами, вне себя от негодования:
— Какая трогательная забота! Ей — успокоиться? Для чего? Вы еще посоветуйте ей выбрать трость побольше!
Не слушая меня, Александр забрал у меня из рук Филиппа.
— С ним все хорошо? — спросил он кратко.
— Да, — бросила я раздраженно, потирая ушибленное плечо.
— Какого дьявола вы привели его сюда? Зачем?
— Кто же знал, что здесь нас встретят такие монстры!
Сурово глядя на меня, Александр громко, так, что услышали все, даже отец Ансельм, произнес:
— По правде говоря, вы тысячу раз заслужили хорошей трепки.
Закусив губу, я молчала, пытаясь справиться с бешенством, охватившим меня.
— Не вам решать, — сказала я наконец. — Отдайте Филиппа! И будь я проклята, если когда-нибудь сяду за стол с фурией, которая едва не убила моего ребенка!
Я почти вырвала сына из рук герцога и вышла даже быстрее, чем Анна Элоиза. Что и говорить, ужин в этот раз закончился просто плачевно.
6
Изабелла визжала благим матом и отбивалась ногами от няньки, которая пыталась ее одеть.
— Не хочу больше черное! Не хочу! Сама носи его, если тебе хочется!
Привлеченная этими криками, я ворвалась в комнату, где был учинен настоящий разгром. Изабелла лежала на животе на кровати и изо всех сил колотила ногами по одеялу.
— Видите, мадам! — в отчаянии воскликнула нянька. — Как приходит утро, я просто умираю от страха, потому что приходится одевать мадемуазель!
— Изабелла, марш в чулан! — вскричала я громко и рассерженно.
Визг прервался. Изабелла села на постели, взглянула на меня из-под лукаво опущенных ресниц.
— Ну, пожалуйста, мамочка, мне просто не хочется надевать эти черные платья!
— А сидеть запертой в чулане тебе хочется? А быть отшлепанной?
Первую угрозу в отношении Изабеллы я уже дважды приводила в исполнение — иными способами было просто невозможно справиться с этой своевольной девчонкой, которая с возрастом становилась все невыносимее: тиранила няньку, царапала сестру, хитрила, обманывала, притворялась. Чулана Изабелла боялась. Услышав, что я не шучу, она расплакалась уже вполне искренне.
— Мама, но я же еще маленькая! Я хочу что-нибудь светленькое… и ленточку в волосы!
Я сказала уже спокойнее:
— Ты прекрасно знаешь, что сейчас в доме траур. Все, кто любил старого герцога, должны из уважения к его памяти носить черное до самого сентября. Я уже объясняла тебе это.
— До сентября?
— Да, до конца сентября. Тебе может это не нравиться, но ты должна подчиняться правилам, которым и я подчиняюсь. Ну-ка, поднимайся и, если не хочешь быть наказанной, слушайся.
— И мне снова придется это надеть? — с гримаской отвращения спросила Изабелла, пиная ногой черное платье.
— Придется. И, пожалуйста, без разговоров.
Пока Изабелла одевалась, я сама причесала Веронику: завила пышную массу рыже-золотых волос и стянула их сзади лентой, оставив свободным каскад локонов. Так и меня причесывали когда-то.
— Ты у меня просто очаровательная девчушка, — сказала я, целуя Веронику. Она смутилась, обняла меня за шею и вернула мне поцелуй в щеку.
Перед Вероникой я чувствовала себя немного виноватой. Я лишь недавно разгадала все хитрости Изабеллы: поссорившись или даже подравшись с сестрой, она не тратила время на слезы, а сразу бежала ко мне и жаловалась на Веронику. Считая, таким образом, именно Веронику зачинщицей, я становилась на защиту Изабеллы — делала то, чего она не заслуживала. Мне только в последнее время удалось все это выяснить.
— Почему же ты не сказала мне, что обижена, детка? — спросила я.
— Я уже все забыла, мамочка!
Изабелла, уже одетая, топнула ногой:
— А меня? А меня причесать?
— Честно говоря, — сказала я задумчиво, — не знаю, заслуживаешь ли ты…
Она сегодня провинилась и была достойна заботы только няньки — это тоже было своеобразное наказание. Я, правда, еще не приняла окончательного решения.
— Пожалуйста! — взмолилась Изабелла. — А то я целый день буду грустная!
Опасаясь, как бы она не стала завидовать Веронике, и поддавшись лукавому обаянию Изабеллы, я сдалась.
— Ну, так и быть. Не так уж ты и провинилась, правда?
— Правда! — ответила Бель, всегда готовая к таким заключениям. И тут же спросила: — Мама, а почему Жан такой противный?
— Противный? — переспросила я ошеломленно.
— Да, он не хочет взять нас кататься на пони, называет малышками и вообще пле… плезирает!
— Он не презирает вас. Он просто занят. Ведь он так долго не был дома, ему самому многое надо посмотреть.
Тут вмешалась Вероника, важно сказав:
— Но он же старший и должен любить нас, своих сестер! Ты сама говорила!
— Это не освобождает вас от обязанности тоже любить его, — засмеялась я. — Так и быть, я поговорю с ним. Он непременно научит вас ездить на пони.
В целом все мои дети — Изабелла, Вероника, Жан и Филипп — жили дружно и любили друг друга. Жан относился к сестрам, быть может, чуть-чуть свысока и немного поддразнивал их, но в душе питал к ним нежность. О Филиппе и говорить не приходилось — Жан словно взял над ним опеку; часто можно было видеть, как Филипп вприпрыжку бежит вслед за старшим братом по дорожкам парка. Жан катал его на пони, доставал для него птичьи яйца, ловил раков, собирал ягоды, даже пытался учить плавать, но тут уж вмешалась я и положила конец этим преждевременным урокам.
Но, конечно же, Филипп пока не мог быть полноценным товарищем брату. С тех пор как Жан встретился с Марком и из коллежа приехал на каникулы Ренцо, эта троица снова стала неразлучной. Все они стоили друг друга, все были объединены общими интересами. Жан после своего возвращения из Египта приобрел необычайный вес в этой компании как человек, который на деле узнал, что такое настоящая мужская война. И теперь Марк, который хотя и был старше на два года, не мог рассчитывать на безусловное лидерство.
Отношения Жана с отчимом были весьма холодные. Александр был слишком занят, чтобы уделять внимание мальчику, и все время находился в разъездах. К герцогу приезжали какие-то неизвестные мне дворяне, жили в Белых Липах подолгу. Уже привычным стало то, что в поместье приходит ночевать десяток-другой шуанов. Все это возбуждало любопытство и азарт моего сына, он, похоже, готов был принимать в этом участие, но гордость заставляла его сдерживать свои порывы. Он едва обменивался с отчимом несколькими словами приветствия, а на прочие вопросы, если они были, отвечал односложно. Авторитета своего Александр в глазах Жана не утратил, я это видела, но авторитет этот стал как-то отчужденнее им восприниматься. Теплоты в их отношениях не было. К тому же Жан в силу детской простодушности часто упоминал в разговорах имя графа д’Артуа, восхищался им и называл отцом, а это, разумеется, не могло быть Александру по вкусу.
Что касается моего отца, то он так и не согласился переехать хоть на короткое время в Белые Липы. Гостеприимства, которое оказывала семья графа де Лораге, ему было достаточно. Я ездила в Гран-Шэн почти каждый день, возила туда детей, подолгу разговаривала. Меня особенно волновали планы отца, его мысли насчет Жана — я ведь предвидела, что рано или поздно они снова уедут. Но тем не менее я еще ни разу не коснулась этого вопроса. Я же знала, что за этим последует: спор, обида, боль. Поэтому я молчала. У нас было столько иных тем, что я даже забывала о самом важном.
Вероятно, это было следствие возраста, но я заметила, что отца тянет к воспоминаниям — все равно, плохим или хорошим. Было лето 1799 года; десять лет прошло со времени начала революции, и, конечно же, нам обоим было что вспомнить.
Мне как-то пришло в голову, что приблизительно в эти дни десять лет назад был убит Эмманюэль. Ужас того времени снова нахлынул на меня. Временами мне казалось странным, как я пережила все это. Террор, тюрьмы, казнь Изабеллы…
— Было бы хорошо хоть побывать у Эмманюэля на могиле, — произнесла я после долгого молчания.
— Да, но, похоже, в ваши планы пока не входит поездка в Париж.
— Не входит… И всегда так получается, — добавила я простодушно, — у меня всегда не хватает времени на что-нибудь важное. Когда я состарюсь, окажется, что я так ничего толкового и не сделала.
Отец улыбнулся.
— Как странно слышать это от вас.
— Почему?
— Это странно, потому что вы молодая и сильная. Не могу представить вас другой. И потом… у вас же четверо славных детей. Вы двум знаменитым родам дали наследников. Это ли не заслуга?
— Нет. Это счастье.
— Дорогая моя, как мне ни трудно это сознавать, но я желал бы для вас лично большего счастья. Вы так редко были счастливы. Ваша молодость проходит в страшное время.
Я ответила — негромко, но убежденно:
— Пожалуй, я ничего не хотела бы менять в своей жизни.
7
Между тем жизнь моя в Белых Липах была порой крайне неприятна.
Поль Алэн и старая герцогиня относились ко мне так, что я иногда всерьез опасалась, что они подсыплют мне яду в пищу. Особенную враждебность и презрение демонстрировала Анна Элоиза. Я уже и не пыталась что-то уладить, зная, что все будет бесполезно. Ключей она мне не отдала, и я в хозяйство не вмешивалась. Мы с ней не здоровались, не разговаривали, я не делала перед ней даже реверанса, зная, что она мне не ответит. Ни разу после того первого вечера она не спустилась в столовую и не села за один стол со мной. Это было что-то вроде бойкота. Анна Элоиза была бы рада, если бы смогла поставить меня в положение неприкасаемой. Однажды, случайно столкнувшись с ней в одной из гостиных, я заметила, что она уронила платок. Я понимала, что наклоняться ей трудно, и, поразмыслив, подняла его. Анна Элоиза, не обращая внимания на мой жест, молча проплыла мимо с таким видом, словно брезговала снова взять свой платок после того, как он побывал в моих руках.
Ее враждебность распространялась теперь и на детей, даже на малыша Филиппа. Они не смели не то что шалить, но даже говорить или смеяться в ее присутствии, и на каждого, кто осмеливался ее не слушаться, она вполне серьезно замахивалась палкой. Близняшки возненавидели ее и были рады подразнить, Филипп пока просто боялся старухи, но и девочкам, и сыну я объяснила, что лучше с Анной Элоизой не задираться.
— Их следует выпороть! — так и звучало по дому.
Было ясно, что от этой ненависти я избавлюсь только тогда, когда Анна Элоиза умрет. Оставалось лишь ждать этого часа.
Поль Алэн был сдержаннее и не так прямолинеен. Он даже садился со мной за один стол — видимо, герцог поговорил с братом и уговорил его на это. Но терпеть Поля Алэна было еще невыносимее, потому что он постоянно говорил в мой адрес что-то либо грубое, либо едкое, либо настолько оскорбительное, что принуждало меня выйти из столовой, скрывая слезы. Все это в целом было настоящей пыткой, от которой я спасалась, только заперевшись в своих комнатах или уйдя в парк. Александр ни в каких, даже самых тяжелых, случаях за меня не вступался.
Но, в конце концов, я хорошо представляла себе, что меня ждет именно такая жизнь. И реальность очень редко оказывалась более скверной, чем мои представления о ней.
Александра я почти не видела, а если и видела, то только в столовой. Рано утром он заходил поцеловать Филиппа и близняшек, а потом уезжал. Хорошо, если возвращался к вечеру. Часто его и ночью не было дома. Я понимала, что времена сейчас тревожные, что роялисты готовятся к новой войне, но не могла лишь этим объяснить его отлучки. Слуги, враждебно ко мне настроенные, не упускали случая, чтобы с притворно-почтительным видом сообщить, что господин герцог, дескать, ночевал в гостинице в Ренне. Я знала, что Мелинда Дэйл по-прежнему живет там, что он оплачивает ее расходы, что розы, срезанные садовником в нашей теплице, были предназначены для нее. Мне было больно, но я пыталась сдерживать себя и, сжимая зубы, твердила, как заклятье: главное для меня — это дети, а все остальное неважно.
Наши отношения оставались крайне неясными.
Был жаркий июньский полдень. Я стояла на венецианском мосту, переброшенном через Чарующее озеро, задумчиво глядя в воду. Вдоль красочного извилистого берега шлепал по воде Филипп, смеясь и убегая от своей няньки. Он был босой, в одной рубашечке. Смех ребенка терялся в шуме Большого водопада, возле которого росла огромная ель.
Берег пруда был окаймлен сплошным ковром стелющегося винограда, жимолости и ежевики. Чуть поодаль в тени больших деревьев сидели шуаны и о чем-то вполголоса переговаривались. За последнее время они просто наводнили поместье, и нигде уже нельзя было найти уединения.
— Как это все скверно, — пробормотала я.
Мне было жаль, что Филипп еще так мал. Надвигались крайне суровые времена. Надвигалась война, которая будет уже не там, не в Италии или Австрии, а здесь, в Бретани. Это настраивало на самые мрачные мысли. Я-то помнила, что случилось с этим краем тогда, в 1793 году. Хоть бы Филиппа все это не задело! Мне теперь даже черный цвет моей одежды казался плохим предзнаменованием.
Я слышала, как подошла Маргарита, как тяжело она вздохнула.
— Видите? — сказала она хмуро. — Вернулся-таки!
Я взглянула. К шуанам подходил Александр, и они медленно поднимались, завидев своего начальника. Он что-то им объяснял, отдавал какие-то распоряжения. Его не было в Белых Липах три дня, и он, видимо, прямо с лошади пришел сюда. Наблюдая за ним, я заметила, как он небрежным жестом снял с себя сюртук и бросил на землю. Шуаны стали исчезать среди кустов. Александр молча сел в траву. Я видела, как нервно он покусывает соломинку.
— Почему ты говоришь так о нем? — спросила я, поворачиваясь к Маргарите.
Лицо у нее было мрачное как туча.
— А вы разве не понимаете? Ведь он от нее вернулся, от той самой англичанки!
Я закусила губу. Потом рассерженно бросила:
— Что же, по-твоему, я могу сделать?
— Вы должны потребовать уважения к себе, милочка! Господи ты Боже мой, даже последняя прачка не стала бы мириться с этим!
— Что бы я ни сделала, все это будет напрасно. Мы уже не муж и жена, мы просто живем вместе. Так пусть же он живет как хочет. Должно быть, он не может обходиться без любовницы.
— А оказывать вам почтение и соблюдать приличия он может? Вы тоже могли бы ездить к любовнику, однако вы этого не делаете!
Я молчала. Обо всем этом я тысячу раз размышляла и давно поняла, что не имею права вмешиваться. Мне и так тяжело в этом доме. Надо избежать ссор хотя бы с Александром. Но, с другой стороны, он вполне мог бы проводить с Мелиндой вполовину меньше времени!
— Никогда бы не подумала, что вы так робки, мадам!
Маргарита удалилась, кипя от негодования. Я стояла, не зная, на что решиться. Филипп подбежал к отцу, обхватил за шею. Александр несколько раз подбросил сына в воздух, поймал, и я услышала довольный смех малыша. Потом мальчик вырвался и снова побежал к воде.
Я стояла, все еще ожидая, что Александр соизволит встать и подойти ко мне. Или хотя бы издали поприветствует. Но он не вставал и вообще никак не давал понять, что видит меня. Развалившись на траве, он наблюдал за Филиппом, и я почувствовала, что меня охватывает ярость. Он три дня провел с этой английской шлюхой, а мне не хочет даже головой кивнуть! Я, в конце концов, не преступница и не прокаженная! Я до сих пор герцогиня дю Шатлэ, и никто меня этого титула не лишал! Он обещал, что мне будут оказывать уважение, — так пусть будет добр первым исполнять свои обещания!
Я повернулась так резко, что тяжелые цепи моста заколыхались, и решительно пошла к берегу. Герцог, наконец, поднял голову и посмотрел на меня. Взгляд его был непонятен мне: какой-то то ли холодный, то ли задумчивый. Я подошла совсем близко и стояла над ним, всем своим видом выражая возмущение.
— Где же вы были? — вырвалось у меня.
— В Ренне, — ответил он холодно, покусывая соломинку.
— Что же задержало вас там так надолго?
— Известие о бракосочетании дочери Людовика XVI с сыном графа д’Артуа.
Ответ был более чем издевательский. Я вспыхнула.
— Вот как, вы отмечали бракосочетание. И это целых три дня!
Он лениво спросил:
— Вы хотите сказать, что я лгу?
— Да, вы лжете! Вы лжете, потому что все это время провели с графиней Дэйл и теперь, вернувшись из объятий шлюхи, осмеливаетесь целовать своего сына!
— Я не знал, что вы стали так целомудренны. С каких это пор, э?
Наступило молчание. Я уже проклинала себя за то, что устроила всю эту сцену. Какое мне, черт возьми, дело? Пусть связывается с кем угодно, мне на это наплевать!
Мгновение он смотрел на меня холодно, потом поднял глаза и оглядел всю мою фигуру с какой-то ленивой наглостью, снова посмотрел мне в лицо и едва заметно приподнял бровь, так, будто я была шлюхой и только что предложила ему себя.
— Похоже, — произнес он небрежно, — вас раздражает тот факт, что с ней я сплю, а с вами нет?
Вся кровь отхлынула у меня от лица, губы задрожали. Мне показалось, что никто и никогда не говорил мне ничего более оскорбительного. Нет, пожалуй, он зашел слишком далеко, я просто ненавижу его после этого! Вне себя от обиды, я шагнула вперед и сильно, наугад, как могла, ударила его по щеке.
— Меня больше всего раздражает тот факт, что я была глупа до того, что вышла за вас замуж!
Чувствуя, что вот-вот разрыдаюсь от оскорбления и ярости, я не разбирая дороги зашагала назад, к мосту. Мне больше нечего сказать этому человеку! Я вообще больше не хочу жить в его доме! Я заберу Филиппа и близняшек и убегу — да, завтра же убегу! Или даже сегодня!
Громкий крик няньки заставил меня очнуться. Онемев от ужаса, я вдруг увидела, как Филипп, протискивавшийся между перилами моста и тянувшийся к чему-то ручонками, завис над водой. Еще какое-то мгновение — и малыш полетел в воду, издав негромкий удивленный возглас.
У меня, кажется, остановилось сердце. Не помня себя, не сбросив даже туфель, я бросилась к мосту и прыгнула в воду. Лица Филиппа не было видно, я различала лишь барахтающиеся руки и ноги. Я поплыла к нему что было силы и почти закричала в тот миг, когда, наконец, мне удалось его схватить. В спешке и волнении я и сама наглоталась воды, к тому же здесь, на середине озера, было довольно глубоко. Филипп был в полубессознательном состоянии. Насилу удерживая его лицо на поверхности, я подгребала одной рукой и едва не упала в обморок от облегчения, когда почувствовала под ногами твердое дно.
Облегчение пришло еще и потому, что чьи-то сильные руки забрали у меня Филиппа и вдобавок поддержали за талию. Я поняла, что это Александр, по одному запаху — запаху сигар и нарда. Герцог вытащил на берег нас обоих — меня и сына. Я повалилась на землю, все еще стуча зубами от страха. Александр перевернул Филиппа вниз головой, и изо рта и носа малыша хлынула вода. Я подалась вперед, почти обезумев от тревоги.
— Он спасен, спасен, — произнес Александр. — Успокойтесь.
Мы оба склонились над Филиппом. Он уже пришел в себя и испуганно смотрел то на меня, то на герцога. Чуть успокоившись, малыш пролепетал что-то насчет ласточкиного гнезда, которое он хотел достать и из-за которого упал в воду.
— Черт, я убью эту проклятую няньку, — пробормотал Александр с яростью.
Я раздраженно ответила:
— Мы сами виноваты, и особенно, конечно, вы!
Не слушая меня, он вскочил на ноги и зашагал к перепуганной бретонке. Прижимая к себе Филиппа, я слышала громкий голос герцога и неуверенные возражения няньки. Ее вина, впрочем, была ясна. Она не уследила за Филиппом!
— Вы уволены! И советую вам убраться отсюда побыстрее, пока я не сделал с вами того, чего вы заслуживаете!
Александр вернулся, когда я снимала с малыша мокрую одежду. Мгновение поглядев на нас, герцог сбросил свою рубашку и протянул мне. Я закутала в нее мальчика.
— Как вы думаете, он не простудится? — спросила я, целуя мокрые волосы сына.
— Нет. Сейчас жарко. Не беспокойтесь.
Помолчав, Александр добавил, ставя Филиппа на ноги:
— А тебе пора учиться плавать, сын.
— Ну да! — сказала я недоверчиво. — Ему еще только два года!
— Чем раньше, тем лучше. И нам уже не придется за него бояться. Не так ли?
Последний вопрос был обращен к Филиппу, и ребенок согласно заулыбался. Я уже окончательно понимала, что он, к счастью, отделался лишь легким испугом. Он не пострадал. И все закончилось гораздо счастливее, чем могло бы закончиться. Нам повезло.
— Я научусь! — пообещал Филипп, подбирая длинные рукава отцовской рубашки и пытаясь идти. — Меня Жан научит!
— Буду очень рад.
Мальчик уже полностью пришел в себя и мог идти. Мы с Александром посмотрели друг на друга. Мое мокрое платье прилипло к телу, обрисовало все формы с предельной откровенностью. От Александра, обнаженного по пояс, могучего, смуглокожего, мускулистого, веяло чем-то таким мужским, что у меня внутри что-то невольно екнуло. Уже очень давно я не испытывала ничего подобного. У меня даже во рту слегка пересохло, особенно тогда, когда я заметила, каким взглядом он смотрит на меня — тяжелым, изучающим, по-мужски жадным.
— Вы меня поразили, — сказал он медленно.
— Да? Чем же?
Скользя взглядом по моим ногам, облепленным мокрой тканью вплоть до лона, он произнес:
— Вы действительно любите Филиппа.
Это его слово — «действительно» — задело меня.
— А раньше вы осмеливались в этом сомневаться? — спросила я едко.
Не отвечая, он вдруг протянул руку и, прежде чем я успела что-то сообразить, коснулся моей шеи, скользнул дальше, на затылок и резко притянул меня к себе. В этом жесте не было ничего деликатного, любовного, почтительного. Это был жест крайне грубый и оскорбительный — так, пожалуй, прикасаются к проститутке. Не обращая внимания на мое возмущение, он наклонился и больно, намеренно больно поцеловал меня — почти укусил, а потом оттолкнул так, что я едва не упала на песок.
Он все растоптал этим поступком — мои чувства, наше общее сопереживание за Филиппа, которое так роднило нас только что. И он нисколько не раскаивался. Он смотрел на меня, задыхающуюся от боли и гнева, так спокойно, точно ровным счетом ничего не сделал.
— Так-то вы благодарите меня за любовь к Филиппу? — прошептала я со слезами на глазах, прижимая руку к губам.
Уже холодно глядя на меня, он ответил:
— На вашем месте я бы не ждал благодарности, сударыня. Ни благодарности, ни уважения, ни любви — ничего. Иначе вы будете очень разочарованы.
Он поднялся. Все себя от бешенства, я тоже вскочила, быстро отряхнула колени, на которые налип песок. И вдруг, не выдержав, плюнула ему под ноги.
— Я вас ненавижу, — сказала я яростно.
Не ожидая ни ответа, ни какой-либо другой реакции, я босиком побежала по берегу, подхватила на руки Филиппа и, ничего не видя перед собой, зашагала к дому.
8
Я снова плакала, наверное, уже в сотый раз за двухнедельное пребывание в Белых Липах. Я проклинала все на свете, а особенно тот день, когда мне в голову пришла безумная мысль сюда вернуться. Я ведь не выдержу так долго. Если бы хоть он вел себя нормально, а то нет же! Я бы предпочла любое равнодушие, любую холодную сдержанность этому оскорбительному отношению. Что дает ему повод так поступать со мной? Откуда это неистребимое пренебрежение? Что я сделала такого, чтобы заслужить его? Ответ был только один: он не любит меня больше, не любит ни капли, а если и чувствует ко мне что-то, то только вожделение!
Но самым ужасным было то, что в глубинах моего женского естества на подобное отношение находился отклик. Умом я прекрасно понимала всю унизительность такого обращения. Но плоть — та самая плоть, что столько раз предавала меня и сбивала с пути истинного — отвечала самым неожиданным образом. Черт побери, той сцены на берегу оказалось достаточно, чтобы воскресло то, что я считала забытым. Мое тело не то что потеряло покой, оно просто взбунтовалось — оно теперь говорило, чувствовало, стонало о своем голоде, своей неудовлетворенности. Воспоминания пришли ко мне — томные, мучительно-чувственные. А вспоминать было что. Раньше я радовалась хотя бы молчанию своей памяти. Теперь и эта радость была утрачена.
Я знала, что должна быть холодна, равнодушна и надменна, но внутренний голос предательски нашептывал: а зачем все это? Зачем тратить время на гордость, если живем мы всего один раз? Зачем притворяться и обрекать себя на одиночество? Фигурально говоря, стоит руку протянуть — и все будет моим. Как там говорил Талейран? «Для такой женщины, как вы, желать — значит владеть!» Кроме того, я вступила в тот возраст, когда никто уже не потребует от меня стыдливости. Да и речь шла об Александре, моем законном муже.
Впрочем, что и говорить: я думала не только о нем. Конечно, все мои чувственные воспоминания, сны и фантазии были связаны чаще всего с ним, но я знала, как сложны мои с ним отношения, и понимала, что не он один мужчина на свете. Если он ездит к графине Дэйл, я тоже могу предпринять попытку такого рода. Я ведь привлекательна. И я никогда не жаловалась на недостаток мужского внимания. Надо только поехать в Ренн, найти там какого-нибудь мужчину и разом сделать две вещи — отомстить Александру и успокоить себя!
Так думала женщина, но иногда во мне просыпалась изысканная, умная, благородная и образованная аристократка, и тогда мне становилось стыдно своих мыслей. Все-таки следует держать себя в руках. Мне нельзя натворить глупостей. Я должна забыть немного о себе и помнить только о детях. Тут вот война надвигается, а Филипп еще так мал. Я должна всецело посвятить себя ему.
«И все-таки, — подумала я со злостью, возвращаясь к своим прежним размышлениям, — это Александр виновен во всем. Он разбудил меня и, разумеется, сделал это нарочно. Я была так спокойна до этого! А он… он заставил меня думать о нем часами».
Я не могла бы сказать определенно, люблю ли его. Но его отношение меня задевало, это без сомнения. А еще определеннее было то, что, если бы он настаивал, я бы… я бы вряд ли смогла отказать.
Я ничего не хотела говорить Маргарите о том, что произошло на берегу, и в который раз убедилась, что утаить что-либо от нее трудно. Пока я тайком пыталась привести в божеский вид чуть распухшую нижнюю губу, горничная дважды прошла мимо меня и вдруг, видимо, не выдержав, вскричала:
— Надо мокрое полотенце приложить, вот что, мадам! А на вашем месте я бы отхлестала герцога этим полотенцем по лицу, потому что, видит Бог, он ведет себя не так, как подобает дворянину!
— Успокойся, — сказала я апатично. — Это такой пустяк.
— В наше время все стало пустяком — даже то, что раньше было неслыханным, — проговорила она ворчливо.
Под влиянием ее слов во мне снова всколыхнулся гнев, и я оставила всякие попытки привести себя в порядок. Черт побери, я для любого достаточно красива, и, кроме этого, пусть Александр видит, что он со мной сделал. Может быть, ему хоть чуть-чуть будет стыдно.
Я не спускалась вниз и не показывалась в столовой. Как и следовало ожидать, никто не удосужился поинтересоваться причинами такого моего поведения. Наступил вечер, и мелодичный звон колокольчика известил о том, что уже пора ужинать. Прошло несколько минут, и я, сидевшая в кресле-качалке у распахнутого балкона, услышала стук в дверь. Это была Элизабет.
— Спуститесь ли вы к ужину, мадам? — спросила она.
— Кто вас послал? — в свою очередь спросила я, не глядя на экономку, ибо по-прежнему чувствовала к ней неприязнь.
— Его сиятельство.
Подобный ответ удивил меня. Я решительно произнесла:
— Передайте его сиятельству, что отныне он будет иметь удовольствие ужинать со своей любимой старой бабкой, ибо я больше никогда за общий стол не сяду.
— Вам принести ужин сюда, мадам?
— Нет. Мне ничего не надо.
— С вашего позволения, мадам.
«Итак, — подумала я, — он звал меня. Зачем? Чтобы снова сделать что-то подобное тому, что было на берегу?» Вообще-то первое, что ему следовало бы сделать, — это попросить прощения. Но я даже не ждала ничего такого. Он никогда не был скор на извинения.
Я осталась у себя, но удовольствия мне это не доставило. Мне было скучно. И тоскливо. Маргарита рано улеглась спать, и даже ее ворчание меня уже не развлекало. Как на грех, под вечер стало так жарко, что даже сидеть спокойно я не могла. Чтобы хоть чем-то занять себя и освежиться, я сама сделала себе ванну из прохладной, душистой воды, долго нежилась в ней, долго любовалась собой в серебряных зеркалах, касаясь шелковистой кожи на шее, груди, касаясь пальцев ног, лодыжек и бедер, но неясного томления в теле и тоски унять так и не смогла.
«Как грустно, — думала я, плескаясь в прохладной воде маленького бассейна. — Счастливые минуты можно по пальцам пересчитать, а несчастливых — сплошная полоса лет в десять, не меньше!» Я, наконец, встала, распустила собранные на затылке волосы, откинула назад их сверкающую тяжелую волну — они у меня были золотистые, как у русалки. Из-за жары совсем не хотелось одеваться. Я прошлась по ванной комнате, наслаждаясь прикосновениями босых ступней к прохладному кафельному полу, потом все-таки решилась и лениво набросила прозрачный белый пеньюар. Я так давно не носила белого… Вернувшись в спальню, я стала расчесывать волосы, разглядывая себя в зеркале, — глаза у меня были сейчас черные, как ночь, огромные, томно-бездонные, сочные нежные губы казались свежее, ярче, чувственнее, по золотистой прозрачной коже щек разливался румянец. Вид у меня был какой-то зовущий, податливый. Что бы это значило? Краснея еще больше, я бросила щетку и пошла в постель.
Сон не приходил ко мне, хотя ничто существенное меня, казалось, не тревожило. Разве что тихий шум листвы за распахнутыми окнами. Было жарко. Даже прикосновение шелковых простыней раздражало меня. Где-то ближе к полуночи я услышала, как капли дождя шумят среди листьев. Летний дождь прошел и тут же испарился, не принеся прохлады. Или мне только так казалось? Ясно было только то, что я не могу спать. Устав ворочаться с боку на бок, вконец от этого измучившись, я поднялась, зажгла бра у изголовья и взяла книгу, забытую здесь вчера Авророй.
Это был какой-то том, изданный лет двести назад. Пролистав наугад несколько страниц, я наткнулась на сделанную от руки картинку, изображавшую мужчину и женщину, обнаженных, в любовном экстазе. Тела были выписаны рельефно, сочно, как раз в духе того времени. Чертыхнувшись, я захлопнула книгу. Меня снова бросило в жар. Не выдержав, я поднялась, нашла домашние туфельки и, взяв свечу, направилась к двери. Спать я все равно не смогу. Надо пойти в библиотеку, найти какую-нибудь книгу поспокойнее, чтобы отвлечься. А может быть, и что-то другое гнало меня прочь из комнаты. Может быть, мне просто надо было пройтись и чуть прохладиться.
Едва я оказалась на лестнице, меня овеял сквозняк. Я стала спускаться, держась за перила. Ветерок колебал пламя свечи. Мне стало легче уже оттого, что теперь меня не окружал лишь замкнутый мир спальни. Теперь передо мной простирались анфилады комнат по обе стороны от лестницы; а впереди был виден темный прохладный вестибюль.
Шорох раздался откуда-то слева. Приглушенно вскрикнув, я обернулась и увидела двумя ступеньками выше Александра.
— Я думал, призраки бродят по дому, — произнес он. — Что вы здесь делаете?
Призраки… Я ощутила одновременно и радость, и мстительное торжество, когда поняла, что он тоже не спит. Ему тоже нет покоя — что ж, хотя бы в этом соблюдена справедливость!
— Я иду в библиотеку, за книгой, — сказала я холодно и нелюбезно, помня, как он поступил со мной совсем недавно.
Но, несмотря на это воспоминание, у меня все изнывало внутри от желания. Лишь бы он не ушел! Я смотрела на него из-под полуопущенных ресниц; Александр был в домашнем халате, перехваченном шелковым кушаком, и на груди у него поблескивал крест. Мы были сейчас одни, в полнейшей тишине. И обоих нас, похоже, обуревали одинаковые побуждения. Ох, лишь бы он не ушел! Забыв о гордости, я сейчас хотела только этого.
Он спустился еще на одну ступеньку и протянул руку к свече.
— Давайте я провожу вас.
Я знала, что соглашаться мне не следует. Мы оба, кажется, колебались. И все же я отдала ему свечу, и мои губы что-то прошептали в знак согласия.
Мы молча пошли по полным мрака комнатам и галереям, пересекли большую гостиную дворца; Александр шел на шаг позади, и нас обоих освещал слабый огонек свечи. Тени метались по стенам, раздавался тихий шепот деревьев за окнами. Мы остановились у самого порога библиотеки, и, помедлив немного, он распахнул передо мной дверь. Я оглянулась на мгновение, увидела совсем рядом с собой его лицо, его глаза, его губы. Сердце у меня пропустило один удар. Но Александр не двигался, и смотрел так, будто выжидал чего-то; тогда, вскинув голову, я вошла и решительно направилась к книжным полкам.
В большом полуциркульном зале библиотеки мой холодный голос прозвучал достаточно громко:
— Сударь, я благодарна вам за сопровождение. Теперь вы можете заняться своими делами, я больше вас не задерживаю.
Я стояла спиной к нему. Свет свечи заколебался, запрыгал из угла в угол; мне стало ясно, что герцог поставил ее на стол. Я услышала шаги позади себя и, не выдержав, порывисто обернулась. Он стоял совсем близко от меня, его тень накрывала меня с головой. Сердце у меня стучало очень быстро, и я досадовала на себя за это.
Он вполголоса произнес:
— Боюсь, в такой темноте вам не удастся прочесть даже названия.
— Если вы уйдете, мне все удастся, — сказала я дерзко; хотя на самом деле меньше всего хотела, чтобы он ушел.
Он улыбнулся.
— Вы искренни, мадам, как всегда.
— Вы тоже. Могу я спросить…
— Что?
Поскольку я замешкалась с ответом, он спросил сам:
— Почему я здесь — вы это хотите узнать?
Я кивнула.
— Мне кажется, мадам, мы оба хорошо это знаем.
Его взгляд скользил по мне — от волос, струящихся вдоль спины, до кончиков пальцев, и без всякой связи с недавними словами Александр произнес:
— На вас прекрасный пеньюар. Он почти ничего не скрывает. Вы похожи на святую Инессу, прикрытую лишь волосами.
У меня перехватило дыхание. Я очень ясно чувствовала насмешку в его голосе — вовсе не добрую, скорее, холодную, и это было то самое отношение, которое он мне продемонстрировал еще днем, на берегу. Все во мне вскипело от гнева.
— Пеньюар? Пеньюар, говорите вы? — спросила я саркастично, делая шаг вперед. — Как наблюдательны вы стали! Вам следовало бы подумать об этом тогда, когда в точно таком же пеньюаре вы приказали выгнать меня на улицу! Любопытно, заметили ли вы, на какую святую я была похожа тогда?!
Он слушал меня, не произнося ни слова. Я разозлилась так, что готова была плюнуть ему под ноги снова. Все былые обиды с новой силой проснулись во мне. Я дура, коль уж пришла сюда! Зачем мне нужно трепать нервы и связываться с этим человеком? Между нами уже никогда не будет ничего хорошего!
— Да, верно, — сказал он наконец, словно пребывал в глубоком раздумье. — Роль жертвы вам не идет. Вы лучше выглядите, когда обвиняете. Это у вас хорошо получается, не скрою.
— Хорошо получается?
— Да, поздравляю вас.
Глаза у меня сузились. Я прошептала, не скрывая ненависти:
— Вы мне отвратительны сейчас. Вы жестоки. Вы циничны. Вы, похоже, успокоитесь только тогда, когда убьете меня!
Я рванулась вперед, к двери, намереваясь выйти, но он, словно угадав мое движение, сделал резкий шаг в сторону и схватил меня за локоть — так сильно, что причинил боль.
— Что это вы делаете? — спросила я сквозь зубы, тщетно пытаясь освободиться.
— А вы не видите? Я держу вас за руку.
— Я требую, чтобы вы немедленно отпустили меня.
— Вы требуете, — повторил он, и кольцо его пальцев переместилось от моего локтя к запястью. — А так ли уж вы этого хотите?
— Я всегда делаю только то, что хочу.
Неумолимо притягивая меня к себе, он непонятным тоном произнес:
— И я.
Он был так силен, что, оказавшись в его руках, я инстинктивно боялась боли и почти не сопротивлялась. Он рванул меня к себе, и я, спотыкаясь, подалась вперед. Честно говоря, я уже чувствовала некоторый страх — перед взглядом, настроением Александра. Я знала, что он на многое способен, что Индия его многому научила. Его руки прошлись по моему телу вплоть до бедер, и он прижал меня к себе так, что я против воли ощутила всю степень его возбуждения. Он словно наслаждался моей слабостью, моей беспомощностью. Он, казалось, был готов растоптать меня.
Я вскинула голову, и в моих глазах блеснул гнев.
— Вы не смеете меня трогать, — проговорила я в бешенстве, сделав попытку освободиться.
Он усмехнулся. В темноте блеснули его зубы. Усмешка эта была недоброй, даже зловещей.
— Я имею все права вас трогать, потому что вы сами приложили много усилий к тому, чтобы остаться моей женой. Что же мне делать? У меня нет другой жены.
— У вас есть ваша шлюха, вот что! — вскричала я в ярости. — Ступайте к ней, и она вас успокоит!
— Одна шлюха, другая! Какая разница?
— Вы либо обезумели, либо уж совсем лишились чести, — сказала я. — Герцог дю Шатлэ, вспомните, что вы герцог!
— Даже герцогу, черт побери, не запрещено желать собственную жену.
Он крепче прижал меня к себе, я ощутила прикосновение его твердых бедер, его плоть вжалась в меня, его губы мимолетно, жарко скользнули по моим губам, обдав знакомым запахом нарда, и я почувствовала, как предательски зашлось у меня сердце.
— А вы, моя добродетельная госпожа, — чуть насмешливо прошептал он, едва касаясь губами моего лица, — так ли уж вы не желаете своего мужа? Кто-кто, а уж вы всегда были горячи в постели.
Все это было унизительно — и его тон, его насмешливость, это выражение «кто-кто», точно он приравнивал меня к каким-то своим любовницам. Но у меня уже ныли низ живота, соски. Александр был так близок, так осязаем. Какая разница, как он ко мне относится, если я хочу этого? Почти стон сорвался с моих губ, но когда его рот снова приблизился и его горячее дыхание снова коснулось моей кожи, я отшатнулась и замотала головой, пытаясь избежать его прикосновений.
Это, похоже, разозлило его. Он до боли сдавил мои запястья, потом его рука, пробираясь сквозь волосы, сжала мой затылок. Мы встретились взглядами — глаза в глаза. Это было что-то невероятное — злость, почти ненависть друг к другу и желание. Не сказав ни слова, все с тем же неистовым выражением лица он опрокинул меня на стол. Его рука так держала мои волосы, что я была не в силах пошевелить головой. У меня очень быстро билось сердце, грудь высоко вздымалась. Мгновение глядя на меня, он рванул пеньюар у меня на груди.
Я задышала чаще, но не сопротивлялась, хотя он обращался с нежной плотью не осторожнее, чем с тканью. Его ладони сжали мои груди, и в этих грубых, намеренно жестоких и порывистых ласках я никак не могла узнать того Александра, каким он был прежде. Он нарочно был так груб. Он делал мне больно, ставил в положение насилуемой. А я и сама не могла понять, хочу или не хочу этого. Унижение, правда, на какой-то миг пронзило меня с ног до головы, и я возмущенно запротестовала, отталкивая Александра, но в этот миг его рот коснулся моего соска, и эта обволакивающая, горячая, влажная ласка заставила меня забыть о том, что возмущало меня раньше. Я изогнулась под ним. Он удерживал мои руки своими; его тело переплелось с моим, и я, застонав, раздвинула ноги, открываясь ему навстречу. Его рука скользнула между моими бедрами, коснулась сокровенного бутона плоти, потом спустилась ниже и проникла во влажное трепещущее отверстие. Я застонала, прижимаясь к этой руке; потом, еще раз осознав унизительность происходящего, я снова сделала попытку освободиться.
— Нет, — пробормотала я, отталкивая его руку.
Слабо сопротивляясь, пытаясь выскользнуть из-под него, я сама не заметила, как согнула в коленях ноги и еще больше открылась ему. Больно сжав мои бедра, он подтащил меня к себе, снова схватил за волосы — еще больнее, чем прежде, и, глядя мне прямо в глаза, с глухим стоном начал входить внутрь. Это неумолимое проникновение меня поразило; я еще пыталась сопротивляться, но мышцы моего лона, влажного и желающего, сами собой расслабились, принимая его. Я сдавленно охнула, выгибаясь всем телом: я уже очень хорошо ощущала его теплую пульсирующую плоть в себе, и каждая моя клеточка невольно становилась податливой. Он протянул руки поверх моих, наши пальцы переплелись, наши лица касались друг друга. Он вышел почти весь, потом погрузился снова, стал двигаться все быстрее, жестче, безжалостнее, — это было и больно, и очень приятно одновременно, и мои бедра сами собой поднимались ему навстречу.
Он со стоном закончил, но не оставил меня. Я все еще сжимала его в себе, пребывая почти в полубеспамятстве, и мои зубы легко покусывали мочку его уха. Александр поднял голову. Взгляд его был еще бездумен, неясен, но его ладони взяли мое лицо, и он припал губами к моим губам таким нежным, страстным поцелуем, что я ответила ему не менее нежно, и наши языки встретились. Рукой я ощутила испарину у него на лбу. Мои пальцы зарылись в его густые волосы, ласкали щеку, затылок, шею.
Потом, придя в себя, мы взглянули друг на друга повнимательнее и вернулись к тому, о чем немного забыли. Он отпустил меня и поднялся. Я еще лежала, чувствуя ужасную горечь в душе. Кем я должна была себя считать? Счастливой любовницей? Или униженной женой? Все это смешалось у меня в голове. Я вспоминала то, что случилось, и не могла определиться со своими ощущениями. Это было много хуже, чем у нас получалось раньше. Это было грубо, поспешно, далеко не изысканно. Так соединяются конюхи со служанками на сене в риге. Кроме того, до того самого последнего поцелуя я ощущала, что не только страсть движет Александром, а еще и сильное желание унизить меня — каждым жестом, каждой лаской. В его лице даже сейчас, похоже, можно заметить презрение.
Я порывисто поднялась, стянула пеньюар на груди и оправила подол. Александр обернулся. Я метнула на него рассерженный взгляд и потянулась за свечой, намереваясь уйти. Похоже, он тоже не собирался меня удерживать. Но тут нас обоих охватило что-то такое, что заставило меня замедлить шаг. Я остановилась, надеясь, что он что-то скажет.
Тряхнув головой, он негромко произнес:
— Кажется, я должен просить прощения?
Я молчала. Да и что было говорить, если ему пока только «кажется»?
— Я словно с ума сошел, Сюзанна. Да, да, — произнес он с досадой, — я прекрасно знаю, что нарушил условия, и не надо мне об этом напоминать.
— Вам никто ни о чем не напоминает, — сказала я холодно.
Александр смотрел на меня, и вдруг усмешка появилась на его губах.
— Впрочем, мадам, у меня есть много причин, чтобы потерять голову.
— Каких же?
— Они повсюду.
Он подошел, протянул руку, и его пальцы зарылись в мои распущенные волосы, потом спустились, и теплая ладонь погладила мою шею. Словно жизненная сила вливалась в меня от этого прикосновения. Я сделала попытку отстраниться, но он удержал меня.
— Они повсюду, мадам. Одни ваши волосы чего стоят. А губы — они у вас никогда не были такими сочными. Разве я не прав? Разве вы, выходя из своей спальни, не употребили всех средств для того, чтобы я сорвался?
Не знаю, что было в его голосе, — насмешка или искренность. Я хорошо чувствовала только то, что мы не можем оторваться друг от друга. Шквалом нахлынули на меня воспоминания о его руках, его прикосновениях, его смелых ласках, и невольная дрожь пронзила меня. Александр тоже, казалось, боролся с собой, потом наши глаза встретились, и он не выдержал, привлек меня к себе, и его губы прильнули к моему рту.
Я была как никогда податлива; мои губы открылись ему навстречу, и его язык нырнул внутрь. Но мне не понравился этот поцелуй — какой-то слишком грубый, неделикатный, он напомнил мне то, что было на берегу. Может, он хочет повторить все это? Превозмогая себя, я с силой вырвалась, отошла на несколько шагов и, бросив последний взгляд на Александра, поспешно вышла.
Проходя через анфиладу комнат, я понимала, что поступила самым разумным образом. Да, совершенно необходимо было все это прервать. Я становлюсь слишком зависимой, слишком уязвимой. Случившееся нельзя было рассматривать как нечто пустячное — подумаешь, отдалась мужчине, и все! Сколько таких мужчин было и еще будет в моей жизни! Сейчас было не так. Здесь затрагивались мои самые ранимые чувства; привязавшись снова к своему мужу, я бы стала слишком незащищенной. Я уже испытала довольно боли из-за этого и не хотела повторять ошибок.
Но все это были лишь доводы разума. Я шла, чувствуя, как ноет низ живота, как напряжены чуть распухшие соски. Чувство неутоленности мучило меня, я готова была застонать, и, наконец, наступил момент, когда я подумала, что поступила неправильно, оставив Александра, отказавшись от его объятий. Слиться с ним, ощущать его в себе, задыхаться под его ласками — это казалось мне сейчас наивысшим блаженством. Я остановилась, слегка пошатываясь, охваченная колебаниями, потом пошла к лестнице, но шаги мои замедлялись с каждой секундой. Я поднялась по ступенькам, и уже у двери своей спальни припала лицом к стене, ибо ноги у меня стали ватными.
Я не знала, сколько простояла так, без всяких мыслей, охваченная лишь животными, страстными побуждениями, кусая губы от почти физической тоски. Шорох раздался на лестнице, но я не обернулась. И, честно говоря, мне совсем не показалось странным, когда кто-то приблизился ко мне и чьи-то руки обхватили меня. Это было лишь реальным воплощением моих фантазий.
Это был Александр. Он нашел меня, приблизился, обнял сзади, прижался всем телом и стиснул в объятиях — так, что я очень хорошо его ощутила. Его руки прошли под моими локтями и нежно сжали полукружия грудей. Его пальцы раздвигали ткань пеньюара, его губы ласково покусывали мое ухо. Он был сейчас сама нежность.
— Нет, — прошептала я, все еще не оборачиваясь.
Он погрузил руку в мои волосы, ласково повернул к себе мою голову, заставил обернуться, и наши губы встретились. В этом жарком, жадном, терзающем поцелуе таяли остатки моего сознания. Он ласкал мои волосы, а вторая рука Александра поднимала подол пеньюара, гладила бедро, касалась теплого холмика лона и забиралась дальше — туда, где было невыносимо горячо и влажно.
— Нет, — прошептала я снова, когда его губы на миг оставили меня, но мое «нет» сейчас означало только «да». Надо же было хоть пустым звуком дать ему понять, что я еще не так покорна, как ему кажется.
— Да будет вам… Вы же хотите, я чувствую.
Он осыпал меня тысячами поцелуев, его руки были повсюду — сильные, теплые, коварные, и каждая клеточка моего тела наливалась страстью. Шире раздвигая мои бедра, выгибая мне спину, он уже входил в меня, уже наполовину вошел, но вдруг остановился, и я, исходя нетерпением, желая, чтобы он проник глубже, услышала голос, обжегший мне ухо. Он прошептал — прерывисто, хрипло, но ласково:
— Скажи «да».
Дрожь прошла по моему телу, внизу словно полыхнуло жаром, и я не выдержала.
— Да! — почти выкрикнула я, мои руки поднялись, касаясь его волос. Он пробормотал что-то мне в рот, и мы соединились полностью. — Да, да, конечно, да! Пожалуйста!
Он овладел мною здесь, а потом, когда все закончилось, мы, не сговариваясь и не глядя друг на друга, открыли дверь и самым естественным образом вошли в спальню. Ни он, ни я не вспоминали обид, с каждой минутой это становилось все ненужнее. Мы дали себе волю, забыв о том, что было в последние полгода.
Не скрою, то была одна из самых приятных и бурных ночей в моей жизни.
Мне не пришлось спать до полудня, как я на это рассчитывала. Я проснулась от неясной тревоги, когда стрелки часов показывали половину седьмого, и некоторое время лежала неподвижно, борясь со сном. Из вестибюля доносился шум, хотя обычно в такое время в доме было тихо. В очередной раз подняв тяжелые веки, я увидела склонившуюся надо мной еще не одетую Маргариту.
— Это что же, здесь был ночью герцог? — спросила она настороженно.
— Да. А что?
Я и сама теперь все вспомнила. Постель была в беспорядке, на соседней подушке еще сохранилось углубление от головы Александра. Я только сейчас подумала, что, пожалуй, проснулась счастливой. Без сомнения, теперь отношения между нами изменятся. Он был так ласков, так страстен — таким можно быть только с женщиной, которая тебе небезразлична. «Да, — подумала я, — если бы он изменился, я бы многое забыла: и ту ноябрьскую ночь, и даже леди Мелинду».
Забыть было бы легко, потому что уже сейчас, лежа в постели, я ощущала восхитительное блаженство во всех частях тела. Каждая частичка моей плоти была счастлива и удовлетворена. Я чувствовала себя необыкновенно сильной, страстной, уверенной. Я была очень доброжелательно ко всем настроена и хотела обнять весь мир.
Но Маргарита все так же настороженно смотрела на меня, и ее взгляд меня беспокоил.
— Что случилось? — спросила я.
— А вы знаете, что он собирается уехать?
— Уехать? Герцог уезжает?
— Да, и, похоже, надолго.
В одну секунду я вскочила с постели и подбежала к окну. Горничная была права. Во дворе я увидела конюха. Он держал под уздцы двух лошадей. Александр, одетый и вооруженный, переговаривался о чем-то с грумом. Было ясно, что он собирается уезжать.
Все вскипело у меня внутри. Ах вот как? Мне, значит, даже говорить не надо? Я даже предупреждения не заслуживаю? И это после того, что случилось! Куда он едет? Снова к леди Мелинде?
И хотя я понимала, что Александр наверняка уезжает по каким-то роялистским делам, подобное пренебрежение задело меня до глубины души. Как же я была глупа, когда думала, что с этого дня все изменится!
Накинув легкий шелковый халат, я спустилась вниз, в пустой вестибюль, куда со двора доносились голоса слуг и стук конских копыт, и с трудом отворила тяжелую дверь. Конюх все так же держал под уздцы лошадей, но Александр, видимо, куда-то отлучился. Правда, через минуту из-за угла дома показался и он сам, в изящном дорожном костюме из тонкого сукна и высоких ботфортах.
Я вышла на крыльцо — бледная, с сурово сжатыми губами. Он нахмурился, увидев меня.
— Вы уезжаете? — спросила я.
Он качнул головой, что должно было означать поклон. Потом, нетерпеливо сжимая хлыст, произнес:
— Как видите.
— И это после того, как…
Мой голос прервался. Я закусила губу, понимая, что едва не сказала глупость. К чему давать ему понять, как я преувеличила то, что на самом деле значило очень мало? Мне, взрослой опытной женщине, стыдно так ошибаться.
Я раздраженно напомнила:
— Завтра, если вы не забыли, должен был приехать мой отец, а также граф и графиня де Лораге. Мы пригласили их. Вы это прекрасно знаете!
— Прошу вас принести мои почтительнейшие извинения его сиятельству. Такая прекрасная хозяйка, как вы, сумеет сделать мое отсутствие совершенно незаметным.
— Вы насмехаетесь! — воскликнула я в бешенстве. — Я не знаю, есть ли такие дела на свете, ради которых вы были бы вправе пригласить моего отца, а потом не явиться на встречу!
С весьма мрачным видом он произнес:
— Я вынужден просить вас не задерживать меня, мадам, ибо дела, по которым я еду, очень важны. Я скоро вернусь, хотя и не могу назначить день.
Это было уже кое-что. Да, это было слегка похоже на слабую попытку оправдаться — хотя бы важностью дел. Я ничего толком не поняла, ибо он не давал объяснений, но, по крайней мере, он обещал, что скоро вернется.
Я проговорила более настойчиво:
— Может быть; вы скажете мне причину вашего отъезда? Что за тайна здесь кроется? Я ваша жена и…
Он прервал меня — раздраженно, резко, крайне нетерпеливо:
— К чему все это, черт побери? С какой стати я обязан все это выслушивать?
Я отступила, растеряв сразу все слова. О да, он умел оборвать разговор так, что мне не оставалось ничего, кроме как замолчать и опустить руки. У меня больно заныло сердце. Этот человек смотрел на меня такими холодными, такими равнодушными глазами, что на миг мне захотелось кричать от отчаяния. Потом на смену отчаянию пришла ярость. Какого черта! Пусть он едет куда хочет! Пусть не возвращается вовсе!
— Вы не хотите слушать? — спросила я негромко. — Что ж, я скажу вам еще только одно.
— Что же?
— Я прокляну себя, если еще хоть раз доверюсь вам.
Я ушла в дом, от всего сердца желая ему сгинуть где-нибудь в дороге, и в тот миг я была вполне искренна.
9
Волнения в Бретани усиливались с каждым днем. Один за другим возвращались из эмиграции шуанские предводители и собирали вокруг себя большие отряды. Шуанов становилось так много, что можно было не сомневаться, что к осени, при соответствующей подготовке и выучке, это бретонское воинство сможет захватить даже некоторые города. В лесах, в областях Бокажа, в деревнях его господство уже давно было полным. Директория порывалась ввести в Бретань и Вандею дополнительные войска, но дела на восточном фронте шли плохо, и эта мера так и оставалась неосуществленной.
С тех пор как членом Директории был избран Жозеф Сиейес, Баррасу пришлось слегка потесниться и даже усвоить по отношению к новому директору почтительный тон. Все с удивлением заметили, что впервые за последние четыре года Барраса нельзя назвать главным человеком в Республике. Общество смотрело на Сиейеса как на реформатора, способного вывести Францию из затяжного кризиса. Все надежды теперь возлагались на бывшего аббата. Всем казалось, что грядут большие перемены, и перетасовка в правительстве, предпринятая Директорией летом 1799 года (перетасовка, вследствие которой были отправлены в отставку умнейшие министры, в том числе и Талейран), была расценена как начало реформ.
Идея переворота носилась в воздухе. Положение страны никогда еще не было таким тяжелым; все вдруг стали утверждать, что так продолжаться дальше не может, что вода подступает к горлу… Сиейес осмеливался даже намекать на то, что, будь у него «шпага» — то есть преданный генерал, — решительные действия уже давно были бы предприняты.
Роль «шпаги» в перевороте готовы были сыграть многие генералы — Бернадотт, Журдан, Жубер, все как один прославленные и энергичные. Сиейес, похоже, ставил на Жубера — двадцатисемилетнего знаменитого полководца, героя Риволи; его имя произносилось наравне с именами Бонапарта к Гоша. Жубер был недоволен Директорией и даже, кажется, осмелился вслух заявить: «Мне, если только захотеть, достаточно двадцати гренадеров, чтобы со всем покончить». Словом, Сиейес и Жубер легко могли бы сговориться.
Однако положение на фронтах было таково, что ни о каком перевороте в ближайшее время не могло быть и речи. Объединенные австрийские и русские войска под командованием Суворова с каждым днем продвигались все дальше. Италия была потеряна для Республики. И Жубер, прежде чем выполнить роль «шпаги» в руках Сиейеса, должен был предстать перед страной в роли спасителя отечества. Он был назначен главнокомандующим и, не теряя времени, выехал в армию.
Через несколько дней французы и русские встретились у Нови. Завязалось сражение. И в самом начале битвы, в первые же ее минуты, Жубер, мчавшийся на коне навстречу врагу, был сражен — убит наповал шальной пулей. Суворов нанес сокрушительный удар французам. Они были вынуждены спешно отступать за Апеннины.
Поражение под Нови породило во Франции смятение, почти панику. С часу на час ожидали вторжения русских армий. Страшные известия приходили одно за другим; англо-русская армия высадилась в Голландии, и голландцы не только не преградили ей путь, но и перешли на сторону врага. Вслед за итальянскими дочерними республиками, уничтоженными Суворовым, рухнула и Батавская республика. В этой обстановке смятения, растерянности, страха власть правительства была иллюзорной, она равнялась нулю. Директория не только была окружена всеобщим презрением, но и сама себя чувствовала настолько беспомощной, что, казалось, искала любую возможность поскорее спихнуть кому-нибудь власть, каким угодно способом сойти со сцены. Баррас даже готов был призвать на трон законного монарха — только это, дескать, может заставить Павла I отозвать Суворова. Сиейес тоже считал, что без Людовика XVIII войны и волнения будут бесконечны, и его слова подтверждались самой жизнью в течение последних десяти лет. Ни крестьянам, ни буржуа, ни аристократам в эти десять лет не было покоя.
Но «шпаги» больше не было. Время шло. На переворот ни Сиейес, ни кто-либо другой не решались.
…Любимейшим занятием моего старшего сына была верховая езда. Да и лошадей он любил. Гнедого породистого жеребца, которого я купила ему в Париже, он снова назвал Нептуном и почти не доверял его конюху: сам чистил, кормил, седлал, словом, ухаживал, как мог. И даже купал его в речке, хотя Жану многие напоминали, что принцу заниматься этим вовсе не обязательно.
Нептун стал ему настоящим другом. Было забавно наблюдать, как Жан с ним разговаривает и как конь кивает ему в ответ. Я полагала, что это увлечение лошадьми — в крови де ла Тремуйлей. Я ведь тоже была от этого не свободна.
Жану явно нравилось, когда я за ним наблюдала: сидя в седле, он дефилировал передо мной, заставляя Нептуна идти то шагом, то иноходью, то переводя в аллюр, то пуская в полный карьер.
— Я запросто могу и без седла. Смотри, ма!
Видя искреннюю гордость у меня на лице, он начинал выделывать такие выкрутасы, что мой восторг сменялся страхом, и я, не выдержав, кричала Жану, чтобы он перестал.
Разгоряченный, румяный, сияющий, он подбежал ко мне.
— Ну, как, ма? Правда здорово?
— Просто замечательно.
— А вот увидишь, что будет потом! Я буду ездить лучше, чем даже господин герцог!
— Дался тебе этот господин герцог, — произнесла я, поправляя растрепанные волосы Жана.
— А что? Ты не веришь?
— Он же был в Индии, дорогой.
— А я — в Египте! Я тоже многое повидал!
Упрямо поблескивая синими глазами, он смотрел на меня, видимо слегка обиженный моим недоверием, а я в этот миг невольно заметила, что с каждым годом он все больше становится похож на своего отца, Анри де Крессэ. Он становился просто точной его копией — те же глаза, те же темные густые волосы, нос, твердая линия рта, подбородок… «Пожалуй, — подумала я с опасением, — если бы Жана увидели люди, знавшие Анри, они сразу бы догадались, что это его сын».
Слава Богу, хоть характером он был в деда. Или, может быть, в прадеда — принц Жоффруа тоже был таким же упрямым и неистовым.
Сердце у меня защемило. Глядя сыну в глаза, я прошептала:
— Жан…
— Что?
— Жан, скажи мне честно… ты снова хочешь уехать с дедом?
Сейчас, в двенадцатилетнем возрасте, он был внимательнее и вдумчивее, чем два года назад. Он почувствовал и боль в моем голосе, и тревогу, и страх. И он уже не демонстрировал так своей радости.
— Ма, — спросил он, — а разве ты не хочешь, чтобы я уехал?
— Видишь ли, Жанно, я все-таки думаю, что твое место здесь. Ты скоро вырастешь, и ответственность за Сент-Элуа ляжет на тебя.
Он задумчиво ответил:
— Но ведь я хочу стать военным, а не фермером.
Я улыбнулась не слишком весело.
— Мама, ты не должна печалиться, — заявил он решительно. — Мне так больно, когда ты печальна; у тебя такие красивые глаза — большие, лучистые, и я не хочу, чтобы твои глаза плакали. Для меня твои глаза — самые-самые любимые!
Он сказал это горячо, взволнованно, и я была тронута.
— Дитя мое, но как же мне не печалиться? Ты мой старший сын, а мы так часто бываем разлучены.
— Мне надо учиться, ма. Я уеду в Итон и целый год буду сидеть над книгами. Так сказал дед.
— И никаких военных приключений не будет?
— Никаких.
Он испустил шумный вздох и, поразмыслив, добавил:
— А на следующее лето мы снова приедем.
— Может быть, ты и прав. Тебе надо учиться. И если бы ты учился здесь, в Бретани, я бы тоже видела тебя не так уж часто.
Мы пошли к дому. Жан чрезвычайно любезным и почтительным жестом протянул мне свою руку, так, словно желал, чтобы я на нее оперлась. «Еще немного, — подумала я, — и он будет одного со мной роста. Он вообще обещает быть высоким». Для своего возраста он был очень развит, это все признавали.
— Знаешь, ма, — сказал он вдруг, — если ты не хочешь… и если ты скажешь, что тебе это больно, я не уеду.
Я улыбнулась и, ласково притянув сына к себе за волосы, поцеловала.
— Нет, милый. Я потерплю. А малыши развлекут меня.
— А я… честное слово, было бы даже интересно остаться в Бретани!
— Почему?
— Да ведь здесь скоро начнется новая шуанерия! Как бы я хотел задать синим жару!
Он сказал это с мальчишеским запалом, но, в сущности, за этим крылось и нечто большее. Я почувствовала в голосе сына ненависть — яростную, непримиримую. Небольшой шрам, пересекавший бровь Жана, побелел, и это напомнило мне о синем сержанте, ударившем мальчика по лицу.
— Ты хотел бы воевать с ними, Жан?
— Да! Как дед и как господин герцог! Я им за все отомщу — за короля, за тебя, за Сент-Элуа!
Мне вспомнился восьмилетний Жанно, в бессильной ярости грозящий вслед кулаком уходящему отряду синих грабителей. Я произнесла:
— Надо уметь прощать, дитя. Нельзя все время ненавидеть. Надо учиться жить будущим, а не прошлым.
Жан, похоже, не совсем понял меня или плохо слушал. Закусив нижнюю губу, сверкая глазами, он пробормотал:
— Я был маленький, но хорошо помню, как ты плакала. Как издевались надо мной в приюте, как отправляли в карцер и говорили: «Ла Тремуйль, ты плохой патриот!» А когда жгли Сент-Элуа, мы с Маргаритой целую ночь лежали в траве и боялись пошевелиться. Под утро стало совсем холодно, и мы едва не умерли… А еще нам нечего было есть. А тот синий сержант не только меня ударил, он и тебя бил… да еще оскорблял всякими словами! Ты же не могла себя защитить, ма, ты боялась за нас! А я теперь всех их перебью!
Взглянув на меня синими большими глазами, он произнес:
— Мне до сих пор снятся дурные сны… о том, что было в приюте.
Я слушала его, чувствуя, как сжимается у меня сердце. В чем-то он был прав. То, что мы пережили, нельзя простить. Об этом можно не вспоминать. Но если уж воспоминания приходят, возвращается и ненависть. Я подумала, что, когда была девочкой, моя душа была свободна от каких-либо сильных переживаний. Я была обыкновенным ребенком — легкомысленным, беззаботным, веселым. А Жан — в отличие от Вероники, Изабеллы, Филиппа — навсегда лишен той истинно детской беззаботности. Революция и на нем оставила клеймо. Мне не удалось защитить его.
— Малыш, — только и сказала я, — не надо за меня мстить. Я никогда от тебя этого не потребую.
— Я сам знаю… что должен делать.
— Хорошо. Только, ради Бога, помни, что хотя бы из-за тебя я не должна плакать.
Моя рука лежала у него на плече. Он наклонился, быстро поцеловал мои пальцы. Меня успокоил этот жест, успокоило то, что Жан, несмотря на два года, проведенные вдали, и испытания, им пережитые, почтителен, нежен и ласков со мной. Поистине, это самое важное, чего можно требовать от сына. Он любил меня. Он уважал мое мнение. Он дорожил мною. Видимо, все это было результатом той любви, с которой я растила его все эти годы.
Отец, заметив, что я немного ревную, как-то сказал мне:
— Вы напрасно думаете, что меня он ценит превыше всего. Именно вы для него идеал. В Итоне ваш портрет стоит у него на столе, и вообще мне кажется, что он по-детски влюблен в вас.
— Влюблен?
— Словом, если он захочет жениться, то непременно выберет себе жену, похожую на вас.
Я рассмеялась и сказала, что мне крайне странно слышать по отношению к Жану слово «жениться», но, безусловно, слова отца очень польстили мне и полностью успокоили.
Они уехали через неделю после нашего с Жаном разговора. Дед с какой-то депешей роялистского подполья отправлялся в Россию, в Митаву, и брал с собой внука, а затем все вместе они намеревались побывать в Риме и навестить Шарля де Крессэ, обучавшегося в Ватикане. В октябре, разумеется, Жану предстояло сесть за парту в Итоне.
Вернуться они должны были только летом 1800 года.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ В КРУГУ СЕМЬИ
1
Возвращаясь из Гран-Шэн, я пустила лошадь в карьер. Погода была скверная: ливень, шумевший всю ночь, только к утру закончился, а сейчас, в полдень, на небе снова собирались тучи — угольно-черные, свинцовые. Пар стоял в воздухе. Лес притих, птицы словно затаились. Я не сомневалась, что вот-вот разразится гроза — бурная, с молнией, громом и, возможно, градом. Надо было спешить.
Лето 1799 года вообще выдалось холодным и на редкость дождливым. Посевы созревали медленно — без солнца они только мокли и кисли от влаги. Я скакала, погоняя Стрелу, и невольно размышляла о том, что к осени, вероятно, мы будем терпеть большие убытки. Все снова вздорожает. Дай Бог вырастить хлеба достаточно хотя бы для собственных нужд… В этот миг стук копыт донесся до меня, и я резко натянула поводья.
В нынешнее неспокойное время, когда все дороги кишели разбойниками и почтовые кареты ездили только засветло, приходилось опасаться любого неожиданного звука. Кто это едет — шуаны или синие? С последними я никак не хотела встречаться. Поэтому я остановилась, затаившись между деревьями.
Мой испуг вскоре прошел. Я увидела козьи куртки бретонцев, ехавших на низкорослых местных лошадях — едва ли не пони, и успокоилась. Полагая, что прятаться мне нечего и что здешние шуаны меня хорошо знают, я выехала. Кавалькада остановилась, и я увидела среди шуанов трех дворян — Александра, графа де Буагарди и незнакомца.
Они приветствовали меня, сняв шляпы. Я тоже склонила голову.
— Куда вы направляетесь, господа? В Белые Липы?
Они отвечали утвердительно. Тогда я предложила поторопиться, чтобы дождь не застиг нас. Я заняла место между незнакомцем и Буагарди, и мы поскакали.
Я не видела Александра дней десять, не меньше. За это время я проводила отца и сына и успела успокоиться после того, что случилось между мной и герцогом. Я успокоилась так, что словно заледенела изнутри. Я полностью излечилась от глупости, которую проявила в прошлый раз, и не ощущала к Александру ничего, кроме равнодушия.
Мы въехали на подъездную аллею тогда, когда сквозь раскидистые ветви ломбардских тополей просочились первые тяжелые капли. Небо так затянулось тучами, что все вокруг потемнело, и день превратился в вечер. Наступили настоящие сумерки. Ветер крепчал с каждой секундой. Стрела заржала, словно предчувствую бурю. Еще пять минут, и мы были у крыльца замка. Шуаны остановились чуть поодаль и стали расседлывать своих низкорослых скакунов.
Едва мы прибыли, незнакомец легко соскочил на землю, бросился ко мне и любезно помог спешиться. Его руки на какой-то миг скользнули по моей талии. Он галантно забрал у меня поводья и удерживал Стрелу, дожидаясь конюхов.
— Спасибо, — пробормотала я, весьма заинтересованная таким обхождением; мне начинало казаться, что это красивое лицо и темные глаза мне не так уж незнакомы, как я раньше думала. — Сударь, вы…
Порыв ветра, невероятно сильный и резкий, сорвал у меня с головы шляпу и отнес ее в сторону. Молодой человек бросился за ней; через минуту шляпа была мне возвращена.
— Прошу вас, сударыня, — произнес он любезно.
— Мы ведь встречались, не так ли? — спросила я очень приветливо, поблагодарив дворянина во второй раз.
Александр стоял на крыльце и наблюдал за всем этим.
— Перед вами граф де Бурмон, мадам, — произнес он сухо, представляя мне молодого человека. Взгляд герцога был весьма насторожен.
— Ну конечно, конечно! — вскричала я, искренне обрадованная. — Мы встречались!
Граф де Бурмон, наклонившись ко мне, негромко произнес:
— Я в отчаянии, мадам, если о той встрече у вас сохранились лишь скверные воспоминания. Я сделаю все, лишь бы вы простили меня.
И он, и я машинально посмотрели на кольцо с изумрудом, которое я носила на руке. Я рассмеялась. Три с половиной года назад, когда я ехала в Ванн, чтобы уплатить налог за Сент-Элуа, мою карету остановил отряд шуанов во главе с Бурмоном, и граф потребовал, чтобы я доказала, что являюсь герцогиней дю Шатлэ и никем другим.
— Вы, кажется, заподозрили, что я шпионка, подосланная Директорией!
— Мадам, повторяю, я в отчаянии, если…
Раздался оглушительный раскат грома, и дождь хлынул потоками. Мы бросились в дом. Уже там, в вестибюле, смеясь и отряхивая капли дождя с волос, я объяснила графу, что ничуть на него не сержусь.
— Да и как мне сердиться, граф, если вы назвали меня тогда самой прекрасной женщиной на свете!
— Мадам, я и сейчас не перестаю вами восхищаться.
Он наблюдал за моими движениями прямо-таки зачарованно и, когда я сняла перчатки, поспешил принять их у меня, чтобы передать лакею.
— Право, господин граф, вы сама предупредительность, — сказала я с улыбкой.
— Вы улыбаетесь? Слава Богу! Значит, я прощен!
И снова раздался голос Александра, прервавший нашу беседу.
— Мадам, — сказал герцог сухо, — я полагаю, господин де Бурмон не обидится, если вы оставите нас на минуту, чтобы распорядиться насчет обеда.
Я хорошо понимала, что наш весьма любезный разговор с графом и ухаживание за мной на глазах у моего мужа выглядят слегка щекотливо. Но Александр не имел никакого права так резко нас прерывать. Он, в конце концов, мог бы сам помочь мне спешиться и поднять мою шляпу, но он не сделал этого и сердится, что это сделал граф. Кроме того, я вовсе не служанка, чтобы отсылать меня на кухню.
— Мой друг, — сказала я спокойно и снова улыбнулась, — у меня так болит голова, что, боюсь, распоряжаться насчет обеда придется вам. Я поднимусь к себе.
Повернувшись к графу, я приветливо спросила:
— Господин де Бурмон, не сомневаюсь, вы не откажете и поможете мне подняться по лестнице.
— С удовольствием, мадам.
Распрощавшись с Бурмоном и протянув ему руку для поцелуя, я вошла в свою комнату, и легкая улыбка была у меня на губах. Я машинально принялась расшнуровывать корсаж амазонки, думая о том, что судьба наконец-то послала козырь и в мои руки. А как иначе было расценивать приезд вместе с Александром графа де Бурмона, молодого, красивого и явно мною восхищенного?
Его появление было само по себе очень приятно. Я уже и отвыкла было от обожания, ухаживаний, любезностей. Что может быть более лестного, чем видеть рядом мужчину, который тобой очарован? Я не думала ни изменять Александру, ни заставлять его ревновать. Все это было мне уже не нужно. Я хотела хоть чем-то ему отомстить.
Я еще за все отплачу — за безразличие, холодность, презрение. Пусть он увидит, что я нравлюсь другим, что я пользуюсь мужским вниманием, что я так же мало дорожу им, своим мужем, как и он мною. Черт, после того, чему он меня подверг, я имею право хотя бы на такую маленькую месть.
— И вообще, — пробормотала я, — любопытно будет посмотреть, каким он станет, когда заметит, что я откликаюсь на любезные слова Бурмона.
А что? Если ему что-то не нравится, пусть едет в Ренн и утешается с леди Мелиндой! Я даже рассмеялась, подумав об этом.
Я сказала ему, что у меня болит голова, ибо хотела, чтобы он понял, что хозяйством в Белых Липах я не занимаюсь. Это прерогатива Анны Элоизы, которая, кстати, была больна, но ключей мне не отдавала. А голова у меня, разумеется, не болела. И от обеда с гостями я отказываться не намеревалась.
Когда я спустилась в залитую огнями свечей белую столовую, за окнами которой бушевала гроза, все взгляды невольно обратились в мою сторону, и даже на лице Авроры отразилось восхищение.
Я была в платье из тяжелого черного бархата, открытом и узком; низкое декольте обнажало безупречную белизну плеч и краешек нежной ложбинки между грудями, юбка была окутана мерцающим облаком венецианского сверкающего гипюра. Густые волны волос, собранных в высокую прическу, отливали ослепительным золотом. Тонкую шею, как блестящая змейка, обвивало узкое бриллиантовое ожерелье, а огромные черные глаза на светлом лице сияли ярче, чем драгоценные камни.
Граф де Бурмон, опередив дворецкого, отодвинул мне стул. Я взглядом поблагодарила его, потом шепотом осведомилась у близняшек, все ли у них в порядке. Они при посторонних чуть присмирели и вели себя вполне благопристойно. Аврора смотрела на меня, лукаво и слегка удивленно улыбаясь: кажется, она немного понимала мои намерения.
— Как ваша голова? — спросил Александр.
Я ответила со спокойной улыбкой:
— Благодарю вас, сударь. Я не совсем еще оправилась, но так хотела видеть вас, что не выдержала и спустилась.
— Вы великолепно выглядите, — произнес граф де Бурмон. — Я готов тысячу раз повторить те слова, которые сказал вам когда-то!
Александр мрачно посмотрел на графа, потом подозрительно — на меня, но ничего не сказал. Я в ответ повернулась к Бурмону и спросила, что за дела привели его в наши края и долго ли он будет оказывать нам честь, оставаясь в Белых Липах в качестве гостя.
Обед был далеко не скучен. Граф де Бурмон словно решил не дать мне ни минуты скучать. Он говорил обо всем — об Англии, графе д’Артуа и роялистских планах сопротивления, о предстоящей высадке эмигрантов на побережье, а в промежутках между этими рассказами сыпал анекдотами и читал стихи. Он даже интересовался моими литературными вкусами и, узнав, что я бывала в Венеции, нашел новую интересную тему для разговора со мной. При этом он смотрел на меня глазами, в которых можно было видеть зарождающуюся влюбленность. Я была отзывчива, приветлива и мила как никогда. Граф де Бурмон как мужчина меня не увлекал, но я слишком давно ни с кем, кроме детей, не разговаривала, и разговор с аристократом был для меня просто глотком свежего воздуха, не говоря уже о том, что за пятнадцать минут беседы с графом я узнала о роялистских делах больше, чем за год жизни с Александром.
Он даже взял на себя услуги дворецкого — наливал мне вина, подавал салфетки, будто бы нечаянно касаясь моей руки, а я ни разу не повела себя сухо и не остановила его даже взглядом. Я только улыбалась и поддерживала беседу. За этой беседой мы и не замечали, что единственные говорим за столом и что обед на этот раз получился самый что ни на есть невкусный.
Я даже не знала, что думает Александр; мне достаточно было чувствовать себя красивой, уверенной и желанной. Теперь мне не приходилось дожидаться от своего мужа слова, напротив, другой мужчина ловил каждый мой взгляд. Я любезно уговаривала его остаться у нас подольше.
— С большим удовольствием, герцогиня, однако, боюсь, время не располагает к отдыху, — ответил граф.
— Но ведь тремя или четырьмя днями вы располагаете? Вы друг моего мужа, и я хотела бы, чтобы вы стали и моим другом. Наше поместье — настоящая жемчужина, и вы не пожалеете, если познакомитесь с ним.
Подчеркивая то, что граф — друг Александра, я уговорила-таки Бурмона остаться у нас на три дня. Едва согласие было получено, в нашу беседу резко вмешался Александр.
— Граф, — произнес он раздраженно, — предупредите, наконец, герцогиню, что мы вынуждены будем уехать в любую минуту, если придет приказ, и поэтому обещание может быть вами нарушено.
— Это правда, — подтвердил Бурмон. — Ваша доброта, мадам, заставила меня забыть, что не все обязанности так приятны, как обязанность развлекать вас.
— Вот как? — спросила я. — Вы не знаете, когда вам нужно уезжать, и ждете приказа? Да ведь это чудесно! Возможно, приказ придет через неделю, и тогда вы пробудете у нас даже дольше, чем обещали.
Я ощутила на себе холодный взгляд Александра и отчетливо поняла, что мой энтузиазм, впервые проявленный, вовсе ему не нравится.
Когда обед закончился и в голубой гостиной гостей ожидал горячий кофе, граф предложил мне руку и я готова была уже на нее опереться. Оставлять мужчин одних я пока не собиралась, тем более что и Аврора продолжала беседовать с Буагарди. Меня остановил голос герцога.
— Одну минуту, сударыня, — сказал он спокойно. — Мне нужно сказать вам кое-что.
Я согласно кивнула, потом обернулась к Бурмону и пояснила:
— Это всего лишь небольшая беседа о том, как лучше принять вас, господин граф. Пожалуйста, не ждите меня. Я скоро к вам присоединюсь.
Бурмон кивнул и вышел. В окна столовой продолжал хлестать дождь. Изредка свет молнии врывался в дом и освещал все вокруг сине-белой вспышкой. Гром грохотал, как канонада боя.
Мы остались одни. Слуги, заметив, что нам нужно поговорить, вышли. Лицо Александра было спокойно, но левая рука то и дело сжималась в кулак.
— Что такое? — спросила я холодно, прерывая затянувшееся молчание.
— Именно это и я хотел сказать. Так что же такое, сударыня? Что за мерзкий обед вы нам сегодня предложили? Кто следит за кухней? Кого вы наняли в повары — сапожника?
Помолчав, он спросил:
— Или, может быть, это все устроено намеренно?
Я ничего не отвечала, и лицо мое было бесстрастно. В сущности, Александр был прав. За кухней не следил никто. За последнее время для слуг стало обычным подавать на стол вчерашний суп — так случилось и сегодня. Паштет из утки и зайца не удался, цыплят пережарили, сладкий пирог с рисом подгорел снизу. Хорошим было только вино, извлеченное из погребов Белых Лип.
— Мои друзья — аристократы, черт побери, и я никому не позволю над ними смеяться, — произнес Александр.
— Скажите это Анне Элоизе, сударь.
— Я говорю это вам и прошу принять меры.
— Вы напрасно просите, сударь, потому что в хозяйство я не вмешиваюсь. Если вам угодно, чтобы было иначе, заботьтесь об этом сами или заставьте вашу бабку признать меня госпожой в Белых Липах.
Усмехнувшись, я добавила:
— Выбор за вами, господин дю Шатлэ. Разумеется, кто-то должен следить за слугами, не то они вовсе от рук отобьются.
— Чем кокетничать с Бурмоном, вы бы лучше вспомнили о своих обязанностях.
«Ага, — подумала я, — вот мы и добрались до главного. Причина его недовольства, конечно же, не в еде, и обед — это только предлог».
— Это что — упрек? — спросила я со всем высокомерием, на какое только была способна.
— Это просьба.
— Адресуйте свои просьбы Анне Элоизе и графине Дэйл.
Холодно качнув головой, я вышла, радуясь в душе, что хоть раз оборвала его так, как он обрывал меня. В голубой гостиной меня уже ждал Бурмон. Мы играли в ландскнехт и мило беседовали до самой полуночи. Граф выиграл у меня две тысячи ливров, но под конец игры любезно вернул их мне.
Я гордилась своим спокойствием. Оно помогло мне забыть о неприятностях и полностью насладиться игрой.
2
Ночью дождь сменился сильным градом, от которого дребезжали оконные стекла. Урон от этого бедствия был немалый. Выглянув на рассвете в окно, я увидела побитые цветы на клумбах. Да и вообще двор замка, всегда такой аккуратный, сейчас выглядел грязным, запущенным. Ливень размыл дорожки, вокруг фонтанов образовались целые разводы из ила. Парк был влажный, капли все еще сползали с мокрых ветвей, от земли шла сырость. Много понадобится времени, чтобы все просохло после столь затяжных и сильных дождей — особенно при нынешнем скупом солнце.
За завтраком ни герцога, ни его брата не было — слуги сказали, что хозяин выехал на поля, чтобы посмотреть, какой вред причинил град посевам. Я вслух выразила свою радость по поводу того, что в поместье наконец-то снова появились мужские руки, но в душе была слегка уязвлена: герцог снова не предупредил меня о своей поездке. Даже записки не оставил. А еще осмеливался требовать, чтобы я следила за хозяйством! Его прямая обязанность — это советоваться со мной. Хотя бы по поводу будущего урожая.
Завтрак был далеко не блестящий: что-то было пересолено, что-то просто безвкусно, а сливки, поданные к кофе, пахли коровой. Я чувствовала, что мы оказываем скверный прием своим гостям, да и сама от такой еды была не в восторге; однако, поразмыслив, ни во что не стала вмешиваться. Пока Александр не поговорит с Анной Элоизой и не заберет у нее ключи, я и пальцем не пошевельну. Я и так слишком много уступала.
В отсутствие мужа скучать мне не приходилось. Граф де Бурмон прямо из-за стола увлек меня в сад, невзирая на то что там было сыро; мы гуляли до самого обеда, пока я окончательно не промочила ноги. После обеда мы отправились в конюшни, где я показывала графу наших лошадей, затем ловили сазанов в озере, смеялись и разговаривали. Настроение у меня было прекраснейшее; сегодня, в свежий прохладный день, мне даже дышалось легче, и румянец разливался по моим щекам. Было так приятно сознавать, что тобой любуются.
Я старалась держаться очень мило и приветливо, однако так, чтобы граф ни на что не рассчитывал, ибо никакой серьезной связи я заводить не собиралась. Самое большее, что ему было позволено, — это поддержать меня за талию, когда мы перепрыгивали через ручей. Граф, похоже, хорошо понимал, что можно, а чего нельзя, и это меня успокаивало.
Уже близился вечер, когда мы вернулись. Бурмон увлек меня к качелям, врытым среди каштанов, расстелил свой сюртук и пригласил меня сесть. Я села. Граф, стоя сзади, не спеша раскачивал качели; я смеялась, слушая его рассказы об англичанах, их чопорности и их дурном вине и сыре. Глаза у меня сияли. Отбрасывая назад влажные волосы, я заметила, что рука Бурмона касается моего плеча.
Затрещали сучья под чьими-то шагами. Я оглянулась. К нам подходил Александр с хлыстом в руке. Его высокие ботфорты были по колено забрызганы грязью, грязь была даже на белом воротничке рубашки. Нахмурившись, он смотрел на нас. Бурмон убрал руку и после недолгой паузы произнес:
— Рад вам сообщить, герцог, что ваша прелестная супруга не скучала. Мы хорошо провели время.
— Это единственное, что меня беспокоило.
Тон Александра был язвительный, и он даже не старался как-то это скрыть. Мрачно поглядев на графа, он добавил:
— Я вам бесконечно признателен, господин де Бурмон, что вы взяли на себя обязанность развлечь мою супругу.
— Никогда не делал ничего более приятного. Однако, как говорится, пора и честь знать. Безусловно, внимание мадам дю Шатлэ теперь принадлежит вам.
Они раскланялись и обменялись еще несколькими словами, в которых очень чувствовалась натянутость. Сознавая, что их отношения становятся напряженными, я тем не менее сказала напоследок:
— Господин де Бурмон, я надеюсь увидеть вас сегодня в гостиной — мы устроим чаепитие для гостей. Вы придете?
— Как вы можете сомневаться?
Он ушел. Я все так же сидела, запрокинув голову, чуть отталкиваясь ногами от земли и качая качели. Александр подошел, и его рука опустилась на спинку сиденья.
— Вы уверены?
Я перестала качаться.
— В чем?
— Вы уверены, что ваш чай будет хорош?
— Вы бы лучше сказали, как прошла ваша поездка, — произнесла я безмятежно. — Большие ли убытки нас ждут?
— Немалые.
Помолчав, он добавил:
— Добрая треть посевов потеряна. О второй трети трудно сказать, доживет ли она до жатвы.
Я забеспокоилась.
— Александр, но что же мы будем делать?
— Надо отдать ко всем чертям эти земли в аренду и не возиться больше с ними.
Он сказал это грубо, отрывисто, и по его тону я поняла, что неприятности действительно серьезны и он сильно огорчен.
— Поместье принадлежит Филиппу, — сказала я. — Мне бы хотелось, чтобы оно было доходным.
— Вы же знаете, что у меня нет времени этим заниматься.
— О да… Вас увлекают другие дела.
— Вас — тоже. Вы предпочитаете разгуливать по парку в компании этого сопляка и слушать его россказни. Вы хоть видели сегодня Филиппа?
Наступило молчание. Голос герцога звучал сухо и раздраженно, но мне было трудно назвать его слова лишь проявлением ревности.
— Я видела Филиппа утром, — произнесла я спокойно и неторопливо. — Вам, видимо, невыносимо замечать, что не все мужчины чувствуют ко мне такое же пренебрежение, как вы.
— Как далеко вы намерены зайти в своем флирте с Бурмоном?
Я подняла голову, глаза у меня блеснули.
— Это вас не касается. Вам следовало бы поскорее забыть о том, что я ваша жена.
— Вот как? Когда же нас развели?
— Одиннадцать дней назад.
— Этот развод, похоже, не был обставлен такими формальностями, как тот, о котором ходатайствовал я.
Я молчала, кусая губы. Сырость все сильнее обволакивала парк, силуэты каштанов размывались светлым туманом. Вечер был влажный, холодный. Из глубины парка до нас долетали шорохи и шепот деревьев. Запахом мокрой после дождя земли, терпкой жимолости и майорана дышал сад. Становилось темно; сквозь заросли пробивался лишь слабый отблеск света, лившегося из окон замка.
Я передернула плечами и зябко поежилась. В тот же миг теплая рука герцога сжала мой локоть — ласково, нежно, так, что волна тепла разлилась по моему телу. Я не шевелилась.
— Вы замерзли, — сказал он тихо, гладя мой локоть. — И у вас капли дождя сверкают в волосах. Как алмазы.
Я взглянула на него, и он даже в сумерках увидел, как холоден мой взгляд. Александр отпустил мой локоть и отступил на шаг. Потом, с силой сжав хлыст обеими руками, проговорил:
— Пойдемте, наконец, в дом. Нас ждут.
Я поднялась и мгновение постояла в нерешительности, размышляя, не опереться ли мне на руку герцога, — это было вполне возможно, ибо его полусогнутая в локте рука была рядом. Я не воспользовалась ею. В полном молчании мы медленно пошли в дом, и лишь раз, когда я споткнулась в темноте, Александр поддержал меня за талию — сухо, не особенно ловко и совсем не любезно.
— Приведите себя в порядок, — сказала я уже в вестибюле. — Вы весь в грязи.
Не прибавив больше ни слова, я отправилась в голубую гостиную, распорядившись на ходу, чтобы поскорее подавали чай.
Чаепитие, к счастью, удалось, и все были довольны. Если бы не Поль Алэн, отравлявший своим присутствием вечер, я бы и вовсе была рада. Александра в гостиной не было, он явился только к полуночи, когда все расходились по своим комнатам, подошел ко мне и незаметно протянул связку ключей.
— Вот как? — спросила я, невольно улыбаясь.
— Вы победили. Анна Элоиза сдалась.
— Сдались и вы, господин герцог.
На короткое время нам удалось найти довольно дружеский тон. Провожая меня в спальню, он подробнее рассказал мне о том, что видел во время поездки, и даже выслушал несколько моих советов. Мне казалось, что, раз уж в сельском хозяйстве мы терпим убытки и оба в этом плохо разбираемся, может быть, лучше продать некоторую часть земель и вложить деньги в лионские шелковые мануфактуры — они почти всегда были выгодны.
— Мой отец так делал еще до революции, — сказала я в заключение.
— Может, вы и правы. Хотя, с другой стороны, раз Суворов отобрал у Республики Италию, лионские промышленники лишились гигантской фабрики шелка-сырца.
Помолчав, он добавил:
— Во всяком случае, над этим стоит подумать.
Мы остановились у дверей моей спальни. Я взялась за ручку двери и, подняв голову, посмотрела на герцога. Он молчал, пристально меня разглядывая. Потом вдруг его рука легла на мои пальцы и сжала их.
Я никак не отреагировала: не вздрогнула и не стала освобождать пальцы. Смысл этого жеста был мне ясен. Александр с легкой усмешкой произнес, лаская мое запястье:
— Может быть, мы забудем нашу недавнюю размолвку и соединим на эту ночь наши холодные постели?
Ирония почудилась мне в его голосе. Он словно пытался скрыть под ней свои истинные чувства — искреннее желание и симпатию. Но я понимала, что эти чувства проснулись тогда, когда ко мне проявил интерес Бурмон. Кроме того, прикосновение Александра не пробудило сейчас во мне ни малейшего отклика. Да и повторять ошибки я не хотела.
— Мне трудно забыть то, что было, — отчеканила я твердо.
Он негромко спросил:
— Так да или нет, Сюзанна?
— Нет. Доброй ночи, Александр.
Я вошла, оставив его за дверью. И хотя по натуре я вовсе не была злопамятна, сейчас мстительное торжество завладело мною. Он хотел меня, а я отказала. Ни капли сожаления не проснулось во мне, когда я думала о своем отказе. Я предчувствовала, что впервые за несколько недель буду спать безмятежно и крепко, как ребенок.
Кто знает, может быть, я и вправду переставала его любить?
3
В четверг после мессы Аврора просто ошарашила меня заявлением:
— Мне кажется, если и дальше так пойдет, месяца через два Жильбер сделает мне предложение.
Ошеломленная, я уставилась на нее.
— О ком ты говоришь? Кто такой этот Жильбер?
— Так зовут господина де Буагарди, мама, — терпеливо пояснила она.
— И вы называете друг друга по имени?
— А что тут удивительного?
— Ничего, но… я даже не подозревала, что у вас настолько близкие отношения.
Настороженная, я ждала от Авроры объяснений. Она задумчиво молчала, качая туфелькой, потом, вдруг встрепенувшись, простодушно произнесла:
— Кажется, он влюбляется в меня. Или, по крайней мере, я ему очень нравлюсь.
— И он дал тебе понять, что хочет жениться?
— Нет. Пока нет. Но я дала ему понять, что иначе он ничего не добьется.
— А ты его любишь?
Надув губы, она протянула:
— Не знаю. Мне еще надо подумать. Но ведь он хороший, правда?
«Гм, — подумала я, — совсем недавно она досадовала, что он насмехается над ней». Я, впрочем, не сомневалась, что Аврора любого может очаровать: она расцветала с каждым днем, становилась красивее, стройнее, увереннее, изящнее. Если бы здесь, в Белых Липах, бывало больше мужчин, у нее была бы тьма поклонников.
И все-таки в Буагарди я сомневалась. Он казался мне слишком насмешливым и ветреным для того, чтобы взвалить на себя такую обузу, как брак. Я смутно слышала, что он заводит любовниц чуть ли не в каждом городе. Он был старше Авроры лет на четырнадцать. Кроме того, он был очень знатного рода, и я не была уверена, что он решится жениться на девушке столь сомнительного происхождения.
Полагая, что для Авроры лучше знать правду, я в мягкой форме все это ей высказала.
— Ну и что? — спросила она равнодушно. — Даже если он сделает предложение, я, наверное, ему откажу.
— Вот как?
— Мне как-то боязно представить себя его женой, мама. Он такой необузданный, ироничный… с ним не будет покоя. Может быть, я слишком неопытная для него.
— Если ты не имеешь намерения становиться его женой, не провоцируй его на предложение.
Она рассмеялась.
— Не провоцируй? Разве это возможно? Никто на свете не может повлиять на Буагарди, кроме него самого. Ты не знаешь, какой он. Я даже хочу, чтобы он решился наконец на предложение… хочу немножечко посмеяться над ним, как он подтрунивал надо мной.
Я со вздохом произнесла, поднимаясь:
— Ладно. Решай сама, ты уже взрослая. Только, пожалуйста, будь благоразумна. Оба твоих поклонника — Буагарди и Поль Алэн — кажутся мне слишком опасными партиями, так что не спеши.
Подумав, я добавила:
— Брак — иногда невыносимая вещь, Аврора.
Впрочем, я понимала, что настроена сейчас слишком предвзято. Потом я вспомнила, что Буагарди, при всех его достоинствах и его знатном имени, далеко не богат. Иначе говоря, у него ничего нет. Может быть, тот бриллиант на пальце — это все его состояние. Словом, вполне возможно, что ему даже некуда будет привести свою жену.
Не полагаясь всецело на благоразумие Авроры и считая Поля Алэна потенциально более опасным и нежелательным, я, встретив своего деверя на лестнице, заставила себя заговорить с ним. Я сказала ему, что будет лучше, если он, как более взрослый, оставит Аврору в покое и предоставит ее самой себе. Не нужно этих бесконечных прогулок верхом, этих гуляний по саду… Я вскользь намекнула, что у нее вскоре будет жених, хотя и не была в этом уверена.
— Прошу вас, — сказала я настойчиво, — оставьте ее, у вас ведь нет серьезных намерений.
Он слушал мои слова, но, похоже, они действовали на него, как красная тряпка на быка. Поль Алэн побагровел.
— Вот как? — переспросил он напряженным голосом. — Вы, похоже, решились шантажировать меня?
— Шантажировать? — переспросила я ошеломленно.
— Да. Либо брак, либо разлука — так? Ей-Богу, я не сделал ничего такого, чтобы заслужить столь суровое наказание, как женитьба.
— Прекрасно! — парировала я холодно. — Будьте добры оставить Аврору в покое. Если вы не намерены жениться, зачем все это?
— Да, я не намерен. Вам удалось околпачить моего брата, но, клянусь Богом, ни одной даме из вашей семьи больше так не повезет, как вам.
Я побледнела так, что у меня побелели даже губы. Я и раньше знала, что Поль Алэн — человек крайне неуравновешенный, но все-таки не могла предположить, что моя просьба будет понята как шантаж или намерение его «околпачить». Я бы закатила ему пощечину, если бы не опасалась какой-нибудь непредвиденной выходки с его стороны. В этот миг в гостиную вошел Александр.
— Что случилось? — спросил он, глядя то на меня, то на брата.
— О, ничего! — вскричала я с сарказмом. — По крайней мере, ничего такого, что могло бы смутить ваше хладнокровие. Вашей жене нанесли маленькое оскорбление, только и всего.
— Вас оскорбили? — холодно спросил Александр. — Полноте. Поль Алэн вряд ли на это способен.
Я молчала, борясь с гневом. Герцог вполголоса произнес:
— Не думаете же вы, что я буду драться с братом на дуэли? У меня достаточно тонкий вкус, чтобы не допустить подобной нелепицы.
— Вкус? — переспросила я холодно. — Да, верно. Он у вас гораздо тоньше ваших рыцарских чувств.
Я вышла, вне себя от гнева, но за столом заметила, что братья не разговаривают между собой. Сразу после ужина Поль Алэн оседлал коня и уехал — видимо, к своей вдове в Понтиви. Дней пять о нем ничего не было слышно, и от его нападок я была избавлена.
4
Дождь зарядил надолго. Не проходило и дня без него. По утрам было сыро, холодно, и Белые Липы полностью затягивались молочно-белым туманом. Тепло так и не наступало.
Когда приходил вечер и струйки дождя стекали по оконному стеклу, невольно казалось, что близится осень. А лето, в сущности, еще только начиналось. Ни цветы, ни птицы уже не радовали глаз и слух; когда в полдень тучи расступались и в чистом голубом просвете между ними показывалось солнце, все вокруг сразу светлело, и бретонцы были рады даже таким кратким моментам тепла.
Я сидела у окна, наблюдая, как угасает день. Светлые пятна фонарей, размытые дождем, сквозь туман казались расплывчатыми, призрачными. Тяжелая от влаги листва каштанов стучала в окно. Ливень намывал грязь на прежде светлые песчаные дорожки.
Я раздумывала над тем, о чем только что узнала. Директория приняла закон о заложниках, и это было напечатано во всех газетах. Директоры ставили целью «прекратить грабежи и положить конец действиям шуанов, признаки которых обнаружились в южных и западных департаментах». Для этого предписывалось «брать заложников среди родственников эмигрантов, бывших дворян и родственников лиц, известных всем как участники сборищ и банд убийц»; и те и другие считались «несущими ответственность за убийства и грабежи, совершаемые внутри страны из ненависти к Республике».
Почему это я должна нести ответственность, я не знала. Но одно было ясно: отныне, если республиканцы не смогут поймать Александра или Поля Алэна, они возьмутся за меня, Филиппа, близняшек и Анну Элоизу. Нас снова посадят в тюрьму.
Я раздумывала, как следует поступить. Мне казалось, оставаться здесь, в Белых Липах, нельзя. Я догадывалась, что нападения на дилижансы, о чем говорила вся округа, — дело рук моего мужа, Буагарди и Бурмона. А если об этом догадываюсь я, то для синих это тоже не такой уж секрет. Мой муж и его друзья добывали деньги для Кадудаля. Это серьезное преступление. За такое, пожалуй, приговорят к смертной казни. Александра, положим, им трудно поймать, но меня арестовать они могут без особых усилий. Это вызывало у меня ужас. Я еще четыре года назад поклялась сама себе, что в тюрьме больше не окажусь никогда. Я лучше умру.
Да и мои отношения с Александром продолжали оставаться натянутыми. Так что по многим причинам было бы лучше, если бы я с детьми ушла отсюда.
Дверь отворилась, и на пороге показалась Маргарита.
— Вы слышали новость? — спросила она с ходу.
— Нет, а что?
— Эжени родила девочку.
Отвращение и злость захлестнули меня. Я поднялась, пылающими глазами глядя на Маргариту. Новость, впрочем, не должна была меня поражать. Я ведь знала, что рано или поздно у Эжени родится ребенок. Просто я на некоторое время совсем забыла о ней.
— Откуда ты узнала? Кто тебе сказал?
— Наша кухарка была крестной. Она пришла и сказала.
Итак, у Филиппа теперь была побочная сестра. Дочь Александра! Я невольно почувствовала себя униженной, приравненной к этой бретонке, к Эжени.
Четыре месяца назад Александр заплатил пять тысяч одному диковатому парню, и тот женился на Эжени за эти деньги. У них была ферма неподалеку от нас, в местности, что называлась Коровье Брюхо. Как было хорошо, когда оттуда не приходило никаких известий!
— Это еще не самое любопытное, — проворчала Маргарита. — Знаете, какое имя получила девочка?
— Какое?
— Сюзанна!
Это было уже чересчур. Мгновение я стояла, словно окаменев. Потом быстро пошла к двери.
— Куда вы? — остановила меня Маргарита.
— Я иду поздравить своего мужа, черт возьми! — воскликнула я.
— Будьте осторожны, милочка, предупреждаю вас! У меня есть подозрение, что он пьян!
Я уже не слушала ее. Пьян или не пьян — какая разница? Я не собираюсь считаться с его настроением, пусть лучше он посчитается с моим!
Слуги сказали мне, что господин герцог находится в куропаточной гостиной. Я отправилась туда. Дверь на террасу была распахнута, оттуда доносилось влажное дыхание непогоды, и ветер колебал пламя свечей в канделябрах. Пляшущий свет наполнял комнату, и от этого казалось, что золотисто-дымчатые куропатки, вышитые на шелковых шпалерах работы Одрана, движутся, прыгают и клюют друг друга.
— Это что — насмешка? — спросила я громко.
Александр сидел лицом к распахнутой на террасу двери.
Подле него стояла бутылка йонского вина и бокал, наполненный на треть. Судя по тому, сколько он выпил, он не должен был быть пьян.
Обернувшись, он спросил:
— О чем вы говорите?
— О вашей новой выходке. И пожалуйста, не пытайтесь убедить меня в том, что вы к этому не имеете отношения. Ведь это вы подсказали Эжени назвать ребенка именно так, я в этом не сомневаюсь!
Он поднялся и задумчиво смотрел на меня. Я в бешенстве воскликнула:
— Ваша шутка не смешна!
— Какая шутка?
— У вас теперь две Сюзанны — поздравляю!
Он круто изогнул бровь, и выражение его лица сделалось довольно грозным.
— Вы хотите сказать, что у этой особы родился ребенок?
— Эта особа! Вы ее так называете? Да, у нее родилась девочка, ваша дочь. Вы что же, не знали об этом?
— Я не встречался с Эжени с тех пор, как она вышла замуж.
Я умолкла, нерешительно поглядывая на него.
— А что это вы говорили о двух Сюзаннах? — спросил он иронично. — Это было бы слишком много для меня.
— Эжени назвала ребенка Сюзанной. Я была уверена, что это вы подговорили ее.
— Называть ребенка — это прерогатива отца Ансельма, как мне кажется.
— Отец Ансельм сделает что угодно, если вы попросите, — возразила я запальчиво. — Не думаете же вы, что я поверю, что…
— Сюзанна, — раздраженно прервал он меня, — сцены ревности с вашей стороны совершенно неуместны. Это просто нелепо. Но если уж вас это так задевает, я повторю, что доселе никогда не интересовался ребенком Эжени.
— Вашей дочерью! Как ловко вы обходите это слово… Почему я должна вам верить?
— Вы знаете, что последний месяц я вел себя как настоящий праведник.
— Я вовсе не о том говорю, — произнесла я, немного смешавшись. — Вы просто захотели посмеяться… вы нарочно предложили Эжени мое имя?
— Ну что вы, — сказал он холодно. — Уверен, она сделала это из благодарности за вашу доброту. Если, конечно, выбор имени не был просто случайностью.
Я прикусила нижнюю губу, не зная, что возразить на это. Нельзя же было заподозрить, что Александр лжет: он никогда не опускался до лжи, когда дело касалось таких пустяков. Я и сама уже чувствовала, что вспылила напрасно. И все же на сердце у меня было тяжело, я даже ощущала, что беспричинные слезы набегают на глаза.
— И что же, — сказала я, пытаясь говорить спокойно, — что вы теперь сделаете?
— А что вы имеете в виду?
— Ну, вероятно, надо как-то дать понять Эжени, что вы знаете… что вы признаете ребенка.
Он внимательно посмотрел на меня. Лицо его было непроницаемо. Сделав нетерпеливый жест рукой, Александр сказал:
— Не думаю, что я должен обсуждать это с вами.
Да, это был именно тот ответ, который я предвидела. Пытаясь совладать с собой, я мгновение стояла, чувствуя на себе его взгляд, потом повернулась и быстро вышла на террасу. Здесь было прохладно и влажно. Припав к холодной мраморной колонне, я поняла, что не в силах сдержать слезы. На душе у меня скребли кошки.
Я тысячу раз сожалела, что завела этот разговор. Гнев всегда мешает правильно оценить ситуацию. Мне не следовало обращать внимания на эти дела, я должна была хранить молчание. Теперь Александр знает, что и Эжени, и ее ребенок — все это мне небезразлично. Но, подумать только, он не сказал ни слова, чтобы успокоить меня. Он мог хотя бы сказать, что Эжени его не интересует. Мог бы сказать, что мы с ней — я и она — вовсе не равны, ведь унизительность положения была именно в этом! Эта девочка — сестра Филиппа! Неужели подобная ситуация нисколько меня не касается?
Я заплакала, опускаясь на холодную мраморную скамью. Дождь все лил и лил, капли падали, разбиваясь о ступени террасы, лужайка к сад перед домом дышали влагой. Где-то на западе, подобно зарницам, полыхали молнии — их отсветы вспыхивали среди свинцовых туч даже здесь, над Белыми Липами. Там же, вдалеке, глухо рокотал гром.
Сзади послышались шаги. Рука Александра коснулась моего плеча. Я смахнула слезы с ресниц так поспешно, словно боялась, что он их заметит.
— Вы, кажется, плачете? — спросил он тихо. — Что же за причина на этот раз?
Я молчала, не в силах преодолеть злость, мучившую меня до сих пор. Его рука погладила мое плечо, потом мягко обвела линию шеи, и он наклонился ко мне.
— Вы молчите? Как всегда, не желаете признаваться?
— В чем? — спросила я сердито.
— В том, что плачете.
— Если я признаюсь, вы посмеетесь и скажете, такими слезами, как у меня, сегодня полна вся Бретань.
— Неправда. Вы считаете меня большим негодяем, чем я есть.
Он попытался заставить меня подняться, чтобы увести в более сухое место, но я оттолкнула его руку. Тогда он сел рядом, и наши ладони соприкоснулись.
— Вы помните, Сюзанна?
— Что?
— Ту молнию, которая вспыхнула в день нашего венчания.
— Да… Это был дурной знак.
Он ничего не ответил на это. Снова тихо касаясь моего плеча, он сказал:
— Похоже, мне за многое нужно просить прощения.
Я повернулась к нему лицом. Над террасой ветер раскачивал кованый светильник, и отблеск света, упавший на нас, отразил и блеск в его глазах, и слезы на моих ресницах. Он говорил искренне. И все же я не могла поверить, что слышу от него такие слова. Я даже подозревала подвох. С чего бы это он так добр сегодня? Что у него за настроение? Может быть, он просто хочет спать со мной и потому так себя ведет?
Не подозревая о сомнениях, обуревающих меня, он произнес:
— Я имею в виду тот день, когда упал в воду Филипп. Дорогая, я очень сожалею, что поступил тогда так. Я не имел на это права. Думаю, Филипп не простил бы мне… если бы узнал об этом.
Он, похоже, не лгал. Но я все равно была полна недоверия. Во-первых, этого извинения было мало, если вспомнить то, что он мне причинил. Во-вторых, мне казалось, он сказал эти слова слишком поздно.
— Я уже перестала ждать, — сказала я тихо.
— Ждать чего?
— Пока вы опомнитесь, Александр.
— И теперь вы, такая добрая и нежная, не можете простить?
Я не отвечала, ибо и сама не знала, могу или не могу. Мягко улыбаясь — я уже лет сто не видела на его лице такой улыбки, он сказал:
— А ведь я истосковался именно по вашей нежности и доброте. Я не желал бы лучшей матери для Филиппа. Я был глупцом.
— Вы слишком поздно заметили во мне все эти качества, — прошептала я сдавленно.
— Я всегда замечал их. Просто долгое время после того, что случилось осенью, не хотел признавать их в вас. Невероятно было поверить, что женщина, совершившая такое, может обладать столькими достоинствами.
— И из-за вашего каприза мне пришлось столько вытерпеть.
Я пробормотала — яростно, враждебно:
— Вы просите прощения за тот случай на берегу. А все остальное? Я жила лишь уверенностью в том, что вы меня любите. И я поняла, что это не так. Если бы вы любили меня, вы не выгнали бы свою жену в одной рубашке под ноябрьский дождь. Вы бы не позволили этой вашей англичанке издеваться надо мной прямо на ваших глазах… А ваш брат и эта старуха? Да вы хоть представляете, что мне пришлось пережить? Меня никто не унижал так, как вы.
— И все-таки я люблю вас.
Впервые услышав такое за последние восемь месяцев, я была ошеломлена. Опомнившись, я пробормотала:
— Это уже не имеет значения.
— Я и сам представляю, как слабо звучат мои слова сейчас. Любовью не все можно оправдать, вы это хотите сказать?
Я кивнула.
— И все-таки я прошу простить меня. Еще и еще раз прошу. Я люблю вас, дорогая. Я хорошо понимаю это.
— Вы просто устали от своей… своей англичанки, — проговорила я, закрывая лицо ладонями. — Вам стало скучно. Вам захотелось разнообразия!
Он не ответил. Я решительно произнесла:
— Я не могу забыть, Александр. И простить тоже не могу. Я уже не та, что раньше.
Словно не слыша меня, герцог сказал:
— Ревность — это как наркотик. Я был слаб перед силой этого чувства. Я все же слишком любил себя. И сейчас… — он едва заметно усмехнулся, — не уверен, достоин ли я даже взять вас за руку.
— Почему именно сегодня вы решили сказать все это?
— Сегодня я набрался смелости признаться. Продолжать делать ошибку за ошибкой, исходя из чувства гордости, — это показалось мне глупым. Я увидел ваши слезы, Сюзанна. Они никогда не были притворными.
И совсем уже тихо он закончил:
— Я давал слово никогда не заставлять вас плакать.
У меня сжалось сердце.
— Александр, скажите мне только одно…
— Что?
— Вы не жалеете, что епископ не дал вам развода?
— Не жалею.
Сжимая мою руку, герцог произнес:
— И даже если вы не можете простить меня, я все равно прошу прощения. Мне даже ничего не хочется знать.
— Чего именно?
— Всех обстоятельств того прискорбного происшествия.
— И напрасно, — произнесла я сухо. — Если бы вы хоть раз проявили желание послушать подробности, вы бы поняли, как беспричинно было ваше ожесточение.
Я почувствовала, как напряглась его рука. Я впервые столь смело затронула вопрос, о котором даже заикаться раньше боялась. Это могло привести его в бешенство. Но, с другой стороны, мне сейчас было все равно. Я была успокоена его словами, но пустота и безразличие в душе оставались. Впервые, пожалуй, я была так безучастна и равнодушна к Александру.
— У меня что-то перегорело в душе, — произнесла я едва слышно, сама не замечая, что говорю вслух. — Но ради Филиппа мы обязаны это вытерпеть.
— Вытерпеть что?
— Наш брак…
Это слово будто упало с моих губ. Я подняла голову и погасшими глазами поглядела на Александра.
— Невероятно, — сказал он, пристально наблюдая за мной. — Когда я вел себя иначе, вы были полны жизни, а теперь, когда я попросил прощения, вы стали словно потерянная. Еще полчаса назад, обвиняя меня и говоря о дочери Эжени, вы вся пылали. Что же случилось?
— Не знаю. Может быть, мне теперь нечего добиваться.
— Сюзанна, — сказал он требовательно, — что вы чувствуете ко мне?
— Ничего.
Я сказала правду. Но он не рассердился. Усмешка тронула его губы, и он сильнее сжал мою руку.
— Такое уже было. Я не боюсь безразличия. Я завоевал вас один раз, завоюю и во второй.
— Вряд ли. Я уже не та, что прежде.
— Вы не знаете меня, дорогая.
Он не понимал. Я попыталась объяснить, сделав жест рукой:
— Александр, это все напрасно… Я уже не та, поймите. Я теперь стала взрослая. На меня мало что подействует. Я одного прошу: оставьте меня в покое.
— Хорошо, — неожиданно согласился он. — Только не сегодня. Договорились?
Я безучастно кивнула. Дождь все лил и лил… Мне было до того тоскливо, что слезы снова набежали мне на глаза и капнули прямо на руку Александра.
— Вы плачете, — сказал он, вздрогнув.
— Это дождь, — возразила я несмело.
— Нет, вы плачете. Боже мой, я не могу это видеть.
Он взял в ладони мое лицо. Я отчаянно старалась не плакать. Он привлек меня к себе — нежно-нежно, как ребенка, и поцеловал сначала лоб, потом мои заплаканные глаза.
— Боже мой, — прошептал он дрогнувшим голосом. — Я же люблю вас, cara.
Он снова поцеловал меня. А мне вдруг стало так больно от воспоминаний о нашей любви, о том, что уже не вернется, о том, какая я теперь стала — безучастная и слабая, — мне стало так больно и жалко, что слезы сами полились у меня из глаз. Задыхаясь, я обвила руками шею Александра в каком-то отчаянном порыве, словно пытаясь вернуть утраченное, и наши губы встретились.
Его пальцы погружались в волосы, ласкали шею, затылок. Я полуоткрыла рот, мы принялись целоваться короткими, ласкающими, мимолетными поцелуями, одно беглое прикосновение губ сменялось другим; потом его язык мягким нажатием разжал мои зубы, и Александр прильнул к моему рту так страстно и жадно, словно хотел подчинить себе. Я, впрочем, нисколько не сопротивлялась. Этот поцелуй поддержал меня, придал сил.
— Я тоже люблю вас, — прошептала я, когда он осыпал поцелуями мою шею и плечи. — Я тогда сказала неправду… я до сих пор люблю вас.
— Не прощайте меня так быстро. Я этого не заслуживаю, — произнес он, лаская губами мое ухо.
— Я вас не простила.
Он отстранился и заглянул мне в глаза.
— Александр, — прошептала я, — я хочу уйти отсюда.
— Что за глупости, — произнес он, все еще не выпуская меня из объятий. — Я никуда не отпущу вас.
— Даже теперь, когда вы знаете, что виноваты передо мной?
Мой голос прозвучал довольно ровно, отрезвленно. Высвободившись из его объятий, я села прямо, нервно теребя оборку на платье. У меня слегка дрожали губы. Я собиралась с мыслями, а когда заговорила, то была полностью уверена, что говорю о том, чего хочу.
— Александр, мне надо уйти, — сказала я, подчеркивая слово «надо». — По многим причинам… Я устала от Белых Лип. От вас… Да-да, от вас. Мне слишком трудно с вами.
— Возможно, дальше все будет иначе, Сюзанна?
— Не знаю. Когда вам было трудно со мной, вы избавились от меня. Я хочу сделать то же самое.
Скрипнув зубами, он произнес:
— Не беспокойтесь. На днях я уеду. Вполне может быть, что до самой осени. Вы отдохнете от меня.
— Нет. Я хочу в Сент-Элуа. Я хочу уехать туда с детьми. Если… если вы действительно чувствуете хоть какую-то вину, вы позволите мне это.
— Вину я чувствую. Но разве из-за этой вины я должен лишаться Филиппа? Перед ним я ничуть не виноват.
Я не отказала себе в удовольствии язвительно сказать:
— Я — тоже. Однако я лишилась его на целых полгода.
— И я должен подвергнуться такому же наказанию?
— Не знаю. Может быть. Я не могу сейчас оставаться с вами. Мне нужен отдых. И я это серьезно говорю, Александр.
— Странное заявление после того, что вы сказали раньше.
— Это отказ? — спросила я напряженным голосом.
— А могу ли я согласиться, если совершенно не понимаю, чего вы добиваетесь?
— Нет, — сказала я, чувствуя, как во мне закипает гнев, — вы просто рады еще раз проявить свою власть! Вам прекрасно известно, что без вашего согласия я не смогу уйти, и вы рады видеть меня беспомощной! Вы просите прощения и сразу же совершаете новую ошибку! Черт возьми, может быть, епископ был тысячу раз не прав, когда отказал нам в разводе!
Я выкрикнула все это прямо ему в лицо. Тишина повисла между нами. В сумраке глаза Александра казались совсем черными и блестящими. Я передернула плечами и отвернулась. У меня дрожали пальцы. За пять минут я испытала целую гамму чувств — от безразличия до любви — и опять вернулась к враждебности. Мне до сих пор было трудно определиться со своими ощущениями, но единственное, что я хотела, — это уйти из Белых Лип.
— Ну, и как же вы намерены там жить? — спросил Александр, ни словом не опровергнув моих обвинений. — Сент-Элуа — разве это подходящее место?
— Более подходящее, чем это, — сказала я в сердцах. — Там, по крайней мере, не будет вашей разлюбезной бабушки и братца, и там мне не будет грозить арест.
— Вы имеете в виду последний декрет о заложниках?
— Да.
— Не думаю, что у Директории хватит смелости исполнить его.
Я раздраженно возразила:
— Когда-то никто даже подумать не мог, что революционеры осмелятся поднять руку на короля. Однако это случилось. И раз уж они сделали это, то с нами сделают что угодно!
Он пожал плечами. Я примерно знала, что он думает: сейчас почти вся Бретань в руках белых, так что трудно предположить, что здесь могут по приказу Республики арестовать целую семью. Однако, как человек здравомыслящий, он должен был допускать такую возможность. Ведь он уедет и оставит нас одних. Его люди тоже уйдут вместе с ним. Что тогда будет с нами?
Я открыла рот, чтобы пригрозить ему, что, если он на этот раз не согласится, я уж точно ничего ему не прощу. Однако он опередил меня, задумчиво сказав:
— Сюзанна, на днях я уезжаю. Я побываю и в Англии, и в Париже, и вернусь, быть может, только к осени. Меня здесь не будет. Подумайте еще раз, хотите ли вы уйти. Мое присутствие, будьте уверены, вам не грозит.
Его голос прозвучал ровно, без тени недовольства или раздражения.
— Вы уедете, — сказала я сдавленно, — а ваша бабка останется. Да и ваши слуги, которых так и распирает от желания напомнить мне о том, что было. Я не хочу больше так. Я не чувствую здесь себя дома. Это мешает мне.
— И долго вы намерены оставаться в Сент-Элуа?
— Не знаю. Два года или три… может быть.
Усмехнувшись, я добавила:
— Куда нам спешить? Вас зовет война. Вам должно быть все равно, где я живу. Тем более что вы всегда сможете приехать, если захотите.
— Вы говорите неслыханные вещи. Я не должен соглашаться. Мужчина должен предоставлять своей жене дом, а не наоборот.
— Я не хочу такого дома, из которого меня всегда могут выгнать.
Это было сказано холодно. Александр качнул головой.
— Сюзанна, вас никто никогда не выгонит. Я даю слово.
— Александр, — произнесла я устало, — мне не нужно теперь ваше слово. Я хочу только спокойствия.
Он тихо сказал:
— Вы чувствуете, что я не вправе вам отказать.
— Да. И как раз этим я и пользуюсь.
Я поднялась и сделала несколько шагов по террасе. Дождь, казалось, затихал. Сгущалась темнота. В доме часы пробили полночь. Ветер шептал что-то в кронах деревьев и перекликался с дождем.
Александр тоже поднялся. Я обернулась.
— Я согласен, — сказал герцог.
Я кивнула, желая показать, что ожидала такого ответа. Какой-то миг он молча стоял напротив меня, потом поклонился мне так изящно и почтительно, словно я была королева, и, похоже, собирался уходить. Он даже сделал шаг к выходу. А я, вдруг осознав, что уже завтра уеду, почувствовала, как сильно защемило у меня сердце. Я ведь очень долго его не увижу. Позабыв обо всем, я бросилась за ним, и мой возглас остановил его.
— Александр, — прошептала я, растерявшись.
Он обернулся и внимательно посмотрел на меня. Сжимая пальцы, я в замешательстве проговорила:
— Вы… неужели вы ничего мне не скажете?
— Мы простимся завтра, Сюзанна. Не сейчас.
— Ну, а сейчас… сейчас, когда мы одни?
Он изменился в лице и, усмехнувшись, произнес:
— Я бы сказал вам кое-что, но боюсь отказа.
Я покачала головой, всем своим видом выражая, что отказа не будет.
— Тогда, — сказал он, делая шаг ко мне, — может быть, эта последняя ночь будет нашей?
Хотя на душе у меня было горько, я нашла в себе силы улыбнуться. Наши руки встретились. Он наклонился и поцеловал мое запястье, потом повернул руку ладонью вверх и поцеловал ладонь. Едва сдерживая слезы, я припала к нему и с улыбкой прошептала:
— Александр, вы сказали…
— Что?
— Вы сказали именно то, что было нужно.
Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.
Примечания
12
Мезальянс — неравный брак.
(обратно)





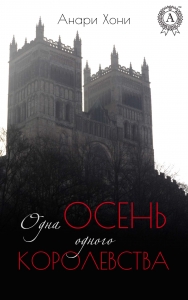

Комментарии к книге «Сюзанна и Александр», Роксана Михайловна Гедеон
Всего 1 комментариев
Алла Кузнецова
22 янв
Потрясающая серия книг про Сюзанну.Не могу оторваться от книг-такой захватывающий сюжет, мастерски изложены исторические события французской истории, великолепно написано!