Юрий Винничук Весенние игры в осенних садах
«Смерть какого бы то ни было человека не столь значительна для человечества, как литература про эту смерть».
Джозеф ХеллерПролог
1
Темные воды сна расступаются мягко и медленно – течение выносит меня раскачивая на поверхность а я пусть и с закрытыми глазами но все прекрасно вижу – и арабский танец водорослей и серебристую сигнализацию рыбок и меланхолическое мерцание водной ряби и волнистые светоносные лучи проникающие до самого дна и тени вкрадчивые и взблески чешуи – кажется я малюсенький в маминой колыбели и так мне тепло так уютно как птенчику и просыпаться не хочется а хочется еще поблаженствовать в этой теплыни и качаться на волнах но какая-то сила неумолимая выталкивает меня на поверхность вытаскивает грубо за волосы а я не хочу не хочу не хочу просыпаться – не хочу на поверхность хочу обратно в глубину в тишину туда в теплый сумрак глубин убаюкивающих колыбельно…
2
Сквозь прищуренные веки вгрызается зимнее солнце, лучи больно сверлят мозг и отворяют застекленные шкафчики памяти, выдвигают ящики, вытряхивают, и тогда он начинает припоминать, что было до сих пор, с какими мыслями уснул и отчего голова гудит, словно бубен… Как ужасно это пробуждение… будто ныряние в ледяную воду. Назад, обратно, в ласковую купель сна, в мягкое марево, в мир, где ни боли, ни печали, в луга, полные цветов… Но глаза уже не в состоянии закрыться, мозг зафиксировал переход из сна в явь, и отступать некуда, сон отслаивается, будто штукатурка на старом строении, обнажая мир вокруг, – взгляд скользит по комнате, до потолка уставленной книжными полками, опускается ниже, туда, где разбросаны кипы бумаг, журналов, книг, груды пустых бутылок, блуждает, вязнет в густом ворсе ковра, приникает к двери, за которой притаилась мертвая тишина, навостренные уши стараются выловить хотя бы намек на звук, звон, стон, но тишина стоит мертвая – мертвее не бывает… Одновременно с пробуждением ото сна и его безрадостным осознанием возникает другое – болезненное и неприятное, исполненное отчаяния и растерянности, осознание окончательной разрухи… Все крепости мгновенно поверглись в прах, и башни легли в руинах, разбитые войска пали на колени и склонили знамена, все, что его окружало до сих пор, все, создававшее ему уют и безопасность, в одночасье исчезло.
3
Среди ночи и сна раздался звонок, он ворвался в мозг, словно курьерский поезд, грохочущий и брызжущий огнями, казалось, еще мгновение и голова лопнет, расколется на две половины. Что такое? Кто? Среди ночи! Он вскакивает с кровати, шарит по книгам, разбросанным на полу, скользит по грудам рукописей, спотыкается, успевая схватиться за краешек стола, наконец вслепую дрожащей рукой нащупывает телефонную трубку и, прежде чем прислонить ее к уху, в котором еще продолжает плескаться теплое море сна, и все еще невозможно отделить миражи от действительности, кричит: «Алло!» – так громко, словно его должны были услышать на улице.
Припоминание ночного телефонного разговора похоже на считывание палимпсеста. Действительно ли это было на самом деле, а не приснилось? Но взгляд падает на стол – там две бутылки шампанского, и обе пусты. Они были выпиты ночью. После той телефонной беседы. И это реальность, в которой невозможно усомниться. Память сохранила какие-то отрывки разговора, все остальное порвано, искромсано, утоплено в вине.
Звонок был из Америки. Она предлагала развестись. Заметив при этом: «Так будет лучше». Кому лучше? Переспросить не успел, был настолько ошарашен, что не смог выдавить из себя ни одной законченной фразы. Впрочем, не удивительно, ведь он спал, этот звонок его разбудил. Ночной звонок имеет свои особенности. Он всегда заставляет вздрогнуть, учащает сердцебиение, наполняет душу тревогой. Звонивший находится в более выгодном положении, ведь прежде, чем набрать номер, какое-то время обдумывает, что сказать, он знает, чего хочет. Тот же, кого разбудили звонком, к разговору никак не готов. Да и какой может быть разговор, когда звонят из Америки и, экономя доллары, лепечут наспех, захлебываясь словами, проглатывая отдельные слоги, без единой паузы, которая позволила бы что-нибудь взять в толк, – сонный мозг не успевает все это переварить, осознать, отразить…
– …так будет лучше.
Эти слова вонзились в мозг и уже не сотрутся никогда, все другие – увянут, опадут, но эти останутся и будут годами пробиваться, выстреливать стеблями пырейника и ранить.
Разговор был недолгим, он больше слушал, а она тем временем все быстренько расставила по местам, разложила по полочкам, пронумеровала и припечатала. А потом бросила трубку: где-то далеко, далеко в Нью-Йорке на Лонг-Айленде. И ему слышно было, как та трубка за океаном щелкнула. И даже показалось, что он расслышал слова, обращенные уже не к нему, а к другому мужчине, который все время был с нею рядом и слушал их разговор. Она сказала: «Ну вот…», и мужчина тоже что-то прохрипел в ответ, его слова было трудно разобрать, возможно, это было сказано по-английски, в темной комнате раздался лишь призрачный шорох его голоса, а затем разразилась тишина, а он стоял возле телефона и не отходил, словно продолжая прислушиваться к умолкшей трубке, ожидая нового звонка, хотя и так было понятно, что разговор окончен, никто не позвонит, а все же какая-то невидимая нить, связывающая их через океан, еще тенькала, продолжая их соединять, не желала рваться, и пока он чувствовал ее дрожание, с места не трогался.
А спустя мгновение исчезло и теньканье невидимой нити, и уши вновь наполнились тишиной, но была она тревожной и недоброй, сдавливая сердце жгучей печалью. Назад, обратно в сон… на ощупь, раздвигая руками темень, окунуться и плыть, плыть подальше от этого места, подальше от этого времени, вернуть все к началу, исправить, переписать, спасти…
Ну да, спасти – умчать за моря и океаны, за тридевять земель и вызволить принцессу, которую злой волшебник упрятал в башню без окон, выхватить ее из плена на крылатом коне и, прижав к себе крепко-крепко, улететь домой… В голове кружилась шумная карусель и мелькали пестрые краски. Так продолжалось несколько долгих утомительных минут, пока за окном не заморосил дождь, мелкий, никчемный зимний дождь, и все же он ощутил какую-то странную благодарность к этому дождю, нарушившему тишину, заставившему его наконец стронуться с места и включить свет. В голове продолжала кружиться карусель слов сказанных и недосказанных, жалких обломков слов, отдельных звуков, пауз и вздохов… Он открыл бутылку шампанского, рухнул в кресло и хлестал стакан за стаканом, а в это время вокруг падали стены и разверзалась пустыня. Снова и снова прокручивал тот разговор, стараясь воссоздать его во всей полноте, но шампанское слишком быстро бьет в голову, и с каждым новым припоминанием что-то терялось, слова путались, фразы рассыпались, а больше всего его донимало то, что только сейчас сообразил, как надо было ответить на тот или иной укор. Слова выветривались, сменяли друг друга, и, чем больше он пьянел, тем меньше и меньше оставалось в памяти от того разговора, и только одна фраза не улетучивалась, а продолжала сверлить мозг: «Так будет лучше».
Возможно, и в самом деле так будет лучше? Вино спасает от грусти и покрывает все полупрозрачной пленкой парафина. Если бы не вино, он не смог бы уснуть после этого ночного звонка.
Наконец он выползает из кровати и, пошатываясь, направляется в ванную. Холодная вода вымывает из его глаз остатки сна. Он выдавливает на зубную щетку целую гору пасты и, поднося ее ко рту, бросает взгляд на зеркало. Видит в нем сумрачное небритое лицо сорокалетнего мужчины, видит подпухшие глаза, видит взлохмаченные волосы, видит грусть в глазах.
И в тот же миг я вдруг с ужасом осознаю, что человек в зеркале – я! И это я разговаривал по телефону с женой, позвонившей из Америки, а затем – снова же я – выдул две бутылки шампанского, и теперь голова гудит у меня, а не у кого-то другого.
Зеркалу все равно, какую физиономию отображать. Моя была с кислой миной. Чтобы как-то ее подсластить, пришлось почистить зубы, причесаться, промыть глаза, затем стал под душ, побрился, оделся – но и после этого выглядел, как выжатый лимон. И так всегда. Проснувшись утром после выпивона, я ощущаю себя словно придавленный автомобилем кот. Но моя ночная пьянка была особенной – я надрался от отчаяния. Когда пьешь от отчаяния, это совсем другое ощущение, ведь в таком случае пьешь по обыкновению один. Пьешь наедине с собой поздним вечером, когда затихают все звуки вокруг, и к полуночи ты уже наконец доводишь себя до нужной кондиции, ты пьян в стельку, ты никакой, и вот именно тогда, именно в таком состоянии ты и можешь наконец поговорить сам с собой, откровенно и начистоту, повытаскивать из себя все кишки, все потроха, хорошенько их развесить для обозрения и составить диагноз. И еще, а это всегда самое интересное, выстроить планы на будущее. Ну, что говорить – планы в такие минуты просто распирают голову, и все выглядит таким розовым, что отчаяние никнет, прячется в укромные закоулки памяти, чтобы вынырнуть уже завтра, но ведь то будет уже завтра, не сейчас, а сейчас хочется плыть по волнам мечтаний.
Танцы богомола
Глава первая
1
По-настоящему начинаешь понимать женщин только тогда, когда они тебя оставляют. Вот тут-то они наконец вышелушивают из себя какую-нибудь не ведомую тебе доныне истину и убивают ею наповал. Проживи ты с женщиной хотя бы и все сорок лет, но как только приходит момент, когда она сообщает, что уходит от тебя, ты узнаешь о себе такое, что никогда бы и на ум не пришло. И это, между прочим, может быть какая-нибудь абсолютная чушь, ничтожная чепуха, пшик, способный в любом другом случае вызвать лишь дикий хохот, но не тогда, не в тот момент, когда она это тебе бросает на прощание. И главное, что бросает! В ответ на эти ее слова хочется лишь недоуменно рассмеяться. Как? Из-за такой ерунды? Да, собственно, из-за нее. И она выдает это как приговор, как окончательный вердикт, который гвоздем забивают тебе прямо в лоб, вот сюда меж бровей, и отныне ты должен носить сей гвоздь посреди лба, прикасаться к нему и думать, думать, что бы это значило и что в действительности за этим стоит.
От каждой женщины, с которой я был близок, мне приходилось узнавать о себе нечто новое. И чаще всего тогда, когда мы расходились. Возможно, кто-то назовет это мазохизмом, но когда я хотел даму оставить, то никогда ей этого не говорил. Я вообще не смог бы склеить в одной фразе таких слов, как: «Прости меня, но я полюбил другую» или «Между нами все кончено. Давай разойдемся». Я с удивлением выслушивал от некоторых своих друзей рассказы о чудовищных сценах, которые они разыгрывали перед своими пассиями, прежде чем окончательно порвать с ними. Кое-кто даже устраивал прощальный ужин, оканчивавшийся, разумеется, прощальными сладострастными ласками. Увольте, это не для меня. Я поступал проще. Разумеется, проще для меня, а не для женщины, ведь ей-то, увы, приходилось не просто. Я делал так, чтобы она меня оставила. Я начинал играть роль сволочи и негодяя, а это, скажу вам, непростая роль, если в душе ты все-таки не негодяй, однако норовишь выйти сухим из воды, тебе не хочется переживать сумасбродные сцены, выяснять отношения и, чего доброго, даже схлопотать пощечину. Все, чего ты желаешь, – это чтобы милая послала тебя подальше, и чем короче окажется фраза, тем лучше для тебя. Но в действительности скороговоркой никогда не получалось. Всегда это затягивалось надолго. По вине женщины. Что и говорить, от пощечин по физии я себя так и не обезопасил. Наконец сообразив, с каким подлецом она имела дело, лапушка взрывалась неудержимым водопадом обвинений, открывающим для меня настолько потрясающие грани моего «я», что невозможно было уяснить только одно: так зачем же ты, мой ангел, столько времени с таким уродом якшалась-любезничала?
И знаете что? Нет никакого смысла задавать разъяренной пассии подобный вопрос. Ответ непременно будет таким: «Я думала, что смогу сделать тебя лучше!»
Ну а что, скажите, может быть в отношениях двух людей благороднее и возвышенней, нежели желание сделать кого-то лучше? В миг оглашения этого святого намерения играют фанфары, флейты и тромбоны, и тотчас хочется обнять даму за колени, целовать ее туфельки и умолять: «Ну, попробуй еще, сделай меня лучше!» И все же нет, если ты всерьез решился оставить ее, не расслабляйся, ведь все это фикция, никому никого не дано сделать лучше. Ваять можно из глины, но не из песка. Ты будешь оставаться таким же, как и при первой встрече, единственное, чего можно еще от тебя ожидать, что когда-нибудь ты приспособишься к даме, постараешься избавиться от раздражающих ее привычек, ну хотя бы на то время, пока она находится рядом с тобой. Ну да, ты и в самом деле можешь стать таким, как того хочет дама, но если она для тебя не подарок небес и влечет к ней лишь зов телесный, ну а больше всего ее задница, то тебе начихать на все условности, ты такой, какой есть на самом деле: небрежный, неточный, неверный, неблагодарный, непорядочный, неуравновешенный, невоспитанный, лживый, нахальный, бирюк, самоуверенный, бесстыжий…
Главное здесь не раскисать и не воспринимать эти обвинения всерьез. Иначе и впрямь может закрасться подлая мысль разрешить ей спасти тебя, отдаться перевоспитанию и, на крыльях любви неуклонно совершенствуясь, становиться примерным и даже идеальным, а иногда, выйдя на балкон, прислушиваться к шелесту крыльев за спиной.
Наверное, мой способ расставания с женщиной кое-кому покажется несколько затянутым. Ну так ведь и процесс возведения в негодяи не должен сводиться к считаным часам, он должен занимать хотя бы дни, если не недели. А впрочем, мне везло с женщинами, почему-то судьба преподносила мне чаще взрывных истеричек, готовых в любой момент выцарапать глаза, выдернуть клок волос, облить кипятком или искромсать рукописи. Именно рукописи и книги вызывают у них, очевидно, скрываемую прежде ярость, ведь только литература и стоит на пути к окончательному овладению мной. Осознание того, что есть что-то для меня более важное и ценное, чем их влагалище, гузно, сиськи, чем любящее сердце, чем их уста с каплями спермы, кошачьи ласки и даже вареники в сметане, вызывает в них агрессию, и направлена она именно на то самое дорогое и ценное, чем живет писатель, и тогда в минуты истерики они хватают бумаги и рвут их, расшвыривая во все стороны ошметки твоих вдохновенных писаний, наступают ногами на одну половину книги, а другую с диким визгом отдирают напрочь – и откуда такая сила у этих неженок? – в экстазе они готовы подсобить себе и зубами, и вот уже взлетает в воздух изничтоженный Бодлер, а вслед за ним – Рильке, а за Рильке – Свидзинский, а ты, словно очумелый, пытаешься спасти это свое самое дорогое и от безысходности вынужден прибегнуть к силе, скрутить ей руки, повалить на пол, задрать халат и, разорвав трусики с такой же яростью, как она только что разрывала Райнера-Марию Рильке, трахнуть ее, всю в слезах, рыдающую, завывающую, стонущую, издыхающую, на глазах изничтоженных Шарля, Райнера-Марии и Володимира.
Разумеется, с истеричками, которые любят выпить и закусить, расставаться значительно легче. Вывести таких из равновесия – раз плюнуть. Достаточно отказаться сделать что-нибудь такое, что до сих пор ты исполнял безропотно и без лишних слов, но при этом назвать причину отказа настолько левую, чтобы это уши ей резануло. Ну, к примеру, если ты всегда готовил ей кофе, а в этот раз на ее просьбу проворчал: «Сама себе завари – я же занят», будь уверен, что в тот же миг тебе следует резко наклониться, иначе кофеварка влетит тебе прямо в лоб. Такой же реакции жди и после отрицательного ответа на вопрос: «Ты меня проводишь?» Тогда в голову летит в лучшем случае тапка, а в худшем – ботинок.
Не знаю, как другие, но когда я выслушиваю от возлюбленной беспочвенные обвинения, то чувствую обиду, печаль и отчаяние, и еще – абсолютную беспомощность, поскольку не способен ответить таким же впечатляющим фонтаном слов. Ее слова низвергаются мне в лицо, в уши, бьют под дых, они обжигают меня и ослепляют, забиваются в рот и перекрывают воздух, если в первую минуту я предприму робкие попытки защититься, спрятаться за первые попавшиеся свои слова, может, и не столь острые и едкие, то уже в следующие мгновения – я неожиданно для себя начинаю ощущать в душе легкий осадок ответственности, а через секунду уже просто не могу доказывать, что я ни в чем не виноват, мне начинает казаться, что ее обвинения справедливы и меня оскорбляют не понапрасну, а вполне заслуженно. И вот я уже различаю в тех словах нотку снисхождения, ну да, мне оставляют маленькую форточку открытой, совсем крошечную, и все же я могу воспользоваться проявленным великодушием и влететь в нее, сложив руки смиренно на груди и приговаривая: «Прости! Прости!» Однако я этого никогда не делал, поскольку все шло по моему плану. И только этот ночной звонок был не по плану. Он оглушил меня своей неожиданностью.
2
А ведь все начиналось совсем невинно и совсем не с того, что мне пришлось услышать, ну какая же я свинья. Сначала моя жена собралась в Америку по какому-то левому приглашению устраивать такую же левую выставку своих картин. Попрощались мы в горячих объятиях и едва ли не со слезами на глазах, она не скрывала, что собирается там задержаться, найти работу, и уговаривала меня ехать вслед за ней, тем более что у меня было приглашение в Канаду. Я воспринял это несерьезно: жить в Штатах меня заставило бы разве что восстановление советской власти в Украине.
Последнее живое воспоминание о ней – воздушный поцелуй. Но после этого возникла какая-то странная ситуация: она пропала, и я полгода не получал от нее известий. Кроме одного – левое приглашение оказалось настолько левым, что ее там никто не встретил, она еле разыскала знакомого художника и поселилась в его мастерской, где спала прямо на столе, эту неутешительную новость передала мне одна туристка, вернувшаяся из Америки. Догадываюсь, что родители моей жены, конечно же, получали от нее письма, но мне они говорили, что не было ни одной весточки. И вот она позвонила мне, чтобы сообщить: мы должны развестись. И тут, собственно, я услышал о себе то, о чем никогда не догадывался: я ведь и понятия не имел, что я бабник, что бегаю за каждой юбкой, что переспал со всеми ее подружками и, кто знает, не приударял ли с той же амурной целью и за ее мамой, и вот я наконец могу устроить себе идиллию с… и тут она назвала с полдесятка своих приятельниц, которых я не только поимел, но и мечтал женить на себе. Водопад безумных нелепиц излился на мою голову столь неожиданно, что я не нашел ни единого аргумента, чтобы их отклонить, я захлебнулся несуразицами, как рыба захлебывается воздухом, и оттого, что под многоструйным фонтаном ее обвинений я удосужился лишь о чем-то невыразительно булькнуть, она и не пыталась меня выслушать, а тарахтела и тарахтела, как автомат, выбрасывая из себя по сто слов в секунду. Потому не удивительно, что позже я не смог вспомнить и десятую часть из ее монологов.
Из того, что все же удалось запомнить, вырисовывалась очень непривлекательная картина. Уродам, таким, как я, не должно быть места на земле. Ничего святого! Ни единой надежды на исправление! Я готов перетрахать все, что движется на двух ногах противоположного пола. Я монстр! Маньяк! Вампир! Я высасываю энергию, пью кровь и наслаждаюсь чужими муками.
После этого было еще несколько телефонных разговоров, столь же нервных, второпях, она атаковала, я защищался, не зная, что ее атаки уже не имели никакого смысла, она просто искала для себя оправдания, ведь пока я коротал время в одиночестве, она уже нашла уютное гнездышко и проживала с дантистом в одном из пригородов Нью-Йорка. Узнав об этом, я почувствовал, как тяжелая зимняя льдина сползает с моей груди, и дышать становится свободнее. Я устал бороться и пришел к выводу, что все, в чем я теперь нуждаюсь, это, собственно, превратиться в того, за кого она меня принимала: в маньяка и вампира. Для чистоты эксперимента убедить себя в том, что ее не было никогда.
Глава вторая
1
Едва началась весна, как вместе с цветущими вишнями вспыхнула в душе моей неодолимая жажда любви. На следующий день после развода я сел за письменный стол с решительным намерением завершить «Мальву Ланду». Закваска этого поистине гениального романа бурлила и пенилась во мне, вырываясь наружу, а я все никак не мог собраться с силами, чтобы спокойно взглянуть на чистый лист бумаги, ведь это словно заглянуть в бездну – голова начинает кружиться, и какая-то сила неудержимо влечет тебя туда, вглубь, где тяжелые темные волны бьются с обреченность гладиаторов. На моем необозримом письменному столе, состоящем на самом деле из двух письменных столов по краям и широченной доски между ними, на моем четырехметровом столе уже поджидали затейливо расставленные стопки с книгами и бумагами, каждая из которых относилась к отдельному проекту. Если бы я имел возможность расположить в своей квартире километровый стол, то и его я завалил бы бумагами и книгами. Это настоящее пиршество работать за таким длиннющим столом, а еще лучше круглым, то есть кольцеобразным, где ты, словно планета Сатурн, посредине. Я тогда еще не пользовался компьютером и писал чернилами, шариковых ручек терпеть не мог, они мне казались гадкими, я писал авторучкой на длинных листах хорошей белой бумаги, рисуя на полях лошадок, деревья, горы, ущелья и всякую чертовщину, когда мысль буксовала, а я никак не мог тронуться с места.
Ярко светило солнце, в окне виднелось зеленое пастбище, а за ним – темная стена леса, на опушке резвились дети, дремали коровы, белели гуси, чудесный апрельский день для писания, но вначале я все же нарисовал на бумаге холмы с ветряками и узенькой дорогой, вьющейся между ними и исчезающей на горизонте. Что там, за окоемом? Так захотелось убежать по той дороге, словно мальчишка, взлететь на самую макушку высокой кручи и посмотреть вдаль – что за неизведанные края, какие чудеса упрятаны там, за горизонтом, от моего взора?
«Чем дальше они углублялись в сад, тем больше он возвышался и возвышался на их глазах, становился величественнее и загадочней, весь исполосованный тенями и полутенями, пряча в раскидистых кронах обрывки сизой мглы, – выводила моя рука на бумаге. – Деревья здесь имели сплошь горделивый вид, бахвалясь древностью и породой, но в то же время от них веяло и каким-то новым духом, неведомым и дивным, а взгляд сразу плавился в своевольной игре мерцаний, всплесках невероятных соцветий, трепетании мечущихся лучей и захмелевших от зноя листьев. Кажется, здесь каждое растение оживает от твоего взгляда, даже мгновенного, стряхивает с себя тени, взблескивает чешуйкой росы и жадно ждет твоего слова, к нему обращенного. Сытые ленивые орхидеи опутывают своими похотливыми щупальцами стройные фаллосы деревьев и, украдкой шаря по коре, доводят дерево до экстаза, в котором оно едва не падает, постанывая и истекая потом, задыхаясь от избытка наслаждения, разливая густые запахи и истекая соками. В нос бьет дурманящее благоухание эякулированной живицы, завидев проходящих мимо людей, вспыхивают жадные глазищи орхидей, и вот они, словно игривые гейши, начинают извиваться упругими телами, перемигиваться и пересмеиваться, ойкать и сладко постанывать…
Тоненькая пряжа солнечных лучей обволакивает змееподобные ветви иглавы, утопает в клубах взъерошенной, безнадежно перепутанной поросли голубого скруба, а из-за кустов изнеженной жеманной фалинезии выглядывают чьи-то глазенки, дикие, испуганные, но симпатичные, а вверх по стрельчатым араукариям стремительно вытанцовывают юркие желтые и кофейные попугайчики – орхидейские евнухи…Чирликает, словно сумасшедшая, рыжая тарантохля, и ее длинные перья вздымаются пестрой бахромой. Из дупла старой шуплады выглядывает перепуганная пискля, сверкает узкими глазенками и снова исчезает. Весь этот тропический лес был насыщен сотнями звуков, странных и неслыханных ранее, звуки раздавались отовсюду, а иногда прямо из-под ног, заставляя испуганно одергивать ступню, оглядываться во все стороны и вздрагивать от пронзительных диких вскриков…»
Собачий лай, внезапно оглушив один конец улицы, покатился к другому и, неуклонно усиливаясь, приближаясь, вырвал меня из задумчивого состояния. Появление незнакомого человека на нашей улице жители привыкли определять по тявканью, лаю, рычанию псов: вот собачий гомон накатывается издалека, становится все громче и громче, и какая-то неудержимая сила заставляет тебя выглянуть в окно и полюбопытствовать, кто же там чешет псам вопреки. Эту привычку очень быстро перенял и я, потому-то и в этот раз, выглянув в окно, я окинул взглядом улицу и заметил высокую девушку с каштановыми волосами и с длинными ногами, она проходила, оглядываясь, словно искала чей-то дом, а в руке держала книгу. Книга была толстая. Книга была не моя. Я замер и вытаращился на нее, словно на посланницу с небес. Я даже сказал: «Господи, сделай так, чтобы она зашла ко мне!» И что бы вы думали? Господь выслушал мои моленья. Честно говоря, он всегда внимательно их выслушивает и делает так, как я попрошу, другое дело, что со временем я начинаю сам себе удивляться: зачем я об этом просил? Но здесь был не тот случай, отнюдь, я попросил, чтобы эта красивая, привлекательная девушка, эта секс-бомба сезона, эта отрада сердца моего не прошла мимо, и ради нее я готов был даже забросить сегодняшнее писание, а она ведь сделала это, она повернула в мои ворота!!! А почему? Да потому, что в тот день я нуждался именно в ней, а не в писании. Пока я птицей слетал со второго этажа, в моей голове промелькнуло бесконечное множество вариантов, кто бы это мог быть: юная поэтесса, жаждущая услышать мнение мэтра о своих стихах (и своей попке), поклонница моего таланта, возжелавшая живого (очень живого) общения с кумиром, журналистка, захотевшая взять интервью (и в киску), американская переводчица, возмечтавшая перевести на английский «Девы ночи» (и сама для большей достоверности перевода превратиться в деву моих ночей), студентка, которая пишет магистерский труд про роль женщины (влагалища) в моем творчестве… На ходу я застегивал пуговицы, приглаживал волосы, подтягивал штаны, а в прихожей еще успел воткнуть мордень в зеркало и даже растянуть губы в чудесной улыбке. Я выскочил на порог так стремительно, словно получил хороший пинок под зад, а девушка уже стояла у ворот и встречала меня лучезарной улыбкой, и глаза ее сияли широко и радостно, девушка была прекрасна, и уста ее алели так призывно, что я почувствовал, как сердце мое встрепенулось и вот-вот вырвется из груди от избытка счастья… Господи! Ты услышал меня! Ты направил стопы ее ко мне!
И вот, не успел я дрожащими руками отворить калитку, чтобы пропустить эту диво-деву, как вдруг услышал фразу, изреченную столь торжественным тоном, словно мне сообщали, что я стал лауреатом Нобеля. Однако это была не та весть, которой в свое время внимал Уильям Фолкнер, копошась в навозе на своей ферме. У калитки раздался возглас, не имеющий ничего общего с Нобелем, это была фраза, которую можно услышать в Галиции на каждом шагу, но имела она одну особенность – непревзойденно торжественный тон, возможно, даже более торжественный, чем тот, которым восклицает священник в церкви:
– СЛАВА!......ИИСУСУ!.......ХРИСТУ!!!
Я мгновенно онемел и оцепенел, предчувствуя что-то нехорошее, тревожное и загадочное, какой-то совсем иной вариант, который я не учитывал, к которому не был готов, а она, не давая мне прийти в себя, продолжила тем же пасторским тоном:
– Задумывались ли вы когда-нибудь над своей жизнью?
Я чуть не свалился с копыт, услышав эти слова, казалось, над головой у меня разверзлось небо со всеми громами и молниями. Я готов был убить ее в тот момент. Единственное, что ее тогда спасло, – Библия, которую она трепетно прижимала к груди. А может, ее спас старикашка, неожиданно вынырнувший из-за кустов и тоже направивший стопы свои ко мне, гнусавя:
– …бесчисленное множество людей не думает не думает о том что их ожидает бесчисленное множество людей ошибается ругается ежедневно и ежечасно погружаясь во грех все глубже и глубже и если не протянуть им вовремя руку они окажутся окажутся в геенне огненной в геенне огненной огненной…
Он держал в руках какие-то баптистские, или, может, иеговистские журнальчики с простецкими цветными иллюстрациями – львами, тиграми и пантерами, покушающимися на чистые человеческие души, в частности и на мою, – и молол, молол, молол, а геенна огненная уже светилась вдали и подмигивала мне игривым взором, а девушка протягивала мне Библию с какой-то невероятно доброй и сочувствующей улыбкой – так улыбается медсестра пациенту перед тем, как всадить ему обезболивающий укол. Я сердито хлопнул калиткой, так, что ворота затряслись и эхо покатилось, и, обернувшись к ним спиной, сдерживая зубами целый табун матерных слов, чтобы не сорвались раньше времени, вернулся в дом и только тогда дал волю своей злости, выплюнув слово «блядь» сто сорок восемь раз, а когда успокоился, то подумал: а какого ты милого, собственно, разругался? Ведь ты получил то, чего хотел. Шла себе девушка-агитатор по улице, чаяла встретить живую душу, чтобы обратиться к ней с вещим словом, наставить на путь истинный, спасти от геенны огненной, но улица была безлюдной, в такую погоду люди спешат управиться с огородами, она и твой дом миновала бы, если бы ты, ты сам не попросил об этом Господа, ведь это ты чуть ли не коленях стоя умолял его: «Господи, сделай так, чтобы она зашла ко мне!», вот Господь и послушал, Господь всегда внемлет всем твоим прихотям, ты пожелал, чтобы девушка-агитатор пришла к тебе, она и пришла, и теперь все, что тебе остается, чинно поблагодарить Бога, и я поблагодарил: «Благодарю Тебе, Господи, что исполнил волю мою! И прости мне, что я не воспользовался даром твоим».
И все же был, был один такой случай, когда Господь не выслушал мою просьбу. Это произошло, когда я попросил у него вернуть мне мою жену. Что могло быть проще? Вернуть мне мое же, не так ли? Однако Господь меня не услышал. Видимо, были у него на то свои причины. И знаете что? Я благодарен ему за это. Не прошло и полгода, как я искренне благодарил его: «Господи, благодарю тебя за то, что не послушал меня, недотепу, и не вернул мне жену мою». Ну конечно, Господь знал, что делает, иначе вся моя последующая жизнь превратилась бы в ад кромешный, ведь, забегая наперед, скажу, что жена моя, выйдя замуж за американского зубного врача, вскоре со скандалом развелась, пережила пожар в доме и в результате оказалась в лечебнице для душевнобольных, где провела два года.
Я снова сел за стол, перечитал написанное и попытался продолжить работу, но рука упорно выводила на бумаге какие-то малимоны, переплетения лиан, джунгли Бирмы. Рука не в состоянии была написать ни единого слова, которое бы упало, словно кошка, на четыре лапы и осталось жить, потому что через секунду то слово вычеркивалось, а на смену ему падало другое, и тоже исчезало, и я уже понимал, что в этот день мне не удастся написать ничего путного.
После всего случившегося какая-то сила тащила меня в город, я попробовал с ней потягаться, даже сел в кресло-качалку, закинул ноги на стол, открыл Хемингуэя и прочитал два абзаца. На большее меня не хватило, я оделся и подался куда глаза глядят. Именно так это выглядело, ведь я не пошел на автобусную остановку, решил добираться пешком, а это семь километров от моего дома до верхней Лычаковской. Ну и прекрасно, я люблю размышлять в пути, не сидя и не лежа, а именно плетясь наобум, погрузившись в свои глубины и весьма нервируя, если меня кто-то из них выдергивает, например, спрашивая, который час, из-за чего я часы обычно носил в кармане. Но дорога из Винников[1] до Львова через лес – это тропа одиночества, здесь никто тебя не остановит, не собьет с верной мысли. Я прихватил с собой бутерброды и бутылку домашнего вина. Шел напрямик, весело перепрыгивая через ручейки, журчащие в неизвестном направлении, продираясь в непролазных завалах сушняка, карабкаясь на холмы и вихрем сбегая в долины. Среди деревьев мне сразу стало легко, вокруг щебетали, свистели и чирикали птицы, расплескивая вокруг хмельную радость жизни, чаща опьяняла ароматом хвои и прелой листвы, мха и папоротника. Ноги мягко отталкивались от земли и сами собой несли меня вперед и вперед, пока я, сам того не ожидая, не оказался возле Чертовой скалы, воспетой немецкоязычной львовской поэтессой Йозефой Кун, которая в начале 19-го века посвятила мрачному утесу романтическую балладу. Здесь я решил устроить себе маленький пикник и уселся на траве со своими бутербродами и вином.
Лесная прогулка немного развеяла грусть, мне уже не хотелось думать о том, как сложится моя дальнейшая жизнь, я боялся об этом задумываться. Лучше представь себе, будто ничего особенного и не произошло, просто живи в свое удовольствие и пошли все в жопу. Я лег и, распахнув глаза к небу, проводил взглядом на запад пушистую шуструю тучку с большой круглой задницей. Нуда, изрядная круглая задница – вот что мне сейчас нужно, чудесное средство от хандры. Вы не поверите, но мой блудень даже приподнялся – откликаясь то ли на эту мысль, то ли на ту ладную тучку, которая, впрочем, уплывая все дальше, понемногу деформировалась, обмякала и расползалась – не так ли и в жизни, где каждая круглая и твердая попа со временем обмякнет и расползется.
Я допил вино и с повеселевшей головой продолжил свое путешествие. Пройдя с полкилометра, услышал чей-то тоненький голосок, прислушался, голосок раздавался совсем близко, я сделал несколько шагов в сторону и увидел на поляне девочку лет двенадцати, она, что-то напевая, собирала цветы. Девочка была в коротенькой юбочке и, когда наклонялась, я видел ее круглые ляжки и пухленькую сиделку. Смотрел на нее и думал: как же ей повезло, что встретил ее в этом лесу, на безлюдье именно я, а не кто-то другой, не серый волк, а возможно, маньяк и насильник. И еще думал: как хорошо, что при виде этой аппетитной малявки я не теряю голову, наверное, я не окончательно испорчен и не настолько изголодавшийся, хотя, конечно, и не святой. Итак, я любовался ею и думал: а ведь классно было бы с такой нимфеткой покачаться в траве. А затем потихоньку, стараясь не шелестеть, я попятился от полянки и исчез в чаще, по-прежнему гордясь собой.
На Лычаковской сел в автобус и, как только оказался в шумном центре города, сразу же ощутил в себе огромное желание вернуться домой. Я даже остановился и задумался, что же на самом деле мне сейчас нужно – навестить свое рабочее место в редакции «Доступа» или сидеть в кресле-качалке и… ну, известно что… читать, писать или забивать себе голову разными тягостными мыслями, дабы в конце концов напиться и вырубиться? Не долго думая, все же отправился в редакцию. Все девушки-щелкоперки были на месте, и я по привычке ощупал критическим взором все присутствующие задницы, но той, с которой я желал бы испытать новую большую любовь, не увидел. То есть были журналисточки, с которыми я бы не прочь утолить свою похоть, устроить такой, знаете ли, летучий перепихончик – две-три бутылки вина, беседа ни о чем, телевизор, кровать, а на следующий день – снова суровые газетные будни, никто никому ничем не обязан. Но я знал, что они на это не пойдут, а заводить новый роман я не желал, тем более что пока еще уломаешь, должен тусоваться с ними, тратить время, вести душещипательные беседы и делать вид, что тебе это невероятно интересно. Нет-нет, увольте, для меня это муки тяжкие, да и не умею я притворяться до такой степени, не раз убеждался в этом. Баста, больше никакой любви, никакой привязанности, попыток приспособиться, угодить и сделаться лучше. Я открыл записную книжку с телефонами знакомых девушек. Ведь теперь я свободен, с тихой радостью думалось мне, так что была бы постелюшка, а милая найдется, и не одна, а сколько душе угодно, теперь могу делать все, в чем меня столько лет моя благоверная подозревала. И это, наверное, чудесно. Я так увлекся этой мыслью, что даже стал выписывать телефоны на одну страничку, чтобы было удобнее обзванивать. А к чему, скажите, откладывать? У меня сейчас тяжелый период. Но и в сорок лет мужчина все еще может многое изменить в своей жизни. Другое дело, что мало кто на это решается. Впрочем, я готов. Мне нечего терять.
У меня был не слишком большой выбор для того, чтобы удержаться на плаву. Каких-то три возможности. Три возможности, каждая из которых вела в неведомое, без какого-либо просвета, каждая из которых увлекала по-своему, и нужна была сила воли недюжинная, чтобы сосредоточиться лишь на одной из трех. Я должен выбирать: или а) натянуть на себя слоновью шкуру, непробиваемый панцирь и выдавать себя за конченого прохиндея, хлюста и жоха или б) сойти с ума от излишка эмоций, превратившись в безвольную щепку, мечущуюся по воле волн, подчиниться обстоятельствам и плыть по течению, весело помахивая хвостиком. Третья возможность была самой худшей – в) попытаться стать добропорядочным обывателем, ничем не выделяться, собрать воедино все средства мимикрии и слиться с окружающей средой так, чтобы меня уже никто не смог отличить. Я выбрал первое.
Но я должен, непременно должен сегодня припасть к чьей-нибудь заднице, в этом было единственное средство против скуки. И вот, когда я уже вознамерился обзванивать по выписанным номерам, в редакцию зашла девушка в короткой юбочке с отнюдь не худенькими и такими белыми ногами, что я подумал, будто она всю жизнь провела в темном подвале без окон, а солнце видела только в букваре. Ее большие груди призывно вздрагивали при ходьбе, глаза постреливали по сторонам, словно выискивая кого-то, и я прошептал мысленно как заклинание: ну же, давай, подноси мне свои сокровища, я распну тебя прямо на этом редакционном столе, заваленном газетами и бумагами, давай мне свои белые ноги, я искусаю их до синяков. Я еле сдерживал себя, чтобы снова не обратиться к Господу. Хватит, слишком много безумных желаний для одного дня, в этот раз сдержи себя, и я сдержался, не отводя от нее взгляда, я пожирал ее своими голодными глазами, я готов был проглотить ее без всяких специй и гарнира. Внезапно она бросила взгляд на меня, улыбнулась и пошла в мою сторону. И тогда я, на всякий случай, скользнул глазами по ее рукам, не держат ли они Библию или молитвенник, чтобы еще раз наставить меня на путь истинный, но нет, в руках ее была сумочка, хотя от этого мне легче не стало, ведь женские сумочки могут скрывать множество интересных вещей, в частности и молитвенник или пистолет.
– Вы Юрий Винничук? – прощебетала она, одаряя меня улыбкой из популярного дамского журнала.
Я кивнул и поднялся, чтобы, когда она начнет в меня стрелять, успеть спрятаться под столом.
– У меня к вам дело.
Это уже интереснее, чем ковыряние относительно смысла жизни, не правда ли?
– Слушаю.
– Но… не здесь… может, выйдем?
Конечно! Выйдем! Ура! Но куда-куда-куда? Кажется, есть одна свободная комната. Возможно, она имела в виду кофейню, но я, решительным шагом приблизившись к ней, лицом к лицу, не останавливаясь, препроводил ее, отступающую спиной вперед, в небольшой кабинет, и мы присели возле стола.
– Я хотела вам сказать, что восхищаюсь вашими произведениями… – Далее она осыпала меня цветастым ворохом комплиментов и сразу после этого перешла к делу. – Я хочу показать вам свою поэ-э-эзию.
Она так и сказала: «по-э-э-эзию». Только настоящая поэтесса способна так произнести это слово. Я представил себе, как она будет, скажем, завтра, ну, в крайнем случае послезавтра лежать подо мной и постанывать: «Во-о-озьми меня, ми-и-илый, во-о-озьми!» Она сидела напротив, и я видел ее всю. Ноги ее сияли. Как две упругие луны, светились белые колени. А чуть выше и между – темнела щель шириной с ребро моей ладони, очевидно, на тот случай, если бы я захотел нырнуть под ее юбочку. Эта щель приковывала к себе все мое внимание – вот где подлинная поэзия, а не в ее сумочке, которую она сейчас раскрыла, чтобы извлечь толстенную общую тетрадь (ну что же, случается, что и гениальные поэты записывают свои стихи в такие гроссбухи), и начала читать, чуть подвывая, напоминая этим Беллу Ахмадулину, и остановилась лишь тогда, когда я, положив ей руку на лунное колено, сказал:
– Этого достаточно, чтобы я понял, что вы талант (полная фигня, ни единого проблеска), вы тонко понимаете поэзию (в поэзии ты ни бум-бум, ни ку-ка-ре-ку), но искру вашего таланта (какая там искра? – сплошной мрак) надо еще раздувать (это все равно, что раздувать сухой песок), следует его взращивать (с таким же успехом можно взращивать пенек), – моя рука скользнула чуть выше, кажется, девицу-белоножку не только держали в подвале, но еще и обкладывали льдом, – я вижу, что из вас вырастет интересная поэтесса (блядь из тебя вырастет!), но вами необходимо заниматься (репетировать во всех позах, до визга, до писка и слушать, дышишь ли ты!!!).
И когда я пальцами вот-вот уже должен был прикоснуться к ее горячей пипке, когда я уже кончиками пальцев, казалось, нащупал непокорные волоски, что, словно первые подснежники пробились сквозь (снежно-белые? голубые? розовые? салатовые?) трусики, она вдруг дернулась, отбросила с гневом мою руку и вскрикнула:
– Прекратите! Да как вы можете?
На ее глазах появились слезы, я подумал, что это слезы счастья, и обнял ее. Однако ошибся: она решительно вырвалась и, бросив на прощание: «Все вы такие!», исчезла за дверью. Я провел голодными глазами ее выпуклую пониже спины прелесть, что до боли напомнила мне ту аппетитную задастую тучку над Чертовой скалой, и почувствовал ужасную печаль. В ладонях еще не истаяла нежная прохлада ее белых пышных бедер, и это вдохновляло, и я хотел было продолжить дозваниваться по телефону знакомым девушкам, но вскоре благоразумно решил, что два столь тяжких облома в один день – достаточная причина, чтобы напиться вдрызг, и свалил домой.
Дома я вспомнил, что, кроме двух бутербродов, ничего во рту не держал, и хотя не был голоден, все же заставил себя съесть кусочек сыра, а затем поднялся в кабинет, упал в кресло-качалку и позволил вечернему сумраку затопить себя с головой. Света я не включал, ведь ни читать, ни работать не собирался, зато врубил музыку, нацедил из бутыли вина и медленно отхлебывал, лениво покачиваясь. Выпивая бутылку доброго домашнего вина, я словно покоряюсь ему, а оно, вливаясь в меня, сразу ударяет в голову, одурманивает, отвлекает, вино – откровеннейший собеседник, который выбалтывает мне все свои тайны, пробует меня на вкус и на цвет, я даже чувствую, как вино перекатывает меня на своем языке, пробуя, прежде чем проглотить, капля за каплей я переливаюсь в него и думаю, думаю, мысли мои по мере выпитого становятся светлее и светлее, наконец на высокой волне счастья я засыпаю, хотя утром меня ожидает болезненное выныривание из пучины сна и попытка заставить себя хотя бы что-то делать. Пока ты молод, из таких ситуаций выходишь без особых затруднений, но когда тебе сорок, то ощущаешь себя фикусом, внезапно среди зимы выставленным на балкон.
2
С детства я привык к тому, что непременным условием комфортности моего существованию были и есть тишина и тень, мне даже пишется лучше, когда свет в комнате не слишком ярок. Случается, что днем я даже зашториваю окна, и вот когда я столь внезапно лишился тишины и уюта, то волей-неволей запаниковал. Со времени первого звонка из Америки меня стали преследовать бессмысленные сумбурные сны, которые каждое утро приходилось отряхивать с себя, словно пожелтевшую листву, и тогда я походил на осеннее дерево с вороньими гнездами и тревожным карканьем в голове. Стая съежившихся ворон мокла под изморосью испарений вчерашнего вина, которое скучивалось красной хмарью где-то между теменем и мозгом и сеялось, сеялось на мой внутренний мир, вместившийся в моей голове, мир, окутанный туманом и моросью. Сны вымучивали меня, встряхивали среди ночи, и тогда я, на ощупь включая свет, брал книгу и читал, пока сон снова не одолевал меня. Мне снилось, что Христя приехала и я хочу ей позвонить, но не могу вспомнить номер телефона. И тогда я ищу, ищу этот номер, но в записной книжке почему-то не оказывается самой важной страницы, я пытаюсь вспомнить его, и вот всплыли две-три первые цифры, и это уже кое-что. Однако остальные никак не даются, ускользают из памяти или же возникают в бесконечных комбинациях, которые я тотчас проверяю, взволнованно прислушиваясь к голосам на другом конце провода, стараясь уловить что-то знакомое. В конце концов я иду к ее дому, слоняюсь вокруг, ожидая, а вдруг она выйдет. Почему я не могу войти в ее дом? Потому, что мне скажут: ее нет, она не приехала. Я в этом уверен и оттого надеюсь лишь на телефонный звонок. Днем, когда ее родители на работе, а она остается с бабушкой, есть надежда, что она первой поднимет трубку. Но ведь я не помню номер. И меня охватывает отчаяние, ужасное отчаяние, мне хочется кричать, и я иногда кричу во сне, и когда просыпаюсь, этот крик все еще звенит в моих ушах. Я ухожу от ее дома ни с чем. И так каждый раз. Это повторятся и повторяется в разных вариациях, а утром, припомнив сон, я не могу постичь смысл этих своих переживаний, ибо не питаю к ней уже никаких чувств, кроме обиды. Она мне не нужна, и если бы вернулась не во сне, а наяву, то я бы никогда не стремился встретиться с ней. И все же сны, очевидно, высвечивают какую-то потаенную грань моего сознания, где-то глубоко в душе осталось нерастраченное чувство к ней – там, в глубине памяти, наверное, я все еще любил ее.
В доме долго оставались ее вещи. Духи, помада, зубные щетки, гребешки с вычесанными волосами, лекарства, обувь, кучи шмоток, трусы, колготки – и все пропитано ее запахом, отпечатками ее пальцев, ее дыханием. Я выносил это в сад и сжигал. Смотрел на пламя, и мне чудилось, что сжигаю свою жену, ведь вместе с этими вещами сгорало нечто большее – тепло ее тела, касания пальцев, губ, прядь намотанных на щетку волос вспыхивала с особой радостью, ударяя в нос горьким запахом, возможно, такова она – горечь потери.
Мне казалось, что я и сам с каждым таким сожжением становлюсь все благостнее и чище, словно прохожу Чистилище, прежде чем попасть в Рай. Я умышленно продлевал это удовольствие, хотя мог спалить к черту все огулом, но моя медлительность даровала жертвенную возможность словно бы и самому полыхать с каждой предаваемой огню вещью, сгорать, вспоминая о том, что связано с ней, – где была куплена, когда была надета или использована в последний раз, а когда впервые, так постепенно я истесывал память о ней – щепка за щепкой. И на каждую вещь огонь реагировал по-своему, что-то он хватал жадно и похотливо своими щупальцами и мгновенно проглатывал, а к чему-то присматривался, заходил то с одной, то с другой стороны, облизывал и прищелкивал языком от удовольствия, как настоящий гурман, и так исподволь отгрызал по кусочку, смакуя, а затем долго еще приплясывал на остатках, рассыпая мириады искр. А иногда шипел и злился, и даже громко постреливал, вздымая сумрачную пелену дыма и пепла. Чтобы задобрить его, я подбрасывал ветки и старые газеты, но больше всего он радовался, когда я швырял ему рисунки, эскизы, масляную мазню, на которых была изображена ее матушка – хищная сова с растопыренными когтями, ненасытным кривым клювом и пронзительными глазами. Христя так часто рисовала ее в разнообразнейших ракурсах вовсе не из особой любви к родительнице, не из желания увековечить материнский образ, на самом деле она просто вынуждена была использовать матушку в качестве натурщицы, упражняясь в рисовании портретов, ведь та стерегла ее, как бриллиант в королевской короне, и никуда не выпускала. На некоторых рисунках матушка представала обнаженной, хотя вряд ли она раздевалась перед дочерью, чтобы позировать нагишом, как делают настоящие натурщицы, это уже дочка в своем воображении раздевала мать догола, домысливая отдельные невидимые части тела. Интересно, видела ли старуха это? Думаю, что нет, ведь ее могли бы шокировать столь натуралистические изображения собственных уродств – обрюзгших филеек, выпуклого живота и толстых бедер. Я с удовольствием наблюдал, как эти тяжелые телеса, массивные ляжки, обвисшие груди деформируются, видоизменяются и надуваются, а затем трескаются, а из щелей выскакивают красные языки, и тело матери чернеет, скручивается, рассыпается, а огонь выплясывает в восторге, словно дикий островитянин, вытанцовывает, пока не угомонится, сосредоточившись на какой-то ляжке, а затем снова игриво подмигивает мне своим багровым оком, чтобы я угостил его свежей порцией пачкотни. Но так нет же, я эти рисунки не сжигаю в один прием, я подкладываю их в костер по одному, торжественно, словно поднося в жертву. Ритуально держу каждый лист на вытянутых руках, прощаюсь, а затем бережно, словно бумажный кораблик, опускаю в огонь, и он какое-то мгновение плывет, покачивается, вздрагивает на его волнах, а огонь будто и не торопится, а присматривается и колеблется, прежде чем полыхнуть со всех сторон и превратить подношение в пепел.
Наверное, и огонь чувствовал, что это была редкостная мегера, которая могла ежедневно закатывать скандалы и своему мужу, и его матери, и дочке, без устали пилить и хаять, брызгая слюной и взрываясь бранью. Муж, привыкнув к материнской кухне, никогда не ел того, что стряпала его благоверная, и это вызывало страшную обиду, изливавшуюся в жуткую истерику. В воспитательных целях она театрально выливала супы в окно, опускала шницели в унитаз, а кашу высыпала ему в постель. Одновременно всем своим змеиным нутром издевалась над бабулькой, к примеру, нарочно подкручивая газ под ее сковороваркой, чтобы еда подгорала. А когда ее на этом подловили, то просто выключала газ, подсыпала соль или перец, доливала воду в суп или бросала кусочек протухшего мясца, которое она всегда на такой случай хранила в морозилке в тройной целлофановой упаковке, потом она списывала все на бабушкин маразм и слабоумие. Однако муж продолжал упрямо манкировать ее обедами, ведь готовить она так и не научилась, и, похоже, в аду, куда она непременно должна угодить, на смоле варят гораздо вкуснее. Она не успокоилась, пока не загнала свекруху в могилу, а осиротевшего мужа – в свои цепкие паучьи сети. С той поры он уже никогда не смог выпутаться из них и, лишенный воли, надежно опутанный, связанный, порабощенный, вынужден доживать свой век в паре со старой паучихой, дряхлея вместе с ней, обрастая мхом и лишайником, не задумываясь о том, что в любую минуту может случиться так, что не будет кому и ложку воды подать, не будет кому похоронить, и только ветер да ночь придут к ним на могилу.
Глава третья
1
Никогда не задумывался, отчего мне нравится читать биографии великих людей, и только недавно пришло на ум: причина – в том, что вся их жизнь была наполнена страданиями, муками и потерями, а ведь ничто так не укрощает собственное отчаяние и кручину, как чужие страдания. И еще я подумал, что клин следует выбивать только клином, а лучше – несколькими, и стал заводить романы на каждом перекрестке, ища себе приключений, столь далеких от моей степенной патриархальной натуры. Меня подхватило столь бурное течение влечений и закружило в своем водовороте с такой силой, что сопротивляться было уже невмоготу, а поскольку мне редко попадались девушки, с которыми хотелось бы после секса понежиться в постели, кайфуя от страстной симфонии, вдохновенно исполненной двумя божественными инструментами, то я менял своих избранниц, как меняют, пардон, носки. Иногда моя близорукость подсовывала мне свинью: приведя вечером барышню к себе, наутро я готов был удирать из собственного дома куда глаза глядят. Когда же они надоедали мне, я их уничтожал, топил в ванне, в озере, в тарелке борща, растворял в кофе, сжигал их вместе с вещами, которыми они захламляли мой быт, я испепелял их, обложив газетами и стихами, посвященными им в минуты малодушия, я разделывал их на кухне, пропускал через мясорубку и подсыпал ими яблони, от чего те плодоносили, как бешеные. Я разбивал сердца в отместку за свое разбитое вдребезги, я вел себя, как браконьер в заповеднике, и не было у меня ни совести, ни жалости, не существовало разницы между добром и злом, я жил, как мотылек-однодневка: без планов, без перспектив, типичный прожигатель жизни… Я бесстрашно приходил на семейные обеды в дома своих избранниц, знакомился с их родителями, вел с ними солидные беседы, строил общие планы на будущее. При этом я отменно играл роль вполне порядочного и покладистого человека, мне доверяли, со мной по-семейному советовались, проявляли ко мне глубокий интерес, тогда как лично меня по-настоящему глубоко интересовало лишь влагалище их доченьки.
Я попытался задуматься над собственным поведением. Это были тяжкие, неподъемные мысли. Я почувствовал себя негодяем, мне приходилось постоянно изобретать какие-то двойные игры, от которых на душе становилось противно, и во всем виноват был несомненно мой стержень, это он двигал моими намерениями, вкусами и идеями. Мой стержень, мой ненасытный блудень, страдал тяжелой формой клаустрофобии: как только попадал в темную закрытую среду, так сразу же приходил в движение. Не раз и не два я представлял себе, как беру в руки бритву – старую раскладную отцовскую бритву, ее лезвие настолько острое, что легко рассекает волосок, и одним движением отрубаю свой конец, потом смотрю на него, только что налитого мощью и кровью, как он выплескивает из себя свою мощь и кровь, никнет, уменьшается, становится беспомощным и слабым.
Я пылал в любви, в страсти и в похоти, я кончал и кончал, кончал во влагалища и уста, в простыни и подушки, в ладони и перси, в листья и цветы, в платочки и салфетки, в трусики и пелеринки, в уши и волосы, в воздух и небеса, в реки и моря, в песок и траву, в газеты и рукописи. Секс позволял мне убежать от себя самого. Убив сотни и сотни миллиардов сперматозоидов, я, безусловно, заслуживаю Нюрнбергского процесса.
Блуждание в бесконечном лесу женщин, которые вырастают на каждом шагу и манят тебя взглядами и улыбками, блуждание в поисках их сладчайших сокровищ похоже на перелет шмеля от цветка к цветку, монотонное собирание нектара, впитывание запахов, поцелуев, ласк, вышептанных слов, шелеста губ. Женщины созданы для любви и измены, их можно любить, а затем превращать в литературу. Однако подсознательно я все же ужасно хотел влюбиться, даже ощущал в своей душе признаки большой влюбленности, правда, не в реальную особь, а в нечто мглистое и мерцающее, в нечто такое, чего я до сих пор еще не встретил. Исподволь эти блуждания превращались в погоню за счастьем, затаившимся невесть где. Я словно оказался в сказочном дворце с анфиладами, где за каждой дверью тебя ждет неописуемое счастье, и только в одну из сотен комнат входить строго запрещено, за этой дверью – путь в никуда, в тупик, в пропасть, и все же я с какой-то удивительной закономерностью открывал дверь именно той комнаты. Я не знал, что ловить счастье – тщетно, оно должно само поманить тебя возле открытой двери, и чем дольше ты его ожидаешь, тем оно прельстительней. Так же и любовь не может прийти раньше или позже, она придет в назначенное время с одним лишь уточнением – назначать его дано не тебе.
И все же я знал, что в какой-то момент должен остановиться, выбрать одну из многих и упорядочить свою слишком бурную жизнь, и для этого вовсе не обязательно жениться, главное осознать, что она у тебя есть, и ты можешь когда угодно ей позвонить, пригласить на уик-энд, а остальное время посвятить писательству. Но шальная волна безрассудства несла меня, словно щепку, швыряя то вверх, то вниз, временами затягивая в жуткий водоворот, спастись от которого удается лишь крайним напряжением сил. Я не мог остановиться, ведь каждая новая избранница была краше предыдущей, я не знаю, каким образом им удалось так выстроиться в строгой последовательности, однако мне казалось – этому не будет ни конца ни края.
2
Первые мои эротические похождения, начавшиеся с дня, когда я подал на развод, не прибавили мне оптимизма, наоборот, они вызвали еще большую ностальгию по утерянному, казалось, что какой-то фатум висит надо мной. Сначала я переспал с одной знакомой, которая занималась танцами и была значительно выше меня ростом. Никогда не приходилось спать с каланчой? Ну, так и не пытайтесь. Надежда на то, что в горизонтальной позиции ее рост не будет доминировать над вами, – напрасна. Каланча она и в кровати каланча. Особенно, если этой каланче двадцать восемь лет. У Славки грудки были, как у третьеклассницы, я не знаю даже, зачем она вообще надевала лифчик, была такая худющая, что я заочно прозвал ее «Привет из Бухенвальда». Я-то привык во время любовных игр сначала прокладыватъ поцелуями путь к персям, однако в случае со Славкой такая тактика потерпела полное фиаско, мои интенсивные притирания-лобызания в тех местах, где должны были затаиться манящие возвышенности, не вызывали у нее ни малейшего энтузиазма. Она смотрела на меня, как страус на фиалку: сверху вниз. Это ужасное ощущение, когда женщина смотрит на тебя сверху, а ты суетишься, мельтешишь, напрягаешься, пока не расчухаешь, что все твои манипуляции похожи на ухаживания суслика за жирафой. Наконец я решил, что завел ее достаточно, и повалил на кровать. Но, оказалось, ошибся, так как Славка изрекла холодно, словно сама Снежная королева: она еще не готова. Да, так и сказала:
– Я не готова.
И точка. Думай, что хочешь. Она лежит передо мной полураздетая, но еще не готова, а я готов, но еще не при деле. У женщины имеется тысяча и один способ просигналить о собственной неготовности, но ледяной тон Снежной королевы – это уже явно то, чего не ожидаешь и что повергает тебя в смятение. Когда в ответ на твои атаки женщина шепчет нежно и страстно: «Не торопись», это одно, но когда она ставит тебя на место, поневоле чувствуешь себя семиклассником, вознамерившимся поиметь учительницу математики. Еще немного – и она с указкой в руках начнет объяснять, где у нее эрогенные зоны. У Славки эрогенные зоны находились явно не там, где я привык. На сиськах, то бишь на месте их отсутствия, эрогенными зонами и не пахло. Тогда я переключился на ноги, точнее на бедра, стремясь к вожделенной цели. Ноги у Славки были километровые, но и здесь я не добился успеха, она молчала как партизанка, она лежала как узкоколейка Львов – Перемышль, такая же волнисто-длинная, с той существенной разницей, что ни единый семафор не подсказывал мне о приближении к станции. Я блуждал вслепую, я прошел губами и пальцами по всему ее телу от пяток до ушных раковин, исследовал его лучше, чем Амундсен Антарктиду, но от этого она не перестала быть Антарктидой. В какой-то момент мне захотелось сказать ей пару теплых слов и дать стрекача, но именно в это мгновение она сорвала с себя остатки одежды и, ухватив меня за вставень, направила его куда следует. Дальше я только двигался, как автомат, однако ощущение какой-то несуразности происходящего не оставляло меня. Я был уже изрядно вымучен бесконечной прелюдией, мы опьянели, и было достаточно поздно, мне хотелось спать, в голову лезли дурные мысли, а Славка даже и не пыталась шевельнуться, казалось, я трахал саму Снегурочку, и как только это сравнение пришло мне на ум, как мой меч-леденец бряк – и спрятался в ножны. В глубине души я был даже благодарен ему за это. Я сполз со Славки и сказал: «Давай спать», она молча повернулась ко мне спиной и захрапела. Под утро я реабилитировал себя, однако это не доставило мне никакого удовольствия. Больше со Славкой я не хотел иметь никаких отношений. Я сжег ее, а пепел развеял по ветру.
Иные впечатления оставила после себя оперная певица, которую я прозвал Аидой. Она не была слишком высокой, однако все ее поведение говорило, что она старше меня лет на двадцать, хотя была моложе на пятнадцать. Она принадлежала к тем женщинам, которые просто обречены быть маменьками, только того и ждут, когда им удастся захомутать объект, который они начнут с особым тщанием воспитывать и наставлять на истинный путь. Аида в первый же день, попав ко мне на кровать, высказала сто один совет насчет того, как следует делать ремонт, куда переставить мебель и таким образом превратить холостяцкую квартиру в уютное семейное гнездышко. Секс с ней ничем особенным не запомнился, зато осталось в памяти нечто иное: Аида была ранней птичкой, и, пока я еще спал без задних ног, она доставала из холодильника сырое яйцо, выходила с ним на балкон, проделывала аккуратную дырочку в скорлупе, выпивала одним духом, а после этого распевала на всю округу арию Аиды. Тихие предрассветные Винники, погрязшие в сумраке и дремоте, сразу просыпались: отовсюду доносился бешеный собачий лай, хлопали окна и двери, слышались удивленные голоса и ругань, крякали утки, кудахтали куры, включалась сигнализация… а над всем этим выше крыш и деревьев плыла прощальная песня Аиды. Я с ужасом представил себе эти ежедневные утренние распевы и, растворив Аиду в чашке с кофе, выпил ее за завтраком.
3
Валерия оказалась буддисткой и по вечерам как заведенная бубнила мантры. Каждая мантра была выписана на отдельной полоске бумаги, полоски висели по всей квартире, куда бы ты ни пошел. Те проклятые мантры висели даже в ванной над унитазом. С абажура свисала целая гирлянда мантр, и, когда мы занимались любовью, она произносила их вперемежку со стонами, аханьем и сопением. Ела она только растительную пищу но и ту предварительно скрупулезно делила на инь и ян. Съедобной была только ян: перетертая морковь, картошка «в мундирах», салат из одуванчика и лебеды, суп из крапивы, размоченная сырая гречиха без соли и другие столь же изысканные деликатесы, включая и сперму. Фактически она была весьма выгодной женой. Прокормить ее было так же просто, как канарейку. Мое подворье для нее оказалось настоящим раем: крапива, лебеда и одуванчики родили у меня, как у знатной звеньевой. С такими угодьями я играючи мог бы содержать еще полтора десятка подобных буддисток, правда, при условии, что они не будут засирать мою хату мантрами.
Сокровенной мечтой Валерии было побывать в Тибете или в Непале. Она бредила теми краями и читала одни только буддистские книги. Отдавалась она мне с такой страстью, словно делала это последний раз в нынешней инкарнации, ибо в последующей жизни она, очевидно, должна была стать каким-нибудь растением, желательно полезным.
После занятий любовью она замирала в позе лотоса на два-три часа, и это мне очень нравилось, ведь намного хуже, если любовница после этого начинает расспрашивать о моих творческих планах или рассказывает о своем безмятежном детстве. Из благодарности я выслушивал и не то, однако меня не оставляло сомнение: а стоило ли вообще платить столь ужасную цену за несколько минут удовольствия? После медитации Валерия сообщала мне, что ее карма полностью обновлена, и если я захочу, то могу поиметь ее еще раз. Она была уверена, что мы встретились с ней только потому, что так пожелал Кришна, и все подсовывала мне какие-то цветные Брахмапутры, но я все же оказался слишком стойким католиком. Однажды завалилась ко мне с такой же прибацанной, как и она, подругой, представившейся Нанмуллей, этим имечком она нареклась в честь древнеиндийской поэтессы, впрочем, меня она сразу же великодушно утешила, разрешив величать ее просто Наной. Валерия, знавшая ее под другим именем, тоже загорелась идеей сменить себе имя и, раскопав среди моих книг антологию древней индийской лирики, известила:
– Юрасик, отныне можешь называть меня Лала. Это сокращенно, а полностью – Лала-дэд. А тебе я, чтобы не выделялся, выбрала имя Джаганатха. Сокращенно Джага.
Я не перечил, и затем они вдвоем принялись прованивать мою хату «травой», ведя при этом глубокомысленные диалоги:
– Я достигла, – говорила Лала.
– Оооой, прааааавда? Ты достигла? – радовалась, как дурак пирогу, Нана.
– Да, теперь я знаю, что это такое.
– То, что мы называем ЧЕМ-ТО, ДАРУЮЩИМ УПОКОЕНИЕ?
– Именно. Я его достигла. Я почувствовала, что тело мое само по себе, а я сама по себе, тело мое – это словно рубашка, которую я на какое-то время надела на себя, сама же я – только гость в собственной голове… я, будто птичка, впорхнула в клетку тела и живу здесь… Я полностью оторвалась…
– О, Кришна! Тебе удалось то, к чему я так стремилась.
И они бросились друг дружке в объятия.
– Лаааалла!
– Наааана!
– Ты не представляешь, как я за тебя рада!
– Правда?
– Мне еще никогда это не удавалось. Ты возвысилась куда больше, чем я. Ты на истинном пути.
– А главное – моя карма… она теперь совсем другая… Я это поняла…
– Клаааасс! Я горжусь тобой!
– Я обрела царство света. Мои чакры чисты и ясны, я вся, как луч солнца.
– Лаааааллаааа! Ты проооосто чудо.
Я сидел и слушал весь этот бред, потягивая вино, от «травки» я отказался наотрез, хотя сами они от вина не отказались и продолжали молоть всякий вздор.
– А знаешь, Рона и Ден уехали в Индию.
– Ой, праааавда? И каким образом?
– Автостопом.
– Ну и на фига вам та Индия, – сказал я.
– Джага, ты не шаришь – это ашрам. Мы хотим в ашрам.
– А это что за экзот?
– Это место для медитации и духовного обновления. А еще мы хотим узнать, что такое тантрический секс. Понимаешь?
– Нет.
– Ну, это секс без проникновения, – сказала Нана.
– Какой ужас! Совсем без… проникновения?
– Ну да! Оно, впрочем, и лишнее, ведь оргазм получаешь от чего-то другого.
– Например?
– Например, от медитации через секс, – вставила Лала.
– А-а, это когда я, чтобы не кончить раньше тебя, думаю про неоплаченный газ.
– Вот если бы ты, Джага, задумывался о Кришне или о чем-то другом возвышенном, то это было бы в самый раз.
– И ради этого надо ехать в Индию?
– Конечно. Без УЧИТЕЛЯ нельзя. Он поможет отыскать ТВОЙ центр, – объяснила Нана.
– Какой центр?
– Центральную точку твоего тела, понимаешь?
– А сама ты ее не можешь найти?
– Могу, но не точно. Ее необходимо искать вместе с УЧИТЕЛЕМ.
– И где же, ты думаешь, она расположена?
Нана задрала майку, опустила молнию на шортах, оттянула краешек трусиков и ткнула пальцем прямо в курчавые чащи джунглей Раджастхана.
– О-о, – успокоился я, – собственно, я так себе этот центр и представлял, даже без учителя, но на кой ляд ради этого переться в Индию?
Нана подтянула трусики, дернула вверх молнию на шортах, поправила майку и сказала:
– Это ведь приблизительно. Точка может располагаться на миллиметр левее или правей. Без УЧИТЕЛЯ ее не обнаружить.
– И что будет, когда ты узнаешь расположение своего центра с точностью до микрона?
Знаете, что она ответила?
– Я буду его знать.
– И все?
– Нет. Я буду медитировать на него. Думать о нем, прикасаться к нему.
– Ты о клиторе?
– Возможно.
– Джага, ты пойми одно, – вмешалась Лала, – центр – это тайна. Никто никому не имеет права раскрыть эту тайну. Иначе хана. Иначе кто-нибудь сможет медитировать на твой центр и узнает о тебе та-а-а-кое, что тебе и не снилось.
– Какой ужас, Нана, а можно я прикоснусь к твоему приблизительному центру?
Нана задрала майку, опустила молнию на шортах и оттянула краешек трусиков. Я погладил сначала штат Раджастхан, пощекотал Уттар-Прадеш, проскользнул ниже к Магараштри и, преодолев Годавари, очутился посередке сепаратистского Тамилнада, где указательный палец угодил на влажное побережье Тируванантапурама, а мизинец – в горячую точку Шри-Ланки. Нана закрыла глаза и стала медитировать.
– Ой, и я хочу, – сказала Лала и пододвинулась прямо под мою левую руку, ее центр – о чудо! – располагался так же, как и у Наны, она тоже закрыла глаза и погрузилась в медитацию.
Минут десять я горбатился исключительно на их центры, тогда как мой был предоставлен самому себе, однако вскоре их руки добрались и до него и, выпустив на свободу, начали сеанс тантрагаршапараштри. Вот это, наверное, и есть ашрам, подумал я. А когда Нана наклонилась и начала отыскивать центральную точку губами, а Лала перехватывать в свои, я смекнул, что пришла пора достичь ТОГО, ЧТО ДАЕТ УПОКОЕНИЕ, и радостно выплеснул все свои чакры.
На прощание Нана выдала мне комплимент:
– Мужики, как унитазы: либо заняты, либо засраны. Ты, к сожалению, занят.
Лала в поисках духовного ашрама перешла от «травки» к уколам и умерла от передозировки наркотиков, а меня с тех пор не оставляет чувство, что в каждой выдернутой из грядки морковке, в каждой головке салата может затаиться ее реинкарнированная душа, как бы то ни было, крапиву я на всякий случай больше не употребляю.
4
«Жалкий дохляк-богомол ждет не дождется подходящего момента, зыркая на свою могучую подругу, вертя головой и выпячивая грудь. Его маленькая востренькая мордочка излучает страсть. В таком состоянии он долго и неподвижно созерцает свою возлюбленную, но она не трогается с места, притворяясь равнодушной. А тем временем ухажер наконец, уловив какой-то знак согласия, приближается к самке и раскрывает крылышки, вздрагивающие, будто в конвульсиях: так богомол признается в любви. Наконец его объятия приняты, и если красавица возлюбила беднягу как мужа, то еще больше она полюбила его как весьма вкуснуюдичь. В тот же день или в следующий самка, схватив богомола, парализует его поцелуем в затылок и постепенно маленькими кусочками поглощает всего, оставляя на память одни крылышки.
Мне захотелось узнать, как она примет другого самца. Результат оказался тот же. В течение двух недель одна и та же самка уничтожила семерых самцов. Со всеми она заключала брак и всех заставила поплатиться за это жизнью.
А как-то я увидел такое зрелище. Самец, вцепившись за спину самки, страстно сжимает ее в объятиях, хотя у него уже нет головы, шеи и почти всей передней части туловища. Самка, повернув голову через плечо, продолжает спокойно лакомиться своим мужем, в то время как мужественные останки его тела продолжают исполнять свое предназначение. Говорят: любовь сильнее смерти. Это высказывание никогда не находило более яркого подтверждения. Съесть возлюбленного после исполнения брачного долга, когда он уже больше не нужен, это еще как-то можно понять, но пожирать мужа во время брачных объятий – это превосходит самые жестокие фантазии. Я видел это собственными глазами и не могу прийти в себя от удивления».
$Жан-Анри Фабр (1823 – 1915),
«Жизнь насекомых»
5
Мне казалось, что я, подобно несчастному богомолу, становлюсь жертвой самок, с той только разницей, что ни одна из них не съедает меня целиком, а только мелкими аккуратными кусочками. И все же с каждой покоренной женщиной я неуклонно умаляюсь, какая-то невидимая, но ощутимая для меня часть моего Я исчезает, я становлюсь все более незащищенным, исподволь превращаясь в того самого богомола, который продолжает механическую игру, потеряв голову. Что произойдет, когда и я потеряю голову? Немного осталось. Мои дни проходили в загулах и вечеринках, в сплошном ничегонеделании, а попытки засесть за роман заканчивались все тем же – я срывался и мчал в город в поисках новых приключений. Огромным усилием воли мне удалось лишь ограничить круг своих избранниц, сведя его к трем, и блуждать уже только среди этих трех сосен, а не теряться в чаще, украдкой перебегая от дерева к дереву, стараясь сохранить дистанцию и не сойти с ума. Лида, Леся и Вера заключали в себе все, о чем можно только мечтать, если бы их лучшие черты были воплощены в одном лице, однако, к величайшему сожалению, их все же было три, и это снова делало недостижимой мою мечту устроить свой быт. Значит, на горизонте должна была появиться четвертая, та единственная, которая и разрешила бы все мои сомнения. Она и не заставила себя долго ждать, но лишь для того, чтобы все еще больше запутать и усложнить.
Лида. Леся. Вера.
Глава четвертая
1
В «Вавилоне», как всегда, висел клочьями сизый табачный дым, еле заметно покачиваясь в одном ритме с приглушенным гулом разговоров и ненавязчивой музыкой. Я сидел за столиком в обществе бутылки шампанского. Она у меня была вторая, я у нее – первый. Люблю быть первым. В голове уже растекалась сладкая благодать, все, чего я желал в этот вечер, – напиться и свалить домой. Ничто не могло мне в этом помешать. Правда, оставалась еще вероятность, что в «Вавилон» нагрянет Олюсь, но, насколько мне известно, он в это время гнал на Москву очередную угнанную для продажи машину. Сам он не воровал, но занимался перегоном, находясь в доле с бригадой Мухи. Одной-двух машин вполне хватало, чтобы жить затем целый месяц безбедно.
Домой идти не хотелось. В конце концов, там меня ожидало бы то же самое – попивать вино и вести с собой душеспасительные беседы, чтобы затем предпринять очередную попытку написать шедевр с бодуна. Вы никогда не пробовали сочинять под газом или с похмелья? Нет? Так и не пытайтесь. Получится сплошная фигня. Хотя в момент вдохновенного бумагомарательства вам непременно покажется, что из-под вашего пера рождается подлинный шедевр, и последнее, что забрезжит в вашем потускневшем сознании перед отходом ко сну: ба, а все же я талант! Утром ваш диагноз изменится, даже не сомневайтесь, а рожденный в винном чаду шедевр упокоится в мусорной корзине. Куда балдежнее коротать время в баре. Забиваешься в отдаленный уголок и оттуда, из уютного полумрака, опершись плечом о стену, закинув ногу за ногу, обозреваешь зал, скользя взглядом от столика к столику, или предаешься тупому созерцанию какого-то пятнышка на столе, почему-то напоминающего тебе сову, и размышляешь обо всем сразу и ни о чем конкретно. А можешь отслеживать то и дело промелькивающее перед тобой девичье прекрасножопие – отличное занятие для скучающих мужчин.
Сидеть под кайфом и ничего не делать – это действительно приятно, и желательно при этом ни о чем не думать, выбросить прочь все мысли, разогнать, словно надоедливых мух, все слова, мелькающие в голове, остаться с сознанием младенца: чистым и прозрачным, не оформленным в слова, а лишь облаченным в расплывающиеся звуки, краски и запахи, ощущая наслаждение от этого дурманящего сумеречного состояния. Я вспомнил, что уже переживал такой период, когда целые вечера просиживал в баре. Это было в 1979 году. Я тогда нигде не работал, но регулярно по воскресеньям навещал книжный базар, где проворачивал кое-какие сделки: покупал, продавал, перепродавал, и вырученных денег вполне хватало на то, чтобы скоротать вечерок в баре за графинчиком сухого вина. Иногда, захмелев, я шарил глазами по залу, брал на мушку приглянувшуюся телку и приглашал на танец, вечер заканчивался у меня дома. В этот раз я никого снимать не собирался, просто не было желания идти домой, где меня никто не ждет, где глухо и пусто, мрак и печаль. Время от времени кто-то со мной здоровался, бросал несколько слов или спрашивал, не жду ли кого, я утвердительно кивал, зная, что в ином случае обязательно найдется желающий подсесть ко мне, отвлечь своими беседами, а я часто люблю за вином помолчать.
Но когда появилась Марта, я сам ее подозвал и предложил со мной выпить. Мне нравится выпивать с девушками, с ними я делаю это гораздо охотнее, чем с приятелями. Может, потому, что отдаю предпочтение вину. Марта – прекрасная собеседница, мужчины ее не интересуют, с какого-то времени она разочаровалась в них настолько, что решила посвятить себя науке. Если вы уже встречали девушек, отдавших предпочтение науке, то можете легко составить представление о Марте. С кем еще, как не с ней, я мог поделиться последней новостью? Марта сразу же вспыхнула живым интересом.
– Она так и сказала: «Так будет лучше»? Очевидно, имела в виду себя. Но ты не должен терзаться и выискивать в себе причины того, что случилось. Ведь они не в тебе, а в ней, просто она не хочет это признать, намного легче обвинить кого-то другого. В этом ее самозащита. Подумай хорошенько. Наверняка у нее кто-то есть, я даже не сомневаюсь, ведь трудно представить женщину, которая, оказавшись в чужой стране, вдруг решается стать свободной. А значит, все, в чем она тебя обвиняла по телефону, адресовано вовсе не тебе, а тому, кто стоял с нею рядом. И это нормально. Поэтому ты не должен все ее слова воспринимать всерьез. Вместо этого я бы тебе посоветовала, знаешь что?
Она закурила сигарету, с наслаждением втянула дым и, выпустив длинную сизую струйку, взглянула на меня с ободряющей улыбкой:
– Клин клином вышибать. Вокруг столько классных девок, и все они готовы пережить с тобой увлекательный любовный роман.
– Ну, так уж и все.
– Какая разница? Я же образно. Ну, не все, половина, каждая четвертая… Но ведь это все равно с избытком. Ты только оглянись вокруг. А про Христю не думай. Поверь, там не о чем жалеть. Вспомни, сколько в ней дрянного, все ее отрицательные черты. Вспомнил?
– Так вот сразу? Это непросто.
– У нее так много недостатков?
– Не в том дело, они не настолько существенны, чтобы придавать им такой, решающий вес.
– Но ведь они имеются.
– Ну, имеются.
– Тогда давай по порядку. Что тебя больше всего доставало?
– Ты действительно хочешь это услышать?
– Считай, что я твой психотерапевт. Лучшего все равно не найдешь. А я – могила. Ты же знаешь?
– Знаю.
Марта и вправду умела хранить тайны и этим отличалась от других женщин, посвятивших себя науке.
– Тогда начинай.
Я отхлебнул вина и задумался, о чем прежде всего я должен бы ей поведать, но слова вдруг потекли из меня сами по себе, я уже не управлял ими и не фильтровал.
– Она была ужасно ревнива, хотя повода я не давал, однако ей казалось, что я только то и делаю, что по чужим бабам хожу, и не на пироги. Это и впрямь доставало. У них дома клозет не закрывался, и я несколько раз, открывая дверь, попадал на ее маму, невозмутимо восседавшую на унитазе. Я поинтересовался у Христи, почему на двери нет даже примитивного крючка, и услышал, что там должна быть установлена фирменная щеколда, которая одновременно и запирает дверь. И кто ее должен установить? Отец. А почему не устанавливает? Потому что у него не хватает для этого времени. А щеколда уже есть? Есть. Так надо бы вызвать мастера. Не приведи Господь! – ужаснулась она. Отец выгонит его в шею. Он хочет сам установить эту щеколду. Но ведь у него нет для этого времени, правда? Правда. Так почему бы все-таки не пригласить мастера? Потому что у отца имеется свой собственный проект установки щеколды. Но ведь у него нет времени. Ну и что же? А то, что я уже несколько раз заставал твою маманю на унитазе с раскоряченными ногами, и поверь мне, это не лучшее воспоминание о посещении клозета. И знаешь, что я услышал в ответ? Христя обвинила меня в том, что я умышленно подстерегаю ее маму в клозете, а та намеренно там сидит, поджидая меня, и что вообще она подозревает меня в том, что я заигрываю с ее маманей.
– Боже, какая она шиза! – покачала головой Марта. – И чем это закончилось?
– Я взял и привинтил на туалетной двери крючок. Это вызвало немалый шок у ее папаши, он не разговаривал со мной целую неделю. Однако и крючок не снял. Представь себе, этот крючок продолжает висеть на той двери до сих пор, хотя прошло уже шесть лет, он до сих пор там висит, а новехонькая щеколда с хитроумным замком продолжает лежать нетронутой в фирменной упаковке.
– А маме известно о Христиных фантазиях?
– Наслышана. Но, знаешь, она уже привыкла к этому, ведь Христя была переполнена фантазиями. То есть мама отнеслась к этому вымыслу как к детским бредням. Перед тем Христя уже успела обвинить своего отца, что у него есть любовница, и рассказать, как она их выслеживала. Но знаешь, ведь жизнь не состоит из подобных глупостей, я не очень-то все это брал себе в голову, и хотя оно меня донимало, готов был с этим мириться. У меня не было основания для развода. А теперь оказалось, что именно благодаря этим фантазиям основание нашлось. Она оставила меня потому, что я гулял. Но ведь человеку, обвиняющему тебя в том, что ты соблазнял ее маму, невозможно доказать, что ты не перетрахал всех ее подруг и всех знакомых.
– В этом есть своя закономерность. Ваш брак все равно был обречен. Ведь рано или поздно она довела бы тебя до ручки. А по мере того, как росла твоя писательская известность, возрастала бы и ее ревность. Так что благодари судьбу, что она улетела в Америку.
– Пробую благодарить, да не получается.
– Это просто привычка, понимаешь? Привычка. Ты привык жить с ней, и тут вдруг все обрывается. Становится неуютно. Но это пройдет. Думаешь, когда я решила, что все – хватит с меня любовных романов, жаль терять время на них, мне было легко? Я просто решила для себя раз и навсегда: у меня есть наука. И это главное. У тебя есть литература. Что может быть более важным? Множество писателей обходились без женщин или, по крайней мере, не привязывали себя к ним. Шекспир, Ницше, Кэрролл, Борхес… Да таких самостийных и впрямь бесчисленное множество. Ты же знаешь. Налей мне.
– Но я так не могу. Чтобы совсем без…
– Если ты имеешь в виду секс, то фактически… – она выпила, – собственно говоря, я могу пойти ради тебя на определенные жертвы. Так сказать на переходный период. Я себя на этот счет уже проверила – никакой привязанности. Понимаешь, о чем я? Это для меня как почистить зубы. Иногда я себе это позволяю. Исключительно ради гормонального обмена, ну, чтобы прыщики не высыпали и всякое такое. Легкий секс перед сном и никаких чувств.
Марта была симпатичной девушкой, хотя и не в моем вкусе. Миниатюрная и хрупкая, в постели она могла оказаться заправской наездницей. Но что значит годами смотреть на женщину исключительно как на приятельницу, с которой можно выдуть море вина: в один прекрасный момент, когда ты возжелаешь ее трахнуть, у тебя не встанет. Я не сомневался, что меня ожидал бы именно такой конфуз, и не стал развивать тему сексуально-оздоровительных отношений.
Марта уделила мне час своего драгоценного времени, оторвав его от научных занятий, и ушла домой, а я остался один на один с шампанским и дурацкими мыслями, которые становились все расхлябаннее, пока не разбежались, как тараканы, и я почти совсем вырубился.
– Можно возле вас? – прозвучал чарующий голос где-то в небесах, в безграничной синеве, в магнитной печали звезд и планет, а затем покатился, покатился и замер у меня над головой.
Я механически кивнул. Напротив меня за столик села златокудрая девушка. Она была симпатична. Более того – она была классной. Эти полные страстные губы! А грудь призывно выпирала из-под блузки, заставляя мои волосатые руки инстинктивно и радостно почесываться. Все достоинства новоявленной я оценил в считаные секунды, достаточные для того, чтобы отвести деланно равнодушный взгляд и снова превратиться в китайского мудреца. И все же вернуться в прежнее состояние ничегонедуманья не удавалось, появление девушки выбило меня из колеи, она неудержимо притягивала к себе мои взгляды и внимание.
Похоже, она договорилась с кем-то о встрече, и хотя я вовсе не был настроен на трали-вали с незнакомкой, собираясь честно выцедить оставшееся в бутылке вино и свалить домой, однако же и сидеть вот так без слов, ощупывая взглядом мелькающие задницы, или медитировать на пятно с очертаниями совы было, право, неловко, ведь таким образом я рисковал и сам превратиться в сову, по крайней мере, в глазах окружающих.
Подплыл официант. Она заказала кофе, а я попросил бокал. Официант понимающе подмигнул мне. Девушка не обратила на мои слова никакого внимания, словно бы и не услышала их. Уж не подумала ли она, что я вознамерился пить шампанское из двух бокалов по очереди?
Дождавшись официанта с бокалом и кофе, я спросил, смогу ли я угостить ее шампанским. Она взмахнула длинными ресницами, словно бабочка крыльями, и взгляд ее взлетел прямо на кончик моего носа. Нос мой не был шедевром архитектуры еще с того далекого дня, как его перебили, и что она там разглядывала, осталось для меня загадкой. Ее уста-пионы приоткрылись ровно настолько, чтобы в них могла закатиться горошинка, и я услышал ответ: «Можете», после чего они раскрылись ровно настолько, чтобы в них вместилась вишня. И это был явный прогресс. Она смотрела, как я наливал шампанское, а уголки ее губ озарялись улыбкой. Я поднял бокал и изрек привычную банальность:
– Выпьем за знакомство?
– А ведь мы с вами знакомы, пан Юрий. Правда, в одностороннем порядке, – улыбнулась она. – Меня зовут Ульяна.
Она сделала аккуратный глоточек и поставила бокал на стол. Ну да, этого следовало ожидать, ведь в «Вавилон» приходила специфическая публика, здесь преимущественно все всех знали.
– Ах, так, – кивнул я, – значит, вы читаете «Поступ»?
– Конечно. Это моя любимая газета. Но я также читала «Девы ночи». Вы действительно пережили все то, что там описано?
После бутылки шампанского я всегда готов рассказывать обо всем, что пережил. Я распустил все паруса и поплыл по своему привычному фарватеру. Ульяна оказалась на удивление говорливой, и со стороны общение с ней выглядело так, словно мы знакомы уже бог знает сколько времени. Она услышала от меня все, что ее интересовало о редакции «Доступа», о каждом из журналистов в частности и о моих творческих планах лет на сорок вперед. О судьбах Украины мы речь не вели. Когда мы допили бутылку, в ее голосе задрожала именно та легкость, которой мы всегда добиваемся, спаивая девушку. Однако меня не оставляло тягостное подозрение, что она кого-то ждет. Ну, разве может такая красотка быть одна?
Когда он появился, я сплетал очередную паучью сеть и уже видел, ясно видел, как Ульяна, расправив ангельские крылышки, летит мне навстречу. И вдруг такой облом. Он плюхнулся в кресло возле нее, небрежно развернувшись ко мне боком, и сказал: «Привет!» Он сказал «привет» не мне, а только ей и одновременно чмокнул ее в разрумянившуюся щечку. Это был парень студенческого возраста, возможно, ее однокурсник, высокий, неуклюжий, с прыщиками-хотеньчиками на морденции и нахальным выражением там же. Если вы видели когда-нибудь карту Полинезии, усеянную малюсенькими коралловыми островками красного цвета, то будете иметь полное впечатление о том, как выглядела его физиономия. Излишне говорить, что выражение его лица мне не понравилось. Манеры тоже. Он делал вид, будто и не заметил, что его девушка минутой раньше разговаривала со мной, меня он подчеркнуто игнорировал. Ну и хрен с ним.
– Что ты пьешь? – поинтересовался Прыщик, словно на столе кроме пустой бутылки из-под шампанского стояла еще целая батарея напитков, и безо всяких церемоний отхлебнул из ее бокала. – Классно, – сказал он, облизываясь.
Он все еще продолжал сидеть боком ко мне, пожирая глазами свою кралю и совершенно не обращая внимания на того, кто сидел напротив.
– Я пью шампанское, это меня пан Юрко угостил, – ответила Ульяна, после чего весь тот архипелаг прыщиков-хотеньчиков развернулся по экватору на 45 градусов. Лицо его просветлело, когда он услышал, кто я, он даже изобразил что-то наподобие улыбки и протянул лапу. Моя ладонь утонула в ней, как нога Золушки в солдатском кирзаче.
– Бодя, – сказал Бодя.
– Мы вместе учимся, – добавила Ульяна, словно бы намекая мне, что я и дальше могу плести свои сети, ведь однокурсник – это так тривиально, все в свое время начинают романы с однокурсниками. – Пан Юрко рассказал мне столько интересного! Он тоже ваш фан, – кивнула на Бодю, – читает все, что выходит из-под вашего пера. У них в комнате даже жребий бросают: кто первым будет читать вашу книгу, а затем дискутируют. Раз даже до драки дошло.
Бодя мотал головой и жадно посматривал на шампанское. Я подумал: пусть попросит. Он столько времени меня не замечал, так почему я должен обращать внимание на его жажду? И он попросил. Но не меня, а ее.
– Можно, я еще надопью? – спросил. – Что-то в горле пересохло.
Я жестами объяснил бармену, что надо, и спустя минуту официант принес еще одну бутылку и бокал.
– О-о! – обрадовалась Ульяна. – Вы хотите нас споить?
– Упаси Бог, просто у меня такое настроение.
– Какое?
– Такое.
– Не может быть. У вас горе?
– Нет, но есть желание выпить.
Я наполнил бокалы.
– За что выпьем? – поинтересовался Бодя.
– За знакомство, – сказал я.
– Ну да, за знакомство, – подтвердила Ульяна, и мы чокнулись.
Бодя на глазах расцветал, после первого бокала его физия порозовела и коралловые островки уже не так бросались в глаза, однако продолжали неопровержимо утверждать: она ему не дает. В душе я рассмеялся. Ведь я и сам полгода постился. Полгода? Какой ужас! Шесть месяцев без оргазма!
– А все-таки какой у вас повод, чтобы выпить? – докапывалась Ульяна.
– Повод уважительный: сегодня я получил свидетельство о разводе.
– О-о, – удивилась она, – это и впрямь знаменательное событие. Но не знаю, право, то ли поздравлять вас, то ли сочувствовать.
– Скорее первое.
– Так вы недолго жили вместе?
– Ну, ежели по мне, то долго – семь лет.
– Она была стерва? – понимающе спросил Бодя.
– Нет, – отрезал я. – Она была образцовой. Однако не для меня.
– И что же она делает в эти минуты? – спросила Ульяна. – Тоже пьет шампанское?
– Нет. Она никогда не пьет шампанское среди дня. Она в Америке. А там сейчас обеденное время.
– И давно она в Америке?
– Полгода.
– А почему вы не уехали к ней?
– Мне и здесь хорошо.
– Здравая мысль, – бросил Бодя, – никому мы там на фиг не нужны.
Я подливал ему и подливал, а он старательно выпивал до дна и на глазах пьянел. Ульяна пыталась его сдержать, но все было напрасно. Наконец она перестала обращать на него внимание и сосредоточилась на мне. Такое впечатление, что она за один вечер решила выведать обо мне все. Наши колени под столом соприкасались, и я подумал, что самое время сжать ее колени своими. Что и сделал, чокаясь с ней, а она улыбнулась и только зыркнула искоса на Бодю, который уже пришел в нужное для меня состояние – он был просто никакой. Когда он пошатываясь вышел в туалет, я предложил:
– Давай выпьем на брудершафт.
Эта идея ей понравилась, она пододвинулась ко мне, мы сплели руки и осушили бокалы, а затем я наклонился к ней и припал к ее губам. Чувствовал нежный трепет язычка, пьяную вишню налитых соком губ, и голова моя пошла кругом. Поцелуй продолжался, наверное, с полминуты, и этого было достаточно, чтобы между нами пробежал незримый разряд молнии, а в глазах появилось сладкое предчувствие будущей страсти. Будто устыдившись своей мимолетной слабости, Ульяна после поцелуя кокетливо опустила взгляд на поверхность стола и начала водить по нему пальчиком. Подошел Бодя и рухнул на кресло, словно мешок с картошкой.
– Так шо? Пить будем?
– Думаю, с тебя хватит, – сказала Ульяна в стол.
– А я думаю, что нет, – возразил Бодя и потянулся за бутылкой.
– Может, не стоит хамить? – перехватила его руку Ульяна. – Это не твоя бутылка. Ты хотя бы разрешения спросил.
– А давайте все вместе и выпьем, – предложил я добродушно и разлил вино по бокалам.
– Бодик пить не будет, – твердо отчеканила девушка.
– А че это я не буду? – возмутился он.
– Потому что я так сказала.
– А че это ты мной командуешь?
Его язык заплетался, а весь он надулся и налился свекольными соками.
– Попробуй только выпить, – сказала она.
– И попробую.
Я не вмешивался. И без моего участия все шло к естественной развязке. Он выпил и жестом победителя водрузил пустой бокал на стол.
– Ты выпил, – констатировала ледяным тоном Ульяна, не сводя глаз с его бокала.
– Выпил. И еще выпью.
– Нет. Ты пойдешь сейчас прочь отсюда.
– Я? Пойду? Я? А вы здесь останетесь, не так ли? А-а, усек, он уже тебя охмурил?
– Боже, если бы ты знал, какой ты сейчас отвратный! – процедила сквозь зубы.
– Я отвратный? А он какой? – показал на меня пальцем.
Я молчал и допивал свое шампанское. Все шло как надо. Костер разгорался, и для поддержания огня нужды в моих дровах не было.
– Так, – сказала она, – встал и ушел. Баста.
– Ниче себе! Ты шо, оборзела? Ты с ним хочешь остаться?
– Не твое дело.
– Ах, не мое? Ну, блин… – тут он засопел, пронзив меня бычьим взглядом, и поднялся с кресла, а я подумал, что вот и наступил тот незабываемый миг, когда я могу получить от Боди в нос. Фактически такая возможность меня не пугала. В моей практике уже был случай, когда я получил по морде от конкурента, после чего телка, из-за которой мы дрались, как псы за кость, окончательно выбрала меня. Главное сжать зубы, чтобы не вылетели, а так оно совсем даже и не страшно, к тому же здесь в тесноте он не сможет и размахнуться как следует. Главное: ни шагу назад. И не пытаться уклоняться от удара, не прятаться, не заслоняться руками. Нужно принять зуботычину как должное, один-единственный удар, другого не будет, и когда кровь выступит в уголках губ, не облизываться, а ждать, когда дама броситься к тебе с платочком. И при этом ничем не выдать, что ты ожидал этого удара, он должен выглядеть неожиданным, а потому я отвел свой взгляд от Боди и отрешенно посмотрел куда-то в сторону. Для находящегося в такой полуромантической позе неожиданный удар – это все равно что коварный выстрел в спину. И нет такой дамы, которая бы его не осудила.
И в этот миг я увидел Олька. Он шел к нам, на ходу оценивая ситуацию. Судя по выражению его лица, он оценил ее безошибочно, и спустя три секунды его лапа упала на Бодино плечо, а сквозь сжатые зубы повелительно прозвучало:
– Исчезни! Сию же минуту.
– Что? – набычился Бодя и сделал шаг навстречу Ольку.
– О-о-ой! – простонала Ульяна.
– Я сказал: исчезни! Живо! – и левая ручища Олька, схватив парня за шею, сжала, словно клещами, с такой силой, что у Боди слезы выступили на глазах, а правая заломила руку Боди за спину и толкнула его к выходу.
Ульяна взволнованно провожала их глазами и, похоже, колебалась, не выбежать ли и ей вслед за ними. Все присутствующие также наблюдали за этой сценой, а когда Олько с Бодей исчезли, их взгляды прикипели к нам.
– Не бойся, – успокоил я Ульяну, – с ним ничего не случится. На свежем воздухе протрезвеет.
– Он никогда еще таким не был. Какой ужас!
Вернулся Олюсь, сел возле нас, и мы наконец поздоровались.
– Это Олюсь, – сказал я. – Мой товарищ. А это Ульяна.
Олесь расплылся в улыбке:
– Ульяна, а есть ли у вас подружка, такая же симпатичная, как вы?
– И не одна.
– Познакомите?
– Разумеется. Правда, они все заняты.
– Это не проблема. Я вне конкуренции.
– Ха-ха! А не страдаете ли вы комплексом неполноценности?
– Нет, но заставляю страдать других. Что пьем? Шампанское? Нет, это не для меня.
Он подозвал официанта и заказал коньяк.
– Мы с Ульяной только что познакомились, – сказал я.
– Я так и понял. А что это за кент здесь хорохорился?
– Мой однокурсник, – разъяснила Ульяна. – Вообще-то он хороший парень, но вот сегодня… явно перебрал.
– Ну, ясно, почему бы на шару и не назюзиться. Такое с каждым может случиться. Удивляюсь я, что вы в нем нашли. По-моему, у него только одна извилина да и та, извините, на заднице. А не прихватить ли вам, Ульяночка, завтра свою подружку, и мы устроим славный пикник на природе.
– Хм… Предложение интересное.
– Значит, договорились, – констатировал Олько. – Завтра как раз суббота. Встречаемся в двенадцать. Заедем на рынок, закупим снедь и – вперед.
Ульяна отлучилась на минутку, и я спросил Олька:
– А ты почему не в Москве?
– Отпала необходимость. Хозяин согласился заплатить две штуки, и мы ему вернули пропажу. Я отхватил полштуки. Нормально?
– Наверное. А если бы он подстраховался эсбэушниками?
– С нами был мент. Впрочем, если бы я отогнал тот «фольксваген» в Москву, то один заработал бы две штуки.
– Но ведь есть риск.
– Риск есть всегда. Через неделю еду в Польшу на «опеле».
– Его уже угнали?
– Нет, еще только пасут. Перегонять буду в тот же день, когда уведут. Махнем вместе? Расслабишься. Гульнем в Кракове по полной программе.
– А обратно как?
– Обратно на «фольксвагене».
– И его тоже пока еще только пасут?
– Наверняка.
– А как же граница?
– Таможенники тоже на хлеб заработать хотят, – засмеялся Олько. – Давай соглашайся, девчонок с собой прихватим. По-моему, расслабуха тебе сейчас как никогда кстати, разве не так? – он хлопнул меня по спине.
– Выходит, что так. Ты и в самом деле хочешь девчонок взять?
– А что?
– Ульяну с подружкой?
– Относительно подружки пока не уверен, ведь я ее не видел.
– А гостевое приглашение?
– Не проблема. У меня куча бланков с печатями. Остается только фамилию вписать.
Вернулась Ульяна. Губы, с которых я слизал помаду, снова блестели кармином.
– Хотите сюрприз? Та подружка, которую я хотела пригласить на завтрашний пикник, здесь.
Олюсь сразу оживился и стал пялиться во все стороны:
– Где? Покажите.
– Я встретилась с ней возле зеркала. Сейчас она войдет. Правда, она не одна. С парнем.
Мы все уставились туда, откуда должна была явиться Ульянина подружка. Посреди зала несколько пар сонно топтались под итальянскую песенку. Между ними, повиливая бедрами, проплыла официантка с подносом, заполненным пустыми бокалами. Спустя минуту оттуда же прошмыгнула высокая блондинка в обтягивающих голубых джинсах и, осторожно обходя танцующих, посеменила вдоль столиков. Она двигалась с удивительной грациозностью, покачиваясь всем телом, и, глядя на нее, Олюсь даже вздрогнул от восторга и залихватски прищелкнул пальцами. Блондинка села напротив парня. На столе у них было две чашки кофе и две рюмки с ликером.
– И как же ее зовут? – спросил Олюсь.
– У нее два имени: Лидия-Христина.
Олюсь засмеялся:
– Кажется, у нашего Юрка на имя Христина аллергия.
– Нет, уже прошло, – сказал я.
– Ага, твою жену звали Христей? – кивнула головкой Ульяна.
– Даже если бы ее звали Ульяной, это ничего не значило бы. Все чувства во мне уже испарились. Я пуст, как бубен. А подружка твоя и впрямь хороша. У Олюся на этот счет – глаз-алмаз!
– Она мне понравилась, – сказал Олюсь, не сводя глаз с блондинки. – А кент при ней, что за птица?
– Жених, – сказала Ульяна. – Заканчивает медицинский.
– Заканчивает медицинский, а угощает каким-то дешевым ликером? Передайте ей мой совет: пусть не выходит за него.
– Сами передадите, когда я вас познакомлю.
– И когда же произойдет это знаменательное событие?
– Очевидно, завтра.
– А почему не сегодня? Я готов именно сегодня. А точнее – уже сейчас. Как же мне обратиться к ней? Лидия-Христина?
– Мы называем ее Лидой.
В этот момент зазвучала свежая мелодия. Тото Кутуньо. Олюсь решительным шагом направился к дальнему столику.
– Такое надо видеть, – сказал я и, ухватив Ульяну за руку, вывел ее на середину зала, откуда мы могли все видеть и слышать. А предстоящая сцена стоила того.
Олюсь: Разрешите вас пригласить?
Парень (не давая девушке и рта раскрыть): Нет, она занята.
Олюсь: Не говори «за здоровье», пока тебе не налили (девушка рассмеялась). Панно Лидуся, неужто вы мне откажете?
Лида: Откуда вы меня знаете?
Олюсь: Интересно? Сейчас я вам все расскажу. Так потанцуем?
И он решительно и в то же время очень элегантно вывел ее из-за стола, совершенно не обращая внимания на возмущенные взгляды жениха. А когда они приблизились к нам и Лида увидела наши улыбающиеся лица, то сразу догадалась:
– А-а, Ульянка! Это ты подстроила?
– Боже упаси, я только сказала, как тебя зовут. Но ведь это не государственная тайна?
Ульяна прижалась ко мне, и мы поплыли в медленном ритме, ее руки обвили мне шею, а головка прижалась к плечу. Я ощущал ее тело, упругое и крепко сбитое, ни грамма лишнего. Губами прикоснулся к ее ушку и почувствовал, как она прижимается еще сильнее. На мгновение я задумался, надо ли мне так плотно прижиматься к ней, ведь мой торчилло всегда начеку, и вот он уже рвется в атаку, распирая мне джинсы и целясь ей как раз в низ животика. Она почувствовала его и стала слегка притираться, виляя бедрами. О блин! Сейчас кончу! Но музыка закончилась раньше. Мы вернулись к столику, заведенные и пылающие от возбуждения. Другие пары также разошлись, посредине оставалась лишь одна: Олюсь и Лида. Они застыли в позе последнего па. Было видно, что Олюсь в чем-то убеждал девушку, она колебалась и как-то искоса, почти украдкой бросала искрометные взгляды в сторону своего парня. Тот не спускал с них глаз. И вдруг: о чудо! – Олюсь повел девушку прямо к нашему столу.
– Фантастика! – не удержалась Ульяна.
– Олюсь – мастер своего дела. Он такой, что и камень уговорит.
– Бедный юноша, – кивнула Ульяна в сторону Лидиного жениха.
– Ну, Юрко, наливай! – сказал Олюсь, усаживая девушку рядом и придвигая свое кресло поближе к ней.
– Я только на минутку, – предупредила Лида.
– Мы уже договорились на завтра, – сообщил Олюсь.
– Ли-и-и-и-идка! – обрадовалась Ульяна. – Познакомься, это Юрко.
– Я уже догадалась. Вы меня, конечно же, не помните?
– А должен?
– Вовсе нет. Я брала у вас автограф. А в знак благодарности подарила розу. Вы тогда прикололи ее к своей ветровке.
– Это было на презентации «Доступа» в филармонии?
– Ага! – обрадовалась она.
– Так вот оно что, а я думаю, где же вас видел!
Еще бы такую кралю забыть! Я долго ее вспоминал. Но в тот вечер почему-то не удосужился ответить ей комплиментом-приглашением, вроде этого: «За автограф – кофе. Когда встретимся?»
Мы чокнулись, нас пронизывал все тот же испепеляющий взор покинутого парня. Он нервно подергался на стульчике, выпил вначале свой ликер, а затем опрокинул и полную рюмку своей девушки. Закурил. Кажется, только я один и следил за ним вполглаза.
– Девушки, а хотите узнать, куда мы поедем в ближайший уик-энд? – спросил Олюсь.
– Ну-ка, ну-ка, интересно.
– В Краков.
– Ух ты! – обрадовалась Ульяна. – Вот только заграничных паспортов у нас нет.
– Чепуха! В понедельник даете мне фотки и украинские паспорта, а в четверг получаете заграничные.
Парень очень плохо реагирует на громкий смех из-за нашего стола. Он тушит сигарету, резким движением останавливает официанта и сует ему деньги. Затем встает, какое-то мгновение колеблется, бросает в нашу сторону прощальный выстрел-взгляд и выходит. Я не спускаю с него глаз, однако молчу. Но, оказывается, Олюсь тоже заметил его уход и подмигивает мне, с самодовольной улыбкой.
– Наливай, Юрко! Лидусик, а знаете, наш Юрко тащится от имени Христя.
– Правда? Почему?
– Его бывшую жену звали Христей.
– И что с ней?
– Он утопил ее в ванне.
– Шутите?
– Какие могут быть шутки? Я ему помогал.
– А куда дели труп?
– Выбросили в Полтву[2]. В лунные ночи по берегам Полтвы бродит ее неприкаянный дух в белом платье и тяжко стонет.
– Какой ужас!
Мы хохочем, как сумасшедшие. Олько сыплет анекдотами, я наливаю, время пролетает так незаметно, что когда Лида наконец опомнилась и оглянулась, то за столиком, где она прежде сидела со своим парнем, пьянствовала компания из «Радио-Люкса».
– О боже! А куда делся мой кавалер? – удивилась она.
– Уплыл в неизвестном направлении, – сказал я.
– Почему же вы мне не сказали?
– Я думал – он в туалет.
– Лидусь, не печальтесь, мы его здесь подождем, – по-свойски обнял ее Олюсь. – А теперь потанцуем.
И мы снова покачивались, и терлись, и скользили руками, не замечая вокруг никого, а когда я нырнул языком в Ульянино ушко, она застонала и прошептала:
– Веди себя прилично.
– Возле тебя невозможно вести себя прилично. И, кроме того, я ужасно голоден. Я, словно дикий зверь, готов тебя проглотить.
– Ах, ну конечно, я ведь забыла, что мы уже полгода в холостяках, – она разомкнула руки на моей шее и прижала ладони к моей груди, смеясь и слегка отталкивая. – Не стоит будить зверя. – И, заглянув мне в глаза, спросила: – И что? Неужели мы целых полгода хранили добродетель?
– А ты как думаешь?
– Думаю, что с таким приятелем, как Олюсь, очень тяжело не вляпаться в какую-нибудь веселую историю.
– Ошибаешься. Наоборот, мне приятно было осознавать, что вот сколько разных искушений вокруг, а я тверд, как камень. Волны страстей разбивались о мою грудь и откатывались назад. «Стоял, недвижим, как скала…» До нынешнего дня.
2
Так и прошел этот день в обществе девушек, пока в одиннадцать бар не закрылся и мы не повели наших барышень по домам. У подъезда мы с Ульяной полчаса лобызались, мои руки беспрепятственно шарили по ее сладчайшим ягодицам, а когда я коснулся пышущей жаром груди, Ульяна со смехом вырвалась и убежала вверх по лестнице, бросив на прощанье многообещающее:
– До за-а-втра!
Я был изрядно во хмелю и все же по дороге домой почувствовал, что должен выпить еще, иначе расклеюсь, меня вдруг охватила душераздирающая тоска по жене. В Винниках я купил бутылку шампанского и, плетясь полтора километра до дома, хлестал вино прямо из горла. Вокруг царствовала ночь, окна были темны, ни единой живой души не встретилось мне по пути. Я вливал в себя шампанское, весело размахивая бутылкой, и со стороны смахивал, наверное, на последнего алкаша. Но тоска нарастала, вино не глушило ее. Я задрал голову и увидел тихое звездное небо. Показалось, что душа моя вот-вот выпорхнет и умчится туда, к светилам. Но это была не душа, а проклятое шампанское – оно вырвалось из меня фонтаном заодно с перекисшим содержимым моего желудка.
3
Солнечным субботним днем автомобиль с двумя радостными парами мчался в направлении Каменки-Бузской. Впереди сидели Олько с Лидой и болтали без умолку сзади – мы с Ульяной, а за нашими спинами давил на подвески багажник, щедро упакованный напитками и закусками.
Я чувствовал себя превосходно, несмотря на вчерашний перепой. Вчерашняя моя ностальгия уже с утра показалась просто смешной. Да пошла она! Жизнь только начинается. Снова. Конечно, я уже не тот удалец, каким был семь лет назад, у меня появились залысины, седина, но ведь и энергия бьет ключом. Как говорится, седина в бороду – бес в ребро. Я снова готов к подвигам. К тому же пишу роман о мифической поэтессе и понемногу начинаю верить в ее существование и в нашу с ней встречу.
Если бы не сегодняшний пикник, я бы снова корпел над рукописью. А писал я не только роман, я еще и вымучивал на бумаге повесть, которую заказал мне Кривенко[3] для «Доступа».
– Сваргань этакий сюжет с секс-бомбой внутри, чтобы бабахнуло и потянуло на скандал. Чтобы сюда, под окна нашей редакции, приперлись депутации целок и импотентов с транспарантами и кричали: «Долой Винничука из нашего девственного города!»
Публикации моих «Дев ночи» и «Жития гаремного» закончились. Снова возникал заказ на скандал. Но я не знал, что писать. Каждое утро, просыпаясь, чесал репу и спрашивал себя: что же это должно быть?
Целое утро при мысли об Ульяне мой неуемный блудень, мой неустанный Ванька-встанька заступал на пост, но как только я переставал думать о ней, падал ниц. Сейчас в машине он снова встал в стойку. Неужто я сегодня ее не уломаю? В ее присутствии моя голова не хотела думать ни о чем другом, только о страсти, любви, ласках. Глазами я раздевал Ульяну, да разве только раздевал, я кромсал на ней одежду, срывал зубами пуговицы, резинки, даже шнурки. Боже, я еще никогда никого так не желал, как ее. Это было невыносимо.
Машина свернула на лесную дорогу, несколько минут мы тряслись по ухабам, пока не остановились на просторной залитой солнцем поляне. Неподалеку журчал ручей.
– Ну что, классное местечко? – напрашивался на похвалу Олько.
Мы достали из багажника покрывало, расстелили его на траве, девушки начали раскладывать продукты. Тем временем Олько позвал меня собирать хворост для костра. Отойдя в сторону, он заговорщически прошептал:
– Сценарий таков. Сейчас выпьем, перекусим и разведем костер. И тут я скажу, что мне позарез нужно позвонить во Львов. Мы сядем с Лидой в машину и укатим в сторону ближайшей почты. Маршрут мы, конечно, уточним и даже немного заблудимся… Понимаешь? Ну, а ты здесь тоже времени не теряй. Часа тебе хватит?
– Думаю, что да.
– Лады. Когда я буду возвращаться, то посигналю, чтобы не застать вас в пикантной ситуации. А сейчас надо бы хорошенько накачать наших подруг вином. Так что действуем!
В этот раз мы с девушками пили мартини, размешивая его с сухим шампанским, а Олько – коньяк. Мартини с шампанским вставляет нормально, вскоре я уже любовался делом моих рук, то есть охмелевшими Ульяной и Лидой. Мы громко орали и ржали, словно кони. Время шло, и я уже с тревогой посматривал на Олька: уж не изменился ли его план? Наконец он спохватился и объявил, что должен отлучиться на несколько минут, чтобы позвонить с ближайшей почты. Но здесь случился конфуз: Лида ехать не хотела. Ни в какую.
– Я не хочу, мне и здесь хорошо, – упиралась она.
Тогда Олько прибег к последнему аргументу:
– Но ты мне нужна, ведь надо же кому-то посидеть в машине. Пока я буду звонить. Разве непонятно? Иначе угонят машину за считаные секунды. Только ее и видели. Ведь здесь такие места бандитские – почти дикий Запад.
И тут случилось непредвиденное. Согласилась Ульяна:
– Ну, давайте я поеду. Это же ненадолго?
Олько замялся, глаза его нервно забегали. Лида словно радовалась такому повороту дела.
– Езжайте, езжайте, – смеялась она, – а мы тем временем колбаску поджарим.
Олько все еще пребывал в растерянности, то и дело вопрошающе посматривал на меня, я же пожимал плечами, не находя слов. Впрочем, отступать было уже некуда. Ульяна поднялась и пошла к машине, многозначительно помахав нам пальчиком:
– Вы здесь смотрите мне.
За ней потопал хмурый и озадаченный Олько. Его план потерпел фиаско уже в самом начале, значит, следует ожидать полного провала и на финише.
– Ну, что, – сказал я, – выпьем с горя? – и наполнил бокалы.
– Почему же с горя? Вы огорчены, что не остались с Ульяной?
– Да нет, я не себя имел в виду. Горе-то у нашего Олька. Из-за того, что не смог уединится с вами.
– А что бы это ему дало?
– Не знаю. Но он хотел именно с вами съездить на почту.
– Так я ведь догадалась, что почта всего лишь повод. Вот и решила не портить ему настроение. Вместо этого, кажется, испортила его вам. Не так ли?
– Пока что нет. А знаете, как сложилась судьба подаренной вами розы?
– И как же? – спросила она, отбросив с глаз длинную прядь волос.
– Я храню ее в одной книге. Она усохла…
– Книга?
– Нет, роза. Каждый раз, когда я беру эту книгу в руки, смотрю на цветок и вспоминаю вас.
– Не верю.
– Но это правда.
– А что за книга?
– «Маньёсю». Антология японской средневековой лирики.
– Никогда не читала. И часто вы заглядываете в эту книгу?
– По меньшей мере, раз в неделю.
– И раз в неделю вспоминаете обо мне?
– Это я делаю пятьдесят два раза в году.
Она посмотрела на меня с удивлением и с таким огоньком в глазах, будто открыла меня для себя только сейчас. В руках мы держали наполненные бокалы и смотрели друг на друга, не мигая.
– Так, может, нам следует перейти на «ты»? – сказал я. – Выпьем на брудершафт?
Лида улыбнулась с хитринкой в глазах:
– Это ваш тактический ход, чтобы затем поцеловаться?
Я собрался возразить и даже шатнул головой, но язык меня не послушался и вымолвил:
– Да.
Кажется, голос мой в этот миг задрожал. И тогда она пододвинулась ближе, завела свою руку с бокалом за мою, мы выпили, не сводя глаз друг с друга, а затем отложили бокалы – поцелуй наш длился так долго, что я не смог потом вспомнить, когда еще и с кем я так бесконечно сливался в одном лобзанье. И в этот раз дело не ограничилось целованием, мы упали на покрывало, левая моя рука очутилась у нее под головой, а правая ласкала ей спину, затем перебралась на грудь, в твердые и идеально округленные холмогоры, далее я расстегнул ей блузку, лифчик и, высвободив одну белую голубку, взял ее в ладонь, но она не вместилась, она билась в горсти и пульсировала, эта пойманная птаха, а пипочка под ладонью набухала, наливалась, а тела наши тем временем так тесно прижались, что я ощутил, как она реагирует на мой отвердевший стержень, под властью ее чар превращающийся в царственный жезл, и я не выдержал, выдернул руку из-под блузки и начал поглаживать ее бедра, вот моя нога между ее ног, и рука вошла туда же, и я ощущаю жар, оттуда пышущий, пальцы потянулись к пуговице на джинсах, никакого сопротивления, столь же уверенно они расправляются и с молнией, рука ныряет ниже, ниже, и палец мой тонет в горячем мякише, а вот и ее рука ложится на мой жезл, ну все, нечего медлить, я стаскиваю с нее джинсы, и все это в течение того самого поцелуя, снимаю трусики, снимаю с себя и, не отрывая губ, ложусь на нее, а она принимает меня, прикрыв глаза, постанывая в поцелуе, я же чувствую, что в столь яростном перевозбуждении могу не удержать сокровища своего жезла, и отлетаю в мыслях далеко-далеко, и витаю там, пока она не достигает оргазма и не отрывает свои губы от моих, чтобы возопить сладостно во весь голос, в синь небесную, в лесную свежесть, и кончаю сразу после нее, даже не успев спросить, можно ли в нее кончить, и сваливаюсь, обессиленный. Мы лежим какое-то время молча с глазами в облаках и пролетающих птицах. Мой жезл, мой стержень, мой ствол еще с минуту ритмично пульсирует, нацелившись ракетой в зенит, но, не дождавшись старта, сникает. Дышим громко и радостно. Я нащупываю ее пальцы и сжимаю, она отвечает на пожатие, пальцы сплетаются и замирают. Я приподнимаюсь и вижу ее тело – молодое и прекрасное, целительное тело, первое тело, от которого я в восторге после отчаянного марафона в поисках мечты, тело, которого я желал, наконец оно утолило жажду и разбудило желание снова в кого-то втрескаться по сами уши.
– Налей мне, – говорит она.
– У меня тоже пересохло во рту, – говорю я, и мы выпиваем.
– Ты в меня кончил, свинтус… – Ее взгляд опускается на покрывало, там следы моей спермы. – Оба-на!
– Сейчас вытру. Это ничего, что я в тебя?
– К счастью, у меня только вчера дела закончились. Ну, ты пока убери здесь следы греха, а я – в кустики.
Она прихватила бутылку с водой и, сверкая белой попой, скрылась в кустах. Я, не мудрствуя лукаво, перевернул цветастое покрывало обратной стороной, чтобы скрыть следы страстной любви, и снова расставил на нем бутылки и бокалы. Затем натянул джинсы и выдохнул из груди счастье, которое меня просто распирало. И тут вспомнились Олько с Ульяной. Уж не занимаются ли они сейчас тем же, что и мы? Впрочем, какая разница, Лида мне нравится даже больше, чем Ульяна. Вот она возвращается из чащи, гордо неся свою курчавую роскошницу на крутых бедрах, капельки воды переливаются на волосках диамантами. Лида вытирается салфетками и одевается. Я не свожу с нее глаз. Кто знает, увижу ли я еще эту красоту: ведь она собирается замуж.
– Это правда, что ты собираешься замуж?
– На втором курсе? Я что, похожа на дурочку?
– Ну, она сказала, что это был твой жених.
– Это он так считает. Красиво жить не запретишь. Я сказала ему, что если и выйду замуж, то только на пятом. Он решил ждать.
– Ты с ним спишь?
Она уселась рядом, отбросила волосы со лба и спросила:
– Ас чего это ты вдруг так заинтересовался мной?
– Не хочу тебя ни с кем делить, – ответил я прямодушно и лег, заложив руки под голову.
– О! А я уже принадлежу тебе?
– А разве нет?
– Ты слишком самоуверен.
– Так ты спишь с ним?
– Сплю. Если это так называется. Последний раз спала месяца три назад. Вообще-то, раз пять у нас что-то было, но мне не понравилось. – Она наклонилась ко мне так, что ее волосы распустились надо мной, словно ветви плакучей ивы. – Ты намерен меня отбить?
– Разве я тебя уже не отбил?
– Еще нет, – прошептала она и поцеловала меня в губы.
Я обнял ее, она легла на меня, и мы стали целоваться взасос, а мой стержень снова потянуло на подвиг, и он стремительно стал превращаться в булаву. Она подняла голову:
– Я чувствую то, что я чувствую?
– Ну да.
– О нет, второй раз в военно-полевых условиях я тебе не отдамся, – и скатилась с меня.
– Поедешь ко мне?
– А что я дома скажу?
– Что-нибудь придумаешь.
Она с минутку помолчала.
– А покажешь мне розу?
– Покажу.
Излишне и говорить, что всю историю про розу я придумал. Не лежала у меня между страниц «Маньёсю» ее роза, роза эта затерялась в водовороте толпы. Впрочем, была у меня другая усохшая роза. Она осталась после жены. Когда-то она рисовала ее, увядшую розу в хрустальном бокале с красным вином, а затем использовала как закладку, и вот спустя несколько лет ее усохшая роза наполняется иным содержанием и в ней оживает душа другой розы, которой от силы месяца три. И теперь этот усохший цветок соединяет нас троих в каком-то удивительном мистическом сплетении, цветок, который я отныне воспринимаю как розу Лиды.
Издалека доносится гул двигателя, звучит сигнал, а через минуту автомобиль останавливается на поляне, из него выходят Олько с Ульяной. По выражениям их лиц трудно понять, было ли между ними что-нибудь или нет. Заметно лишь, что Ульяна хорошенько протрезвела.
– Вы представляете? – всплеснула она руками. – Ближайшая почта оказалась закрыта на замок, пришлось пилить почти до самого Львова. А вы здесь без нас не заскучали?
– С чего бы нам скучать? – ответила Лида. – Пан Юрко развлекал меня разными историями.
– Пан Юрко? – удивился Олюсь. – Вы до сих пор на «вы»? А ну-ка немедленно выпить на брудершафт! – Он вложил нам в ладони по бокалу, налил шампанского с мартини и скомандовал: – До дна!
– Ну-ка, ну-ка, – незнамо чему радовалась Ульяна.
Мы выпили и поцеловались. Символично. Без засосов, без язычков, без сладострастья.
– Вот теперь порядок, – кивнул Олюсь, с подозрением взглянув на меня. – А теперь и нам пора вас догонять.
Наливая себе коньяк, Олько на мгновение остановил свой взгляд на покрывале, лишь на мгновение, но я успел заметить, как тень мелькнула по его лицу, и это заставило меня задуматься: что привлекло его внимание? Покрывало? Ах, я ведь перевернул его наизнанку, а у нее – окраска светлее. И Олько это просек. Ну и что? А может, прежний цвет мне был неприятен и раздражал. Мое покрывало, что хочу, то с ним и делаю. Но теперь взгляд Олька вперился в меня. Он не сказал мне ни слова, но мое подозрение окрепло: Олюсь увидел в покрывале улику.
– Лидусик, – прощебетала Ульяна, – не составишь ли ты мне компанию? – и кивнула на кусты.
Девушки скрылись в чаще. А Олюсь взялся за краешек покрывала, приподнял, посмотрел, покачал головой и сказал:
– Все ясно.
– Что именно?
– То, чем вы здесь занимались.
– Наверное, тем же, чем и вы.
– Мы? Да мы, блин, на эту гребаную почту угробили целый час!
– Далась тебе эта почта! Надо было заехать в укромный уголок и…
Я прикусил язык, сообразив, что говорю не то, но было уже поздно.
– Что-что? Так получается, я должен был уламывать твою Ульяну? Ни-ичего себе! Вот так номер! Но я еще не утерял кое-какие принципы. Я еще умею дорожить дружбой. В отличие от некоторых.
– Ты имеешь в виду меня?
– А кого же еще! Вы посмотрите на него! Он уже не против того, чтобы я отодрал его Ульяну. Так ты, может, и мою Лиду уже трахнул?
– Послушай, а тебе не все ли равно? Да они ведь обе, как писанки.
– Это факт, – согласился Олюсь и, отрезав изрядный кусок ветчины, завернул ее в лист салата. – Но я потратил вчера весь вечер и сегодня полдня на то, чтобы охмурить Лиду, я осыпал ее миллионом слов, рассказал тысячу и одну сказку и сто анекдотов… Между нами пробежали искры. Ты понимаешь, что это такое? Искры! – потряс он в воздухе самодельным голубцом. – Электрические разряды! Я это уже почувствовал в танце. Осталось только…
– …положить руку на защелку ее тела, нажать слегка и открыть…
– Во-от! Только честно! Трахнул?
– Ну… это ты как-то слишком вульгарно… не деликатно…
– Да перестань артачиться! Вульгарно! Ты мне честно ответь: вставил пистон?
– Ну, капец, она такая милая девушка, а ты – «пистон»!
– Хорошо. Ты занимался с ней любовью?
Я опустил глаза. Поискал взглядом бокал, налил, выпил и сказал:
– За…нимался.
– Я так и знал! – Олюсь в сердцах швырнул ветчину на салфетку. – Пока мы гоняли, как идиоты, туда-сюда, вы здесь хорошенечко покувыркались. И это мой коллега!
– Ну… мы же друзья. Что нам делить?
– Друг? Друг – это тот, кто не трахает твою жену!
– Не преувеличивай. На твою жену я бы никогда не покусился.
– А я отныне в этом не уверен! И что ж теперь? Ты набаловался всласть, а я, выходит, в пролете, так получается?
– Ну, отчего же? Возьмись за Ульяну. Вот они идут, и, судя по всему, они уже все выяснили.
Приблизившись к нам, девушки умолкли. Похоже, между ними был горячий разговор, их щеки пылали, а Ульяна откровенно избегала моего взгляда. Лида же, переглянувшись со мной, заговорщически усмехнулась. Я подумал, лучшее, что следовало бы предпринять в этой ситуации, это начать пить. Неопределенное состояние продолжалось недолго, а затем языки у всех снова развязались, и я заметил, как Ульяна уже откликается на каждое слово Олюся. И спустя еще полчаса она прижималась к Ольку, а Лида – ко мне. Надвигались сумерки, когда мы двинулись домой. В Винниках девушки позвонили родителям, и каждая сообщила свою версию. Затем мы подъехали к магазину и купили им зубные щетки.
Ольку и Ульяне я отвел первый этаж, а мы устроились на втором. Пока девушки плескались в ванной, мы с Ольком посидели немного у телевизора, просматривая какую-то тупую порнуху, что шла по спутниковому каналу. Наконец-то Олько мог расслабиться и выпить сколько душа желала.
Лида, надев мою длинную рубашку, поднялась наверх.
– Покажи мне розу, – сказала она.
Я взял книгу, и она сама раскрылась там, где лежала засушенная роза. Лида поднесла ее к носику.
– Странно, она еще сохранила запах.
– Это же было совсем недавно, – сказал я.
Пока они купались, я капнул на цветок немножко розового масла, дабы омолодить ее, старую, рахитичную и немощную, лишенную запаха, поблекшую, похожую на увядшую пропитую проститутку, розу моей жены. Лида бережно вложила ее обратно в книгу, обняла меня за шею и поцеловала.
4
Я люблю убивать время с Ольком, он никогда не унывает и найдет сто пятьдесят два способа выпутаться из любой передряги. С ним невозможно пройтись по любой из сотен львовских улочек, чтобы не услышать очередную амурную историю. И в каждой главный герой – это он.
– Видишь тот балкон? Я пережил здесь незабываемые мгновения. Телка, скажу тебе, была – первый класс! И первоклассным был триппер, которым она меня наградила. Интересно, живет ли она здесь сейчас. Может, именно в эти минуты, когда мы разглядываем ее балкон, она с кем-то трахается на столе.
– А почему на столе?
– Она обожает делать это на столе. Иногда прямо среди тарелок и стаканов, позвякивающих и подпрыгивающих. Она протягивала руку, набирала полную горсть квашеной капусты и жевала, а масло капало с ее пальцев. Брала стакан с вином и отхлебывала, вино выплескивалось ей на грудь, струилось по столу и животу. Она была кацапка. А интеллигентные кацапки рано или поздно спиваются или садятся на иглу. Упаси тебя бог жениться на кацапке. Они никудышние хозяйки. Это у них в крови. Ни борщ сварить, ни позабавиться толком не могут, в доме с такой женою вечный кавардак. Зато целая выварка хлебова на всю неделю. Щи называется. Никогда не позволяй угощать себя щами. Мне больше по нраву наши девчата. Местные. Они знают, как угодить мужику.
Иногда его тянуло на дидактику:
– Знаешь, что ценят во мне женщины в постели? Не то, что трахаюсь, как бог, а именно то, что обставляю это так, словно никогда в жизни не имел дела с женщиной. Строить из себя секс-монстра может любой олух, если у него член стоит и он прочитал несколько соответствующих книжек. А ты попробуй любить женщину так, словно она в твоей жизни первая! Этого ты никогда не сможешь сделать, как ни старайся. Поэтому я за себя спокоен.
Когда Олюсь хочет закадрить барышню, то может начать с любой темы, а все равно свернет на ту, что его интересует: «Ну и погодка, правда? Дождь, холод, ветер… Ах, если бы вместе сейчас поспать, сразу бы стало солнечно. Ты ведь любишь солнечную погоду?» Когда он обещает, что привезет ко мне девушек, то надо знать его вкусы. Насколько я понял, мордашки его вообще не интересовали, а то, чем набита ее голова, тем более. «Для траханья необходимы ядреная задница и большая грудь, – говорил Олюсь. – Этого достаточно. А вот читала ли она Пруста – мне начхать». Те, кого он приводил ко мне, не читали и Майн Рида…
Мы все же махнули с ним в Краков, прихватив Лиду с Ульяной, и славно погуляли, остановившись в «Мальтийском отеле», недалеко от центра. Мы шатались по барам до полуночи, затем пили в отеле и бойко резвились с девушками в номерах, спали же до обеда. В последний день, кода мы вечером вышли в город, Лида шепнула мне, что они условились с Ульяной не надевать трусики. Была весна, игривый ветерок, заглядывая девушкам под юбки, время от времени обнажал им бедра почти до ягодиц. В баре то у меня, то у Олька падали на пол вилки, и мы наклонялись, чтобы полюбоваться сразу на две чудесные шелковые роскошницы.
Так прошли четыре дня, и под вечер уже на другом угнанном «фольксвагене» мы отправились домой, и здесь на обратном пути с нами приключилась история, забыть которую я не могу. Сразу за Ряшевым я заметил, что за нашей машиной неотлучно следует черный джип, то есть я замечал его и раньше, но только теперь мне это показалось странным, и я спросил Олька, не обратил ли и он внимание на джип.
– Обратил, обратил, – пробурчал Олько, и я почувствовал в его голосе нескрываемое раздражение.
– Какой? Какой джип? – сразу оживились девушки и начали вертеть головами.
Было темно, и яркие фары джипа били нам прямо в спину. Олюсь нажал на газ, но джип не отставал.
– Ну вот, – вздохнул я. – А ведь я предупреждал, что не стоит ехать в ночь.
– Заткнись, – прервал меня Олько. – Умный очень.
– Оно и правда, почему бы не заткнуться?
Я вытащил бутылку вина, вынул пробку и приложился к горлышку.
– Это же испанское вино, мы решили приберечь его для пикника! – возмутилась Лида.
– Теперь это уже не имеет значения, – сказал я, оторвавшись от бутылки. – Жажду насладиться им сейчас.
– Э, на что ты намекаешь? – спросила Ульяна и, выхватив у меня бутылку, тоже надпила. После нее бутылка перекочевала к Лиде.
Нам было отчего нервничать. Мало того, что едем на ворованной машине, так еще и везем увесистую пачку валюты, вырученной за предыдущий автомобиль.
– Блин, – процедил сквозь зубы Олько, – он не отстает ни на метр.
Джип гнался за нами, не отставая, аккуратно выдерживая дистанцию, а вокруг царила пустынная ночь: ни села, ни местечка на трассе, ни единой живой души, только деревья, деревья, деревья мелькали за обочинами.
– Ой, кажется, мы влипли, – подала жалобный голос Ульяна. – Дайте мне вина, я должна снять стресс.
– А что если остановиться? – предложила Лидка. – Может, он просто проедет мимо нас?
– Нет, лучше держать его позади, – не согласился Олько. – Боюсь, что впереди нас может поджидать засада.
Я открыл еще одну бутылку.
– Ну, вы даете, – сказал Олько. – Достань мне коньяк, я тоже отхлебну.
– Но ведь тебе нельзя, – запротестовала Ульяна. – Хочешь иметь дело с польской полицией?
– О-о, я бы хорошо заплатил сейчас за встречу с ней. Эгей, полиция! Спасите наши души!
Я подал ему коньяк, и он, набрав полный рот жидкости, чуток подержал, словно колеблясь, и глотнул, с удовольствием выдыхая воздух.
Так мы и мчались с таинственным джипом на хвосте, выдув за это время три бутылки вина и полпузырька коньяку, пока неожиданно не вынырнули из-за поворота фонари бензозаправочной станции. Ликующий возглас племени ирокезов встряхнул «фольксваген». Мы стремительно въехали на территорию заправки и остановились рядом с фурами. Через считаные секунды к нам присоединился и черный джип.
– Девчата, закройтесь и нос не высовывайте, – приказал Олько, а мне кивнул: – Зайдем в магазин.
Из джипа никто не выходил. Мы зашли в ярко освещенный магазинчик, где были также столики, за которыми водители пили кофе, и стали возле прилавка, выбирая напитки, не спуская при этом глаз с черного джипа. Наконец оттуда вышел мужчина, прикурил сигарету, с минутку потоптался возле машины и направился к туалету.
– Рассчитайся, – сказал Олько, а сам вышел из магазинчика.
Вскоре я увидел, что Олько затаился в тени так, чтобы тот мужчина не смог пройти мимо него. Фуры прикрывали его со стороны черного джипа. Я посмотрел в сторону преследовавшей нас машины, в ней сидел еще кто-то, из салона через приоткрытое окно звучала приглушенная музыка. Сколько их там? Двое? Трое? Заскрипел гравий, появился незнакомец, он шел не спеша, попыхивая сигаретой, и вот, поравнявшись с Ольком, он пошатнулся и рухнул, получив резкий удар по голове. Олько навалился сверху и прижал к его щеке револьвер:
– Со pan… со pan… (Что вы… что вы…) – испуганно лопотал человек из черного джипа.
– Какого хера за нами следишь? Кто тебя послал? – шипел Олько.
– Nie.. .nie śledziliśmy… mam słaby wzrok… zawsze nocą jadęzakimś… takjestłatwiej… (Нет… мы не следили…у меня слабое зрение… поэтому всегда ночью еду за кем-нибудь… так мне легче…)
Я прежде Олька раскумекал, что это ошибка, ведь если бы нас и в самом деле кто-то преследовал, то разве что наша мафия, а здесь – поляк. Но не успел я крикнуть ему, чтобы отпустил мужика, как из джипа выбежала женщина:
– Kszysiu! Со oni chcą od ciebie? Ratunku! (Кшись! Что они хотят от тебя? Спасите!)
Тут уже и Олька озарило, что это случайные люди, он помог мужчине подняться, спрятал свою пушку и стал просить прощения, однако жена рвалась в магазин, угрожая полицией. Пострадавший водитель черного джипа тоже осмелел и начал громко возмущаться, потирая ушибленный затылок.
– Bandyci! Zapisz jego numer rejeacyjny! (Бандиты! Запиши номер его автомобиля!)Олько достал из кармана стодолларовую банкноту и протянул женщине:
– Nie jesteśmy bandytami. То nieporozumienie, myśleliśmy, że nas śledzicie… Proszę probaczenia…Wlaśnie odjeżdżamy, pan może jechać za nami…(Мы не бандиты. Это недоразумение, мы подумали, что вы за нами следите. Но мы уже едем, можете ехать за нами…)
– No nie! Dość tego! – возмутился поляк. – Niech pan zjeżdża. ( Нет уж! Достаточно! Убирайтесь!)
– Dziękuję! Nie zawiadamiajcie policji, to przykre nieporozumienie. (Спасибо. He сообщайте в полицию, это досадное недоразумение).
Мы поторопились к своей машине и за считаные секунды выскочили на трассу.
– А все из-за тебя! – ворчал Олько.
– Почему это вдруг? – не понял я.
– Ты первым обратил внимание на джип.
– Но я сомневался, а после твоих слов уже ни о чем другом и думать не мог, кроме этого проклятого джипа.
Девушки не могли толком понять, что же произошло, и я им объяснил. Они долго хохотали, отчего Олько приходил в еще большее бешенство.
– Смейтесь, смейтесь, смехачи, а если они все-таки настучат в полицию? Что тогда? Вот возьмут нас за сраки, то ого-го, во сколько это нам обойдется?
– Есть идея, – сказал я. – Сворачиваем с трассы. Поедем не на Медику, а на Раву-Русскую.
– Но это та-а-кой крюк, – не решался Олько.
– Я думаю, нам вообще стоит остановиться на ночь в каком-нибудь мотеле и перекемарить стресс.
Девушкам эта идея понравилась, и мы свернули на Томашев. В мотеле мы устроили такую пьянку-гулянку, что наутро я ни в зуб ногой не помнил, что вытворял с Лидой ночью. Во Львов мы приехали к обеду следующего дня.
Глава пятая
1
С Лесей оказалось все слишком легко. Вся ее семья зачитывалась мной и готова была сплавить Лесю, только бы иметь возможность приглашать меня на свои обеды. Я приходил и чувствовал этот праздничный семейный оргазм, я балдел от того, что, судя по всему, меня читают здесь не только в кровати, но и в туалете, причем не только до, но и после. Ее сестра, я в этом почти уверен, млея над «Житием гаремным», томно ласкает себя: у нее такие длинные пальцы. Если бы мне взбрело в голову расстегнуть ширинку и продемонстрировать свой балык, выложив его на тарелку зеленого салата, это вызвало бы только секундное замешательство, а дальше – восхищение, упоение, сплошной восторг. Видно было, что мое присутствие раскрепощает их, они начинают вдруг рассказывать какие-то срамные анекдоты, сыпать двусмысленными шутками и проперченными остротами. Лесин отец то и дело подмигивал мне, словно находясь со мной в тайном сговоре и, что удивительно, старался делать это напоказ, чтобы все увидели эти его свойские подмигивания.
В этом доме меня не читала только Леся. Впрочем, она вообще мало что читала. Брала у меня умные книги, чтобы повысить свой интеллектуальный уровень, и возвращала их не прочитанными. С очаровательной непосредственностью сама признавалась мне в этом. Однажды рассказала, чего боится больше всего: мышей, крыс, жаб, собак, раков, мухоморов, преданий о злых духах, огня, уродцев, цыган, детей из пробирки, грома и молнии, града, нищеты, болезней, старости, больницы, кладбища, морга, глубины и высоты, самолетов, лифтов, ржавчины и битого стекла… На самом деле перечень был в три раза длиннее, но это все, что я запомнил.
К сексу у Леси была полнейшая апатия. Имея прекрасное тело танцовщицы и нежный щебечущий голос, она была лишена малейшего желания заниматься сексом. И в то же время делала это искусно. Она отдавалась покорно и с очаровательной непринужденностью, дозируя свою страсть ровно настолько, насколько я в ней нуждался.
Когда она приезжала ко мне и оставалась на несколько дней, я почти не замечал ее, она была тихая, как мышка, погруженная в себя, в свои вышивки-рукоделья, мы могли часами играть в молчанку, и что интересно – это меня устраивало, это именно то, что мне тогда было нужно: иметь рядом теплое, податливое тело и брать его, когда только пожелаю. И стоило мне подойти к ней и слегка обнять, как она сразу же откладывала вышивку, молча улыбалась, давая понять, что знает, чего я хочу, поднималась из кресла, чуть сонными и в то же время соблазнительными движениями сбрасывала халат и ложилась на диване, заложив руки под голову. Ее длинное худое тело не нуждалось в особых прелюдиях, ощупываниях, поглаживаниях, ласках, Леся разводила ноги, согнутые в коленях, так, чтобы я увидел ее чернавку во всей красе, и я входил в нее сразу, ведь она в любой момент была теплой и влажной, она такая, словно кто-то уже разогрел, завел ее, пробудил в ней страсть, и оттого Леся принимала меня с улыбкой, и неизменная эта улыбка не сходила с ее лица, пока продолжался любовный наш акт. Леся не знала, что такое оргазм, и все мои старания добиться от нее большего выражения страсти, нежели меланхолическая улыбка, заканчивались ничем. В конце концов я прекратил эти попытки возбудить ее, я смирился с тем, что она не будет подо мной ахать и стонать, сладострастно взбрыкивать, предлагая те или иные позы, и я брал ее, сосредотачиваясь лишь на своих ощущениях и собственном удовольствии.
Леся преимущественно молчала. Иногда, словно прислушиваясь к переполнявшей мой дом тишине, она спрашивала у меня:
– О чем ты думаешь?
Обычно я уходил от ответа, и она воспринимала мое молчание как должное. Наводя в доме порядок, все расставляла по местам. И была настолько наивна, что думала, будто у книг и рукописей тоже непременно есть свое место, и она находила его там, где подсказывала ей интуиция. Жаль, что подсказки эти всегда были ошибочны. Весь мой гардероб она старательно развешивала. Казалось, что если бы у меня была деревянная нога, то и она красовалась бы на вешалке.
Леся так и осталась для меня загадкой, точнее, не она, а ее влагалище, готовое в любую минуту принять мой брандспойт и получить порцию спермы. Леся была выгодна еще и тем, что не могла забеременеть без вмешательства медиков и разных процедур, так что мы не предохранялись, и я брал ее по три-четыре раза в день. Иногда это все переходило в рутину, и я подолгу не мог кончить, в таком случае призывал на помощь сексуальные фантазии, представлял себе, что я не с Лесей сейчас, а с какой-нибудь знойной дамочкой, повстречавшейся мне на улице или на литературном вечере, знакомой или незнакомой – какая разница. Конечно, активные женщины доставляли мне большее удовольствие, но такие страстные натуры принуждали и к более активному сожительству, требовали к себе внимания, им хотелось без умолку тараторить о том, что было интересно только им, они совали нос в мои дела, даже в мои рукописи, лезли напролом в душу, стараясь выловить в ней что-то полезное для себя, или же стремились к настоящим, а не сексуальным чувствам, заставляя меня врать, выкручиваться, говорить «люблю». Однако именно этого я тогда хотел меньше всего. Леся казалась мне счастливым исключением. По крайней мере, в первый месяц.
А когда однажды, едва скатившись с нее, я услышал от меланхолически улыбающейся Леси: «Ты меня любишь?» – то с огорчением подумал, что исключений не существует, точно так же, как нет исключений и для ответа на подобный вопрос: «Конечно, люблю». Впрочем, ничего в ее лице не изменилось, улыбка оставалась прежней, словно я ничего не отвечал, а она и не спрашивала, взор ее странствовал по белой пустыне потолка, провожая за горизонт невидимый верблюжий караван. Я полагал, что после этого придет черед других вопросов: «Расскажи, как ты меня любишь?» или «Ты действительно любишь меня?», и в моей голове уже брезжили варианты давно готовых ответов, но ее губы больше не шевельнулись, она лежала полная грез и счастья с раскинутыми руками и ногами, будто на поле боя. Такой и осталась в моей памяти.
Ибо она была исключением. Впрочем, когда через неделю, все в той же позе и с той же унылой улыбкой, она спросила: «Расскажи, как ты меня любишь?», я окончательно убедился в том, что исключений действительно не существует, как не существует исключений и для ответа: « Я люблю тебя больше всего на свете». И снова ее лицо оставалось прежним, улыбка не расползлась, не выгнулась радостно полумесяцем, глаза продолжали следить за караваном верблюдов, и я подумал: если она и в самом деле видит на потолке верблюдов, то одним из этих верблюдов могу быть я, и я непременно буду верблюдом, если дождусь следующего вопроса: «Как ты считаешь, нам свадьбу сыграть лучше летом или осенью?»
С Лесей я познакомился там же, где и с Лидой, – в «Вавилоне».
2
Стоит нам с Ольком войти в «Вавилон», как наши глаза профессиональных ебарей моментально оценивают панораму потенциального секса.
– Вон те… слева… – мурлычет Олько сквозь зубы, и мы подходим к столику, за которым ждут не дождутся чего-то две милые девушки лет восемнадцати.
Перед охотой мы с Ольком расписываем свои роли на много шагов вперед. Первым вступаю в разговор я, ведь даже если эти барышни нам совсем незнакомы, то в девяносто девяти случаях из ста девушки, посещающие «Вавилон», меня прекрасно знают.
– Привет, – начинаю я.
– Привет, – расплываются они в радостных улыбках, а их игривые глазенки так и мечутся – слева направо и справа налево.
– Вы не видели Зеника? – бросаю первое, что пришло на ум.
Они начинают вежливо что-то там городить про Зеника, который нам, разумеется, на фиг не нужен, и если бы он сидел где-то тут, я бы спросил у девушек про какого-нибудь другого завсегдатая «Вавилона». Следующая моя фраза звучит так:
– Познакомьтесь – это Олько.
Пожалуй, на этом моя функция запевалы заканчивается, далее – партия Олька:
– Девушки, что вы пьете?
Что могут пить целомудренные студентки? Ясное дело, кофе либо соки, и все же когда Олько предлагает коньяк, то никто не отказывается.
В тот вечер я был совершенно не расположен к новым знакомствам. Мы сразу заказали две бутылки «Медвежьей крови», чтобы лишний раз не дергать бармена, и, пристроившись за свободным столиком, наметанным глазом осматривали зал. Почти все столики были заняты, несколько пар виляли задницами в медленном танце. Не успели мы выпить по бокалу, как рядом плюхнулся Влодко с рюмкой коньяка. Он только что рассорился со своей девушкой и не скрывал раздражения.
– Ну и надерусь сегодня. Нервы – на пределе. Так она меня достала, так достала, что я послал ее на… Все, что мне от бабы нужно, – это ее лохматка. Но какого черта я должен ради этого себя унижать? Ведь они сами пищат от восторга, когда я вставляю им пистон, не так ли?
Влодко был известен тем, что издал несколько стихотворных книжек и горбился теперь над каким-то эпопейным романом. Знакомые девушки старались избегать его, наверное, потому, что он провозглашал им те же горделивые монологи, что и нам.
– Отчего вы поссорились? – спросил я.
– Они нашла в моих бумагах стишок, где были такие строчки:
«Я люблю твою писку розовую,
Пью пион ее лепестков».
– И эти строчки, надо полагать, были посвящены не ей.
– Нет. Они вообще никому не посвящены.
– Так что же ее разозлило?
– Ты понимаешь, у нее лоно не розовое, а красное, как жар. В этом все дело.
Влодко столь решительно вылил в себя коньяк, словно в рюмке был цианистый калий.
– Вот ты, – нацелился он в мой лоб своим жирным указательным пальцем, – ну зачем ты их воспеваешь? Разве не понятно, что этим ты совершаешь преступление против человечества? Женщины должны знать свое место, а ты им предоставляешь место рядом с собой. Да, ты – преступник. Это из-за таких, как ты, они издеваются над нами и вообще имеют нас в сраке.
– Пожалуй, ты прав, – поддакнул Олюсь. – Моя Сянька недавно выдала: недавние исследования доказывают, что женщины не принадлежат мужчинам, они подвластны Луне. Это Луна ими управляет и указывает, кого любить. Чья это работа? – обратился он ко мне и сам ответил: – Твоя!
– Послушай, кто вообще научил этих женщин читать? – продолжал возмущаться Влодко. – Ну кто додумался до такого маразма?
– Если тебя в женщинах интересует лишь лохматка, то почему бы тебе не заняться козами?
Он посмотрел на меня таким свирепым взглядом, что я подумал – сейчас грохнет бутылкой по башке.
– Ты это серьезно? – спросил, грозно высверкивая глазами.
– Ежели ты серьезно, то и я всерьез.
– Ну, тогда ты мудак!
Я ожидал худшего, поэтому воспринял Влодкову инвективу с пониманием. Он вскочил и с побагровевшей от ярости морденью пересел за другой столик.
– Слишком жестоко ты его приложил, – сказал Олько.
– Иначе не мог, мне просто тошно с ним общаться.
Неожиданно взгляд Олюся остановился на двух простушках, которые с философским видом сосредоточенно потягивали через соломинки какие-то мутные коктейли. Первая – симпатичная, худенькая, рыженькая, вторая – безнадежная толстушка. Рядом с девушками было два свободных кресла. Олюсь, не советуясь, схватил обе бутылки и, толкнув меня в бок, дескать, прихвати фужеры, почесал прямо к ним. Мне ничего не оставалось, как двигаться туда же, и пока я дошел до них, первый фонтан слов, выплеснутый Олюсем на девушек, иссяк и подошла очередь следующего фонтана. Поскольку Олюсь пришел первым и свое не упустил, мне досталось место рядом с толстушкой.
Ну, конечно, мой дружбан сразу положил глаз на рыженькую, и ему начхать, какими чувствами я воспылал к ее подруге, он уже уносил свою избранницу на крыльях словоблудства. У нее было поэтическое имя – Леся. Толстушку звали Олей. Это ж надо, подумал я, Оля – да это же самое подходящее имя для подруги моего приятеля с ласковым именем Олько. И когда мы вышли в туалет, я сказал ему об этом, на что Олюсь сделал ужасно удивленное лицо:
– Как? Тебе не нравится Оля? Ты не прав, не прав. Ведь я только ради тебя и подсел к ним. Ты посмотри, какие у нее сиськи. Да это же просто Памела Андерсон. Кроме того, у нее чудесные губы – большие, сочные.
– Ага, ты от нее в восторге? Чудесно. Я тебе ее дарю. Считай, что она твоя. Для меня же сойдет и рыжая.
– Ну нет, я так не могу. Ты же мой лучший друг. Да я никогда в жизни не посмею отбивать твою даму. Зачем тебе рыжая. Она же худющая, близорукая…
– Откуда ты взял, что она близорукая?
– Разве ты не заметил, как она жмурится? Стопудово, что носит очки. Ну сам подумай: ты – очкарик, она – в очках… Четыре линзы. Не-е-е, старик, она тебе не подходит. Да худышки ведь и не в твоем вкусе.
– Толстух я тоже не люблю.
– А разве она толстуха? Ну разве она толстуха? Во загнул! Да разуй глаза! У нее прекрасная фигура, она отнюдь не тумбочка. У нее есть талия. Ты видел, какая у нее талия? А ниже? Да там прямо европейский дизайн. Ты представь, как она станет к тебе задом. Представил? Так не отказывайся от своего счастья. За таким станочком тебе будет над чем поработать. Послушай меня, я тебе плохого не посоветую.
С тем мы и вернулись. Девушки с нами выпили, и язычки их быстро развязалась. Разглядывая захмелевшими глазами Олю, я пытался увидеть все то, что столь мгновенно подметил Олюсь.и постепенно стал склоняться к тому, что он все же прав. Худой, конечно, ее не назовешь, но и не была она слишком толстой. Все же она скорее толстушка, нежели толстуха. Отодвинув кресло назад, я обозрел ее корму и признал, что и здесь Олюсь не ошибся. Оля пахла, как яичница на колбасе. Я обнял ее за широкую талию и предложил выпить на брудершафт, после чего решительно сжевал с губ всю ее помаду. Моя рука опустилась ниже и остановилась на выпирающей седальнице: задок был тверд, как камень. Это меня заводило.
Однако напротив меня сидела Леся, и она привлекала меня больше. Она понравилась мне еще больше, когда Ольку так и не удалось поцеловаться с ней как следует – после брудершафта она всего лишь игриво подставила ему щечку. Тогда он пригласил ее танцевать. Я пригласил Олю. Она прижалась ко мне всем своим волнующимся телом, позволяя ощутить, как его много и какое оно упругое, а вовсе не размякшее. Она деловито обхватила мою шею и, потирая носиком под ухом, стала щекотать ее язычком. Я передвинул руку, доселе покоившуюся на ее спине, ближе к бюсту так, чтобы большой палец лег на грудь. Она также была твердой. Я нащупал пальцем сосок и погладил его, Оля тихо застонала и укусила меня за мочку уха, тесно прижавшись своим животиком к моему воспрянувшему блудню. Вся последующая программа сегодняшнего вечера предстала передо мной как на ладони: такси – Винники – вино – по комнатам. Фактически я был не против. Но мне нравилась Леся, и чем больше я с ней общался, тем сильнее к ней привязывался.
И, понимая, что поступаю по-свински, я пригласил ее на танец. Олюсь даже попробовал возразить, но Леся уже поднялась и пошла мне навстречу. В танце она прижалась ко мне так доверчиво, словно мы танцуем не впервые, а по крайней мере со времени выпускного школьного бала, ее тело покорно подчинялось моим рукам, она плыла в танце, как пушинка, а ее чарующее молчание, тоненькие пальчики, реагирующие на каждое движение моих, ее скрытный взгляд из-под ресниц – все это убеждало меня, что я ее интересовал больше, нежели Олько. Понимая, что позже может и не подвернуться такой счастливый случай, я спросил:
– Знаете, Леся, я бы хотел встретиться с вами отдельно. Наедине. Где бы я мог увидеть вас в ближайшее время?
– Это очень просто. В воскресенье у меня день рождения, соберутся все родные, и я вас приглашаю.
О нет! Вот так сразу – ив семью? Заметив мое смятение, Леся добавила:
– Не бойтесь. Вы у нас будете чувствовать себя как дома.
– Там будет и Оля?
– Нет. Это моя школьная подруга. Мы редко видимся.
После этого Леся назвала свой адрес в районе Нового Львова. Вернувшись к столу, мы ощущали себя заговорщиками, ничем не выдавая нашей тайны. Как ни в чем не бывало, Олько продолжал ухаживать за Лесей, а я – за Олей. Леся пила совсем мало, Оля же изрядно захмелела и пользовалась мной как вешалкой.
Покидая «Вавилон», каждый пошел провожать свою девушку. Оля жила на Мучной. Я поймал такси, мы сели сзади и всю дорогу целовались. Возле ее дома с удовольствием продолжили это приятное занятие. Но мне вдруг захотелось большего, и в сладостном экстазе я потянул Олю на Кайзервальд. Там припер Олю к толстенной липе, сорвал с нее джинсы и взял ее стоя, пьяную и глуповатую. Она ничуть не сопротивлялась, лишь пьяно пошатывалась. Луна радостно освещала ее белые ягодицы. Оля тихонько повизгивала, но никаким другим звуком не сигнализировала о приближении оргазма. Минут через двадцать эта гимнастика мне наскучила, я был пьяней вина, и пылкие чувства мои притупились. Но Оля и не думала кончать. Она ритмично подмахивала и, чтоб мне с места не сойти, могла махать так до самого утра. А я уже захотел свалить домой – и спать, спать, спать. И словно во сне вдруг представил Лесю – нежное создание, с которым секс непременно превратился бы в праздник, да и не столько секса я возжелал, сколько любви, мне захотелось снова пережить это прекрасное состояние влюбленности, когда вокруг тебя все расцветает и взрывается страстью…
– Я кончаю, – сказал я.
– Нет, – сказала Оля.
Еще десять минут прошли с неизменным результатом.
– Я кончаю, – повторил я.
– Нет, – тормознула Оля.
Ее монументальная жопка работала в прежнем ритме, я умышленно замер и не двигался, а она сама накатывалась на меня и откатывалась, будто паровой молот. Собственно, в это время я могу и подумать о чем-то своем, сокровенном, и, отвлекаясь таким образом, ублажать партнершу достаточно долго, но сейчас был не тот случай, я не имел желания выкладываться для первой попавшейся Оли.
– Можно в тебя? – спросил я.
– Нет, – сказала Оля.
Казалось, что кроме этого автоматического «нет» она уже не способна произнести ни единого слова.
– Я кончаю.
– Нет, – сказала Оля.
Я усадил ее на траву. Олю настолько развезло, что она сразу свалилась навзничь, как была, со спущенными джинсами. Я попытался ее поднять, привести в чувство, даже отхлестал ее по щекам, но она захрапела и уже не реагировала ни на мои слова, ни на пощечины. Ну что я мог предпринять? Тащить ее на себе я не мог. Не та весовая категория. Все, что я сделал, это с трудом натянул на нее джинсы, застегнул и, наломав липовых веток, прикрыл ее, чтобы не замерзла. Со стороны все это, наверное, смахивало на действия маньяка: задушил – трахнул – замаскировал. Да, на прощанье я еще чмокнул ее в жаркие сочные губы и смотал домой.
3
Проснулся я с тяжелой головой. Вчерашний выпивон выбил меня из колеи. Казалось, я положил под язык дохлую лягушку, разложившуюся за ночь. Дабы убедиться, что это не так, я для верности даже почавкал. Вылез из постели, собрал разбросанные на полу шмотки, оделся и двинулся в ванную. Прополоскав горло, я выхаркал вместе с водой темно-красные сгустки. И никаких лягушиных лапок. Просто темно-красные сгустки. Как у туберкулезника. Но это была не кровь. Это было вино. То, что я пил вчера. Сколько же я выдул этой «Медвежьей крови»? Чистил зубы и без конца сплевывал. Наконец снова прополоскал горло, отхаркался и выплюнул. В этот раз то, что вылетело из моего рта, было прозрачным.
На губах полыхала Сахара, а во рту с нёба низвергались горячие лучи и смертным пламенем выжигали все, что встречали на языке, я выдыхал беспросветную пустыню, на зубах скрипел песок – пить, пить, пить… Вина? О боже, нет, только не это. Я заварил зеленый чай и почувствовал, как с каждым глотком в моей голове восходит солнце, рассеивая свет, тепло и радость, прогоняя печаль. За окном на деревьях запели птицы, запах цветущей сирени защекотал ноздри, среди пустыни зазеленел оазис. Это все последствия чая.
4
Собираясь в гости к Лесе, я купил ей косметический набор, букет роз и взял курс на Новый Львов. Среди новостроек я чувствую себя неуверенно и даже боязно, словно затравленный пасюк, эти высотки действуют на меня с непостижимой агрессией, как будто я им что-то задолжал. Словно сговорившись, они делают все для того, чтобы запутать меня в своих дворах и переулках, не дать разыскать нужный дом, поворачивая его вместо переда задом, а иногда и вовсе пряча неизвестно куда. В этот раз я блуждал вокруг да около более получаса, а когда наконец добрался до Лесиной квартиры, то все гости были уже в сборе.
Леся познакомила нас, и я, демонстрируя радость на лице, узнал, что у нее, кроме мамы, папы и сестры, имеются также бабушка, крестная, две школьные подруги, успевшие уже выйти замуж и прихватившие на сегодняшний праздник своих мужей, две незамужние однокурсницы и целых три кавалера, взиравших на меня с чувством явного неудовлетворения. Наверное, у каждого из них были свои планы относительно Леси, но самой Лесе это, похоже, не мешало, и она усадила меня между собой и своей сестрой. Сестру звали Рома. Она выглядела старше Леси года на два-три. Рома была выше, Ромы было больше. Она радовалась подвернувшейся в моем лице возможности проявить свое неиссякаемое гостеприимство и предлагала мне все новые салаты, закуски и домашние наливки. Она словно бы экспериментировала на мне, полностью завладев моей тарелкой и без конца наполняя ее разносолами, хотя я уже не успевал пережевывать яства и казалось, вот-вот подавлюсь ими.
Я не очень хорошо чувствовал себя в чужом обществе и рассчитывал, что вино прибавит мне настроения, но вино там было ужасное. Уж лучше бы вместо той косметики я подарил ей несколько бутылок шампанского, тогда бы и мне что-то досталось. Наливки были слишком сладкими и приторными, а водку я не пью. О, муки тяжкие! Я сидел там трезвый, как в президиуме, и оттого злой. Да еще Рома, не умолкая, жужжала возле уха, и во мне копилось одно желание: убить Рому, вежливо откланяться и свалить домой. Проблема была только в том, что, убив Рому, домой я уже не попал бы. Живи, Рома.
Самым большим неудобством, которое мне обычно приходится испытывать, попадая в новую компанию, всегда было то, что я непременно оказываюсь в центре внимания. Какая бы тема не затрагивалась за столом, она обязательно выводилась на мою персону: а какое ваше мнение? В ответ хочется рявкнуть: а никакое! Дайте человеку поесть. Впрочем, и с этим всегда проблема. Мне не дают спокойно поесть, меня все время дергают. У Леси меня спрашивали, почему я ничего не пью. Ну да, я, конечно, мог популярно объяснить, что мужику не пристало пить их тошнотворные сиропы, а водка эта – суррогат, подделка, мерзкое пойло, произведенное закарпатскими цыганами.
После часа усердного застолья все зашевелились. Кто пошел на балкон курить, кто – на кухню, за столом остались только Рома и я. У Ромы обнаружился один существенный недостаток. Она тараторила без умолку ее рот не закрывался ни на секунду. Буквально на все у нее была своя точка зрения. И обо всем она должна непременно высказаться. Лучше бы она родилась глухонемой и излагала все на бумаге, слушать ее разглагольствования у меня уже не было никаких сил. Люди, имеющие на все свою точку зрения, меня всегда отпугивали, наверное, из-за того, что сам я этим даром не обладаю. Я избрал единственно возможную тактику: кивал головой и каждые полминуты произносил «угу». Этого было достаточно, чтобы поддерживать беседу.
Когда мы остались вдвоем, Рома начала растолковывать мне, какие проблемы ставит современная школа перед детьми. Рома была учительницей. В какой-то мере это сближало нас, ведь я по образованию тоже педагог. Но было и существенное отличие: я ни одного дня не работал по специальности. И мне начхать было на все школьные проблемы, но я должен был терпеливо слушать и кивать, слушать и кивать. Я вдруг почувствовал, что если не выпью, то вот-вот сорвусь и завою. Может, даже стану на четвереньки для пущего эффекта и кого-нибудь укушу. Однако же и расставленные на столе напитки я во спасение свое употребить не мог. Поскольку у меня принцип: ссаки не пью.
Спасение пришло с неожиданной стороны. Мама попросила Рому сбегать в магазин за водой и очень извинялась передо мной за то, что прервала столь интересную дискуссию. Я вызвался сопровождать Рому, меня отговаривали, но я настоял. Наступал вечер, в воздухе разливались цветочные ароматы от клумб и кустов. Рома сменила тему и судачила о погоде, которая в последнее время была абсолютно непредсказуемой. Как и наша власть, сказал я, явно не подумав. Рома мгновенно уцепилась за новую тему и начала чихвостить родную власть в хвост и в гриву. Я понимающе кивал.
По пути к гастроному я предложил Роме на минутку уединиться, вооружившись бутылкой шампанского. Она чуток заколебалась, словно размышляя, к чему я это ей предложил, но все же согласилась. Пока она покупала воду, я прихватил две бутылки шампанского и спрятал в пакет. Мы забрели в пустынный скверик и присели на скамейку. Я открыл шампанское, правда, пить пришлось из горла, так как пластиковых стаканчиков в гастрономе не оказалось. После нескольких затяжных глотков я почувствовал прилив сил, после чего захотелось продолжить наше уединение. Но я не торопился. Мне было хорошо. Рома оказалась симпатичной девушкой с длинными ногами и большим чувственным ртом. Я обнял ее за плечи и прижал к себе. Рома продолжала тараторить. Она говорила и говорила, а я уже привычно отключался и думал о чем-то своем. И все же под хмельком хочется уже не отключения, а общения. Я не искал другого способа закрыть ей рот, а просто наклонил говорящую голову к себе и поцеловал взасос. И сделал это так неожиданно и напористо, что она оказалась парализованной и внезапно превратилась в египетскую мумию: глаза ее смотрели не мигая, рука с оттопыренным мизинчиком повисла в воздухе, а застывшие в немоте губы ни единым движением не отвечали на мой поцелуй. Я целовал мумию и наслаждался тишиной, упивался ароматами цветов и меда, нежным стрекотом кузнечиков и отдаленным кваканьем лягушиных хоров. Когда же я наконец оторвал свои губы от ее губ, чтобы освежить горло, тишину – о чудо! – ничто не нарушило. Рома молчала с приоткрытыми устами и оттопыренным пальчиком. Я поднес ей ко рту бутылку, она глотнула и снова молчала. Я не имел ничего против. Я ведь тоже люблю помолчать. Однако немая сцена продолжалась недолго. Спустя минуту Рома изрекла такое, от чего у меня перехватило дыхание:
– Ну, вот мы и поцеловались.
Я подумал, что мне это послышалось, и переспросил:
– Что?
Она повторила тем же отсутствующим тоном. Это звучало так, словно наше целование было запланировано.
– А я-то думала, что это произойдет чуть позже, – добавила она.
Тут я и вовсе оторопел. Выходит, она и впрямь строит относительно меня какие-то планы?
– Не понял, – сказал я. – Неужели такие вещи планируются?
– А что здесь плохого? Я думала, что сегодня мы только познакомимся и назначим свидание. А затем встретимся, пойдем гулять… И тогда… ну, тогда это случится…
– А почему ты так была уверена в том, что мы договоримся о встрече?
– А разве ты этого не хотел?
– Э-э… я… разумеется, хотел… но мы могли так быстро и не договориться, ведь правда?
– Правда. Но я рада, что случилось именно так. Если ты на самом деле увлекся мной, то нет смысла все это затягивать.
Здравая мысль. Но откуда она взяла, что я ею увлекся?
– Я давно мечтала с тобой познакомиться, но я же такая трусиха. Леся не раз затягивала меня в «Вавилон», уверяя, что ты там бываешь каждый вечер, но в те несколько вечеров, что мы туда ходили, тебя там почему-то не было. А когда Леся сказала, что пригласила тебя на именины, я так обрадовалась!
И она прижалась ко мне еще теснее, однако мне уже было не до интима, я чувствовал, как во мне исподволь нарастает смешанный с недоумением гнев. Значит, Леся все это нарочно подстроила и пригласила меня ради своей сестры? Ну не свинья? Конечно, она хотела как лучше, все женщины стараются поступать как лучше, однако почему-то чаще выходит наоборот. Рома была вполне симпатичной девушкой, и все же она не вызывала во мне вспышки столь чаемых мною чувств. Я допил шампанское и достал вторую бутылку. Это весьма удивило и даже озадачило Рому, она начала уговаривать, что не стоит, ведь мы и так слишком задержались, к тому же она пить больше не будет, но я не слушал ее. Я уже захмелел настолько, что мог выдать ей всю правду-матку насчет их дерьмовых наливок и самопальной цыганской водки. Неужели она не заметила, что я ничего, кроме воды с их стола, не пил? Неужели не просекла, что находиться трезвым в незнакомой компании для меня мука смертная? Просто сейчас я должен лишь наверстать упущенное за столом. Теперь пришло время кивать ей, на глазах у нее задрожали слезки, она захлопала ресницами и – о чудо – в этот раз Рома не несла никакой отсебятины, она не только молча соглашалась со мной, но и сама несколько раз приложилась к бутылке жадным ртом. Я радостно подмечал, как она быстро хмелеет и, целуя ее снова, уже смелее положил ей руку на грудь. Рома застонала, укусила меня за ухо и пересела мне на колени. Я погладил ее бедра сначала поверх юбки, а затем начал действовать и под юбкой, пробираясь все выше и выше, она пробовала, не отрываясь от моих губ, помешать моему натиску, но штурм продолжался, и вот моя рука раздвинула ее бедра и припала к пышущей жаром роскошнице, и вот здесь Рома затрепетала, словно пойманная в сети русалка.
Вокруг уже опускались сумерки, людей не было видно, и я попытался снять с нее трусы, чтобы довести начатое до конца. И тут Рома, отчаянно защищая свою последнюю крепость, простонала, что она еще девушка. Вот так номер! Худшей свиньи Леся не могла мне подсунуть. А может, сегодня у Ромы не тот день, и сквер не то место, где она была бы готова распрощаться с девственностью. Что ж, я не настаивал. Возможно, кто-нибудь другой был бы шокирован таким известием, быстренько бы выцедил бутылку и вернулся с дамой в компанию, но я ведь джентльмен. Я расстегнул ширинку, вынул свой блудень и вложил ей в руку. Она была словно сомнамбула и явно не знала, как поступить ей с этим сокровищем, но ведь существует такая отличная вещь, как инстинкт, и он делает чудеса – через минуту она овладела искусством игры на столь прихотливом инструменте. А я продолжал ласкать ее пальцами, пока не довел до такого взрывного оргазма, что вынужден был свободной рукой зажимать ей рот, хотя под конец она все же укусила мои пальцы. Не выходя из полусознательного состояния, она простонала: «Что это было?» Я решил не терять времени на консультации, а, пересадив ее снова на лавку, слева от себя, наклонил смиренную голову к своему блудню. Она вначале отворачивалась, сжав губы, но сопротивление продолжалось недолго, вскоре губы раскрылись. Я был уже порядком возбужден и, почувствовав, как внезапно взлетаю, словно Икар, к солнцу, вдруг быстро пошел на экстренное снижение, сбрасывая топливо, отчего она закашлялась и даже поперхнулась. После этого напоил шампанским и сам допил остаток. Она снова спросила:
– Что это было?
– Орально-инструментальный секс, – ответил я, поднявшись с лавки. – Нам пора.
– Я никогда этим не занималась, – сказала она, заглядывая в бездну моих невинных глаз.
– Верю, но все когда-нибудь начинают.
– С этого?
– И с этого тоже.
Я протянул ей руку, она поднялась, я взял сумку с водой, и мы отправились на именины. А до этого я успел запастись еще двумя бутылками шампанского. Взглянул на часы – мы отсутствовали больше часа. Ну, нормально. Я прекрасно себя чувствую после шампанского. Вернулись как раз во время перекура. Ромина мама, увидев нас, прямо лучилась радостью:
– Ой, пропажа явилась! Вы, наверное, прогуливались? Вот и хорошо. Садитесь, сейчас горячее подам.
Щечки у Ромы пылали, она плохо скрывала свое опьянение, и я быстренько поволок ее к столу. Там сидели несколько девушек и Леся.
– И где это мы странствовали, Ромуся! – поинтересовалась ее сестра. – Мы уже переживать начали. Да ты во хмелю, сестричка? – И с лукавой усмешкой повернулась ко мне: – Зачем же вы нашу Рому споили?
– Ну, я же не знал ее возможностей. Мы выпили всего лишь бутылку шампана, – сказал я и выставил бутылки на стол.
– Всего лишь! Да для моей сестры полбокала за вечер – уже перебор. Ромусь, ну-ка, закусывай быстренько. И что вы там с ней такое делали, что у нее вся помада исчезла?
– Мороженое ели, – сказал я, а Рома раскраснелась еще сильнее, взяла предложенную Лесей помаду и вышла в ванную.
На горячее сбежались все гости, и за столом снова воцарились шум и гам. А когда подуставшие от застолья родители потихоньку слиняли, Леся включила музыку погромче, потушила люстры, оставив светить одну настольную лампу, и потащила одного из своих кавалеров танцевать. Два других проводили пару наигранно-радостными глазами, затем переглянулись и пригласили на танец подружек Леси, за ними вышли из-за стола и остальные. Рома улыбнулась мне исподлобья и спросила:
– А мы?
Я подумал: какая наглость! «А мы!» – это же надо! Она уже видит нас вместе. Никогда не приходило в голову, что оральный секс – повод для продолжительных отношений. А ведь именно этот смысл заключался в ее безапелляционном «мы». Мы что теперь – пара? Я вывел ее танцевать, чтобы не выделяться на общем фоне, но тут снова подумалось, что все это не так просто и я оказался здесь не потому, что этого желала Леся, а потому, что так захотела Рома, которая давно уже выслеживала меня в «Вавилоне». Леся нарочно заманила меня для своей сестры. Чем больше я это осознавал, тем больше меня это доставало. Я бросил взгляд на Лесю – она танцевала так, как танцуют с первым попавшимся, никакого тебе интима. Зато Рому – я это чувствовал – влекло ко мне со страшной силой, она так и напирала на меня своей грудью и животом, глазки ее хорошенько посоловели, а на губах приклеилась торжествующая улыбка. Все идет по плану? Ну, да, вот и маменька ее выныривает из-за двери и, выловив взглядом нас с Ромой, довольно улыбается и исчезает, чтобы, наверное, всей родне на кухне рассказать, что здесь происходит. Я заметил, смотрела она только на нас, никто другой ее не интересовал.
Наконец Джо Дассен заткнулся, и мы сели за стол. Следующая его песня была слишком ритмична, и танцевать никто не пошел. Леся выбежала на кухню за тортом, а я воспользовался этим, чтобы подлить Роме шампанского. Мы выпили. Когда Леся внесла торт, Рома уже была не в состоянии держать ровно свою головку. Леся поручила резать торт подружкам и потащила сестру в другую комнату. Через минуту вернулась, осуждающе посмотрела на меня и пригласила танцевать.
– Зачем вы споили мою сестру? – прошептала она сердито, однако же улыбаясь.
– Надо было предупреждать, что она у вас так быстро хмелеет. Насколько я помню, мы с вами в «Вавилоне» выпили куда больше.
– На меня алкоголь так не действует. Рома всегда сторонилась компаний, избегала развлечений. И к крепким напиткам она совершенно не приучена. И все же, насколько я понимаю, вы не скучали вдвоем?
– Нет. Мы беседовали о поэзии.
Леся взглянула на меня удивленно и сказала:
– Возможно, шампанское и стимулирует беседы о поэзии. Однако размазанная помада свидетельствует и кое о чем другом.
– Это совсем не то, что вы подумали. Я ведь пришел сюда не ради вашей сестры.
– О! Неужели ради меня?
– Не стройте из себя дурочку. Ваша сестра хотела познакомиться со мной, и вы ей в этом содействовали. Вы намеренно водили ее в «Вавилон», зная, что я там часто бываю. А затем воспользовались случаем и пригласили к себе домой, хотя не могли не заметить, что я симпатизирую именно вам.
– А как же Оля? – сверкнула она лукавыми глазками.
– А что Оля?
– Вы разве ее не провожали?
– Провожал.
– И?
Музыка закончилась, я вывел Лесю на балкон.
– Оля не в моем вкусе.
– Вы ей об этом сказали?
– Неужели я должен каждой девушке, которую провожаю, сообщать, что я думаю о ней?
– Отнюдь. Но девушке, с которой вы провели ночь, могли бы что-нибудь и сообщить.
– Какую ночь?
– Ночь с Олей.
– Что за глупость?
– Оля притащилась домой на рассвете.
– И при чем здесь я? Разве она сказала, что ночевала со мной?
– Нет. То есть она не помнит. Она не знает, что происходило с ней в ту ночь.
– И вы делаете из этого вывод, что она была со мной?
– А разве что-нибудь иное можно подумать в такой ситуации?
– А почему бы и нет?
– Например?
– Например, то, что она встретила еще кого-нибудь.
– Под своим домом?
– Я не довел ее до дома. Оставалось метров сто. Двор был ярко освещен, и она сказала, что дальше идти не следует, а я и не спорил. Мы попрощались. Вот и все.
– Не совсем все. Кто-то завел ее на Кайзервальд и там оставил. Она пришла в себя только под утро. Простыла. Однако как она там очутилась, вспомнить не может.
– Вы спрашивали ее, не мог ли это быть я?
– Она не знает. С момента, когда вы вышли из трамвая и до того, как она проснулась на траве, все стерлось.
Я в душе облегченно вздохнул.
– Таким образом, с Олей мы разобрались, – сказал я. – Вернемся к нашим делам. Сознайтесь, вы позвали меня ради сестры?
Леся прикусила верхнюю губу, подняла голову и посмотрела на звездное небо. Она молчала. Молчал и я. Когда же она снова заговорила, голос ее чуть дрожал.
– Рома и в самом деле хотела с вами познакомиться. Она читала ваши произведения. Я подумала, что Рома не может не понравиться. Потому и…
– Я не отрицаю. Рома – красивая девушка. Но я совсем не хочу участвовать в спектакле по разработанному вами сценарию.
– Это произошло спонтанно.
Я приблизился к ней, взял ее за талию и привлек к себе. Она склонила голову мне на плечо и вздохнула:
– Я хотела как лучше.
– Я тоже.
После этих слов я стал целовать ее в шею, она прижалась ближе и подставила губы.
Глава шестая
1
С Верой я познакомился на вечеринке, которую мы традиционно устраивали уже не первый месяц. Изюминкой таких посиделок был негласный конкурс-смотрины: каждый должен был привести с собой какую-нибудь кикимору, страхолюдину, каракатицу – на свой выбор. Накануне мы сбрасывались по пять долларов, тогда это были хорошие деньги, выигрывал тот, чья девушка была самой страшной. Он забирал всю кассу, на половину выручки покупал вино и закуски, оставшуюся сумму забирал себе. По условиям конкурса девушка-претендентка должна была иметь не меньше пяти изъянов, и если же кто не мог убедить присутствующих в наличии у своей избранницы требуемых пяти дефектов, то обязан был заплатить штраф. При этом запрещалось приводить девушек с очевидными физическими недостатками – калек, горбатых, хромых, слепых и т. д. К смотринам допускались исключительно «кавалерист-девицы» (ноги колесом), «этажерки», «гладильные доски», «тумбы», «шкафы», «жирафы» и др.
Несколько раз подряд выигрывал Андрон, приводивший просто исключительные создания. Каждая его новая пассия оставляла впечатление непревзойденной страхолюдины, казалось, более страшной уже и не сыскать, но каким же было наше удивление, когда на следующую вечеринку Андрон приволакивал еще более неотразимое пугало. И, что самое интересное, в отличие от нас, Андрон еще какое-то время тусовался с этими страшилами, и нередко можно было увидеть, как наш красавец фланирует где-нибудь в центре рядом с оперой под ручку с очередной «тумбочкой», «бетономешалкой» или двухметровой «этажеркой», заставляя встречных пешеходов подолгу оглядываться на столь экзотическую пару. Собственно, то обстоятельство, что почти всегда выигрывал Андрон, снижало азартность нашей игры, и некоторые из нас, потеряв надежду обскакать везунчика Андрона, начали приводить на вечеринки вполне нормальных девушек с совсем незначительными и малозаметными недостатками, лишь бы провести время в свое удовольствие, даже и не претендуя на выигрыш.
По правде говоря, один-два изъяна при желании можно найти даже у мисс мира, а три-четыре – едва ли не у каждой девушки, зато с пятым всегда были проблемы. К каким только уловкам не прибегали ребята, чтобы убедить собутыльников в том пятом недостатке! Как-то Зеник привел девушку и уверял всех, что она заикается, однако, сколько мы ни прислушивались, ничего похожего не заметили. Зеник же настаивал на своем: мол, она заикается, когда слишком взволнована. Ростик заливал, что у его девушки один глаз стеклянный. Мы все по очереди перетанцевали с ней, заглядывая ей в зенки, и каждый одаривал при этом одним и тем же комплиментом: «Как прекрасны ваши глаза!»
Вечеринка, на которой я познакомился с Верой, состоялась в конце апреля. Я, чтобы не долго парить себе мозги, пригласил знакомую двадцатитрехлетнюю журналистку, отличающуюся весьма крупными формами, в частности, у нее были огроменный зад и грудь кормилицы. Наверное, в отдельности эти части тела было бы трудно счесть недостатками, однако ситуацию спасало незаурядное лицо – нос картошкой, гляделки – щелочки, волосы выкрашены в ужасный ядовито-красный цвет, а на месте выщипанных бровей – бутафорские подмалевки. Пятым недостатком были ее умственные способности: ее звали Люсей, и она была глупа, как китайская петарда.
Как и следовало ожидать, победителем снова оказался Андрон. Его красотка выглядела так, словно всю жизнь питалась одним салатом с черным хлебом, ноги у нее были не толще рук, грудь и ягодицы отсутствовали, то есть нечто, где у всех порядочных девушек содержалось мягкое место, у нее было, но брючки на этой плоскости безнадежно обвисали. Мы все смотрели на нее с нескрываемым удивлением, и каждый себе представлял, как же это создание трахается? И трахается ли вообще? Или, может, там щелочка такая, что только карандаш пролезет.
И тут я заметил гостью, которая абсолютно не вписывалась в эту сумасшедшую компанию. Это была высокая девушка с темными вьющимися волосами, большой грудью, идеальными ногами, слегка припухшими в бедрах, и с обалденным задом. Она не была худой, а скорее пухленькой, но в меру, и с точеной фигурой.
– Кто ее привел? – поинтересовался я.
Оказалось, что ее привел Ромко. Я тут же подсел к нему и спросил:
– А что же это ты, голубчик, нам лапшу на уши вешаешь? Зачем сюда кралю привел? Гони штраф!
– Спокуха. Ты просто ее толком не рассмотрел.
– Неужели думаешь нас убедить, что она имеет все пять недостатков?
– Конечно. Во-первых, зубы.
– Ну да, зубы.
– Ты видел ее зубы. Они редкие.
– Ну и что? Зато какие сочные аппетитные губы! К ним так и тянет присосаться.
– Но за губами прячутся зубы, и они редкие. Во-вторых, уши. Сейчас они скрыты прической, а вообще-то она лопоухая. В-третьих, у нее косоглазие.
– Ну, ты уже совсем загнул! Я же вижу, что это совсем не так.
– Сейчас, может, и не так. Она из тех косоглазых, у которых глаза переменчивые. Когда я с ней познакомился, она была совершенно косой. Сейчас вот выпила – и прошло. В-четвертых, она интеллектуалка.
– Что же это за дефект? – не врубился я.
– Ха! Да это же форменное уродство. Она не только интеллектуалка, но при этом еще и страшная задавака. Она прочитала Хайдеггера, усек? – Ромко сообщил это трагическое известие, жутко закатив глаза, словно речь шла о неизлечимой болезни. – Вот ты… прочитал Хайдеггера?
– Я? Нет, – честно признался я.
– Вот видишь. А она прочитала. И не только его. А еще и кучу других разных там юмов и попперов. Это же просто ужас. Такая молодая – и такая испорченная! С ней ведь ни о чем поговорить невозможно. Ты ей про онанизм, а она тебе про экзистенциализм.
– Ладно. Давай пятый дефект.
– Пятый? Пятый – самый страшный. Пятый такой, что просто капец.
– Ну?
– Только не смейся громко. Она – целка!
– Целка? Сколько же ей лет?
– Двадцать два.
– И целка?!
– Интеллектуальная целка! Полный абзац. Имея такие сиськи и такую задницу, быть целкой – преступление.
– И ты собираешься избавить ее от этого последнего недостатка?
– У меня ничего не получится. Моего интеллекта, увы, не хватит даже на одно свидание.
– Как же тебе удалось затащить ее сюда?
– У нее есть сестра. Моложе на два года. Вот она и рассказала мне про свою старшую, которая целыми днями сидит над книгами, света Божьего не видит, все читает и читает, даже телевизор не смотрит. Вот младшенькая и уговорила меня, чтобы я сестру вытащил на какую-нибудь вечеринку, поразвлечься, с парнями познакомиться. А то ведь ей, младшей, неудобно – она моложе, и уже давно не целка, а эта – старшая, а все еще девственница. Понимаешь? Меньшая возвращается поздно, а эта грызет ее: «Где ты таскаешься? Хочешь СПИД подхватить?» Пилит со страшной силой. Достала уже девчонку. А однажды, когда увидела у нее презервативы, обещала все родителям рассказать. Такая вот стерва. Ну, я и приволок ее сюда. Может, кто клюнет. Скажи честно, тебе она нравится?
– Нравится – не то слово.
– Забирай. Отдаю задаром. Для тебя не жалко, хотя и ты этого Хайдеггера не читал. Но ты, по крайней мере, прочитал кучу всякого другого хлама, так ведь? Думаю, ты ей баки забьешь.
– Ас чего ты вдруг этим так озаботился? Чтоб мне на этом месте провалиться – хочешь поиметь ее сестру!
– Только между нами – уже поимел. С ее сестрой легко, она, кроме комиксов, других книжек в руках не держала. Так вот, скоро их родители махнут на море. Сестренки останутся дома одни. Там такая квартира – атас! А я, блин, должен по паркам ей газетки подстилать. Так вот, если ты ее закадришь, будем развлекаться с сестричками в соседних комнатах. Там такой бар! Ты пил банановый ликер? Давай, вперед. Даю досье: она тащится от этого чувака, ну который «Имя розы» написал с Шоном О’Коннери.
– Умберто Эко.
– Во! А еще от Маркеса, Кортасара, словом, от всех латиноамериканцев сразу. А последнее, что ее вставило, – Генри Миллер.
– Фантастика! У него только то и делают, что трахаются. И мат на мате.
– О, запомни: не дай бог в ее присутствии брякнуть какую-нибудь явную глупость или рассказать неприличный анекдот. Это будет полный облом. Из анекдотов – только абстрактные. Типа летят два напильника, плывут три сковородки… Если с репертуаром проблемы, можешь одни и те же шутки рассказывать ей хоть каждый день, она их тотчас забывает… Так, что еще… Ага. Пьет только сухие вина, мороженое не ест, кофе не употребляет, зато гоняет чаи. Для начала достаточно, а возникнут вопросы – обращайся.
Здесь я заметил, что моя девушка уже начинает нервничать, бросает в мою сторону беспокойные взгляды.
– Хорошо, но ты должен нейтрализовать мою подругу.
– Вот эту самоходную пушку?
– Можешь пригласить ее на танец. А я пойду к твоей. Как ее звать?
– Вера.
Она красовалась с бокалом вина перед какой-то картиной, что висела на стене, и, возможно, пыталась разобраться, что же там нарисовано. Напрасный труд – этого не знал даже автор. Я пригласил ее танцевать. Она загадочно повела бровями, словно мое приглашение ее чрезвычайно удивило, поставила бокал на стол, и мы пошли топтаться в меланхолическом покачивании.
– Если бы мы устроили здесь конкурс красоты, вас непременно назвали бы королевой, – выпалил я для начала.
– Не думаю. Вкусы у большинства здешней публики слишком оригинальны, я совершенно не вписываюсь в их идеалы. Это Ромко посоветовал вам меня закадрить?
– Нет. Я сам обратил на вас внимание. А когда спросил его о вас, то узнал вдруг, что вы прочитали Хайдеггера. Это меня впечатлило. Ведь барышни в своем развитии преимущественно останавливаются на Франсуазе Саган. А тут – Хайдеггер.
– Вы хотите поговорить о Хайдеггере?
– Упаси Бог. Я столь высоко не взлетел. Предпочитаю кайфовать над античными и восточными философами.
– Восточными? – переспросила она. – Какими именно восточными?
– Китайскими, японскими… Лао-Цзы, Чжуань-Цзы… Вообще-то я увлекаюсь и их литературой. Вы читали Акутагаву Рюноске?
– Нет.
Ура! Один ноль.
– А фильм Акиры Куросавы «Расемон» видели?
– Конечно. Я видела несколько фильмов Куросавы. А к чему здесь «Расемон»?
– Он снят по новеллам Акутагавы.
– Правда?
В ее глазах вспыхнул неподдельный интерес. Именно такой загорается в глазах рыбака, когда ему подсказывают, что именно в этом месте хороший клев.
– А еще советовал бы вам прочитать дневники Сей Сенагон, Кенко-Хоси или Басе, или прозу Ихары Сайкаку! Это сплошной кайф.
– А в вашей библиотеке есть их книги?
– У меня есть все, что издавалось в переводах с древней восточной литературы.
Мы плавно переходили из танца в танец, не ослабляя объятий, а наоборот, незаметно прижимаясь все теснее, так, что вскоре она замкнула свои руки на моей шее и мы уже перешли на шепот. Вера пробовала удивить меня теми авторами, которых она прочитала, но это было невозможно. Я знал все. Иное дело, что многое из всего этого мной было не читано, в чем я честно признавался, однако все прочитанные и непрочитанные авторы были зарегистрированы в моей голове в аккуратном порядке, я помнил, что они написали, и знал, почему не хочу их читать. Зато я потряс Веру несметным количеством неслыханных книг. Она глотала информацию с какой-то фантастической ненасытностью, вбирала ее, словно губка, и в это время с ней, казалось, можно было делать все. По крайней мере, мы не разжимали объятий даже в паузах между мелодиями. Наконец я решил проверить, насколько мне удалось ее увлечь, и заманил на балкон. Там я обнял ее и стал целовать вначале за ушком, как будто нечаянно, затем язык мой легко нырнул в ушную раковину, и я ощутил, как тело ее напряглось, и она начала водить головкой, далее я зацеловывал ее щечки, и снова она, прикрыв глаза, водила головкой, то приближая свои губы к моим, то отдаляя, но уже позволяла прикоснуться к ним насухо. Однако поцеловать себя все же не дала, хотя я уже видел, что нахожусь на полпути.
Очнулась она в полдвенадцатого и заявила, что ей пора. Я попробовал уговорить ее остаться, но из этого ничего не вышло. Я сказал, что проведу ее, она не возражала, и мы ушли с вечеринки по-английски. По дороге продолжили наши интеллектуальные упражнения, возле подъезда я обнял ее снова, пожевал ушко, чмокнул в единственное место, коим она меня удостоила, – щечку, и, обменявшись номерами телефонов, мы распрощались.
С того вечера мы начали встречаться, но дальше поцелуев в ушко и щечку дело не шло. Она охотно поехала ко мне домой, чтобы насладиться моим книжным собранием, но все, чего я от нее добился, – это, наконец, поцелуй в губы. Короткий и без особой страсти. Она уступала, подчинялась, однако сдержанно, миллиметр за миллиметром, и кажется, совсем не была намерена ускорять ход событий. Это меня возбуждало и раздражало одновременно, и кто знает, как бы долго я это терпел, если бы не Лида, которая полностью замкнула на себе все мои сексуальные потребности. В таких условиях торопить события с Верой мне было ни к чему.
2
Каждая из моих девушек имела свою неповторимую грань, отсутствующую у других. У Веры был интеллект. А девушка с интеллектом встречается еще реже, чем целка. Эти тепличные растения произрастают преимущественно в сакральной тишине комнат, забитых книгами, которых обычно не читает никто, кроме них самих. Постепенно одного лишь чтения им становится недостаточно, и они начинают кропать что-то на бумаге, совершая таким образом две непоправимых глупости: увеличивая количество книг и уменьшая количество женщин. С той поры они уже перестают быть женщинами и превращаются в волшебниц, фей, небесных созданий, в их жилах течет не кровь, а нектар. Интеллектуальные дамы молчаливы и задумчивы. Да и в самом деле, о чем можно говорить с девушкой, прочитавшей Хайдеггера? С ней можно только молчать. Если вам придет в голову завести знакомство с такой девушкой и вы начнете беседу о привычных в таких случаях необязательных мелочах, она смерит вас таким взглядом, что вы на целых полгода останетесь импотентом.
Вера прочитала не только Хайдеггера, но и Ницше, Фрейда, Маркузе, Леви-Стросса, Юма, Поппера, Канетти, Сартра и бесчисленное количество других монстров. Одно лишь осознание того, что передо мной открылась столь впечатляющая сокровищница знаний, вызывало во мне неудержимое желание, которое приходилось удовлетворять подолгу и методично. Когда я лежал на Вере, мне казалось, что передо мной все книжное собрание мира. Трахая Веру, я поимел Гертруду Стайн, Вирджинию Вульф, Айрис Мердок, Эмили Дикинсон, Франсуазу Саган, Сильвию Плат, Натали Саррот, Джоан Роулинз, Лесю Украинку и Оксану Забужко. Они лепетали мне на всех языках мира, и я казался себе языческим жрецом, обязанным непрестанно кого-то домогаться и иметь, приводя таким образом в движение эту говенную планету.
Верино лоно напоминало роскошную апельсиновую рощу, и когда я прикладывал к нему ухо, то ловил шум морского прибоя, крики чаек, ветер в снастях парусников, прибывающих из Византии, Ассирии, Египта, груженных слоновой костью, имбирем, перцем кайенским и цинамоном… Там, в его глубинах, пульсировало сердце океанов, дивные мистические рыбы взблескивали глазами в чащах красных кораллов, извивались похотливо водоросли, и когда я погружал свой блудень, то даже слышал, как задевали о него упругие рыбины и скользкие медузы, заплетались ламинарии и хороводы русалок.
Мне чудилось, что когда я заглядывал в глубины ее лона, то видел всех тех хайдеггеров, как они, голые по пояс, загоревшие, словно пираты, обливаясь потом, тащат огромные мешки с пряностями, разгружая заморские корабли. Ускользая в бездны Вериного лона, я чувствовал, как вся премудрость мира переполняет меня. И тогда меня охватывал страх. Как я смел проникать сюда своим тупоголовым босяком, этим брутальным тараном, который создан для разрушения вражеских фортеций, пробивания дубовых врат, изничтожения Карфагена, – сюда, в эту страну миражей, в эти нежные теплые глубины?!
Мне нравилось прятаться в ее лоне, словно в гнездышке, и представлять себя маленьким пушистым медвежонком, а вглядываясь в него в густой темноте, видеть, как вокруг сияет золотой нимб, казалось, вот-вот оттуда выкатится утреннее солнце точно так, как восходит оно из Необозримого Влагалища Небесного и заходит в него. Попробуйте поиметь девушку, развернув ее роскошницей к солнцу, словно подсолнух, – вы почувствуете, как неизъяснимая сила втягивает вас вовнутрь, как поднимаются навстречу волны и обволакивают жезл. Когда я касался пальцами сокровенных врат ее лона – оживали звуки невидимой тайны, неясные намеки звуков, меланхолия пространства с бесконечными коридорами лабиринта. Как у большинства интеллектуальных барышень, Верино влагалище было сомкнуто, как раковина устрицы. Наслаждались ли вы когда-нибудь устрицами? На вкус они напоминают роскошницу Веры. Устрицу едят еще живой, приправив перцем, солью и уксусом, тогда она начинает пульсировать, дрожать, и, собственно, такую обезумевшую устрицу глотают, запивая белым вином. Я вкушал Верину роскошницу, ничем не сдабривая, а она пульсировала, дрожала и сходила с ума, сначала пробуя мой язык, затем поглощая меня с головой, и руками, и ногами, засасывая меня всего, и я превращался в беззащитную устрицу в горячих устах влагалища, я не владел собой, растворяясь в ее неизбывных соках, становясь ее частицей, малюсенькой и незаметной.
3
Вообще, если честно, Вера имела на меня все права – ведь это я лишил ее невинности. Проживая в Галиции, вы не можете быть уверены в том, что, заманив девушку к себе домой, более того, оставив ее на ночь, сможете уломать ее. Она может оказаться целочкой, и всю ночь вы потратите лишь на выслушивание ее нравоучительных монологов о чистых чувствах. И не более того. Правда, целочки бывают разные. Одни не разрешат снять с себя даже туфелек, другие сбросят все, но до истерики будут зажимать свои трусики.
У женщин каждого народа найдутся свои конкретные части гардероба, которые они защищают до конца. У галичанки – это трусики. Вы можете все с нее сорвать, ласкать везде, даже самые экзотические и закрытые места и зоны – однако снять трусики она вам не позволит, вцепится в них пальцами, так что те побелеют, скрестит ноги в такой замок, что, кажется, только смерть заставит его разомкнуться, будет извиваться и взбрыкивать, словно змея и дикая лошадь в одном лице. Это огромное счастье, что мы живем в эпоху трусиков тоненьких и нежных, которые можно просто разорвать. А представим себе, как мучались наши отцы, раздирая добротную крепкую фланель?..
И все же когда вам наконец удастся совлечь с нее этот последний символ независимости, она сразу сникает обессилено и с неизъяснимой печалью раздвигает ноги. Есть и такие, что обязательно спросят, когда начнешь стаскивать с них джинсы: «А что потом?» Честно говоря, у меня от такого вопроса все сразу падает. Встречаются и такие целочки, которые, не разрешая снять с себя трусики, с радостью примут вставень в любые другие места. К таким относилась и Вера. Роскошницу она хранила для мужа. И это в свои двадцать два года! Мне еле удалось убедить ее, что он того не стоит.
Пробивание целочки – акт, исполненный истинного драматизма. Существует бесчисленное количество мужчин, которые за всю жизнь не повстречали ни одной невинной девушки. Не знаю, за что меня Бог наказал, но судьба посылала мне преимущественно целочек. Я понял, что этот крест надлежит нести с достоинством, и я нес его, не жалуясь, однако же и не млея от восторга. Добродетель – это нечто такое, что соединяет девушку с Пречистой Девой, и, потеряв ее, она разрывает священную связь. Тоненький лепесточек целочки, словно мембрана в ухе, чутко принимает сигналы из космоса и посылает обратно, когда вы ее пробиваете, в небесах происходят необратимые катаклизмы. Поэтому девушка, угостившая вас своей добродетелью, отчего-то считает, что после этого вы становитесь как бы вечным стражем ее влагалища. До сих пор мне приходится выслушивать любовные стенания своих прежних подруг, в чьих влагалищах я прописан уже навеки.
Если гетман Хмельницкий держал Збараж в осаде целых полгода, то Верину фортецию я взял за месяц. Перед тем мы исправно занимались оральным сексом, что для Веры было в порядке вещей.
– Все вы, мужчины, одинаковы, – говорила Вера. – Вам бы только своего добиться. Пока ты не лишил меня девственности, я знаю, что ты меня не бросишь. А если лишишь и бросишь, то как я объясню все своему мужу?
– Думаешь, он будет тебя допрашивать?
– Почему бы и нет? Это его право.
– Тогда он дебил. Ты найди себе такого мужа, чтобы он не комплексовал по поводу того, что у тебя был кто-то до него.
– А разве бывают такие, что не комплексовали бы?
Я хотел ответить: «Конечно! Я такой!» – но удержался.
– Это очень больно? – спросила она, когда я наконец уговорил ее отдаться по-настоящему.
– Да нет, а если перед тем хорошенько выпить, то вообще ничего не почувствуешь.
– Обманываешь ты меня. А вот мама говорила, что это очень болезненно и кровь течет.
– Ты бы еще бабку свою спросила.
– Я спрашивала, но бабушка уже не помнит.
Через некоторое время она все же решилась.
– Может, мы попробуем чуть-чуть, хорошо? Если мне больно станет, я скажу.
Я согласился, но только обнял ее, как она спохватилась:
– А что, если пойдет кровь? Нужно что-нибудь подстелить.
– Подложи под себя книгу. Я потом буду хранить ее как реликвию.
– Издеваешься? С книжкой неудобно.
– А полиэтиленовый пакет сойдет? – спросил я, теряя терпение.
– Нет-нет, он слишком мал. Ведь неизвестно, сколько крови я потеряю.
Пришлось мне сходить на кухню, снять со стола клеенку и учтиво разостлать ее на постели.
– Ой, она такая холодная! – съежилась Вера. – И почему так колет?
– Это хлебные крошки, ничего страшного.
– А что там такое мокрое?
– Наверное, кофе.
– Что ты делаешь? Зачем ты меня переворачиваешь?
– Успокойся. Пробивать целку лучше сзади.
– Это правда? Впервые слышу.
– Доверься мне.
– Ой, мы забыли выпить.
Скрежеща зубами, я налил ей полный стакан вина, и Вера выпила его легко, как воду.
– Погоди, – сказала она, – я еще не опьянела.
Для большей уверенности я влил в нее еще один стакан. И только после этого начал проникать в святая святых. Как и следовало ожидать, опасения Веры оказались напрасными, боли она не ощутила, а крови было, словно кот наплакал.
– Признайся… я у тебя была первой целкой? – спросила Вера, скользя указательным пальцем по моей волосатой груди.
Если обесчещенная вами добродетель любопытствует, была ли она для вас первой, не разочаровывайте: все равно она не поверит. Однако же мне в моем возрасте врать не пристало, и я сказал, что первой целкой была моя жена. И Веру это вполне устроило.
4
Как я уже намекал, Вера не только много читала, но и писала стихи. Некоторые из них посвящала мне и моему фаллосу. Это возвышало меня над другими мужчинами, я гордился собой, своим стержнем, жезлом, вставнем, щупом, босяком, блуднем, змеем, ялдаком, торчиллом, нашептывал Вере слова, которых не говорил никакой другой девушке, ведь другая бы их не восприняла, не постигла бы их потаенного смысла. Но во всем остальном Вера, как и большинство женщин, была с детства наделена инстинктом собственницы: она жаждала владеть мной отныне и присно, пережить мою смерть, а потом приносить на могилку цветы, разобрать мои бумаги, завершить незавершенное, опубликовать неопубликованное, что-то добросовестно сжечь, а что-то вымарать, успевая при этом изо дня в день педантично кропать воспоминания. И все же я удачно ускользал из всех расставленных ею капканов, не позволяя унизить мою независимость, вызывая разочарование и гнев, ну а поскольку жажда овладения, оставаясь неудовлетворенной, делает человека зависимым от объекта страсти, то в результате Вера пребывала в непрестанных поисках новых способов порабощения, направленных на то, чтобы я чаще думал о ней, жил с ней и в ней. С этой светлой целью Вера стала писать мне письма, словно мы были разделены сотнями километров. Оказалось, что она делала это, обуреваемая навязчивой мыслью, что когда-нибудь нашу переписку можно будет издать отдельной книгой, и вообще было бы прекрасно, если бы эта книга оказалась толстой-претолстой. Она сочиняла письма длинные и путаные, разбирая по косточкам наши отношения, анализируя отдельные фразы, даже никчемные, брошенные мной от нечего делать, забытые и похороненные в глубинах сознания, однако Вера их вытаскивала, сдувала пыль, отряхивала, выглаживала и снова расстилала передо мной, чтобы наглядно показать мне, каким я был врединой. Она заставляла меня посылать ей ответные письма, и я выдавливал из себя какой-нибудь неуправляемый словесный поток, в котором совершенно тонул здравый смысл. Впрочем, Вера вполне серьезно считала, что мои письма напоминают «Поминки по Финнегану» Джойса – они пронизаны таинственным подтекстом, расшифровать который способен разве что космический разум. Она настолько прониклась благородной целью моего усовершенствования и достижения собственного идеала, сформированного ею под влиянием прочитанных книг, что я с содроганием начал ощущать себя инфузорией под недремлющим оком микроскопа.
Марьяна
Глава седьмая
Вначале были письма. Первое письмо от нее в самодельном конверте с веселыми розовыми цветочками благоухал духами на всю редакцию «Post-Поступа». Редакционную почту аккуратно сортировали по карманчикам с фамилиями журналистов, и не было дня, чтобы мой карманчик не распухал от писем и записок. Правда, сюда вкладывали письма, адресованные не только мне, но и пани Алине, описанной мною в «Девах ночи», моя героиня находилась на вершине славы, читатели спрашивали у нее совета и умоляли зачислить на учебу в школу любви. И все же столь странного конверта еще не попадалось.
– Кто это тебе пишет? – принюхивались мои коллеги, ставшие очевидцами священной сцены вскрытия благоуханного конверта, однако я, предвкушая нечто таинственное и интимное, веющее от этого письма, уединился в тихий уголок, чтобы прочитать его без соглядатаев.
Ее письма адресовались человеку, с которым она не была знакома. Писала о том, как увлеклась моими произведениями, читает все подряд, что печатается под моим именем, и даже завела специальную папочку, куда собирает вырезки. Сверху на папке она вывела большими красными буквами мое имя и обрамила яркими узорами. Этой папочкой я был тронут настолько, что прочитал и стихи, которые она мне прислала. Стихи оказались вполне грамотными и, честно говоря, мало походили на те беспомощные вирши, которые многие сочиняют в ее возрасте, в то же время они были холодны и рафинированы и словно бы написаны разными людьми, под влиянием которых и находилась начинающая поэтесса. Мне представилась девушка с огромным бантом, в белом школьном передничке и с толстыми ножками. Кажется, я забыл сказать, что она училась в десятом классе. Толстые ножки, широкая талия, солидный задок и пышная грудь – такой я ее видел в своих эротических фантазиях. Объяснялось это тем, что две предыдущие юные поэтессы, нуждавшиеся в моих консультациях, были именно такими. Писали они свои чудовищные стихи и не подавали даже малейших надежд на будущее как поэтессы, зато вполне подходили для того, чтобы утешаться чистой лирикой в горизонтальном положении. В перерывах я давал им уроки литературного творчества, подсовывал книги, растолковывал суть метафоры и амфибрахия, делая вид, что до глубины души озабочен развитием их необыкновенных талантов, и не особенно печалился, что все мои попытки раздуть искорки этих талантов превращались в лопающиеся мыльные пузыри.
Всю зиму мы писали друг другу письма, наполненные холодной меланхолией и безудержным сентиментализмом, ближе к весне уступавшими место здоровой иронии, писали по два-три раза в неделю. Стиль наших посланий был удивительно эклектичен, она старалась писать даже слишком литературно, очевидно подражая различным стилям, да так, что иные ее письма живо напоминали эмоциональные излияния какой-нибудь французской дамочки позапрошлого века. В то же время она с легкостью необыкновенной, словно бисер, рассыпала налево и направо разнообразные идеи, в частности и философские, блистала мудреными цитатами, премного удивляя меня блеском эрудиции, которая, впрочем, нередко изменяла ей из-за отсутствия систематических знаний, и тогда становились очевидными хаотичность, поверхностность и желание немедленно поделиться прочитанным, а также узнать и мое мнение. Не раз я ловил себя на мысли, что автором этих писем могла быть вовсе и не десятиклассница, а девушка постарше, но, с другой стороны, девушка повзрослей должна быть уравновешенней, сдерживать эмоции, не перепрыгивать козочкой с темы на тему и не потчевать меня причудливой смесью из впечатлений от прочитанного Кафки, увиденного фильма Феллини, подаренного белого котенка, утерянной записной книжки, бабушкиного торта… К тому же она любила затевать дискуссии, что-то доказывать, в чем-то меня убеждать, тогда как я старался избежать этого, ибо терпеть не могу дискутировать в переписке, превращающейся из-за этого в затяжное занудство. Я предпочел бы спорить вживую, но все мои попытки наладить другой, не почтовый контакт разбивались, как волна о камень. Это было не совсем честно с ее стороны, ведь она прекрасно знала, как я выгляжу, по тем фотографиям, что растиражировала газета, тогда как я мог положиться исключительно на свою фантазию. Иногда Марьяна мне снилась, и тогда я слышал ее голос, брал ее за руку и внимал, что говорят пальчики. Проснувшись, никак не мог вспомнить, как она выглядела в моем сне, однако тепло ее пальцев, дыхание губ оставались еще долго. Почему-то в снах она была не такая, как в моем воображении, – высокая, стройная, безо всяких излишеств.
Со временем это начало меня раздражать. Я чувствовал себя оскорбленным. Сколько же можно играть в прятки? Почему я каждый день должен думать о той, кто всячески избегает меня? А что если она окажется какой-нибудь уродиной? Что ж – и такое возможно. Умные девушки редко бывают красивыми. Конечно, есть исключения, но они, как известно, только подтверждают правило. Умные девушки обычно невысокие. Разве вам встречалась интеллектуальная каланча? Если и да, то это было не что иное, как очередное исключение. И ничего удивительного – исключения встречаются на каждом шагу и при любом случае. Я и сам принадлежу к исключениям. Большинство писателей нуждаются в материнской опеке и прилепляются, как минимум, к своим однолеткам или даже к женщинам старше себя. Но есть исключения. И это я. Мне больше нравится играть роль заботливого папульки. Если же кроме этого я еще смогу быть и любовником, то это лишь свидетельствует о моей завидной полифункциональности. Человек-оркестр: кормит-поит, одевает-раздевает, голубит-ласкает – играет…
Я не имел даже ее адреса и писал на абонентский ящик. Однажды мне пришло в голову, что все это, возможно, лишь чья-то игра. Кто-то надумал меня разыграть и теперь потешается над моей наивностью, исподтишка наблюдая, как я покорно втягиваюсь в навязанную мне игру. Исподволь эта догадка все назойливее преследовала меня, и в конце концов я перестал отвечать на ее письма, сообщив предварительно, что в дальнейшем стану общаться с нею только с глазу на глаз.
Прошла неделя, и не было дня, чтобы я не заглядывал в карманчик, а когда минула еще одна неделя, я начал заметно нервничать и даже корить себя за такую поспешность. Я вдруг осознал, что мне не хватает этих писем и что опрометчивым своим ультиматумом я все испортил, хотя вместе с тем просыпалось и подозрение, что, возможно, меня все же кто-то разыгрывал и сейчас, когда я отказался от переписки, просто выжидает. Выжидает и наблюдает. Я стал внимательнее присматриваться к отдельным сотрудницам газеты, ловить на себе их взгляды, нередко, как мне казалось, подозрительные и даже коварные. Подумалось, что уже то, как я, едва переступив порог редакции, словно голодный лось к кормушке, бросаюсь к карманчику с корреспонденцией, должно изрядно их потешать. Это предположение окрепло, когда однажды я вместо того, чтобы направиться к карманчику, уселся за свой стол и начал раскладывать бумаги. Обычно я приходил на работу всегда после обеда, сдавал свои странички и к четырем-пяти часам был свободен. Но в этот раз я отдался работе с небывалым самозабвением, старался даже глазом не повести в сторону заветного карманчика. И вот когда я уже сдал все свои материалы в номер и сел спокойно просмотреть свежую прессу то вполглаза заметил, как оживленно перешептывается троица девушек, украдкой посматривающих в мою сторону, а когда одна из них спросила, отчего это я не забираю свою почту, готовую уже вывалиться из разбухшего карманчика, я почувствовал огромное желание убить их всех трех одним выстрелом. Вместо этого пробормотал что-то неразборчиво, продолжая ловить их заинтригованные взгляды. В моей душе бушевал вулкан, и горячая лава злости плескалась в груди. Я уже не сомневался, что стал жертвой их шутки, жестокой и подлой, а значит, непростительной. Я еле сдержался от того, чтобы не высказать им все, что о них думаю, и уйти, громко хлопнув дверью. Уйти вон из газеты и больше никогда сюда не показываться.
Но я овладел собой и, игриво усмехаясь, спросил сотрудниц, отчего это их так волнует моя корреспонденция.
– Она бы нас никогда не волновала, если бы мы не видели, кто тебе вчера бросил конверт.
Я остолбенел: что бы это значило? Игра продолжается? А что, если это не игра, а все происходит по-настоящему? Но ведь она никогда не приносила писем лично, а присылала их по почте. Сомнений не было: меня разыграли.
– И кто же это был? – спросил я равнодушным тоном, еле сдерживая в себе вулкан гнева и ярости и желание скорей броситься к карманчику.
– Такая краля, что закачаешься, – хихикнула одна.
– Наверное, юная поэтесса, – пырснула смехом другая.
– А я думаю, это была красавица из школы любви пани Алины, – разразилась хохотом третья.
Еще мгновение – и я бы, наверное, воздал пересмешницам должное, но неожиданно их лица стали снова серьезными, а взгляды вперились в дверь, что была за моей спиной.
– О-ой, – захлопала ресницами одна из моих коллег шелкоперок, – это она…
Я резко обернулся и увидел высокую девушку с длинными распущенными волосами и в короткой юбочке, из-под которой виднелись НОГИ (Господи, о чем я пишу? Ясно, что ноги, а не колеса спортивного велосипеда. Но это были действительно НОГИ в черных чулках, ведь, собственно, НОГИ бросались в глаза прежде всего, они приковывали взгляд и не давали возможности воспринимать ничего иного вне себя. И надо сказать, я был не единственный, кто вытаращился на ее НОГИ. Половина редакции созерцала это чудо с восхищением, половина – с завистью.
И вот тогда, когда мои глаза ласкали ее кругленькие колени, пытаясь проскользнуть хотя бы на сантиметр под оборочку ее юбочки, она протянула мне цветы и вымолвила:
– Это вам.
Я приблизительно знаю, как дарить девушкам цветы. Но вот как принимать цветы из рук девушек – хоть убейте меня, – не знаю до сих пор. Когда это было на сцене в «Не журись!»[4] – там все понятно: берешь букетик, чмокаешь в щечку и шепчешь: «После концерта заходите за кулисы на чашечку кофе». Бывали такие, что приходили. Правда, за кулисами в полумраке я их часто не узнавал: в сценическом ярком освещении мои поклонницы выглядели намного привлекательнее…
Она была намного красивее, чем я ее представлял. Это юное создание излучало сияние расцветающей красоты и свежей прелести, огромные черные глаза и здоровый румянец на чуть припухших щечках – а я уже, как шмель, затрепетал незримыми крылышками, и душа моя зажужжала от нервного возбуждения.
Я взял цветочки с таким выражением, словно принимал гуманитарную помощь от Монгольской Республики. Руки мои дрожали, я раскрыл рот, но застигнутые врасплох слова сплелись в сплошной клубок, распутать который я был уже не в силах. Мне захотелось спросить ее, действительно ли она та самая девушка, что посылала мне письма, но боязнь услышать «нет» сковывала. Я чувствовал, что здесь я разговаривать не мог, это было бы равноценно самоубийству. Когда столько пар глаз едят тебя поедом и с нетерпением ждут, а что будет дальше, невозможно сосредоточиться, подыскать нужные слова. И тогда я решил не говорить, а действовать.
– Ну, чао! – махнул я театрально рукой всем свидетелям сцены и, взяв девушку под руку, вывел ее, не забыв вручить цветы секретарше: «Поставьте, пожалуйста, эту роскошь в хрустальную вазу на моем столе…» Не хватало еще, чтобы я на глазах этой завистливой публики возился с цветами.
В глазах девушки искрились смешинки, она не скрывала удовольствия от созданного ею эффекта. Ее сочные вишневые губы казались мне живым воплощением добродетели и чистоты. Мы вышли на Академическую, и я наконец выжал из себя:
– Значит, это ты и есть та самая таинственная Марьяна.
Не услышав возражений, я начал что-то плести про ее стихи, они вполне хороши, даже очень талантливы, но писать в таком стиле нет смысла, ведь так пишут десятки, да что там – сотни поэтов, но мою менторскую тираду она оборвала просто и непринужденно:
– А это не мои стихи. Я вообще стихов не пишу.
Я онемел, не зная, возмущаться мне или смеяться.
– В таком случае… тогда чьи это стихи?
– Да так… я их из какого-то журнала переписала.
Тут она сама засмеялась и весело взглянула на меня.
– Зачем? – спросил я.
– Чтобы познакомиться. Разве не ясно?
– Но ты могла и так познакомиться.
– Так не интересно. Если бы я написала письмо без стихов, вы бы мне не ответили.
– Почему? Я обязательно отвечаю на все письма, – сказал я первую неправду.
Марьяна снова взглянула на меня со смехом, и я подумал, что она, наверное, не такая уж и простушка. Я не знал, о чем даже говорить, меня подмывало спросить, зачем она хотела со мной познакомиться, но я сдерживал себя, боясь услышать что-нибудь вроде: «А так просто. Посмотреть, какой вы в жизни. Ну, чао!» Странно, почему я ощутил тогда этот страх, словно бы ожидал от знакомства с ней чего-то особенного и боялся отпугнуть, хотя, по правде говоря, зачем она мне сдалась? Шпана жопастая. Подумаешь – ноги.
– Ну, не сердитесь, – легонько толкнула она меня и взяла под руку. – Мне хотелось поговорить с вами. После того, как я прочитала ваши произведения.
Не ты первая, кому хочется со мной поговорить, подумал я. И уже не знаю о чем: о пани Алине, о том, что было на самом деле, а что я выдумал, собираюсь ли писать третью часть «Дев ночи» и т. д.
– Ну, и о чем бы ты хотела поговорить? – спросил я скучающим тоном.
– А так – ни о чем. Просто побеседовать.
– Так ты не собираешься расспрашивать меня об истории написания «Дев ночи»?
– А зачем? Ведь правду вы все равно не скажете.
Она была права. И нравилась мне все больше.
– И тебя не интересует, буду ли я писать продолжение?
– Нет. Меня вообще ничего не интересует. Хотела рассмотреть вас вблизи…
– Вот оно что! – и я затаил дыхание.
– Я почувствовала, что вы именно тот человек, который сможет мне помочь.
Это лучше того, что я предвидел, но хуже того, чего мне бы хотелось.
– И чем я могу быть полезен?
– Не все так сразу. Вам не кажется, что вы слишком торопите события? У вас даже не хватило терпения спокойно переписываться со мной. Вы возжаждали меня увидеть. Сейчас! Немедленно!
Я чувствовал себя школьником, которого сейчас поставят в угол.
– Вы разрушили романтичность наших отношений. Их тайна, загадочность – все развеялось.
– Мне кажется, тебе следовало бы не мне письма писать, а Стендалю. Жаль, что он не дожил до этого счастливого дня.
– Но Стендаля нет. Нет Бальзака. И Цвейга нет. И Ремарка… Но я же должна кому-то писать. Я выбрала вас.
Неужели я должен был ей сказать, что выбор неудачен?
– А что было бы, если бы я не поторопился и наша переписка продолжилась?
– Все проистекало бы намного естественнее. Мы бы значительно больше узнали друг о друге. Первая наша встреча могла бы происходить вообще без слов. Представляете, как это мило? Мы бы пошли в парк, вокруг осень, листва шуршит под ногами, и мы слушаем это как музыку.
– Ага, так ты планировала затянуть все до осени.
– Я ничего не планировала, это я образно высказалась. Я, честно говоря, настолько обиделась на ваше последнее письмо, что решила вас вычеркнуть из… – здесь она сделала паузу и исправилась: – Я решила забыть о вас. Впрочем, вам об этом известно.
– И что же именно?
– Разве вы не прочитали мое вчерашнее письмо?
– Так ты и вправду заходила вчера в редакцию? А я-то думал, что меня разыгрывают. Ведь ты же никогда прежде этого не делала. Почему ты не воспользовалась почтой?
– Значит, вы не читали мое письмо.
– Не прочитал, не успел.
– Я нарочно зашла в редакцию вечером, когда журналистов там уже нет, но еще на месте самые заядлые сплетники – секретарша, корректоры, реклама. Я хотела, чтобы меня увидели и рассказали вам. И чтобы вы затем кусали от отчаяния локти. Ведь я написала, что не соглашаюсь на ваш ультиматум. То было прощальное письмо.
– Вот как. И напрасно. Я-то полагаю, что мы с тобой достаточно долго переписывались, чтобы понять: нам будет интересно вместе.
– Значит, это вы строили планы, а не я.
– Ничего подобного.
– Но ведь это так. Вы восприняли мое желание переписываться с вами как намерение сблизиться. Разве вам не пришло в голову, что переписка ценна сама по себе? Однако в вас проснулся собственник. Вам стало мало писем, возникло желание непременно заполучить еще и их автора. Но давайте представим такую картину: появляюсь не я, а девица, скажем, не в вашем вкусе. То есть какое-то невзрачное, жалкое, совсем неинтересное создание. И что тогда? Вы так стремились увидеть то, о чем мечталось, овладеть им, а когда оно возникло перед вами – вы в ударе! Хотела бы я видеть вас в такой момент. Я даже пыталась уговорить одну свою неказистую подругу пойти сегодня к вам, выдать себя за Марьяну А сама наблюдала бы со стороны. Думаю, это был бы чудесный аттракцион. Ну да, вы, наверное, соблюли бы кое-какие приличия, пригласили бы серенькую на кофе, посидели с ней часок, пообщались, дали бы несколько бесценных советов о том, как надо писать стихи, а затем: чао, бамбино, сорри. Разве не так?
Я проглотил ее слова, как горькую пилюлю, не запивая. Все, что она спрогнозировала, тютелька в тютельку, соответствовало тому, что могло бы произойти на самом деле.
– Увы, моя подружка от такой роли отказалась. К сожалению.
– И ты передумала со мной прощаться.
– Передумала. И знаете почему? Я вспомнила одну истину, которую услышала еще от своей бабушки: все мужчины одинаковы. Я подумала, что вы поступили так, как сделал бы на вашем месте любой другой мужчина. И поняла, что зря на вас сердилась. Это все равно что обижаться на холодный снег – теплым он никогда не станет.
С Академической мы свернули на Чайковского и вышли на Стефаника. Прохожие бросали на нас заинтересованные взгляды: сорокалетний и маститый с семнадцатилетней отроковицей под ручку – не слишком привычная картина для Львова. Возможно, где-то в Париже или на Гавайях это было бы нормой, но здесь вызывало вопросы. Кое-кто даже оглядывался. И было от чего: на папулю с любимой доченькой мы мало походили. Встречались и знакомые, они придирчиво разглядывали мою спутницу, а мне бросали подбадривающие взгляды. Марьяна от всего этого просто кайфовала. Я попробовал сменить тему беседы:
– Ты и вправду не пишешь стихи?
– Я чувствую поэзию. Разве этого не достаточно?
Мне не понравился ее ответ. Я пожал плечами и промолчал. Несколько минут мы шли молча, пока не оказались в парке напротив университета. Боже мой, как давно я не прогуливался с девушкой по вечерним аллеям! Все по барам да по барам. А сколько времени прошло с тех пор, когда я последний раз целовался на лавочках? Теперь это все можно делать просто на улице.
– Скажите, вы в кого-нибудь сейчас влюблены? – спросила она с бухты-барахты.
«Я влюблен в тебя», – поворачивался сболтнуть мой язык, но по велению шестого чувства я успел прикусить его зубами. А что, если я скажу ей правду? Говорят, правда облагораживает человека.
– Влюблен.
– По-настоящему?
«А я иначе не умею». Хе-хе, это мы также прибережем для кого-нибудь другого. Невнятная дьявольская сила искушала меня снова говорить правду.
– Едва ли это по-настоящему. Просто мне необходимо быть в состоянии влюбленности. Вот я и создаю его для себя. А проходит какое-то время, от любви не остается даже запаха. Потом, бывало, начнешь вспоминать ту, которую любил, о ком мечтал, и удивляешься – как я мог вообще ее полюбить?
– Но ведь вам хочется влюбиться по-настоящему, разве не так?
– Знаешь ли, по-настоящему я уже давно влюблен. Но это любимое мною существо я никак не могу встретить. Возможно, ее и не существует в природе. А возможно, она где-то рядом, а встретиться мы не можем. Не пересекаемся.
– Кто она? Как она выглядит?
– Ее внешность не имеет решающего значения. Главное – то внутреннее, что объединит нас. То, что делает лишними любые слова и оценки.
Если бы она в эту минуту сказала: «Вы встретили ее. Это я!» – думаю, у меня по спине мурашки бы побежали. Отныне я перестал воспринимать ее как что-то реальное, живущее сейчас и принадлежащее этому миру. Мне показалось, что я веду беседу с кем-то, кого неведомые силы нарочно послали ко мне на разведку.
– А не кажется ли вам, что вы играете передо мной роль идеального писателя? Ведь на самом-то деле вы не такой! Это для вас внешность женщины не имеет существенного значения? Никогда не поверю.
– Ты напрасно иронизируешь. Если я говорю, что внешность не имеет значения, то для меня это значит, что для меня безразличны цвет волос или глаз, размер бюста или ягодиц, ноги худые или пухленькие, и тому подобное. Миллионы других мужчин тебе точно скажут, кто им больше по вкусу: брюнетки или блондинки. А я – нет. Я никогда не бредил такой, как Клавдия Шифер, ведь все модельки глупы, как пробки от шампанского. И поверь, очень наглядно убеждался в этом, участвуя в жюри конкурса мисок. Девушка с идеальной фигурой уже не способна взлететь выше своей кормы. Может, она и хотела бы, да задок не пускает.
– О, как интересно! А я все думаю: что за сила возносит меня все выше и выше, а это, оказывается, неидеальная фигура. Знаете, вы отнюдь не разочаровали меня. Из ваших книг и писем я представляла вас способным на большие чувства… И теперь… не знаю как это сказать… но вы не тот, за кого пытаетесь себя выдать… Вы другой. Мне кажется, вам лучше быть одному. Как Ницше.
– Я не могу быть один. Меня это угнетает.
– Но вы должны писать, а не тратить свое время на женщин. Они ведь и не стоят того. Та, которую вы любите, либо придет, либо не придет. А искать ее – напрасная трата времени. А большинство других женщин – чудовища.
Эти слова резанули меня, как бритва.
– Что ты говоришь? Да ведь ты сама – женщина!
– Да. И я чудовище. Только я осознаю это, а все остальные – нет.
Ничего подобного из женских уст я еще не слышал. Интересно, сколько ей лет? Семнадцать? Сорок? Сто? Триста? Или тысяча?
– Я чудовище, и вы это поймете. Со временем.
Сумерки окутывали все вокруг, и слова ее звучали жутковато. Я не знал, как мне вести себя с ней дальше. Купить бутылку шампанского и сесть на парковой скамейке? Потом предложить брудершафт и чмокнуть в щечку? Потом обнять, другой рукой погладить волосы, скользнуть ниже – к пазухе. Все это было, было… Мне же почему-то не хотелось проделывать всю эту блиц-программу именно с ней. Но и разговор превращался в издевательство, ведь он ни к чему не вел. И тут я с сожалением вспомнил о девушке, которая в эти минуты ждала моего звонка. Мы должны были встретиться, чтобы вместе ехать ко мне. А там все привычно и просто. Она набросит халатик, мы отужинаем, посмотрим какой-нибудь детективчик и вспыхнем любовным пламенем на час-полтора. Она непременно спросит: «Ты меня любишь?» Я непременно отвечу: «Люблю». Она скажет: «Если ты меня бросишь, я не знаю, что с собой сделаю». Я отвечу: «Я тебя никогда не брошу». Ведь слова ничего не стоят, это как игра в карты: кладешь соответствующее слово именно на то место, где его ожидает собеседник. Слов так много, что на всех хватит. «Мои родители пригласили тебя к нам на обед в воскресенье», – скажет она. «Хорошо» – вздохну я. Сколько уже было этих сытных обедов с разными родителями, переживу и этот. «Они так волнуются», – скажет она и с надеждой посмотрит в мои глаза. Но здесь я промолчу. Иногда следует делать пас. Когда не идет карта.
– Вы о ней сейчас думали?
Я нервно засмеялся. Только этого не хватало, чтобы она читала мои мысли.
– Я имею в виду ту девушку, с которой вы сейчас играете в любовь.
– Ты угадала. Как тебе это удалось?
– Я заметила по отстраненному выражению вашего лица. Я испортила вам вечер?
– И испортишь его еще больше, если не скажешь, чего ты от меня хочешь.
– Разве я не сказала? Хочу общения.
– Почему именно со мной?
– И это я объяснила. Вы невнимательно слушали?
– Внимательность – не лучшая моя черта. Я мог бы тебе в чем-то помочь. Но ведь ты сказала, что я тороплю события.
– Да, это правда. Я чувствую, что вас раздражает. До сих пор вы общались с женщинами, имея перед собой конечную цель – постель. Разве не так? Тогда вы не сдерживали своего красноречия, сыпали жемчугами, распускали пышный хвост, как павлин. Вам было интересно: добыть или не быть! И вы овладевали ими, ведь женщины любят ушами, а не глазами, в отличие от вас, мужчин. А кому, как не писателю, известен тысяча и один способ, как пленить женщину? Вы успешно этим воспользовались. И скучно вам при этом не было.
Откуда она об этом знает?
– Зато потом… Что происходит потом, когда вы ею наконец овладели?
– Ты слишком все усложняешь, – сказал я. – Действительно, процесс овладения увлекает. Это как охота. Но ведь не только я добываю ее, она тоже меня добывает. Да, это правда, что следом может наступить опустошение и скука. Но не обязательно. Есть женщины, с которыми интересно вне зависимости от того, овладел ты ею или только собираешься. В конце концов, с некоторыми милыми дамами, которых я когда-то любил, мне и поныне удается поддерживать весьма дружеские отношения.
Она с недоверием зыркнула на меня, но не сдалась:
– А все же сознайтесь, что для еще не добытой женщины вы процеживаете слова, как через сито. Вы ДУМАЕТЕ, что сказать, что предпринять. Это как премьера в театре. Зато впоследствии все катится легко, не нуждаясь в усилиях. Вам уже не обязательно играть роль рыцаря. И вы прекращаете ее играть.
– Но она также перестает быть принцессой.
– Если бы вы любили ее, она оставалась бы ею.
– Что ты знаешь о жизни? Жизнь – это игра без правил. Все твои Стендали, Бальзаки и Цвейги писали романы, а не учебники по физике, где действуют точные законы. В отношениях между мужчиной и женщиной господствуют законы джунглей. Знаешь, что сказал про женщину Гельвеций?
– «Женщина напоминает обеденный стол. Одними глазами смотришь на него перед обедом и совсем другими после». Скольких женщин вы сделали несчастными?
– Полагаю, их количество будет соответствовать числу тех женщин, из-за которых и я чувствовал себя несчастным. Все в мире уравновешено. Кроме того, что такое несчастье с точки зрения времени? Лет пятнадцать тому назад я был влюблен в девушку, которая играла со мной, словно котенок клубочком: то притянет, то отпустит. Я страдал, я был несчастным. Я мучился, я не спал. Я писал стихи, от которых у меня на глазах выступали слезы… Это было длинноногое создание с пышными пепельными волосами. Недавно я встретил ее. Она прошла мимо меня, не заметив. Вела за руки двух детей. Я пошел ей вслед. Зачем – сам не знаю. Я шел за ней и смотрел на ее раздавшееся седалище, которое при каждом шаге сотрясалось, словно студень на тарелке. Вся она расползлась, и заметно было, как бюстгальтер врезается в ее тело, подчеркивая широкие складки сала. На ее голове ветерок издевательски шерстил ворсистые остатки ее некогда пышной гривы… Я понял, что это именно тот случай, когда я могу рассчитаться за все. Я знаю, что поступил жестоко. И мне даже стыдно…
– Ну, и что же это было?
– Я догнал ее, хлопнул ладонью по седальнице и сказал: «Привет, птичка! Как живется-можется?» – и пошел дальше. Это все.
– Это все?
– А зачем больше? Достаточно, что она тоже меня узнала… Кажется, я забыл сказать, что я тогда шел под руку с одной очаровательной зазнобой.
Марьяна рассмеялась:
– Да вы настоящий садист.
– А, кстати, те слезливые стихи, когда я их посмотрел, показались мне до того смешными, что я их сжег.
– Значит, я в вас не ошиблась. Вы – циник. Потому я и выбрала вас. Вы – циник, но это лишь потому, что цинизм – ваш панцирь. И вы надеваете его тогда, когда боитесь, что вас больно поранят. Но в глубине души вы не такой. Вам следовало бы родиться женщиной.
– Только не это! Мне бы тогда пришлось работать на одни аборты.
Казалось, что мои колкости совсем не задевают ее.
– Если бы вы были женщиной, то смогли бы справиться с одиночеством. И тогда вам не пришлось бы непрестанно охотиться за фантомным существом. Которого, возможно, вообще не существует. Все, что вам сейчас остается, – красиво уйти.
– Уйти? Почему уйти?
– Чтобы остаться легендой. Уйти и раствориться в пространстве. Или для вас крайне важно пережить полное собрание своих сочинений?
Слова эти звучали в тенистых аллеях парка, где уже почти не было прохожих и только кое-где на скамейках виднелись невыразительные фигуры. Мне становилось холодно, и я с тоской думал о той, что ждала моего звонка. В эту минуту я и в самом деле любил ее, мне хотелось прижаться к ней и лепетать привычные глупости, которые совершенно не напрягают мозги.
– Да вы меня не слушаете?
– Нет, отчего же… Слушаю. Ты подсовываешь мне мыслишку о самоубийстве?
– О красивом самоубийстве. О чем-то таком, чему позавидовал бы каждый. Это выглядело бы величественно и прекрасно. Достойно романов, фильмов, песен…
– Ты серьезно?
– А разве вы не чувствуете, как это необходимо нам?
– Что именно – моя смерть? И кому это – нам?
– Нам – это моему поколению.
Я втянул воздух сквозь сжатые зубы и подумал: ну почему ты такой остолоп? Зачем выслушиваешь все эти бредни, тогда как мог бы сейчас валяться в теплой постели и смотреть хороший американский фильм с Робертом де Ниро?
– Ладно, – сказал я. – Это интересная мысль. А сейчас я посажу тебя на трамвай и еду домой.
– Правда? Вам понравилась моя мысль? – прижалась она ко мне с какой-то детской восторженностью.
– Именно. Однако такие решения не принимаются на счет раз-два. Я должен все взвесить.
– И куда же вы меня ведете?
– Я же сказал: на трамвай.
– Но вы же не знаете, где я живу.
– Какое это имеет значение?
Она засмеялась:
– Действительно. В таком случае я сяду в ваш трамвай.
Я принял это за шутку но когда она вошла со мной в «двойку», спросил:
– Тебе действительно в эту сторону?
Она чуть насмешливо посмотрела мне в глаза и сказала:
– Ну, признайтесь, вы хотите меня. И вы разозлились, ведь потеряли время.
Я промолчал. Однако она продолжала:
– Вы хотите меня. С самого начала хотели. С самого первого письма. Я не ошиблась в вас. Вам интересно с женщиной лишь до тех пор, пока вы ее хотите. – Она была недалека от истины. – Я уверена, что иногда, занимаясь любовью с другими, вы представляли меня.
И здесь она тоже не ошиблась, но мне лень стало спорить. Она играла в свою игру, и игра продолжалась, пока я покорно отбивал ее мячи, но когда я опустил руки, она начала бить в одно и то же место.
– Как далеко вы способны зайти в стремлении овладеть женщиной? Могли бы вы ради меня убить человека?
Давно ли ее выписали из дома умалишенных на Кульпаркове?
– Увольте, я не сумасшедшая. Я вдруг почувствовала, что вы на это способны. Вы способны убить. Вы это можете. Только боитесь признаться себе в этом… А ведь я могла бы вам помочь.
Трамвай завизжал на повороте. За ним была последняя остановка.
– В чем?
– В режиссуре самоубийства. Я знаю, что сумею поставить одну-единственную пьеску под названием «Самоубийство влюбленных в парке на Погулянке».
– Ты предлагаешь мне самоубийство в компании с тобой?
– Браво! Вы поражаете меня своей догадливостью.
Наверное, она еще больше чокнутая, чем я думал. Мы вышли из трамвая.
– Значит, я должен уйти из жизни, потому что исписался, кончился как писатель. А ты – за компанию.
– Нет, не все так просто. О моих причинах поговорим потом. Я знаю на Погулянке одно озерко с островом. Вот там под тенистыми ивами и будет разыгран последний акт.
– И ты выбрала для этого меня?
– Вас. Но для этого нам надлежит еще влюбиться друг в друга. Сейчас вы только хотите меня. Это обычный животный инстинкт. Но вы влюбитесь в меня, я верю в это. Смертельно.
Ее слова проникали в мое сознание без малейшего сопротивления, словно именно их я ждал всю свою жизнь, но боялся сознаться себе в этом. Я не должен ее слушать! Я вообще не должен с ней нянькаться. Вот заведу ее сейчас в темный скверик и трахну на скамье. Но это намерение было лишь мимолетной бравадой, которую она сразу же раскусила бы. Ей известно обо мне нечто такое, чего я еще и сам до конца не осознал. И она покорно войдет за мной в темный скверик, зная, что я ее не трахну. Именно ее.
– Ну что? – откликнулась она. – Теперь вы подбираете слова, чтобы пригласить меня к себе? Вам же надо чем-то компенсировать этот испорченный вечер?
Я молчал.
– Не притворяйтесь. Вы хотите именно этого. Но боитесь. Вы хотите меня, но не уверены, что хватит отваги взять.
Я посмотрел на нее и почувствовал, что и в самом деле могу влюбиться в эту ведьму с лукавыми насмешливыми глазами. Но не должен… У мужчин иногда также срабатывает интуиция, и она мне подсказывала: прежде чем пригласить Марьяну к себе домой, стоит позвонить Лидке.
– Я должен позвонить, – промямлил я.
– Ей?
– Она ждет.
Я подошел к автомату и набрал номер.
– Ах, пан Юрко, пан Юрцю!.. – закудахтала ее матушка. – Лидуся ждала вас до восьми, а потом уехала писать диплом к Нусе. У нее и ночевать останется, ведь это далеко, на Сихове. И телефона нет у них… А в воскресенье мы ждем вас на обед!
Я представил, как буду расхваливать ее суп, стараясь не сербнуть, и ощутил в животе спазмы.
Моя интуиция мне не изменила. Диплом! На Сихове! Все ясно. Не нужно быть Фейербахом, чтобы раскумекать: Лидка поехала ко мне домой. Где ключи лежат, ей известно, и, когда я приду, меня уже будет поджидать горячий ужин и не менее горячая Лидуня. Жизнь – это кайф. Я так и сказал:
– Жизнь – это кайф. Она уехала ко мне.
– Возможно, это именно то, что вам нужно, – злорадно хихикнула Марьяна.
Она знала, что она краля и никакая Лидка не сравнится с ней.
– Наверное, я ошиблась, – сказала она, – и вы не тот, за кого я вас принимала. Чао!
Я хотел ее остановить, спросить, когда увидимся, сказать что-нибудь такое… что-то приятное… о том, как она мне нравится… взять за руку… сказать: «Марьяна»… и еще раз: «Марьяна… Марьяна…»
Глава восьмая
У Марселя Пруста я вычитал, «если мы верим, что какое-то существо причастно к неизвестному нам миру и что его любовь нас туда ведет, то из множества условий, необходимых для зарождения любви, это условие является решающим, если оно имеется, то все остальное кажется второстепенным. Даже те женщины, которые судят о мужчине только по внешности, на самом деле видят в этой внешности ауру какого-то особенного мира. Вот почему они любят военных, пожарников; форма заставляет их быть снисходительными к внешности, и, целуя их, женщины думают, что под кирасой бьется необыкновенное сердце, дерзкое и нежное». Нечто подобное происходит и в отношении женщин к писателям, творчество которых является чем-то вроде гусарской формы, влекущей к себе и побуждающей думать, что писательское сердце переполнено эмоциями и горячее, как жар. Очевидно, Марьяна тоже ожидала, что я откликнусь на ее призыв, пойму ее, как никто, и хотя все, что она наговорила мне, походило на бред и нелепицу, оно почему-то не отпускало меня, и не было дня, чтобы я не вспоминал эту странную беседу. Мне хотелось снова ее видеть, я продолжал воспринимать все наговоренное ею за шутку или бредятину, которые не укладывались в моей голове ни в какую логическую схему, однако продолжали кружиться там сумасбродной каруселью.
Я поймал себя на том, что задерживаюсь на работе дольше обычного, а сердце мое вздрагивает от каждого телефонного звонка и я с надеждой прислушиваюсь к словам секретарши, которые она произносит в трубку, иной раз нарочно мозолю ей глаза, чтобы она, чего доброго, не подумала, что я уже ушел, ведь обычно я в редакции так долго не засиживаюсь.
Так прошла неделя. В пятницу я решил написать Марьяне письмо и уже даже вывел на бумаге «Дорогая Марьяна!», как она – ну, наконец-то! – позвонила мне на работу.
– Привет, это я!
На лбу у меня выступил пот, и я чуть не поперхнулся.
– О, Марьяна! Я не надеялся, что ты позвонишь.
Что за чушь я несу? Как это не надеялся? Да еще эта секретарша вылупилась, как жаба.
– Так вы не ждали моего звонка?
– Ждал… Но не думал, что ты позвонишь.
– Женщины часто преподносят сюрпризы.
– Ну так преподнеси еще один и назначь мне свидание.
– А когда вы освобождаетесь?
– Уже.
– Тогда встретимся в начале Чайковского.
Придя к условленному месту я увидел Марьяну в светлых джинсах и белой майке, под которой угадывались аппетитные грудки без лифчика. Вообще когда девушка надевает джинсы, то должна делать это с оглядкой, а как они смотрятся на ней сзади. Марьянина сиделка соблазнительно выпирала, натягивая ткань так, что казалось, она вот-вот лопнет. Марьяна насмешливо следила за моим испытующим взглядом, педантично скользящим по ее соблазнительным формам.
– Ну так что? Пойдем на Погулянку?
– Почему именно туда? – не врубился я.
– Прогуляемся. Хочу вам кое-что показать.
Тут мне вспомнилось, как она что-то бредово-кошмарное говорила про островок на Погулянке, где должно бы совершится наше самоубийство. Ну, что же, По гулянка так Погулянка – буду нести свой крест до конца.
– Ну и как, вы подумали над моими словами? – спросила она по пути таким тоном, словно речь шла о посещении театра.
– Я старался поменьше об этом думать, – соврал я, не считая нужным обнаруживать свои сокровенные мысли и признаваться в том, что попал под влияние ее разглагольствований.
– Вы испугались?
– Мне представляется все шуткой.
– Я не шутила, – сказала она строго.
Мы перешли Галицкую площадь, направляясь к трамваю.
– Зачем тебе это? – спросил я.
– Что именно?
– То, к чему ты меня подговаривала.
– Тому есть несколько причин. Однажды я поймала себя на мысли, что жизнь не так уж и интересна, чтобы тратить на нее столько времени. Кроме того, у меня нет никакого желания стареть, болеть…
– Кажется, тебе еще рано об этом задумываться. Ты юна и красива.
– Но разве юные и красивые не кончают самоубийством? Ежегодно больше сотни девушек в Украине уходят из жизни добровольно. А сколько таких во всем мире! Я подумала, что смерть может быть прекрасной, если ее спланировать и самим воплотить. Смотрели фильм «Майерлинг»?
– О том, как австрийский принц Рудольф Габсбург застрелил свою любовницу Марию Вечеру, а затем себя? Тебе понравилась их смерть?
– Нет. Скорее, поразила. Но еще сильнее меня затронул шведский фильм «Эльвира Мадиган».
– Ну, это по крайней мере искусство, а «Майерлинг» – всего лишь дешевая поделка, «мыльная опера», мелодрама.
– «Эльвиру» я смотрел трижды.
На Мытной мы сели в «семерку».
– В обоих фильмах влюбленные стреляются. А представляешь ли ты, как будет выглядеть твоя прелестная баклушка после выстрела? – спросил я.
Марьяна прижалась ко мне и тихо, чтобы никто не услышал, сказала:
– Я все знаю. Я прочитала книжку с описаниями всех видов самоубийств и пришла к выводу, что самое эстетичное – это отравиться или перерезать себе вены на запястьях. Решив с этим вопросом, я задумалась над другим. Мне нужно было найти человека, который бы стал моим партнером. Я рассматривала несколько кандидатур и остановилась на вас. Вы идеально подходите на роль трагического любовника, которого я приглашу на нашу с вами смерть.
– Горжусь твоим выбором. Но чем я заслужил такое счастье?
– Вы обладаете здоровым чувством черного юмора. Я подумала, что кому как не вам понравится идея уйти из жизни красиво. Так, чтобы всем перехватило дыхание. В обществе прекрасной девушки, совсем еще юной… Все будут доискиваться причины: что заставило их сделать это?
– Ну а предсмертное письмо, в котором содержались хотя бы намеки на эти причины, твой сценарий предусматривает?
– Предусматривает. Но это письмо должно стать лучшим вашим произведением… Хорошо, если этот шедевр будет создан в жаре поэмы… И все же это послание не должно раскрывать причины. Это так банально. К тому же … причин особенных и нет, – она засмеялась. – Никто не должен узнать всей правды. Пускай выстраивают свои версии, пусть приходят к нам на могилу и без конца вопрошают: зачем? В этом весь смысл. Понимаете? Мы останемся для всех недосягаемым идеалом. Ведь каждый человек в какой-то момент своей жизни представлял себе самоубийство. И кто его знает, если бы в тот момент явился бы кто-нибудь и сказал: давай сделаем это вместе, – долго ли бы тот человек колебался?
– Послушай, ну что ты вбила себе в голову? Неужто думаешь, что я сойду с ума от счастья, услышав твое предложение?
– Вы вправе считать себя счастливчиком оттого, что судьба послала вам именно меня. Ведь, повторюсь, я изучила вас и поняла, что вы обречены на самоубийство. В церкви вы редкий гость, и вера вас не остановит. Вы классический тип заблудшей души, которая стремится вырваться на свободу. Вопрос только – когда. Вот я и появилась, чтобы составить вам компанию.
На последней остановке мы сошли с трамвая и направились в сторону Погулянки. Неожиданно Марьяна начала декламировать:
Когда ты пробуждаешься а в днях твоих и в снах так пусто пусто и когда все уже тебе известно а сердце изнеможденно выползаешь из своей скорлупы в этот мир ищешь травы лето воду погружаешься в них по глаза ничего не желая знать а разгадка лежит на дне не постигнуть не утонув…Затем лукаво взглянула на меня:
– Может, это не вы написали?
– Ну, я.
– Вот видите. Разгадка лежит на дне. И вы ее знаете, хотя вам и боязно это признать. Разгадка в том, что смерть явится для вас высочайшим взлетом. Вам не удастся создать ничего более значительного своей смерти, а все написанное вами будет озарено ее величественным ореолом. Ее царственным венцом. Потомки будут оценивать ваше творчество исключительно через призму романтического самоубийства. Они начнут слагать о нас баллады и поэмы, писать романы и снимать фильмы. Украинская литература не знала ничего подобного.
Она затрагивала самые потаенные струны в моем сознании, к которым я сам не осмеливался прикоснуться, боясь даже подумать о том, что они могут во мне отозваться. И вот теперь она проникла сюда – в глубинные ущелья моих сумраков, раздвинула одичавшую растительность, и под касаниями ее пальцев я начал ощущать ад в своей утробе, от чего к горлу подкатывался горький комок неверия и отчаяния. Я воспринял ее как посланницу потустороннего мира, которую откомандировали за мной, ибо ТАМ все уже заждались меня для какой-то тайной вечери. Я даже представлял себе то ожидание со стиснутыми зубами и широко раскрытыми глазами в пронзительной тишине за длиннющим столом, над которым разлилась сумеречная синь, а из крохотного окошка вверху просачивается немного жидкого света, падающего как раз на одно свободное место, отведенное, очевидно, для меня. С моим появлением здесь должно было что-то произойти, однако я не решался спросить ее об этом, ведь вполне возможно, что она и не принадлежит к посвященным, а является только их посланником. Возможно, она и не человек, а, скажем, бабочка-махаон, временно превращенная в девушку, и, выполнив свое предназначение, она снова будет порхать в волшебном тумане потусторонних лугов.
– Сдается мне, мы переплюнем даже Абеляра и Элоизу, – сказал я.
– А кто это?
– Они жили в средневековой Франции. Как-то отец Элоизы застукал ее в кровати с Абеляром, которого он нанял для воспитания своей дочки, и приказал слугам отрезать учителю-искусителю его блудень. Однако столь жестокая экзекуция не смогла убить их чувства, они нашли страстное выражение в переписке. Эти письма считаются образцом любовной литературы. Абеляр стал монахом, а Элоиза монахиней.
– До чего же классно, – размечталась Марьяна, а в моем воображении вырисовалась ее рука с лезвием, приставленным к моему блудню. – Я ведь тоже собиралась податься в монастырь. Но я же православная, а на Львовщине нет православных обителей.
– Ты бросаешься из крайности в крайность. От самоубийства до монашества. А ведь христианство осуждает самоубийство.
– Я знаю. Но нам простят. Многим уже даровано прощение.
Я внимательно посмотрел на Марьяну, все еще не веря в реальность ее существования, и даже взял за руку, якобы для того, чтобы задержаться возле магазина, а на самом деле – чтобы дотронуться до живой плоти и убедиться, что это не фантом. Почувствовал тепло ее ладони и успокоился. Мы зашли в магазинчик, я купил литровую бутылку сангрии, бросил в пакет и мы двинулись дальше. Все время, пока я пребывал в раздумьях, Марьяна наблюдала за мной, очаровательно заломив губы в улыбке.
– Ты хочешь показать мне то место? – спросил я.
– Ведь вам интересно, не правда ли, где все это состоится?
– Ты говоришь так, словно я уже все решил.
– Все решается само собой. Мне не нужно, чтобы вы сделали это, доведя себя до состояния беспросветной безнадеги и отчаяния. Хочу, чтобы это произошло добровольно, от большой любви.
Там действительно находился маленький островок с плакучими ивами, я его прекрасно знал, когда-то мы здесь с Грицком Чубаем[5] не раз устраивали вечерние пьянки и ночные омовения при свечах. Чубая уже нет, но, возможно, дух его еще разгуливает тут, на родной своей Погулянке, иначе с чего бы это, проходя мимо его дома, я чувствую, как воспоминания мгновенно охватывают меня, а ноги мысленно уносят меня в его сад, руки раздвигают ветки винограда, а с открытых окон льется фантастическое пение Чеслава Немена, а затем и голос самого Грицка – без «привет», «сервус», «честь» или «здоров» – а сразу с моста: «О, сейчас он споет нам на слова Норвида. Ты слышал его балладу про генерала Бэма?» – и я замираю в своих грезах у него под окном и слушаю Норвида, а конь генерала Бэма нетерпеливо фыркает и ржет в мареве, высекая искры из-под копыт.
– Кто здесь живет? – оторвала меня о грез Марьяна.
– Жил. Поэт Грицко Чубай. Много лет назад умер в возрасте Иисуса. Каждое поколение должно иметь кого-нибудь, кто умрет в возрасте Иисуса. Мы с ним устраивали пикники на том островке, жарили шашлыки, распевали песни и читали стихи. Однажды мама прислала мне из Станиславова пирожки, и мы нанизывали их на шампуры и разогревали на костре. Ах, как хорошо нам тогда мечталось и пелось под дивное домашнее вино из черной смородины!
– Я сразу почувствовала, что от этого островка веет чем-то необычайным, какая-то таинственная аура витает над ним и окутывает сразу же, как только ступишь туда.
К островку был переброшен шаткий деревянный мостик, развесистые ветви ив опускались до самой земли, образуя непроницаемую для глаз густую завесу. Буйная зелень мерцала крыльями бабочек, стрекотала, жужжала, звенела, бросала к ногам лепестки жасминов и роз, навевала дурманящий запах цветущей липы и меда.
– Правда, здесь хорошо? – спросила Марьяна.
– Здесь фантастично, – послышался голос Грицка Чубая.
Я оглянулся и увидел его у берега в лодке. Он сидел с удочкой в руках, ссутулившись, спиной к нам, из-под соломенной шляпы виднелись его патлы. Я улыбнулся.
Немного – один китаец. В руках удочка из тростника. Веют пальмы, снуют бакланы, На горах голубые снега. Почему-то невесел китаец. От удочки мысли его отвлекали. Выплыл дельфин из моря: – Китаец, не надо печали.– Что там? Куда вы смотрите? – поинтересовалась Марьяна.
– Вот там с берега мы с Грицком когда-то ловили рыбу.
– Здесь водится рыба?
– Теперь не знаю, а прежде была. Карасики. Мы их здесь же чистили, потрошили и жарили на костре.
– Попадались и лини, – сказал Грицко. – Если вы сядете под той вербой высокой, можете укрыться от людских глаз.
Взяв Марьяну за руку, я подвел ее к вербе, раздвинул ветви, и мы вошли в зеленый шатер. Трава там росла густая и высокая, темно-зеленого цвета. Мы сели на траву, я открыл бутылку и предложил Марьяне выпить, она всего лишь пригубила. «Увы, дело не сладится», – вздохнул я в душе. Когда же поднес бутылку к губам, то снова услышал голос Грицка:
Выбегает в море челн С выгнутою грудью. Шапка на челне, как сито, А под тою шапкой – люди. – Ну как же, не надо печали! Полосат мой кораблик – мое достоянье, Сам я молод, и ус мой тонок, И красно на мне одеянье. А посмотреть – я невольник, Хоть с такою статью завидною Нарисованный на фаянсе Чей-то рукою зловредной[6].– Свидзинский, – вымолвил я.
– Вы о чем?
– Вспомнилось… Чубай любил декламировать Володимира Свидзинского.
– Никогда не слышала.
– Удивительный поэт. Его чекисты сожгли в 1941-м живьем в стодоле.
– Прочитайте что-нибудь.
Чубай снова стал негромко читать, а я повторял за ним:
А была бы со мною ты, лада моя, Был бы с миром в ладу, Словно солнце в саду. Как же с миром поладить мне, лада моя? Поднялась между нами разрыв-трава. Разрыв-трава неуемно растет. Ночи и дни разорвала. Были они словно крылья ласточки: Верх черный, низ белый, а крыло одно. Теперь они как расколотый камень — Ранят и колют, лада моя. Тяжко мне стало время влачить, Кручина рвет мысли мои, Словно буран-снеговей. Одна снежинка ко льду прильнет, А ветер швырнет ее в морок. Другая ляжет на берегу В замороженный след копытный, Третья распята на суку, Невмоготу мне вынести время. Я пью полынь, лада моя, Утром и вечером Я пью полынь. Премного полыни в наших степях, Не испить ее, не выкосить. Я знаю: все умирает. Мак среди поля. Дерево в роще. Ребенок в городе. Все умирает, лада моя. Не в одну дверь приводит нас вечер. Не в одном окне встречаем рассвет, И сказка смежила очи… Сколько ни вглядываюсь, А зрю только видимое, Только возможное вижу, ой лада моя.С минуту мы сидели молча, я попивал вино, чувствуя, что понемногу хмелею. Марьяна тоже сделала несколько меленьких глотков, но выглядела все такой же, как и была, трезвой. Каждый раз, когда я предлагал ей выпить, она послушно пригубливала бутылку, однако выпивала не больше десяти граммов.
– А приходилось ли вам читать драму Тикамацу Мондзаэмона «Самоубийство влюбленных на Острове Небесных Сетей»?
– А-а, так вот кто вдохновил тебя на идею с островом! Тикамацу!
– Да. Я влюблена в японскую литературу.
– Ты мне писала о чем угодно, только не о японцах.
– Потому, что увлеклась ими совсем недавно. Прежде всего – это Акутагава Рюноске. А еще Басе и Ясунари Кавабата. От Сей Сенагон и Нидзе я просто в трансе. А Кенко-хоси! Ихара Сайкаку! Уэда Акинари! А «Гендзимоногатари»!
– Для твоих юных лет ты многое успела. Я в твоем возрасте читал Стивенсона и Жюль Верна.
– Правда? – удивилась она.
– А чему здесь удивляться? Акутагаву издали, когда я был уже на втором курсе. Итак, прочитав Тикамацу, ты увидела, каким образом можно театрализовать самоубийство. Не хватало нам только переодеться в кимоно и сделать харакири.
– Я думала об этом. Но нас не поймут. Настоящих ценителей самурайских ритуалов слишком мало. И к тому же Дзихей и Кохару не совершили харакири…
«Да, мы умрем В одно и то же время, Но смертью не одной. Ты от меча, Я от петли…» —процитировала она. – Помните?
– Дзихей дважды пронзил ей грудь мечом, а сам повесился на ее розовом поясе. На мой взгляд, слишком страшная смерть.
– «Он погружает меч по рукоять, И поворачивает в исступлении. И жизнь Кохару отлетает, Как сон на утренней заре…» —Впрочем «Самоубийство влюбленных на Острове Небесных Сетей» не единственная пьеса Тикамацу о самоубийцах. Еще раньше, в 1703 году он написал также «Самоубийство влюбленных в Сонедзаки».
– Этого я не читала.
– Шутишь? В таком случае налицо удивительное совпадение. В этой пьесе именно любовница предлагает любимому вместе уйти из жизни.
– Как интересно! И о чем же эта пьеса?
– В ней повествуется о безрассудном рубахе-парне Токубее, который опрометчиво влюбился в куртизанку О-Хацу Разумеется, это пришлось не по нраву его дяде, и тот решает женить Токубея на своей свояченице. С этой светлой целью он тайно пришел в село к матери незадачливого жениха и вручил ей деньги на свадьбу. Токубей, узнав об этом, отобрал деньги, чтобы вернуть их дяде, но по дороге встретил товарища, и тот попросил дать ему в долг. Ну и Токубей, добрая душа, согласился. А вот когда он в условленный день напомнил приятелю про долг, тот сделал удивленную мину и сказал, что никаких денег не брал. Тогда Токубей показал при всем честном народе расписку с печаткой должника, но тот наглец обвинил своего благодетеля в воровстве, соврав, что свою печатку он якобы давно потерял. Влюбленные в отчаянии. Деньги пропали, Токубею придется жениться на нелюбимой девушке. И тут О-Хацу говорит Токубею, что она этого не переживет. И если Токубей согласен, она готова совершить вместе с ним самоубийство.
– И как долго она его уговаривала?
– Гораздо короче, нежели ты меня. Между прочим, бедному юноше такое и в голову не могло прийти, но она поставила его перед выбором, и он вынужден был подчиниться. Они оставили в кофейне, где подрабатывала куртизанка, записку о своем намерении покончить жизнь самоубийством и исчезли. А тем временем выяснилось, что печатка должника оказалась в городской канцелярии. Всем стало понятно, что Токубей говорил правду и должник обязан вернуть деньги. К тому же и дядя наконец понял, что насильно Токубея женить не удастся, и смирился с его выбором, решив потратить свои кровные деньги на свадьбу Токубея и О-Хацу.
– Наверное, наш Котляревский устроил бы здесь чудесный хеппи-энд.
– Но только не Тикамацо. Дядя послал за племянником, чтобы сообщить ему радостную весть, а в ответ получил их прощальную записку. Он тут же собрал людей и бросился на поиск влюбленных. А они в это время уже в лесу Сонедзаки выбирали укромный уголок для смертной кончины. Токубей вначале заколол кинжалом О-Хацу, а затем и себя.
– Он настоящий японский Шекспир.
– А вообще-то у Тикамацу самое меньшее полтора десятка пьес, сюжеты которых построены на самоубийстве влюбленных. Эти пьесы в Японии вызвали такую же суицидную волну, как и «Вертер» Гете в Европе.
– Одно для меня понятно: все, написанное когда-либо, сбывается. Если не с автором, так с читателями. Ничто, ни одна строка не пропадает бесследно. Все сбывается. И если при жизни Толстого ни одна Каренина не бросалась под поезд, то десятки Карениных сделали это позже. Я просто уверена в этом. Разве по себе не замечали: все, что вы пишете, со временем сбывается?
Откуда ей об этом известно? Еще в юности я сочинил рассказ о молодом поэте, который ищет себе смерть и наконец съедает какой-то ядовитый гриб. А персонажа этого я назвал, можно сказать, своим именем – Богуслав Ольгерд, это мой юношеский псевдоним. Странно, но в юности про смерть думалось больше, нежели в зрелом возрасте, когда всякие мысли о ней хочется гнать от себя подальше. Неужели пришло время сбываться наивному рассказу, который никогда не был и не будет опубликован? Ведь, если память не изменяет, я сжег его вкупе с другими пробами пера.
– Поскольку я пишу обо всем на свете, то вполне естественно, что кое-что из описанного когда-нибудь сбудется, – ответил я, не имея ни малейшего желания делиться подозрениями насчет скрытого в моих сочинениях профетизма.
– Вы просто боитесь себе в этом признаться. В действительности же вся ваша жизнь до мельчайших деталей зафиксирована в бумагах. И код вашей смерти давно затаился в каком-то из стихотворений.
– Что там точно не зафиксировано, так это смерть в обществе прекрасной дамы.
– А, если бы вы разрешили мне пересмотреть ваши рукописи, я нашла бы намек и на это. Поэты – скрытые Нострадамусы. Если внимательнее вчитываться, то в их строчках можно встретить и глобальные пророчества, предсказания войн и катаклизмов.
– Однако не каждому, наверное, дан такой дар.
– Вам дано… именно поэтому я и хочу вас отсюда забрать… туда… в тот иной мир… ведь здесь вы не будете пророком… а там… – она мечтательно посмотрела в небо, словно журавушка с раненым крылом вослед своим спутникам, и умолкла, хотя губы ее еще продолжали чуть-чуть шевелиться, словно она шептала молитву.
И снова мне подумалось, что она все же не обычная девушка, ПОСЛАНЕЦ, и что мне даруется шанс, который больше никогда не повторится, мне отворяют окно, но один только раз, и я либо успею выскочить в него, либо не успею.
Я попробовал обнять ее, но она уклонилась.
– Нет-нет, не стоит торопить события.
Наконец ее поведение начало меня раздражать. Она хотела и дальше с упоением трындеть про литературу, но я все время ловил себя на мысли, что такое времяпровождение меня мало интересует и я должен кое-как поддерживать беседу только потому, что хочу эту девушку. Я смотрел, как лодочка сама по себе проплывает вокруг островка, ссутуленная фигура Чубая будто застыла, она совершенно неподвижна, и только красный поплавок нервно вздрагивает на плесе, разгоняя ленивые круги по воде. Я подумал, что когда-нибудь и я вот так же буду чудиться кому-то – возможно, в челне, а может, в окне, в снежных сугробах или в бокале вина, в пламени костра или в облаках, и голос мой отзовется в трепетании листьев и в шелесте трав.
– О чем вы думаете? А, я знаю. Вы думает о том, какая я зануда. Морочу вам голову, не позволяю даже поцеловать себя. Правда?
Я молчал.
– Правда, – ответила она за меня. – Но я хочу, чтобы у нас с вами было все иначе. Не так, как вы привыкли. Ничего животного. Никаких инстинктов. Только чистые чувства. Я хочу, чтобы вы меня полюбили.
– У нас должны быть односторонние чувства?
– Нет. А что вы подумали? Я тоже в вас влюблюсь. Но я пока не готова. Мне необходимо время. Это же совершенно естественно.
– Значит, самоубийство откладывается на неопределенное время. Что ж, это меня устраивает. Должен еще уладить множество своих дел, закончить недописанные произведения, сжечь юношескую лирику и, одним словом, замести следы.
– На самом деле, времени не так уж и много. Это должно случиться в конце лета.
– В таком случае стоит поторопиться.
– Что вы имеете в виду?
– Я имею в виду наши интимные отношения. Иначе получится так, что не успеем мы друг друга полюбить, как придет время покинуть этот бренный мир. Такой вариант меня не устраивает. Хотелось бы успеть насладиться всеми прелестями большой и неподдельной люби.
– Так не получится. Так мы можем расслабиться, отклониться от намеченного плана и вообще изменить нашему намерению. Я отдамся вам здесь, на этом острове, в день самоубийства и ни днем раньше.
Я воззрился на нее, как на сумасшедшую. В эту минуту хотелось высказать ей все, что о ней думаю, но я сдержался, взглянув на ее утонченное личико. О Боже, прости меня, но я хочу поиметь это. Даже если это будет один-единственный раз. Впрочем, в подсознании теплилась надежда, что не все еще потеряно, и игра, которая началась столь серьезно, в конце концов утратит свой излишний драматизм, а затем нас ожидают любовные ласки, ласки, ласки… У нее были уста, как у младенца, чистенькие и гладенькие, уста, которые еще никто не целовал, и мне казалось, что овладение этими устами стало смыслом моей жизни, я должен был напиться из них, словно из Кастальского источника, это становилось уже вопросом жизни и смерти. Закралось подозрение, что если я не успею этого совершить, то потеряю способность писать, что-то во мне необратимо разрушится и никогда уже не возродится. Еще никогда никого я так не желал, как Марьяны. И ради этого был готов идти до конца.
– Ты сказала про конец лета… Может, ты и день назовешь?
– Восьмое августа.
– Восьмое августа, – повторил я. – Почему именно восьмое, а не девятое или десятое?
– В этот день будет приоткрыт вход…
– Что за вход?
– Узенький вход. Только для нас двоих. Должны успеть.
Вспомнилось окно, которое я недавно увидел в своем воображении. Я повернул ее личико к себе и внимательно посмотрел в глаза. Это были обычные человеческие глаза, карие, большие, с ресницами, как у куклы, ничего сверхъестественного, ничего, что давало бы основания принимать ее за ПОСЛАННИКА.
– Кого вы хотели увидеть в моих глазах? – спросила она, и я снова засомневался в ее реальности, ведь она не спросила «ЧТО», а «КОГО», как будто догадываясь, что я действительно пытался заглянуть в глубину ее очей, чтобы обнаружить там еще кого-то, затаившегося в ней на самом дне, в глубинах естества, на берегах крови.
– Себя, – ответил я.
Она улыбнулась и смежила веки.
– Теперь я заточила вас за решеткой ресниц…
Я снова привлек ее к себе, и она уже не сопротивлялась, а, словно ласковый котенок, положила мне головку на плечо, все еще не раскрывая глаз. Мне показалось, что после того, как она назвала день нашей смерти, нас соединили незримые струны, и она наконец может довериться мне, а, возможно, ОТТУДА она получила добро на легкие объятия. «Болван, – сказал я себе, – тебе за сорок, а ты ведешь себя, как недоросль, впервые взявший девушку за руку перебираешь ей пальчики…» И тут я наконец осознаю, что именно это и делаю – играю ее пальчиками, упругими и непокорными, теплыми и ласковыми.
– Выпусти меня, – молвил я, почти касаясь губами ее губ, – там темно и страшно…
– У-у… – качнула головой.
– …там холодно и сыро…
– У-у…
Тогда я припал к ее губам, чуть вздрогнувшим при встрече, и стал пить из них ненасытно и сладко, и здесь случилось удивительное: она внезапно распахнула вспугнутые глаза, словно выпуская меня из плена, резко оттолкнула меня и, жадно заглотнув воздух, вскрикнула раненой сойкой – так вскрикивают маленькие дети во сне, а затем обессилено сникла в моих объятиях и сомлела. Мне показалось, что своим поцелуем я выпил из нее жизненные силы, и меня охватил страх, я поднял ее на руки, метнулся к воде и стал плескать ей в лицо полные пригоршни.
– Смелее, смелее, – послышался голос Грицка из лодочки, он снова сидел к нам спиной и, наверное, следил за поплавком, вздрагивающим на мелкой ряби, – она еще здесь… она еще не там…
– Она всего лишь потеряла сознание.
– Она уже на полпути.
– О чем ты?
– Славно ловится рыбка-бананка, славно ловится рыбка-бананка, славно ловится рыбка-бананка…
По моей коже побежали мурашки, и я прокричал: «Но ведь ничего страшного не произошло! Сейчас она придет в себя! Разве не так?»
– Куда плывет рыбка-бананка? Он плывет в ночь, – это было последнее, что я услышал, прежде чем он растаял в воздухе.
Марьяна открыла глаза и с минуту смотрела на меня удивленным взглядом, словно не узнавая, потом взяла мою ладонь, сжала ее и сказала:
– Ничего страшного… это по женской части… – попробовала улыбнуться и прижалась ко мне, но уже иначе, чем прежде, не как к любовнику, а словно бы ища убежища и защиты. Она была какая-то вялая и ослабленная, и что особенно странно – еще и чем-то напугана! Неужели ТАМ, где она только что побывала, так страшно? Намек на месячные – обыкновенная отговорка, иначе откуда этот страх, откуда эта дрожь, словно от холода, в теплый вечер?
Остров
Глава девятая
1
– Ты меня любишь? – воркует на ухо Лидка, прижимаясь ко мне всем своим жарким телом.
– Люблю, – отвечаю я.
– Я тоже тебя люблю, – шепчет она, щекоча ухо язычком, и ее горячее дыхание проникает в самые сокровенные глубины моего мозга, обволакивая и затуманивая его.
Стоит девушке начать признаваться в любви ко мне, как у меня на глазах выступают слезы, мне хочется плакать и рыдать, падать перед ней на колени и просить прощения за все, все, все. Хочется сказать ей: я не достоин тебя, я грешен и нечист, я блудный греховодник, я упырь, выпивающий жизненные соки из непорочных девушек, я дьявол-искуситель, и Господь послал меня на эту землю, дабы подвергнуть испытанию добродетель таких невинных созданий, как ты. Однако я, конечно, ничего такого не говорю, ибо мгновение любовного признания прекрасно, и хочется его продлить.
– Если ты оставишь меня, то я не знаю, что с собой сделаю, – шепчет она.
– Я никогда тебя не оставлю.
И мне хочется верить, что это правда, я искренне хочу, чтобы так и было, ведь когда мы лежим в кровати, то все высказанное шепотом под одеялом приобретает особый смысл, словно это были чудесные магические заклинания. Я начинаю думать над тем, что бы такого приятного сказать Лиде, подбираю слова, запутываюсь в них, будто в сетях, и за этим занятием проваливаюсь в дремоту, однако голос ее снова возвращает меня к действительности.
– В воскресенье ты приходишь к нам на обед.
– Я помню.
– Наденешь кофейную рубашку и светлые брюки. Не забудь начистить туфли… И побрейся…
– Такое впечатление, словно я приглашен на прием к английской королеве.
– Хуже того. Если ты хочешь, чтобы я переехала жить к тебе, ты должен им понравиться.
– А что бы ты сказала, если бы я покончил с собой?
– Из-за меня? О, я бы сошла с ума от счастья!
Наконец-то я засыпаю, и мне снится воскресный обед. Лежу голый на столе, а ее домочадцы с белыми салфетками на груди подступаются ко мне со всех сторон и тычут острыми ножами и вилками, кто сыплет соль и перец, кто намазывает горчицей, поливает кетчупом, а хищные зубы старательно размалывают мое мясо, выплевывают кости и ощериваются в улыбке, чиркая багровой слюной.
2
Лида берет меня тем, что она просто ходячий секс. Она готова отдаться где угодно – в первом попавшемся подъезде, в сквере, на крыше, в лифте, в последнем ряду кинотеатра и даже в туалетной кабинке. Однажды на вечеринке, где царили полумрак и убаюкивающая музыка, она вспорхнула мне на колени в юбке без трусиков, и я имел ее, а она давилась смехом, лопотала, жестикулируя руками, о чем-то рассказывая, словно стараясь привлечь к себе внимание, а на самом деле всем телом вымахиваясь на мне, а в миг оргазма отвела от губ бокал с мартини и застонала: «Ка-а-а-кой кайффффф!» Дальше больше, ей уже стало нравиться делать это чуть ли не на глазах публики, и если в трамвае было битком набито, она расстегивала мне штаны, извлекала оттуда блудень и так держала меня, словно осла на поводке, до самой нашей остановки.
Она вспыхивает с полуоборота, надо лишь знать места, к которым нужно прикоснуться. Касаешься – и она пылает, как Жанна д’Арк. Ее руки не ведают покоя. Где бы вы с ней ни находились, рука ее постоянно норовит нырнуть вам в карман и, нащупав дозревающий банан, лелеять его в сладчайшем самозабвении страсти, которая, как ни странно, совсем не отражается на ее лице. Глядя на нее в такой момент со стороны, можно подумать, что она слушает Брамса. Но я-то, и только я один хорошо знаю, что она не Брамса слушает, а внимает моему блудню. Она играет на нем, будто на кларнете. Иногда я думаю, кому бы заказать ноты специально для ее игривых пальчиков. Я бы назвал это сочинение «Вечерняя рапсодия для пробуждающегося блудня». Любопытно, что я при этом вроде бы даже и ни к чему, возможно, я третий лишний. Лида научилась находить с моим младшим братом настолько общий язык, что я уже ничуть им не управляю. Временами мной овладевает страх, что они сговорятся и убегут, она выведет моего блудня, словно жеребца из конюшни, сядет сверху и задаст стрекача, оставив мне лишь мошонку с яйцами, чтобы я мотал-калатал ими, созывая правоверных на вечернюю службу. Мой жеребец реагирует на Лиду сразу, стоит мне только ее увидеть, и это уже не просто условный рефлекс, это правило этикета. Она хитро улыбается, и я уже знаю, что произойдет через секунду, и, когда ее рука юркнет в мой карман, там уже все готово – жеребец ржет от возбуждения, бьет копытом и закидывает голову. А когда приближается триумфальная минута, в честь которой я готов устроить салют, фонтан и фейерверк, Лида затягивает меня в укромный уголок, извлекает из моих штанов горячий револьвер и обреченно выстреливает себе в рот. В ту же минуту звучат литавры, вспыхивает свет, Брамс встает и снимает шляпу. И если бы мне кто-нибудь запихнул бы задницу перышко, я бы улетел.
Вы не поверите, но она с ним разговаривает, я имею в виду свой блудень, она разговаривает с ним, как вот я с вами, иногда мне кажется, что она разглагольствует с ним даже больше, чем со мной. Дошло до того, что она и не поздоровается, пока не поприветствует моего брателло.
– Хай, Ивасик! – восклицает она, а когда мы не в людном месте, то еще и нежно щелкнет его по головке, а затем уже чмокнет меня.
Она долго подбирала ему имя, так, словно оно призвано служить моему блудню всю его сознательную жизнь. Недели через две остановилась на Ивасике и устроила крестины, обливая несчастного Ивасика холодным шампанским, а затем мартини и апельсиновым ликером.
– Ивасик, Ивасик, я твоя крестная мама.
– Придется тебе подыскивать еще одно имя, ведь он не православный, а католик, – засмеялся я.
– Ну так назову его, как в той сказке, Ивасиком-Телесиком. Звучит?
– Еще как!
Я мог смотреть, лежа в постели, телевизор, а в это время Лидка мило сплетничала со своей волшебной палочкой, моим стержнем, который на ее глазах превращался то в ваньку-встаньку, то в царственный жезл, то в ядреную боеголовку, а затем наклонялась к блудню и говорила в него как в микрофон, время от времени увлажняя его языком, чтобы звучание было чистым и звонким. Если бы кто-нибудь случайно услышал это, то наверняка подумал бы, что она сюсюкает с маленьким дитятком. Лидка признавалась ему в любви куда чаще, чем мне, иногда казалось, что она просто терпит меня и воспринимает исключительно в качестве подставки и носителя этого роскошного торчила. Она умащивала его кремами из сбитых сливок, джемами, мармеладом, поливала ликерами, коньяком, вином, вставляла в Ивасика тоненькую соломинку, набирала в рот шампанское и, запустив его внутрь, затем высасывала, но когда однажды она обложила его мороженым, тот просто свалился с копыт.
– Ах, это ему не понравилось! – вскрикнула Лидка и принялась слизывать мороженое.
Обратите внимание, она сказала, что это ЕМУ не понравилось. Меня же она просто не брала в расчет. Да и кто я, собственно, такой? Она дошла до того, что читала над моим многоликим блуднем заклинания:
Ивасик-Телесик, сойди на бережок. Я дам тебе, Телесик, с маком пирожок.А кода он доверчиво откликался, продолжала:
Милый мой Ивасик, Расскажи-ка мне, где бывал, что слыхал, В какой хатушке-лохматушке ночевал.– Неужели, так ты нигде, кроме меня, и не ночевал? Так я тебе и поверила.
Заклинаю тебя, Ивасик, чтобы верным ты был только мне. Чтоб хозяин, коль вздумает тебя в щелку чужую пихать, стал бы силу Ивасик терять и, как снопик, лежать. Заклинаю тебя солнцем и звездами, землею и водою, всеми силами небесными: слушай только меня. А на чужие голоса не отзывайся, чужой лохматушки остерегайся, и кто бы тебя, милый мой, не заклинал, кто бы тебя в губоньки не брал, кто бы тебя язычком не лизал, — Лишь бы ты не стоял.Бывало, я вспоминал Лидины слова, и меня охватывал страх, что когда-нибудь она добьется своего, как добиваются в цирке, дрессируя разных щенков: ляг, встань, ляг, встань. Если даже какой-нибудь глупый щенок поддается дрессировке, то почему бы такому толковому интеллигентному блудню, как мой, не подпасть под власть Лидиных чар? А когда она сказала мне: «Ты знаешь, он такой аппетитный, что я готова его съесть», – я понял, что добром это не кончится, когда-нибудь она и вправду отчебучит такой номер. Женщина от большой любви готова даже уничтожить объект своей страсти, только бы он никому не достался.
Не забывала Лида и о своем лоне, она то выстригала его под ежик, то сбривала до блеска, и тогда сжатые губки выражали философскую задумчивость Моны Лизы, а то разводила такую курчавость, что ладонь на лоне пружинила. Несколько раз красила волосы в разные цвета, больше всего мне нравился ядовито-красный – это было что-то невероятное, я взглянул и увидел пылающие джунгли, услышал визг перепуганных орангутангов, отчаянные крики попугайчиков и шипение удавов. Я даже приложил ухо, чтобы лучше слышать, как стонет земля и бодро горят мирные вьетнамские села. А затем я немедля бросался тушить пожар.
Выбритое же лоно, напротив, напоминает пустыню с величественной дюной посредине, и когда всматриваешься настолько близко, что ресницы чиркают о нее, то видишь в мерцающем мареве туарегов на верблюде, и песня их тосклива и беспредельна, как сама пустыня.
Однажды она накрыла свою роскошницу сбитыми сливками, напоминающими снежные сугробы, а сверху красным кремом вывела «С днем ангела!». Я смотрел на ее лоно, как на американскую открытку. Иногда писала разные глупости типа «Здесь был Ивасик». Если ей и этого было мало, она накладывала в щелочку желе из красной смородины, и, когда я проникал туда, необычная прохлада охватывала меня, и с каждым толчком слышалось «тяв-тяв», словно там сидел кто-то и жалобно потявкивал. Могла залить сметану, и тогда я сбивал масло. Масло, сбитое в роскошнице, имеет ни с чем не сравнимый вкус, его можно есть с одним хлебом, не докладывая ни колбасы, ни сыра, случалось, мы его столько сбивали, что я жарил на нем гренки, яичницу, даже картошку, и ничто не прогорало. Будь мы с Лидкой попрактичнее, то смогли бы открыть целый маслозавод. Вообще-то влагалище с блуднем составляют вместе идеальный миксер. Особенно интересно сбивать белки с сахарной пудрой. Сбитая белковая пена пушилась и вырастала в объемах, вскоре наши животы покрывались белой пушистой массой. Сбивание сливок доставляло не меньшее удовольствие.
Лидины фантазии по части художественного оформления лона, казалось, не имели границ, и я с ужасом ждал того дня, когда она посыплет его битым стеклом и предложит Ивасику заделаться йогом. Может, она вбила себе в голову, что меня ничто в мире так не интересует, как ее роскошница. В снах я уже пережил ужасные сцены, когда она затягивает меня, словно удав кролика, только булькает и неспешно переваривает.
Все наше общение заканчивается сексом, вне этого я ее уже не представляю. Ей было абсолютно начхать на всю мою писанину, а я растроганно смотрю, как она с гордым видом розового фламинго ходит по рукописям, разбросанным по полу, я любуюсь ее длинными ногами, и мне в эти минуты совершенно безразлично, что будет дальше с моим бумагомаранием. Она может взобраться на стол, за которым я пишу, усесться голая на бумаги, опершись спиной на окно, и гипнотизировать меня своей роскошницей. В тесно сжатой щелочке чудится недреманное око иных миров, рентгеном просвечивающее меня насквозь, до мозга костей. Мое сознание в силах сопротивляться не дольше пяти минут, лишь однажды я побил рекорд и продолжал писать, пронизанный мистическим взглядом ее влагалища, щедро сдобренного кремом. На двенадцатой минуте я высунул язык и принялся лакомиться десертом.
Иногда она садилась на канапе за моей спиной, и этого было достаточно, чтобы в голове моей взошло ясное солнце ее лона, которое она маняще ласкала пальчиком. И когда я на мгновение отрывался от рукописи, то, оглядываясь, видел именно это. Она же в этот момент на меня совсем не смотрела, взгляд ее был обращен к потолку, и казалось, мысли ее витают далеко-далеко.
Лидка никогда не интересовалась тем, что я сейчас пишу, зато ее интересовало, что мы будем сегодня есть, она могла подолгу обсуждать со мной кулинарные секреты, спорить о том, какие блюда вкуснее и полезнее. Перед тем как готовить обед, она ложилась на канапе и вслух решала, что именно сегодня будет варить. К счастью, я уже привык ко всему этому, как привыкают к чириканью воробьев за окном. Другое дело, что ее кухонные заботы преследовали одну и ту же светлую цель: накормив меня, наполнить свежей силой мой ненасытный стержень. Блудень был царь и бог, а все остальные части тела являлись лишь необходимым приложением. Получалось, что я писал и зарабатывал деньги только для того, чтобы мой босяк мог жить как сибарит.
Прослышав как-то, что красный перец является отменным возбудителем, Лидка с той поры сыпала в каждое блюдо столько жгучего порошка, что рот мой пылал, как кратер Везувия. Однажды я наперченными губами и языком припал к ее роскошнице, отчего она мгновенно вспыхнула таким безумным, таким всепоглощающим пламенем, что Лидку начало трясти, словно в лихорадке, и она стала верещать, восклицая, что там у нее просто горит. Оторвав свои губы от этого жизнетворного источника, я аж возопил от восторга: ее нежное светло-розовое влагалище превратилось в ярко-красное, и казалось, достаточно поднести к нему спичку – и оно моментально вспыхнет. Лидка перевернула меня на спину, вскочила верхом и начала так гарцевать, что канапе под нами не выдержало колебаний, затрещало и развалилось. Мы плюхнулись на пол, но и после этого Лидка не расседлала моего мустанга, продолжая ковбойские скачки. Это было незабываемое зрелище. Никогда в жизни никто меня так не насиловал, как она. Весь дом шел ходуном, звенели стекла в окнах, стаканы, фужеры, люстры, тарелки, падали книги с полок, разлетались рукописи, тарахтели столы и подпрыгивали стулья, вспыхивали и лопались от перенапряжения лампочки, а на улице завывали соседские псы, кудахтали переполошенные куры, гоготали гуси, муравьи хватали свои личинки и зарывались с ними в глубины земные. Разгоряченная Лидка неустанно подпрыгивала, будто механическая игрушка, а перец из ее лона распространился на мой фаллос, и он также вспыхнул, как Джордано Бруно, – такой же гордый и неукротимый, твердый и несгибаемый. Я ощутил такое жжение, что зашипел и выгнулся, подбрасывая Лидку к самому потолку, и так, вдохновенно взбрыкивая несколько раз подряд, я ускорил ее оргазм, излившийся в неистовый вопль восторга. И сразу онемели все собаки Винников, куры и гуси замерли на своих насестах, муравьи зарылись еще глубже, и нависла мертвая тишина, какая бывает после землетрясения. Лидка обессилено сползла с меня и потянулась жадным ртом к готовому салютовать стволу. Он не стал сдерживать свой боевой пыл и залпом выпустил весь нектарно-перцовый заряд. Лидка, как ошпаренная, вскочила на ноги и замахала ладонями возле губ. Теперь у нас обоих все горело, полыхало и клокотало.
– А-а-ай! – верещала она. – Я горю! Спасайте!
Я испугался, подхватил ее на руки и занес в ванную, а то ведь, не ровен час, и дом загорится от этого факела. В ванной я старался гасить пожар всем, что только под руку попадалось: вином, кислым молоком, малиновым сиропом, кока-колой, водкой, кофе… Я залил ей в кратер литр меда, швырял туда полными горстями клубнику, смородину, яблоки, сливы, груши, абрикосы и помидоры, и не было этому ни конца ни края. Лидка возлежала в этом немереном десерте вся красная от ягодных соков, сама как десерт.
3
Они накрывают на стол в саду под раскидистыми вишнями, в которых дозревают наши брачные ночи, ведь они всерьез думают, что мы поженимся, и делают вид, что сегодняшний обед – повседневная еда, ничего особенного, но я-то вижу, что это не так: их обед должен окончательно пленить мое сердце своей неотразимой изысканностью. И кто знает, не подсыпано ли в обильные яства волшебное зелье – высушенные и истолченные крыльца нетопыря, язык жабы, паучья лапка, муравьиная кислота с каплей менструальной крови, которые вместе с колдовскими заговорами могут совершить свое черное дело. Уяснив это, я почувствовал, как меня сковывает страх, и захотелось немедля вырваться из их плена, взлететь хрущом над вишнями и исчезнуть, затеряться в облаках.
У ее мамы грудной голос, и кажется, она не разговаривает, а квохчет над своим единственным цыпленком, что-то из этого квохтания я уже слышал и в Лидином голосе, оно прорезалось иногда, словно отголоски затерявшейся радиостанции. Теперь я представляю обертоны ее голоса лет эдак через десять: она тоже начнет квохтать, довольствуясь жизнью добропорядочной наседки.
Так же, наверное, и ее отца подобным образом заманили когда-то на воскресный обед, и он, раб желудка, полуголодный студент из сельской глухомани, позволил спеленать себя их сетями и лишь спустя годы сообразил, что и обеды эти театральны, и голоса, и беседы, и наряды… Вот он сидит напротив, развалившись в кресле-качалке, и по его мечтательному взгляду, блуждающему по вишенному раю, можно предположить, что и он здесь обедал впервые, и, возможно, так же дозревали вишни и рдели на солнце, а панна Мирося, будущая его жена, удобненький мягкий матрасик с пульсирующим подгрудком, сидела здесь же напротив и носиком черной туфельки шаркала по травке, как это делает теперь ее дочь.
За столом кроме родителей и нас с Лидой красуется увядающая анемона, сестра пани Мироси – тетя Роксолана. На голове стареющей девицы колбасились невероятные кренделя из густых светлых волос, лицо же ее, потно заштукатуренное кремами и пудрами, походило на застывшую японскую маску. Ощущение того, что за одним с тобою столом обедает покойница, – не из лучших. Тете Роксолане скоро стукнет полтинник, и, как мне украдкой шепнула Лида, она еще девственница. Ну что ж, ее невинность целиком на совести отца Лиды.
– Она тебя ненавидит, – предупредила меня Лида.
– За что?
– За Роксолану.
Наверное, этого следовало бы ожидать от дамы с таким именем.
Лидочкина мама ест суп, манерно держа ложку лишь двумя пальцами, остальные три растопырены, словно павлиний хвост, она осторожно и беззвучно втягивает в себя жидкость и еще аккуратнее глотает, как будто ее предупредили, что вместе с супом может проглотить нечистика, и потому каждый раз набирает только половину ложки. Иногда лишь отец, увлекшись, может прихлебнуть смачно и звучно, что мгновенно вызывает нервную реакцию матушки и ее сестры: обе, как по команде, постреливают глазами и недвусмысленно покашливают, от чего старик вздрагивает и смущенно посматривает на меня, чуть не давясь. Я делаю вид, что ничего не замечаю. Лидуня, очевидно, успела перекусить перед обедом, это похоже на нее уж если она участвовала в готовке блюд, то не могла отказать себе в удовольствии попробовать всего понемногу теперь она не столько ест, сколько надкусывает и пригубливает, словно понарошку, играя роль. Тетя Роксолана позволяет себе больше – она, зачерпнув суп, медленно подносит ложку к рту, на мгновение придерживает, будто прицеливаясь, а затем резко переворачивает ее куда-то за нижнюю челюсть, где, похоже, разместился отстойник-накопитель, видно, оттого она все время пожевывает, словно ест не суп, а кашу.
За уткой Лидин отец начал распространяться про политику, про будущие выборы, но разговор не клеится, у меня нет настроения встревать в политические дебаты И напрасно, если бы я знал, что произойдет дальше, то предпочел бы остановиться на политике. Наконец тетя Роксолана, кашлянув, выпускает давно поднакопленный пар:
– Пан Юрко, Лидуня воспитана в давних галицких традициях. Она не какая-нибудь вертихвостка. К нам тут приходили вполне порядочные парни, однако она их не хотела: берегла себя как никто. А вы ведь знаете, каково это в нашито времена, вы ведь сами знаете, что это значит, когда в девятом классе делают аборты. Лидуня не такая. Она в пять лет уже читала наизусть Шевченко.
Ну что ты, дурища, знаешь о ней? Да я с вашей Лидуней занимался любовью на крыше того самого дома, под которым высится памятник Кобзарю, и, ей-богу, он своей десницей благословлял нас: «Давай, казак, не подкачай, и слушай ее, дышит ли!», и Лидуня дышала так, что я вынужден был прикрывать ей ладонью рот, чтобы не испортить вечерним прохожим святое воскресенье.
– Она много читала. Мы водили ее в театр, в оперу…
Предавались любви мы и в опере. Там такие чудесные закоулки, где ни одна живая душа тебя не найдет. В театре Заньковецкой, правда, могут застукать, там слишком звонкая акустика, и шаги издалека отдаются таким эхом, словно кто-то уже совсем рядом, поэтому приходилось часто останавливаться, навострять уши и прислушиваться. Как-то неподалеку от мастерской главного художника Лида забыла на подоконнике свои трусики. Каково же было наше удивление, когда на следующий день, снова вдохновленные страстью к театральному искусству, мы обнаружили их на прежнем месте.
– … в филармонию…
И там во время симфонического концерта мы так же забивались за какие-то шторы и в сплошной темноте совокуплялись, словно дикие звери, а в финале, когда я отодвигал штору и свет проникал в наше логово, то мы чуть не лопнули со смеху, ведь, оказалось, Лида упиралась руками о лысую голову вождя революции, которую прятали здесь от национально сознательных глаз, по идеально белой лысине стекала моя живица.
– Именно поэтому, пан Юрко, мы просили бы вас прекратить писать все то непотребство, все эти мерзости, которые вы печатаете в своей газете.
Наконец она исторгла из себя то, что до сих пор отягощало ее непорочную душу.
Нависла тревожная тишина. Лидуня робко хихикнула и прикусила нижнюю губу, следя за мной исподлобья. Отец на всякий случай перестал жевать и с полным ртом замер, вытаращив встревоженные глаза. Матушка делала умный вид, будто это вовсе не тетя Роксолана вынесла окончательный приговор, а сама Богородица. Старая дева еще несколько мгновений пронизывала меня своим совиным взглядом и, убедившись, что я проглотил первую пилюлю, угостила следующей:
– Вы себе не представляете, что мы испытали, когда Лидуня сообщила, что встречается с вами. Я переспросила ее тогда, не тот ли это самый, кто столь омерзительно опорочил нашу Роксолану… Да вы себе хоть представляете, на что подняли руку? Ведь наша Лидуня воспитывалась на идеале Роксоланы.
«Возьми меня, как султан свою рабыню! Трахни меня! Я твоя невольница, делай со мной, что хочешь! Скажи мне: Роксолана! Обзови меня! Нет, не так… еще грубее… так… так…»
– Моя мама назвала меня Роксоланой в те времена, когда это звучало как вызов! Человек с таким именем был обречен. Даже речи не могло быть о том, чтобы я могла пробиться наверх. Вы понимаете? Мы читали про Роксолану из-под полы…
Я знаю. И мне приходилось читать из-под полы. Но я уже излечился. Я уже не страдаю унизительной болезнью невольничества и впредь молиться на ваши рабские идеалы не намерен.
– И вдруг это ваше «Житие гаремное»… Я не верила своим глазам. Все спрашивала своих знакомых, настоящая ли это ваша фамилия. Я была уверена, что в действительности вы какой-нибудь Кох или Кауфман. И наконец я нахожу знакомых людей, которые знают вашу семью. Оказывается, вы – наш, галичанин! И ваш отец воевал в УПА! Правда, был не бандеровцем, а мельниковцем, но это еще можно как-то стерпеть. По крайней мере, я уверена, что не он вас так воспитал. Я часто задумывалась над этим. Прочитала все ваши книги, все публикации, чтобы разгадать эту загадку. И я поняла. Таким вас сделала система. Вы – жертва коммунистической системы. И мне стало жаль вас.
Я взглянул на нее и увидел, что ее глаза наполнились слезами. Чего она хочет от меня? Чтобы я раскаялся и плюхнулся к ее невинным стопам, заламывая руки? Но ведь я мог бы и ответить. Да, мог бы. Я мог бы сказать: «Христова невеста! Да ведомо ли тебе, что такое любовь? Что это, когда два жаждущих друг друга тела неизъяснимая неистовая сила притягивает и сплетает в один клубок? Когда все, существовавшее доселе и грядущее, исчезает в мареве, а остается лишь то, что есть: безумная песня тела, пляска огня, буря и натиск, извержение вулкана, Всемирный потоп! Разве ты это познала? Ты, кто ни разу не захлебывалась хмельным вином спермы? Что знает твой язык, который лизал только мороженое? Что знает твоя задница, кроме медитаций на унитазе?.. Даже твоя сестра не сможет рассказать тебе чего-то большего, ведь, как я догадываюсь, любовью она занималась лишь в темноте под одеялом и не чаще, чем раз в неделю».
Я мог сказать это, но промолчал.
Тем временем мы с Лидиным отцом остались одни, женщины ушли готовить десерт. Мы выпили, и он снова что-то талдычил о политике, я пропускал мимо ушей, а когда он спросил, что я об этом думаю, я выпалил:
– Говно!
И, как оказалось, попал не целясь.
– Ну конечно! Говно! – мгновенно ожил старик. – Я сразу почувствовал, что вы парень что надо! И ответите именно так, как я думаю. А оно так и вышло! Я подумал: говно. И вы сказали: говно! Хотя могли бы ведь строить из себя интеллигента. Я же, признаюсь, всех этих пижонов – «разрешите, извините, пожалуйста» – на нюх не переношу! Моя благоверная мне за это слово своими проповедями плешь проела бы.
– За какое слово?
– Ну так ведь за «говно»! Не позволено мне такие слова употреблять. А ведь так иногда хочется! Знаете, что я вам по секрету скажу, не слушайте вы эту дурковатую Роксолану. Баба без мужика умом трогается. Прежде меня воспитывала только моя жена, а теперь, когда сестрица ее поселилась, обе на мозги капают. Иногда мне даже шальная мысль на ум приходит: а не подсыпать ли отравы?
– А почему бы вам ее по-мужски не ублажить?
– Это как?.. Юродивую эту?
– А почему бы и нет? Задница у нее так и просится.
– Вы полагаете, это поможет?
– Сами ведь говорите, что баба без мужика с ума сходит.
– Но так она еще целка!
– Ну и что? Хотя я весьма сомневаюсь. Возможно, мужика она и не имела, но за столько времени могла давно это сокровище обесценить – если не пальчиком, так огурцом.
– Да что вы говорите? Полагаете, она могла удовлетворить себя огурцом?
– А чем плох огурец? Да не берите вы это в голову, отдерите ее так, чтобы на стены лезла. В милицию она не пойдет. Увидите – ей это понравится.
– Полагаете?
– Гарантирую! И еще попросит.
Его глаза загорелись, и я уже видел, как мозг напрягся, разрабатывая атентат на невинность золовки. Жаль, что я не увижу этой экзотической сцены. С удовольствием попридержал бы за ноги.
– Однако посоветуйте… должен ли я что-нибудь сказать ей прежде, чем приступить к изнасилованию?.. Что-нибудь, знаете ли, эдакое, приятное… ну, может, поцеловать?
– Не тот случай. Лучше обходиться без слов. А то ведь начнете разговоры, расслабитесь, а она поднимет вас на смех – и вся недолга. Уж лучше украдкой подойти к ней сзади, повалить на пол…
– А не лучше ли на кровать?
– Послушайте, пан Роман, вы в своей жизни кого-нибудь насиловали?
– Нет, а что?
– Ну, так слушайте и запоминайте. Насиловать на кровати гораздо сложнее, ведь кровать пружинит, а женщина может подкидывать, и тогда бывает очень трудно удержать равновесие. Тогда как пол – идеальное место для того, чтобы взять женщину силой. Руки ее заводите за спину и удерживаете левой рукой оба ее запястья. Правая ваша рука остается свободной. И что вы делаете ею?
Пан Роман тряхнул головой и мужественно изрек:
– Буду щупать сиськи.
– Так вот: правой рукой срываете трусы. Одним резким движением. Р-раз – ив дамках. Ведь дамы без трусов теряют волю к сопротивлению. Вся их сила в исподнем. Ваша золовка – это такой тип бабы, которая сама желает, чтобы ее взяли силой. Можете даже слямзить ей по физии.
– А перед тем врежу стакан с перцем…
– И все испортите. Дохнете на нее, и она решит, что не страсть движет вами, а горилка. Тогда она будет сопротивляться до последнего. И ни за что не поддастся. Советую вам не только не пить, но и не наедаться.
– Ага, выходит, я должен насиловать ее натощак?
– Определенно! С набитым животом завалить такое важное дело – раз плюнуть.
Он снова задумался, а я втихаря радовался, что мне удалось его расшевелить, разбудить в нем настоящий азарт, раздуть в его душе искру забытой страсти.
– А что, черт возьми, протру ей сажу! – потер ладони. – Жаловаться не будет. Послушайте, а скажите мне по правде, вы уже мою Лидку ну, это? – Я усмехнулся. – Э-э, да о чем я спрашиваю! – махнул рукой. – Ясно, что за пальчики вы уже давно не держитесь. А мне не жалко. Ей-богу, не жалко.
Наконец появились женщины с пышным вишневым тортом и кофе. Старик был уже изрядно на подпитии и то и дело игриво подмигивал золовке. Та важничала, надувала губы и, похоже, собиралась с мыслями, чтобы разродится новой тирадой. Лида села возле меня, и ее рука легла на мое колено.
– Пан Юрко, – отозвалась тетя Роксолана, – наш народ много страдал, кто только не разорял его, кто только не унижал… и он все превозмог. И вот теперь, когда можно обо всем этом писать, вы пишете про… про… про тот ваш…
– Блудень и роскошницу! – хохотнул пан Роман. – О-о, это незабываемо…
Гневные взоры обеих сестер пригвоздили старика, и он опустил голову.
– Итак! – продолжала тетя. – Вы пишете такое свинство, какого наша литература никогда еще не знала. И не только литература. Наш народ воспитан в традициях чистой любви и целомудрия. В его языке не существует нецензурных слов.
– Говно! – сказал старик.
– Ромка, прекрати! – перепуганно кудкудахнула пани Мирося.
– А че прекрати? – не сдавался он. – Ежели это слово нецензурное, то покажите постановление, где об этом сказано. А ежели оно цензурное, то не имеете права запрещать мне пользоваться им.
– Я имею в виду другие слова, – сказала тетя.
Лидина рука поглаживала мне ногу.
– Существует множество важных тем. Например, голодомор… – она продолжала пилить меня, нарезая вишневый торт, и вишни истекали красным соком, – репрессии… когда людей среди ночи выволакивали из теплых постелей… (Лидина рука уже расстегнула мои брюки и вынула блудень из теплого логова). Наш народ не единожды восставал против поработителей… (И моя булава воспрянула под ее пальцами, а по телу разлился жар). Почему вы не пишете о наших героях? (Мой забияка героически пульсировал в Лидиной ладони, ощущая то же самое, что предвкушает петушок, когда ему вот-вот свернут шею). Про вас рассказывают страшные вещи… Я, конечно, не верю, но задумайтесь: о других-то ничего подобного не говорят!
Лидины пальчики наяривали на моем саксофоне столь страстно, что я уже начал покусывать себе губы.
Пани Мирося положила нам по кусочку торта и налила кофе. На минутку Лида оставила мой стержень, чтобы надкусить торт и надпить кофе.
– Вы упали в моих глазах…
Оставленный животрепещущими пальцами жезл сразу же сник. И все же невозможно возлежать в пальцах Лиды, через минуту они, умащенные кремом, ласково заскользили по нему, и жезл снова принял руководящую стойку.
– Вы сознательно противопоставили себя обществу. Я даже слышала, что вас хотели отлучить от церкви.
– От православной, – уточнил я. – Однако оказалось, что это невозможно, ведь я греко-католик. А жаль…
– Не кощунствуйте!
– Ну почему же? Я пополнил бы прекрасную компанию: Мазепа, Толстой, Джордано Бруно, Жана д’Арк, Савонарола, Ян Гус…
Она смотрела на меня так, словно я только что бросил ей в тарелку дохлую мышь, затем перевела взгляд на свою сестру, и та наконец изрекла, чеканя каждое слово:
– С такими взглядами вы никогда не получите нашей дочери.
В это мгновение мой блудень забился в конвульсиях, постреливая живицей туда, куда его нацелила Лидина рука: прямо на колени тете Роксолане, сидящей напротив меня. У бедняги перехватило дыхание, и ее вытаращенные глаза медленно опустились, чтобы узреть сей неописуемый ужас. Матушка ничего не заметила, она смотрела на Лиду, которая, вынув руки из-под стола, с наслаждением облизывала пальчики.
– Лидуня! Ведь на столе лежат салфетки!
– Ах, что за чудо этот крем! Со сливками… Я от него просто без ума.
Я украдкой затянул замок на брюках и выдохнул. В голове играли скрипки и виолончели. Перепуганные гляделки тети Роксоланы, пробуксовав, встали на место, и она, вперив в нас свой звереющий взгляд, взяла со стола салфетку и вытерла колени. Пан Роман лукаво мне подмигнул. Неужели и он заметил? По фигу.
– Что-нибудь капнуло, Ляна? – спросила пани Мирося.
– Кофе… – ответила тетя, а на ее напудренных щеках расплылся здоровый женский румянец.
– А давай, Юрко, врежем, – сказал пан Роман, наливая мне вино. – Что вы слушаете этих глупых старух? Вы мне нравитесь. А знаете почему? В здоровом теле – здоровый бздух.
– Ромка! – прошипела его жена. – Ты что, рехнулся?
– Он уже и его нам испортил! – воскликнула тетя. – За каких-то четверть часа, пока мы оставили их наедине, этот извращенец и его заразил! Это чудовищно! С этим надо бороться, как с инфекцией.
– Пани Роксолана, – сказал я. – Я предлагаю вам уединиться со мной минут на пятнадцать. Ведь вы такая стойкая – вам нечего бояться.
– О Господи! – захлебнулась воздухом пани Мирося, словно поперхнулась бабочкой махаоном.
Тетя беззвучно раскрывала рот, словно выброшенная на сушу рыба, а ее лицо медленно наливалось свекольным соком. В воздухе зависла тишина. Выражения лиц пани Мироси и тети Роксоланы свидетельствовали о полном их единодушии, они смотрели на меня так, словно попали на демонстрацию вампиров и, оплатив билеты, старались теперь получить за свои деньги как можно больше зрелища. Я заметил, что в их глазах было уже не столько гнева или осуждения, сколько сочувствия ко мне. Отныне я стал для них человеком, навеки потерянным.
– Что это за запах? – принюхалась пани Мирося и поднесла к носу салфетку, которой только что вытирала колени ее сестра.
– А что, ты уже забыла, как это пахнет? – залился хохотом пан Роман.
– Мерзавцы! – возопила мать и выскочила из-за стола. – Лидка! Марш в свою комнату! И чтобы я тебя с этим… этим… монстром больше не видела! Чтобы даже имени его не слышала!
Старик тем временем хохотал, хватаясь за живот, а Лида спокойно положила в сумку бутылку вина, пару кусков торта и, взяв меня под руку, сказала:
– Кажется, нам пора, Юрчик!
– Лидка! Ты куда?
– Благодарю за гостеприимство, – сказал я, и мы двинулись.
– Ты с ним не пойдешь! Никогда! Никуда! Да-да-да..! – квохтала ее матушка.
– Все было очень вкусно, особенно торт, – бросил я вежливо через плечо.
– Юрчик! – сказал мне вдогонку пан Роман. – Позвони мне на днях, посидим где-нибудь за пивком. А я тебе доложу, как прошла операция.
– Это какая еще операция? – тряслась всем телом от возмущения его благоверная.
– Операция «Жопа»!
4
Лидка была уже достаточно заведена и, когда я спросил, куда бы она хотела пойти, ответила: туда, где мы сможем заняться любовью. Я решил пойти с ней на тот самый островок на Погулянке, где недавно побывал с Марьяной. Какая-то неодолимая сила влекла меня туда, наверное, так же, как притягивает к себе преступника место злодеяния, и хотя никакого преступления совершено еще не было, однако островок тот крепко запал мне в душу. Ведь даже закрыв глаза, я видел колыхание зеленых ивовых кос и слышал плеск волн. По дороге Лидка хохмила:
– Ну, и как тебе обед?
– Ты с ума сошла. Теперь я никогда не смогу прийти к тебе в гости.
– Не смеши! Куда они денутся? Они теперь в меньшинстве, их две, а нас с папанькой – троица. Ты ему понравился.
– Папанька у тебя клевый. Но ведь, если я правильно понял, цель визита была в том, чтобы тебя отпустили ко мне? Кажется, теперь из этой затеи ничего не получится.
– Почему нет? Ведь я и спрашивать не буду. Цель была другая: познакомить вас и чтобы они не терзались в страшных догадках, что я запропала невесть с кем, когда я уеду на каникулы. А теперь они будут знать, что я с тобой. Ничего, стерпятся-смирятся.
Ступив на островок, я первым делом осмотрелся в поисках Грицка, но его нигде не было. И никакого следа от лодочки. Мы расположились под вербой на том же месте, где я сидел с Марьяной, примятая трава здесь еще не успела выпрямится. Я открыл шампанское, и мы пили его из горлышка, целуясь и переливая вино из уст в уста.
На свежем воздухе вино пьется легко, и хмель не туманит рассудок, как в помещении, потому неудивительно, что меня потянуло на беседу, которую на трезвую голову я с Лидкой никогда бы не начал. Я рассказал ей про Марьяну и ее предложение, но представил все так, будто произошло это очень давно, лет десять тому назад. Лидка сразу высказала предположение, что Марьяна была больна на голову.
– Она не была похожа на идиотку, – сказал я. – Наоборот, она не по летам развита, начитанна.
– Яркий признак шизофрении, – сделала вывод Лидка. – Среди шизофреников интеллектуалов хоть пруд пруди. Ведь моя мама психиатр. Она мне такого нарассказывала! У нее лечился мужчина, который знал три десятка языков. Другой держал в голове целый калькулятор и делал с цифрами любые комбинации.
– Но она была во всем абсолютно нормальной. Одно-единственное, что отличало ее, это желание смерти.
– Так ведь это оно и есть: желание смерти, мания преследовании… Скажи честно, она тебе нравилась?
– Очень.
– Ага, я даже знаю, как развивались события. Ты сделал вид, что соглашаешься на самоубийство только для того, чтобы обуть ее.
– А что потом?
– Несложно догадаться, видя тебя живым и здоровым. Ты ее использовал. И затем сачканул. А теперь я хочу услышать детали.
– Все, как ты и предвидела. Поматросил и бросил.
– Всю в слезах, в истерике… а вослед тебе летели проклятия, обидные слова и грубые ругательства…
– Такое впечатление, что ты была очевидицей той сцены. И все же знаешь, столько времени прошло, а меня продолжает тяготить мое тогдашнее поведение. Мне кажется, что я поступил непорядочно.
– Прекрати. Что же здесь непорядочного? Ну, был у нее бзик на пунктике самоубийства… Подумаешь. Пусть бы нашла себе какого-нибудь дебила для компании. А подбивать на уход из жизни вполне нормального человека – так это же просто свинство. Я бы на твоем месте сделала то же самое. Может, после твоего ухода она и укротила в себе прежнюю жажду смерти. И как же, кстати, сложилась ее судьба?
– Не знаю. Я ее больше никогда не встречал.
– Ну, так и выбрось ее из головы. А почему ты именно сейчас о ней вспомнил?
– Потому что все это происходило здесь, на этом острове. Здесь мы должны были отравиться и умереть. А вместо этого полюбили друг друга.
– В самом деле? – Лидка, округлив глаза, стала рассматривать островок. – Кто бы мог подумать! Ну прямо-таки историческое место. Я даже подозреваю, что мы и сидим именно там, где ты ее трахнул.
После этих слов она проворно сбросила джинсы.
Глава десятая
1
Вера прекрасно знает, где я оставляю ключи, поэтому неудивительно, что, вернувшись в то воскресенье домой, я застал ее на диване всю раскрасневшуюся после ванны, она смотрела какую-то мыльную оперу по видику. Рядом на журнальном столике красовалась откупоренная бутылка мартини, которое я, между нами, приберег для Леськи.
– Где ты шляешься? – спросила она, сбрасывая с головы замотанное чалмой полотенце. Вино заметно окрашивало тембр ее голоса. Следующая фраза прозвучала не менее властно:
– Какая это стерва надевала мой халат?
Удивительно, как легко женщины вживаются в чужие вещи. Халат по очереди надевали все мои избранницы, которые появлялись в этом доме, при этом каждая считала его своим и от всех я слышал одну и туже фразу: «А где мой халат?» Из-за этого я вынужден был перед визитом следующей дамы отдавать этот несчастный халат в прачечную, чтобы истребить запахи их духов, шампуней, дезодорантов и другого свинства, которыми они столь успешно дурачат наши глаза и носы. В этот раз я не успел сделать это заблаговременно – и вот попался.
– Приходила моя сестра убираться, – сказал я совершенно равнодушным тоном.
Про мою мифическую сестру знали все мои милые подруги, хотя ни одна из них не могла похвастаться тем, что видела ее. Я тоже никогда ее не видел, но она уже столько раз выручала меня, что я проникся к ней искренней братской любовью: ведь это она нарисовала на зеркале сердце, пронзенное стрелой, это она постоянно забывала у меня какие-то кремы, пудры, лаки, щипчики, напильнички, тушь. Но все это было еще полбеды, даже оставленные ею колготки, трусики и лифчики не создавали для меня такой проблемы, как щетки для волос с остатками тех же волос, ведь я сам уже запутался и толком не помнил: блондинка моя сестра, брюнетка, шатенка или рыженькая. После того как очередная пассия покидала мое логово, я внимательно обследовал все места, где она побывала, стремясь уничтожить все сколько-нибудь заметные мелочевки, случайно или намеренно оставленные ее, ведь попасться можно даже на сигаретном окурке со следами помады, который небрежно выбросили на балконе. Но волосы! Волосы – это было как наваждение дьявола. Невозможно было убрать все так, чтобы затем какой-нибудь проклятый волосок не вылез на поверхность.
– Так ты уже и сестру свою трахать начал? – спросила Вера, и я оцепенел, лихорадочно припоминая, что же в этот раз могло оказаться забытым и кем?
– Да я бы с радостью, – засмеялся я, чтобы как-то смягчить ситуацию, – однако она воспитана в более строгих нравах, чем я. А что?
– Да ничего особенного. Только вся подушка пропахла ее духами и замазана ее помадой. Поскольку это не мои духи и помада не моя, значит – твоей сестры. А как иначе, скажи на милость, можно было разукрасить помадой подушку, если не отдаваясь тебе, лежа на животе?
Вера нравилась мне тем, что много читала и умела делать выводы. Ту несчастную подушку она подмостила себе под спину, с укором тыча пальцем в розовые пятна помады. Ну, хватит, сказал я тогда. Больше ни одна жопа в постель не ляжет, пока не умоет свою пасть хорошенько.
– Сволочь ты, – сказала Вера, отхлебнув мартини.
В ее словах слышалась горькая правда. Я, вздыхая, поплелся на кухню, достал из холодильника бутылку вишневки и глотнул из горла.
– Почему ты не ужинаешь? – спросила она с подчеркнутой иронией, неожиданно появившись на кухне.
Прежде чем ответить, я начал вспоминать, что я врал ей насчет нынешнего воскресенья. Кажется, я должен был идти на работу готовить свои странички в газете. Для нас, журналистов, выходных не существует. Логично предположить, что я должен быть голоден, словно дикий вепрь. А Вера знала, что обедать в городе я не люблю. Ну, что же, у меня есть друзья, которые с радостью накормят.
– Я у Влодка перекусил. Он тебе привет передавал.
– Как здорово! Благодарю… И что ты там ел?
– Картофельные оладьи.
– Я тебя, любимый, сегодня везде искала и обзвонила все, что только можно. В редакции трубку никто не брал, а жена твоего Влодка ответила, что ее муж уже неделю в Польше. Это так, между прочим.
– Ну и что это меняет? – не сдавался я. – Разве, если он в Польше, я не мог зайти к ним на оладьи?
– А как же с приветом?
– Нормально. Он как раз позвонил, узнал, что я у них, и передал тебе привет.
Железная логика сражает женщин наповал. А почему? Да потому что мужчины умеют мыслить логично. И это их спасает. Но не всегда.
Я уже нацелился в ванную, чтобы смыть последние следы греха, когда Вера приблизилась ко мне, и уже по одной ее ехидной усмешечке можно было предположить, что готовится нечто феноменальное. Я всегда готов как-нибудь защититься, не дать застать себя врасплох, и все же, клянусь, такого я не ожидал. Да и вообще, разве мог я в тот момент нормально мыслить, когда она прижалась ко мне и поцеловала взасос так, что все мысли улетучились на ближайшие полчаса, одновременно ее лукавая рученька расстегнула мне штаны и змейкой проникла в знакомые ей места. Однако священнодействие это длилось считаные секунды. Вера оттолкнула меня и поднесла ладонь к своему чувствительному носику. Сердце мое остановилось, и до меня дошло наконец все коварство ее поступка, ведь она прибегла к способу, известному, наверное, еще со времен первобытно-общинного строя. Мгновенно моя щека расцвела неповторимой свекольной окраской от пощечины ладони, пахнущей – о раны Господни! – Лидкой.
Получали ли вы оплеухи от своих девушек? Это удивительное и ни с чем не сравнимое ощущение. Это звучит посильнее слов «Я люблю тебя», ибо пощечина – значит не просто любовь, а большая любовь, подлинная и до смерти. Пощечина – это печать глубочайших чувств, более глубокими бывают только чувства, припечатанные ударом ножа или табуретки. Получив такую плюху, вы можете наконец оценить всю силу чувств и девичьей страсти. Можно, я не буду употреблять тех слов, что прозвучали из ее чарующих уст? Я позволил ей выпустить из себя этот неуправляемый словесный фонтан и налил в стакан вишневки. Вишневая наливка – это лучшее лекарство от истерики. Ничто так не успокоит выведенную из себя женщину, как добрая вишневка.
– Все, это конец, – цокала она зубками о стакан. – Ты для меня умер. Даже не пытайся объяснять, что это запах родной сестры! Я не желаю ничего слышать. Ни единого слова.
Я молчал, как рыба. Мое лицо приобрело такое выражение, словно мне только что сообщили, что все мои рукописи сгорели. Написанная на лице трагедия – непременное условие успеха.
– Ты не поверишь, а ведь я любила тебя, – прохныкала она, шмыгая носом. – Это были искренние чувства, и ты убил их.
Я мгновенно примерил маску раскаявшегося палача и на всякий случай точно так же шмыгнул носом – иногда женщины на это ловятся. Но сейчас был не тот случай. Вера ушла в комнату и захлопнула за собой дверь. Я выдохнул наэлектризованный воздух и залез в ванну. Любовь на природе преподносит нам иногда досадные сюрпризы. Лежа в ванне, я задумался над сегодняшним безумным днем. Он просто не мог закончиться иначе и завершился именно так, как того требовали тайные предписания судеб. Так, может, Марьяна была права?
2
Когда я вылез из ванны, Вера смотрела ту же мыльную оперу.
– Даже не приближайся ко мне, – сказала она каменным голосом.
– Хорошо, – сказал я, снимая рубашку и укладываясь рядом. Главное не перечить женщинам.
– Даже не прикасайся ко мне, – сказала она еще тверже.
– Упаси Бог, – ответил я и обнял ее.
Тело ее выгнулось дугой, и ладони уперлись в мою грудь.
– Прекрати, уйди от меня, я тебя ненавижу, ты все, все разрушил, ты негодяй…
Дальше она не могла говорить, я начал ее целовать, и слова оказались просто излишни. Умолк и телевизор, оттуда доносилось лишь прерывистое дыхание Шерон Стоун.
Я стянул с Веры халат и почувствовал, как под моими руками закипает ее горячее тело, она была страстной, как никогда прежде, не отрываясь от моих губ, перевернула меня на спину, оседлала и начала двигаться с такой энергией, словно собиралась истолочь меня в порошок, а спустя минуту выпрямилась и выгнулась назад, давая возможность охватить ладонями ее грудь, она постанывала и жадно облизывала губы, вскрикивая, как раненая птица, захлебываясь от избытка воздуха, и гнала, мчала, наяривала, доводя меня до бешенства. Я закрыл глаза и, чтобы не кончить раньше Веры, начал думать про Марьяну, но мои мысли о ней были лишены эротики, я лишь вспоминал о том, что она мне говорила, в чем пыталась убедить меня, и чем больше я о ней думал, тем дальше откатывалась волна оргазма, так что, когда Вера наконец начала прерывать тихие стоны криками, я вынужден был в мыслях оторваться от Марьяны и сосредоточиться целиком на Вере, дожидаясь, пока она с диким воплем не рухнула, сползая с меня.
После этого мы выпили мартини. Вера прижалась ко мне и спросила:
– Признайся, ты был с ней?
Интересно, кого она имеет в виду?
– Да.
– Я так и думала.
– Видишь ли…
– Не надо… Не надо слов. Ты ведь уже сказал, что у тебя с ней все кончено.
Боже мой, с кем? Когда я это говорил? Неужели у нас с ней шла речь о Лиде или Лесе? Нет-нет, это невозможно, она хочет поймать меня на слове, выведать, но я не должен поддаваться на провокацию.
– Это было прощание.
– Прощание?
– Последний раз на прощание.
– Она тебя об этом просила?
– В какой-то мере.
– Обещай, что это больше не повторится.
– Оно и не может повториться, ведь мы распрощалились.
– Где это произошло?
– На Погулянке… Там есть такое озеро и островок.
– Завтра же поведи меня туда.
– Зачем?
– Я так хочу.
Мне не хотелось спорить. Все же я чувствовал вину за собой.
– Ты меня любишь? – спросила Вера.
– Люблю.
– А если ты бросишь меня… Я тебя убью.
– Я никогда тебя не брошу.
– В воскресенье ты приходишь к нам на обед.
Я замер и попробовал собраться с мыслями. В моей абсолютно пустой голове гулял ветер. Какой обед? Впервые слышу.
– Э-э… – промямлил я, – это ты насчет обеда с твоими родителями?
– Конечно. С родителями и сестрой, а еще с дедушкой и бабушкой.
– Напомни мне, пожалуйста, что там должно происходить… в общих чертах…
Вера удивленно взглянула на меня. Так, словно она мне уже все подробно рассказывала.
– И это я должна тебе напоминать? По-моему, это была твоя идея, чтобы я в июне переехала к тебе.
Иногда у меня случаются провалы в памяти, и тогда я начинаю путать девушек, забывать, что им говорил, обещал, предлагал. Не раз давал себе зарок все это записывать, но так никогда этого и не делал, ведь мои записи могли попасться кому-нибудь из них на глаза. Вот так и живу, нося в голове кучу неупорядоченной информации. Оказывается, я не только Лиду, но и Веру пригласил к себе на жительство и, даю голову на отсечение, то же самое учудил с Лесей. Теперь каверза в том, додумался ли я развести их во времени? Если Вера должна жить у меня в июне, то кто – в июле? Лида или Леся? А в августе? А что если кто-нибудь из них захочет пожить дольше и не уложится в отведенное время?
– Я вспомнил, – сказал я.
– Наденешь кофейную рубашку и светлые брюки. Не забудь почистить ботинки… Побрейся…
3
На следующий день она все же настояла, чтобы я повел ее на тот остров. И снова я не увидел там Грицка. «Что же случилось? – подумал я. – Почему он появляется лишь в том случае, когда я прихожу сюда с Марьяной? Что бы это значило?»
– Где это было? – нарушила ход моих размышлений Вера.
Я, театрально потупив глаза, показал на примятую траву.
– Чудесно, – сказала она и уселась именно на то место. – Такое ощущение, что земля еще хранит тепло ее задницы. – Затем принюхалась и добавила: – Запах спермы, к сожалению, выветрился. Хотя… ты же, наверное, не в траву кончал?
Я не ответил, сохраняя прежнее шкодливое выражение лица. Мы разложили на траве вино и закуску. Вера дрожащими пальцами вынула из пачки сигарету и закурила. Я видел, как она нервничала, но ведь зачем-то ей понадобилось пройти эту инициацию, трахнуться со мной именно там, где я вчера поимел Лидку. Подумалось, что самое время налить ей, мы выпили. Я снова осмотрелся вокруг в поисках Грицка, но тщетно.
– Что ты ищешь?
– Просто рассматриваю.
– А вчера у тебя не было возможности осмотреться? – спросила язвительно.
– Веруньчик, вчера мы прощались, и я, чтобы как-то скрасить впечатление, поддался…
– Но почему вы прощались именно здесь, а не где-нибудь в баре или кафе?
– Пойми же, это был секс на прощанье. Что-то вроде рюмки «на коня». Ну не могли же мы делать это в баре.
– Ага, так вы специально приперлись сюда, чтобы перепихнуться?
– М-м-м…
– Боже, какая ты скотина! – Пальцы с сигаретой дрожали, она сама себе налила в стакан, выпила на одном дыхании и спросила:
– Но почему именно здесь?
Что-то ее беспокоило, что-то в укромном этом местечке было такое, что ее тревожило и отпугивало, она, очевидно, подозревала, что здесь кроется нечто более глубокое, таинственное и потустороннее, не потому ли вопреки своей обиде она инстинктивно прижималась ко мне, как перепуганный птенчик. В эти мгновения я почувствовал, как люблю ее, и всей душой желал защитить ее от всех чудищ, кикимор, леших и водяных. Где-то раздался всплеск воды, я оглянулся – по воде шли круги, словно от брошенного камня, а возможно, это вскинулась рыба, а я подумал – весло.
– Мы здесь как в шатре, никто не подсмотрит… – объяснял я. – Здесь такие красивые ивы.
– Значит, это местечко было тебе известно и раньше? С кем ты здесь еще трахался?
– О-о, это было так давно.
– Значит, я угадала? И многих ты здесь уже отымел?
– Это было больше десяти лет назад.
– Ты чего-то недоговариваешь. Чувствую, что тебя с этим островком что-то глубже связывает. Ты так осматривался, как осматриваются в собственном доме, где кто-то в твое отсутствие переставил мебель. Тебе чего-то не доставало. Я заметила это. А что было десять лет назад?
– Ничего особенного. Мы устраивали здесь пикники, и они заканчивались перепихончиками.
– И всех ты трахал на этом самом месте? – ткнула пальцем в траву.
– Можно и так сказать. Другого столь укромного местечка здесь и не найти.
– И все же я подозреваю, что здесь происходило еще что-то. Нечто такое, о чем ты предпочитаешь молчать.
Ну, разве я не говорил, что у Веры был интеллект? Интеллект – это страшная вещь. Особенно если им обладает женщина. Это все равно, что скальпель в руках хирурга. Разница лишь в том, что хирург, раскромсав тебя, затем аккуратненько снова сошьет, а женщина-интеллектуалка, дотошно исследовав ваше нутро, оставит все в распотрошенном состоянии. И тогда я решил, ну если уж я Лиде рассказал о Марьяне, то Вера с ее интеллектом имеет не меньше оснований услышать эту историю, мне даже интересно узнать ее мнение.
– Хорошо, я расскажу тебе, что связано с этим местом. Когда-то, как я уже говорил, лет десять тому назад, одна юная и необычайно красивая девушка предложила мне в ее обществе покончить жизнь самоубийством.
– Она была наркоманкой?
– Нет. Она даже вино пила такими дозами, что не пьянела. Она находила такие слова для своих аргументов, что я не знал, чем ей возразить. Главная интрига заключалась в условии: она отдастся мне только в день нашего ухода из жизни.
– Она была целка?
– Да. Хотя я всячески пытался соблазнить ее.
– И она стремилась к самоубийству на полном серьезе?
– Помнишь, я давал тебе читать драмы Тикамацу. Там есть одна пьеса о самоубийстве влюбленных…
– …на острове небесных Сетей? Она тоже читала эту драму?
Вера снова закурила, сделала глубокую затяжку и стала нервно теребить сигарету пальцами.
– Да. Тикамацу и подсказал ей идею. Собственно, подлинную причину ее навязчивой идеи уйти из жизни я так и не уяснил. Она говорила, что утратила интерес к жизни. В ее возрасте такое случается нередко, школьницы ежегодно десятками вешаются, выбрасываются из окон многоэтажек и горстями заглатывают таблетки. Но все это происходит стихийно, в состоянии нервного аффекта. А чтобы вот так целенаправленно подыскивать партнера и подговаривать его, предлагая уже готовый план… Это не укладывалось в мою голову.
– А возможно, она была больной… неизлечимо больной… Понимаешь?
– Невозможно. Ты бы видела это юное цветущее создание! Впрочем, болезни не интересуются теми, кто намерен умереть.
– Ас психикой у нее все было в порядке?
– И здесь я не заметил чего-то особенного… Разве что иногда говорила загадками или удивляла своей проницательностью…
– И чем же эта история закончилась?
– Она смогла убедить, что смерть – лучший для меня выход, ведь ничего более величественного, чем собственная смерть, я уже не создам, и что в назначенный день для нас откроется окно и мы не должны упустить этот шанс. И тогда мы пришли на этот остров, и она здесь отдалась мне впервые. После чего достала из сумочки ядовитый порошок, насыпала его в бокалы с вином и мы выпили.
– Правда? И что же было дальше?
Вера выбросила недокуренную сигарету в траву.
– Мы… умерли. Оттого-то и теперь, после смерти, меня все еще неумолимо влечет сюда…
– Ты с ума сошел! – возмутилась она. – К чему эти глупые шутки?! Что было потом? Вы выпили яд?
– Выпили. Однако яд меня не взял, я всего лишь потерял сознание. А когда очнулся, увидел, что она уже холодная.
– О господи! – она прижала ладони к щекам, словно пытаясь сбить с них полыхающее пламя. – И что… что ты сделал?
– Закопал ее. Здесь. Под вербой.
– Где именно? – истерически взвизгнула Вера.
– Здесь. Где мы сидим.
– Идиот! – она сорвалась с места. – Как ты можешь? Все! Я больше не хочу слушать эту бредятину! Или ты скажешь правду, или я ушла!
– Ну, хорошо, успокойся, я пошутил, – я поймал ее за руку и потянул к себе. – Просто я сто раз именно так представлял себе эту сцену.
– Так скажи же наконец, что произошло дальше? – Она снова присела рядом, однако раздраженно отталкивала мои руки. В ожидании ответа налила себе шампанского и выпила.
– Я обманул ее. Она отдалась мне, я же отказался умирать с ней.
– Ты так поступил?! – Вера очевидно была возмущена до глубины души, и когда я наполнил ее опустевший бокал, выпила без колебаний. Затем чиркнула спичкой и стала смотреть, как она горит, а когда пламя подобралось к ее пальцам, выбросила ее в траву и зажгла вторую.
– Я знаю, это подло, я поныне корю себя за все…
– И это происходило здесь? – Голос ее дрожал, она по-прежнему не смотрела на меня, а жгла спички и одну за другой бросала их обуглившиеся останки в траву.
– Да.
– А потом ты встал, подтянул штаны и сказал «па-па»?
– Ну, что-то в этом стиле.
– В таком случае ты негодяй, – сказала она ледяным голосом. Спички она наконец оставила в покое и, уронив голову на согнутые колени, повторила: – Ты не-го-дяй.
– Я знаю, – сказал я понуро и снова попытался ее обнять.
– Ты законченный негодяй. И забери свои гребаные руки. Налей мне. Какой ужас!
Она опьянела и покачивалась всем телом в такт музыки, дрожащей в ней, и я видел, что это была мелодия отчаяния. Зачем она так близко к сердцу восприняла придуманную мной историю? Возможно, примеряла ее к себе? Теперь, наверное, думала о том, что я оказался самым большим разочарованием в ее жизни. Ну так что ж, она недалека от истины. То, что я ей поведал, не единожды стремительной кинолентой прокручивалось в моей голове, я все еще метался между искушением красиво умереть или невзрачно слинять, воспользовавшись перед тем правом первой ночи. Конечно, я мог честно сказать Марьяне: нет, я не тот, на кого ты рассчитывала. Но я заранее такую возможность исключил. Мне казалось, что я уже слишком глубоко погрузился в эту историю, чтобы завершить ее столь примитивно. Все еще думал, что Марьяна в какой-то момент передумает и до самоубийства не дойдет.
– Знаешь, – сказал я, – все это выглядит нехорошо с расстояния времени, но тогда я не воспринимал ее намерения всерьез, думал, что это игра. Ты не должна думать обо мне плохо. С тех пор я очень изменился. И представь себе – к лучшему.
Вера посмотрела мне прямо в глаза, и в ее взгляде прочитывалось недоверие.
– Ты перестал врать?
– Нет, но я перестал охмурять девушек, вешая им лапшу на уши о своих чувствах, тогда как на самом деле ничего, кроме желания трахнуть, я к ним не испытывал.
– О, это интересно. Ты перестал охмурять… однако твоя вчерашняя вылазка на остров свидетельствует о другом. Ты бессовестный лгун. Мало того, что, встречаясь со мной, ты трахаешь кого-то у себя дома, о чем свидетельствует испачканная помадой подушка, да еще и занимаешься сексом на свежем воздухе, якобы на прощание. Признайся, со сколькими ты еще собираешься распрощаться? И кому будешь рассказывать про сегодняшний вечер как про акт очередного прощания? Похоже, это у тебя традиция: устраивать прощальные вечера на этом острове.
– Ты сама настояла прийти сюда. Я все тебе честно рассказал, а в награду получил обвинение в подлости. Я лгун! Да как ты можешь такое говорить? Я лгун! – Я откупорил очередную бутылку и налил в бокалы. – Да, я лгун. Но не для тебя. У меня нет тайн перед тобой. И вообще, я именно с тобой испытал своеобразное очищение… Да-да, не смейся, рядом с тобой я преображаюсь, все темные страсти забиваются в самый глухой угол моей души и нос оттуда не показывают… Ну, разве что иногда… Однако то, что произошло вчера… это ведь исключение… Я твердо решил со всеми распрощаться, кроме тебя. Чтобы только ты и я, понимаешь? И никого между нами.
Я чокнулся с ней. Разумеется, опьянение – лучший способ приглушить психоаналитические способности интеллектуальной дамы. Вера отдалась с какой-то печалью обреченности на лице, не проронив ни единого слова.
4
Я бы с большим удовольствием отправился домой, но изрядно захмелевшая Вера потащила меня в «Вавилон». Ей, видите ли, необходимо протрезвиться за чашечкой кофе, ведь не может она в таком состоянии явиться домой.
– Ты зачем напоил меня? – упрекала она, я же вежливо отвечал, что это ей только кажется, что она вовсе не пьяна, а вполне трезвая, о чем красноречиво свидетельствуют правильно построенные сложноподчиненные предложения и употребление ею иностранных слов, значений которых я не знаю и знать не хочу.
Как только мы сели за столик, к нам тотчас присоединился Андрон со своей новой кралей и радостно сообщил, что они женятся. Избранница его сердца была худа, как жердь, имела лисье выражение лица с удивительно узкими губами. Я хотел спросить его, неужели он не смог найти чего-нибудь пострашнее, однако сдержал себя.
– Ты снова выиграл, – сказал я.
Андрон рассмеялся, подмигивая мне заговорщически, а краля вытянула шею и удивленно спросила, что именно он выиграл.
– Пять баксов, – ответил я.
– За что?
– Мы поспорили, кто из нас быстрее женится.
Андрон снова самодовольно засмеялся, не переставая подмигивать мне и строить комические гримасы. Вера с философской сосредоточенностью водила пальчиком по столу, а затем извинилась, сообщив, что ей необходимо выйти. Краля тоже вспомнила о своих надобностях и присоединилась к Вере.
– Классная телка, – сказал я, подтвердив свою высокую оценку крали поднятым большим пальцем правой руки. (Хотя, по правде говоря, он так и норовил свернуться в кукиш).
– Прекрати. Ты ничего не понимаешь. Она дочь ректора.
– А-а…
– Вот тебе и а-а. Там такие бабули, что хо-хо. А с рожи нам воду не пить.
– Тогда понятно.
– Между прочим, у нее есть старшая сестра. Незамужняя.
– Неужели целка?
– Железно.
– И такая же красавица?
– Я бы сказал, та даже малость симпатичнее будет. На фига тебе эти писаные красавицы? Чтобы затем ишачить на нее всю жизнь? Я тебя познакомлю с ее сестрой. Папанька уже каждой из них подарил по шикарной дачке со всеми прибамбасами и с «опелем» в придачу. Будешь кататься как сыр в молоке.
– Возможно, это именно то, о чем я мечтаю.
– Ну, ты же не дурак. Ты ведь понимаешь. Тебе же, как писателю, чего еще не хватает? Идеальных условий для творчества, так ведь? Ну, вот. О лучших условиях для творчества, чем у зятя ректора, нечего и мечтать. В свадебное путешествие укатим на Кипр. Так что, если быстренько ее уломаешь, махнем вместе. Давай, решайся.
– И сколько лет ее сеструхе?
– Четвертак. Самое время, чтобы заарканить. В этом возрасте девицы очень податливы. У них все антенны работают в одном-единственном направлении – немедленно выскочить замуж. Ведь когда стукнет двадцать шесть, планка падает. Начинается депрессия, возникают идеи уйти в науку, в бизнес, делать карьеру и т. д. И вернуть их обратно к идее уютного семейного гнездышка и счастливого материнства с каждым последующим годом все сложнее. Ну а в этот период их можно брать голыми руками. Вот так подходишь и берешь. Я не понимаю, что ты находишь в тех расфуфыренных девахах. Я уже давно в них разочаровался.
В этот момент вернулись наши дамы, они, очевидно, тоже нашли какую-то тему для беседы и загадочно хихикали. Мы еще перебросились несколькими пустопорожними фразами, и Андрон отчалил, бережно обняв свою красавицу. Вера провела их столь насмешливым взглядом, что я спросил:
– Что тебя так потешает?
– Да вот приятель твой такой смешной.
– И чем же?
– А ты никому не скажешь?
– Нет.
– Ну, он ведь думает, что она от него в восторге.
– А разве нет?
– Она и не помышляет выходить за него замуж. Она не столь глупа, чтобы не сообразить, что именно Андрона в ней интересует.
– Вот как?
– Уж не рассказывал ли он тебе про ее сестру?
– М-м… что-то говорил…
– О том, что ей просто невтерпеж хочется выйти замуж?
– Да.
– Про дачу и «опель»?
– Угу.
– Может, и познакомить предлагал?
– Ну, предлагал.
– А ты что?
– Ничего.
– Не верю.
– Не верь.
– Ну, ладно. У нее нет сестры. Она ее придумала. Показала Андрону фотографию своей подруги. И спросила, нет ли у него для нее кавалера.
– Зачем ей это?
– А затем, чтобы самой познакомиться. Неужели непонятно? Она использует Андрона исключительно с одной целью – чтоб было кому выводить ее на люди. Сам понимаешь, девушка после окончания учебы выпадает из тусовки. Дом – работа, дом – работа.
– И это она тебе, первой попавшейся, все так выболтала?
– Во-первых, мы были знакомы и прежде. Наши родители давно дружат.
– Постой-постой, ты утверждаешь, что вы были знакомы… Но ведь когда они подсели и Андрон вас познакомил…
– …мы сделали вид, что видимся впервые. Просто она успела мне украдкой подмигнуть. Так вот. А во-вторых, она начала разговор с того, что полюбопытствовала, какие у нас с тобой отношения.
– И что ты ей сказала?
– А то, что слышала от тебя.
– Что именно?
– А то, что у нас пылкая любовь. Что-то не так?
– Нет, все нормально. То есть на кой черт ей знать о наших отношениях?
– Возможно, она хотела выведать, нельзя ли тебя закадрить.
Бедный Андрон! Я почувствовал, что должен непременно выпить. Подошел к бару, сделал заказ и, посмотрев по сторонам, увидел Зеника. Он одиноко сидел за столиком, потупив взгляд в пустую рюмку, словно вот-вот должно было случиться чудо и рюмка сама по себе наполнится водкой, я же смотрел на него и не мог понять, отчего на его лице отразилась такая вселенская печаль, словно его намедни выпустили из китайской тюрьмы. Я решил его развеселить и кивнул одному знакомцу, а когда тот подошел, попросил его сесть у Зеника за спиной и затеять с ним небольшой разговор: мол, как дела и тому подобное, а я тем временем подменю пустую рюмку на полную. Знакомый охотно поддержал мою затею, и я заказал у бармена полнехонькую рюмку горилки. Как только Зеник отвернулся, я мгновенно заменил рюмки и снова отошел к стойке, ожидая, пока бармен приготовит мороженое, кофе и откроет шампанское. Вполглаза следил за подопытным Зеником. О-о, надо было видеть его лицо, когда он узрел полную рюмку. Зеник вначале мотнул головой, а потом, что бы вы думали, он сделал? Приклонился к рюмке носом, хищно обнюхал, после чего воткнул в нее палец и облизал: «Горилка!» – лицо его озарилось радостью. Оказывается, чудеса все же случаются. Он бережно взял рюмку, опрокинул ее с чувством нескрываемого самоуважения, после чего окинул зал взглядом победителя. Увидев за дальним столиком одинокую Веру, он мгновенно приподнял локотки, намереваясь подлететь к ней, однако внутреннее чувство подсказало, что торопиться все же не следует и лучше завершить полный осмотр бара. Это было правильно, ведь, заметив наконец и меня возле бара, он снова опустил локти на стол. Но лишь на какое-то мгновение, а спустя пять секунд он уже ковылял ко мне с прежним похоронным выражением лица.
– Сервус. А ты знаешь, странные дела творятся в «Вавилоне».
– Да, я слышал.
– С тобой тоже происходило что-нибудь похожее? – он говорил полушепотом, встревоженно оглядываясь вокруг.
– Что именно?
– Рюмки наполняются сами по себе… сами по себе… Подходят какие-то незнакомые люди и расспрашивают про дела, а я ни сном ни духом не знаю, кто же это может быть. Они же ведут себя так, словно я их старинный приятель. И вот что интересно! Они разыскивают меня только во время моего отсутствия! Хотя я здесь так часто бываю! Или вот моя скрипка… Ты ведь знаешь мою скрипку… Она обладает способностью иногда исчезать, а затем появляться. За другим столом. Они издеваются надо мной. И все это происходит здесь, в «Вавилоне». А на прошлой неделе я увидел за столиком, знаешь кого?
– Не имею малейшего понятия.
– Троцкого.
Известный выпивоха и малоизвестный художник Папроцкий по прозвищу Троцкий недавно умер в молодом возрасте.
– Значит, ты видел его дух? – сказал я.
– Я видел его наяву, точно так же, как вижу сейчас тебя. Какой к черту дух? Я даже заказал ему рюмку водки и попросил бармена принести и поставить ему на стол, но Троцкий исчез. Наверное, на том свете пить им воспрещается. Как ты думаешь?
– На том свете не только пить, но и трахаться запрещено.
– Какой ужас! – Он умолк и смотрел, как бармен, ловко расставив заказ на поднос, несет его к Вериному столику.
– Слушай, а ты по-прежнему с ней? – кивнул на Веру.
– А что?
– Я думал, что между вами все кончено.
– Почему это тебя так волнует?
– Она мне нравится.
– Мне тоже.
– Но мне-то она по-настоящему нравится, понимаешь?
У меня не было желания спорить с ним, захмелевшим и озабоченным. Зеник пребывал в постоянных поисках подруги своей печали. От него попахивало смертью.
– Да, понимаю, – кивнул я.
– Для тебя это просто развлечение, я же знаю. Ты ее отымеешь и бросишь. Разве не так?
Я пожал плечами:
– Чего ты ждешь от меня?
– Чтобы ты оставил ее в покое. Тогда она будет со мной.
– Кто его знает. Имей терпение, подожди.
– Нет уж, я слишком долго ждал. Она просто глупа до святости. У нее бзик на известных людей, особенно на художников и поэтов. Ты для нее лишь имя. И больше ничего. Неужели тебе приятно трахать бабу, которая легла под тебя только потому, что во Львове так мало известных людей? И все заняты! Я ее уже изучил. Она просто балдеет от таких, как ты. Ей хочется, чтобы все видели, какая она крутая. Чувак, но это же все фигня. Ты для нее не существуешь. Ты для нее пушинка. Есть только твое имя и твоя физия, которую узнают фаны. От всего этого она и кончает.
Я взглянул на Веру, она явно следила за нами, однако по выражению ее лица не сказал бы, что она сейчас кончает. Я ответил Зенику:
– Будь я на все сто уверен, что она пойдет к тебе, когда я оставлю ее, я бы ее оставил. Я чту высокие чувства. Но ведь мне, так же как и тебе, хорошо известно, что она после меня с тобой все равно не будет.
– Ну и мудак же ты, – процедил Зеник сквозь зубы. – Да ты просто механический апельсин, ты вечный трахальщик. Ты не знаешь, что такое любовь.
– Мудак ты, а не я, ведь вместо того, чтобы подцепить себе какую-нибудь бабу с большой задницей, ты размечтался о Вере и дрочишь перед сном под одеялом, а затем рассказываешь про любовь.
– Я в нее влюблен. Неужели тебе не понятно?
– Жаль, что она об этом даже не подозревает.
– У меня своя тактика. Чувства не обязательно оформлять в слова. Думаешь, она не заметила моих взглядов? Она и сейчас смотрит в нашу сторону.
– А я-то думаю, отчего это ты стоишь с втянутым животом, словно шест проглотил.
– Она не глупышка. Она все анализирует. И сейчас, между прочим, думает, не совершила ли она большую глупость, связавшись с тобой.
– Ты смешон. Особенно, когда выпьешь.
– Я пью от отчаяния.
Прежде чем двинуться к столику, я сказал:
– Ну потерпи еще с месяц.
– А что должно случиться за месяц? – оживился он.
– Она будет свободна.
– Ты оставишь ее?
– Я всех оставлю.
Он замер с раскрытым ртом, и видно было, что его мозг начал сосредоточенно анализировать мои слова.
– Чего он хотел? – спросила Вера.
– У художников намечается вечеринка, вот он и приглашал меня.
– Не ври. Я же видела, как он то и дело посматривал на меня.
– Так ведь он хочет, чтобы я пришел туда с тобой.
– И вы так долго договаривались насчет вечеринки?
– А то ты будто Зеника не знаешь. Мелет, мелет…
– Ты отказался?
– Конечно.
– Ты собираешься дальше здесь кирять?
– А разве я пьян?
– Но ведь и не трезв.
– Бутылка шампанского – это то, что нам сейчас нужно. Ведь должны же мы как-то убить часа два, пока ты почувствуешь себя в форме, разве не так?
– Ты заливаешь, что больше ее не видел.
Я не сразу раскумекал.
– Кого?
– Ну, ту, которая предлагала тебе совместный уход из жизни.
– Ты все еще помнишь о ней?
– И не забуду никогда. Не надейся.
– Она всегда будет между нами?
– Несомненно.
– Вон она сидит, – кивнул я небрежно на столик напротив.
– Что? Кто? – Вера не верила собственным ушкам. – Это она?
– Та самая. Жива и здорова. Возможно, даже благодарна мне за то, что живет и поныне.
Вера какое-то время внимательно рассматривала девушку, оживленно беседующую со своим кавалером, а затем спросила:
– Сколько ей было тогда?
– Семнадцать.
Вера кивнула. Девушка выглядела как надо – на двадцать шесть-двадцать семь.
– Она весьма привлекательна.
– Ты бы видела ее тогда!
Я выпил и, закинув ногу за ногу, тоже стал разглядывать девушку, которую видел впервые, но которая и впрямь могла быть прообразом Марьяны лет через десять.
Глава одиннадцатая
1
Остров начинает мне сниться, наплывать на меня вместе со своими ивами, захлестывать прибрежными волнами и втягивать в себя, словно осьминог, я барахтаюсь в нем, ища спасения, выпутываюсь из пышных ивовых кос, и так, пока не проснусь среди ночи в холодном поту, ловя себя на мысли, что все еще напрягаюсь и размахиваю руками так, словно и на самом деле пытался высвободиться из плена страшных щупалец. Возможно, оттого я и вскрикиваю во сне. И все же меня неудержимо тянет к этому острову, хочется навестить его снова, без Марьяны, однако один я пойти туда не решаюсь – нет, только не это, пойти туда одному – это для меня все равно что отправиться среди ночи на кладбище, ведь именно остров предназначен стать местом моей смерти.
Восьмое августа гвоздиком вбито в мозг, поневоле я стал отсчитывать дни, мне снилось, что я по всему дому ищу календарь, а на глаза попадаются сплошь календари прошлых лет, и только после долгих поисков я нахожу то, что нужно, но там… в том календаре нет месяца августа, а после июля сразу начинается сентябрь, я пытаюсь высчитать, какой же день будет восьмого, и тут календарь превращается в муравейник, муравьи весело разбегаются, и тогда я просыпаюсь и облегченно вытираю пот со лба, осознав, что все это только сон. Мгновение, когда я отдаюсь смерти, становится навязчивой идеей, костлявая влечет меня, словно лучшая из любовниц, она похотливо овладевает мною в разных ипостасях – отравленным, повешенным, зарезанным, утопленным, раздавленным, застреленным. Последний вариант возбуждает сильнее всего, я вспомнил, что во многих фильмах любовники по обыкновению стрелялись. Выстрел в висок таит в себе некое благородство, конечно, если не воспользоваться «береттой» или «люггером», которые за милую душу снесут тебе полчерепа, нет-нет, стреляться следует из деликатного оружия, чтобы в финальном кадре – всего лишь аккуратненькая дырочка, тоненькая струйка крови и ничего более. Момент, когда я прикладываю к виску пистолет, представляется слишком ярко, исподволь я настолько к нему привыкаю, что мне иногда кажется, будто постоянно ношу пистолет с собой. Вместе с тем столь ясно осознанное самоубийство меня угнетает, ведь когда я начинаю раскладывать все свои неурядицы по полочкам, то с каждой по отдельности я еще смогу сладить, тогда как сваленные в кучу они повергают меня в панику, заставляют прятаться, юркнуть в норку и не высовываться, это идеальное состояние, однако невозможное, а потому остается забиться в гроб и спать, спать, спать…
Мне подумалось, что для полноты картины я должен побывать на острове еще и с Лесей. Возможно, она внесет ясность в мои сомнения, а если нет, то хотя бы поможет преодолеть магическое воздействие острова на меня, чтобы я воспринимал его именно как клочок земли и не более того, перестал видеть в нем некое живое существо, способное гипнотизировать и подчинять своей воле. В конце концов, возможно, остров вобрал в себя все сны Грицка, его ночные видения и грехи, а теперь они атакуют меня, назойливые, словно комары, зудят над ушами и не дают забыть, что остров существует, остров дышит и остров рождает сны.
После сессии Леся ежедневно подрабатывала в ночном клубе, где танцовщицы имели свои определенные часы – одни до полуночи, другие после – и каждый раз менялись. За столиками восседали бритые бандюки, крышуемые ими бизнесмены и их стильные телки, всякая шушера, а над ними клубился сигаретный дым, витали перегарные ароматы и закипал пьяный галдеж. Танцовщицы спускались со сцены к столикам, соблазнительно преподнося свои колышущиеся прелести, едва прикрытые пестрыми пушистыми перышками, а клиенты щедро вознаграждали красавиц банкнотами, небрежно запихивая зеленые бумажки за нечто, смутно напоминающее лифчики и трусики. Время от времени кто-нибудь из посетителей позволял себе запихнуть в трусики и щедрую руку дающего, и тогда раздавался девичий писк, или визг, или смех, однако же никто никогда не роптал и не возмущался. Я любовался стройным телом Леси, извивающейся в испанских и арабских танцах, замечал жадные взоры мужчин, пожирающих ее глазами, и был при этом царственно спокоен, ведь это я, а не кто-нибудь иной из здешнего похотливого сброда – единственный обладатель аппетитной Лесиной грации, это я, один лишь я и сегодня, и завтра буду владеть ее телом, стану делать с ним все, что мне заблагорассудится.
Когда я приходил за ней, то садился где-нибудь в уголке, официанты уже знали меня и приносили вино, я пил и ни с кем не общался, а только наблюдал, и делать это мне было чрезвычайно интересно, казалось, что я вышел на настоящую золотую жилу, из которой фонтаном ударит новый роман, однако уже на следующий день все это представлялось мне не стоящим и ломаного гроша. Половина посетителей здесь была завсегдатаями, у танцовщиц среди них были свои постоянные любовники, и вопреки запретам администрации некоторые девушки не отказывались переспать за деньги. Леся уверяла, что сама она о таком даже и подумать не могла бы, я верил и не верил, представляя себя на ее месте и гонорар в сто долларов, и благодарил Бога, что я не женщина, иначе сделался бы блядью, – а какой писатель из бляди? – хотя блядь из писателя не такая уж и редкость. Очевидно, что среди завсегдатаев были охочие поиметь Лесю. Вот этот бугай, например – у меня к нему сразу возникло дикое отвращение, – низкорослый качок с массивной золотой цепью на бычьей шее и браслетами на запястьях. Он имел дикарскую привычку во время разговора растопыривать пальцы с перстнями и вымахивать ими словно веером. Каждый раз после того, как Леся исполнила номер, подзывал ее к своему столику, усаживал рядом, интересовался, что она будет пить, и Леся, следуя указаниям директора, которые относились ко всем танцовщицам, заказывала непременно что-нибудь дорогое. Они пили и разговаривали, я не слышал ни единого слова, а только видел его жесты, пальцы веером, сатанинскую улыбку, он не позволял себе ничего непристойного, однако цепким взглядом срывал с Леси остатки ее мини-гардероба, глаза его шныряли по укромным местам ее утонченного тела, просверливали дырочки и ели поедом, он точил ее, словно шашель, и мне казалось, что после каждых таких посиделок с качком ее становится все меньше и меньше. А затем он вынимал из кошелька несколько долларовых бумажек, сворачивал их в тоненькие трубочки и запихивал Лесе в волосы, будто папильотки, от чего она делалась похожей на японскую гейшу. Танцовщицы все эти «чаевые» исправно сдавали в кассу, откуда им выплачивали проценты.
Мои посещения клуба с созерцанием Лесиных ухажеров, наверное, можно было бы воспринять как своеобразный акт мазохизма, если бы не то, что подобные заведения привлекали меня и раньше, мир городского дна, ночная жизнь пугали, но и манили меня, прибавляя адреналина. Клуб кишел темными личностями, которые занимались рэкетом и держали «крышу», перегоняли ворованные иномарки и готовы были выполнить любые кровавые заказы. Бывали здесь и криминальные авторитеты – Муха, Химик, Артур, Заверюха, Помидор… Все они уже покойники. Муха, с которым меня познакомил Олюсь, поражал своей начитанностью, он прочитал за свою жизнь две книги: «Бабочку» Анри Шарьера и мои «Девы ночи». «А не хотите ли написать книгу про мою жизнь?» – спросил он, и я согласился, книжка будет называться «Муха», сообщил я радостно. Нет-нет, возразил он, никто не должен даже догадываться, о ком речь. Почему? Да потому что тогда ему кранты. Вот как, подумал я, а сколько же тогда отмерено автору после выхода такой книги? Проблема разрешилась сама собой – Муху пристрелили в Праге.
Я дивился этой стае примитивов, чей интеллектуальный уровень редко превосходил уровень гориллы и которые могли так сорить деньгами, гуляя на широкую ногу, ни в чем себе не отказывая, ведь их заигрывания с танцовщицами часто были вызваны одним желанием – подразнить свою спутницу, которая была ничем не хуже, а возможно, и лучше. Эта пена человеческого хлама, обнаглевшего охвостья пребывала в постоянном вращении – одни еще молодыми отходили в лучший из миров, другие с бахвальством спешили занять их места только для того, чтобы через год-два и самим оказаться на дне песчаного карьера или под асфальтом. Сейчас, припоминая их лица, осознаю, что тусовался с покойниками, никого из них уже нет среди живых – от горделивого авторитета до презренного сутенера, – все они тлен и гумус, гумус и тлен.
Однако в тот период моей жизни, когда, пребывая в меланхолическом смятении чувств, я шарахался от собственного одиночества, особенно по вечерам, и предпочитал коротать их в барах, меня интересовали именно эти типы. Сначала я вызывал у них недоверие, они наводили справки обо мне у бармена или у кого-нибудь из авторитетов, и те заверяли, что я «свой». А после того как Олюсь свел меня с Мухой, я уже не мог сидеть за столиком в одиночестве, меня то и дело приглашали в компании, угощали, обнимали и откровенно болтали о своих «стрелках», разборках, мочиловках. Мимо моих ушей пролетали жуткие вести, но тогда они не особенно занимали меня, все их рассказы я воспринимал как чтение вслух какой-то книги, они до сих пор звучат в моей памяти, голоса покойников, которые говорили о смерти куда чаще, чем о жизни. А их крали – длинноногие антилопы, фантастические модельки… Где они теперь? Некоторые из них тоже ушли уже в мир иной – одни укоротили себе жизнь наркотиками, другие попали под град пуль за компанию, еще некоторых уничтожили, чтобы не болтали лишнего. Каждого посетителя сумрачного клуба сопровождала властная и неотразимая госпожа Смерть, и мало кому удалось избежать этого почетного эскорта.
2
В тот вечер выступление Леси заканчивалось до полуночи. Я не был расположен к общению с бандитами и решил посидеть в «Вавилоне», а потом прийти за Лесей. Сел, как всегда, в уголке, однако наслаждаться уединением пришлось недолго – ко мне подсела Марта. Впрочем, я не имел ничего против, с Мартой я готов точить лясы в любое время.
– Ты одна?
– Нет, я зашла сюда с одним говнюком. Забудь о нем.
– Я очком чую, что назревает скандал.
– С чего ты взял?
– Какой-то тип с бычьим лбом не спускает с нас шары.
– Ты бы видел его. Когда он спускает!
– Ты что, спишь с ним?
– У меня временное творческое затишье. На такие периоды я подбираю себе какого-нибудь…
– …ебаря.
– Я девушка воспитанная и таких слов не употребляю. Разве что во время траханья.
– Но выглядит он так, будто увлечен тобой не на шутку.
– Это его проблема. Закажи мне текилу и лимон.
– Ты будешь пить со мной, а он – смотреть?
– А что так переживаешь за какого-то несчастного… ну, ты сам догадываешься… Я и так оказала ему услугу, придя с ним сюда. Ведь он-то зачем потащил меня в «Вавилон»? Чтобы хвастануть перед знакомыми: вот, дескать, какой бравый казак, неприступную Марту захомутал!
– А-а, так ты решила меня использовать, чтобы поставить своего ухажера на место? Извини, но с твоей стороны это не совсем порядочно.
– Не смеши. Ты ведь знаешь, что я люблю посидеть с тобой за бутылкой.
Она сыпнула чуток соли на сгиб между большим и указательным пальцами, лизнула, надпила текилы и закусила кружочком лимона.
– Ты читала Малкольма Лаури?
– Как ты угадал?
– Он этот способ пития текилы описал с та-а-аким смаком, с та-акими деталями, что я только и мечтал о текиле. Мне казалось, что текила – это что-то невероятно изысканное.
– И что же?
– Попробовал – и разочаровался. Обыкновенная самогонка из кактуса.
– Верю. Но это в Мексике.
– Я могу себе Мексику устроить, где только захочу. Гению достаточно увидеть листочек, чтобы представить дерево, сказал Гете. Мне же достаточно глотка текилы, чтобы оказаться в Акапулько.
– Как твои амурные дела?
– Не жалуюсь.
– Ты успокоился?
– Конечно.
– Но ведь что-то тебя угнетает.
– Меня начали преследовать суицидные видения.
– Неужели? Никогда бы не подумала, что ты способен на что-нибудь такое. Разве что в воображении. Впрочем, я и сама когда-то об этом задумывалась. Иногда мне приходило в голову, что одно лишь осознание возможности покончить с жизнью, когда захочу, и удерживало меня от самоубийства. Особенно, когда родители меня задолбали, чтобы я выходила замуж, ибо, видите ли, должна исполнить священный долг и родить себе ребенка, а им – внука. Вполне возможно, ребенка я им еще и рожу, но вот замуж… Кстати, а как ты смотришь на то, чтобы сделать мне симпатичного карапузика? Очень хочется, чтобы у него были такие же синие глаза, как у тебя.
– И чтобы он рос, не зная отца?
– Конечно. Зачем мне отец?
– А ему?
– И он обойдется. Жаль, если ты откажешься, тогда придется родить от какого-нибудь дебила. Как тот визави.
– Если я все же отважусь на самоубийство, я непременно тебе позвоню, чтобы оставить после себя еще одно чудесное произведение.
– Это было бы идеально. Мы приходили бы к твоей могилке, я рассказывала бы ему о тебе… Ну да, о таком отце для своего ребенка можно только мечтать.
– Об отце в могилке?
– А что здесь плохого? Я сделала бы все, чтобы он тебя полюбил. Свои рукописи тоже можешь смело нам передать, мы сохраним все до мелочей и будем переиздавать, переиздавать… Прости Господи, что-то я и впрямь размечталась. А ты ведь и не покончишь самоубийством.
– Почему ты так думаешь?
– Да потому, что у тебя нет для этого никаких уважительных причин.
– У меня депрессия. Я не могу писать.
– О-ля-ля! У меня депресняк стабильно дважды в году. Да такой, что выть хочется. Однажды я из интереса даже перерезала себе вену и смотрела, как скапывает кровь. Знаешь, это как гипноз. Мне казалось, я могла бы смотреть на это часами. Закажи мне еще текилы.
– Твой кавалер, по-моему, психанул.
– Туда ему и дорога. Мудак. Завтра позвонит. К тому же у меня сегодня совсем не сексуальное настроение. А точнее – деловое, похоже, завтра дела и начнутся. Ненавижу все эти бабские графики-расписания-календари. Все до мельчайших мелочей ненавижу. Ненавижу изысканное белье. Ненавижу косметику и духи. Ненавижу лифчики. Менструации трижды ненавижу. Ненавижу бабские пересуды. Ненавижу своих сверстниц, с которыми не нахожу общего языка, из-за того, что они или выскочили замуж, или пребывают в бешеной гонке за счастьем. Я же не вышла и не пребываю. Я с ужасом думаю о том, что когда-нибудь у меня появятся морщины, тени под глазами, и я вынуждена буду прибегать к косметике, красить волосы. Не кончай самоубийством. С кем еще я так задушевно поговорю?
– Все же важно иметь кого-нибудь противоположного пола, ну, не для того, чтобы просто поиметь. Правда?
– Сам знаешь, что правда. Хотя иногда… ты только не воспринимай это слишком серьезно… это лишь иногда… в своих эротических фантазиях я представляю, как ты любишь меня… то есть я представляю тебя на месте того, кто меня в те минуты любит… и тогда у меня наступает очень классный оргазм…
– Твой говнюк вернулся.
– О-о! И что же он делает?
– Сел за столик и смотрит на нас.
– Зануда. Ну, что же, я отвалила к нему. Кстати, а ты с кем-нибудь сегодня трахаешься? – Я кивнул. – Ровно в полночь я хочу кончить вместе с тобой. Обещаешь?
– Постараюсь.
3
– Хочешь, я поведу тебя в одно таинственное место? – спросил я Лесю, даже не сомневаясь в ее согласии, ведь она никогда ни в чем мне не отказывала. Даже предложи ей спуститься в преисподнюю, она бы согласилась, спросив при этом, не стоит ли прихватить с собой теплый свитерок и пару бутербродов.
Переться на Погулянку затемно было, наверное, глупой затеей, ведь в окрестностях нет никакого освещения, можно вляпаться в досадную ситуацию, если наше укромное местечко на острове уже занято. К счастью, там не было ни единой живой души, гнетущая тишина царила вокруг, ветер не шевелил ветви ив, хотя чуть поодаль в рощице кроны деревьев тревожно шумели и зловеще поскрипывали.
– Ах, как здесь хорошо, – умилялась Леся, которая умела радоваться жизни как никто.
И снова ни единого следа Грицка. Я посмотрел на мрачную мертвую воду, и мне сделалось жутко, это озеро, очевидно, скрывало какую-то тайну, что-то пряталось в его неприветливой темной глубине, и меня не оставляло предчувствие, что когда оно вынырнет, всплывет, явится передо мной – это будет последнее, что мне суждено увидеть в земной жизни.
Лесе совершенно не передавалось мое сумрачное настроение, она щебетала, смеялась, закутывалась в ивовые косы и кокетливо постреливала глазенками. Мы устроились под вербой и пили вино, а затем я поведал ей ту же историю, что и Лиде и Вере. Мне хотелось услышать ее реакцию, ведь то, как восприняла мой рассказ Вера, только умножило мою печаль.
– Как интересно, – сказала Леся, выслушав меня, затем легла на траву, заложив руки под голову, улыбнулась и добавила:
– Если бы ты захотел… если бы ты только захотел этого… я бы, не раздумывая, покончила вместе с тобой самоубийством…
Я посмотрел на нее с удивлением, честно говоря, такого от нее не ожидал. Леся столь умело скрывала свои эмоции, что я даже начал сомневаться, есть ли они у нее вообще, а потому ее готовность уйти за компанию из жизни меня несказанно растрогала.
– А тебе не кажется, что я сподличал, когда обманул ее? – спросил я.
– Нет. Иначе мы бы не встретились, правда? – ответила она настолько искренне, что я почувствовал: было во мне когда-то нечто такое, уже безнадежно утраченное, было то, чем обладают дети, то радостное и светлое мироощущение и понимание быстротекущей жизни в ее повседневной данности – здесь и теперь, – что уже никогда не возобновится, и о чем я буду бесконечно печалиться, а потому я без колебаний согласился:
– Правда.
– Ты же не любил ее так, как меня.
– Нет. Я ее вообще не любил. Только желал.
– А если бы любил?
– Тогда другое дело.
– Тогда бы ты согласился умереть вместе с ней?
– Для этого по крайней мере должна быть уважительная причина.
– А вот я умерла бы с тобой хоть сейчас… просто так… от избытка счастья.
– Зачем же в таком случае умирать?
– Чтобы остановить мгновение. И от страха, что следующее мгновение уже не будет так прекрасно.
О господи! Мне стало так тяжело на душе, что я едва не завопил: ну почему, почему я не могу полюбить ту, которая любит меня больше жизни, ту, которая, никогда не читая «Фауста», сама пришла к пониманию прекраснейшего смысла жизни?! Отчего я мечусь, словно загнанный волк?! Чего ищу в пустыне времени, умножая досады, печали и сожаления?! Я шагаю по душам и сердцам, словно по стерне, брызгающей росою, преодолеваю стены, возвожу новые, умираю и рождаюсь, увядаю и расцветаю, и все это – в поисках утерянного лона. Каждый из нас уподоблен луне, обращенной к окружающим только светлой своей стороной, тогда как темная – остается невидимой, неисследованной и засекреченной, и все же иногда случается, что темная сторона нашего «я» не настолько невидима, как того хотелось бы, и мрак оттуда неумолимо проникает на светлую сторону, свет – на темную?
Мне хотелось приникнуть к Лесиной груди и расплакаться, словно маленькому нашкодившему мальчику, который решился наконец раскаяться во всех своих шалостях, и обещать исправиться, заверить в своих искренних чувствах и, хлюпая носом, выдавить из себя обреченно: «Я хочу, чтобы ты стала моей женой». Впрочем, я так и сделал, я прижался к ее груди, однако она не дала ни расплакаться, ни раскаяться, ни даже высказать предложение, она обняла меня и отдалась с каким-то мистическим умопомрачением, словно это была и не она, а Марьяна, роль которой она решила сыграть, или, возможно, она представила себя накануне самоубийства, ведь мы занимались любовью так, будто в последний раз, долго и бережно, мы любили друг друга, катаясь по траве и шепча слова, которых никогда раньше не произносили, и Леся – Леся!!! – говорила мне слова брутальные и похотливые, Леся, с уст которой доселе не слетело ни одного нецензурного слова, Леся говорила мне: выеби меня, выеби меня, выеби меня… и спрашивала: что ты делаешь со мной? – и я отвечал: я ебу тебя… я ебу тебя… я ебу тебя… а она: еби меня, еби меня, еби меня.... Она произносила это так, что мне не хотелось кончать, мне хотелось иметь ее бесконечно, безгранично, беспредельно, захлебываясь воздухом, темнотой, запахом трав, мы взмокли от пота, мы прилипали друг к другу, и тела наши шлепали, отлипая, и остров качался, и вербы подскакивали, и волны бились о берег, брызгая пеной, чешуей и чайками, а ровно в полночь я исполнил просьбу Марты и ощутил, как, благодаря этому, на меня нисходит какое-то невероятное озарение, твердая уверенность, что в ближайшие дни все решится, все уляжется и я начну новую жизнь. А лодочка с Грицком так и не выплыла из тумана.
Самоубийство на острове Небесных Сетей
Глава двенадцатая
1
Мои встречи с Марьяной проходили только в городе, мы гуляли, сидели на скамейках и не заходили в бар, замкнутое пространство ее раздражало, и в те редкие случаи, когда мне все же удавалось затащить ее в кафешку, мы находились там не более получаса, а когда же нам хотелось, пили вино из бутылки на парковой скамейке. Как-то она спросила:
– А почему бы вам не пригласить меня к себе домой?
Я подумал, что она шутит или берет на понт, просто, чтобы посмеяться, ведь до сих пор, когда я пытался заманить ее к себе домой, только отмахивалась: ой, это так далеко! – а потому ответил с притворным равнодушием, делая вид, будто ее предложение совсем не заинтересовало меня:
– Видишь ли, я живу в Винниках, а это так далеко. Не уверен, что путешествие в мои пенаты доставит тебе удовольствие.
– Но ведь должна же я когда-нибудь увидеть, как живет герой моих девичьих снов.
– Перестань паясничать.
– А я и не паясничаю. Вы действительно снились мне несколько раз, причем это началось еще до того, как мы познакомились.
– И каким же я был в тех снах?
– Занудой.
– То есть почти такой, как в жизни?
– Теперь паясничаете вы. В снах вы возникали неожиданно, так же внезапно исчезали, ничего не объяснив, и тогда я начинала искать вас, но напрасно. Что бы это могло означать?
– Я не умею разгадывать сны и не верю в них.
– Однажды мне приснилось, что вы меня везете в Америку, и вот, когда мы уже спускаемся по трапу с самолета, я уже вас не вижу, вы пропали, а меня обступили какие-то люди… подъезжает машина и забирает меня… я оказываюсь в больнице, и там я вас вижу снова уже в зеленой одежде… и все врачи тоже в зеленом… светло-зеленом… они направляют на меня яркие лучи, и я просыпаюсь… но пробуждение это происходит во сне, и я продолжаю спать, и тогда мною овладевает страх оттого, что в действительности я проснуться не могу, я вскрикиваю, вскакиваю и тогда наконец просыпаюсь… и плачу, плачу, плачу оттого, что все это был всего лишь сон…
– И что же там, в этом твоем сне было такое, из-за чего ты могла плакать?
– Не знаю… иногда так случается, что сон растрогает, и в первые минуты после пробуждения тебя обволакивает смиренная печаль, а потом все проходит… потом уже и не вспоминаешь то, что приснилось… Разве у вас такого не бывало?
– Бывало. Я даже какое-то время держал под подушкой блокнот и карандаш, потому что сны преподносили мне прекрасные сюжеты, но когда я записывал их среди ночи, то утром оказывалось, что это полнейшая бессмыслица, и тогда я перестал класть на ночь под подушку блокнот и карандаш.
– А я записываю свои сны. Разумеется, не все подряд, а только самые интересные. У меня таких собралось уже несколько сотен. Недавно мне приснилось, что я насекомое… какое именно не скажу, но с пестрыми крылышками… летаю себе над цветущим лугом – а вокруг море света, медовые ароматы, я же порхаю с цветка на цветок, радуюсь солнцу… а потом, когда проснулась, то горько разрыдалась… мне так жаль стало, что я не беззаботная букашка…
– Ты говоришь об этом так, словно у тебя жизнь состоит из одних только забот.
Она взглянула на меня с нескрываемым раздражением, словно я ее чем-то обидел, и тогда я впервые подумал, что, возможно, не все так гладко в ее жизни, как это представлялось на первый взгляд, и ее непрестанно заботит что-то, от чего она с радостью упорхнула бы, выбрав судьбу безобидного мотылька.
– Я приеду к вам… – Она несколько мгновений подумала и добавила: – Завтра… после обеда…
2
Перед тем как принять у себя дома новую гостью, я всегда испытывал неудержимое желание оказать на нее положительное впечатление, что выражалось в лихорадочной уборке и заметании следов предыдущих визитов. Я мотался по комнатам с пылесосом, вытряхивал, перебирал бумаги, поднимал с пола книги и расставлял их по полочкам, мыл посуду на кухне, выбрасывал на помойку пустые бутылки, искал подходящие тайники для множества разнообразных предметов, припрятывал или уничтожал милые мелочевки, забытые у меня другой девушкой, но, как я ни старался, мне все равно не удавалось достичь такого порядка, который способна навести только женщина. Почему-то многие вещи упорно отказывались занимать свое место, им больше нравилось быть на виду и при первом же случае радостно восклицать: «Смотрите! Мы здесь! Мы здесь!» Лично мне беспорядок ничуть не мешал, по крайней мере, я в нем всегда легко ориентировался, но как только удавалось навести марафет, как сразу же возникали проблемы – я не мог ничего отыскать.
Впрочем, заниматься уборкой ради Марьяны мне почему-то совершенно не хотелось. Наоборот, возникло желание устроить в доме вселенский бардак. В последнее время у меня вахтовым методом по очереди хозяйничали Лида, Вера и Леся, и в паузах между их визитами я не успевал как следует насвинячить. Так что к приходу Марьяны я должен был хорошенько постараться. Ничто в доме не должно было носить на себе следов женских рук. Для начала я с поистине трудовым энтузиазмом вывалил в раковину огромную гору тарелок, раскрошил хлеб по столу, а затем перешел в кабинет и рассыпал вдоль стола по полу рукописи, разбросал везде книги, словом, придал комнате привычный холостяцкий интерьер. Для полноты картины пришлось даже вытащить из мусорника две пустые бутылки от шампанского, и я поставил их под столом. Окинув победным взглядом столь вдохновенно сотворенную инсталляцию, я получил вполне эстетическое удовлетворение.
Марьяна наотрез отказалась, чтобы я встречал ее на автобусной остановке, сказала, что найдет дорогу сама. Я нарисовал ей на своей визитке маршрут, и она, строго придерживаясь курса, к моему удивлению, пришла точно по адресу и точно в назначенное время. Услышав собачий лай, я посмотрел в окно и увидел Марьяну в тех же облегающих джинсах, но в куцей футболке, открывающей пупок. Сосед, поправляющий свой забор, застыл в удивлении, с жадностью пожирая глазами ее феноменальную седальницу: куда держит путь это чудо? А девушка остановилась напротив моего дома, окинула его изучающим взглядом, еще раз сверилась с визиткой и подошла к калитке. Любопытный сосед продолжал следить, в его голове, забитой цементом, песком, гравием и бетоном, очевидно, роились различные догадки, но, скорее всего, этот добропорядочный семьянин подумал: ну, конечно же, это сугубо служебный визит, а дамочка – сотрудница газового треста или электросетей. Однако, увидев, как я, словно на крыльях, лечу от порога к калитке и с радостной улыбкой открываю ее, мой сосед, несомненно, испытал некоторое разочарование: так контролера из газтреста не встречают.
Марьяна впорхнула в гнездо разврата, словно невинная бабочка в пасть крокодила, и, что удивительно, чувствовала себя здесь вполне уютно.
– Я все хочу посмотреть сама. Где ваша кухня? Кухня – это лицо хозяйки. Ну, а если хозяйки нет…
– Тогда это задница хозяина, – поспешил отвести неуместный вопрос я.
– Фи, как некультурно. Да у вас здесь и впрямь кавардак. Но мы еще сюда вернемся. А где ваш кабинет? Каждый настоящий писатель должен иметь кабинет, – почти торжественно сообщила она.
Я кивнул наверх. Марьяна смело двинулась по лестнице и с первого же захода попала в то, что могло бы называться кабинетом, однако ужас на ее лице красноречиво свидетельствовал, что она увидела там нечто иное.
– Э-э-то ка-би-нет? – спросила она. Я кивнул. – Гм… Ну, мы, собственно говоря, знали, на что шли. Но как вы можете здесь работать? Хотя, если честно, порядок в квартире холостяка свидетельствует о том, что с ним что-то не в порядке. А идеальный порядок говорит о том, что мы имеем дело с гомосексуалистом.
– Ого! Твои обобщения чрезвычайно глубоки!
– Это все последствия беспорядочного чтения. Я где-то вычитала об этом. Не помню где. С тех пор я с подозрением отношусь к разным чистюлям. Педанты обычно невыносимые зануды.
Я попробовал взглянуть на это помещение ее глазами и увидел вдоль стены забитые книгами шкафы, а под окном длиннющий стол, заваленный грудами бумаг и книгами, на полу тоже лежали вперемешку рукописи, толстенные тома, журналы с газетами, а среди них немытые чашки, тарелочки, бокалы и бутылки. И все же, если внимательно смотреть себе под ноги, передвигаться по кабинету можно. Кажется, я не перестарался.
Марьяна грациозно подошла к книгам и, проводя пальчиком по обложкам, громко стала зачитывать имена авторов:
– Томмазо Ландольфи… Хорхе Луис Борхес… Кутзее… Орасио Кирога… Ивлин Во… Говард Лавкрафт… Я ничего этого не читала. Странно, и все же мне не кажется, что этим я себя обеднила.
– Не удивительно, ведь если не иметь малейшего понятия о существовании чего-нибудь стоящего, то откуда возникнет потребность в нем?
– И покупая эти книги, вы уже знали, что они вам действительно необходимы?
– Когда как. Случается и так, что покупаю вслепую, полистав, просмотрев оглавление и аннотацию. Бывает, что ошибаюсь и книжка превращается в ненужный хлам.
– Как мало еще я знаю, – вздохнула она.
– На что ты намекаешь? Возможно, стоит перед самоубийством заняться самообразованием?
– Нет, это не для меня. Я считаю себя вполне сформировавшейся личностью, а лишняя информация уже ничего не изменит. Хочу кофе.
– Сейчас приготовлю.
– Нет-нет, я не это имела в виду. Я сама приготовлю кофе.
И она стремительно сбежала по лестнице на кухню. Стараясь не отставать от нее ни на шаг, я показал, где хранится кофе, и поставил воду на огонь. Марьяна придирчиво осмотрела чашки и блюдца, накануне вымытые Лидой, и сочла их пригодными к использованию.
– Может, ты голодна? – спросил я.
– Еще нет. Неужто ваши девушки такие неряхи, что так у вас все запущено? Почему бы вам не пригласить их на субботник, чтобы навели порядок?
– В последнее время я встречаюсь только с тобой.
– Ага, значит, теперь эта неблагодарная обязанность уборки авгиевой конюшни ложится на меня?
– Стало быть, да.
– Ну, что же, я готова.
Она отмерила четыре ложечки кофе в кипяток, довела до кипения и, сняв с плиты, с загадочным выражением лица, накрыла тарелочкой. А затем, попивая кофе, уговорила меня читать главы «Мальвы» с небольшим перерывом на обед. Марьяна слушала намного внимательнее, чем обычно слушают женщины, по ее мимике и отдельным движениям – вот она охватывает свое лицо ладонями, вот сплетает пальцы на груди, стискивает до хруста кулачки на коленях – видно было, что она всем своим существом погрузилась в текст, в его фантасмагорические лабиринты, и пребывает теперь далеко, далеко, вне времени и пространства, и вернуть ее мне удастся, лишь закончив чтение. Осторожно, чтобы не вспугнуть ее мерцающее сердце, я подвел чтение к концу, убавляя голос до полушепота, до полувздоха, а тем временем сумерки украсили комнату широкими мазками темно-синей кисти, и тогда я достал бутылку вина, мимоходом заглянув в зеркало: что она во мне нашла? Я зажег свечи и выключил свет, и в возникшей игре теней и света она стала выглядеть лет на пять старше. Это прибавило мне отваги. Марьяна сидела на диване, я подал ей бокал вина, она взяла, даже не взглянув на него, и сказала:
– Я… я хотела сказать, как мне нравится то, что вы пишете…
Бокал едва заметно вздрагивал в ее руке, вино покачивалось, билось о стенки, а она все еще была где-то далеко, хотя и существенно ближе, чем во время чтения, а все же еще не здесь, еще не рядом, ветер только нес ее сюда, и когда я увидел, что она уже здесь, то сказал:
– Ты еще ничего не выпила.
Я чокнулся с ней, и она пригубила бокал, пару секунд поколебалась и выпила залпом, как воду, сразу покрывшись румянцем. И умолкла. Я подвинулся к ней, осторожно, словно к бабочке, которую боялся вспугнуть. Главное – не наглеть, тихо, спокойно, ну вот, еще один бокал… Возможно, последует еще один – и она будет готова, – я это чувствовал. И все же самое большее, что я мог себе сейчас позволить, – это играть с ее волосами, перебирая и лаская их душистые пряди. Второй бокал она пила немного дольше, а когда допила и следующие пять лет полутенями легли на ее лицо, я осторожно привлек ее к себе и увидел, как приоткрылись, словно во сне, ее влажные уста, а в полузакрытых глазах взыграло пламя свечей. Ее помада имела вкус невинности. Целовалась она неумело и скованно, губы были напряжены и холодноваты. Спустя минуту она резко отодвинулась, сомкнула ладони, сжала их коленями, покаянно наклонившись вперед, словно совершила недостойный поступок, и снова отправилась в свои странствия, куда-то в темень неизъяснимую, но уже не так далеко, на расстояние голоса.
Я налил ей еще. Нас обволакивала тихая вкрадчивая музыка. Марьяна слегка покачивалась в такт ритму, казалось, она отключилась и все, что ее окружало, прекращало существовать, однако я заметил, что взгляд ее печален, губы натянуты, а сжатые пальцы белы как мел. О чем она сейчас думает? А может, не думает, а советуется с теми, кто ее послал за мной? Очевидно, что они должны были поставить ей какие-то условия, а она видит, что не может их соблюсти, и теперь происходит торг… Я наблюдал за ней, не отводя глаз, но это ей не мешало, казалось, она совсем не замечает меня, губы ее едва заметно вздрагивали, беззвучные слова спархивали с них и летели на пламя свечи, чтобы через мгновение вспыхнуть и исчезнуть, и все же в полете их успевал перехватить тот, к кому эти слова были обращены, и она слегка кивала головой, словно выслушивая его реплики. На меня нахлынуло чувство ревности, ведь мне становилось ясно, что в эти минуты она принадлежит не мне, а кому-то иному, неведомому и загадочному, тому, кто, возможно, создал ее и по праву создателя продолжает сопровождать в ослепительной пустыне жизни.
Я снова обнял ее, и она, покорно прижавшись к моей груди, спросила шепотом:
– Знаешь, сколько мне лет? – Она впервые обратилась ко мне на «ты», но я заметил это на сразу и никак не прореагировал.
– А разве это так важно?
– В ноябре будет шестнадцать.
– Прекрасно. Ты и здесь меня купила, сказав, что заканчиваешь школу.
– Нет, я закончила только девятый класс. Такой юной ты еще не имел, правда?
– Правда, – соврал я.
– А тогда, когда тебе самому было шестнадцать?
– Нет. Тогда тоже не имел, – и второй раз солгал я.
– А вот теперь поимеешь, – сказала она странным дрожащим голосом с ноткой неуверенности, а через мгновение я почувствовал, что и вся она дрожит, словно в лихорадке. – Скажи, – прошептала, – а если бы у тебя был выбор: немедленная смерть или жизнь на безлюдном скалистом острове посреди океана, где тебя ожидает неминуемая голодная смерть, медленная и болезненная, однако не сиюминутная, а спустя какое-то время, – что бы ты выбрал?
– Выбрал бы остров. Ведь оставалась бы хоть какая-нибудь надежда на спасение.
Она отодвинулась от меня и снова съежилась, спрятав ладони между колен.
– Вот как? Вокруг одни скалы и камни, ни единой травинки, – бросила таким тоном, словно от моего ответа зависело невесть что.
– Возможно, удалось бы поймать морскую рыбину или насобирать водорослей, а еще остается надежда на то, что приплывет корабль.
– Ну а если бы ты твердо знал, что не приплывет? – она говорила, глядя мимо меня, куда-то в сумерки, затаившиеся за окном. – Если бы ты знал, что в тех местах вообще никогда не проплывают корабли? А вокруг безжизненного скалистого острова не водится рыба, и берега там столь отвесны, такой крутизны, что волны ничего туда не могут выбросить, тогда что?
– Все равно хоть какая-нибудь надежда теплилась бы. Сколько бы ты не ужесточала условия, даже если бы сказала, что я буду прикован к скалам цепями, то даже и в таком случае я бы выбрал остров.
Она подняла голову и посмотрела на меня так, словно видела впервые, что-то из сказанного мной явно задело Марьяну за живое, но что это было, я не мог понять, расспрашивать же сейчас я счел неуместным, ведь, обняв ее, ощутил, как тело ее дрожит еще сильнее, а заглянув в ее глаза, увидел в них слезы.
– Что случилось? Ты плачешь?
– Нет-нет, ничего, – захлопала она ресницами и, резко схватив бокал, стала пить как-то спазматически, нервно, а слезы стекали по щекам и смешивались с вином, рука с бокалом тряслась, и я уже не знал, что подумать, что предпринять. Вдруг она, так же резко отставив бокал, вскочила с дивана и устремилась в ванную.
Тут я и себе налил вина, и тоже выпил, но со злости. Отчего это мне так фартит на истеричек? Почему она расплакалась? Может, я в чем-то повел себя нетактично? Но в чем именно? На улице залопотал дождь, ветер раскачивал ветви деревьев, и они хлестали мокрыми листьями по окнам, чудесная погода, лучше не бывает для того, чтобы зарыться с книгой в теплую постель, а еще лучше с книгой и Верой-Лидой-Лесей, и читать вслух что-нибудь стильное, задушевное, одновременно лаская друг друга, но слегка, без напряжения, еле-еле касаясь пальцами, чтобы затем, спустя час-два-три, отложив книгу, сплестись в горячий клубок и буквально за считаные минуты получить одновременный оргазм.
Плеск воды в ванной прекратился, и Марьяна вышла оттуда свежая и просветленная. К тому же она еще и улыбалась.
– Что это с тобой происходило? – поинтересовался я.
– Ничего особенного. У меня пошла кругом голова… я многовато выпила… это с непривычки.
– Однако я бы не сказал, что ты пьяна.
– И все же я немножко захмелела. Не обращай внимания. Лучше поцелуй меня.
В этот раз поцелуй был долгим и страстным, а когда моя рука скользнула под майку и прикоснулась к груди, она уже не сопротивлялась. Все ее движения были замедленны, будто во сне, она позволяла себя раздевать с покорностью обреченной, улыбаясь кому-то невидимому, но только не мне, взгляд ее устремлялся в сторону и вверх, а я снимал с нее все аккуратно и последовательно, словно с уснувшего ребенка, которого не хотелось будить, и, когда она осталась безо всего, глаза ее смежились, и она, казалось, предавалась уже настоящему сну. Ее теплое тело, словно принесенное ласковой морской волной, льнуло ко мне с удивительной покорностью, я обнимал ее, и она прижималась к моей груди с радостной улыбкой, хотя руки ее оставались неподвижны. Я гладил ее небольшие круглые налитые груди, ощущая, как под пальцами набухают бутоны, а затем… затем, скажу вам, тот, кто не ласкал живот юной девушки, никогда не оценит удивительного переживания и наслаждения от прикасания к этой нежной шелковистой коже, напоенной какой-то фантастической теплотой и свежестью, я чувствовал такое же опьянение, какое испытывает следопыт, проникая в места, куда не попадала еще ни одна живая душа, и хотя совсем недавно та же ладонь с не меньшим восторгом первопроходца исследовала экваториальную часть тела Веры, а все же разница ощущалась значительная, ведь Вера уже созрела для любви и тело ее сполна было заряжено сексом и жадно воспринимало мой следопытский порыв, тогда как здесь меня ожидала настороженность, удивление и притворная апатия, а непокорные завитки, в которых запутывались пальцы, кудряшки не подстриженные и ершистые, а упругие и нежные, будто волны морские, по которым так легко скользить в теплые врата рая, до сих пор снятся моим пальцам. Покорность Марьяны, впрочем, оказалась обманчивой, она хотя и лежала с закрытыми глазами, без сопротивления подчиняясь моим рукам, зато ноги держала вместе, и мой палец напрасно скользил, ища место где глубже. А когда я лег на нее, то не мог избавиться от мысли, что напоминаю святотатца, стремящегося в храм, дабы осквернить его, по крайней мере, двигался я вкрадчиво и осторожно, словно боясь, что меня вот-вот застукают, разоблачат и арестуют. Я действовал одним только кончиком, ведь ног она так и не разжимала, а как только я начинал идти на прорыв, сразу сокращала мускулы на всем протяжении фронта от стоп до бедер. Пришлось смириться, и я, завершив атаку залпом в простыню, лег рядом. Она сделала вид, будто мне отдалась, а я сделал вид, будто ее взял.
Какое-то время мы лежали молча, я думал о потерянном дне, а за окном хлестал дождь, несколько раз с оглушительным сухим треском ударил гром, и фонари за окном погасли. И только свеча горела.
– Я боюсь грозы, – прошептала Марьяна и, прижавшись, посмотрела мне в глаза. – Я плохая, да?
– Почему ты так решила?
– Потому, что не отдалась тебе. А ведь я хотела…
– И что же помешало?
– Ты… ты сам… ты все испортил.
– Я? Когда? И чем?
– Не скажу. Сам подумай.
– Ну, знаешь ли, это уже слишком. По-моему, ты просто издеваешься надо мной. Зачем ты говоришь загадками?
– Никаких загадок. Все ясно как белый день. Ты сам когда-нибудь удивишься, что сразу не догадался. Ой, что это? – она подняла руку и показала свои пальцы. – Это твоя сперма?
– Нет, это мармелад.
Она поднесла пальцы к носику и принюхалась:
– Как странно пахнет… – потом лизнула, словно пробуя, и мило призналась: – Не сказала бы, что это такой уж деликатес. Впрочем, когда-нибудь, если будешь себя хорошо вести, я попробую исполнить для тебя все, что все вы так любите.
Она вытерла пальчики о простыню и снова поспешила в ванную, прихватив свечу. Я налил вина и наскоро выпил. Собственно говоря, ничего страшного не случилось, не единожды мне приходилось именно таким образом возиться с целочками, пока они не созревали для того, чтобы отдаться по-настоящему, сполна. В таких случаях необходимо терпение. Хотя, имея на выбор трех готовых к употреблению девушек, я вовсе не должен был тащить в постель еще и четвертую. Не должен был… Но вот Марьяна вернулась, держа свечу перед собой, и я поневоле залюбовался ее совершенным телом.
– В конце концов, мы же условились, что это произойдет на острове, – напомнила она, как бы оправдываясь.
На ночь она осталась у меня, сообщив, что родители ее уехали на отдых, я постелил ей в соседней комнате, но она там выдержала не больше пяти минут, сказав, что ей страшно спать в чужом доме одной да еще в такую грозу.
– Я храплю, – предупредил я.
– Не страшно. Меня даже пушки не разбудят.
И мы уснули, прижавшись спинками друг к другу.
Среди ночи я вскинулся, опутанный паутиной снов, и, барахтаясь в ней, увидел, что она тоже не спит, сидит, закутавшись в одеяло, и тупо смотрит в темное окно. На столе снова горели свечи, хотя я прекрасно помнил, как тушил их пальцем. Все это выглядело странно и даже жутковато, тем более, что я окликнул ее и не заметил никакой реакции. Она меня не слышала. Несколько минут я терпеливо наблюдал за ней, наконец поднялся и посмотрел в ее лицо. Глаза ее были открыты, однако она меня не видела, она смотрела в окно, за которым виднелись силуэты омытых грозой деревьев, краешек луны и светлые россыпи звезд. Деревья все еще покачивались от ветра, луна и звезды то исчезали за грядой наплывающих облаков, то появлялись снова, вот, пожалуй, и все самое интересное, что происходило за окном. Может, она узрела там еще что-то недоступное мне? Может, принимала сигналы из космоса? Даже если и так, то ни единым движением себя не выдавала, сидела, будто окаменев. Я подошел к столу, налил вина и стал пить. Марьяна даже глазом не повела.
– Как чувствуешь себя? – спросил я. – Хочешь вина?
Ни один мускул на ее лице не шевельнулся. Неужели она и в самом деле меня не слышит и не видит? Я подошел и обнял ее, она вздрогнула, словно пробуждаясь от глубокого сна, и вдруг обвила мою шею руками:
– Что? Что ты сказал?
– Ничего.
– Мне послышалось?
– Наверное.
– Зачем ты свечи зажег?
– Да вот пить захотелось. Потушить?
– Нет… потом…
Меня не покидало ощущение, что она все еще находится в полубессознательном состоянии и говорит сквозь сон. Мы снова легли, она обняла меня и положила голову на грудь, с минуту мы лежали молча, я вдыхал пьянящий запах волос и размышлял о ее странном поведении. А может, она лунатик? Никогда не имел дела с лунатиками и не представлял, чем это мне может угрожать, особенно если сомнамбула имеет неосознанную склонность зажигать в доме свечи.
Марьяна подняла голову над подушкой и посмотрела мне в глаза, ее губы были полуоткрыты, я не удержался и поцеловал их, и тогда она с детской непосредственностью прошептала: «Я хочу… хочу это сделать сегодня…» – и мы сомкнулись, словно две половинки двери, за которыми остался весь остальной мир, вся наша предыдущая жизнь, откуда-то из-за двери доносились приглушенные рыдания оставленных любовниц, я слышал жуткое царапание их ногтей о стены моего дома и чужой смех за окном, а Марьяна прижалась ко мне всем телом, и ее горячая грудь, и нежные руки, и сахарные уста – все это было словно во сне, и я был ее сном в ее сне, и поцелуй ее был таким страстным, что я уже не узнавал ее, все больше убеждаясь, что все происходящее – сон. И не спрашивал ее, почему она передумала, почему отдалась раньше, мне казалось, что я могу спугнуть этот сон, что она проснется и тогда всему конец. Теперь она не сопротивлялась ни единой клеткой своего тела, и все же утверждать, что делала это сознательно, я бы не смог, глаза ее были слегка прикрыты, голос сильно отличался от того, к которому я привык, разговаривала очень тихо, меланхолическим, мечтательным тоном, растягивая слова и делая между ними паузы, он не была похожа на себя прежнюю, и я ловил себя на мысли, что сейчас в ее тело вселился кто-то иной, а сам я, кого она так и не назвала по имени, был неизвестно кем, только не самим собою.
А потом мы уснули и спали до позднего утра, хотя я проснулся несколько раньше и стал готовить завтрак. Нет, это не были мои фирменные груши в тесте, я натер яблоки с морковью, добавил ложку меда и пару ложек сметаны. Пока заваривал зеленый чай, Марьяна проснулась. Есть женщины, которые днем выглядят на двадцать два, а с утра на тридцать, но чтобы выглядеть днем на семнадцать, а утром на двенадцать – такого феномена я еще не встречал. И все же именно это я видел сейчас перед собой – невинный ангелочек с растрепанными волосами, надутыми губками и огромными пречистыми глазами. В них застыло удивление, похоже, она не может понять, как здесь оказалась и почему она голая в моей постели. Я, разумеется, не стал из врожденного чувства деликатности напоминать ей ночной фильм, а поинтересовался вместо этого, не подать ли ей завтрак в постель. Она кивнула так, как, наверное, когда-то кивала королева Констанция, жена короля Льва, когда ту спрашивали, не пора ли преподнести ее величеству ночной горшок. Вот и я подал свое пюре с зеленым чаем, а сам присел на краешек кровати и спросил, как спалось, на что королева ответила, что хорошо, однако же не может понять, отчего это я не постелил ей на другой кровати, а я, исключительно из чувства той же врожденной деликатности, не напомнил ей о том, что все-таки постелил, однако она сама легла возле меня, и сказал лишь, что это, наверное, гроза заставила ее перебраться ко мне, и тогда она вспомнила: ах, эта страшная гроза, гроза ее полностью выбила из колеи, гроза пугает ее до потери рассудка, она так боится грома и молнии, грома и молнии, она боится грозы…
Затем села в постели, и здесь я увидел странную вещь, она вела себя так, словно голой я ее не видел и не исследовал, она завтракала, стараясь тщательно прикрыться одеялом, и когда оно сползало, обнажая плечи и грудь, нервно поправляла, глядя на меня с виноватой улыбкой, а закончив завтракать, попросила меня выйти из комнаты, ей, видите ли, надо одеться. Здесь, правда, случился небольшой конфуз, ведь кроме моей рубашки никакой другой одежки в этой комнате не оказалось, что чрезвычайно удивило ее, но врожденная деликатность не позволила мне напомнить, что раздевалась она там, где я ей постелил, сюда же она пришла в моей рубашке, поэтому я ограничился лишь робким замечанием, что ее одежда находится в соседней комнате и, если нужно, я принесу. Это известие также вызвало немалое удивление, и она поинтересовалась, зачем я вынес ее одежду в соседнюю комнату. Я мог сказать, что об этом думаю, однако сдержался и ответил, что не помню. Что такое провалы в памяти, она, очевидно, знала и, удовлетворившись ответом, попросила, чтобы я отвернулся, а сама пошлепала в соседнюю комнату. Оттуда она вернулась уже при полном параде.
Я так и не понял, что это было: игра, стеб или действительно потеря памяти. Когда я попытался обнять ее и возобновить ночной контакт, она вывернулась и сказала:
– Мы же договорились – не торопить события.
Я предложил сходить на здешнее озеро, утро было солнечное, а вода после грозы, должно быть, теплая.
– Чудесное предложение, – засмеялась она, – но ведь у меня нет купальника.
– Зато у меня он есть. Для тебя, – тоном доброго волшебника сообщил я, вспомнив, что свой запасной совсем новенький купальник оставила у меня Лидка. Если она и вспомнит о нем, скажу, что сжег на костре, приняв за остатки гардероба моей жены. Тут уж, конечно, Лидка возмутится, ну и что, куплю ей другой.
– У тебя? Купальник? – удивилась Марьяна. – И какая же из твоих любовниц его оставила?
– Знаешь, я когда-то купил в подарок для одной девушки, но мы вскоре разбежались. С тех пор он и лежит в шкафу без дела. Совсем новенький. Сейчас принесу.
Марьяна придирчиво исследовала его, ощупав каждый рубчик.
– А ведь грудь у твоей девушки была побольше моей. Тебе нравятся такие… грудастые?
– Не обязательно. Определенно, что мне не нравится, – это их отсутствие.
– Девушек?
– Нет, этих… грудей.
– А еще что?
– Узкие бедра.
– Ну, это нам не угрожает. Можно примерить?
Я кивнул, и она зашла в ванную, появившись оттуда уже облаченной в купальник, который сидел на ней как влитой благодаря тому, что бюстгальтер не застегивался, а завязывался, и она его стянула просто идеально.
– Умеешь ездить на велосипеде? – спросил я.
– Мы поедем на велосипеде?
– У меня их два.
– Я когда-то ездила. И далеко нам ехать?
– Километров пять. Там такая красота вокруг.
Я быстренько упаковал в рюкзак коврик, вино с закуской, и мы тронулись. Марьяна неплохо справлялась с велосипедом, а поскольку я выделил ей навороченную французскую машину, так она меня еще и всю дорогу обгоняла. В будний день людей на озере было немного, мы заняли местечко поудобнее рядом с кустами, чтобы можно было легко сменить солнце на тень. Вода была теплой на поверхности, однако глубже окутывала холодом, здесь было много родников. Искупавшись, мы улеглись на берегу, и я спросил, почему она сказала, что это я сам все испортил, когда она хотела со мной заниматься любовью. Марьяна бросила на меня изумленный взгляд:
– Я такое говорила?
– Ты и этого не помнишь? – слегка возмутился я, приготовившись сказать ей пару теплых слов.
– А разве существует еще что-нибудь, чего я не помню? – поразилась она настолько искренне, что я обиженно прикусил губу.
– Только не обижайся, – прижалась она, – ведь я могла и забыть. А к чему я это сказала?
– Ты говорила, цитирую дословно, что не отдалась мне, хотя и хотела…
– А-а… И дальше? Ты что сказал?
– Я спросил: что тебе помешало?
– А я?
– А ты сказала, что я сам все испортил. А когда я удивился, ты советовала самому подумать, дескать, все очень просто и я сам когда-нибудь буду диву даваться, что не догадался. Ну, как, вспомнила?
– Вспомнила. Это все из-за острова.
– Какого острова?
– Скалистый остров в океане. Ты выбрал остров.
– Так это был тест?
– Вроде этого… Видишь ли, я засомневалась, решишься ли ты на самоубийство. Ты предпочел мученическую смерть… И я поняла, что ты будешь цепляться за жизнь до конца.
Лицо ее сразу омрачилось грустью, ресницы часто захлопали, будто прогоняя слезу с глаз. Я взял ее за руку.
– Знаешь, если серьезно, то я обдумал твое предложение, и это были мучительно… Вспоминал все твои слова, некоторые из них поразили меня в самое сердце. Когда ты спросила про скалу, то речь шла о выборе, который надлежит сделать немедленно. Но ведь на самом деле ты предлагала иной выбор: скорая смерть в твоем обществе или смерть от болезней в пожилом возрасте. Оба эти варианта существенно отделены во времени. Выбрав последний, я теряю первый вариант, который никогда больше не повторится. Вряд ли в преклонном возрасте, предчувствуя приближение смерти, я встречу столь прекрасную юную даму, которая предложит мне то, что ты. И я стал задумываться о смерти как о чем-то таком, с чем я смирился, я стал готовиться к ней, но… Но не мне заказывать музыку… Мне не хватает одной мелочи: подлинной причины твоего желания уйти из жизни. Я думал об этом не раз и не находил логического объяснения. Нежелание стареть, болеть – это мало похоже на правду. На такое решаются разве что на склоне лет, но чтобы юная девушка желала умереть, когда до старости еще ого-го как далеко – это что-то невероятное… То есть, как видишь, тебе остается одно: убедить меня в том, что у тебя на самом деле имеется по-настоящему уважительная причина для того, чтобы не жить.
С минуту она молчала, словно собираясь с мыслями, и была в этот момент явно сбитой с толку… А когда заговорила, голос ее звучал сурово и отстраненно, казалось, что она повторяет слова, продиктованные сверху, время от времени умолкая и прислушиваясь к очередным подсказкам:
– У меня такое впечатление, что Бог ошибся… ошибся, когда давал мне жизнь… что-то у него пошло не так… и я хочу дать ему возможность исправить… Ты не бойся, мы ведь только туда и обратно… я хочу сказать, что это как ныряние под воду… мы на минутку нырнем во мрак и вернемся снова в этот мир, залитый сиянием… и он будет намного лучше, радостнее, желанней… Я хочу выпить… – Я налил ей вина, и она сделала несколько глотков, глаза ее светились дивным мерцанием, словно сказанные ею слова отражали какие-то звездные тайны, улыбка на устах то вспыхивала, то гасла. – Однажды я задумалась, почему покойников называют покойниками. Потому что они пребывают в покое. Они не мертвецы. Мертвецы – мы. А они возвращаются с кратковременной прогулки домой. Я хочу сделать это раньше графика. Мы здесь транзитом.
Она вертела в руках стакан, и солнечные зайчики прыгали по ее лицу, и от этого она еще больше походила на ребенка, однако все сказанное ею было страшно далеко от детских речей…
– Ты никогда не пробовал разобраться в том, что именно окружает тебя в обыденной жизни? Ты мог сколь угодно заниматься самоанализом, но попробуй углубиться в то, что тебя окружает, и почувствуешь ужас – так, словно ты оказался на самом краешке бездонной пропасти, которая головокружительно манит и искушает тебя, и ты наконец сползаешь в бездну и лихорадочно цепляешься руками за ее краешек, чтобы только удержаться, выкарабкиваешься и снова балансируешь на той роковой кромке, машешь руками, как ветряная мельница, для равновесия… – тут ее голос зазвучал на повышенных нотах, с надрывом: – и так каждый день, ежедневно, вся твоя жизнь – это попытка удержать равновесие. Но в один прекрасный день это тебе опротивеет, и ты позволяешь своему телу клониться, куда ему вздумается, срываешься, а затем летишь, летишь…
Стакан в ее пальцах замер, солнечные зайчики разбежались по траве, она на мгновение закусила верхнюю губу, а когда отпустила, там виднелся след от зубов.
– Люди привыкли придавать значение каждой мелочи, каждой вещи, окружающей их, привыкли радоваться пустякам, из которых часто и состоит их существование. И в суете не замечают за ними главного: их жизнь лишена смысла. Почему же они за нее цепляются? Потому что боятся поставить точку собственноручно. Страшатся смерти, ее неожиданного прихода и боятся самоубийства. А ведь самоубийство, собственно, и дает возможность переиграть саму смерть, ничто в нашей жизни не происходит само собой, все зависит от каких-то обстоятельств, и только смерть, которую мы сами себе выбираем, – единственное, что мы можем сделать по собственному усмотрению, по своей воле, когда захотим и как захотим. Назначить самому себе свой последний час – это то, что уравнивает тебя с Творцом. Он дал жизнь, но забрать не смог. Медленное угасание угнетает, ты постоянно находишься под присмотром смерти, под ее опекой… шаг влево, шаг вправо, а смерть уже подстерегает тебя – перебежал на «красный», заплыл на середину стремительной реки, высунулся из окна или сел не в тот самолет… Ты перед смертью бессилен… словно цветок на волнах…
Я с ужасом соглашался с ее мыслями, тем более, что похожие думы не раз одолевали и меня, а все же я чувствовал, что вряд ли достоин предлагаемого Марьяной дара – смерти в ее компании, романтической смерти, соблазнительной смерти, вечной смерти. К тому же я догадывался, что она допускает меня лишь в одну крохотную каморку своего сердца, да и то освещенную куцым огарком свечки, чтобы я в полумраке так и не смог рассмотреть самого главного, что там припрятано, и не нащупал потайных ходов вглубь.
Глава тринадцатая
Описывая события того времени, я пытался разобраться, что в их описании должно быть главным, и приходил к выводу, что если бы не Марьяна, я бы, возможно, никогда так и не написал бы об этом ни строчки. Прошло с того времени больше десяти лет, а она не оставляет моей памяти и все еще продолжает навещать мои сны, размышления, она живет во мне, словно какая-то инфекция, от которой невозможно избавиться, невозможно убить никаким антибиотиком, более того, мне все еще кажется, что в один прекрасный день я встречу ее где-нибудь на улице и сразу узнаю, а она, словно бы ничего и не случилось, бросится мне на шею и со смехом начнет вспоминать все, что было между нами, хотя и понимаю, что это уже нереально, я ее никогда не встречу, и все же воображение настойчиво рисует передо мной картины нашей будущей встречи. С годами ее образ распадается в моей памяти, он множится и мерцает бесчисленными искорками, перелетающими с места на место, чтобы в какое-то мгновение собраться воедино, но не для того, чтобы явить мне ее такой, какой я ее знал, но почему-то совсем иной, не известной мне, не запечатленной в памяти, а скорее придуманной, нафантазированной, созданием чудесного света, который проникает сквозь толщу воды и, преломляясь, рождает невиданные миражи.
Я должен наконец разобраться с тем, что произошло, найти ответ на загадку, почему она выбрала именно меня, и сделала это не для того, чтобы разбудить во мне жажду жизни и творчества, а наоборот, чтобы все это убаюкать, усыпить, вывести меня на гору, откуда открывается захватывающий вид на руины, и сказать: «И это твоя жизнь? Так стоит ли за нее цепляться?» Меня и сейчас, спустя столько лет пронзает мистический страх, как только я вспоминаю о ней, все еще не оставляет мысль, что я так до конца и не понял ее, не дал ей ничего из того, что мог дать, не выслушал ее до конца, не проникся ее болью, между нами осталось недосказанным что-то очень важное, и теперь оно давит мне на мозги, просится наружу, но к кому обращу я те невысказанные слова? Я продолжаю беседовать с ней на расстоянии времени, голос ее журчит в моей голове, отражается эхом и рассеивается на мириады звуков, и каждый из них снова и снова напоминает о ней. Нередко я просыпался среди ночи, заслышав, как она зовет меня, настойчиво повторяя мое имя, и тогда меня охватывало странное и жуткое чувство, я так ясно различал ее голос, словно она находилась совсем рядом, на расстоянии вытянутой руки, и тогда я, не включая свет, замирал и настороженно слушал нахлынувшую вдруг тишину, а тишина печально звенела, будто кто-то пытался меня успокоить, убаюкать и усыпить воображение.
Восьмое августа неотвратимо приближалось, а я все еще пребывал в состоянии неопределенности, хотя и ловил себя на том, что не начинаю писать ничего нового, а пытаюсь закончить какие-то старые вещи, пересматриваю рукописи и письма, одни сжигаю, другие раскладываю по папкам… Зачем я делаю это? Наверное, потому, что это давно пора было сделать, не так ли? Ведь должен быть какой-то порядок, все мы под Богом ходим – шаг влево, шаг вправо карается смертью. И Марьяна здесь ни при чем, просто я полюбил порядок, ведь это же чудесно, когда каждая бумажка знает свое место и не приходится переворачивать горы ксерокопий и газетных вырезок в поисках затерявшегося фрагмента или, однако… однако что-то мне подсказывает – это неспроста… Что делает человек, узнав, что вскоре он должен умереть? Как проводит оставшееся время? Торопится завершить начатое? Спешит вернуть долги? Транжирит все свои сбережения? Гуляет на всю ивановскую? А может, лежит на диване и тупо смотрит в потолок? Отчего-то эти вопросы одолевают меня, насилуют мое воображение, хотя у меня нет никакого желания добровольно уходить из жизни, и все же тихая вкрадчивая гадючка шипит мне возле уха: «Это твой последний шанс уйти красиво… последний шанс… больше такого не будет…» – Я встряхиваю головой, но гадючка держится крепко, обвив мою шею живой петлей. Каждый свой шаг я начинаю вдруг видеть с точки зрения вечности, а как вы думали, ведь настоящий писатель стремится быть не только сытым, но и вечным, но не метеором, который вырывается на беспредельные просторы неба и восхищает своим сиянием толпы поклонников, ведь метеор быстро угасает, а яркой планетой в компании неотлучных спутников, подсвеченных высочайшими звездами.
«Акт любви и акт смерти – по сути одно и то же, – вспомнились мне слова какого-то средневекового философа. – Только умерев, влюбленные наконец соединятся с бесконечной вселенной и друг с другом». Одновременный оргазм и одновременная смерть – в этом что-то есть. Эрос и Танатос – две могущественные силы, которые движут творчеством, два столба, на которых удерживается искусство всех времен и всех народов. Морис Бланшо в эссе «Смерть как возможность» написал, что главный искус самоубийства для художника в том, что оно – высочайший акт доступного человеку творчества и вместе с тем поступок, который словно бы устраняет саму смерть: «Чтобы писать, необходимо господствовать над собой перед лицом смерти, необходимо установить с ней отношения властвования. Если она для тебя является чем-то таким, перед чем ты теряешь самообладание, чего не можешь стерпеть, – то в таком случае она выкрадывает у тебя слова из-под пера, пресекает твою речь; писатель уже больше не пишет, а кричит, и его беспомощный, квелый крик никого не волнует, да никто его и не слышит. Кафка глубоко просек, что искусство – связано со смертью. Почему со смертью? Да потому, что она предел всему. Кто властвует над ней, тот наделен высочайшей властью и над собой, использует все свои возможности, становится воплощением великого дара. Искусство – власть над смертным пределом, предел любой власти».
«В течение последних пяти веков большинство выдающихся художников, – писал Готфрид Бэнн, – были либо сумасшедшими, либо гомосексуалистами, либо наркоманами, либо одержимыми суицидальным комплексом». Я не сумасшедший, не гомосексуалист, не наркоман и никогда не испытывал большого желания уйти прежде времени из жизни, хотя мог размышлять об этом, с особым интересом читал о случаях самоубийства среди писателей, составлял их списки, намереваясь когда-нибудь издать антологию их сочинений и предсмертных писем.
«Литература насквозь пропитана ядом», – засвидетельствовал Юкио Мисима, который не замедлил сделать себе харакири. Я вынул папку со своими записями и вырезками на тему самоубийства среди писателей и разыскал случаи двойного самоубийства. Их было всего несколько.
Известный японский эссеист профессор Номура Вайхан (1884 – 1921) убежал вместе со студенткой за город, и две недели они занимались пылкой любовью на безлюдном берегу реки, среди цветущих деревьев, а затем утонули. А все из-за того, что он был женат и двойная жизнь ему претила. На первый взгляд, причина не слишком серьезная, однако она вполне в японской традиции, японцы даже придумали специальный термин, объясняющий самоубийство по договоренности: «синдзю» – «единство сердец». Любопытно, что инициатива чаще принадлежала женщинам. Хотя случались и ненастоящие синдзю – это когда кто-то из пары желает умереть, а кто-то – нет. В таких случаях инициаторами самоубийства становились мужчины. Публицист Такеути Масаси (1898 – 1922) после неудачного ухаживания за девушкой из консервативной семьи решил зарезать себя и возлюбленную. Но девушка изловчилась и убежала, после чего незадачливый жених зарезал ее родителей, а затем и сам учинил себе харакири.
Немецкий писатель Генрих фон Клейст (1777 – 1811) испытал немало жизненных разочарований – не стал настоящим офицером, потому как ненавидел войну, не закончил университет, ибо обманулся в своих надеждах на науку, не смог сделать карьеру чиновника, потерпел фиаско и как издатель. А встреча с Генриеттой Фогель только ускорила его смерть. Он не имел средств к существованию, его не признали современники, а госпожа Фогель была замужем за нелюбимым человеком и смертельно больна. Идея самоубийства принадлежала именно ей, и Клейст был в восторге. «Я приобрел подругу, – писал он, – чей дух витает, как молодой орел, – подобной женщины я не встречал еще никогда в жизни – она понимает мою печаль, видит в ней нечто возвышенное, глубоко укорененное и неисцелимое, и потому, хотя она и в силах осчастливить меня здесь, на земле, она стремится со мной умереть… Отныне единственная моя забота и радость – отыскать глубокую пропасть, чтобы вместе броситься туда».
Однако пропасти они не нашли, и в лесу возле озера Ванзе Генрих собственноручно прострелил Генриетте сердце, а себе выпалил в рот.
Так же в лесу покончил с собой польский писатель Станислав Виткевич (1885 – 1939). Убегая от наступавших с запада немцев, он вместе со своей любимой, которая была намного моложе его, оказался в тупике, потому что через этот же лес, только уже с востока, наступали большевики. У писателя был флакон с люминалом. Таблетки он отдал возлюбленной, а сам решил воспользоваться бритвой. Женщина выпила все таблетки и уснула. Виткевич попробовал перерезать себе вены, но потерпел неудачу, после чего ударил лезвием по артерии и истек кровью. А вот женщина на рассвете очнулась, наверное, молодость дала о себе знать, да, возможно, в глубине души она и не желала смерти. Возлюбленная погибшего Виткевича прожила долгую жизнь.
Прославившийся при жизни японский писатель Арисима Такео (1878 – 1923) влюбился в двадцатишестилетнюю эмансипированную журналистку, которая была во власти суицидальных комплексов. Да и сам писатель в своих произведениях нередко воспевал смерть во имя любви. И вот Акико уговорила Арисиму осуществить на деле то, о чем он только писал. И вот когда на сцене возник муж Акико, который стал шантажировать писателя, требуя от него денежной компенсации за моральный ущерб, влюбленные уехали в горы и там среди чудесной природы покончили с жизнью. В предсмертном письме к другу Арисима написал: «Я нисколько не сожалею о своем намерении и чувствую себя счастливым. Акико испытывает те же чувства… Ночь прошла. В горах льет дождь. Мы долго гуляли и промокли до нитки. Сделаны последние приготовления. Нас окружает величественный пейзаж – мрачный, трагический, а нам легко и радостно, словно мы дети, увлекшиеся какой-то веселой игрой. Раньше я не знал, что смерть абсолютно бессильна перед любовью. Наверное, тела наши отыщут, когда они уже совсем истлеют». И он оказался прав. Их нашли через месяц в горной хижине, в которой они повесились.
Стефан Цвейг (1881 – 1942), казалось, не имел никаких оснований, чтобы распрощаться с жизнью по своей воле. Жил себе в Рио-де-Жанейро с молодой женой, которая прежде работала у него секретарем. Но в самый разгар войны он уверовал, что мир уже стоит на пороге гибели, и решил уйти из жизни. Преданная Лота не стала с ним спорить, тем более что ее замучила астма. Они задумали отравиться снотворным. И сделали это.
А полвека спустя в Лондоне таким же способом отравились немецкий писатель Артур Кестлер (1906 – 1983) и его жена Синтия. Писатель быль неизлечимо болен с целым букетом таких недугов, которые не оставляли ему шансов прожить даже полгода. Зато Синтия была молодая и здоровая женщина, по возрасту она годилась ему в дочери. Идея самоубийства у Кестлера возникла не вдруг, он готовился к этому целых девять месяцев, приводя в порядок все свои дела, а заодно стал членом «Общества за право умереть с достоинством», где ему выдали инструкцию, как действовать по всем правилам. Он собирался уйти из жизни один, но Синтия решила иначе и, когда муж уже потерял сознание, выпила барбитурат. Мертвого Кестлера обнаружили в кресле с рюмкой коньяка в руке, Синтия лежала на диване, а рядом на столике – рюмка виски.
Все же у каждого из этих писателей была какая-то причина, чтобы остановить свой выбор на самоубийстве. А есть ли такая причина у меня? Личные проблемы не столь уж безнадежны. Депрессия? Конечно, депрессия ведет к потере способности писать, а не писать – это все равно, что умереть, но ведь всякая депрессия имеет свое начало и свой конец и когда-то она пройдет. В своем роду я не имел самоубийц, как Хемингуэй, Маяковский, Сильвия Плат или Чезаре Павезе, у меня нет никаких оснований, чтобы умирать прежде времени, разве что одно, о котором сказал Сенека: «Раньше ты умрешь или позже – не столь важно, хорошо или плохо – вот что важнее. А хорошо умереть – значит избегнуть опасности жить недостойно. Кроме того, жизнь не всегда тем лучше, чем продолжительнее, тогда как смерть всегда чем продолжительнее, тем хуже. Пока живешь, думай о похвале окружающих, когда умираешь – только о себе самом». Хорошо умереть – это не каждому дано, умереть так, чтобы это стало предметом споров, сплетен и фантазий с множеством вероятных и невероятных версий – вот по-настоящему интересная перспектива. Я задумывался об этом все чаще. «Самоубийство надлежит осуществлять, когда ты счастлив», – изрек в древности римлянин Валерий Максим, и с ним много столетий спустя целиком согласился Поль Валери: «Самоубийство позволительно лишь тем, кто абсолютно счастлив». «Хорошо уходить из жизни, – писал Плутарх, – когда у тебя всего вдоволь, когда ты счастлив и материально, и духовно…» Именно так поступил голландский писатель Адриан Венема (1941 – 1993), заблаговременно оповестивший о своем самоубийстве, заявив, что главного в своей жизни он уже достиг и напрасно ожидать чего-то большего. Раздав несколько интервью на эту тему и подогрев публику, выпил шампанское с барбитуратом.
Мог ли я назвать себя абсолютно счастливым? Всего ли достиг, к чему стремился? Действительно ли мне уже не стоит ожидать от жизни чего-то большего? На все эти вопросы у меня был отрицательный ответ. Очевидно, этим величайшим счастьем, которое должно было подвигнуть меня к самоубийству, была только Марьяна. Умереть от избытка счастья и тем самым остановить мгновения счастья навеки… Это то, на что была готова Леся. Я же только созревал для этого.
– … я так ее и не трахнул, понимаешь…
– Кого? – вздрагиваю я, отряхивая с себя меланхолические бредни.
– А я, блин, о ком уже полчаса тебе долблю? – ощеривается Олько, и кажется, он прав в гневе своем, ведь я вырубился, хотя и не до конца, и отдельные проблески смысла из его рассказа все же проникали сквозь туман моих грез, и, напрягшись, я сумел сложить мозаику, в которой читалась история про девушку, которую Олько снял в «Вавилоне», с неделю водил по ресторанам, затем привез к себе, а она его все равно оставила с носом.
– Ну и что, – пожал я плечами, – подумаешь – трагедия, если бы я зацикливался на таких вещах, то давно бы уже импотентом мог стать. Это нормальная вещь.
– Ты видишь в этом что-то нормальное?
– Разумеется. Любая девушка, которая с тобой тусуется, рано или поздно отдастся. Вопрос лишь в одном: когда? Если она на тебя особо не рассчитывает, ты получишь ее во всех позах в день знакомства, но если вдруг увидит в тебе жениха с перспективой, то, согласно моральным устоям галицкой барышни, отдаться можно не раньше чем через месяц после знакомства.
– Ты хочешь сказать, что ты целый месяц мог стежки утаптывать, чтобы ее трахнуть?
– А почему бы нет? Ты же не на безлюдном острове. С одной куртизанишь, за пальчики держишь, через недельку уже в губки целуешь, через две и за попку взялся, а в то же время, давая новенькой отдохнуть от твоих ухаживаний, премило вставляешь своей старой кадре.
– Насчет старой кадры я понимаю. У меня всегда найдется для легкого перепихончика какая-нибудь смирная телка. Но ведь я сексуальный альпинист. И мне необходимо постоянно покорять вершины – одну за другой. Я не могу убивать на бабу больше недели времени. Это противоестественно.
– Случается, что и альпинисты срываются со скал. Однако ты в куда лучшем положении, ведь даже сорвавшись, остаешься жив-здоров и снова готов к покорению вершин.
– Все равно западло, старик. Неделя – самое большее, на что я способен. После сдают нервы. Взгляни на этих двух, – кивнул на столик, за которым сидели две фигуристые девушки, – ты их знаешь?
– Нет. И к тому же у меня нет желания заводить новые знакомства. Мне, знаешь ли, со старыми надо разобраться.
– А кто говорит знакомиться? Я спросил только, знаешь ли ты их. Нет так нет. Но ведь для старого дружбана ты мог бы…
– Кажется, мы договаривались, что зайдем в «Вавилон» выпить вина и только.
– Ну да! Так и есть. Мы сидим. Пьем вино. Да ты не нервничай. Грудь у нее что надо. Ум-м-м… Там есть над чем поработать. И та вторая ничего себе. Задница, по-моему, именно такая, как ты любишь.
– Не заводи.
– Что, уже и поговорить нельзя? Давай – за успехи на любовном фронте. Классное вино. Вот она сейчас наклонилась – видишь? – хо-хо, вставил бы я ей пистон. Прямо здесь. На столе. И почему у нас все не как у людей? Вот в Риме – там, где киряли, там и вставляли. Благодать. А тут ходи, выискивай, к чему бы такому даму припереть. А ты заметил, как они постреливали в нашу сторону? Не заметил? Ха! А я заметил. Еще и переговаривались при этом.
– Ты кроме ебли можешь еще о чем-нибудь думать?
Олько задумался. Спустя минуту ответил:
– Могу. Но не желаю. Я ведь не писатель, как ты. О чем мне еще думать? Знаешь, для чего ебля существует? Для того, чтобы жить полноценной жизнью. А жизнь зачем? Для того, чтобы ебаться. А все остальное – всего лишь проебывание жизни. Запиши, писатель. А то я потом забуду. Вот возьми салфетку. Я уверен, эти две красавицы думают точно так же.
– Ты непременно хочешь это проверить?
– Да ладно, ведь мы пришли сюда лишь затем, чтобы выпить. Еще по бутылке?
– А мы уже две выдули? – удивился я.
– Гей! Где ты? Опустись на землю. Мы сидим здесь уже больше часа. Нормальный темп. Бармен! Красное шампанское! Два!
– Какого черта ты горланишь?
– Я знаю, что делаю. Они сейчас на нас смотрят. Не оглядывайся. Все идет по плану.
– По какому в жопе плану? Мы так не договаривались!
– План пишется на небесах. И ничего здесь не поделаешь. Так назначено быть. Ты бы видел, какими завистливыми глазами они провожали бармена! Старик, они наши! Две бутылки шампанского – и они наши. Между прочим, расскажу тебе, как я однажды закадрил деваху, которая, в свою очередь, мне целую неделю крутила динамо. Замечательный способ, может, и тебе когда-нибудь пригодится. Так вот, я подговорил одну свою знакомую, а она писаная красавица, ноги от зубов, ровные, как два рельса, и она появилась в «Вавилоне» именно тогда, когда я сидел там с Марьяной.
– С какой Марьяной? – вспыхнул я.
– А в чем дело? С чего ты кипятишься? Ты ее не знаешь.
– Ну… я просто спросил. Продолжай.
И в самом деле – почему я так отреагировал на это имя? Мало ли Марьян живет во Львове?
– И вот заходит писаная красавица. Мини-юбочка, фигура на все сто баксов, а сиськи на все двести, и, виляя бедрами, вдруг подплывает к нам и со словами: «Ну, скотина ты, Ольчик!» – отвешивает мне о-о-оглушительную оплеушину. А затем уходит.
– И все?
– А разве требовалось что-нибудь еще? Ты прикинь, что подумала Марьяна! Она подумала: блин, если он променял меня на такую кралю, значит, я для него не кто-нибудь, значит, он действительно меня полюбил… Вот как она подумала и в тот же вечер отдалась мне на Кайзервальде на скамейке. И это при том, что часом раньше не позволяла себя даже за коленку цапнуть.
– И что было дальше? Ты ее бросил?
– Как и всех остальных. Капец, они пожирают нас глазами, я иду на абордаж.
Олюсь неисправимый. Он как торпеда, которая наведена на цель. Его уже ничто не остановит. Я могу, конечно, встать и уйти, но ведь я настроился провести этот вечер здесь. Кто знает – возможно, это мой последний вечер в «Вавилоне». Что за чушь? Почему последний? «Потому что осталась неделя… неделя до восьмого августа», – шипит вкрадчивая гадючка. Я пытаюсь отогнать эту мысль, но тщетно, она зависает и жужжит возле уха. Остается напиться вволю. А Олюсь уже ведет к нашему столику девушек, знакомит, угощает, и я волей-неволей, а должен прервать свои сокровенные размышления, чтобы поддержать беседу за столом и плыть, плыть дальше по течению.
А почему, собственно, я протестую? С высоты прожитых лет именно такие вечера и развлечения припоминаются лучше всего – где пил, с кем пил, кого любил, и совсем невозможно вспомнить то, что представлялось мне самым важным – сидение за письменным столом. Может, в этом и заключен смысл жизни – поймать елико возможно удовольствий, маленьких радостей и услад, увидеть тьму-тьмущую роскошниц вживую, а не в журналах, пережить многое множество любовных романов, замешанных на скандалах, интригах, получить десяток раз в морду и каждый раз от другой, оплатить фальшивые аборты, выпрыгнуть из окна в классической ситуации «муж вернулся из командировки», получить в рожу, но уже не от дамы, а от соперника, проснуться утром и увидеть в своей постели страхолюдину, влюбляться каждую весну по сами уши и уединяться каждую осень, уразумев, что это была не настоящая любовь, пить вино с девушками, с которыми хорошо пьется и приятно болтать, к тому же не напрягаясь поиметь их, валяться на морском пляже в Болгарии или Хорватии, цедить вино и заниматься любовью на песке, заниматься любовью в море со знакомой русалкой и ни о чем не переживать, жить, как беззаботный махаон, а затем, в один прекрасный день, когда ты сполна испробовал все удовольствия, в последний раз пригубить лучший из цветов и упорхнуть в ничто. И здесь я, собственно, осознал, что уже подошел к пределу насыщения всем этим по горло, а идти по новому кругу нет никакого желания, баста, я пресыщен всем окружающим.
Зря обольщаются самоубийцы, наивно полагая, что их смерть вызовет невероятный резонанс и явится для всех потрясением и укором, неотступно преследующим их до конца жизни. Я знал, что это неправда, поэтому даже в мыслях не допускал какие-то катаклизмы с покаяниями, зато хорошо представлял комические сцены со своими бывшими любовницами, которые, узнав, что я покончил с собой в обществе прекрасной юной девушки, переживут мгновенный шок. Это будет как вспышка молнии, в свете которой их бурная фантазия вырвет из мрака небытия прорву версий, и каждая обездоленная станет утверждать, что только ей открылась истина и только ей известна подлинная причина. Иногда стоит умереть лишь ради этого похоронного фейерверка озарений.
Глава четырнадцатая
1
Сколько бы раз Марьяна не оставалась у меня на ночь, каждый раз с вечера говорила «нет», а ночью шептала «да», чтобы утром ни единым намеком не дать понять, что она делала это осознанно, а не во сне, чудном сне, сказочном сне, незабываемом сне, осиянном неизменными свечами, о которых она тоже ничего не помнила.
Была в наших с ней отношениях еще одна особенность, также навевающая мысли о тайном и загадочном: она никогда не позволяла провожать себя домой, мы всегда расставались на остановке «седьмого» автобуса, из чего я строил догадки, что жила она на Майоровке. Ни единым словом она также не обмолвилась про свою семью, и когда я однажды спросил, подумала ли она о том, как переживут родные ее самоубийство, Марьяна лишь рассмеялась и перевела разговор на другую тему. Все это весьма интриговало меня, однако я не предпринимал никаких попыток раскрыть тайну, пока не подвернулся удивительный случай.
Как-то вечером мы забрели в бар на Лычаковской. Никогда раньше я здесь не бывал и не имел малейшего представления о здешней публике, и вот как только мы вошли в зал, Марьяна схватила меня за руку и потащила обратно к выходу. Это было так не похоже на нее, что я не сразу подчинился ее воле и пытался притормозить, требуя объяснить, в чем дело, но она нервно прошипела, что скажет на улице, и выволокла меня на тротуар, однако и дальше продолжала тащить за руку, прибавляя шаг, словно убегая от кого-то без оглядки. Я видел, как она взволнованна, и не мог взять в толк, что же случилось, а на все мои вопросы слышал один ответ: «Потом!» Успокоилась только когда мы оказались на остановке трамвая, тогда наконец Марьяна тревожно оглянулась и, убедившись, видимо, что нас никто не преследует, устало улыбнулась.
– Ну, так ты все же объяснишь мне, что это было? – спросил я.
– Ничего страшного не произошло. Я увидела своего отца.
– Это ты от отца так драпанула?
– Представь себе. Он у меня жуткий принципал, и я с ужасом себе представляю, что могло бы случиться, если бы он увидел нас вместе.
– Неужели ты думаешь, что он захотел бы общения, увидев нас вместе?
– Почему бы и нет? Вы с ним почти одногодки. Ты не представляешь, какой он зануда. Он хочет все знать: где я бываю, с кем, не много ли себе позволяю…
– И что же ты ему рассказывала?
– Ничего. Моя личная жизнь принадлежит только мне. Жаль, что он этого не понимает.
– А кто он у тебя?
– Профессор. Нет ничего хуже отца-профессора. Пока ты еще маленькая, ты его не интересуешь, ведь он постоянно занят своими делами, а когда начинаешь взрослеть, его вдруг прошибает, он начинает совать нос во все твои дела, интересоваться, не попала ли ты в плохую компанию, давать глупые советы и пугать абортами.
– А мама?
– Ну, мама, совсем другая… она меня лучше понимает…
– А чем она занимается?
– А что это тебя вдруг так заинтересовали мои родители?
– Ты ведь никогда ничего о них не рассказывала. Это выглядело странно. Ты ни разу даже словечком о них не обмолвилась.
– Я это нарочно. Боялась, что ты начнешь душу травить, начнешь заливать: а ты подумала о своих несчастных родителях? А как они переживут твое самоубийство? Вот этого я боялась. А теперь не боюсь, потому и рассказываю.
– И чем же занимается твоя мама?
– Мама? Мама – врач. У меня прекрасная мама.
– И как она смотрит на то, что папанька по вечерам заседает… ну, ладно на кафедре, а то ведь – в баре?
– Ну, это очень редко случается. Я была просто ошарашена, увидев его там. Кажется, он все же нас не заметил. Боже, я вся дрожу.
– Неужели это было бы так страшно, если бы ты нас познакомила?
Марьяна посмотрела на меня так, словно я задал ей вопрос по тригонометрии.
– Ты забыл, сколько мне лет? Я, заметь, еще даже паспорт не получала? Я так себе думаю, что он со своими связями мог бы тебя даже привлечь к ответственности. За растление несовершеннолетних. Тоже мне придумал: познакомить!
И все же какая-то назойливая мысль мне подсказывала, что она говорит неправду, слишком уж театрально, неискренне звучали ее реплики, а уже через несколько минут я был почти уверен, что она пудрит мне мозги. Это ощущение окрепло после того, как мы вышли из «двойки» на конечной остановке и я привычно двинулся по направлению к остановке ее автобуса. Марьяна настояла, чтобы в этот раз проводить сначала меня. Такого никогда раньше не было, и, ссылаясь на вечернее время, я не соглашался, но Марьяна все же настояла на своем и не успокоилась, пока не усадила меня на винниковский автобус. Делала вид, что причиной столь необычного поведения якобы была моя простуда, и мне необходимо быстрее добраться домой, поскорей принять аспирин. Внешне в такой заботе не было ничего удивительного, женщины любят иногда проявлять свои материнские инстинкты, к тому же я действительно несколько раз усердно чихал и сморкался в платочек. И все же червь сомнения продолжал шевелиться во мне, и я, не доехав до Винников, сошел на ближайшей остановке, пересел на львовский автобус и вернулся к тому же бару, откуда мы пулей вылетели час тому назад.
В те годы баров было еще маловато, и обычно все они по вечерам набивались под завязку. Этот не отличался от других, за столиками сидело, по меньшей мере, два десятка вероятных папенек Марьяны. Я с трудом нашел свободное место за столиком в самом углу, где сплетничали две дамы в возрасте от тридцати до сорока пяти. В своей далеко не бедной на приключения жизни я не имел счастья познать женщину бальзаковского возраста. Какими женщины бывают в тридцать пять или сорок лет, я не имел малейшего представления, но самое интересное – и не стремился это познать. Такие женщины почему-то интересовали меня в юности, однако мне так, как Бальзаку, не пофартило, хотя я, наверное, с удовольствием пожил бы под крылышком какой-нибудь матроны в те времена, когда прятался от КГБ во Львове без прописки, а значит, и без работы. Судьба легкомысленно подсовывала мне одних только девушек от пятнадцати до двадцати восьми, при этом большинство из них имели от двадцати до двадцати четырех. Одно, что я хорошо усвоил, это то, что двадцативосьмилетняя девушка – у меня таких было всего две – очень далека от идеала ласкового котенка и смахивает больше на пантеру. Девушки, которым перевалило за двадцать пять, уже носят в себе привитый росток старой девы, который до двадцати восьми разрастается в пышный розовый куст с колючими шипами. Она уже не девушка, но еще и не старая, однако приручить ее так же непросто, как и взрослого кота или жеребца, в ней бурлят силы столь могучие, что подчинить их слишком тяжело, и надо быть отменным ковбоем, чтобы объездить такого мустанга. Излишне говорить, что у меня не было никакого желания терять время на эту утомительную процедуру, и при первом же случае я спрыгивал на полной скорости.
Естественно, что обе дамы не будили в моих джинсах никаких эмоций. Я заказал бокал «Медвежьей крови» и сосредоточенно потягивал вино, сканируя столик за столиком в попытке вычислить папаньку Марьяны. Как я уже сказал, практически каждый из двух десятков мужчин моего возраста мог быть ее отцом, если он вообще здесь был, а я почему-то слишком засомневался в этом. У меня сложилось впечатление, что вовсе не от отца родного так стремительно рванула Марьяна, а от кого-то другого, с кем ни за что не хотела меня познакомить. Кто бы это мог быть? Молодых ребят здесь вообще не было – в этот бар молодежь наведывалась редко. Кто еще мог быть такой, с кем моя встреча могла испортить Марьяне настроение? Настолько, что она пожелала убедиться, что я сяду в винниковский автобус и не вернусь обратно. Разумеется, она почувствовала, что я могу это сделать. Мои размышления прервали соседки по столику:
– Простите, что мы вас отвлекаем, но у одной из нас сегодня день рождения, и мы бы хотели угостить вас коньяком.
– А то вы пьете что-то несерьезное, – добавила ее подруга.
– Мне нравится процесс пития, – сказал я, – поэтому пью вино. И у кого из вас день рождения?
– А вот угадайте.
– Вы обе такие праздничные, что это трудно сделать.
– А вы все же попробуйте. И позвольте мы вам нальем коньяку.
– Боже упаси. Я пью только вино.
– И все же мы хотим вас угостить. Бармен, бутылку «Медвежьей крови»! – певуче попросила дама, и через минуту раскупоренная бутылка красовалась на нашем столе.
И снова я вынужден употребить выражение «в те времена». Ну да, в те времена во Львове продавалось чудесное болгарское вино «Медвежья кровь». То, что продается под этим названием сейчас, – просто моча. Мы выпили и сразу же познакомились. Дамочек звали Оля и Галя. Обе были в теле, с пышными бюстами и накрашены так, что их бокалы краснели от помады. Я живо представил, как, выходя из туалета, они подкрашивают губы, растягивая их в глуповатой улыбке, затем причмокивали ими, кончиком языка проводили по зубам, слизывая следы помады, наконец припудривали носы и только тогда выходили на люди. Не имея к тому ни настроения, ни особого желания, я все же вынужден был поддерживать с ними общение, и тут-то всплыла любопытная вещь. Они, оказывается, видели нас с Марьяной, когда мы зашли в бар.
– Это была ваша дочь? – спросила Галя.
Я подумал, что отрицать не было смысла.
– Симпатичная, – сказала Оля.
– Не то слово, красавица, – уточнила Галя. – Студентка?
– Закончила десятый класс.
– О, вы такой молодой отец. А почему она так быстро вывела вас отсюда?
– Не знаю. Возможно, кого-то увидела, смутилась… Я не интересовался.
– Вы, наверное, живете отдельно?
– Да. Мы с ее мамой развелись.
– А мы так и подумали. – Ну, это же надо, какие провидицы! – Но кого тут она могла увидеть? Здесь одни мужики нашего возраста…
– А что, с того времени, как мы ушли, публика не изменилась?
– Практически нет.
– Погоди, кажется, кто-то вышел.
– Ах да, один мужчина вышел. И при этом он не прощался. Он сидел за соседним столиком в этой вот компании и, когда уходил, сказал, что скоро вернется.
Ну и что? – подумал я. Это ничего не меняет. Ведь мне все равно не светит найти здесь того, от кого улепетывала Марьяна. Если бы не эти настырные именинницы, я бы уже слинял, но они настойчиво уговаривали с ними пить, да еще и отгадывать, у кого же из них сегодня день рождения. Их стрекотание начало меня нервировать. Наконец обнаружилось, что именинница – Оля. На радостях, что я угадал, она вытащила меня из-за стола потанцевать с ней, и был этот танец с вихляниями и прижиманиями, от чего я почувствовал огромное желание юркнуть в туалет и исчезнуть, настолько нестерпима была моя ноша в танце. Изрядно захмелевшая от коньяку Оля выписывала ногами кренделя и повисла на мне, прижавшись животом. От нее несло алкоголем, духами, потом и салатом оливье. С трудом отбыв эту танцевальную каторгу, я вернулся к мысли о побеге и решил сделать это немедленно. Поднялся из-за стола и направился к туалету. И в ту же минуту в бар зашел мой старинный приятель Мирон. Мы обнялись, и выяснилось, что это именно он исчез на полтора часа после нашего с Марьяной странного появления в баре. Оказалось, он тогда махал мне рукой, однако Марьяна развернула меня к выходу слишком быстро, чтобы я смог увидеть тот приветственный жест. Мирон возвращался к своей веселой компании и потянул за собой. Я не сопротивлялся, ведь назойливые именинницы мне уже порядком надоели.
Мирон был хирургом, и неудивительно, что за столом сидели одни медики, и все они были уже навеселе. И вот один из них, подмигнув мне, спросил с двусмысленной улыбкой:
– Так вы, пан Юрко, выходит, невинных юниц соблазняете?
– Это каких же? Вот тех? – кивнул я в сторону Оли и Гали.
– Нет, тех, с которыми вы сюда заглядывали и сразу вылетели, как ошпаренные.
– Так ведь у Юрчика такая специализация, – поспешил на выручку Мирон, – творческая молодежь. Одни пацанки, то есть юные поэтессы.
– О, а я и не знал, что Марьяна еще и поэтесса, – сказал тот самый врач, а меня будто током ударило.
– Так вы ее знаете?
Сказать, что у меня в ту минуту сердце билось, как заяц в силке, значит – ничего не сказать.
– Пожалуй, пан Юрко, так, как вы ее знаете, я ее не знаю. Не переживайте. – Язык у него заплетался. – Она моя пациентка. Вот и все.
– У нее что-то с мозгом? – спросил Мирон.
– Логично. Мои пациенты все с мозгом. Впрочем, давайте выпьем. К нам присоединились два милых сотрапезника. Пан Юрко, что вы пьете? Вино? Бармен! Пан Юрко, заказывайте.
Я подумал, что вполне возможно я и сам заделаюсь его пациентом от пережитого шока. Мне не терпелось расспросить, от чего именно страдает Марьяна, однако беседа пошла в таком русле, что вклиниться не было никакой возможности. Пока я напивался, успел хорошенько осознать: человек, которого испугалась Марьяна, был врач… Пьянка затянулась настолько, что я отправился спать к Мирону. Утром, когда он собирался на работу, я признался ему, что хочу разузнать все про Марьяну-пациентку, и Мирон дружески предложил поехать с ним в больницу.
Ехать куда-то с утра после пьянки, предварительно не почистив все перышки дома, не входило в мои привычки, однако выхода не было, железо нужно ковать вовремя.
Мирон с нейрохирургом Ростиславом работал в одной больнице, хотя и на разных этажах, а поскольку у Мирона был свой персональный кабинет, встреча состоялась у него.
– Юрчик хочет все узнать про Марьяну, – сказал Мирон, наполняя рюмки коньяком. – Ты же понимаешь, они встречаются.
– Да, она классная девушка. Не по летам развита. А что, вы так сильно к ней привязались?
– Да, это так. Мы действительно встречаемся.
– Юная поэтесса, понимаешь? – подмигнул Мирон.
– В самом деле, бывает так, что талант, подобно сверхновой звезде, вспыхивает у людей обреченных… – Ростислав внезапно умолк, словно испугавшись, что сболтнул лишнее, затем достал из пачки и поднес ко рту сигарету, попробовал закурить, но тщетно, спички в его пальцах ломались, пока Мирон не подсунул ему зажигалку, затем откашлялся и добавил: – Она больна. Неизлечимо.
Я оцепенел и чувствовал, как душа моя проваливается в неисповедимые тартарары моего тела вместе с сердцем. Наверное, ужас, отразившийся на моем лице, поразил и Ростислава.
– Видите ли, пан Юрко, ситуация весьма деликатная. Я бы не должен вам об этом говорить. Но вот Мирон… а вы его приятель… Короче, если вы строили себе какие-то планы с ней, то… – он выпустил дым поверх моей головы и продолжил: – …не стоит. Она обречена. Мы сделали магнитно-ядерный резонанс мозговой ткани и обнаружили неоперабельную опухоль мозга. Наверное, вы замечали у нее резкие перепады настроения, странную привычку подолгу смотреть в одну точку и не слушать того, что вы ей говорите, а на ваши вопросы отвечать с некоторым опозданием. Иногда по ночам случаются провалы памяти и проявления сомнамбулизма, когда она совершенно не осознает собственное поведение. Сколько раз она при вас теряла сознание?
– Два… нет, три…
– Ну, вот… однажды она потеряет сознание и больше не придет в себя…
– И сколько ты ей даешь? – спросил Мирон.
– Здесь угадать невозможно, это может случиться и через неделю или две, а может и через месяц. В любом случае отмерено ей плачевно мало.
– Она об этом знает? – спросил я.
– Дело в том, что я дал ей другую выписку, в которой нет ни слова об опухоли. Настоящий диагноз получила на руки ее мама. Не знаю, каким образом это прочитала Марьяна… Она пришла ко мне, сунула под нос диагноз и заставила все ей объяснить.
– И вы ей сказали, что надежды нет?
– Я так не мог сказать. Объяснил ей, что бывают случаи, когда с такой опухолью люди жили долгие годы. Но она сразу поставила меня на место. Оказывается, прежде, чем прийти ко мне, она провела день в медицинской библиотеке. Так что… была достаточно информированной… ее интересовало лишь одно: не поздно ли оперировать. Тогда я предложил ей лечь на новое обследование. На девяносто девять процентов я был уверен, что операция уже ничего не даст, и все же хотелось абсолютной определенности.
– Когда это было? Когда вы обнаружили опухоль? – спросил я.
– В феврале.
В феврале я получил первое письмо от Марьяны. Мне стало не по себе, я не мог овладеть собой, и, когда Мирон подал мне рюмку коньяка, я вмиг опрокинул ее.
– А когда она легла к вам?
– В апреле. Она пролежала у нас две недели, я показал ее еще нескольким специалистам, даже выслал ее данные знакомому коллеге в Австрию. Но ответ отовсюду был неутешительный: поздно. Если бы родители хватились раньше и операция была сделана в детстве, она была бы спасена. Но Марьяна росла в неблагополучной семье… Отец их бросил, а мать… мать у нее алкоголичка… ее воспитывала и содержала бабушка. Недавно бабушка умерла.
– Она рассказывала мне об отце-профессоре и матери-враче.
– Отец-профессор… – Ростислав горько улыбнулся, – отец ее был простой каменщик. Мать – швея… в периоды запоев часто избивала дочку, и она каждый раз сбегала к своей бабушке, а затем стала у нее жить. Где-то там, на Майоровке, стоит маленькая, вросшая в землю допотопная хатка, которую чудом не снесли при застройке. В ней Марьяна и живет. Одна. Бабуля умерла и оставила ей какие-то небольшие сбережения да горсточку разных золотых мелочей. Если мерить на глаз, было у нее того добра эдак долларов на двести. Марьяна принесла мне те побрякушки, высыпала на стол и спросила, хватит ли на операцию. Но что я мог ей ответить? Я мог сказать, что не хватит и всех сокровищ мира, но вместо этого лишь покачал головой.
– То есть вы оставили ей надежду на то, что операция вообще возможна, если бы раздобыть средства?
– Тогда я просто не мог… не мог из себя выдавить, что надежд никаких не осталось… Глядя на эту юную чистую красоту… Я как только мог оттягивал этот приговор… Но, в конце концов, вынужден был сказать все как есть. От нее тяжело что-нибудь утаить. Она мгновенно распознает неправду.
– Это страшная смерть?
– В таком возрасте любая смерть страшна.
– А смерть от опухоли мозга?
– Она может умереть с ужасными болями, а может в какое-то утро просто не проснуться… Уснуть сегодня и не проснуться завтра…
– И это она тоже знает?
– Да.
– С какого времени?
– В конце мая я решился сказать ей правду.
В последние дни мая мы впервые встретились.
– С той поры у нее появилась боязнь сна, особенно ночью… – продолжал Ростислав. – По ночам она часто совсем не спит, читает, и только на рассвете засыпает, когда уже настолько изнурится, что ей все становится безразличным. Думаю, что ради ее спокойствия этого не следовало бы говорить.
– И что было потом?
– Она… только между нами… попросила у меня яду.
– Вы дали?
– Я же врач, а не палач.
– У вас не возникало ощущение, что гуманней было бы избавить ее от лишних мук?
– Я предложил ей госпитализироваться, когда… когда ей станет хуже… по крайней мере, обезболивающие средства я гарантировал. Однако, сдается мне, мания самоубийства слишком крепко засела в ее головке. На мое предложение она ответила истерикой. Успокоить ее стоило больших трудов. Последний раз она побывала у меня на прошлой неделе. Сказала, что никогда больше не ляжет в больницу и никогда не будет терпеливо ожидать смерть. И, знаете… я верю ей… но я здесь бессилен…
– И на когда назначен ее очередной визит к вам?
– Сейчас… – он полистал блокнот, – у меня записано… восьмого августа… в десять…
2
Я брел по городу с таким чувством, будто мне на голову обрушился весь каменный Львов, я нервно улавливал любой малейший звук, каждое еле слышное шевеление воздуха, а человеческие голоса и грохот трамваев сотрясали меня, сливаясь в дикой какофонии так, что мне хотелось зажать уши ладонями и бежать напрямик через дворы и переулки подальше от этого гама, скрежета, лязга, грохота и хохота, бензинного смрада, удушающих испарений, заплеванного асфальта. Всю дорогу я думал только о Марьяне. Все то, что раньше в ее поведении представлялось мне сумасбродством, странным капризом или прихотью, теперь укладывалось во вполне понятную схему. Она решила покончить самоубийством не потому, что разочаровалась в жизни, а из-за боязни ожидания своего страшного конца. А поскольку имела поэтическую натуру, она пожелала все театрализовать. Подговорить своего сверстника представлялось ей нереальным, зато я, на ее взгляд, для этого всецело подходил. Остановившись на моей кандидатуре, она затеяла со мной переписку с одной целью: увлечь собой, искусить и подчинить мои чувства настолько, чтобы я ради нее стал готов на все. И все же она охотилась не за мной, а за тем, что я всегда старался уберечь и защитить от любого внешнего вмешательства – за писателем во мне. Приколов мою красивую смерть, как брошь, себе на воротник, она не прочь войти вместе со мной во врата вечности, а иначе ее кончина была бы будничной и обречена на безвестность. Я же скрашивал этот переход, превращал его в романтичную легенду и словно бы гарантировал, что имя ее останется в истории, как оставались имена всех женщин, составивших компанию известным самоубийцам.
И чем больше я размышлял об этом, тем глубже овладевало мною отчаяние. Как жестоко она меня обманула! Уродина. И впрямь уродина. Кажется, так она назвала себя еще при первой встрече. Это же подумать только – я уже почти склонился к мысли о собственном самоубийстве. В последние дни я не мог думать ни о чем другом, лихорадочно искал логические обоснования для такого акта, и вот, когда я их уже нашел, вдруг такой удар.
Вернувшись домой, я постелил в саду коврик, расположился с неизменной бутылкой вина и, наскоро опрокинув один за другим два бокала, наконец успокоил взбудораженные нервы и начал размышлять в более спокойном русле. Теперь я отчетливо представлял, что Марьяна готовилась к самоубийству всерьез, она делала это настолько серьезно, что даже вполне удачно сыграла свою любовь ко мне. Но ведь не только страх бесславного ухода в небытие побудил ее на этот шаг, смерть в моем обществе выставляла ее в глазах всех знакомых и родных в образе невинного заблудшего агнца, ставшего жертвой хитрого и коварного сексуального извращенца. Это он, известный ловелас и злой гений, совратил несчастную с праведного пути. А впрочем, почему совратил? Отравил! Подсыпал яду невинной девушке, которая ни сном ни духом не чаяла смерти! А чего, в конце концов, можно ожидать от этого чудовища? Никому и в голову не придет, что на самом-то деле это она искусила меня. Общественное мнение наверняка подвергло бы меня жестокому осуждению, так же, как это произошло когда-то с Артуром Кестлером, обвиненным в принуждении к самоубийству собственной жены. Правду знали бы только врач и ее мать-алкоголичка, и оба они промолчали бы.
– И что теперь? – спросил я у проплывающей тучки с толстой задницей. – Дальше-то что?
Ответа сверху я не разобрал. Как я должен вести себя с Марьяной? Этот вопрос продолжал терзать меня, вызывая в душе то злость, то боль, то неизъяснимую жалость и сочувствие. И тогда я подумал, что нужно довести эту историю до конца, никакого выяснения отношений и обвинений в подлости я себе даже не представлял, все это уже лишено всякого смысла. Я не хотел слышать также ее оправданий или заверений в том, что якобы она меня полюбила.
Когда я кратко изложил Ростиславу историю наших отношений, рассказав и о нашем совместном самоубийстве, запланированном на восьмое августа, он понял, что простой отказ дать ей яду здесь не поможет.
– Зная ее решимость, можно допустить, что она готова будет воспользоваться любыми ядохимикатами или отравой для крыс, а все это можно купить на любом рынке, – сказал я.
– Я так не думаю. Во-первых, она просила у меня яд, который действует безболезненно, а ядохимикаты вызывают ужасные корчи и муки, а во-вторых, где гарантия, что вы не откажетесь пить эту гадость. К тому же проблема не только в жуткой мучительности такой смерти. Я знаю, как она относится к своей внешности, и уверен, что столь ужасного зрелища, какое возникает при смерти от ядохимикатов, она никогда не допустит. С двенадцатого этажа она также не выбросится, под поезд не бросится и даже не вденет голову в петлю.
– В самом деле? Откуда вам все это известно?
– Она еще тогда, в мае, пригрозила, что если я не дам яд, она повесится, и я рассказал ей, что происходит с висельниками, у них расслабляются все мускулы и они опорожняются. Я понял, что вешаться она точно не будет. Хотя, между прочим, петля – едва ли не самый популярный вид самоубийства среди девушек. На втором месте – выбрасывание из окна или с крыши, на третьем – таблетки. Насчет крыши мы уже упоминали, она на такое не пойдет, глотать горстями таблетки, что не дает никакой гарантии, – тоже не для нее. Остается отравиться или вскрыть вены на руках. Но и с вскрытием вен все не так просто, кровь может свернуться, а поэтому следует находиться в теплой ванне. Там, где она живет, не только ванны нет, но даже и водопровода.
Вспомнились ее слова: «Я проштудировала много литературы». Поверил! Она все про самоубийство узнала от своего врача. Я заметил также, что в книжном шкафу Ростислава полно японцев.
– Да, я давал ей читать, когда она лежала в нашей больнице. Просто не было под рукой ничего другого, что я мог бы ей предложить… Из этих книжек она, очевидно, позаимствовала и идею «синдзю». Но вопреки всему она крайне хочет выглядеть не менее привлекательной, чем и при жизни… У нее слишком сильна мания самоубийства. Настолько сильна, что она вряд ли от нее избавится. И все же я очень хотел бы отвратить ее от этого намерения, как-то помешать. Я верующий человек и считаю, что на все должна быть воля Божья. Вы меня понимаете?.. Я дам ей снотворное, но вы обещайте мне, что не откажетесь от того сценария, который она составила. Пойдете с ней на тот остров, выпьете таблетки. Но перед тем вы примете другую таблетку, она нейтрализует снотворное. Как только она уснет, позвоните мне, и мы ее заберем. Иного способа пресечь ее попытку самоубийства и положить в больницу я не вижу. Хотя, если говорить правду, таких, как она, отправляют в психиатрическую больницу.
– Но ведь вы же этого не делаете?
– Видите ли, я слишком ей симпатизирую.
– Я не знаю, смогу ли все это сделать… и не выдать себя…
– Должны. Если я откажу ей и не дам «яду», она все равно что-нибудь раздобудет. Но если вы оставите ее сейчас… Я не могу спасти ее тело, однако хочу спасти душу. Если Марьяна что-то значит для вас, то поможете мне.
– И как выглядят эти таблетки?
Ростислав достал из шкафа прозрачный флакон с таблетками голубого цвета и поколотил ими.
Глава пятнадцатая
1
«Земляная оса аммофила охотится на гусеницу с одной только целью: затащить ее в свою норку и отложить в гусенице яичко. Но перед тем оса должна ее парализовать. Тело гусеницы состоит из двенадцати колец и головы. Центральная нервная система включает в себя брюшную цепочку с нервными узлами в каждом кольце; в голове содержится большой главный узел, который можно сравнить с мозгом. Вместо одного или трех нервных очагов гусеница имеет все двенадцать. И все они отдалены друг от друга. Каждый узел управляет движениями своего кольца, однако повреждение соседнего очень скоро отразятся и на его деятельности. Есликакое-то одно кольцо гусеницы потеряет чувствительность и способность двигаться, то другие кольца, оставшиеся не поврежденными, еще долго будут сохранять свою подвижность. Очевидно, что одним, двумя уколами гусеницу парализовать не удастся.
В самом начале моих опытов мне казалось, что жало осы нацеливалось всего один раз: на пятое либо на шестое кольцо жертвы. Таким образом, чтобы обездвижить гусеницу, аммофила выполняла один укол в центральную точку, откуда вызванное ядом оцепенение может распространиться и на остальные кольца.
Аммофила челюстями хватает гусеницу за загривок. Конвульсивно извиваясь, гусеница пытается отбиться. Однако осу это не отпугивает. Она держится сбоку, чтобы уберечься от толчков, и вонзает в гусеницу жало, попадая в место соединения первого грудного кольца с головой. Проникнув внутрь, жало остается некоторое время в ране. Наверное, это решающий удар, призванный покорить гусеницу.
Далее оса хватает гусеницу за шкирку на спине, чуть поодаль от головы, и вонзает жало в другое кольцо. После этого она постепенно передвигается по гусенице, прихватывая ее челюстями все дальше и дальше от головы. И каждый раз она погружает жало в следующее кольцо. Аммофила проделывает это с таким спокойствием и аккуратностью, словно бы снимает мерку со своей добычи. Всего девять уколов. Операция протекает гладко: после первого укола гусеница почти не сопротивляется.
Работа хирурга завершена. После этого гусеница затягивает парализованную, однако живую жертву в свою норкуи откладывает в ней яйцо, из которого вылупится личинка, а гусеница станет служить ей логовом и пищей».
$Жан-Анри Фабр,
«Жизнь насекомых»
2
Восьмое августа ничем не отличалось от других дней лета. Утром я вышел на балкон и внимательно смотрел в небо, однако не увидел там ничего похожего на «окно», которое, по словам Марьяны, должно отвориться для нас. Она приехала ко мне в полдень, и я сразу заметил, что она сильно нервничает, хотя и пытается скрыть свое настроение. Она не могла дольше чем на две-три секунды удержать улыбку, однако исправно засвечивала ее, как только мой взгляд падал в ее сторону, движения ее были хаотичны, она не знала, что делать со своими руками, то скрещивая их на груди, то закладывая за спину. Первое, что она спросила, – готов ли я, я кивнул, затем она поинтересовалась, не обманули я ее, готов ли идти до конца, я ответил, что все уже для себя решил и отступать не намерен, и все же она смотрела на меня с подозрением, наверное, я мало походил на человека, который собрался умереть. Трагический актер из меня всегда был никакой.
– Я хочу выпить, – сказала она.
– По случаю такого праздничного события, как наша смерть, я разжился мартини, шампанским и грузинским вином.
– По-твоему, это праздник? – удивилась Марьяна.
– Видишь ли, если день рождения праздник, то день смерти и подавно.
– У тебя и впрямь праздничное настроение, – бросила она с сарказмом. – Такое впечатление, что смерть для тебя игра.
– Прогулка. Цитирую твои слова. Стоило мне осознать это в полной мере, я успокоился и совершенно перестал нервничать.
Она все еще смотрела на меня с некоторым недоверием, наконец полюбопытствовала, написал ли я поэму о самоубийстве.
– Нет. Я предпочел быть банальным. И написал обыкновенное примитивное предсмертное письмо.
– Могу ли я на него взглянуть?
– Вообще-то оно предназначено для чтения после моей смерти. Но, учитывая тот грустный факт, что ты не сможешь с ним ознакомиться, я разрешу тебе его прочесть.
Я протянул ей открытку, приготовленную сегодня утром. «Дорогие друзья! – писалось там. – Хочу сообщить вам, что я решил со всеми вами распрощаться и уйти в мир иной, не ожидая, когда настанет тот день, что мне предназначен. Я сам себе решил выбрать этот день. Это большое преимущество человека, что он может сам себе назначить день смерти. Таким образом, он становится вровень с Богом.
Я ухожу не потому, что мне плохо, не потому, что меня постигли неудачи, не потому, что одолела депрессия. Я ухожу потому, что еще шаг – и я на вершине счастья. Я там, где редко кому суждено побывать. Я достиг всего, к чему стремился, я имел все, что хотел, я взял от жизни столько, что кое-кому хватило бы на несколько жизней.
Я иду от вас не один. Общество мне составила прекрасная дама, дама моих снов, та, о которой я мечтал всю свою жизнь, мы уходим вместе. Если кто-то из вас пожелает когда-нибудь навестить нас, знайте – наш дом за третьей звездой».
У Марьяны дрожали пальчики, когда она вчитывалась в этот шедевр эпистолярного жанра. Я подал ей авторучку:
– Добавь несколько слов от себя. Что, мол, и ты делаешь это добровольно. А то ведь, не ровен час, подумают, что я тебя заставил.
– Никто так не подумает, – проворчала она и ручку не взяла. – Ничего я не хочу писать. И так понятно, что мы сделали это добровольно…
– Тебе, может, и понятно, но ведь найдутся люди, которые захотят во всем обвинить меня, дескать, это я тебя подговорил, а то и заставил или даже отравил тайно, чтобы ты никому не досталась. Такие случаи бывали. Так что, будь добра, напиши несколько слов.
– Тот, кто так подумает, – дебил. Писать для дебилов я ничего не буду.
Ну что же, выходит, я был прав. Я не ошибся, подумав, что она решила мной прикрыться.
Я налил ей мартини, и после второго бокала ее настроение улучшилось, по крайней мере, она немного расслабилась и удобно расположилась на диване, с минутку посидела в мечтательной позе и попросила, чтобы я налил воды в ванну. Купалась она долго, что-то беззаботно напевая, а я потягивал сухое вино, смешанное с мартини и всем нутром ощущал, как во мне закипает обида, я еле сдерживал себя, чтобы не высказать все, что передумал за эти несколько дней, узнав настоящую причину ее суицидального комплекса. Однако я должен был считаться с просьбой Ростислава, и, конечно же, мне было жаль ее, я не мог себе вообразить, что это прекрасное тело через считаные недели будет истлевать в земле. Я злился на нее за то, что была неискренна со мной, ведь я мог остаться с нею рядом до конца, как в классических мелодрамах, я бы скрасил ее последние дни, и это также достойно поэмы, и это наверняка вошло бы в анналы истории. В то же время возникала и другая мысль: а уверен ли ты, что в таком случае она бы выбрала тебя? Нет, она меня выбрала не для того, чтобы я со слезами на глазах выпроводил ее в небытие, а для того, чтобы забрать меня с собой, как утопленница, затягивающая на дно речное полюбившегося ей пловца.
Марьяна вышла из ванной закутанная в полотенце, и, приблизившись ко мне, раскинула руки, полотенце упало и свернулось у ее ног, а она предстала передо мной во всей своей юной красе, и в постели она была сама невинность и даже однажды тихонечко вскрикнула, давая понять, что целочка пробита. Я терялся в догадках, зачем она разыгрывает этот спектакль, однако не был уверен, действительно ли это театр, а что если она и в самом деле любила меня неосознанно, но разве такое возможно?
3
Начинало смеркаться, когда мы подошли к мостику, и, едва ступили на него, я снова услышал голос Чубая, который цитировал «Самоубийство на острове Небесных Сетей» Тикамацу Мондзаэмона:
Вот и Сливовый Мост. Здесь Сугавара-но Митидзане, Вдохновенный изгнанник, Накануне отплытия в ссылку Песню грустную пел: «Не забывай меня, о сад цветущий!» А слива та, что он любил в печали, За ним вослед перенеслась, Один прыжок – и корни в Дадзайфу. Зеленый Мост. Оставленная изгнанным поэтом, Сосна зеленая кручинилась над кручей. В разлуке сохла. Затем она, как слива, сорвалась И улетела к милому поэту. И третий мост – Вишневый. Здесь вишня, обессилев, Как ни старалась вырвать цепкий корень, Все ж не смогла к учителю умчаться. Она увяла, превратившись в тень.Мостик покачивался и скрипел под ногами, после вчерашнего дождя вода в озерке поднялась и залила берега, Чубай в лодочке снова сидел спиной к нам и рыбачил, голос его становился все тише и невыразительнее, а вскоре и совсем растворился в шелесте деревьев, трав и ветра, в молчании тумана.
Мы заняли наше место под плакучей ивой. Я расстелил рядно, разложил бутылки и стаканы, ловя себя на том, что делаю все это с поразительным спокойствием. Марьяну спокойной назвать было нельзя, она протрезвела и снова стала нервничать и, едва я открыл шампанское, сразу протянула свой стакан. Нам обоим требовалось выпить. После первой бутылки она порылась в сумочке и достала флакон. Когда я присмотрелся к нему, сердце у меня остановилось. Это был не тот флакон, что мне показывал Ростислав. На флаконе, который оказался в руках Марьяны, красовался элегантный черный череп с перекрещенными костями. В моей голове с бешеной скоростью замелькали все возможные варианты выхода из этой кошмарной ситуации, но ни один из них не был настолько идеальным, чтобы я мог им воспользоваться. Тогда я решил любой ценой тянуть время, пока что-нибудь придумаю.
Я распечатал вторую бутылку и сказал:
– Не торопись. Мы еще займемся любовью под этим шатром.
– Мы уже занимались.
– Разве ты забыла, что мы договаривались сделать это на острове?
– Я просто подумала, что дома будет удобнее.
– Одно другому не мешает. Я хочу тебя еще.
– Но я не хочу.
– Ну, в таком случае…
– Что в таком случае? – спросила она, и в голосе ее прозвучала тревожная нотка.
– В таком случае я не составлю тебе компании.
– Ты не можешь так со мной поступить!
– Я хочу любить тебя здесь, на острове. Я об этом слишком долго мечтал.
Она отложила флакон, немного поколебалась и наконец молча подчинилась, но, дабы подчеркнуть свою независимость, легла на бок спиной ко мне. Флакон лежал у нее перед глазами.
– Нет, не так, – сказал я. – Хочу, чтобы ты стала на колени.
– Нет.
– Что значит «нет»?
– Нет – значит «нет».
– Значит, ты меня обманула?
– Ничего подобного. Ты уже имел меня.
– Я хочу еще. Ты не можешь мне отказывать.
Она поднялась и с минуту сидела неподвижно, затем выпила мартини, и я увидел в ее глазах слезы. Мне стало жаль ее, но, с другой стороны, я не видел причины, по которой должен был отказывать себе в этом скромном желании. Она стала на колени и нагнулась, опершись на локти. Я поднял юбочку, стянул трусики и залюбовался зрелищем, которое, по правде говоря, уже созерцал у себя дома, и все же с каждым разом замирал перед этой красотой, словно перед созданием Праксителя, ведь ничего более совершенного не приходилось мне раньше созерцать, я глотал глазами эти спелые полушария, как голодный глотает глазами хлеб, я вбирал это полною грудью, чтобы хоть в памяти моей осталось удвоенное снежно-белое диво, окруженное пастелями загара, диво, к которому идеально прилегали мои ладони, диво, в которое я жадно погружал ногти, и только на одно мгновение моя правая рука отвлеклась от этого благостного занятия – когда я ловко извлек из кармана таблетку, полученную от Ростислава, и запил ее вином. Я подумал, что повредить она мне уже не повредит, а возможно, и поможет. Я двигался медленно, невероятно медленно, время от времени пригубливая из бутылки вино, я любился в свое удовольствие, запрокидывая лицо к небу, воспылавшему звездами, и ждал, когда они начнут падать, ведь в августе звезды падают, но звезды не падали, и месяц скользил в сизых волнах небесных, словно в сигаретном дыму, а я накатывался и откатывался, накатывался и откатывался, накатывался и откатывался, наплывал и отплывал, ударял волнами и отпрядывал в такт с месяцем, и казалось мне, что мы в эти мгновения породнились, и если у светила есть сердце, то оно должно стучать в такт с моим. Мне некуда было спешить, я раскачивался вместе с месяцем, и нам было хорошо, и вдруг я увидел, как маленькая звездочка покатилась вниз, и в этот миг Марьяна застонала, но это было совсем не похоже на то, как стонет женщина, которая вот-вот получит оргазм, скорее, это напоминало всхлипывание младенца во сне, всхлипывание нарастало, я задвигался быстрее, месяц тоже налег на весла, а звездочка катилась и катилась, а Марьяна вскрикивала все громче и наконец застонала и умолкла, я впрыснул в нее с такой силой, что меня аж кольнуло, с минутку еще подержал ее, сжимая в ладонях, а затем упал, весь мокрый, в траву. Марьяна поднялась и молча пошла к воде.
– Ты куда? – спросил я.
Она не ответила. Подняла юбку, зашла в воду и стала мыться.
И тут раздался голос Чубая, читающего мою поэму «Илаяли»:
Вот сестра моя бежит из ока печального жажды моей прижимая к сердцу осиротевшие камни Порхают ласточки между бедрами ее – семьсот птенцов вылетает оттуда и всех их мучает жажда И песня их терпкая словно ягоды терна и нет им пристанища даже под собственной тенью Вот речка в которой еще никто не тонул и она высыхает Вот волны в которые входила моя сестра Вот воды в которых мертвое семя она выполаскивала Вот река быстроструйная наполнившаяся до края Вот волны из которых не вышла моя сестра Вот воды в которых ожило мертвое семя Вот месяц его собирающий в стайку ребячью и обучающий азбукеВсе повторяется, все повторяется, все уже написано, ничего нового, зачем она моется, какой в этом смысл, если собралась умереть, я вспомнил, что мылась она каждый раз, даже находясь в лунатическом состоянии, двигаясь, как манекен, сегодня днем она мылась уже вполне сознательно, но сейчас, зачем сейчас, когда жить осталось считаные минуты, вымывать из себя мое семя, ведь если будут делать вскрытие, то все равно обнаружат, что перед смертью мы… мы… она занималась любовью… что в этом плохого, все это делали, вот она выходит из воды, и Грицко смотрит на нее зачарованно, впрочем, он не сводил с нее глаз все время, пока она была в воде, но молчал, а теперь она приближается босая по траве, достает из кулька свитер, которым так и не воспользовалась, ведь вечер удивительно теплый, и вытирается, и молчит, затем развешивает свитер на ветках, что за нелепость, натягивает трусики, поправляет юбочку, садится рядом и достает из кармана флакон, когда она успела его туда упрятать, она с ним не расставалась, даже моясь, значит, не доверяет мне, и тут я осознаю весь ужас положения, ведь я так и не сумел придумать ничего толкового, я просто забыл, что необходимо найти выход. Выхода нет. Она отвинчивает крышку и, отсыпав на ладонь две таблетки, подает их мне. Я слышу, как барабанит мое сердце – от волнения или от выпитого? Я уже порядком охмелел. Достаточно, чтобы не глядя проглотить эту таблетку. Мне уже все до фонаря. Беру таблетку и смотрю на нее, а она двоится в глазах и плывет, плывет, Марьяна улыбается через силу, берет стакан с вином, и я замечаю, что рука ее дрожит, она пьет до дна и просит налить еще, затем кладет таблетку на язык так, чтобы я видел, проклятый месяц все старательно фиксирует, небесный папарацци, кому ты продашь эти фотки, как назло, он уже вынырнул из небесных волн и смотрит, наклонившись, прямо на нас, Марьяна выжидающе смотрит на меня, и я делаю то же, что и она, – кладу таблетку на язык, перед тем успевая проглотить слюну и провести по его поверхности зубами, чтобы он не был слишком влажным и таблетка преждевременно не растворилась, а потом мы одновременно запиваем нашу смерть вином с той только разницей, что свою я прячу под язык и не глотаю, а украдкой, незаметно выпускаю обратно в стакан с вином. Впрочем, нет, это неправда, что незаметно, просто Марьяна в этот момент отворачивается и не смотрит на меня, она смотрит куда-то перед собой, где покачивается лодочка Чубая, и она смотрит так, словно видит его там. Она не смотрит на меня, возможно, чтобы не разочароваться во мне, чтобы дать мне возможность проделать все мои манипуляции… А востроносый месяц, выполнив свою подлую роль, ныряет в волнистые облачка, и тьма вокруг нас сгущается.
– Поцелуй меня, – говорит Марьяна, глядя перед собой.
Еще чего!!!! Я сдерживаю в себе крик, откладываю стакан в сторону, но так, чтобы он свалился, и вино вместе с таблеткой вылилось в траву. А после этого беру за горлышко бутылку вина и жадно хлещу, допивая почти до дна.
– Целуй меня, – настаивает Марьяна, и я чувствую, что голос ее слабеет, а сама она откидывается назад и опирается на локти.
– Я хочу перед смертью напиться. Целуй меня, – шепчет она уже совсем тихо, а язычок ее заплетается, и сама она еле-еле держится на локтях.
Я откладываю бутылку и наклоняюсь над ней, наклоняюсь медленно, месяц снова выныривает и фотографирует, и я вижу ее полузакрытые глаза, полураскрытые уста, о Боже, она умирает, неужто я ее не поцелую, но ведь в ее устах яд, я обнимаю ее и целую, она еще жива, губы такие же горячие, как и прежде, и она вопреки моим подозрениям даже не пытается впрыснуть мне со своим язычком ядовитой слюны, она лишь напрягла губы, тугие, сладкие, я целую их в страшном напряжении, ожидая, что она вот-вот сделает это, высунет язычок, но она безвольно никнет в моих руках, и ресницы ее смыкаются. Меня поражает удивительное спокойствие на ее лице. Я не могу отвести от нее взгляд. Хочу сказать себе что-нибудь плохое, неприятное и оскорбительное, выругаться, но голова моя тяжела, голова моя беспросветно тупа. Я пью шампанское и смотрю на воду. Над озером стелется густой туман, из тумана выныривает лодка.
– Что, перебздел? – спрашивает Грицко, весь укутанный облаком, словно греческий бог на Олимпе. – Ну да, это действительно страшно. По себе знаю. Ты поступил по-свински.
– А она? Она не по-свински себя повела, скрыв неизлечимую болезнь? Она знала, что дни ее сочтены, и захотела избежать предсмертных мучений. Я это могу понять… Но зачем она решила втянуть в это и меня?
– Ради компании. И все же в одном она совершенно права: всегда важно уйти вовремя. Откланяться, поблагодарить и уйти. Так, как это сделал я.
– Но ведь ты не покончил самоубийством.
– Ну да, ясное дело, это не было самоубийство в том смысле, как это принято считать. Но я все-таки ушел сам. Это все равно что взять и перестать дышать. Или перестать есть. Или перестать писать. Или перестать любить. Все это – смерть.
– Но я ведь не тороплюсь на тот свет. Мне кажется, я еще не все сделал.
– Это самообман. Всего сделать просто невозможно. Но, знаешь ли, мне очень жаль твою девушку. Ты ее использовал так примитивно…
– А разве ее можно было использовать как-то иначе? Подскажи.
– Ты просто не понял… ничего не понял… она избрала тебя… девушка чьей-то мечты – юная, прекрасная… ты представляешь: ваши фото рядом после того, когда газеты начнут сообщать о самоубийстве? Ты не усек, что ты ИЗБРАННЫЙ! Она предложила тебе – единственному из тысяч и тысяч мужчин – присоединиться к ней. А ты ее взял… как носовой платочек… Тебе преподнесен высочайший дар, который только можно получить в этой жизни: великолепная смерть, и ей можно только завидовать, ее могли воспевать в поэмах и легендах. А что ты выбрал взамен? Медленное умирание, состязание с болезнями, похожее на самоистязание, пока не упадешь трупом в лучшем случае, а в худшем не заляжешь в больничку, как я, и будут вокруг тебя сновать родственники, делая вид, что все прекрасно, ты поправишься и буквально послезавтра вприпрыжку прибежишь домой, хотя от твоего взгляда не спрячутся их вымученные улыбки, их наигранные реплики… и в конце концов ты врежешь дубаря – старый, сморщенный, серый… и отгрохают тебе на могиле какую-нибудь бандуру или заплаканную Музу…
– Но ведь ты преувеличиваешь. Она выбрала меня не потому, что полюбила. Она лгала и лишь изображала влюбленность. Она не сказала мне правду. А суть в том, что у Марьяны – уважительная причина уйти из жизни, тогда как у меня таковая отсутствует. Следовательно, она выбрала меня на роль сопровождающего, пажа ее королевской милости. Я был лишь великодушно допущен к тому, чтобы поддерживать шлейф ее смерти. И я купился на это.
– Ты хочешь сказать, что обдумывал самоубийство?
– Да. Я много об этом размышлял.
– А знаешь ли ты, что человек, которому мысль о самоубийстве никогда не приходила в голову, совершит его скорее, нежели тот, кто это задумывает. Фатальный поступок легче осуществить необдуманно, нежели взвешивая. Здравому смыслу, далекому от идеи самоубийства, нечем от нее защититься, и если она вдруг посетит его, он будет поражен, ослеплен возможностью радикального решения, о котором до сих пор даже не догадывался. Тот же, для кого эта мысль не нова, будет медлить, взвешивая и без конца рисуя в своем воображении последний шаг, который он уже до мелочей продумал и отважится на него с холодной кровью, если только когда-нибудь это сделает. Разве не так?
– Это правда, я представлял себе это не раз.
– Мы разучились расставаться с жизнью философски. Этим искусством в совершенстве владели древние. Для нас самоубийство – всегда страсть, экстаз, шок. То, что когда-то совершалось уравновешенно, теперь происходит подобно болезненным конвульсиям. Античные и восточные мудрецы умели расставаться с жизнью и подчиняться фатуму без трагедий и завываний. В наше время утеряна и эта безмятежность, и сама ее основа, ведь Провидение захватило место античного Фатума. Что ты пьешь?
– Как всегда, шампанское.
– Сколько можно дуть эту шипучку? А водка не идет?
– И никогда не шла. Ты ведь знаешь.
– Ну, дай и мне глоток.
– А тебе можно?
– Шампан позволительно.
Он подплыл к самому бережку, я подал ему бутылку он сделал большой глоток, а когда вернул обратно, то я чуть не обжег пальцы о заиндевелую бутылку и вынужден был сразу положить ее на траву.
– Холодно у нас, – сказал Грицко. – Видишь ли, когда до тебя дошло, что она не шутит, ты не должен был разыгрывать эту комедию. Но ведь ты хотел ее поиметь. И это была единственная возможность. И ты ее использовал.
– Не совсем так. Я спал с ней и раньше, хотя до сих пор не могу взять в толк, как это так получалось, что отдавалась она в лунатическом состоянии. Вначале я питал надежду, что она передумает, что все это какая-то шизуха. Я не воспринимал всерьез ее тарабарщину про смерть. Но, узнав о ее болезни, понял, что она просто решила театрализовать свою неотвратимую смерть. И тогда мне стало ясно, что мне уготована участь ее жертвы, которую она решила утащить с собой в бездну. Собственно, так, как ты и сказал: для компании. Но ведь это нечестно. Ведь я же не смертельно больной. Поэтому она решила подкрасться с другой стороны: убедить меня, что я уже все совершил, что впереди уже ничего не ждет. И должен сказать, это ей фактически удалось. Некоторые ситуации в моей жизни склоняли меня к самоубийству. Я бы не стал разыгрывать здесь эту сцену, если бы меня не попросил врач. Однако он должен был дать ей не яд, а снотворное. Откуда у нее взялся яд? Я ничего не понимаю. Она хотела умереть, и она умерла.
– Дай бутылку. – Он снова сделал глоток, закрыл глаза, задумался, сделал еще один глоток и сказал:
– А помнишь, как мы здесь устроили купель при свечах?
– Увы, с кретинами.
– Ну и что? Зато позабавились.
Он снова отдал мне ледяную бутылку, и я положил ее в траву.
– Слушай, – окликнул я Грицка, – а почему ты появлялся только в тех случаях, когда я бывал здесь с Марьяной? Почему тебя не было, когда я приходил на остров с другими девушками?
– А ты не понял?
– Нет.
– Жаль. Ведь я появляюсь лишь тогда, когда вижу, что ты есть ты, а не жалкая подделка. С Марьяной ты хоть и лукавил, но все же пытался погрузиться в собственное Я, осознать себя, ты тогда ДУМАЛ, размышлял, ты боролся со своими чувствами, взвешивал, как поступить… Ну, а когда ты с другими, то напоминаешь мне пузырь на воде, плывущий по течению, мне тогда неинтересно общаться с тобой. Хотя это вовсе не значит, что я не наблюдал со стороны. Я смотрел и думал: какая же суета сует…
– Кто бы говорил…
– Но я все же постиг это.
– Ценой смерти?
– Пускай и так. Я видел, как ты немилосердно убиваешь ВРЕМЯ, думая, очевидно, что все еще впереди, и даже не подозревая, что это не так, что все уже позади. Зачем тебе все эти девушки на выданье? Разве ты любишь их?
– Нет, – ответил я, не задумываясь.
– Так почему же не оставишь?
– Не могу.
– Как это не можешь? Возьми и оставь.
– Мне с ними хорошо.
– Тебе со всеми хорошо.
– Но эти нравятся мне больше.
– Ты просто бугай. Ты имеешь их как телок, и в этом смысл твоего существования.
– Не только. Есть еще литература.
– Литература? Да ты и пишешь только лишь для того, чтобы тобой восхищались, увлекались, а затем и отдавались. Ты пишешь для случки, для того, чтобы их поиметь.
– Я пишу для того, чтобы их поиметь?
– А ты сам рассуди. Поразмышляй. И непременно придешь к этому выводу.
– Я пишу для того, чтобы их поиметь, – повторил я, перебирая в уме, что я написал не для случки, а для вечности. Фактически – все. Хотя… не скажешь ведь, что оно не споспешествовало и моим любовным играм. Это все взаимосвязано. Но ведь и того не скажешь, что писание побуждалось жаждой сладострастных утех.
– Когда я встречу ее и перевезу на тот берег, – сказал Грицко, – то знаешь, что ей скажу? Я скажу ей: не держи на него зла. В конце концов, он поступил, как обычный мужик: он хотел тебя трахнуть и трахнул, а какой ценой – уже несущественно. Ты хотела его обмануть, да не вышло, это он обморочил тебя. А впрочем… – Он выпрямился и взмахнул веслом, лодка уже отчалила от берега и снова уплыла в туман… – …впрочем, зачем я буду все это ей говорить? Ты сам ей это расскажешь… когда-нибудь… позже… сам… – Голос его дрожал во мгле, а Грицко уже исчез, растворился в тумане, и только легкие волны льнули к берегу, поглаживали траву… – сам ей и расскажешь…
Я раскрыл сумку Марьяны, достал ключ и спрятал в карман, затем поднялся, собрал в пакет пустые бутылки, посмотрел в последний раз на пригласившую меня к смерти и пошел прочь. Из ближайшей телефонной будки я позвонил Ростиславу, как и договаривались, и сказал, что случилась: Марьяна где-то раздобыла настоящий яд и выпила его.
– Это был белый флакончик с черепом? – спросил Ростислав.
– Да, – удивился я его осведомленности.
– Это не яд, а снотворное. Я дал ей снотворное, сказав, что это сильнодействующий яд, однако для большей гарантии оставил ее на несколько минут в своем кабинете. На видном месте оставил флакон с черепом, но в него я также насыпал снотворные таблетки. Этот флакон исчез.
– Значит, она не умерла? – не верил я его словам.
– Нет. Сейчас я приеду. Ждите меня…
Я повесил трубку и, вернувшись к озеру, стал ждать. На островок я ступить не решался. Я ощущал ужас, прислушиваясь к каждому звуку, доносящемуся оттуда. А что если Ростислав задержится, а она придет в себя? Как я буду смотреть ей в глаза? Я сновал вдоль берега, прислушиваясь к каждому шороху, в какое-то мгновение мне показалось, что Марьяна там шевельнулась и что-то там хрустнуло, сердце мое замерло, я затаил дыхание и тревожно всматривался в темень, что-то тенью приближалось оттуда к мостику, и я уже приготовился к бегству, когда наконец сообразил, что это ветер пошалил в ивовых зарослях.
«Скорая» прибыла через полчаса, я провел взглядом врачей, спешащих на остров, и отправился к трамвайной остановке. Уже по дороге увидел, как «скорая» с Марьяной, стремительно обгоняя наш трамвай, умчалась к центру города. В эти мгновения я почувствовал, как во мне что-то надорвалось, я еле удержался, чтобы не заплакать, и все же одна неподвластная мне слеза выкатилась из ока.
4
Улочка была маленькая, узкая и очень странная для большого города. Своими допотопными домиками, старинными кривобокими хатками в окружении садов и огородов она напоминала глухой хуторок. Я достал из кармана бумажку, на которой рукой Ростислава был написан адрес Марьяны, и остановился возле покосившейся развалюхи с крышей, поросшей мхом. Калитка слегка взвизгнула, и оттуда прошмыгнул перепуганный рыжий кот. Я подумал, что стоит перестраховаться и проверить, не оставила ли она дома прощальную записку, и именно по этой причине стащил у нее ключ. Замок какое-то мгновение не поддавался руке незнакомца, но вот он клацнул, и я оказался в уютной кухне, посреди которой стоял накрытый белой скатертью стол, а в углу была старенькая изразцовая печка. Рядом – газовая плита. Над ней ровнехонько висели кастрюли и сковородки, видно, что старые, но вычищенные до блеска. Еще там был старинный буфет с кружевными занавесками, из-за которых выглядывали чашки и тарелки. Дверь из кухни вела в единственную комнату. Здесь она спала. Кровать аккуратно заправлена, книги в шкафу стояли ровными рядами за стеклом, на ночном столике в вазе – букет колокольчиков, в углу, накрытая вышитой салфеткой, стояла швейная машинка. Складывалось впечатление, что это не привычный интерьер ее жилья, а заметно подчищенный, множество милых мелочей, обычно скрашивающих наш быт, должны были исчезнуть и они исчезли. Ничего из того, что ей было по-особенному дорого или чем она пользовалась ежедневно, не должно было остаться. Ничего, что я мог бы взять себе на память. Я вернулся на кухню и только сейчас обратил внимание на едва уловимый запах горелого. Открыв чугунную дверцу печи, увидел свитки испепеленных бумаг, не все они сгорели дотла, на некоторых остались белые островки, исписанные каллиграфическим мелким почерком, принадлежавшим Марьяне. Попадались и скрученные почерневшие фотоснимки, на которых уже невозможно было что-нибудь различить, мои письма, отправленные до нашей первой встречи, вырезки из «Post-Поступа» с моими публикациями. А вот и обрывок интервью со мной, и слова «сейчас я живу один», подчеркнутые красным, слова, которые привлекли ее внимание и, возможно, побудили написать мне письмо. Я вспомнил ту дотошную журналистку, расспрашивающую меня о сугубо личном, и больше всего ее интересовало, женат ли я. После продолжительной беседы, когда я подробно ее рассмотрел и подумал себе «а почему бы и нет?», заподозрив в ней не только профессиональный интерес ко мне, наконец выдавил «сейчас я живу один» и увидел, как радостно заблестели ее глазки, а спустя неделю мы уже лежали с ней в постели, перечитывая в газете ее интервью со мной. А в то же самое время где-то на Майоровке неизвестная мне девушка подчеркивала красным карандашом отдельные строчки.
Я осторожно вытащил один из полуобгоревших листов и сразу узнал свое письмо. Она решила скрыть все следы, да, видно, терпения проследить, чтобы все сгорело как следует, не хватило. Извлек из печки и другие полуистлевшие листочки с ее записями, сложил их в кучку на подоконнике и начал читать…
«…этот дом приманивает меня, я не в состоянии противиться его силе, открываю дверь, там в большом зале множество дверей, напротив каждой стоят люди, они чего-то ждут, не обращают внимания на меня, а я не знаю, куда мне стать, ведь все двери уже заняты…»
«…а река уносит и уносит, а прибрежные ивы больно хлещут ветвями, ускользают из рук, и нет надежды на спасение, вода покрывает лицо…»
«…и так много света, что я закрываю глаза…»
Это были описания ее снов. И вдруг на одном из обрывков я читаю: «…я просыпаюсь среди ночи, ловлю его руку и прикладываю к своей груди, мне хочется, чтобы он их сжимал, чтобы стиснул сильно и больно, а еще лучше, чтобы надкусил и чтобы я увидела кровь на его зубах, а потом я отдаюсь ему с бешеной страстью, умирая от счастья, мне так хочется, чтобы он меня расцарапал, изранил, искалечил, но он такой нежный и ласковый, я же хочу боли, боли резкой, пронзительной, сладкой…» Что это? Описание сна или впечатления от одной из ночей? Если последнее, то, получается, она лишь делала вид, притворялась, что делает это неосознанно, словно сомнамбула. Зачем ей это понадобилось? Нет-нет, это должно быть сон, девушкам часто являются эротические сны, а впрочем, с чего это я взял, что речь в этой записке идет обо мне?
Другие обрывки я читал, уже затаив дыхание:
«…каждая смерть, увиденная мной, – моих родных или знакомых, – была моей, но та смерть, которая меня отыщет, станет чьей-то, а не моей, ведь я смерти не имею, а потом – и подавно…»
«…тот, кто обречен покончить с собой, пребывает в нашем мире по случайности, но и никакому другому миру он не принадлежит…»
«…ожидание смерти понуждает к постоянному терпению, многократного продления этого медленного сползания в небытие, попыткам приспособиться к встрече с нею, которая настигнет неведомо где и неизвестно когда. Это меня мучает, изнуряет, наполняет страхом. Чего я боюсь? Неужели смерти? Нет, я боюсь внезапности, боюсь того, что не буду готова к ней, я боюсь этого ОЖИДАНИЯ, боюсь постоянного пребывания в распоряжении смерти. Я перед ней бессильна, а она готова в любой момент подстеречь меня, схватить и сбросить в бездну… Разве я не могу сама назначить себе свой последний час? Я должна сделать это. И это меня ничуть не страшит. Наоборот, возбуждает, окрыляет…»
«…жизнь, возможно, всего лишь несчастный случай, исподволь превращающийся в повинность…»
«…с того дня, когда я узнала, что обречена, у меня появилась привычка видеть в каждом живом человеке мертвеца, иногда мне кажется, что замечаю запахи разложения и могильных червей, копошащихся в его глазах… а спустя мгновение вдруг вижу себя на его месте…»
Я бережно сложил уцелевшие листочки, завернул их в платочек и спрятал в карман. Затем взял кочергу и разворошил в печке почти истлевшие бумаги, смешал их с серым пеплом и, чтобы никто никогда уже не смог прочитать ни одного брошенного на сожжение слова, поджег газету и бросил в огненный зев, чтобы выгорело все дотла. Перед тем как выйти, я вспомнил, что есть еще одна вещь, которую я должен непременно забрать отсюда. Вернулся в комнату и внимательно осмотрел все полки, книга была на месте. Я раскрыл ее на титульном листе и прочитал: «Марьяне – девушке моих снов. Юрко». Я спрятал «Девы ночи» за пазуху и вышел из хаты.
За проволочной сеткой орудовала тяпкой соседка, пропалывающая грядки. Завидев меня, на спросила:
– Вы по объявлению?
Я кивнул, хотя и не сразу сообразил, о чем речь.
– И что? Будете покупать?
– Похоже, нет. Хата старая. Разве что снести ее и построить новую.
– Так оно и будет. Место здесь хорошее, и огород большой.
– А кто здесь жил?
– Девчоночка. В Америку уехала. Сказала, что уже не вернется.
– И давно уехала?
– Да вчера. С одной дорожной сумочкой. И что она в той Америке потеряла – ума не приложу.
– А хата давно на продажу выставлена?
– С начала лета. Да вот желающих купить подворье что-то не видно. Нынче строиться, сами знаете, миллионером надо быть.
– Мне сказали, чтобы ключ я оставил вам.
– Хорошо, хорошо, можете оставить.
Эпилог
Я позвонил Ростиславу и услышал, что Марьяна убежала из больницы. У нее была ужасная истерика, когда она среди ночи очнулась, ее накололи успокоительными лекарствами, она уснула и спала до обеда, а может, только притворялась спящей, потому как под вечер, сразу после того, как Ростислав ушел с работы, выпрыгнула из окна и исчезла. Он спросил меня, не знаю ли я, куда бы она могла юркнуть. Я рассказал, что посетил ее хату, там ее не было, и, наверное, дома она уже не появится.
– Если объявится или позвонит вам, дайте мне знать, – попросил Ростислав.
Я пообещал, хотя и мало в это верил. Одно мне было ясно – она ни за что не желала пассивно ожидать своего конца. Могла сесть в поезд и уехать куда глаза глядят. Для всех, кто ее знал, она улетела в Америку.
С той поры я стал отсчитывать дни. Меня не оставляли мысли о ней. А что если она еще мне позвонит? Я хотел этого и в то же время боялся, пытался и не мог представить, что она могла бы мне сказать или какими словами я бы мог истолковать свое поведение, а больше всего я страшился того, что вот она появится и скажет: «Я пришла к тебе умирать». Каждый раз, когда я пытался представить это, холодный пот орошал меня, и все же с каким-то мазохистским упрямством каждый Божий день я представлял ее снова и снова, истязая душу этой безумной сценой, которая обычно завершалась тем, что я ее не впускал в свой дом, делая вид, что меня нет, по вечерам я не включал свет, приходил поздно и сразу укладывался спать. Ожидание звонка от нее превратилось в навязчивую химеру, и кто бы не позвонил, рука моя, поднимая трубку, дрожала. Однажды звонок раздался среди ночи. Мне подумалось, что звонит Христя из Америки, но, когда поднял трубку и сказал «Алло», услышал только тишину, сквозь которую еле-еле пробивалось чье-то робкое дыхание, я сказал «Алло» еще несколько раз, однако никто не откликнулся, тогда я спросил: «Христя, это ты?» – и трубку бросили. Меня охватил ужас: а что если это была Марьяна? Прошло ровно две недели. Уснуть в ту ночь я уже не мог. Я рухнул в кресло, налил вина и выпил. Мне показалось, что я из этого кресла и не вставал с той поры, когда Христя позвонила впервые. Я сидел и ждал неизвестно чего: возможно, еще одного звонка, а возможно, вещего знака. Так в кресле я и уснул, а проснулся от какого-то странного шума и галдежа, не на шутку испугавшего меня спросонку, я раскрыл глаза и увидел, что уже светает, а по комнате черной молнией мечется какое-то наваждение и жалобно вскрикивает, я нацепил очки – ах, это ласточка влетела в раскрытую форточку и теперь носилась, стремительно описывая круги по комнате, время от времени ударяясь о стекла окон, отчаянно вскрикивала и снова, трепеща крылами, устремлялась в полет по кругу. Я распахнул настежь все окна и выпустил ее. Теперь я уже не сомневался, что она умерла.
Примечания
1
Винники – предместье Львова.
(обратно)2
Полтва – река, на которой стоит Львов.
(обратно)3
Александр Кривенко (1963 – 2003) – главный редактор популярной газеты «Post-Поступ».
(обратно)4
«Не журись!» – легендарный эстрадный театр (1986 – 1991).
(обратно)5
Григорий (Грицко) Чубай – поэт, один из ведущих представителей львовского андеграунда 1970-х годов.
(обратно)6
Перевод Л. Озерова
(обратно)


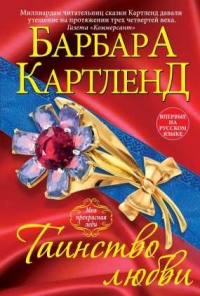

Комментарии к книге «Весенние игры в осенних садах», Юрий Павлович Винничук
Всего 0 комментариев