Часть первая Марджори
1. Марджори
В половине одиннадцатого утра, в воскресенье, мать Марджори взглянула на спящую дочь с чувством опасения и замешательства. Она не одобряла все, что видела вокруг. Ей не нравилось дорогое вечернее платье из черного шелка, брошенное на стул; чулки, валяющиеся на полу, как мертвые змеи; темные поникшие гардении на письменном столе. Но самое большое возмущение у нее вызывала ее же собственная дочь: красивая семнадцатилетняя девушка, безмятежно смотрящая сны, лежа на огромной роскошной кровати в золотых лучах солнца; ее каштановые вьющиеся волосы, беспорядочной копной разметавшиеся по подушке; ее потрескавшиеся губы, размалеванные яркой помадой; ее спокойное и ровное дыхание симпатичным маленьким носиком. Марджори приходила в себя от танцев в колледже. Она напоминала невинного, сладко спящего младенца, но ее мать боялась, что картина эта была обманчива: она вспомнила смех пьяного мужчины в холле в три часа утра, покорное ему девичье хихиканье и то, как крадучись на цыпочках Марджори пробиралась мимо ее спальни. Мать Марджори мало спала, с тех пор как ее дочь впервые пошла на танцы в колледже. Но у нее и мысли не возникало о том, чтобы положить этому конец; это единственно возможный способ знакомства девушек с юношами в настоящее время. Хотя танцы в колледже не давали даже малейшего представления о способах ухаживания, как это было в пору ее девичества, но она все-таки старалась идти в ногу со временем. Она вздохнула, взяла умирающие цветы, с тем чтобы в холодильнике хоть как-то оживить их, и вышла, тихо закрыв дверь.
Однако этот незначительный шум разбудил Марджори. Она открыла большие серо-голубые глаза, повернула голову, чтобы взглянуть в окно, затем энергично приподнялась на постели. День был абсолютно безоблачный и замечательный. Она спрыгнула с кровати в белой ночной сорочке, подбежала к окну и выглянула наружу.
Одним из множества чудес здесь — в Эльдорадо — было то, что окна их квартиры выходили прямо в Центральный парк. На высоте семнадцатого этажа не было никого, кто мог бы уставиться на нее, полураздетую, за исключением птиц, порхающих в воздухе. Это обстоятельство, даже больше, чем огромное пространство зеленого парка, раскинувшегося внизу, и даже больше, чем небоскребы, радовало Марджори всякий день, когда она пробуждалась ото сна. Она наслаждалась этой свободой от любопытных глаз уже почти год. Марджори нравилось в Эльдорадо абсолютно все, даже само название. «Эльдорадо» было достаточно подходящим названием для их апартаментов в западной части Центрального парка. Оно звучало вполне по-заграничному. С точки зрения Марджори иностранцев в Эльдорадо можно было разделить на две категории: высший класс — иностранцы, посещающие французские рестораны и британские клубы верховой езды, и низший, в который входили ее родители. Переезд их семьи в Эльдорадо, в западную часть Центрального парка, был предпринят ее родителями, как считала Марджори, с целью скрыть хоть как-нибудь то, что они являются иммигрантами; и для этого ее родителям пришлось немало потрудиться. Она была признательна им за это и гордилась ими.
Какой отличный день для верховой езды! Запах молодой травы ощущался и здесь, на семнадцатом этаже, заглушая даже запах выхлопных газов автомобилей. Небо было ярко-голубым, с белевшими кое-где облачками, и зеленый парк, в котором уже цвели вишни, тоже был окутан белоснежной дымкой. Она почувствовала себя необыкновенно хорошо, когда к ней опять вернулись воспоминания о прошлом вечере. При этом она с удовольствием обняла свои красивые обнаженные плечи руками, скрещенными на груди.
Ее давнишние мечты, мечты неуклюжей тринадцати-четырнадцатилетней девочки, стали реальностью, и даже больше, чем просто реальностью. Четыре года назад она носилась и визжала вместе с такими же грязными девчонками с такой же гусиной кожей, как у нее, на площадках для игр в государственной школе в Бронксе. Прошлой ночью она гуляла по залитым лунным светом дорожкам Колумбийского колледжа. Она раньше ничего не слышала и не знала о молодом человеке из пригорода, веселом и часто смеющемся; и это был замечательный шум, создаваемый мужчиной! Она танцевала в зале со стенами, отделанными «под дерево», в зале, украшенном фонариками и большими голубыми флагами, а иногда она находилась всего в нескольких дюймах от улыбающегося дирижера оркестра, весьма знаменитого человека. Она танцевала с множеством парней. А когда оркестр отдыхал и играла виктрола, тогда количество молодых людей, желающих танцевать с ней под плавную импровизированную мелодию еще увеличивалось. Один из них, сын владельца огромного универсального магазина, собирался совершить с ней сегодня прогулку верхом по Центральному парку. Она подняла черное платье со стула и погладила его с чувством благодарности. Оно отлично выполнило свою работу. Другие девушки во время танцев путались в оборках жалких, никуда не годных платьев из тафты и тюля, похожих на то платье, которое две недели назад пыталась купить ее собственная мама. Но она боролась за это облегающее платье из струящегося черного крепдешина, достаточно закрытое для того, чтобы выглядеть скромно и строго, и победила в этой борьбе; и теперь она очаровала этого сына миллионера. Так что платье сослужило ей отличную службу. Вот как «много» ее мама знает об одежде!
Раздался легкий стук в дверь:
— Ты встаешь, Марджори?
— Как раз иду принимать душ, мам, — ответила Марджори. Она как молния примчалась в ванную и повернула кран с горячей водой. Время от времени сюда входила мама и громким голосом спрашивала ее о чем-нибудь через занавеску; но сегодня она не пришла. Марджори вернулась в спальню и немного посидела, ожидая стука в дверь. Затем подошла к зеркалу на двери шкафа, в котором могла видеть себя в полный рост, и приложила к себе черное платье, с восторгом наблюдая контраст между ним, белыми обнаженными плечами и взъерошенными волосами.
В этот момент — это был очень важный момент в ее жизни — она поняла, что стала совсем взрослой. В это мгновение какая-то догадка о ее будущем захлестнула ее сознание; так солнечный луч вдруг прорывается через занавески в темную комнату. Она будет актрисой! Этой прелестной девушке в зеркале предначертано судьбой стать актрисой и никем больше.
Со времени окончания колледжа имени Хантера в феврале Марджори слушала курс лекций, после которого рассчитывала получить лицензию для работы преподавателем биологии; но она давно подозревала, что из этой затеи ровным счетом ничего не выйдет, что мел и доска — не ее стихия. Как не могла представить картину своей свадьбы в двадцать один год и скучное замужество после нее. С тринадцати лет ее будоражила мысль об особенном ее предназначении, которое было еще впереди, которое неожиданно должно проясниться и которое нарушит все ее планы. Но то, что она испытала этим майским утром, уже не было только предчувствием, а было правдой, ворвавшейся в ее жизнь правдой. Она собиралась стать актрисой! Детские мечты теперь не были просто мечтами.
В свете открывшейся правды — хотя это еще не было ни намерением, ни решением, а всего лишь случайной догадкой — вся ее жизнь приобрела другой смысл. Все загадки были объяснены. Все сомнения исчезли. Именно поэтому она имела такой успех в Колумбийском колледже прошлым вечером, вот почему она, живя в Бронксе, чувствовала себя как рыба, вынутая из воды. Вот почему она без видимых усилий стала звездой небольших пьес, игравшихся в школе и в летних лагерях. Еще будучи ребенком, она все схватывала на лету, обладая даром изображать других людей, отличалась превосходной памятью, а также талантом владеть собой и очаровывать многих. С помощью интуитивного чутья она рано научилась подражать речи, произношению и манере говорить своих учителей. Задолго до переезда ее семьи в Манхэттен Марджори уже восхищала своими пародиями разных людей: критически настроенные бронкские торговцы дали ей прозвище Леди Многоликость. Теперь, в поразительно короткий срок, она стала звездой западной части Центрального парка, царицей бала на танцах в Колумбийском колледже. Она сама иногда удивлялась своему замечательному успеху: мастерству овладения университетским сленгом за рекордно короткое время, грации и изяществу на танцах, отточенному искусству движений, помимо этого — умению вести и поддерживать интересный разговор, который всегда казался умным, даже если ничего заслуживающего внимания в нем не было. Она знала, что на самом деле оставалась все еще той Леди Многоликостью, которая блистала в наскоро заученных наизусть ролях школьных пьес. Но ее игра становилась день ото дня лучше; и прошлым вечером, вне всяких сомнений, достигла головокружительной высоты. Удивление этими успехами исчезло в тот момент, когда она представила себя актрисой, обнаружившей причину своих сил и способностей.
Она плюхнулась на стул у письменного стола, бросив платье на груду тетрадей с незаконченными домашними заданиями. Белые облака пара из ванной, смешиваясь с желтыми полосами солнечных лучей, заполняли комнату. Марджори стояла, рассматривая свое отражение в зеркале через клубы пара, забыв о понапрасну льющейся горячей воде. Существовали ли когда-нибудь действительно известные актрисы-еврейки? Конечно: Сара Бернар, Рейчел, — и еще она подумала, что, по распространившимся сейчас слухам, половина актрис Голливуда — еврейки.
Но ей не совсем нравилось ее имя. Оно ей совсем не нравилось. Какой-то восхитительный резонанс был в имени Сара Бернар, абсолютная элегантность в имени Рейчел — тогда как ее собственное имя… Марджори Моргенштерн…
Затем к ней совершенно неожиданно пришла идея, подобно белой молнии вспыхнувшая в мозгу. Такая простая замена! Даже не замена, а простой перевод сложного слова с немецкого на английский, и ее тусклое имя, как по мановению волшебной палочки, превращается в имя, которое сможет ярко сверкать, как звезда, и греметь на Бродвее. Она отодвинула в сторону платье, схватила карандаш, открыла тетрадь по биологии на чистой странице и поспешно написала печатными буквами:
MARJORIE MORNINGSTAR
Она уставилась на имя, расползшееся темно-синим пятном на белом листе между едва заметными голубоватыми горизонтально вычерченными линейками. Она взяла ручку и старательно вывела небольшими буквами, которыми пыталась писать всегда: Marjorie Morningstar.
Какое-то время она сидела, глядя на страницу. Потом приписала под именем:
May 1, 1933
Она вырвала листок из книги, сложила его и заперла в шкатулку из розового дерева, в которой хранила любовные письма Джорджа. А потом, напевая, исчезла в окутанной туманом ванной.
Миссис Моргенштерн позавтракала с мужем несколько часов назад, поскольку муж ее уже не мог спать после наступления рассвета в любой день недели, даже в воскресенье. Подсчитав время, которое Марджори могла бы затратить на купание и одевание, она заняла свое место за столом снова, за несколько минут до того, как Марджори вышла из своей комнаты. В руке мать Марджори держала чашку с дымящимся кофе. Дожидаясь прихода Марджори, она не притворялась с целью устроить той допрос с пристрастием. Она действительно имела право на еще одну чашку кофе в воскресное утро.
— Привет, мама дорогая. — Марджори аккуратно повесила свой жакет на спинку стула.
Миссис Моргенштерн поставила свой кофе на стол:
— Боже мой!
— Что Боже мой? — Марджори со скучающим видом опустилась на стул.
— Этот свитер, Марджори.
— Что с ним? Тебе не нравится цвет? — Она знала, что не понравилось ее матери. Она провела последние несколько минут перед зеркалом, разглаживая на себе свитер. Он явно подходил к ее британским ботинкам и бриджам, и к твидовому жакету, и к красновато-коричневой ленте на шляпке с загнутыми полями — все это было новым, ни разу не надеванным. Все эти вещи прекрасно смотрелись в магазине: гладкая, как кошка, кашемировая коричневая шляпка, и размер был подходящим. Но она плотно облегала голову, слишком плотно; Марджори знала, что прелестная девушка в плотно обтягивающем свитере вызывает волнение в окружающих. Это было очень досадно, подумала она, и очень глупо, на Южных морях никто не задумался бы над этим дважды. Она решила вести себя вызывающе. Ее матери свитер мог не понравиться, но Сэнди Голдстоуну он уж точно понравится.
— Марджори, люди подумают — я даже не знаю, что они подумают.
— Я взрослая девушка, мама.
— Это-то меня и беспокоит, дорогая.
— Мам, к твоему сведению, девушки не ездят верхом на лошадях в розовых стеганых халатах, которые делают их похожими на бочки. Они носят свитера.
Миссис Моргенштерн, маленькая и полная женщина, носила как раз розовый стеганый халат. Но этот спор был для них обычным делом; и миссис Моргенштерн ничего другого не оставалось, как перейти в наступление:
— Папа никогда не разрешит тебе выйти из дома в таком виде! Это что, весь твой завтрак? Может, еще черный кофе? У тебя будет расшатанная нервная система к двадцати одному году. Съешь по крайней мере булочку… Кто был на танцах?
— Студенты предпоследнего курса Колумбийского колледжа, мама; около двухсот пятидесяти девушек и юношей.
— Мы кого-нибудь знаем?
— Нет.
— Как это нет? Разве Розалинда Грин не была там?
— Ну конечно, была.
— Ну, ее-то мы знаем.
Марджори ничего не ответила, а ее мать продолжала:
— Как это ты собираешься кататься на лошади? Я полагала, что у тебя лекции во вторник.
— Но я решила пойти сегодня.
— С кем?
— С Билли Эйрманном.
— Ведь на улице холодно. Как же ты пойдешь в таком костюме?
— Почему бы нет? Ведь весна же.
— Ты не произведешь в таком виде на Билла Эйрманна никакого впечатления.
— Но когда-то же я должна начать носить его?
— Да, раз уж ты учишься ездить верхом. Но почему бы тебе не поехать в учебный манеж?
Здесь миссис Моргенштерн исходила из соображений здравого смысла. Марджори брала уроки верховой езды в манеже и на время взяла старый костюм у их соседки — Розалинды Грин. Мать Марджори купила ей новый костюм с условием, что она не наденет его до тех пор, пока не начнет совершать прогулки верхом по аллеям парка. Марджори могла бы солгать матери, и при этом ее не мучили бы угрызения совести, но на этот раз она действительно собиралась ездить в парке.
— Ма, я не собираюсь в манеж. Мы будем кататься в парке.
— Что-что? Ты же взяла только три урока. И ты еще не готова. Ты упадешь с лошади и свернешь себе шею.
— Это вполне возможно. — Девушка поставила со звоном чашку на стол и пролила почти весь свой кофе.
— Марджори, я не разрешаю тебе идти в парк с этим толстым, неуклюжим Билли Эйрманном. Он, вероятно, ездит не лучше тебя.
— Ну пожалуйста, мама. Мы едем с двумя другими парами и с грумом. Это даже безопаснее, чем в манеже.
— И кто же эти остальные?
— Розалинда и Фил.
— А кто еще?
— Ну, это их друг. — Марджори решила ничего не говорить матери о Сэнди Голдстоуне.
— Кто же он такой?
— Да так, один парень. Я не знаю, как его зовут, но мне точно известно, что он — отличный наездник.
— Как же ты знаешь об этом, если даже незнакома с ним?
— Мам, ради Бога, перестань! Так говорят Билли и Фил.
— Он ведь был на танцах? Ты там с ним познакомилась?
— Возможно, я не знаю. Я видела там сотню молодых людей.
— Он хорошо танцует?
— Понятия не имею.
— Где он живет?
— Мам, я опаздываю. Я же сказала тебе, что не знаю этого…
Зазвонил телефон, и с чувством огромного облегчения Марджори выбежала в холл и сняла трубку:
— Алло.
— Привет, пуделек.
Это вполне уместное прозвище, данное ей за вьющиеся волосы, и немного резковатый, необычный местный выговор, который обычно так нравился Марджори, сейчас вызвали у нее чувство вины:
— А, Джордж, как дела?
— Нормально. Я что, разбудил тебя?
— Нет, Джордж. Между прочим, я как раз собиралась уходить, так что извини меня…
— Уходить?
— Да, прогуляться верхом по парку.
— Ну-ну. Верхом по Центральному парку! Ты скоро вступишь в Лигу юниоров.
— Не будь наивным.
— А как тебе танцы?
— Отвратительно. — Она заметила, что ее мать подошла к дверям столовой и совершенно открыто подслушивает разговор. Марджори заговорила теперь с оттенком нежности в голосе:
— Я никогда не думала, насколько глупы еще эти юнцы из колледжа и как по-детски они себя ведут.
— Интересно, сколько им может быть лет? — сказал Джордж, заметно оживившись. — Наверное, в среднем — девятнадцать. По крайней мере, некоторым из них. Я же предупреждал тебя, какая смертная скукотища там будет. — Джорджу Дробесу было двадцать два года, и он был выпускником Городского колледжа. — Ну, пуделек, так когда же я смогу увидеть тебя?
— Даже не знаю.
— Сегодня?
— Видишь ли, дорогой, у меня целая гора невыполненных домашних заданий.
— Но ты же сказала, что собираешься на прогулку верхом.
— Всего на час. А потом я весь день просижу за письменным столом, правда, Джордж.
— Ну, выбери еще часок.
— Дорогой, мне хотелось бы… видишь ли, ведь это так далеко: отсюда до Бронкса… всего на час…
— Я абсолютно свободен. Ведь сегодня воскресенье. Прошло почти две недели… Я все равно собирался когда-нибудь посетить музей искусств. Я возьму машину, заеду за тобой. Если хочешь, поедем за город. Если ты не сможешь, тогда я схожу в музей.
— Да, видишь ли…
— Увидимся около часа, ладно?
— Ну хорошо, Джордж, договорились. Жду тебя. — И она повесила трубку.
— Что это за дела у тебя с Джорджем? — спросила миссис Моргенштерн с заметным удовольствием в голосе.
— Абсолютно никаких дел. Мама, я думала, что тебе известно: посторонним людям нехорошо подслушивать чужие разговоры.
— А я не посторонний человек. Я — твоя мать! Тебе же ведь нечего скрывать от меня, не так ли?
— Могут у меня быть свои секреты?
— Я надеюсь, что большая любовь не начинает остывать.
— Нет, конечно.
— Я давно не видела его. У него все такой же большой красный нос?
— У него нет и никогда не было «большого красного носа»!
— От восточной части Бронкса долгая дорога до западной части Центрального парка, — торжественно провозгласила миссис Моргенштерн.
Марджори уже собиралась выйти, когда мать произнесла:
— Марджори, послушай меня: не будь глупышкой — не надевай новый костюм.
Рука Марджори уже лежала на дверной ручке.
— Одежда не приносит никакой пользы, когда висит в шкафу. Я не вернусь к ленчу.
— Где же ты поешь?
— В закусочной, в Грине.
— Послушай, — сказала миссис Моргенштерн, — друг Билла, этот парень, который такой хороший наездник, ты произвела бы на него лучшее впечатление в другом костюме.
Марджори упала духом:
— Я не представляю, что ты имеешь в виду, мама. Пока.
Ее уход со сцены, который она так мастерски завершила прощальным взмахом руки, был испорчен сразу же, как только за ней захлопнулась дверь. У нее не было денег. Конюшня располагалась на 66-й улице, а Марджори уже опаздывала. Ей пришлось вернуться и попросить у матери денег на такси.
— Меня радует, что я хоть для чего-то нужна в твоей жизни, — сказала миссис Моргенштерн. — Даже для выдачи денег. А где же твои карманные деньги на эту неделю?
— Мам, ты же знаешь, что их едва хватает от субботы до субботы.
Мать рылась в большом красивом кожаном кошельке.
— Как хорошо, что денег твоего отца хватает не только от субботы до субботы.
— Может, тебе лучше сразу дать мне остальные деньги на следующую неделю, мам? Тогда мне не придется больше беспокоить тебя.
— Я тебя уверяю, никакого беспокойства это мне не причинит.
Миссис Моргенштерн выудила из кошелька еще один доллар и пятьдесят центов. Марджори подумала о том, что мать всегда вот так триумфально и торжественно обставляет выдачу денег. Марджори часто думала, что лучше уж умереть с голоду и ходить босиком, чем еще раз выпрашивать деньги. Сотни раз планировала она начать писать небольшие рассказы для приобретения финансовой независимости или же заняться репетиторством, или работать продавщицей в свой уик-энд. Эти мысли всегда приходили, когда ей нужно было в очередной раз выклянчивать деньги, и тут же исчезали, лишь только деньги были получены.
— Спасибо, мама, — холодно и чисто формально поблагодарила она, как только взяла деньги.
В это время в прихожую вошел отец, держа «Санди таймс» под мышкой в виде беспорядочной кипы бумаги. На нем была красная шелковая куртка, пропахшая табаком, в которой он чувствовал себя не совсем уютно. Марджори поцеловала его:
— Доброе утро, пап. Извини, но я уже убегаю.
Отец произнес:
— Верхом… Разве ты не можешь найти какое-нибудь более безопасное занятие, чем езда на лошади, а, Марджи? Люди ведь убиваются насмерть.
— Не беспокойся. Твоя Марджори вернется целая и невредимая. Пока.
Отец Марджори приехал в Нью-Йорк в пятнадцать лет: сирота, частичка большой волны иммигрантов из Западной Европы. В свою первую трудную неделю здесь, живя в убогом грязном подвале, в трущобах Ист-Сайда, он познакомился с парнем, который работал поставщиком перьев. Он тоже начал работать, сортируя перья в зависимости от их качества, — это была отвратительная, грязная работа, за которую платили всего два доллара в неделю. Теперь, тридцать три года спустя, «поставщик» умер; мальчишкой, который взял его в дело, был сегодняшний партнер мистера Моргенштерна, а вот «Арнольд Импорт Компани» стала известной фирмой по продаже перьев, соломки и других материалов, используемых при изготовлении дамских шляпок; компания теперь являлась важным звеном в нью-йоркской торговой сети. С двух долларов в неделю, работая много и усердно, отец Марджори поднялся до отметки пятьдесят тысяч долларов в год. Постоянно, со дня своей женитьбы, он тратил каждый доллар на увеличение благосостояния семьи, на создание жизненного уровня, соответствующего его положению в обществе. За исключением той доли собственности, которой он владел в небольшой корпорации, постоянно борющейся с конкурентами за свое существование, и торговли, которую он тянул на себе, у него не было ни одного лишнего пенни. Однако, несмотря на это, жил он все-таки на Сентрал-парк-вест.
— Ты думаешь, с ней ничего не случится? — спросил он у жены, показывая взглядом на коричневую дверь, за которую только что быстро выскользнула его дочь.
— Все будет нормально. Все дети здесь ездят верхом. Может, хочешь еще кофе, пока со стола не убрано?
— Пожалуй, можно.
На том месте, где завтракала Марджори, на столе валялась недоеденная булочка, измазанная губной помадой.
— Почему она вдруг так заинтересовалась верховой ездой? — задал вопрос мистер Моргенштерн. — У нее ведь уже был один урок на этой неделе.
— И как ты думаешь, почему? — Жена налила ему кофе из серебряного кофейника, который использовался только по воскресеньям.
— Надеюсь, причиной стал не этот жирный тупица, Билли Эйрманн?
— Да нет же. Дело в другом парне.
— И кто же это такой?
— Не знаю. Друг Билли. Должно быть, он не так уж плох.
Отец открыл деловой раздел «Санди таймс» и уставился в газету, прихлебывая кофе. Через какое-то время он подал голос:
— А что с Джорджем?
— Я полагаю, с ним покончено. Марджори, вполне возможно, еще и сама не догадывается об этом.
— Но тебе-то уже известно это, не правда ли?
— Да, я знаю. Слишком долог путь сюда из Бронкса.
— Может быть, нам не следовало переезжать из Бронкса сюда?
— Что ты хочешь этим сказать? — Мать с беспокойством поглядела в окно, выходящее в парк.
— Лично я ничего не имею против Джорджа. Отличный парень, — высказал свою мысль отец. — Вполне подходит для занятий бизнесом.
— Пустое место, полное ничтожество.
— А мне не нравятся эти манхэттенские парни, — возразил отец. — Они слишком большие щеголи. Они холодны, как рыбы. Я как-то говорил с ними и вдруг заметил свой акцент. Я слышал его! После тридцати лет жизни здесь они заставили почувствовать меня только что прибывшим новичком.
У отца Марджори был лишь легкий акцент, а у матери практически никакого, но речь их, тем не менее, не походила на говор местных жителей, и они понимали, что никогда она не станет такой же, как у тех, кто здесь родился и вырос.
— Я не доверяю этим мальчикам. Они выглядят так, как будто только и мечтают посмеяться над какой-нибудь девушкой, которая может стать их добычей.
— Марджори может сама о себе позаботиться.
— А может ли?
Миссис Моргенштерн придерживалась противоположной точки зрения лишь до двух часов дня, нервно ожидая прихода Марджори. Подобный спор между супругами шел постоянно. Они легко могли занимать сторону противника. Все это зависело от того момента, когда один из родителей начинал критиковать дочь. Отец снова уткнулся в газету, а мать — в окно.
Через какое-то время мать пожала плечами и сказала:
— Она ведь имеет право на большее, да? Вест-Сайд — это место, где живут хорошие, порядочные семьи. И здесь у нее самая лучшая возможность встретить кого-нибудь достойного.
— Она говорила со мной о сексе, — произнес отец. — Она изучала его в Хьюджине, по ее словам. Она знает об этом столько же, сколько известно врачам. Ей известно об этом больше, чем мне. Рассуждала о хромосомах, трубах и яйцеклетках: какая мужская, а какая женская. Я был смущен — говорю тебе, правда, и странное дело — я ей сочувствовал.
— Ей не поможет то, что они там изучают в школе. Не лучше ли вообще ничего не знать об этом, как мы с тобой когда-то?
— Возможно, она знает слишком много. Называла ли она тебе когда-нибудь пять предпосылок, которые доказывают существование Бога, и пять, которые говорят об обратном? Она узнала об этом в колледже. Но она ни разу не была в храме, только на танцах, она позабыла молитвы, да и сомневаюсь я, чтобы она вообще-то знала их наизусть; и если она не ест бекон, то, значит, ест салат из креветок, и я готов поспорить об этом на сотню долларов.
— Это Америка.
— Мы избаловали ее. Я беспокоюсь за нее, Роза. Ее отношение к… Она не знает цену деньгам. Диким индейцам известно больше, чем ей. Я немного поколдую авторучкой в чековой книжке — и вот у нее новое платье или пальто, или костюм для верховой езды…
— Сдается мне, что прошлым вечером ты просматривал свою чековую книжку. Стоит ли так волноваться из-за таких пустяков? Костюм? Ну и что? Девушкам очень нужна новая одежда!
— Да я так, вообще говорю. Этот переезд в Манхэттен для нас — полное сумасшествие. Мы проедаем капитал.
— Я же двадцать раз говорила, что тебе уже просто необходимо получить повышение в должности.
Отец встал и начал ходить взад-вперед. Он был крепко сложенным мужчиной, невысокого роста, с круглым лунообразным лицом, с кудрявыми, уже седеющими волосами и тяжелым взглядом из-под нависших черных бровей.
— Какая же это все-таки забавная и неожиданная штука — бизнес. Ты берешь денег больше, чем поступает, и через некоторое время дела больше не существует.
Мать Марджори не слышала от своего супруга ничего, кроме его жалоб, стенаний и стонов, касающихся бизнеса; ничего другого — с утра до вечера. Она сама не склонна была так мрачно смотреть на создавшуюся ситуацию. Постоянно возрастающий доход от бизнеса мужа — поставки пера — казался ей фантастически большим в первые годы ее замужества, но теперь она считала его недостаточно высоким.
— Эти годы мы посвятили полностью Марджори. Этот новый парень, вместе с которым она катается верхом, кем бы он ни был и каким бы ни был, — из Колумбийского колледжа, и она с ним дружит! Они могли бы стать отличной парой! Разве встретила бы она его, останься мы в Бронксе?!
— Она же только второкурсница. Она некоторое время, может, и не собирается выходить замуж, — заметил отец.
— Надеюсь, это не доведет нас до богадельни.
— Зато у нас точно не будет больше никаких проблем, если она упадет сегодня с лошади и сломает себе шею.
— Она не свернет шею.
— Я слышал, как ты спорила с ней. Она ведь взяла уже три урока верховой езды.
— Что значат эти три урока!
Отец подошел к окну.
— Какой сегодня прекрасный день! Вот несколько лошадей… Но это еще не она. Посмотри, как расцвел парк. Он весь в цвету! Как будто прошлым вечером его засыпало снегом. Ты не заметила, как пышно цветут вишни в этом году? Это должно иметь какое-то научное объяснение. — Он потер лоб в задумчивости. — Как быстро летит время. Я замечаю, что весна прошла — в ноябре, а что выпал снег — в феврале. Год пролетает со скоростью недели.
— Я говорю тебе: с ней все будет в порядке. — Мать подошла к окну и встала рядом с мужем. Они были одинаково полными, и у нее было такое же круглое лицо. Отец и мать Марджори были очень похожи, если не считать того, что у рта Арнольда образовались складки, придававшие выражению его лица строгость и суровость. Их можно было бы принять за брата и сестру. Он выглядел лет на десять старше своей жены, хотя они были почти одного возраста.
— Не кажется ли тебе странным… — начал отец, — а мне вот кажется. Как давно она ползала по полу в мокрых подгузниках! Что делает время! А теперь вот верхом на лошади…
— Мы просто стареем, Арнольд.
— В наши дни рассказывали анекдоты о свахах, помогающих познакомить жениха и невесту. И теперь все так же, по старой схеме: она встретит подходящего ей парня, произойдет объяснение; ну а дальше все ясно…
— С той старой схемой у тебя вообще не было бы проблем с Марджори, — резко ответила мать.
Отец улыбнулся и с некоторой долей лукавства посмотрел на нее. За более чем двадцать лет их совместной жизни мистер Моргенштерн впервые столкнулся с проблемой сватовства своей дочери-еврейки, и это болью отозвалось в его сердце.
— Я только хотел сказать, что эта новая система весьма странная. Нам дорого обойдется твое стремление ввести ее в лучшие дома. А однажды вечером, на танцах, что сможет помешать ей влюбиться в какого-нибудь обаятельного дурака из плохой семьи? И это будет конец всем нашим планам. Помнишь того, первого, в лагере? Ей тогда было всего тринадцать! Тот Бертрам…
Мать скривилась:
— У нее сейчас больше здравого смысла.
— Ума у нее действительно прибавилось. А это разные вещи. И разума у нее не больше, чем тогда. Может, капельку больше. И что касается… ну… с точки зрения традиций… как это делалось в наше время… — Он не докончил фразу и поглядел в окно.
— Все это, — с трудом произнесла мать, — лишь потому, что девочка учится ездить верхом? Не забывай об одном. Она все равно выберет того, кого полюбит. Того, кто ей нравится, а не того, кого выберем мы. И это правильно.
— Она выберет, кого хочет? — удивленно спросил отец. — В этом мире? Она получит того, которого заслужит.
Надолго воцарилась тишина. Отец допил кофе, взял газету и пошел в гостиную.
2. Очаровательный принц
— Вот мы и приехали, мисс. — Такси остановилось перед зданием Академии верховой езды Клуба охотников, недалеко от ворот с вывеской из белой жести, на которой была нарисована маленькая лошадь гнедой масти. Запах лошадиного пота и навоза ворвался в такси. Она услышала топот копыт. Таксист, обернувшись назад, заметил ее новый костюм для верховой езды и неуверенный взгляд. Он ухмыльнулся, обнажив желтые лошадиные зубы:
— Вперед, малышка. Желаю долгих лет жизни.
Марджори смерила его высокомерным взглядом и дала двадцатипятицентовик на чай, чтобы доказать, что она аристократка, которой нравятся лошади. Зажав нос платком, она поднялась вверх по склону, усыпанному опилками вперемешку с навозом. Марджори шла, чуть-чуть выворачивая ступни ног внутрь, дабы избежать неуклюжей утиной походки; она заметила, что другие девушки в костюмах поступают точно так же.
Розалинда Грин, коренастая, немного сутулая девушка, вразвалку вышла ей навстречу из темной конюшни. Она была в новом костюме отвратительного оливкового цвета:
— Привет! Мы уже не надеялись, что ты придешь. Лошади давно готовы.
— Извини за опоздание, — сказала Марджори и пошла вслед за Розалиндой вдоль длинного ряда стойл, в которых лошади пофыркивали, топтались на месте, позвякивали подковами и громко ржали.
Две эти девушки познакомились в лифте Эльдорадо. Розалинда, которая была старше Марджори на полтора года, являлась успевающей студенткой группы «А», но у нее напрочь отсутствовало чувство юмора, и она не имела успеха на танцах и вечеринках. Розалинда могла бы просто возненавидеть Марджори за ее тонкую талию, за изящной формы лодыжки и бесконечную болтовню. Но она была так уверена в собственном превосходстве, что могла ей это простить. Розалинда родилась на Сентрал-Парк-стрит; она училась на предпоследнем курсе в Бернарде и была помолвлена с неким Филом Бойхэмом, сыном известного врача-кардиолога. Ей нечего было бояться умной, симпатичной, слегка честолюбивой девушки из Бронкса, ничем, в общем-то, не примечательной второкурсницы из бесплатного государственного Хантеровского колледжа. Розалинда искренне опекала Марджори. Марджори мирилась с этим покровительством, так как Розалинда могла ввести ее в общество Колумбийского колледжа. Они провели вместе уже сотни часов, болтая об одежде, прическах, косметике, машинах и мальчиках. Марджори потеряла контакт со своими подружками в Бронксе и не нашла приятельниц в Хантере. Розалинда была сейчас ее лучшей подругой.
— Вот она, Джефф! — крикнула Розалинда.
В самом дальнем конце конюшни пять лошадей — очень больших, нетерпеливых и довольных предстоящей прогулкой — становились на дыбы, били копытами в свете электрической лампочки. Джефф, загорелый, невысокого роста грум, в смятых бриджах и потертых ботинках, стоял среди животных, подтягивая подпруги и отдавая команды Билли и Сэнди, которые седлали своих лошадей. Он угрюмо взглянул на Марджори и произнес:
— Насколько хорошо вы можете держаться в седле, мисс?
— Не совсем хорошо, — быстро ответила Марджори.
Добрый свет на мгновение вспыхнул в глазах грума:
— Для вас нормально. Многим они не нравятся и тогда… Тпру, тупой ублюдок! — Он ударил кулаком по ребрам танцующей лошади.
Фил Бойхэм сказал:
— Это моя лошадь. Не бесите ее. — И с этими словами он плюхнулся на пыльную скамью рядом с девушкой Сэнди, Верой Кешман, привлекательной блондинкой-второкурсницей из Корнелла, которая выглядела вялой и раздраженной.
— Дай ей Черную красавицу, Джефф, — сказал Сэнди, подмигнув и улыбнувшись Марджори. Сейчас он быстро и умело обращался с конской сбруей. Его бриджи полиняли, а ботинки выглядели немногим лучше, чем у грума. Костюмы остальных наездников были почти такими же новыми, как и костюм Марджори.
— Дайте мне самую смирную лошадь, какая только у вас есть, — попросила Марджори. — И угостите ее таблеткой снотворного перед началом поездки.
Сэнди засмеялся.
Билли Эйрманн, краснощекий и вспотевший, возился со стременами, болтающимися под брюхом лошади. Вдруг, яростно рванув стремена на себя, он умудрился развязать все, над чем трудился до этого, и упал на пол, прямо под лошадь, а седло и стремена с грохотом свалились на него сверху. Грум с презрением взглянул на парня, подобрал седло и поставил Билли на ноги.
— Я-то думал, мистер, что вы можете сами справиться со всем этим. Ведь так вы, кажется, говорили?
— Научите меня делать это, как-нибудь, — задыхаясь произнес Билли, вытирая навоз с лица и отряхивая жакет.
— Только, пожалуйста, мистер, не в воскресенье, когда и так работы по горло. — Джефф закинул седло на спину лошади, а Билли, еле волоча ноги, потащился к скамье и упавшим голосом обратился к Марджори:
— Вот видишь, Марджи, как бывает…
Марджори, про себя посмеивающаяся над ним, подумала о том, какое же это несчастье, что из всей толпы знакомых именно Билли так привязался к ней. Единственным отличием Билли от остальных молодых людей было то, что отец его являлся главным судьей Верховного суда, и имя его, казалось, чаще других мелькало на бланках благотворительных нью-йоркских организаций. Сначала, во время знакомства с ним и полдюжиной других парней в квартире Розалинды, он произвел на Марджори сильное впечатление, когда она узнала, кто его отец; но вскоре она поняла, что он — всего лишь добродушный болван, в котором ничего нет от достоинств его отца. Все же он был из Колумбийского колледжа. И именно он пригласил ее на танцы прошлым вечером. И когда он проходил мимо, обдав ее запахом навоза, от которого она задохнулась и отступила на шаг, она улыбнулась.
Джефф критически посмотрел на нее, когда закреплял седло на лошади Билла, и произнес:
— Мне пришла идея, мисс. Дать вам Очаровательного принца… Эй, Эрнест! Приведи-ка сюда Очаровательного принца.
Марджори спросила:
— Он спокойный?
— Самый спокойный из всех живых созданий.
Чернокожий мальчик в джинсах лениво прошествовал из дальнего конца конюшни в другое стойло.
— Очаровательный принц выходит! — прокричал он.
Через минуту или две он начал выводить лошадь; именно начал, а не вывел, поскольку процесс этот продолжался довольно долго. Не потому, что животное не слушалось его. Конь вышел вполне охотно. Это походило на то, как если бы негр отвязывал животное от большой катушки с намотанной на ней веревкой внутри стойла. Это было на редкость длинное и огромное живое существо, равных по величине которому Марджори едва ли встречала за всю свою жизнь. Теперь уже можно было видеть его заднюю часть с хвостом, неторопливо помахивающим из стороны в сторону.
Животное оказалось не только огромным, но и какой-то особенной масти: оно было все покрыто мелкими красноватыми крапинками. Мальчик-негр забросил ему на спину седло и подвел его к Марджори. Конь нагнул голову, кивая Марджори. Его морда, как и любой другой лошади, по мнению Марджори, выражала самодовольную тупую враждебность.
— Как называете вы такой цвет? — поинтересовалась она у грума.
— Цвет не имеет абсолютно никакого значения, — ответил Джефф, сплевывая табачную жвачку. — Этот конь — порождение бога и дьявола, спокойный жеребец от миролюбивой кобылы.
— В его спокойствии я как раз сомневаюсь.
— Да он же чалый.
Чалый! Это слово вызвало в ее воображении широкие равнины Запада и топот летящих копыт.
— Эй, народ, седлай лошадей, — крикнул грум. Он придерживал стремена, в то время как Марджори пыталась вскарабкаться на лошадь, но так и не смогла. Это создание было таким здоровым, как та старая кобыла, на которой она ездила в манеже. Она беспомощно оглянулась вокруг, стоя одной ногой в стремени (бриджи при этом на ее бедрах натянулись). Сэнди Голдстоун, усмехаясь, подошел к ней, схватил другую ногу и перебросил через седло.
— Спасибо, — еле слышно пролепетала она.
— Ну как, стремена нормальной длины? — спросил Джефф.
— Да, все абсолютно нормально.
Грум отошел от нее и оседлал свою лошадь, цвета кофе с молоком. И как раз в это мгновение Марджори осознала, что стремена буквально болтаются у нее под ногами, а носки ее ног едва касаются их.
— Отлично, люди. А сейчас все мы выезжаем в ряд по одному, друг за другом — на улицу: только шагом, никакой рыси на проезжей части.
Они выехали из мрачной конюшни, зажмурившись от яркого света. Было по-весеннему тепло. Марджори вмиг поняла, какой же это кошмар: ехать верхом на лошади по улицам города. Копыта семи животных стучали ужасно громко, гулко ударяясь об асфальт. Она вытягивала ноги, пытаясь достать до стремян носками, и думала о том, что при падении на мостовую обязательно раскроит себе череп. Очаровательный принц спокойно тащился вдоль сигналящих такси-кэбов и гудящих автобусов. Каждый взмах его головы вызывал у нее испуг. Она прилипла к седлу, хотя оно и было жутко неудобным, и видела, как корнелльская блондинка с усмешкой и презрением смотрит на нее. Но сейчас ее не волновало ничего, кроме того, как пережить ближайший час и слезть с этого гигантского животного целой и невредимой.
Когда они приблизились к верховой тропе в парке, то лошади, почувствовавшие под ногами мягкую черную землю, перешли на рысь. Очаровательный принц удивил Марджори тем, как легко, плавно и спокойно он движется и как удобно скакать на нем. Она нашла стремена, вдела в них ноги и поскакала по тропке так, как ее учили в манеже. Уверенность снова вернулась к ней, и она могла позволить себе немного расслабиться. Они проехали мимо таверны в Грине. Марджори заметила, как интересный молодой человек за столом на террасе провожал ее взглядом, когда она скакала мимо.
Сэнди Голдстоун скакал рядом с ней, натянув поводья рыжей лошади, держась в седле спокойно и уверенно.
— Это была шутка о том, что ты не умеешь ездить? Ты великолепно держишься в седле!
Она подарила ему чудесную улыбку:
— Ты и сам неплохо с этим справляешься!
— Пару месяцев ежегодно я провожу в Аризоне. Как ты догадываешься, я просто не мог, находясь там, не научиться ездить верхом… Мардж, у меня нет необходимости ехать по пятам за тобой подобно полицейскому надзирателю, а, как ты считаешь? Моя лошадь такая беспокойная.
— Совсем не нужно делать этого, Сэнди. Поезжай вперед.
Сэнди молнией промчался вперед. Их группа проехала через сырой, тусклый туннель и выехала на залитую солнцем аллею, обсаженную вишнями, прохладную и благоухающую. Марджори была ошеломлена такой красотой. Первое время, сидя в седле, она даже не замечала, что находится вокруг. Теперь она обратила внимание на розовые цветы, качающиеся от легкого дуновения ветерка на фоне голубого неба, и забыла обо всем на свете, погрузившись в их созерцание…
Когда они выехали на открытое солнечное место, Марджори увидела, что Очаровательный принц заметно отстал от других лошадей. Блондинка, замыкающая группу всадников, оглянулась и с нескрываемым удовольствием посмотрела в ее сторону. Марджори прижалась к седлу и ногами крепко сдавила ребра Очаровательного принца. Но ничего не произошло, если не считать того, что она вынула ноги из стремян и теперь изо всех сил старалась попасть в них. Очаровательный принц, старый служака, продолжал бежать без остановки, отсчитывая то же количество ярдов в секунду.
Далеко впереди, в конце тропы, всадники повернули в сторону, и теперь Марджори окончательно потеряла их из виду, так как они исчезли в зеленых зарослях деревьев.
— Но! — воскликнула она. — И тебе не стыдно? Они обогнали тебя! Но! — Марджори цокала языком, била лошадь пятками по бокам и дергала поводья. Очаровательный принц с задумчивым видом медленно продвигался вперед.
Они приблизились к тому месту, где дорожка делала поворот, и свернули. Впереди расстилалась прямая дорожка, абсолютно пустынная, лишь еще не рассеявшееся облачко пыли, поднятое копытами недавно промчавшихся лошадей, висело над ней.
Одиночество удручающе подействовало и на лошадь, и на седока. Марджори изо всех сил старалась не упасть духом. Очаровательный принц, не видя других лошадей, за которыми он бежал вначале весьма охотно, теперь, казалось, потерял всякий интерес к этому занятию. Скорость движения снизилась, рысь постепенно перешла в шаг. Конь начал вертеть головой в разные стороны. Марджори сердито обратилась к нему:
— Ты сейчас же помчишься вперед, — и шлепнула его по шее уздечкой. Очаровательный принц свернул с дороги в сторону, остановился, с видом знатока оглядел траву и начал спокойно ее пощипывать. От возмущения у Марджори на глаза навернулись слезы. Она ударила лошадь кулаком по шее.
Марджори услышала глухой топот копыт примерно в одно и то же время с Очаровательным принцем. Он оглянулся вокруг, последний раз нагнулся к траве и спокойно вернулся на тропку, дожевывая пучок. Лошадь Сэнди сбавила шаг, зашла в сторону и остановилась рядом с Принцем.
— Есть проблемы? — спросил Сэнди.
— Да, кое-какие.
— Так ударь его хорошенько.
— Я уже делала это.
Сэнди обошел вокруг Очаровательного принца, наморщив нос.
— Никогда прежде не сталкивался с подобными экземплярами. Я думаю, на нем обычно ездят дети. Вот, попробуй-ка это. — И протянул ей кнут, сделанный из желтовато-коричневой кожи.
Он должен был заметить ужасные следы от кнута на ушах животного, но был слишком занят, заглядевшись на прелестное, румяное личико Марджори.
— Спасибо, — ответила Марджори. Она взмахнула кнутом и со звонким шлепком опустила его на бок лошади. Очаровательный принц подпрыгнул, фыркнул, заржал; затем он весь напрягся, словно сжался в кулак, и бешено пронесся галопом мимо Сэнди, яростно разметывая копытами комья земли в разные стороны.
После первого неистового, сумасшедшего броска, придя в себя, Марджори поняла, что она, неясно каким образом, все еще удерживается в седле. Поводья свисали теперь по обе стороны совершенно свободно, а она опять потеряла стремена. И еще Марджори заметила, что подобно жокею несется по дорожке, а мимо нее неясными тенями проносятся деревья, кусты и другие всадники. Через несколько секунд, с трудом понимая, что происходит, она догнала Веру и пролетела стрелой мимо всей группы всадников; в этот момент ей показалось, будто они не движутся, а стоят на месте. Она услышала сквозь барабанную дробь, отбиваемую копытами Очаровательного принца, как где-то вдалеке кричит Джефф, и до нее донеслось что-то похожее на:
— …от этого чертового кнута. Он же боится кнута! Никогда…
Но все это для нее теперь не имело никакого значения. Она продолжала лететь вперед по тропинке, и в ушах у нее отдавался лишь стук копыт и свистел ветер, от которого растрепались волосы и слезились глаза. Шляпка ее, конечно же, потерялась. Пустые стремена с громким хлопаньем и позвякиванием ударялись о подпругу седла. И тут Марджори заметила, что во время этого сумасшедшего галопа, как ни странно, по сравнению с другими аллюрами ей удобнее всего было сидеть в седле. Это было похоже на отдых в размеренно двигающемся кресле-качалке, конечно, если не принимать во внимание шум ветра, топот копыт и отдельные разрозненные фрагменты пейзажа, которые мелькали перед глазами в быстром калейдоскопе. Всадница совершенно перестала осознавать грозящую ей опасность и совсем не испытывала страха, а лишь довольно глупое, несказанно удивляющее ее удовольствие. Она улыбалась, летя навстречу холодному ветру. И вообще, быстрый галоп вызывал у нее идиотский восторг.
Очаровательный принц подлетел к водоему, резко свернул вправо и продолжал теперь бешено нестись по извилистой тропинке. В тот момент, когда он свернул, другие всадники потеряли Марджори из виду, а она завершила свое путешествие, слетев со спины лошади и приземлившись на дорожку; и долго еще кувыркалась, перекатываясь по грязной земле и лужам, и наконец, уткнувшись лицом вниз, растянулась на молодой, пахнувшей свежестью траве. Здесь она и осталась лежать и слушать далекое мирное постукивание копыт приближающихся лошадей.
Вскоре Марджори была окружена со всех сторон плотным кольцом: лошади топтали траву, девушки визжали, а мужчины громко кричали; кто-то отдал ей ее шляпу, а подъехавший полицейский слез с лошади и вынул записную книжку из кармана.
Джефф и Сэнди помогли ей подняться на ноги и принялись очищать ее от грязи с помощью носовых платков и подобранных газетных листов. Вся она была перепачкана с головы до ног, а жакет ее под мышками был разорван. Одна из лодыжек особенно сильно болела, но ничего страшного вроде с ней не случилось. Оживленная и даже довольная, стоя в центре возбужденно гудящей толпы, она четко и спокойно отвечала на вопросы полицейского. Джефф рассказал ему о том, что Очаровательный принц боится кнута. Сэнди извинился перед ней за то, что не заметил следов от кнута на теле животного. Марджори заявила, что во всем виновата сама, поскольку она должна была в любом случае контролировать поведение лошади. Полицейский сказал, что, будь он проклят, не понимает, как в эти злосчастные воскресенья всадникам удается не разбиться насмерть. Он закрыл записную книжку, снова оседлал огромную гнедую лошадь и, посылая проклятия вообще всем наездникам, добавил, что просто удивляется, как это только люди могут находить удовольствие в езде верхом на лошади, при том что все седла чертовски неудобны, а все лошади — безмозглые идиоты.
Тем временем на дорожке показался другой полицейский, ведущий Очаровательного принца под уздцы. Животное покрылось испариной, а голова его была покорно опущена вниз. Марджори тут же выбежала из круга горланящих людей, взяла из рук полицейского поводья и одним проворным прыжком, которому она сама изумилась, взлетела в седло. Лодыжка в момент прыжка причинила ей острую боль.
— Ну как? — спросил ее Джефф, уставившись на нее и почесывая затылок.
Все другие наездники тоже смотрели на нее.
Марджори ответила:
— Все в порядке. Давайте трогаться.
— Вы уверены, мисс, что сможете ехать? — снова обратился к ней Джефф. — Может быть, мы лучше посадим вас в кэб и отправим домой?
— А вы разве никогда не падали с лошади?
— Сорок раз, мисс, но…
— Ну вот, видите, и вы все еще целы. И я тоже. Простите меня за то, что я отстала от группы. И, пожалуйста, укоротите мне стремена.
— Какая ты молодец, Мардж! — похвалил ее Билли Эйрманн.
— Ну, ладно. — Джефф подошел и начал возиться со стременами. — У вас сильный характер, мисс. Из вас получится отличная наездница. Мистер Голдстоун, вам бы лучше уехать с ней отсюда подальше.
— С удовольствием, — произнес Сэнди и остановил свою лошадь сбоку от Очаровательного принца.
Блондинка сильно ударила свою лошадь по ребрам, проезжая мимо Марджори и Сэнди. Они услышали, как она пробормотала что-то вроде:
— Подлый кретин.
Руки и ноги Марджори дрожали, а на лбу выступил холодный пот. Но все-таки напугана она была теперь меньше, чем в начале поездки. Самое ужасное уже произошло, и вот — ничего, она опять верхом на лошади. Не желая больше думать об этом, она сидела в седле сейчас гораздо естественнее и лучше справлялась с поводьями.
— Да ты теперь уже просто опытная наездница, — произнес Сэнди, когда они миновали водоем. Лошади их теперь бежали рысью, сквозь деревья, покрытые слоем золотой пыльцы.
Марджори рассмеялась:
— Я боюсь, чтобы стать опытной наездницей, нужно пережить не одно падение. По крайней мере я исполнила то, о чем думала сегодня утром: я думала о том, что это должно было произойти. Сама сделала из себя посмешище. Я едва могу держаться в седле; теперь ты понял это. И это правда.
— Зачем же ты тогда поехала, Марджи? Тебе не нужно было соглашаться только ради соблюдения приличий.
Улыбаясь, она спокойно посмотрела ему прямо в глаза. Он покраснел и замолчал, и они поехали дальше, ни о чем больше не разговаривая.
Поравнявшись с домом Сэнди, Очаровательный принц пронесся мимо со скоростью машины. На обратном пути в конюшню Марджори старалась не обращать внимания на боль, но лодыжка все больше и больше беспокоила ее. Девушка не собиралась отставать от Сэнди Голдстоуна только из-за какой-то боли в лодыжке.
Когда их группа спешилась около таверны в Грине, Марджори очень обрадовалась, что вообще может идти, несмотря на все сильнее ноющую лодыжку.
Как же здорово было сидеть на чистой подстилке под открытым небом на залитой солнцем каменной террасе, окруженной со всех сторон частоколом небоскребов! Никогда прежде Марджори этого не делала. Ее костюм уже был очищен от грязи жесткой щеткой, а на разодранные подмышки она просто не обращала внимания: ведь ей дали возможность сделать эту безумную попытку — сесть в Лонг-Айленде на лошадь. Марджори поправила прическу и освежила макияж. Она подумала, что очень похожа на картинку из модного журнала, и даже гордилась тем, как неумело управляла лошадью и упала. Ей было приятно, что Сэнди так мало обращал на нее внимание.
— Бекон с яичницей для каждого, я угощаю, — предложил Сэнди.
— Мне не надо бекона, только яичницу, — сказала Марджори после минутного колебания.
— В чем дело, дорогая, ты что — религиозная?
— Вера удивленно вскинула на нее одну бровь.
— Просто привычка, — смущенно пробормотала Марджи. Она была убеждена, что еврейские ограничения в еде довольно примитивны, но воспитание, которое она получила, было слишком строгим, чтобы подчиняться логике. Один или два раза она пробовала есть бекон, но ничего хорошего из этого не вышло — ее просто стошнило.
— Тогда, я думаю, ты в отличие от нас попадешь на небеса, — сказала Вера. — А я просто не представляю себе жизни без моего бекона по утрам.
— Оставьте ее в покое, — попросил Сэнди, зевая. — В конце концов, что вы об этом знаете? Некоторые люди думают, что религиозные убеждения сводятся только к тому, что можно есть, а что — нельзя.
Марджори постаралась не обращать внимания на эту неожиданную поддержку.
— Дорогая, — сказала ей с усмешкой Вера, — я, по-видимому, наступила тебе на больную мозоль? Прости, пожалуйста.
— Живи и жить давай другим, — добавил Сэнди.
Марджори почувствовала, что эта блондинка удачно ее высмеяла. Она решила, как уже бывало и прежде, что все же будет иногда есть бекон. Для нее веселье за этим завтраком было явно испорчено.
Официантка только начала сервировать стол, когда лицо Марджори неожиданно исказилось непроизвольной гримасой. Острая горячая боль пронзила ее ногу от лодыжки до колена.
— Что с тобой? — спросил Сэнди.
— Ничего, ничего.
Все посмотрели на нее. В это время официантка поставила прямо перед ее носом яичницу с беконом для Фила, и она даже не могла передать ее ему. Чувствуя себя слабой и больной, она опустила голову на руки.
— Извините меня, это моя лодыжка. Адская боль. Я… я думаю, мне лучше пойти домой.
На нее обрушился поток сочувствия и советов, который был прерван Сэнди Голдстоуном. Он встал, бросил на стол ключи от своей машины и легко подхватил Марджори на руки.
— Она не может наступить на ногу. Билли, я отнесу ее в машину и отвезу домой. Если я через полчаса не вернусь, ты отвезешь всех остальных по домам. Тебе, Вера, я позвоню около трех.
Марджори безвольно подчинилась тому, что он ее нес на руках, так как не замечала почти ничего, кроме острой боли. Однако она заметила, что грубошерстная рубашка Сэнди сильно пахла лошадьми, и, как ни странно, этот запах вовсе не казался ей неприятным.
Доктор сказал, что причиной ее страданий стал постепенно увеличившийся отек: нога была сдавлена обувью. Он попытался снять с нее ботинок, но девушка дико закричала. Тогда без дальнейших церемоний он достал из своей сумки острый инструмент и разрезал на куски ее прекрасный новый ботинок.
— Ну, вот, — сказал он, осторожно удаляя обрезки ботинка и лоскутки носка, — теперь лучше, да?
— Гораздо лучше.
Надавив на опухоль и потыкав в нее пальцем, доктор заставил Марджори подвигать ногой и пошевелить пальцами. Ее смущало то, что Сэнди может видеть ее голую ногу.
— Через несколько дней у вас все пройдет, — сказал доктор, перевязав ей лодыжку, — это просто растяжение сухожилия.
Миссис Моргенштерн подняла остатки ботинка и жакет дочери, который смятым валялся на стуле.
— Ты, конечно, должна была отправиться ездить на лошадях сразу после трех уроков и, конечно, в новой одежде. Да еще вернуться с растянутой лодыжкой! Ну и ну! Я тебя поздравляю!
— В этом полностью моя вина, мадам, — сказал Сэнди. Она прекрасно ездит. Если бы не этот кнут…
— Я рад, что она снова вернулась к лошадям. Это единственная хорошая вещь во всей этой истории, — сказал отец. Он был так же бледен, как и его дочь, и до сих пор не проронил ни слова.
Миссис Моргенштерн холодно взглянула на Сэнди.
— Вы сказали, ваша фамилия Голдстоун?
— Голдстоун, мадам, — подтвердил Сэнди с добродушной улыбкой.
— Голдстоун… Скажите, Ева Голдстоун не ваша мать?
— Она моя тетя. Мою мать зовут Мэри Голдстоун.
— Это же замечательная женщина! — Миссис Моргенштерн выпрямилась, заулыбалась и снова бросила на стул разорванную одежду. — Она, кажется, вице-президент «Манхэттен Хадассах»?
— Да, мама очень увлечена этой работой.
— Вы ведь пропустили завтрак — я имею в виду ленч, как называет его Марджи. Вы, конечно, останетесь и позавтракаете с нами?
— Благодарю вас, мадам, но я думаю, что мне лучше уйти и…
— Да разве долго поджарить несколько яиц? После того, что произошло, вы, должно быть, голодны, и вы так хорошо позаботились о нашей дочери…
Сэнди взглянул на Марджори и вопросительно поднял брови. Она слегка пожала плечами.
— Большое спасибо. Я с удовольствием останусь, если это не причинит вам много хлопот.
— Какие хлопоты! — воскликнула хозяйка и тут же исчезла. Через десять минут она позвала их в столовую.
— Естественно, это только легкая закуска, что-либо варить не было времени.
На столе красовались блюда с копченой семгой, копченой белугой, копченой сельдью, салатом, томатами, вареными яйцами, тостами, датскими пирожными и кофейным тортом.
— О Господи! — сказал Сэнди; мистер Моргенштерн удивленно посмотрел на стол, а затем на жену.
Сэнди ел долго и с удовольствием, рассказывая о своих комических приключениях с лошадьми в Аризоне. Завтрак проходил очень весело. Марджи не сводила с Сэнди глаз, ее мать была им очарована, да и отец оттаял и начал смеяться. Они принялись уже за вторые чашки кофе, когда на кухне зазвонил телефон. Миссис Моргенштерн пошла снять трубку. Вернувшись, она выглядела взволнованной и зашептала что-то на ухо дочери. Вначале девушка казалась испуганной, но затем, взглянув на Сэнди, она уверенно улыбнулась.
— Конечно, мама, Джордж говорил, что может неожиданно прийти.
— Что ему сказать?
— Как что?! Ну, конечно, мамочка, скажи ему, пусть заходит.
3. Джордж
Джордж Дробес и Марджори Моргенштерн были знакомы уже почти два года.
Джордж был подвержен депрессиям. Он с большим увлечением учился на бактериолога, но, пройдя половину курса обучения, уже на пути к ученой степени вынужден был бросить учебу и идти работать в небольшую лавочку отца, которая торговала автомобильными запчастями в Бронксе. Конечно, ему не нравилось проводить дни в пыльном мраке на Южном бульваре под грохочущей и гудящей наземной железной дорогой, продавая приводные ремни, ступицы и втулки серолицым жителям Бронкса, в то время как его мысли были заняты такими чудесными вещами, как амебы и спирохеты. Но помочь ему никто не мог. Каждую неделю он методично откладывал часть своего жалованья (он не имел возможности посылать что-либо, чтобы поддержать большую семью Дробес). Джордж твердо решил, что вернется и закончит курс бактериологии, даже если ему стукнет пятьдесят.
Он был отнюдь не первым юношей, с которым встречалась Марджори. Еще до двенадцатилетнего возраста она ходила в сопровождении матери на школьные девичьи танцевальные вечера.
К пятнадцати годам, с официального, хотя и неохотного, согласия родителей, она уже пользовалась губной помадой, румянами, пудрой, красила брови, носила бюстгальтер, пояс с шелковыми чулками и модную одежду и раз и навсегда окунулась в море свиданий. Миссис Моргенштерн сопротивлялась этому до самого последнего момента со всей присущей ей энергией. Вначале, когда дочери было чуть больше четырнадцати, она протестовала против румян. Затем она согласилась на румяна, но возражала против губной помады. Потом она уступила в борьбе с помадой и объявила войну краске для бровей. Долгое время она держала усиленную оборону против любой одежды, которая выглядела взрослой, а именно такая одежда и вызывала в дочери интерес. Когда Марджори исполнилось пятнадцать, мать прекратила сопротивление. Дальнейшая борьба была бесполезна. Несмотря на отсутствие опыта и здравого смысла, Марджори уже выглядела такой же женственной, как и ее мать. Миссис Моргенштерн предоставила ее самой себе, возлагая надежды на лучшее. Такие уж наступили времена.
Марджи сразу же столкнулась с тем, что все мальчишки ее возраста считают естественным, и даже обязательным, заниматься сексом, хотя тайно и неумело. С ней это тоже могло случиться пару раз. Но ее инстинкт, поддерживаемый не очень ясными, но пугающими предупреждениями матери, заставлял ее строго пресекать подобные притязания. Каждый раз, когда первый трепет свидания проходил, она разочаровывалась. Все удовольствие для нее заключалось в самом факте, что она занимается взрослыми делами, как взрослая одевается и красится. Большинство мальчишек, которых она встречала, были прыщавыми долговязыми дураками. Все они пытались целовать, обнимать и лапать ее, а когда она это пресекала, сразу сникали. Никто из них не вызывал у нее сексуального возбуждения, хотя бы отдаленно похожего на то, что обещалось в кино и в журнальных рассказах. В первые восемь месяцев после ее пятнадцатилетия ей часто казалось, что все мужчины — гадкие увальни и что она из-за своей привередливости должна будет жить и умереть старой девой. Такая перспектива веселила ее. Это было в тот период ее жизни, когда у нее выработался целый ряд аргументов против замужества, когда она посмеивалась над сексом и заявляла, что собирается быть деловой женщиной, вместо того чтобы оказаться посудомойкой или кухаркой какого-нибудь мужчины.
А потом она встретила Джорджа Дробеса.
Он жил в Бронксе и входил в Еврейскую ассоциацию молодых людей. Марджори пришла туда посмотреть любительский спектакль «Страсть под вязами». Вместе с парнем, имя которого она уже забыла, хотя помнила, что у него были редкие зубы и потные ладони. После спектакля были танцы. Джордж Дробес пригласил ее. Первым впечатлением о нем было то, что у него приятно сухие ладони. Затем с некоторым удивлением она обнаружила, что танцует не с мальчиком, а с мужчиной. Она и раньше танцевала с мужчинами — с дядями, со старшими двадцатилетними кузенами, — но сейчас к ней впервые приблизился взрослый незнакомый мужчина, впервые в ее самостоятельной жизни.
Джордж приглашал ее несколько раз и в конце концов, выведя ее в танце в тихий коридор, попросил у нее номер телефона.
Марджори была ослеплена. Она еще не доросла до своего полного роста. Джордж был на голову выше ее. Она не видела ни его очков, ни покрасневшего носа, не слышала, что он гнусавит. Она видела серьезного учтивого двадцатилетнего мужчину, который за ней ухаживал. За ней, девчонкой пятнадцати с половиной лет, едва расставшейся с детскими играми, хлопающей пузырьками из жевательной резинки и вырезающей из журналов фотографии кинозвезд. У Джорджа было узкое худощавое лицо, тонкие губы и густые темные волосы. Улыбка его была мягкой и слегка меланхоличной. Она дала ему номер своего телефона, и некоторое время они еще проговорили о пустяках. Но он был для нее слишком крупной, сильной и ненадежной рыбой, попавшейся в ее неопытные сети. Она не могла думать ни о чем, кроме своего возраста, и в конце концов проговорилась. Джордж был поражен; по его словам, он дал бы ей все восемнадцать. Разговор заглох. Он отвел ее к спутнику с влажными руками и больше не приглашал. В ту ночь Марджори с трудом смогла заснуть, вспоминая Джорджа и ненавидя себя за то, что упустила его.
В течение следующих двух недель, когда бы ни зазвонил телефон, Марджори бросалась к нему с надеждой, но каждый раз звонил кто-нибудь другой, а не этот удивительный двадцатилетний мужчина. Почти месяц спустя, когда она уже потеряла всякую надежду, в один из дождливых вечеров он действительно позвонил. Он говорил резко и кратко. Помнит ли она его? Все ли у нее в порядке? Не хотела бы она пойти с ним на танцевальный вечер в Городской колледж? Да, да, да, отвечала Марджори, задыхаясь от волнения, и на этом разговор закончился. Она стояла с трубкой в руке, онемев от счастья.
Конечно, она должна была все рассказать матери. Миссис Моргенштерн потребовалось всего несколько минут, чтобы выведать у своей трясущейся дочери все, что она знала о Джордже Дробесе. Поскольку она была взволнована меньше, чем Марджи, ей удалось понять, что ему двадцать лет и он учится в колледже на бактериолога. Она не была в таком же восторге, как дочь, от того, что он пригласил на вечер девочку, которой нет еще шестнадцати.
— Если он действительно такой замечательный человек, что заставляет его возиться с таким ребенком, как ты? — спросила она.
— Ну, мама, ты всегда видишь все в черном цвете. Разве не может быть, что я ему просто понравилась?
В конце концов мать неохотно согласилась на это свидание дочери, и ей даже частично передалось ее волнение, когда она покупала ей в универмаге вечернее платье. Все две недели Марджори не думала ни о чем, кроме вечера танцев. Они с матерью вели нескончаемые дебаты о ее прическе, макияже, цвете туфель и форме груди. А в день свидания вообще весь дом семьи Моргенштерн был охвачен циклоном, в центре которого была сама Марджори, возбужденная и нетерпеливая. За час до назначенного времени все было готово. Теперь оставалось только ждать. Прошла целая вечность, прежде чем раздался звонок в дверь. Марджори побежала открывать. Она выглядела пятнадцатилетней девочкой с сияющими глазами, с развитой не по годам грудью, которая сейчас тяжело дышала под тюлевыми оборками ее голубого платья.
Увидев Джорджа, она чуть не потеряла сознание. Перед ней стоял смуглый красивый мужчина в форме армейского офицера, ярко сиявшей медными пуговицами. Во время телефонного разговора он сам так волновался, что забыл упомянуть: танцевальный вечер устраивался Резервным офицерским корпусом.
Военной формой он очаровал всю семью. Миссис Моргенштерн была с ним так вежлива, как ни с одним из кавалеров дочери. Отец же вообще ничего не говорил, а только смотрел на него почти с благоговением. Младший брат Марджори, Сет, одиннадцатилетний шустрый мальчишка, только что тщательно умытый, весело скакал вокруг гостя, салютуя и напевая песенку «Звезды и нашивки с нами всегда». Что же касается Марджори, то восторг от встречи ей омрачила внезапно появившаяся мысль, что их гостиная представляет собой отвратительную тесную дыру, обставленную ужасной, безвкусной мебелью. Она не могла понять, почему так долго этого не замечала.
Сюрпризам Джорджа не было конца. Оказалось, что он приехал на взятой напрокат у отца машине. Это был светло-зеленый старенький «шевроле», которым Джордж управлял с привычной легкостью. Мало того, у этого автомобиля было имя! Его звали «Пенелопа»! Ей это показалось невероятно оригинальной и умной затеей — дать имя автомобилю. Ее отец, например, управлял новым голубым «бьюиком», но никому и в голову не пришло давать ему имя. Это была просто машина, не идущая ни в какое сравнение с очаровательной «Пенелопой». Сидя на переднем сиденье «Пенелопы» рядом с Джорджем, Марджори чувствовала себя двадцатипятилетней.
Вся атмосфера танцевального вечера казалась ей призрачной. Воздух в колледже представлялся ей голубым и невесомым, как оборки ее платья. Когда она танцевала, у нее было ощущение, что она стоит неподвижно в сильных объятиях Джорджа, а вокруг нее мягко кружатся в такт музыке огромные голые стены, прекрасные офицеры с красивыми девушками, спортивные маты, штанги и принадлежности для плавания.
На пути домой Джордж остановил машину в уединенном, заросшем зеленью уголке парка, наполненном весенним ароматом. И тут Марджори обнаружила, что существует нечто большее, чем те влажные тыканья губами, которые в своих глупых играх они называли поцелуями; оказалось, что это касание ртов может быть сладким. Ей не представлялось опасным целоваться с Джорджем, ведь он был вежливым и добрым. Между поцелуями он изливал ей свои чувства. Он говорил, что в течение нескольких недель старался забыть ее, убеждая себя, что она для него слишком молода. Но это оказалось невозможным. Он пригласил ее на танцы для того, чтобы доказать самому себе, что она не сможет войти в его жизнь. Но вместо этого он все больше и больше влюбляется в нее. Ну кто станет отрицать, что она была на вечере самой очаровательной девушкой, самой грациозной, самой интеллигентной? В таком случае, какое значение имеет возраст?
— О Джордж, вы становитесь просто сумасшедшим!
— Да. Я никогда не испытывал ничего подобного. Я буду ждать пять лет, Марджори, десять лет, сколько вы скажете! Никто другой мне не нужен!
Слыша такие слова, Марджори окончательно капитулировала и целовалась с ним уже совершенно без страха. Она никогда не испытывала прежде такого блаженства. Как могла она скрывать свои чувства? Ведь она чувствует то же, что и он, и ей тоже никто другой никогда не будет нужен.
В последующие месяцы Джордж постепенно укреплял свои позиции. Он жил всего в одной остановке метро от Марджори. Ему нетрудно было устраивать то прогулки по парку, то посещения кино, а то и просто «случайные» встречи в кафе-мороженом или в соседней библиотеке. Вскоре Джордж приобрел еще одно дополнительное преимущество: миссис Моргенштерн открыто симпатизировала ему, говоря, что Марджори день ото дня становится лучше. Этого самого по себе уже было достаточно, чтобы девушка его обожала. Но он к тому же обладал массой других достоинств. По меркам шестнадцатилетней Марджори, он был взрослым, красивым, остроумным и учтивым. Кроме того, у него была «Пенелопа». И он волновал Марджори, как никто прежде. Со временем их нежные встречи становились все более теплыми. Но он был тактичен, и продвижение их интимных отношений шло довольно медленно; каждый новый шаг как бы естественно напрашивался сам собой. Часто перед нежными объятиями он хриплым голосом читал ей вслух поэму Эдна Миллей.
А потом Марджори переехала в западную часть Центрального парка.
Когда Джордж позвонил в дверь, она весело улыбалась Сэнди. Прежде чем пойти ему открыть, она немного замешкалась.
На пороге стоял Джордж в обычной серой куртке, обычном красном галстуке и держал в руках свою единственную коричневую шляпу с разлохмаченной лентой. Открывая ему дверь, она испытывала волнение, хотя он уже не ошеломлял ее, как прежде, божественной мужественностью. Его улыбка была такой же, как и прежде — широкой и мягкой, но чуть более меланхоличной, чем до того, как он получил бактерии для своих опытов. Из-за того, что в столовой находился Сэнди Голдстоун, да еще в костюме для верховой езды, Марджори немного смутилась.
— А, Джордж, входи.
— Боже мой, тебя укусила собака! — Джордж увидел ее завязанную ногу.
— Ничего… ничего страшного, небольшое растяжение. Проходи, ты как раз успел к кофе с тортом.
Она взяла его за руку и тепло пожала ее, стараясь этим жестом дать ему понять, что молодой симпатичный незнакомец, которого он сейчас увидит в столовой, для нее ничего не значит; после этого она ввела его в столовую.
Миссис Моргенштерн улыбнулась Джорджу одними губами. Сэнди Голдстоун встал с приветливым выражением лица, Марджори представила молодых людей друг другу.
Сэнди дружески протянул руку, а Джордж взял ее так, как будто это была телеграмма с плохими известиями, и коротко пожал. Марджори придвинула к столу рядом с собой еще один стул.
— Бедному Сэнди досталась нелегкая работа: он принес меня домой после того, как я довольно глупо упала с лошади. Ну, садись же, Джордж.
Джордж все еще стоял, вертя в руках коричневую шляпу.
— Я только что позавтракал. Я лучше подожду в гостиной.
— Не выдумывай, — она подтолкнула его к стулу, — не умрешь же ты от кофе с тортом.
— Торта больше нет, — сказала миссис Моргенштерн.
— Господи, ну пусть возьмет мой! — воскликнула Марджори. — Налей ему кофе, мама.
— Как поживают ваши родители, Джордж? — спросил мистер Моргенштерн.
— У папы снова открылась язва, — ответил молодой человек.
— А я думал, что его хорошо подлечили.
— Да это так и было, но только на некоторое время. Вообще-то он был на свадьбе и поел селедки.
— Селедки? Как глупо. — У мистера Моргенштерна не было язвы, но он боялся ее приобрести. Частенько, пока Марджори одевалась для прогулки, он любил поговорить с Джорджем о язве его отца. Ему было приятно слушать рассказ о симптомах мистера Дробеса, так как они были более острыми, чем у него самого. Он даже почувствовал особую симпатию к Джорджу однажды вечером, когда тот сказал ему, что его отца забрали в больницу с приступом.
— Я надеюсь, на этот раз он не в больнице?
— Нет, но если он не откажется от селедки, то попадет туда как пить дать.
— А я люблю копченую селедку, — проговорил Сэнди.
— Вам везет, — сказал мистер Моргенштерн, — вы еще так молоды, что можете не беспокоиться о язвах.
— Прошу вас! — прервала их мать. — Кому нужны эти язвы? Неужели мы должны сидеть за завтраком и разговаривать о каких-то язвах? — Она подала Джорджу чашку с кофе. Собираясь взять ее, он выронил шляпу, инстинктивно хотел ее схватить, зацепил чашку локтем и пролил кофе на стол.
— О Боже, миссис Моргенштерн, простите! О господи, это ужасно, прошу прощения…
— Ничего страшного. Кофейные пятна обычно отстирываются, — сказала хозяйка, вытирая коричневую жидкость тряпкой. — Но это был последний кофе, и я сейчас сварю еще.
— Я уверяю вас, что вовсе не хочу кофе. Я хотел взять его только из вежливости.
— Мне, пожалуй, пора, — произнес Сэнди.
— Не уходите, — сказал Джордж, — я потом вас отвезу, если позволите.
— Кто это собирается увозить кого-то из этого дома? — спросила хозяйка: — Прошу вас, Сэнди, проходите в гостиную.
В гостиной Сэнди уселся в самое удобное кресло, которое обычно занимал мистер Моргенштерн, а Джордж сел на низенькую скамеечку напротив искусственного камина и довольно неуклюже вытянул ноги. Он все еще держал в руках шляпу, непрерывно вертя ее. Подождав, пока все усядутся, Марджори села рядом с Джорджем на небольшую персикового цвета подушечку.
— Марджори, ты так травмируешь свою лодыжку, иди-ка садись рядом со мной.
— Ах, мама, успокойся! Она мне нисколько не мешает. Мне очень удобно.
Мистер Моргенштерн взял сигару и предложил закурить обоим молодым людям, но они отказались. Последовало молчание, во время которого только два человека были заняты делом — мистер Моргенштерн, закуривавший сигару, и Джордж, вертевший свою шляпу.
— А вы не курите, Сэнди? — спросила мать.
— О, что вы, мадам, я выкуриваю тонны сигарет. Сейчас мне просто не хочется, благодарю вас.
— Вы еще достаточно молоды и могли бы бросить эту привычку, — сказал мистер Моргенштерн. — Послушайтесь моего совета и бросайте.
— То же самое говорит и мой отец, — засмеялся Сэнди. — Сам он выкуривает двадцать сигар в день.
— Мистер Голдстоун — владелец универмага «Лэмз», — уточнила миссис Моргенштерн.
— О! — сказал Джордж, меняя направление вращения шляпы.
— На днях я собираюсь начать курить сигареты, — заявила Марджори, — мне нравится запах их дыма.
— Только через мой труп! — воскликнула миссис Моргенштерн.
— Это не так уж вредно, — успокоил ее Сэнди.
— Это очень неприлично, когда девушка курит, — сказала мать. — Замужняя женщина — другое дело, но не девушка. Сначала выйди замуж, а потом кури, сколько захочешь.
— Это верно, — отозвался Джордж. — Я думаю, что от курения девушка выглядит грубой.
— Что это вы такое говорите? — возмутилась миссис Моргенштерн. — Марджори ни от чего не может стать грубой.
— Конечно, я тоже так думаю. Но если от чего-то и сможет, то это будут сигареты.
— Ни от чего не сможет! — отрезала мать.
— Джордж, — сказала Марджи. — Ради Бога, положи наконец свою шляпу.
— Я и не заметил, что все еще держу ее, — признался Джордж, глядя на шляпу, которая продолжала вращаться в его руках. Марджори схватила ее и положила позади себя на стол.
— А что, ваш отец тоже занимается конным спортом? — спросил у Сэнди мистер Моргенштерн.
— В основном папа играет в гольф, но, когда мы собрались ехать в Аризону, он обучился езде на лошадях. Ведь там больше и делать нечего. И он ездит очень хорошо. Он вообще делает хорошо все, за что берется.
— Я вижу, ваш отец сильный мужчина и держит себя в хорошей форме, — сказал мистер Моргенштерн, вертя в пальцах сигару.
— Он меня во всем побеждает. Только в теннис со мной не любит играть, потому что я могу выиграть. А проигрывать он не любит.
— Похоже, что он прекрасный человек, — сказала миссис Моргенштерн. — Крупный бизнесмен, а находит время, чтобы поиграть с сыном.
Теперь Сэнди выглядел менее самоуверенным, даже почти робким. Он достал из кармана рубашки сигарету и зажег ее от желтой металлической зажигалки.
— Да, отец говорит, что собирается сделать из меня мужчину, чего бы это ему ни стоило. Он считает меня почти безнадежным.
— Держу пари, что это не так! — засмеялась миссис Моргенштерн. — Он просто хочет, чтобы вы пошли по его стопам.
— Да, я знаю. Но я скорее хотел бы быть доктором.
— Вы учитесь на подготовительных курсах? — взглянув на него с интересом, спросил Джордж, который до этого сидел в печальной задумчивости.
— Что-то вроде этого. Правда, неофициально, чтобы избежать семейных сцен. Но я прослушиваю все курсы.
— Быть доктором — это прекрасно, — заметила миссис Моргенштерн. — Но променять бизнес, сулящий миллионы долларов, на семилетнюю учебу и последующее отсиживание в крошечной приемной в течение еще не менее десяти лет, прежде чем достигнешь более или менее сносного существования… — Она пожала плечами и улыбнулась. — Со временем вы это поймете.
— Вы на стороне моего отца, — присвистнув от удивления, сказал Сэнди. — Он говорит точно то же самое.
— А я на вашей стороне, — поддержал его Джордж. — Я сам бактериолог. Я скорее согласился бы брать анализы крови в какой-нибудь благотворительной больнице, чем участвовать в соревновании миллионеров.
— Это, может быть, и так, — парировала миссис Моргенштерн, — но подождите сначала, чтобы вас кто-нибудь пригласил в нем участвовать.
— А я хотел бы быть доктором, — признался мистер Моргенштерн.
— Вы говорите, что каждый мужчина хочет быть доктором или писателем, — сказала миссис Моргенштерн. — Это как болезнь, хотя все писатели и половина докторов живут впроголодь. А почему? Потому что большинство людей здоровы, и мало кто читает книги. Это так просто понять. Бизнес — вот что заставляет мир крутиться. Но еще никто не сказал доброго слова о бизнесе.
Марджори, смеясь, объяснила Сэнди:
— Это старый семейный конфликт. Папа хочет, чтобы мой брат Сет стал доктором, а мама толкает его в бизнес.
— А чем же хочет заниматься сам Сет? — спросил Сэнди.
— Он очень честолюбивый, — ответила мать. — Он хочет быть первым человеком, который полетит на Луну.
— Я его понимаю! — расхохотался Сэнди.
Он встал и, прощаясь, протянул руку Джорджу.
— Мне пора идти. Рад был встретить вас. Вы, кажется, работаете в больнице?
Джордж, слегка скривившись, ответил:
— В этом плане я — плохой образец. Я уступил и теперь помогаю отцу. Надеюсь, что только временно.
— Это провидение, — сказал Сэнди.
— Запомните мои слова, — грустно заметил Джордж. — На вас перестают давить, только когда вы становитесь старше.
— Я догадываюсь, — сдержанно ответил Сэнди.
— Помимо всего прочего, Джордж, — сказала миссис Моргенштерн, — твой магазин запчастей в Бронксе — не ровня «Лэмз».
Марджори раздраженно бросила:
— В принципе — одно и то же, мама.
— А, в принципе, — произнесла миссис Моргенштерн.
Марджори, хромая, пошла с Сэнди к двери, предупреждая мать гневным взглядом, чтобы она не сопровождала их.
— Спасибо за ленч, передайте мою благодарность вашей маме, — сказал Сэнди.
— Спасибо, что доставили меня домой, — ответила Марджори, открывая дверь и вызывая лифт. — Я надеюсь, Вера не сердится на вас.
Сэнди усмехнулся.
— Она кипит от негодования, я уверен.
Он прислонился к стене, выудил сигарету из кармана рубашки и закурил.
Непринужденные жесты, загар, слабый запах конского пота от красной рубашки, спокойная мужская усмешка делали его похожим на ковбоя и выглядели неуместно в холле этой квартиры. Он говорил с аризонским акцентом; возможно, это было его естественное произношение. Но оно казалось очень странным для еврейского мальчика из Манхэттена. Все это придавало Сэнди особую привлекательность, которая тускнела в гостиной, особенно если он разговаривал со своим отцом.
Она опять нажала кнопку.
— Ах уж эти лифты…
— Я не тороплюсь. Мы можем немного поболтать.
— О чем? О Вере Кешман?
Он взглянул на нее, приподняв брови, и взъерошил ей волосы.
— Перестань, — сказала она, вскидывая голову.
— Мне понравился твой Джордж. Хотя он немного староват для тебя.
— Надо же, как много ты знаешь!
— Позволь рассказать тебе кое-что о верховой езде, — сказал Сэнди. — Ты никогда не должна забывать одну вещь. Ты — человек, а он — конь. Главное, всегда имей в виду, что ты лучше, чем он, даже если он в четыре раза сильнее и в восемь раз больше тебя. Теперь, когда этот вопрос…
Лифт с шумом приехал.
— О Боже, на самом интересном месте! — посетовала Марджори.
Сэнди опять взъерошил ей волосы.
— Ты напоминаешь мне мою сестренку.
Он усмехнулся и помахал ей из лифта:
— Не скучай и береги ногу. Пока!
Марджори вернулась в гостиную и услышала разговор отца с Джорджем:
— Когда его начало рвать? После того, как он лег в постель?
Мать вышла из комнаты.
— Нет, сразу после того, как он приехал домой, — ответил Джордж.
— Боль росла или уменьшалась?
— Господи! — возмутилась Марджори. — Это опять язва?
— Ну, хорошо. — Отец встал и, выходя из комнаты, сказал: — Передай ему мой совет, Джордж. Пусть не ест копченого.
— Этот Сэнди кажется мне хорошим парнем. Он из Колумбии? — спросил Джордж, обращаясь к Марджори.
Она кивнула.
— Он что — единственный, кто пригласил тебя на танцы?
— О Боже, нет. Я пошла с толстяком, которого зовут Билли Эйрманн. Еще я ходила с ним кататься верхом. Когда я повредила ногу, он только запаниковал. А Сэнди взял все в свои руки и привез меня домой. У него есть потрясающая девушка. Богатая блондинка из колледжа Корнелл.
— Он предпочтет тебя, если умный.
— Не все такие умные, как ты.
— Как твоя лодыжка сейчас?
— Гораздо лучше. С тех пор как доктор снял ботинок, все прекрасно.
— Я вижу, — сказал Джордж, посматривая на толстую белую повязку, — похоже, наши поездки закончились. А жаль, я хотел кое-что предложить.
— Любопытно, что?
— Разное.
Марджори почувствовала угрызения совести.
— Наверное, я смогу поехать, Джордж, если ты действительно что-то планируешь.
Джордж просиял.
— Ты поедешь? Я заказал столик… Но все это — сюрприз. Ты действительно сможешь поехать?
— Я спрошу у мамы.
Машины ползли, гудя сиренами, под низким оранжевым солнцем, между параллельными рядами зеленых деревьев и серого бетона. Одуванчики задыхались на узких разделительных полосах. «Пенелопа» стонала и гремела, поднимаясь вверх на второй передаче. Они ехали очень медленно. Далеко впереди на магистралях Лонг-Айленда Марджори видела тысячи автомобилей в двух широких темных потоках, вьющихся в грязно-голубом тумане выхлопных газов. Джордж нажал гудок, и «Пенелопа» издала звук, напоминающий смешок больного старика.
— Дорогой, это не поможет, — сказала Марджори.
Она сидела неудобно, положив больную ногу на здоровую. Ей мешала ослабевшая пружина в сиденье. «Пенелопа» стала почти развалиной за год. Зеленую краску местами разъедала ржавчина, обивка сидений в полдюжине мест порвалась, стекло в ветровом щите удерживалось пластырем. Хуже всего был шум снизу, периодически переходящий в подозрительный скрежет. Джордж сказал, что не стоит беспокоиться — это разболталась трансмиссия. Но Марджори все равно нервничала.
Вся поездка немного тревожила ее. Она начинала раскаиваться, что назло матери согласилась на эту затею. Она могла легко отказаться, сославшись на больную ногу, зная, что в первое хорошее воскресенье мая магистрали ужасны. Но для нее было вопросом чести — настаивать на всем, что не нравилось матери, тем более, Джордж так беспокоился из-за этой поездки. Джордж вел себя странно.
Он пригласил ее на ужин в «Вилла Марлен», сказав, что это самый дорогой ресторан на Лонг-Айленде. Ей было интересно, как он мог позволить себе такую роскошь и ради чего. Но он избегал ее вопросов с таинственным подмигиванием и усмешкой.
Чтобы отвлечься от давки, головной боли, таинственности Джорджа и шума Пенелопы, она предложила сыграть в «Двадцать вопросов». Они играли больше часа, до тех пор, пока теснота не уменьшилась за Минеолой и они поехали быстрее по очаровательной сельской местности, проезжая зеленые поместья и фермы. Она победила Джорджа четыре раза, что раздражало его, а ее очень радовало. Во время длинных прогулок они всегда любили играть в «Двадцать вопросов». Сначала Джордж постоянно выигрывал, одно время они были на равных, а теперь он редко побеждал. Это объяснялось тем, что Марджори закончила колледж позже, чем Джордж, к тому же у него не было времени читать книги. Под конец он сказал, что ему надоело играть, и дальше они ехали молча.
От свежего сельского воздуха головная боль Марджори прошла, но девушка забеспокоилась еще больше, когда они въехали в сплошной туман, а позже — в голубоватые сумерки. Она пыталась заговорить с Джорджем, но он не отвечал, а только подмигивал и гладил ее коленку.
Ей не нравился этот хозяйский жест, но она не знала, как остановить его. Ведь раньше Джордж гладил ее колени сотни раз с ее восторженного одобрения.
Первый взгляд на знаменитый ресторан разочаровал ее. Марджори ожидала увидеть красиво освещенный сад, аллеи деревьев, возможно, пруд с белыми лебедями. Но вместо этого был всего лишь приземистый серый деревянный дом с выцветшим знаком над входом, клочками лужаек, несколькими деревьями и кустами сирени. Стоянка была забита «кадиллаками» и «крайслерами». «Пенелопа» втиснулась между двумя массивными автомобилями, заглохла с пыхтением и выглядела по-дурацки. Служитель при стоянке торопливо подошел к ним. Быстро оглядев автомобиль, одежду Джорджа и забинтованную ногу Марджори, он сказал с немецким акцентом:
— Извините, но все места заняты.
— Спасибо, — ответил Джордж, — мы заказали столик заранее. Пойдем, Мардж.
Они обошли фасад и поднялись по ступенькам. Высокий седой мужчина в блестящем пиджаке с пачкой меню в руке открыл дверь и загородил им вход.
— Извините, все места заняты.
— Я заказал столик заранее на фамилию Дробес.
Мужчина заглянул в списки.
— Извините, сэр. Но здесь нет фамилии Трауб.
— Не Трауб, а Дробес. Это просто смешно! — Джордж повысил голос. — Я заказывал столик в полдень, на семь часов.
Метрдотель снова посмотрел в списки.
— Мистер Трауб, сэр, — сказал он наконец укоряющим тоном, — сейчас четверть восьмого.
— Я понимаю. Мы попали в пробку. Мы ехали два с половиной часа и очень проголодались.
— Вам придется подождать, мистер Трауб. Может быть, долго.
— Хорошо, мы подождем. Входи, Мардж.
Метрдотель шагнул назад, пожав плечами, и показал Джорджу и Марджори дорогу через ярко освещенный обеденный зал, полный веселых разговаривающих людей, в затемненную гостиную, которая использовалась как бар, меблированный бледно-коричневыми плюшевыми креслами и диванами. С тех пор как пиво и вино были разрешены, в ресторанах наподобие «Вилла Марлен» позволяли себе немного вольничать с законом. В одном углу бара шумела пьяная компания старшеклассников с бритыми головами. Кроме них, в баре находилось с десяток других парочек: некоторые из них пили, некоторые просто сидели. Почти все они были хорошо одеты, и почти у всех на лицах отражался отчаянный голод.
— Дайте нам столик побыстрее, насколько это возможно: мы голодны, — сказал Джордж.
— Воскресный вечер, мистер Трауб, — ответил метрдотель, обращаясь к Джорджу, не поворачивая головы. — Сделаю все возможное.
Он быстро пошел ко входу встречать вновь вошедших, уронив при этом два меню, как бы случайно, на ручку кресла, где сидел Джордж. После многочисленных попыток Джордж наконец обратил на себя внимание официанта в красном пиджаке, который слонялся вокруг старшеклассников. Официант подошел, размахивая блокнотом, и, вглядываясь в Джорджа, спросил:
— Чего желаете, сэр?
— Одно виски, имбирного пива и одна кока-кола.
Официант посмотрел на него, с недовольным видом записал заказ и вернулся к своему посту около школьников, где простоял без движения с четверть часа. Джордж начал нервничать, потом стал щелкать пальцами. Школьники заказали еще спиртного. Официант с поклонами и улыбками поспешил мимо Джорджа, когда тот поймал его и потянул в сторону. Официант остановился, смотря на Джорджа, будто он прозрачный.
— Какого черта вы не отходите от этих пьяниц? — спросил Джордж.
— Они пришли раньше вас, сэр.
— Почему мы ждем уже пятнадцать минут из-за них?
— Воскресный вечер, сэр.
Холодная кока-кола немного успокоила голодный желудок Марджори. Джордж с унылым видом потягивал виски. Школьники, ведомые официантом, потянулись к большому круглому обеденному столу в гостиной, выкрикивая шутки. Они были похожи, как братья: бритоголовые, с массивными подбородками, с золотыми кольцами и запонками, в белоснежных рубашках и серых брюках. Марджори злилась на них. А причина была в том, что Джордж выглядел совершенно иначе, и в том, что только один из них взглянул на нее, и еще — они шли есть. Сэнди Голдстоун, подумала она, все равно намного красивее любого из них.
Парочки, одна за одной, были приглашены ужинать, а другие сидели с голодными взглядами. Вскоре Джордж заметил, что некоторые пришедшие после них уже заняли столики. Он переминался, подскакивал и махал рукой, пока метрдотель не подошел к нему.
— Мы пришли раньше этих людей.
— Извините, сэр. Они заказали столики заранее.
— Я сделал заказ на два часа раньше них.
— Не беспокойтесь, сэр. Теперь уже недолго, мистер Трауб.
Когда бар уже опустел и официант, зевая, протирал столы, метрдотель подошел к ним улыбаясь.
— Пожалуйста, сюда, сэр.
Он посадил их за украшенный цветами стол, который находился на застекленной террасе, по соседству с пожилыми людьми. Марджори предположила, что они богаты — по их хорошей одежде, непривычным сухим голосам и ведеркам с шампанским, стоящим на столах.
Джордж попытался заказать филе камбалы. Метрдотель вежливо, но очень настойчиво рекомендовал фирменное блюдо — утиное жаркое по-лонг-айлендски. Джордж сдался.
— Хорошо, две порции и шампанское, — воинственно добавил он.
— Да, сэр. Какое именно шампанское?
— Любое хорошее шампанское.
— Очень хорошо, сэр.
Прошло полчаса, но заказ не принесли. Джордж сказал Марджори:
— Я ничего не ел после завтрака и умираю с голоду.
Он стал стучать ножом о рюмку, глядя на метрдотеля, как загнанный в угол зверь. Метрдотель почтительно объяснил ему, что в «Вилла Марлен» все готовится в порядке очереди. Джордж заказал еще булочек, масла и салат. «Теперь скоро, сэр». Прошло много времени. Люди за соседним столиком уже пили кофе, оживленно обсуждая, был ли президент Рузвельт преступником или просто сумасшедшим. «Франклин — просто посредственность, не больше, — утверждал худощавый мужчина с волосатой родинкой на подбородке, откинувшись назад и держа в одной руке длинную дымящуюся сигару. — Он был посредственностью, когда мы вместе работали в Морском министерстве. Он и сейчас посредственность». Джордж вертел вилку, а Марджори грызла ногти. Через 45 минут официант принес уток, корзинку булочек, салат и овощи. Пока он суетился вокруг овощей, подошел метрдотель с блестящими режущими инструментами и умело разрезал птиц.
Между тем Джордж и Марджори с неприличной скоростью набросились на булочки. Закончив разделывание уток, метрдотель передал официанту тарелку, полную маленьких крылышек, бедрышек и лапок. После этого он понес на кухню два утиных скелета с остатками мяса; очевидно, в «Вилла Марлен» придерживались обычая есть только туловище. Марджори застонала:
— Господи, скажи, чтобы он принес тех уток назад. Столько мяса…
Джордж прочавкал что-то непонятное, его рот был набит хлебом, а глаза не отрывались от мяса, которое осталось на столе.
Как только они съели все заказанное и выпили пару рюмок, все вокруг изменилось. Метрдотель, стоящий у входа, больше не напоминал Марджори задирающегося сноба, а казался искренним и приятным хозяином, розовощеким и смеющимся хранителем гостиницы в стиле Диккенса. Еда была прелестна и изумительна, лучшее, что она вообще когда-нибудь ела. «Вилла Марлен» действительно была очаровательным место, с обоями, на которых розовые французы танцевали менуэт, с приятным освещением и ароматом сирени, витающим в воздухе. Богачи за соседним столом выглядели как элегантные аристократы старой школы, и было восхитительно обедать рядом с ними. Настроение Джорджа тоже улучшилось. Он выпрямился, его лицо порозовело, а взгляд оживился. Откинувшись на спинку стула и держа в одной руке сигару, он потягивал шампанское, в точности как тот старик, который назвал Франклина посредственностью. Марджори решила, что Джордж гораздо привлекательнее, чем эти школьники (которые ушли больше часа назад). Марджори выпила несколько бокалов шампанского и почувствовала сильное возбуждение.
— Все хорошо? — спросил Джордж, глядя на нее сквозь сигарный дым.
— Превосходно, — ответила Марджори.
Метрдотель наполнил их бокалы остатками шампанского и опустил бутылку вниз горлышком в ведерко.
— Спасибо, мадам, — он поклонился. — Может быть, вы хотите немного бренди, сэр?
— Пожалуй, — ответил Джордж. — А ты будешь, Марджори?
— Я лучше не буду, спасибо.
Ее зубы едва разжимались, она слышала свой голос издалека, как эхо.
— Теперь главное, — сказал Джордж, когда официант принес кофе и поставил перед ним бренди, мерцающее в рюмке пузырьками. — Ты готова?
— Конечно, — сказала Марджори, — к чему?
— К сюрпризу.
Теперь Марджори с угрызениями совести вспомнила о намеках, подмигивании и поглаживании колен.
— Я догадываюсь, что ты имеешь в виду. Я ужасно благодарна тебе за все, Джордж, но мне больше ничего не нужно…
Неумолимая рука Джорджа исчезла в кармане пиджака. Марджори поняла, что будет дальше, раньше, чем увидела маленькую голубую коробочку из кожи, в которой, мигая и поблескивая, лежали два кольца на красном бархате.
— О Джордж… Джордж!
— Приятные, не правда ли? — его глаза сверкнули.
— Да, они прекрасны, но, Джордж, я потрясена…
— Это будет не на следующей неделе или в следующем месяце, — сказал Джордж нетерпеливо, — или даже в следующем году. Мы только должны знать, на чем мы остановились, и пусть каждый помнит…
Марджори поднесла бокал с шампанским ко рту и намеренно пила его маленькими глотками, глядя на Джорджа поверх края бокала испуганными глазами.
Когда ей было пятнадцать, шестнадцать, она провела тысячу блаженных часов, мечтая об этом событии, страстно ожидая момента, когда оно наступит. Сейчас этот момент пришел, но она не хотела этого так сразу. Она старалась не думать об этом, говоря себе, что слишком молода для обручения, упуская из виду, что раньше она считала себя достаточно взрослой для этого. Нарушая предостережения матери, она поцеловала Джорджа и поклялась, что никогда никого не любила, кроме него; и вот два кольца смотрят ей в лицо.
Даже сейчас Марджори, прижатая к стене, не могла признаться себе в том, что мать была права: Джордж порядочный, но скучный парень, и она сделала глупость, поддавшись слепому увлечению. Она тронута его поступком и благодарна Джорджу. В то же время ее злило, что он так неуклюже настаивает. Ведь она только сейчас начала открывать для себя мир. Почему он так торопится? Почему он просит ее закрыться от мира в семнадцать лет? Это несправедливо.
Она поставила бокал. «Фу, какая гадость. Я как будто плыву». Джордж торопливо махнул метрдотелю:
— Давай откроем еще бутылку, отметим праздник…
— О Боже, не надо! — Она посмотрела на часы. — Дорогой, ты знаешь, что уже начало одиннадцатого? Мы не попадем домой до утра при таком движении. Мама будет беспокоиться. Может, поедем?
— Но нам надо о многом поговорить. Это важный момент в нашей жизни…
— Дорогой, у нас будет достаточно времени в дороге поговорить обо всем, часа три…
Тогда Джордж попросил счет. Метрдотель принес сдачу на металлическом подносе и с поклоном спросил:
— Вы довольны ужином, сэр?
— Вполне, вполне, спасибо! — Джордж повертел в руке банкноту в пять долларов и дал ее метрдотелю, оставив на столе два доллара для официанта.
— Спасибо, сэр. До свидания, мадам. До свидания, мистер Трауб! — Он поклонился снова.
Они вышли в холодную ночь, и дверь закрылась за ними. Джордж потряс головой и сказал с ошеломленным видом:
— Может, я схожу с ума? Почему я дал этому идиоту пять долларов?
Служителя на стоянке он наградил десятью центами, и тот громко выругался по-немецки им вслед.
Мотор «Пенелопы» работал гораздо хуже, когда они выехали домой. Стон под сиденьем сменился скрежетом.
— Дорогой, что это за шум? — с тревогой спросила Марджори.
Джордж прислушался и прикусил губу:
— Ну, с этим ничего не поделаешь. Трансмиссия разболталась. Иногда она вот так скрежещет, а иногда мурлыкает, как котенок, вот увидишь.
На дороге они видели линии белых и красных автомобильных огней, скользящих навстречу друг другу.
— О, дорогой, — сказала Марджори.
— Да, воскресный вечер, — ответил Джордж. За десять минут, благодаря сложным маневрам он втиснул машину в сплошной поток автомобилей, движущихся в западном направлении.
— Ну, ладно, — сказал он ей, усмехаясь, — вот и город.
Он вытянулся и взъерошил ей волосы, неприятно напомнив этим Сэнди Голдстоуна.
— Не беспокойся, ты будешь в своей маленькой кроватке в полночь.
Джордж вытащил коробку с кольцами из кармана:
— Посмотри еще на них. Правда, прелесть?
— Джордж, они, должно быть, стоят целое состояние.
Она глядела на кольца при тусклом желтом свете дорожных фонарей.
— Какая разница? Они твои.
— Нет, правда. Я знаю, как тяжело зарабатывать…
— Ну, иногда полезно иметь в семье ювелира. — Джордж хитро посмотрел на нее.
— Это дядя Альби дал их тебе?
— Марджори, все нормально. Это была его идея. Я ему заплачу за них, когда у меня будут деньги.
Машина скрежетала так громко, что Джорджу приходилось кричать.
— И что потом?
Зубы Марджори выбивали дробь в такт движению автомобиля.
— Что?
Марджори повторила вопрос громче. Джордж, сжимая руль машины, который начал вибрировать, ответил:
— Какая разница? Дорогая, я работаю в Бронксе, стараясь накопить достаточно денег, чтобы закончить образование. А ты тем временем встречаешь новых парней, ходишь на танцы. Как ты думаешь, что я должен чувствовать? Я беспокоюсь. Я не могу сказать, что ты…
Он внезапно замолчал, его тело застыло в напряженной позе, руки вцепились в руль. «Пенелопа» неожиданно стала разваливаться прямо на дороге, трясясь и грохоча, наполняя салон запахом горящего железа. Снизу поползли струйки дыма. Джордж свернул на обочину, автомобиль ехал, подпрыгивая на мягкой земле. Джордж выключил зажигание, навалился на Марджори, чтобы открыть дверь, и вытолкнул ее наружу.
— Подвинься.
Марджори выскочила, промочила ноги и, повернувшись, стала наблюдать, как Джордж осторожно открыл капот и карманным фонариком осветил двигатель. Он нырнул под колеса и посветил там.
«Пенелопа» стояла, накренившись на один бок. Автомобили проносились по дороге с большой скоростью, никто не остановился, чтобы посмотреть на аварию или предложить помощь. Джордж поднялся и махнул Марджори:
— Иди сюда. Полетела передача.
Возвращаясь к автомобилю, Марджори почувствовала, что держит в руке какой-то предмет. Разжав ладонь, она с удивлением увидела на ней коробочку с кольцами.
— Что же теперь делать? — спросила она Джорджа.
— Позвонить и вызвать машину для буксировки, что же еще? — Он пожал плечами, захлопнул капот и посмотрел через поток машин.
— Я думаю, что надо найти полицейский пост. Он где-то там, внизу. Ты пойдешь со мной или останешься здесь? Я вернусь через несколько минут.
— Я лучше останусь здесь, из-за ноги, Джордж.
— Ладно.
Он открыл дверцу автомобиля.
— Садись в машину, там тебе будет удобнее.
— Джордж, — окликнула она, когда он уже немного отошел.
— Да?
— Может быть, ты лучше возьмешь это себе? Я все время теряю вещи.
Лунный свет блеснул на его очках, когда Джордж взял коробочку.
— Правильно, — сказал он без выражения.
Он бережно положил коробку в карман и пошел вниз по дороге, махая фонариком.
Марджори вернулась домой уже после часа. В квартире было темно и тихо. На ее кровати лежала записка, написанная неровным почерком матери. «Звонил Сэнди Голдстоун и хотел узнать, как твоя нога. Звонил три раза».
Часть вторая Маша
4. Сэнди и Марджори
Билли Эйрманн слыл олухом в своем студенческом братстве, поэтому знакомство с ним в Колумбийском колледже принесло Марджори мало пользы; но вскоре после того, как Сэнди Голдстоун начал встречаться с ней, телефон Марджори стал бешено трезвонить. Несмотря на то что она была веселой и хорошенькой девушкой, ей требовалась поддержка Сэнди, поскольку Марджори училась в Хантере. По оценке друзей Сэнди из Вест-Сайда, жизнь севернее 96-й стрит — это признак непригодности. Чванливость, конечно, бывает разной. Богатые еврейские семьи, которые жили в верхнем Ист-Сайде, были обеспокоены тем, что мальчики из Вест-Сайда встречаются с их дочерьми. И эти семьи, вполне вероятно, побудили другие состоятельные семьи поинтересоваться, что происходит на Парк-авеню и Пятой авеню. Смешение наций и кланов интересовало маленькую Марджори Моргенштерн не больше, чем планета Сатурн. Однако, по мнению Марджори, ее продвижение вверх было подобно взлету ракеты. Сперва Сэнди Голдстоун с ней стал встречаться. За ним последовали Билли Драйфук, Дэн Кадан, Норман Фишер, Нейл Вейн, Аллен Орбах. Вскоре ей пришлось купить себе маленькую записную книжку в кожаном переплете, чтобы фиксировать ход своих встреч. От стремительного успеха она просто потеряла голову. Пожалуй, то же самое случилось и с ее мамашей. Миссис Моргенштерн повела ее с собой по манхэттенским магазинам и купила ей кучу новых дорогих платьев.
Когда отец посмотрел на счета, которые были им не по средствам, миссис Моргенштерн объяснила все очень просто:
— Девушка семнадцати лет не может ходить в тряпье.
Марджори уже в течение двух лет убеждала мать, что девушки пятнадцати и шестнадцати лет не могут носить тряпье (под тряпьем она подразумевала приличный гардероб, состоящий из недорогих и недешевых платьев), но мать была глуха к этой теории до настоящего момента. Марджори увидела в ее перемене коварный план заманить в ловушку Сэнди Голдстоуна, поэтому в благодарность за платья отпускала циничные замечания. Но она была несправедлива к матери. Миссис Моргенштерн, конечно, надеялась, что однажды дочь станет наследницей универсального магазина или чего-нибудь в этом роде. Однако в основном ее увлекла расцветающая красота дочери: казалось, девушка становится лучше день ото дня в лучах успеха, или под действием весны, или же под взглядами молодых людей, преследующих Марджори. Язвительная, несмотря на дружеское отношение матери, Марджори действительно превзошла ее. В семнадцать лет Роза Капперберд была эмигранткой, говорившей на идише и вынужденной работать в грязном бруклинском кондитерском магазине. Она одевалась в настоящие лохмотья. Когда она увидела свою дочь расцветшей в западной части Центрального парка, ее собственная несчастная юность ожила в памяти. Ей казалось, что Марджори живет, словно сказочная принцесса. Она завидовала ей, восхищалась и чуточку боялась ее, а растущая популярность дочери приводила ее в восторг. Падение же Джорджа Дробеса в глазах Марджори миссис Моргенштерн воспринимала как должное.
После ужина в «Вилла Марлен» шансы Джорджа на успех заметно снизились. В течение двух недель он хранил глубокое молчание, затем позвонил Марджори. Она, как обычно, мило с ним побеседовала, и они продолжали видеться время от времени. Но совесть Марджори все меньше и меньше тревожилась по поводу новых знакомств. Встречаясь с Марджори, Джордж потерял два больших преимущества, которые, вероятно, и дали бы ему возможность жениться на ней, если бы ничего не помешало. Когда ей было пятнадцать, она восхищенно смотрела на него, двадцатилетнего, снизу вверх; однако Марджори быстро выросла, а Джордж остался на прежнем уровне. Он был первым человеком, кто разбудил в ней женщину своими поцелуями, и поэтому очарование секса связывалось в ее сознании с Джорджем Дробесом. Он еще надеялся, что сможет удержать ее, пока она была под впечатлением этих хрупких иллюзий. Но поломка «Пенелопы» лишила Джорджа не только средства передвижения. Он потерял единственную возможность интимного общения с Марджори, поскольку теперь не было автомобильного сиденья, окутанного полумраком. А так как Марджори отказывалась обниматься в коридорах или на скамейках в парке, Джордж был поставлен в тупик.
Единственное его утешение заключалось в том, что Марджори еще ни с кем не обнималась. Но это происходило не из-за того, что у нее не было такой возможности, или из-за отсутствия партнеров. Вечер за вечером она оказывалась в полумраке салона на автомобильных сиденьях, более роскошных, чем сиденья «Пенелопы», но сталкивалась со старыми проблемами. Просто изумительно, когда тебя приглашают в самые лучшие танцевальные заведения и ты можешь поболтать о Балтиморе, Рузвельте, святом Реджисе, Гае Ломбардо и Глене Грэе; но в конце концов в финале ждет одно и то же. Центральный парк и Бронкс ничем не отличались в этом отношении. Марджори заметила, что под конец вечера все молодые люди ведут себя одинаково комично: тяжело дыша, моргая глазами, сжимая руки, они хрипло и неубедительно бормочут что-то о чувствах. Но после того как Марджори пару раз с невинным видом посмеялась над ними, она поняла, какую сделала ошибку. Это поведение оказалось слишком расхолаживающим. Они в ярости отвозили ее домой и никогда с ней больше не заговаривали. Ее основная задача заключалась в том, чтобы избежать развития интимных отношений, а не избегать молодых людей как таковых. Их недовольство ее моральными установками было безнадежным и походило на возмущение погодой. Каждый молодой человек пытался сделать одно и то же, но до сих пор — безрезультатно.
Однако Марджори не могла не почувствовать, что у них тоже есть какие-то права. Они с расточительством развлекали ее. Должны ли они получать вознаграждение? В теории она знала, что спутник, сопровождавший ее на вечер, рассчитывал на вознаграждение. Теория должна подтверждаться фактами. В результате постоянного давления Марджори вскоре выработала два правила: первое — никогда не допускать обниманий, и второе — не целоваться в первые две встречи; затем один поцелуй в качестве пожелания спокойной ночи и, может быть, еще один, чтобы прервать продолжительную мольбу.
Казалось, эта тактика срабатывала: молодые люди ворчали, выражали недовольство и скулили, но через некоторое время снова приглашали ее. Однако она приобрела репутацию «фригидной женщины». Обманутый в своих надеждах одним поцелуем молодой человек произносил эти слова, чтобы успокоить самолюбие. Этот диагноз не беспокоил Марджори. В столовой колледжа Хантера она слышала множество разговоров об обниманиях. Она знала, что ребята так же часто бросают девушек, которые свободно обнимаются, как и не занимающихся этим. Марджори пришла к выводу, что молодых людей больше притягивает сдерживаемый секс, чем вседозволенный; и так как в этом заключалось немало здравого смысла, то со временем она смогла избежать неприятностей.
Единственным исключением, как ни странно, был Сэнди Голдстоун. Хотя он приглашал ее чаще, чем другие, он даже не пытался поцеловать ее, прощаясь и желая спокойной ночи. Сперва Марджори была признательна ему за эту необычную сдержанность. Затем ей стало интересно, не скрывается ли за таким поведением первый шаг к совершению какой-либо подлости. Но он продолжал упорствовать в своем дружеском отношении, и ее это стало чуточку раздражать. Все шло своим чередом, рыцарству, казалось, понадобился человек, который бы сам предпринял робкие шаги на пути к нежным отношениям. Несмотря на это, он был превосходным танцором, и, очевидно, ему нравилась компания Марджори. Черный юмор Сэнди, по-прежнему обращенный на него самого, очень веселил ее. Марджори была озадачена его скромностью, не понимая, чем она объясняется, и просто получала удовольствие, находясь рядом с ним.
Май перешел в июнь, и наступила пора экзаменов. Марджори пришлось отложить все любовные дела и засесть за книги. Ее методика была хладнокровна и стандартизирована. За ночь перед экзаменом она прочитывала учебник с таким увлечением, как будто это был детективный роман; когда в день у нее было два экзамена, она прочитывала оба учебника за одну ночь. Ее мозг можно было сравнить с переносным фотоаппаратом: он запечатлевал информацию изучаемого предмета и отлично удерживал ее в течение двадцати четырех часов, затем в течение недели она становилась расплывчатой, а за месяц сводилась на нет. Марджори в большом количестве пила кофе, упаковками поглощала аспирин, спала всего по два или по три часа в сутки и, шатаясь, ходила в колледж, а из него возвращалась с красными глазами, бледными щеками и помутившимся рассудком. Но еще много лет назад Марджори решила, что будет получать лучшие оценки, тратя на учебу как можно меньше усилий и времени. Она не сильно интересовалась учением, но гордость требовала оставлять позади хотя бы половину класса. Обычно, выдержав черную неделю, она заканчивала ее средним баллом «хорошо» и жестокой головной болью, которая со временем перерастала в грипп, и в течение десяти дней она лежала с лихорадкой.
Боли и лихорадка были самым меньшим, что ее беспокоило в этот раз. Все молодые люди, за исключением Сэнди, регулярно звонили и спрашивали о том, как она себя чувствует. Розалинда Грин, посещая Марджори, участливо сообщала, что Вера Кешман вернулась из Корнелла и что Сэнди снова с большим жаром увивается за этой блондинкой. Она также проговорилась о том, что Сэнди поведал Филу Бойхэму, а Фил Бойхэм — ей, будто Вера очень опытна в объятиях и поцелуях. Для Марджори эти известия не были новы. Она замечала маленькие хитрости блондинки: Вера могла взять сигарету изо рта Сэнди и подуть на нее, рассеянно провести пальцем по тыльной стороне его руки, танцевать слишком близко от него, запускать пальцы в его волосы во время танца. Но при температуре в сто три градуса по Фаренгейту Марджори не в силах была как-то реагировать на эту информацию, а лишь видела страшные сны о том, как Сэнди целует, обнимает и в конце концов женится на блондинке.
Больная и беспомощная, Марджори нашла утешение в продолжительных телефонных разговорах с другими молодыми людьми. Она старалась думать, что ее нисколько не волнует Сэнди Голдстоун, потому что ее будущее — театр. Бурный восторг от успеха в студенческом обществе помешал на некоторое время Марджори правильно смотреть на вещи. Сейчас томительные часы, проведенные в постели, прояснили ее ум. Она отправила брата за текстами разных пьес, каталогами колледжей и театральных школ. Она полностью прочитала Юджина О'Нила, Ноэла Коварда и многие произведения Шоу. Ее мечта о театре вспыхнула с новой силой в результате лихорадки и нервного переутомления. Первое, что сделала Марджори, когда доктор разрешил ей, побледневшей и похудевшей на пять фунтов, встать с кровати, это зачислилась на интенсивный курс в Нью-Йоркский университет и элементарный курс по написанию пьес в Колумбийский университет. В Колумбийский она пошла, следуя словам Бернарда Шоу о том, что самый лучший способ изучить театр — попытаться написать для него. Такой поворот в судьбе ужасно возмутил миссис Моргенштерн. Для нее все нынешние планы Марджори были самой настоящей фантазией. Она считала излишней роскошью тратить сорок долларов на регистрацию, хотя с радостью предложила отложить эти деньги на новое платье или костюм для Марджори. После продолжительного спора мать все-таки заплатила взносы, ворча, что Марджори, может быть, исцелит от любого вида карьеризма активная работа в этой области.
Но Марджори исправно посещала оба курса и хорошо успевала по ним, несмотря на огромное количество свиданий, танцев, пикников и вечеринок, которые длились все лето. Она набросала одну коротенькую пьеску, действие которой разворачивалось в нацистской Германии. Эта пьеска заслужила участь быть исписанной красными чернилами преподавателей. Радость Марджори, которая со счастливым видом трясла текстом пьесы перед материнским носом, была несколько омрачена тем, что другие студенты-драматурги на курсе оказались слабоумными эксцентричными особами. Выделялась одна старая дама с блестящими глазами, которая приносила в сумке двух мяукающих котов на каждое занятие группы. Преподаватель драматургии (пожилой актер с холеными седыми волосами, слуховым аппаратом и британским акцентом) сказал, что Марджори выглядит многообещающе, и дал ей лучшие роли, с жадностью глядя на ее ноги.
Лето было приятным и веселым временем, но для Марджори оно оказалось омрачено пренебрежением Сэнди.
Миссис Моргенштерн предложила, наверное, двадцать способов, как заставить Сэнди опять встретиться с Марджори. Но дочь отвергла все двадцать в сильном раздражении. Она часто видела Сэнди с Верой на вечеринках и в ночных клубах. На лице блондинки при виде Мардж не раз возникала ядовитая, самодовольная улыбка. Сэнди даже несколько раз танцевал с Марджори. Когда он двусмысленно шутил с ней, казалось, парень по-прежнему увлечен ею. Но он никогда не приглашал ее на вечера.
Миссис Моргенштерн не хотела полагаться на судьбу. В одно августовское утро она сказала Марджори за завтраком:
— Эта погода становится невыносимой. Как ты относишься к тому, чтобы поехать в Прадо на неделю?
— В Прадо?
— Если ты можешь отвлечься от своих занятий драматургией, то…
— Конечно, я могу, но почему туда? Прадо — курорт для миллионеров…
— Это неверно. Многие мои друзья отдыхают там. Они хорошо отзываются о нем, и они не миллионеры.
— Я бы с удовольствием, но Прадо…
— Хорошо, посмотрим. Я поговорю с папой.
На следующее утро они уже ехали в душном поезде, в багажном вагоне которого находился прекрасный багаж Марджори, состоящий из трех чемоданов. Мистер Моргенштерн остался в городе: лето было самым горячим временем в его работе. Они на короткое время заглянули к нему в офис, чтобы взять немного наличных денег. Марджори чуть не потеряла сознание в офисе, где не было ни одного окна, вдыхая сильный запах чернил, несвежего кофе и специфической пыли от перьев, пуха и соломы, упакованных в тюки. Мистер Моргенштерн в сером галстуке и пальто, несмотря на убийственную жару, с лицом таким же серым, как и пальто, покрытый каплями пота подобно термосу, стоящему позади его стула, безвольно выдал им несколько банкнот и пожелал приятно провести время.
Прадо встретил новых гостей зелеными лужайками, ухоженной мощеной дорогой, широкими террасами и теннисными кортами. Корты цвета красной глины перекрещивались с новыми белого цвета. Громадный голубой плавательный бассейн был полон загорелыми молодыми людьми; они ныряли, брызгались и смеялись. Позади отеля и его необъятных садов лежал белый изогнутый берег, сверкало волнующее море. Не так давно это был фешенебельный отель, куда не было доступа евреям. Но обычаи изменились и подобное отношение искоренялось на острове. Некоторые христиане, преимущественно политики и театралы, все еще ездили в Прадо, но теперь он уже был известен как еврейский курорт. Единственное, что требовалось, чтобы останавливаться там, — это достаточное количество денег для оплаты счетов. Такое ограничение позволяло поддерживать в отеле порядок, роскошный и Элегантный вид, несмотря на социальную пестроту гостей.
Проходя по персидским коврам мимо мраморных колонн, мимо прекрасного собрания скульптур и картин, Марджори не заметила сидящего за конторкой отеля Сэнди Голдстоуна, пока он не окликнул ее:
— Привет, Мардж.
У него через плечо была перекинута белая брезентовая сумка гольф-клуба, а сам он был коричневый, как мексиканец. Он стоял под руку с маленькой пухлой, с проседью в темных волосах женщиной, одетой в элегантное белое спортивное платье. Она подняла висевшие на изящной цепочке очки в серебряной оправе и посмотрела на миссис Моргенштерн:
— Да это же Роза! Ты здесь! Привет!
— Привет, Мэри, — сказала миссис Моргенштерн. — Сэнди, как вы поживаете?
— Спасибо, хорошо. Какой сюрприз! Почему ты не дала мне знать, что вы приезжаете? — спросила миссис Голдстоун. — Ты же знала, что мы здесь. Мы бы договорились о ленче…
Марджори посмотрела на мать, которая внезапно стала робкой и смущенной.
— Все дело в том, что мы решили приехать под влиянием минуты. Мистер Моргенштерн не позволил нам остаться в городе; там так ужасно. Мне кажется, что вы не знакомы с Марджори. Марджори, миссис Голдстоун.
Женщина в очках с серебряной оправой повернулась и посмотрела на девушку.
— Здравствуйте!
Рука была холодная и сухая, рукопожатие — кратким.
Сэнди пригласил их поиграть в гольф парами.
— Мы не играем в гольф, — ответила Марджори.
— А я всегда хотела научиться, — сказала миссис Моргенштерн, — нам понадобится немного времени, чтобы зарегистрироваться и переодеться, но…
— Мам, я не хочу учиться играть в гольф сию минуту, — проговорила Марджори, раздельно произнося слова; она выстреливала их, словно пистолет пули.
— Может быть, мы сможем вместе провести ленч, — предложила миссис Моргенштерн. — За каким столиком вы сидите?
Миссис Голдстоун улыбнулась:
— Боюсь, мы не вернемся к ленчу. Мы перекусим в клубе. Но уверена, что мы еще много раз увидимся с вами. До свидания!
Пока миссис Моргенштерн заполняла регистрационные документы, пока она и дочь поднимались по эскалатору, Марджори, сердясь на мать, кусала нижнюю губу. На лице миссис Моргенштерн сияла невинная улыбка.
Марджори захлопнула за собой дверь номера и встала к ней спиной.
— Мама, мы сейчас же уезжаем домой.
— Что? Ты что, сумасшедшая? — сказала мать мягко, снимая свою шляпку перед зеркалом. — Мы же только приехали.
— Как ты могла, мама? Как ты могла?
— Могла что? Что я могу поделать, если Голдстоунам нравится Прадо. Неужели это должно означать, что нам нельзя ездить сюда? Это пока что свободная страна, даже если Сэнди в Прадо!
Двое коридорных в алых с позолотой костюмах втащили в номер чемоданы. Марджори подошла к окну и остановилась в молчании и гневе, пока миссис Моргенштерн весело указывала коридорным, куда поставить и как открыть багаж, включая чемоданы Марджори. Как только они ушли, Марджори повернулась к ней.
— Я сказала, что уезжаю. Какой смысл открывать все это?
— Ты ведь хочешь почиститься и помыться, не правда ли? Не имеет смысла возвращаться назад в этот знойный день.
— Я хочу уехать прямо сейчас.
Миссис Моргенштерн стянула через голову платье.
— Отлично, я не останавливаю тебя. Я иду купаться перед ленчем.
Она взяла свой купальный костюм в ванную, бросая новый костюм Марджори на кровать.
— Лично я думаю, что ты очень глупа. Что плохого, если в отеле есть парень, которого ты знаешь? Это могло бы стать не только развлечением…
— Боже мой, мама! Какая же ты толстокожая! Разве ты не видела, как его мама посмотрела на нас?
— Мэри Голдстоун — прекрасная особа. Она на всех так смотрит. Она немножко близорука.
— Она считает, что ты расставляешь сети для Сэнди. И это как раз то, чем ты занимаешься. Я не буду в этом участвовать.
— Послушай, Марджори, ты меня не обманешь. Тебе нравится этот мальчик.
— Ну и что из этого следует? Самое бессмысленное дело последовать за ним в отель…
— Дорогая, ведь ничего хорошего не вышло из того, что ты не преследовала его.
— Мама… Мама, я такими делами не занимаюсь. Ты когда-нибудь поймешь это?
Миссис Моргенштерн в купальном костюме, шлепая тапочками, вышла из ванной с полотенцем, наброшенным на шею.
— Иногда одно небольшое подталкивание все меняет. Идешь купаться?
— Нет.
Миссис Моргенштерн открыла дверь и сказала:
— Увидимся за ленчем, конечно, если ты не отправишься домой. Если ты все-таки поедешь обратно, передай привет отцу.
Марджори в возбуждении ходила взад и вперед по номеру. Белое и горячее солнце заглянуло в комнату. Под окном был бассейн, а в нем — веселые молодые люди. Она смотрела на их взъерошенные после купания черные волосы. Марджори перестала кружить по номеру и потрогала свой новый купальный костюм. Он был сшит по последней моде. Телесного цвета материал, приятный для кожи, на расстоянии двадцати футов создавал впечатление совершенной обнаженности. В комнате было невыносимо жарко…
После обеда на террасе с видом на море были танцы. Целых четыре часа Марджори танцевала с Сэнди. Потом они пошли погулять по морскому берегу при свете луны. И когда обогнули небольшой мыс, за которым скрылся отель, они сели и стали лениво беседовать в бархатной темноте ночи, глядя на звезды и пропуская песок между пальцами. А волны с шумом катились прямо к их ногам. Спустя некоторое время Марджори нерешительно провела пальцем по тыльной стороне ладони Сэнди. Эффект был подобен взрыву. Когда через полчаса они вернулись в отель, их взаимоотношения достигли того же уровня, что и у Марджори с Джорджем Дробесом. У молодых людей кружилась голова; они были сконфужены, нерешительны, оживлены и чрезвычайно довольны собой.
5. Устремления Сэнди
Рыжевато-коричневый «понтиак» весьма сильно отличался от «Пенелопы»: красные кожаные сиденья, сверкающие хромовые ручки, двигатель, который при скорости шестьдесят миль в час производил меньше шума, чем шуршащие по дороге шины. Машина принадлежала Сэнди, а не его отцу. Он так водил ее, как будто сливался с автомобилем в единое целое; одна рука Сэнди небрежно лежала на выступе окна. Джордж всегда сидел прямо, управляя машиной, словно гонщик.
— Как ты себя чувствуешь? — спросил Сэнди.
Марджори, поправляя розовую косынку на вскинутой голове, ответила:
— А как ты?
Поверх купальника она была одета в розовое хлопчатобумажное платье и крошечные золотистые сандалии. Сэнди и Марджори ехали купаться на небольшую необитаемую бухту в десяти милях от Прадо вниз по шоссе.
— Я озадачен. Не могу понять тебя!
Она пристально посмотрела на его слегка удлиненное лицо, частично закрытое солнечными очками. Рот Сэнди был прямым и серьезным.
— Ты не можешь понять меня? Мне кажется, я вела себя слишком просто, стараясь утешиться.
— Неужели? Что все это значит?
— Я не знаю. Может быть, повлияла луна, а может быть, ты мне нравишься больше, чем следовало бы, — сказала она довольно резко.
Улыбаясь, он положил руку на ее колено и сдавил его:
— Хотелось бы верить.
Она хотела воспротивиться этому, но рука уже была убрана. Марджори забилась в дальний угол переднего сиденья, чтобы до нее было трудно дотянуться.
Она была озадачена так же, как и он, ужасно озадачена. С самого утра она ломала голову над тем, что случилось вчера. Все устоявшиеся принципы разлетелись в пух и прах. Марджори думала, что существует инстинкт женской чести, который предохраняет девушку от объятий с мужчиной, когда она влюблена в другого. Джордж Дробес, если больше и не встречался с Марджори, все же считался ее возлюбленным. Очевидно, такого инстинкта не существовало. Она также верила, что капитуляция перед обниманием указывала на драматический поворот в эмоциях. Но этим утром ее отношение к Сэнди оставалось прежним: неопределенным, но скорее это было дружелюбие и любопытство, чем страсть. Сэнди казался теперь более знакомым. Но себя Марджори не узнавала. Она была поражена собой и ждала с необычайно приятным возбуждением, какую еще странную выходку совершит.
Они свернули с шоссе и поехали вниз, трясясь на ухабах пустынной пыльной дороги, петляющей между соснами. Возбуждение Марджори росло. Она была помешана на романах, которые брала в библиотеке. В этих романах девушек всегда соблазняли, когда они уезжали купаться в уединенное место с молодым человеком; это была почти стандартная ситуация.
Сэнди Голдстоун, большой, загорелый и сильный, молча управлял машиной и улыбался в точности как искуситель, давно созданный ее воображением. Марджори получала большое удовольствие, читая романы об изнасилованиях, и часто останавливалась на описаниях экстаза у девушек. Ей было интересно, каков на самом деле секс. Но реальная действительность несла с собой дискомфорт песчаного пляжа. Марджори была слишком понятлива и послушна, и вряд ли ей грозило изнасилование, но в то же время она вовсе не хотела, чтобы они остались купаться в Прадо.
На берегу она скользнула за машину, чтобы снять платье. Она боялась возбудить Сэнди картиной раздевающейся девушки. Марджори медлила и слонялась за машиной, расчесывая волосы и поправляя косметику. Когда она вышла, то увидела, что Сэнди в купальном костюме лежит лицом вниз на песке рядом со старой разбитой лодкой. Голова его была покрыта истрепанной желтой газетой. Солнце палило. Дул легкий прохладный бриз. Бухту, протянувшуюся, наверное, на милю, обрамляли бело-золотистые песчаные берега, кое-где поросшие низким кустарником. Марджори некоторое время постояла возле машины, вслушиваясь в знойную тишину, плеск прибоя, вдыхая запах сосен. Она осторожно наблюдала за Сэнди. Он лежал не шелохнувшись. Она подошла к нему и села рядом, но он даже не поднял голову. Солнце пекло так сильно, что могло сжечь ее нежную кожу. Сэнди покрылся маленькими капельками пота.
— Сэнди…
Она заметила, как удивительно ровно и легко он дышит.
— Сэнди Голдстоун, черт тебя побери, ты что, заснул?
В раздражении она ударила его по ребрам. Это очень походило на защиту от изнасилования. Он зашевелился, проворчал что-то и наконец сел, с виноватой улыбкой протирая глаза.
— Проклятье! Черт возьми, неужели я заснул? Со мной всегда так случается на солнце.
Он вскочил на ноги.
— Пойдем!
До этого Марджори купалась только на переполненных людьми публичных пляжах, с их плавающими буями, «сосисочными», спасательными службами и визжащими детьми. Все это не имело ничего общего с купанием здесь, где можно было долго идти по ровному чистому песку и погружаться в лазурное море только вдвоем. Они брызгались, ныряли и плавали до изнеможения. Потом она села на песок и наблюдала, как Сэнди весело прыгает и фыркает в воде.
— Ты действительно хочешь быть врачом? — спросила Марджори, когда он прилег рядом с ней.
— Точно.
— В какие медицинские вузы ты подавал заявления?
— Видишь ли, я не уверен, что вообще буду подавать, Мардж. С моими отметками это почти безнадежно. У меня в среднем выходит «Си».
— Но… — она уставилась на него в изумлении, — тогда ты не станешь врачом.
— Кажется, так.
— В таком случае, что ты будешь делать?
— Будь я проклят, ты сказала это точно как мой отец!
— Нет, ну, правда, Сэнди…
— Знаешь, кем бы я больше всего хотел быть? Лесничим. Не смейся, я серьезно. Ты когда-нибудь была в Аризоне? Тамошние национальные парки — просто рай на земле. Небо, камни, кактусы, пустыня, солнце и звезды — и больше ничего. А знаешь, сколько получает лесничий? Около тридцати пяти в неделю. Ни о чем бы в жизни больше не мечтал, если бы смог стать лесничим в Аризоне.
— Да уж… довольно оригинальная мечта…
— Прошлым летом я подавал запрос на работу. Не хотел даже школу заканчивать. Отец запретил. Сказал, что я обязан получить среднее образование, даже если всю оставшуюся жизнь буду рыть канавы.
— А каков он, твой отец, Сэнди?
— О, это тот еще парень! Настоящая динамо-машина. — Сэнди сел и стал отряхивать песок со своих огромных ног. — Он немного разочарован, что я не такой. К тому же я единственный сын. Иногда мне даже чуть-чуть жаль его.
— А тебе не нравится идея — ну, ты понимаешь — стать когда-нибудь хозяином «Лэмз»?
— Конечно, нравится — или понравилась бы, если бы все было так, как ты говоришь. Да-да, и все, только мужские шляпы. Я сделал все ошибки новичка, какие только можно, — отец мне ни в чем не помог. Каждый вечер он проверял в этой секции все вплоть до чеков, а потом за ужином обшаривал меня с ног до головы. За неделю до конца каникул я пришел к нему и спросил, нельзя ли мне освободиться от работы, чтобы перед школой немного отдохнуть. «Освободиться? — говорит он. — Ты что, сегодня утром не вскрывал свою почту? Ты уволен. Ты не справился, потерпел полный крах»… И правда, в своей почте я нашел его меморандум на трех страницах, написанный собственноручно, о том, что магазин более не может пользоваться моими услугами продавца из-за огромного количества недостатков в моей работе. Ниже он скрупулезно перечислил все ошибки, которые были мной допущены, начиная с самого первого дня работы. А закончил он таким образом — я помню дословно: «Если ты не исправишься, даю слово, что скорее завещаю этот магазин какому-нибудь благотворительному фонду, чем отдам в руки такого дурака». — Сэнди зачерпнул пригоршню песка и рассеял его по ветру. — О да, он чудный парень! Он прав, знаешь ли. Чтобы заведовать огромным магазином, нужно стать жестким и сильным. Каждую секунду необходимо быть начеку. — Он стиснул ее запястья и рывком поднял на ноги. — Давай нырнем еще разок. Все же доберемся до вершины, а? Тут достаточно глубоко, можно прыгнуть.
Они сидели на скале, запыхавшись после хорошего заплыва, когда мимо прошел небольшой рыболовный катер, покачиваясь на волнах и оставляя за собой на воде грязный след.
— Я бы кое-что хотел сделать, — сказал Сэнди, — проплыть на одной из таких лодок из Сан-Диего вниз вокруг Нижней Калифорнии. На них можно сколотить состояние. Я умею управлять и… в чем дело?
Она смеялась над ним, качая головой:
— Ты как девятилетний мальчуган.
— Да? — плавный взмах длинной руки, и вот он уже ее обнимает и целует.
Это был открытый, дружеский поцелуй, поэтому Марджори уступила ему. Целуя Сэнди, она усиленно старалась вспомнить свои ощущения при поцелуях с Джорджем. Она хотела выяснить, кого же из них она любит. Марджори искренне верила, что у поцелуев настоящей любви особенный вкус и при них возникает дрожь, которую невозможно спутать ни с чем. Но в том-то было все дело, что, хотя губы и поведение у Сэнди были не такие, как у Джорджа, ей явно нравилось целоваться с одним абсолютно так же, как и с другим. Сэнди сжал ее плечи и чуть отодвинул от себя.
— О чем ты, черт возьми, думаешь?
— Кто, я? — заморгала она наивно. — Ну, что ты, что ты, дорогой, я вообще, кажется, ни о чем не думаю.
— У меня от тебя странное чувство. — Он многозначительно склонил голову набок. — Как будто ты считаешь в уме или что-нибудь вроде этого.
— Ты с ума сошел! Как ты смеешь такое говорить! — Она с силой оттолкнула его и вскарабкалась выше, подальше от него. — Вообще не следовало с тобой целоваться. Во всяком случае, если ты ожидал поцелуя, как у Веры Кешман, — извини! У меня нет ее опыта.
Сэнди почесал затылок.
— Давай вернемся в гостиницу. Умираю, хочу пива!
— Минуточку. Так что же с Верой Кешман, раз уж об этом зашла речь?
— А она зашла об этом? — спросил Сэнди. — Как же это случилось?
— Я вообще не понимаю, как ты смеешь обниматься тут со мной и все такое, когда у тебя есть девушка?
— Вера уехала в Калифорнию.
Помолчав мгновение, Марджори беспечно сказала:
— Да? И когда же это произошло?
— Пару недель назад. Ее отец разорился, и… Марджи, не смотри так скептически, это правда. Он строитель с Лонг-Айленда. Его предприятие потерпело крах. Он сбежал из штата, ускользнул из-под самого носа у шерифа, как сказал отец.
— Ну-ну. Сердце у тебя наверняка разбито.
— Конечно, я почти поседел.
— Подыскиваешь замену, я полагаю?
— Марджи, солнышко, я просто подумал, что ты хочешь искупаться и…
— Ну, так я вовсе не хочу. Ничего не буду делать того, что делала Вера — и убери с лица эту дурацкую ухмылку! Несмотря на вчерашнюю ночь — не буду, и все!
Тем не менее она все же еще немного поплавала до того, как они ушли с пляжа.
Она была потрясена, увидев Джорджа через неделю в Прадо. Время, казалось, изменило в нем все, сделав его худее, бледнее, грустнее, ниже ростом и сутулее. Он пригласил ее на обручение одного из своих школьных друзей. С самого начала этого вечера абсолютно все подавляло Марджори: и этот многоквартирный дом в Бронксе, один из ряда так хорошо знакомых ей серых домов на узкой грязной улице; и темная лестница на четвертый этаж, с ее будящими воспоминания запахами иммигрантской кухни и детских пеленок, застарелой краски и мокрого белья; и тесная квартира с мигающими электрическими лампочками, дешевой мебелью, картинками на стенах (копии с копий) и потрепанными томами дешевых изданий на полках («История философии», «Бэббит», «Сага о Форсайтах», «Мост Святого Луи»); и громкие голоса жильцов, их варварское, монотонное произношение, задевавшее ее тем больше оттого, что она сама все еще пыталась избавиться от него; и неизменные крем-сода, бисквитный торт и приторное красное вино; и непременное ванильное мороженое, спешно принесенное младшим братом из соседнего магазина и поданное в бумажных стаканчиках как кульминация ужина; и толстые родители, и гордая толстая невеста в красном платье из магазина Кляйна, с приколотым к плечу букетом чайных роз, перевязанным огромным серебристым бантом; и, что хуже всего, двусмысленные шуточки, которые все присутствующие отпускали на их с Джорджем счет. Она сослалась на головную боль и покинула компанию неприлично рано, и общее неловкое молчание провожало их с Джорджем. Потом она почувствовала такую жалость к нему и такую свою вину, что горячо расцеловала его, когда они припарковались на Драйве («Пенелопу» наконец отремонтировали, и она ездила, хоть и очень медленно, клацая и позвякивая на каждом ухабе). Она обнаружила, что отвечает на поцелуи Джорджа точно так же, как и прежде, и позже ее это очень смутило и расстроило. Уже ночью, лежа в постели и страдая от отвращения к самой себе, она твердо решила, что больше не будет обниматься и целоваться ни с Сэнди, ни с Джорджем до тех пор, пока не разберется в своих чувствах.
Она обнаружила, что может держать данное себе слово только в отношении Сэнди, но не Джорджа. Сэнди отреагировал на ее первый отказ, добродушно пошутив:
— Ну-ну, увянувшая летняя любовь, да?
— Не валяй дурака. Нет никакого смысла продолжать и продолжать то, что ни к чему не ведет. Мы друг для друга не так уж много значим.
— Марджори, ты же знаешь, что я часа не могу без тебя.
— Иди к черту, ты, обезьяна с ухмылкой!
Вот так. Но Джордж пользовался особыми привилегиями в течение полутора лет и считал, что имеет на них право. Она не могла увеличить дистанцию между ними просто так, без откровенного разговора, а то и разрыва, к чему она была совершенно не готова. Она не могла обидеть Джорджа и не хотела его потерять, во всяком случае, пока чувствовала эту неопределенность. Поэтому она вела себя с ним по-прежнему, хотя и мучилась от этой проволочки.
Вернувшись в Хантер осенью, Марджори обнаружила, что там разнесся слух о ее помолвке с наследником хозяина универмага «Лэмз». В душном тесном школьном подвале, в длиннющей очереди за учебниками она получила с полдюжины лукавых поздравлений и видела, как некоторые девушки кивали в ее сторону и перешептывались. Все ее возражения и отрицания были встречены подмигиваниями, многозначительными кивками и похлопываниями по плечу. Она понятия не имела, откуда возник этот слух, и ей это было безразлично. Эти поддразнивания хотя бы разнообразили отчаянную скуку, охватившую ее оттого, что снова пришлось погрузиться в рутину Хантера.
Марджори никогда не любила это заведение. Самым горячим ее желанием было уехать из города и поступить в колледж, но родители не хотели отпустить такую юную девушку из дома и, более того, не могли себе позволить больших расходов на обучение Марджори. Она была сильно против, но все же ее определили в этот колледж, в подземелье, который для нее был преисподней, адом, действующим ей на нервы, полным болтовни, запахов, хихиканья и визгов кошмарного количества противных грубых девчонок. Со временем отвращение притупилось, она перестала роптать на судьбу, но по-прежнему плыла одна в этом парфюмерном море, хотя у нее и появились подруги по столу и партнеры по бриджу. Когда ее семья переехала в район Центрального парка, Марджори еще острее осознала как крупную ошибку свое присутствие в этом жужжащем улье. Но менять что-либо было слишком поздно. Чуть-чуть чересчур хорошенькая, чересчур хорошо одетая и чересчур спокойная, она не пользовалась особой популярностью у девиц из Хантера и до сих пор принимала очень незначительное участие в школьных делах. Но если при ней кто-нибудь отзывался о школе презрительно, она грудью вставала на защиту, доказывая, что девушка нигде больше не может получить такого прекрасного образования, кроме как в колледже имени Хантера. Это было более или менее верно: борьба за отметки там была довольно острой, и большинство девушек училось отлично. Но она бы не задумываясь обменяла все это прекрасное образование на хотя бы капельку того блеска и удовольствия, которые она когда-то мечтала получить в другом колледже. В этих мечтах она была гораздо больше похожа на всех остальных учениц, чем могла себе представить. Хантер представлял собой концентрационный лагерь для перемещенных мечтателей женского пола, воображавших себя студентками университетов, но из-за отсутствия у родителей средств втиснутых в могилу этих подземных классов.
С течением семестра становилось все более очевидным, что статус ее в колледже меняется. Известные в девичьем кругу особы, прежде не обращавшие на нее никакого внимания, теперь приветливо улыбались ей и даже останавливались поболтать с ней на переменах. Дошло до того, что во время обеда она иногда становилась центром общих бесед. Пара прихлебал из внушительного клана Хелен Йохансен пыталась подружиться с ней. А однажды за обедом она очутилась даже в компании самой Хелен, исключительно умной, очень красивой блондинки старшего курса, которая была редактором школьной газеты, руководителем хора и высокопоставленной главой всей политики Хантера. После обеда Хелен взяла ее за руку и вышла вместе с ней на свежий воздух, в сияющий солнцем двор, поговорить о ее жизни. Марджори, чрезвычайно польщенная, так, что дух захватывало, говорила много и откровенно. Когда она осторожно призналась, что мечтает стать актрисой, Хелен предложила ей попробовать свои силы прямо сейчас, в спектакле «Микадо» школьного драматического кружка. Нет никакого сомнения, добавила она, что Марджори получит главную роль. После чего ошарашила Марджори невзначай заданным вопросом:
— Я слышала, ты знакома с моим старым приятелем Сэнди Голдстоуном?
— Ты знаешь Сэнди?
Со слегка кривой усмешкой Хелен ответила:
— Я изредка подрабатывала в универмаге манекенщицей… Дорогая, я тебе не соперница, не смотри так испуганно. Для Сэнди я старовата. И ты ведь не можешь действительно верить, что у него могут быть серьезные намерения относительно девушки христианского вероисповедания, не так ли? — Она взглянула на Марджори с добродушным вопрошающим одобрением. — Уверена, что у тебя все будет хорошо.
Марджори, вспыхнув как маков цвет, чувствуя дрожь во всем теле, пробормотала:
— Мой Бог, я его едва знаю…
— Ну, конечно, дорогая, — кивнула Хелен, и обе рассмеялись. Марджори заметила, как девушки, прогуливавшиеся неподалеку, с восхищением разглядывали второкурсницу, которая, хохоча, гуляла рука об руку с самой Хелен Йохансен.
Марджори восприняла уколы ревности, которые она почувствовала к Хелен, как знак того, что она все-таки влюблена именно в Сэнди.
6. Маша Зеленко
Она сыграла в пробных сценах «Микадо» и, к своему искреннему изумлению, была без помех принята на заглавную роль.
С того самого дня, как начались репетиции, все остальное в мире потеряло для нее всякий смысл. Она сидела на уроках с остальными девушками, небрежно накрашенными, одетыми в юбки и свитера, и что-то, как обычно, царапала в тетради, но это было своего рода рефлекторное движение, полностью минующее сознание. В конце долгих часов она не смогла бы ответить, о чем вещал преподаватель — о насекомых или об Анатоле Франсе. Иногда ручка ее притормаживала свой бег и останавливалась; глаза обращались к мутному окну, за которым осенний ветер швырял пригоршни дождя; к отраженным в стекле желтым огням, которые, казалось, каким-то чудом висели в воздухе над багрянцем улицы; в воображении ее звучала музыка из спектакля, и Марджори начинала мысленно проигрывать свою роль, добавляя в нее все новые комические оттенки. Время репетиций после занятий было для нее праздничной вечеринкой по поводу дня рождения, который наступал каждый день. Одним словом, она жила сценой.
Однажды вечером репетиция закончилась раньше, поскольку нужно было померить костюмы. Актрисы с хихиканьем и визгами по очереди поднимались на сцену, под яркий прожектор в самом центре, где с них снимали мерки под руководством толстой девушки с густой черной косой. Марджори давно уже интересовало, кто это такая. Она не раз видела эту девушку на репетициях. Та сидела в заднем ряду, выходила и заходила, когда хотела, а иногда даже шептала что-то директору спектакля, мисс Кимбл, которая всегда слушала ее очень внимательно. Мисс Кимбл в юности пела в хоре общества имени самого Шуберта, поэтому, хотя сейчас она и была всего-навсего робкой старой девой в твидовых брюках с пузырями на коленях, дающей уроки музыки в Хантере, Марджори все равно склонна была уважать любого, кого уважала мисс Кимбл.
Когда мисс Кимбл объявила: «Следующая, пожалуйста, Микадо!» — Марджори поднялась по ступенькам на сцену к этой крупной девушке, со смешанным чувством любопытства и стеснительности.
— Ага, вот и сама звезда! — Голос девушки звучал сипло и как-то по-взрослому. На ней была широкая юбка, блузка из грубого коричневого полотна с безвкусной вышивкой и широченный пояс искусственной кожи, украшенный медными заклепками. Она сказала своей помощнице, тщедушной девице с портновской лентой в руках: — Только грудь и бедра. Для нее костюм придется брать напрокат от Боукса.
Мисс Кимбл произнесла или, скорее, прохныкала:
— Маша, мы уже исчерпали все средства…
— Можно сотворить кучу подделок с помощью марли и гофрированной бумаги, Дора, — сказала толстуха, — я и делаю, что могу, но я не в состоянии подделать Микадо.
— Что ж, если ты уверена, что не можешь…
— Спасибо, — прошептала Марджори на ухо девушке.
Повернувшись к мисс Кимбл спиной, Маша сказала очень тихо, так, что даже ее тощая помощница не услышала:
— Не за что. Ты в самом деле звезда, дорогая, это чистая правда. — После этих слов она больше не обращала на Марджори никакого внимания.
На следующий день Маша опять была на репетиции. После окончания она подошла к Марджори и сделала пару дельных замечаний относительно ее игры, очень глубоких и полезных, более ценных, чем делала мисс Кимбл.
— Давай выйдем, выпьем где-нибудь по чашечке кофе и поговорим, — предложила она.
Когда они шли рядом по Легксингтон-авеню, склонившись под резким ветром, который пронизывал их насквозь и носил вокруг обрывки газет, Маша вдруг сказала:
— Послушай, я умираю с голоду. Не хочешь пообедать вместе со мной? Я знаю одно потрясающее место…
— Меня ждут к обеду дома, извини…
— Ах, да, конечно. Ну, тогда выпьешь кофе и посмотришь, как я ем, пока не настанет время бежать домой. Идет?
Они подошли к старинному зданию из коричневого камня в переулке за углом и поднялись на один пролет ко входу, который был оформлен как огромная раскрытая золоченая пасть дракона. Пройдя сквозь клыки в комнату, освещенную малиновым светом, они ощутили запахи ладана и необычных блюд. Марджори была очень рада, что не дала согласия пообедать. Она почти верила, что в китайских ресторанчиках подают кошек, собак и мышей. Проникающие всюду ароматы, казалось, подтверждали это. Кое-где в полумраке виднелись странные лица одиночных посетителей, которые ели странные блюда из тарелок странной формы. Около двери сидела очень толстая дама с усиками, которая пыталась с помощью палочек для еды выудить кусочек мяса из супницы, откуда торчала огромная устрашающе-белая кость. Маша повела носом:
— О Господи, вот такие места и портят мою фигуру, но я схожу с ума по этой еде… Привет, Ми Фонг. Как ваша жена? Ей лучше?
— Ниминоско луссе, мисса Маса! — Низенький китаец в белом пиджаке, непрерывно кланяясь, отвел их к зарешеченной кабинке, которая была освещена красным бумажным фонариком. — Тот зе комната? Спокойно, тихо? Сють-сють вино, конесно?
— Думаю, можно. Марджори, хочешь отведать сингапурского слинга? Ми Фонг делает лучшие напитки в городе.
— Я не знаю, что бы я выпила… — неуверенно ответила Марджори. — Может быть, чашечку кофе…
— Боже мой, такая кошмарная погода, тебе необходимо согреть косточки… Ми Фонг, два… Он бесподобен, — говорила Маша, пока они раздевались и вешали свои пальто. — А его жена прекрасно рисует. Они живут там, в другом конце дома. У меня есть ширма, сделанная ею, великолепная работа, и она практически подарила мне ее! Еда здесь выше всяких похвал, это я тебе говорю, а стоит гроши. Если у тебя имеется каких-нибудь сорок центов, ты можешь устроить настоящее пиршество. А если ты без денег, я могу немного одолжить тебе.
— Нет-нет, не нужно, но все равно огромное спасибо.
Вместе с напитками китаец принес блюдо, полное каких-то толстых коричневых изогнутых штуковин. Марджори поинтересовалась, что это такое. В ответ Маша воскликнула:
— Милая моя, только не говори, что ты никогда не ела жареных креветок, я просто умру!
— Я в жизни не ела ни жареных, ни каких других креветок.
— Будь я проклята, неужели это правда?! — Маша рассматривала ее с легким оттенком изумления. — Ну, что же, за твой восхитительный дебют в роли Микадо!
Марджори подняла высокий бокал, который казался черным в свете фонаря. Сингапурский слинг оказался прохладным, чуть сладким и совсем некрепким. Она улыбнулась и кивнула.
— Божественный нектар, — протянула Маша, — но больше одного тем не менее не пей. Как-то раз один развратный старик хотел со мной… и заставил меня выпить три бокала. Ф-фу!
— Ну и как, он получил, что хотел? — Марджори старалась быть столь же чертовски отчаянной, как и ее собеседница.
— А ты как думаешь? — игриво спросила Маша, напуская на себя слегка обиженный вид. Затем подавила тяжелый вздох. — Ну, ладно. В действительности он не был таким уж старым, но уж развратным — это точно. В этом и таился его шарм. Честно говоря, я до сих пор схожу по нему с ума. — Она схватила одну пухлую креветку и раскусила крепкими белыми зубами. Лицо ее просветлело, темные глаза загорелись. — Боже мой, говорят, что этот мир — юдоль слез, а ведь здесь существуют такие вещи, как жареные креветки! Ну, попробуй хоть одну.
— Нет, спасибо.
— Что ж, ты теряешь кусочек рая не земле. Но ближе к делу. Ты знаешь, что ты очень талантлива?
— Кто, я? Я вообще не уверена, что у меня есть хоть какие-то способности. — Марджори сделала большой глоток сингапурского слинга, и напиток растекся по ее телу, обжигая, как будто маленькими язычками пламени.
— Что ж, скромность украшает… — Маша съела еще одну креветку, прижмурив от наслаждения глаза. — Но ты, без сомнения, актриса, дорогая. Я знаю, что говорю. И стать чем-то другим в жизни будет с твоей стороны преступлением.
— Ко-Ко в десять раз лучше меня…
— Дорогая, Ко-Ко просто деревянная чурка. Все они чурки, чурки, слышишь, абсолютные чучела, все — кроме тебя. Конечно, они бы выбрали не тебя, а Ко-Ко, но Хелен назначила тебя на роль Микадо. Бедняжка Хелен хотела как лучше. Она тебя по-своему любит. Боюсь, она не очень-то хорошо разбирается в литературе. Она посчитала, что роль Микадо должна быть самой главной…
— Маша, мисс Кимбл распределяла роли, и…
— Дора Кимбл, моя дорогая, только директор, а Хелен Йохансен — менеджер спектакля и, что еще важнее, будет писать отчет о представлении в газету. Если мисс Кимбл хочет, чтобы и на будущий год ставились спектакли, она не должна делать ничего, что может обидеть Хелен. Драматический кружок — единственное, что привязывает мисс Кимбл к жизни. Он ей замещает мужчин. Поэтому она чертовски слаженно дует с Хелен в одну дуду.
Узнав, каким образом политические интриги могут влиять на такое священное действо, как распределение ролей, Марджори была поражена.
— Так вот как я получила роль, это все правда? Прямо не верится…
— Послушай, дорогая моя, в этой школе Хелен может делать все, что захочет. — Маша начала рассказывать о политике Хантера, приводя Марджори в изумление своими откровениями о внутренних соглашениях между христианскими и иудейскими женскими общинами и о жестком распределении лакомых кусочков в виде славы и денег.
— Но это же нечестно, прямо целая государственная система подкупов! — воскликнула Марджори.
— Ну, что ты, ей-богу, Марджори! Так обстоит дело везде, во всем мире. И школа не исключение. Девушки, выполняющие всю работу, заслуживают небольшой добавки.
— Откуда ты все это знаешь? Я чувствую себя просто слепой дурой!
— Ты не интересуешься всем этим в отличие от меня. Я честолюбива. Сначала я пыталась противиться этой системе. Выдвигалась в президенты, хотела организовать чернь, девушек, не входящих в кланы. Бог свидетель, мы их превосходили численностью раза в четыре. Но есть одна проблема. Выяснилось, что у черни развит культ благородных. На один голос за меня приходилось шесть за Хелен. А, ладно! — Она протолкнула в рот креветку и запила. — У тебя, черт возьми, глаза вылезут от изумления! Сколько тебе лет?
— Мне будет восемнадцать в этом месяце.
— Милосердный Боже, спаси и сохрани! Совсем дитя — и уже заканчивает второй курс! Да я с трудом переползаю из семестра в семестр. В Бронксе нетрудно было перепрыгнуть через один класс, я выиграла год, вот и все…
— Ты из Бронкса?!
— Прожила там всю жизнь, не считая последних полутора лет. А что?
Маша искоса взглянула не нее, красные отблески очертили темные тени вокруг глаз.
— Видишь ли, дорогая, ты можешь играть. Я бы… поклялась, что ты уроженка района Центрального парка.
— А сколько тебе, Маша?
— Ох, дорогая, я старая карга. Древняя, потрепанная жизнью, измочаленная старуха двадцати одного года.
Марджори засмеялась. Выпивка давала о себе знать. Она находила Машу все более и более очаровательной, а все это китайское окружение перестало ее пугать.
— Маша, ты мне скажешь одну вещь, только абсолютно честно? Для меня это ужасно важно. Почему ты считаешь, что у меня есть способности, чтобы стать актрисой? Только потому, что пару раз увидела меня на репетициях…
Маша ухмыльнулась.
— Давай пообедай со мной все-таки. Позвони своим и скажи, что занята из-за спектакля. И это будет правдой, мне нужно объяснить тебе тысячу вещей об этом представлении.
— А ты… ты мне можешь заказать что-нибудь, но без свинины? Я ее не ем.
Улыбнувшись, Маша ответила:
— Тут можно устроить целый банкет — и без свинины. Проще простого.
Миссис Моргенштерн по телефону спросила только, когда Марджори вернется, и предупредила, чтобы она не переутомлялась. Вернувшись к столу, она увидела Ми Фонга, который улыбался, наклонив голову. Маша заказывала:
— И, конечно, жасминовый чай… и рисовое печенье, и — ах, да, запомни, без свинины. Никакой свинины!
— Не сивинина, да. — Китаец хихикал, глядя на Марджори. — Сивинина сильно много деньги, да? Не сивинина, да! — И он вышел, лучезарно улыбаясь.
— Мама сказала, что все в порядке, — объявила Марджори и добавила, кидая полный раскаяния взгляд вслед китайцу, — но она не знает, что я в китайской закусочной.
— Ты ешь только еврейскую еду, да? — мягко спросила Маша.
— Да нет. Родители — только. Но свинина…
— Не оправдывайся, дорогая. Влияние обстоятельств баснословно. К счастью, у меня не было таких проблем.
— Ты не еврейка?
— Как ни странно, я не знаю наверняка. Отец у меня истовый атеист. А мать не знает, кто она такая, она выросла в сиротском приюте во Франции. Полагаю, что Гитлер посчитал бы меня еврейкой, это верно. Но Зеленко, если это тебе неизвестно, фамилия одного из благороднейших семейств России. Как мы появились тут, отец не знает или не хочет говорить. Возможно, какой-нибудь мой прапрадед был незаконнорожденным сыном дворянина. Из того, что я о себе знаю, я сделала вывод, что я русская княжна, ну, как тебе эта трезвая мысль?
— Маша, неужели у вас дома действительно бывает Гертруда Лоуренс? — спросила Марджори. Она слышала, как Маша на репетиции мимоходом выдала это потрясающее известие.
— Дорогая, Гертруда Лоуренс долгие годы дружит с моей матерью. Маму, в общем, все любят. Не думаю, что есть хоть один человек в театре, ей неизвестный. Я, черт побери, таких не встречала. Я отнюдь не претендую на то, что они все у меня в друзьях, нет, это все только благодаря маме.
Маша продолжала сыпать анекдоты о жизни знаменитых людей, чьи имена звучали для Марджори волшебной музыкой. Маша знала, что вытворял на вечеринках Ноэль Коуард и где одевалась Маргарет Салливан, у кого из известных актеров любовный роман и с кем, кто из признанных писателей и композиторов гомосексуалист, какие пьесы станут сенсацией следующего сезона и каких режиссеров разгромят в пух и прах.
Она трещала в том же духе, а Марджори, затаив дыхание, слушала ее, как загипнотизированная, когда Ми Фонг внес наконец первое блюдо.
Насколько Марджори смогла разглядеть в малиновом полумраке, это был белый суп — вернее, грязно-белый. У нее было врожденное отвращение к белым супам. В нем плавали разные штуки, некоторые выглядели желеобразными, некоторые как будто были накрошенными овощами, а некоторые казались обрезками мяса. Она взглянула на Ми Фонга, тот расплылся в улыбке:
— Нет сивинина, мисса.
— Давай, приступай, это пища богов, — поспешно опуская маленькую китайскую ложку в суп, сказала Маша.
Марджори съела пару ложек, пытаясь определить происхождение этого супа. Вкус у него был тонкий, совсем даже не плохой. Но когда она разжевала то, что выглядело как кусочки резины (а может быть, черви?) — она выплюнула остатки и оттолкнула от себя тарелку. Ей стало потом стыдно, она испугалась, что обидела Машу; но та ложка за ложкой поглощала суп, одновременно продолжая болтать о театре, и ничего не заметила. Марджори напоминала ей Маргарет Салливан.
— Конечно, не техникой игры, нет, — пояснила она, — невозможно представить себе более сырую и неуклюжую игру, чем твоя. У тебя ведь нет ни на вот столечко опыта, и это становится очевидно, когда ты на сцене. Когда я сказала о сходстве, я имела в виду актерскую сущность, какой-то внутренний магнетизм. Ты, Марджори, двигаешься, даже когда играешь эту затасканную роль Микадо, и чувствуется, что ты живая, ты вся она — и тем не менее привносишь свой собственный, особенный оттенок. Вот это оно, дитя мое, поверь мне. А все остальное не столь важно — его можно объяснить, ему можно научиться, в конце концов, купить. Но это — либо есть, либо нет от природы. Тебе дано.
— Господи, как я надеюсь, что ты права… — Марджори запнулась, потому что перед самым ее носом вдруг оказалась гора дымящейся пищи: огромное количество белого риса, а на нем — кусочки не то овощей, не то мяса, или и того, и другого.
— Нет сивинина, мисса, — повторил свое китаец. — Ассолютно. — Марджори, однако, не раз слышала запах свинины в закусочных и ресторанах. Это была свинина. Если на земле существует такое животное, как свинья, то это были как раз ее останки.
— Тебе понравится, — сказала Маша. — Это его шедевр — «моо джек» с миндалем. Марджори кивнула и улыбнулась в ответ, лихорадочно выискивая предлог отказаться от блюда. — Его почти везде готовят со свининой, — продолжала Маша, — но Ми Фонг готовит только с бараниной. — И она стала жадно уплетать все с тарелки.
— Люссий бараска, — опять улыбался Ми Фонг, сверкая на Марджори красноватыми в свете фонаря зубами. — Тосьно бараска.
— Разве баранина бывает такой белой? — спросила Марджори, вглядываясь в блюдо и принюхиваясь.
— Белий. Китаський. Китаський бараска все время белий. — Он налил в тончайшие чашки чай с запахом подогретых духов и, хихикая, вышел.
Не желая оскорблять Машу как бы обвинением во лжи, Марджори изобразила удовольствие, которое она получает от еды, что бы это ни было. Она выковыривала из-под мяса рис и ела. Но для такой тонкой работы было слишком темно, и внезапно она обнаружила, что жует кусок очень жесткого мяса. Она закашлялась, приложила платок к губам и выплюнула туда мясо. А потом уже только ковырялась в тарелке, но больше ничего не брала в рот. Частично для того, чтобы отвлечь Машу от своих действий в тарелке, а частично под воздействием сингапурского слинга и Машиной лести Марджори раскрыла ей — единственной в мире — сценическое имя, которое она для себя придумала. Маша перестала жевать и на несколько секунд замерла, глядя на Марджори.
— Мар-джори Мор-нингстар, да? — Она пропела гласные, вслушиваясь. — Точно, это ты. Серебристое мерцание звезды в розовом закате. Это наитие свыше. Превосходно!
— Я не знаю… не звучит ли имя неуклюже, как будто искусственное?
— Возможно, для тебя и звучит. Ты же привыкла к своему. Но я тебе говорю, оно восхитительно. — Маша проглотила последние кусочки со своей тарелки и взялась за чай. — Однажды, когда это имя огромными буквами будет гореть над театром, я зайду за кулисы и напомню тебе об этом вечере, как мы обедали у Ми Фонга, и ты произнесла свое имя в первый раз, и как я настояла, что оно тебе подходит. А ты тогда кивнешь своей горничной и скажешь: — Дай этой четверть доллара и покажи ей, где выход!
Девушки расхохотались и продолжили беседу с неисчерпаемой темой — «театр». Маша сказала, что станет продюсером, когда разбогатеет на другом поприще. Она знала, что ей не хватит таланта стать признанным кутюрье. «А меня не устраивает никакая перспектива, кроме как стать знаменитостью, дорогая». Она вежливо отклонила предположение Марджори, что, возможно, она гений в моделировании одежды.
— Подожди, увидишь мою работу. Средние серые способности — не более того.
— Но тогда на чем же ты собираешься разбогатеть, Маша?
— Это мой секрет.
— Я же рассказала тебе свой.
— Действительно. — Маша ласково смотрела ей в глаза. — Что ж, в таком случае и я расскажу. Я собираюсь стать поставщиком — крупным поставщиком женской одежды в универмаги. В этом бизнесе наживают огромные богатства, целые состояния! Мама дружит с Эдной Фарбштейн, главным поставщиком универмагов Мэйси. Ты знаешь, что такое Эдна? Так вот, дорогая, это несчастное нищее создание имеет всего лишь один дом в Ларчмонте, другой на Палм-Бич, яхту и два «кадиллака» — и все, а оба ее сына учатся в Принстоне. Мне требуется только толчок, одна рекомендация — я уж как-нибудь получу ее, — и вот я уже участвую в гонках! Единственное, что я умею делать, — это выбирать одежду. — Марджори не смогла удержать скептическую усмешку, вспорхнувшую на лицо. Маша резко сказала: — Не нужно, малыш, не говори этого. Это тряпье, что я ношу… я пока еще не миллионерша, да будь это даже и так, чем можно украсить огромную рыхлую черноволосую бабу? Заставить ее выглядеть экзотично. Если использовать с толком это понятие, то на него вполне можно опереться и начать верить, что вот именно так ты и хотела бы выглядеть.
— Мне кажется, что ты очень привлекательно одеваешься, — сказала Марджори. Но вид у нее при этом оставался слегка скептическим, поэтому чай они какое-то время пили в молчании. С лицом и фигурой Маши, думала Марджори, она села бы на диету и сбросила вес, подстриглась и сделала прическу, притушила бы макияж и строже одевалась. В этом случае Маша смогла бы достичь определенного театрального очарования, а не выглядела бы, как сейчас, очень неряшливой и толстой. Но она, однако, постеснялась сказать это.
Когда они вышли на улицу, Марджори была удивлена свежестью и чистотой ароматов туманного вечера. Улицы Манхэттена редко радовали приятными запахами, но после забегаловки Ми Фонга ей показалось, что она на горном лугу.
— Тебе куда, Маша?
— Перекресток Девяносто Второй и Сентрал-Парк-Вест. — Маша посильнее запахнула свое пестрое пальто на беличьем меху, оглядываясь вокруг в поисках такси.
— Вот это да! А я живу в Эльдорадо!
— Здорово, ближайшие соседи. Можем взять одно такси.
— Такси? Но ведь остановки городского автобуса в квартале отсюда!
— К черту городской автобус! А, вот и свободное.
Такси остановилось, они забрались внутрь, и толстуха уютно устроилась в углу машины.
— Что это со мной такое? Почему я так люблю такси? Я вечно живу в долг, а все потому, что разъезжаю на такси! Но сегодня мне это просто необходимо. В конце концов, мой первый обед с Марджори Морнингстар… — Она предложила Марджори сигареты и сама закурила, привычным движением прикрыв ладонями огонь. Дым был удивительно ароматным.
— Маша, ты себе не представляешь, как странно звучит для меня это имя в твоих устах. Я же ни единой живой душе об этом не говорила!
— Даже Сэнди Голдстоуну?
Марджори остолбенело уставилась на нее сквозь плавающий сигаретный дым:
— Сэнди Голдстоун? А что ты о нем…
— Дорогая, за известность надо платить. И цена — твоя жизнь золотой рыбки в прозрачном аквариуме, привыкай к этому. Вся школа знает о тебе и молодом наследнике «Лэмз».
— Ну, не смешно ли! Маша, я и встречалась-то с ним изредка, может, пару раз всего!
— Надеюсь, что так. Будь добра, малышка, не связывай Марджори Морнингстар с восемнадцати лет брачными узами. Даже за все безделушки «Лэмз» не делай этого.
— Да поверь, мне никто и не предлагал такого…
Маша внимательно изучала ее лицо.
— Прекрасно, но не думай, что этого не случится однажды. Значит, наследник «Лэмз» не влюблен в тебя. Остается вопрос — а ты в него?
Марджори вспыхнула:
— Если ты будешь продолжать в том же духе…
— Скажи мне честно, конфетка, неужели мои уши простой смертной — первые, услышавшие твое сценическое имя? Я просто не могу в это поверить.
— Это правда. И, пожалуйста, не говори никому, ладно? Конечно, это не государственная тайна, я не хочу выглядеть идиоткой, но…
— Дорогая, я — могила и буду молчать, как могила. Значит, история делалась сегодня вечером. Возьми все же сигарету, это турецкие, как будто просто вдыхаешь теплый воздух.
Марджори взяла сигарету и неловко затянулась. Она обожгла язык и не почувствовала никакого удовольствия, но докурила до конца.
Такси остановилось у дома из коричневого камня, между Коламбус-авеню и Сентрал-Парк-Вест. Марджори столько раз проходила мимо него, не представляя себе, что кто-нибудь из жильцов подобного дома может быть хоть как-то связан с ее жизнью. Весь квартал состоял из таких домов. В большинстве из них сдавались дешевые меблированные комнаты. Убогие люди, сновавшие в них, выглядели провинциалами, потерпевшими в жизни крах и выброшенными на мель в Нью-Йорке. В окнах почти везде торчали жирные коты, горшки с чахлой геранью и сморщенные дряхлые дамы, выглядывающие сквозь закопченные занавески.
— Давай поднимемся, — предложила Маша, — увидишь моих. Мама будет счастлива познакомиться с тобой, я знаю.
Марджори взглянула на свои часики.
— В другой раз. Уже больше девяти. Моя мама волнуется.
Девушки обменялись рукопожатием. Маша сказала:
— Завтра мы пойдем на ленч в закусочную. Это я решила. А ты как, поддерживаешь? У тебя перерыв с двенадцати до часу?
— Да. Я с удовольствием пойду.
Марджори шла домой в состоянии, близком к потрясению, как после первого свидания с красивым парнем. Она долго не могла уснуть. Крутилась, металась по постели, повторяя в уме все, что говорила Маша. И, уже проваливаясь в сон, она, казалось, все еще слышала этот энергичный низкий голос, болтающий о театре.
7. Вечер у Зеленко
В последующие дни они больше всего говорили о театре. Их связывал общий восторг.
В основном говорила Маша. Она говорила, говорила и говорила, так что Марджори казалось, что поток сентенций, пошлого едкого остроумия и интимных сплетен этой девушки о хорошо известных людях никогда не кончится. Особенно Марджори нравились длинные разговоры о ней самой: ее таланте, ее шарме, ее перспективах, с бесконечным обсуждением техники ее игры после каждой репетиции. Часы пролетали незаметно, когда они были вместе; так бывает в любовной истории.
Компания Маши интересовала Марджори гораздо больше, чем то, что происходило в ее собственном доме. Там шли приготовления к назначенной на субботу перед представлением «Микадо» бар-митцве ее брата Сета. По мнению Марджори, невозможно было сравнивать эти два события. Ее собственный дебют в спектакле в колледже оставил в ее памяти такой же след, как открытие сезона на Бродвее. Для тринадцатилетнего парня бар-митцва должна иметь не большее значение, чем день рождения, только с религиозными атрибутами. Однако, очевидно, в семье Моргенштернов никто больше так не думал. Ее родители, похоже, вообще не подозревали, что она репетирует. Марджори поражало то, что интерес ее матери к уходам и возвращениям дочери постоянно ослабевал. Даже когда она возвращалась с вечеринок, с Сэнди, ее не засыпали нетерпеливыми вопросами. Обычно она находила родителей за обеденным столом. Они сосредоточенно изучали списки гостей или спорили о счетах поставщиков продуктов. Отец и мать автоматически приветствовали Марджори и продолжали свой разговор:
— Но, Роза, Капман сделает это за семнадцать сотен. Лоуенштайн хочет две тысячи.
— Да, и, возможно, именно поэтому каждая женщина в моем клубе обращается к Лоуенштайну. Первый класс есть первый класс. Как много бар-митцв собираемся мы устраивать в этой семье?
Марджори всегда замечала, что ненавидит любознательность своей матери; но она обнаружила, что теперь прошла пора перекрестных допросов. Родители придавали малейшим деталям ее жизни такое большое значение, что поставили ее перед необходимостью иметь важные секреты. Сейчас вдруг у нее не стало секретов, потому что ее мать они не интересовали. Она вдруг открыла для себя сенсационную новость — ревность к Сету и вообще мальчишкам. Бар-митцва — не для девочек. Ее собственный день рождения, который приходится на три недели раньше, чем у Сета, прошел незамеченным. Всю свою жизнь Марджори была трудной проблемой, центром внимания семьи. Ее брат, здоровый, уравновешенный парень, который все свое время проводил в школе или на улице, никогда прежде не оспаривал у нее место под солнцем. Поэтому Маша появилась как раз вовремя, чтобы польстить Марджори, помочь ей, вернуть хорошее настроение.
Марджори казалось, что она никогда в жизни не слышала так много речи на еврейском. Воздух в доме был пропитан древним языком. Сет учил свою роль на церемонии так, как он делал теперь все остальное — умело, старательно и без принуждения. Ему нужно было выучить несколько молитв и длинный текст из Книги Пророков в виде псалма, и он постоянно упражнялся вслух. Иногда домашний учитель приходил и пел вместе с ним, иногда вечером мистер Моргенштерн присоединялся к ним, и все трое нестройными голосами выводили мелодию. Марджори слышала псалом так часто, что практически выучила его наизусть, Она с досадой поймала себя на пении псалма, когда шла по улице. Усилием воли она сменила тему на Гилберта и Салливана.
Когда Марджори была еще девочкой, ей преподали несколько отдельных уроков еврейского языка, но после того как ей исполнилось двенадцать, к ее большой радости, ей разрешили их не продолжать. Марджори ужасно надоедали толстые черные буквы, которые надо было читать в обратном направлении. Уроки Библии заставляли ее зевать до слез. Все это ей представлялось отголоском каменного века, имевшим с миром кино, мальчиков, мороженого, губной помады не больше общего, чем скелеты динозавров в музее. Сет, однако, сразу же стал делать успехи в еврейском, хотя он и продолжал одновременно оставаться простым уличным мальчишкой, чумазым и диким, большую часть времени занятым играми в мяч, сладостями, бейсболом, черными глазами и расквашенными носами.
Но впоследствии Сет изменился. Он уехал в летний лагерь маленьким и круглолицым, а вернулся загоревшим, вытянувшимся незнакомцем, высоким, как его сестра, и хорошо владеющим собой. К удивлению Марджори, он умело танцевал и у него на самом деле были вечеринки с аккуратно подкрашенными маленькими девочками одиннадцати и двенадцати лет. Он воспринял водоворот приготовлений к бар-митцве вокруг себя совершенно спокойно, без следа сценического волнения от предстоящего спектакля. Она рассказала Маше об этих изменениях и так много говорила о своем брате, что Маше захотелось его увидеть. Марджори пригласила подругу на чай в воскресенье днем. Сет разговаривал с Машей прохладно и невозмутимо, несмотря на ее иронические поддразнивания; и когда он пошел заниматься песнопением, она сказала, что он совершенно очарователен и трагедия всей ее жизни состоит в том, что у нее самой нет ни брата, ни сестры.
Случилось так, что миссис Моргенштерн вернулась домой еще до того, как Маша ушла, и сразу же увидела полненькую девушку. В ней вспыхнула искра былого интереса к делам Марджори, и она подробно расспросила Машу о ее происхождении.
Когда Маша ушла, мать объявила, что она ей не очень понравилась.
— Почему же? — спросила Марджори, ощетиниваясь.
— Что за люди живут в тех домах из коричневого камня? Ты встречалась с ее родителями?
— Нет, не встречалась, и, я думаю, это самое снобистское замечание, которое я когда-нибудь слышала.
— Хорошо, я сноб. Я это, я то. Она выглядит не слишком чистоплотной, это все.
— О'кей, я никогда больше ее сюда не приведу! — воскликнула Марджори, взбешенная тем, как безошибочно мать ударила по несчастной слабости Маши.
— Ты достаточно быстро устанешь от нее, чем скорее, тем лучше.
— Это все, что ты знаешь. Мы будем друзьями на всю жизнь!
Хелен Йохансен столкнулась с Марджори в коридоре на следующее утро и пригласила ее на ленч. Марджори колебалась; обычно они с Машей встречались в аптеке и в полдень проводили часок вместе. Но сейчас она была выбита из колеи и знала, что толстушка ее поймет, поэтому она согласилась. Хелен повела ее в элегантную чайную комнату для преподавателей. Ленч прошел очень приятно. Они поболтали о «Микадо», школьной газете, женских клубах и книге года. Хелен не раскрывала никаких тайн и, казалось, не подозревала о своей собственной огромной опутывающей силе, говоря об этих вещах, как о простых пустяках.
Потом она неожиданно сказала:
— Я смотрю, ты подружилась с Машей Зеленко.
— Да.
— Она очень умная.
— Нам хорошо вместе.
— Ты познакомилась с ней на репетициях, не так ли?
— Да.
— Я хочу тебе кое-что сказать. Я хорошо знаю Машу. В каком-то отношении с ней все в порядке. Но не воспринимай ее слишком серьезно и не одалживай ей деньги. — Хелен не отводила глаз от застывшего лица Марджори.
Марджори сказала сухо:
— Маша моя подруга.
— Знаю. — Хелен взяла кошелек и перчатки. — Я больше ничего не буду говорить… Кстати, как Сэнди?
— Прекрасно.
— Он заканчивает учебу в июне, не так ли? И что он собирается делать?
— Войти в дело своего отца, я думаю.
— О! Он отказался от Перу?
— Перу? — сказала Марджори безучастно.
— Разве он не говорил тебе? У него все было обдумано. Он собирался открыть агентство по торговле бытовыми электроприборами в Перу. Он говорил, что это должно принести удачу.
— Он отказался от Перу, — сказала Марджори. — Сейчас он хочет стать либо доктором, либо лесничим. Он еще не выбрал.
Они обе захихикали.
— Он просто прелесть, — сказала Хелен.
Маша Зеленко как раз вышла из аптеки, когда две девушки шли по улице. Она беззаботно помахала им, они ответили, и она пошла другой дорогой. На репетиции в тот день Маша подступила к Марджори.
— Хорошо, хорошо, ходим на ленч с этой дылдой, вместо того чтобы со мной, бедной и незначительной?
— Маша, она попросила меня…
— Дорогая, в любом случае ты не должна упускать возможность укреплять свои связи. Не довелось ли ей что-нибудь сказать и обо мне?
— О тебе? Ни слова.
Маша пристально разглядывала ее лицо.
— Хорошо, но даже если она сказала, дорогая, запомни одно. Я единственная девушка в классе номер 34, которая никогда не раболепствовала перед Хелен Йохансен. Я та самая классная кошка, которая гуляет сама по себе и показывает коготки. Сегодня вечером мы что-нибудь делаем?
— Домашнее задание, а что?
— Как насчет того, чтобы прогуляться после обеда за угол и повидаться с моими стариками? Я так много рассказывала о тебе… Конечно, это не Эльдорадо, но у нас неплохо.
— С удовольствием, Маша.
Когда она появилась в доме Маши в тот вечер, родители были на концерте. Девушки забрались на диван в Машиной крошечной спальне и ждали, когда они вернутся. Марджори ела виноград, а толстушка курила крепкие турецкие сигареты. Маша очень подробно расспрашивала о ленче с Хелен Йохансен; но Марджори благодаря опыту таких допросов удалось избежать рассказа о критических замечаниях Хелен.
— Хорошо, ну а теперь, после того как Хелен была так мила с тобой, ты в нее влюблена? — спросила Маша.
— Влюблена? Едва ли. Но она чрезвычайно привлекательна.
— Ты более привлекательна, чем она.
— Маша, как ты можешь? Она модель…
— Чего? Слишком большой рот и подбородок, дорогая. Определенно не для фотографов и только второй класс для торговли «Плащи и костюмы». О, я веду себя, как кошка, не так ли? Смотри, Хелен Йохансен — это «сливки общества». Умная, красивая, честная, действительно лидер, и тому подобное. Я скажу это кому угодно. Но для тебя я добавлю, потому что ты — это ты, что для меня она не более привлекательна, чем старые помои.
— Маша, ты с ума сошла! Мужчины толпами бегают за высокими блондинками…
— На вечеринках, моя сладкая, на вечеринках. Чтобы посмотреть, как далеко они могут зайти за один вечер. Хелен не будет играть. Она слишком интеллигентна, и это их пугает, и недостаточно интеллигентна, чтобы наделать шума, что побуждало бы их продолжать попытки. Нет, дорогая, когда парни хотят жениться, они удирают от высоких блондинок и ищут маленькую Марджори Морнингстар. — Маша повернулась на спину, и ее юбка соскользнула, открыв мягкое коричневое бедро над чулком. Марджори в такой ситуации натянула бы юбку на колени, Маша же спокойно закурила другую сигарету и сказала: — Я думаю, тебе уже предлагали.
Марджори покраснела. Маша засмеялась.
— И не один раз, а? Очевидно, раза четыре.
— Черт возьми, нет! Даже считая сумасшедших ребят, болтающих на танцах. — Марджори думала о Билли Эйрманне и о том помешанном парне, с которым она познакомилась в Бронксе, — их было всего трое. И только один действительно имел значение.
— Послушайте эту девушку! — сказала Маша в потолок. Опершись на локоть, она уставилась на Марджори. — Тебе восемнадцать. Ты еще не вылупилась из яйца. У меня не было ни одного, ни одного. У большинства девушек нет в твоем возрасте. Пожалуйста, отдай себе в этом отчет. К тому времени, когда тебе будет двадцать один, ты будешь отбиваться от них дубинкой. Кто был тот, который имел значение? Сэнди Голдстоун?
— Маша, я сказала тебе, Сэнди никогда не предлагал. Ты мне не веришь? Он никогда близко к этому не подходил. Это было что-то другое. — Она колебалась. До сегодняшнего дня она избегала говорить о своей любовной жизни с Машей, которая казалась ей слишком искушенной в житейских делах и могла только удивляться ее проблемам. Но она не смогла найти себе наперсницу. После ее успеха среди студентов Колумбийского колледжа она считала неудобным разговаривать с Розалиндой Грин; в течение лета они совсем разошлись.
— Я могу рассказать об этом. Но, боюсь, тебе надоест до смерти.
— Ничто, касающееся тебя, Морнингстар, мне не может надоесть.
Марджори рассказала ей о Джордже и о Сэнди и описала свой ранний опыт тоже. Она поведала ей все от начала и до конца. Маша слушала внимательно, обхватив руками колени, время от времени зажигая новую сигарету и наполняя маленькую жаркую комнату клубами серого, сильно пахнущего дыма. Марджори говорила примерно полчаса, устремив взгляд на оранжевое с зеленым мексиканское шерстяное одеяло, висевшее на стене. Впоследствии, глядя на это одеяло или подобное ему, она всегда возвращалась мыслями к Джорджу Дробесу.
Когда Марджори закончила, Маша сказала:
— Ну, настоящая сага для восемнадцатилетних.
— Это все, несомненно, кажется тебе очень глупым…
— Наоборот, восхитительно и очень откровенно, дорогая. Что касается Сэнди, если хочешь знать мое мнение, ты его не любишь. Конечно, это мой вывод. Джордж гораздо ближе тебе… не потому, что я выступаю за Джорджа, спешу заметить. С твоей стороны это были первые попытки слепого котенка встать на ноги, нюхать и слышать. Это одна из опасностей, которые несет с собой привлекательность: тебя может сорвать какой-нибудь Джордж или другой и жениться, когда ты еще слепой котенок, но в твоем случае…
— Маша, он очень сладкий и милый…
— Да, да, уверена. Хорошо, что это позади, дорогая. Бедный парень! Он лишился прекрасного. Охота на котят многим привлекает. Кроме, конечно, того ужасного унижения, когда не удается поймать.
— Ну, я не уверена, что согласна насчет Джорджа, но… В любом случае, ты не думаешь, что мне нужно перестать видеться с Сэнди? Как ты считаешь?
Маша села, выпрямилась и уставилась на нее:
— Ты сумасшедшая?
— Но… я вовсе не уверена, что люблю его… или что он любит меня. Ты права на этот счет. Кроме того, его семья будет против меня. Он просто убивает со мной время, пока…
— Пускай! — Маша снова уставилась в потолок. — Что я с ней буду делать? Марджи, ты смотришь с этим парнем спектакли, ты слушаешь оркестр, ходишь в хорошие ночные клубы, он не пробует заставить тебя… Чего ты хочешь, найти яйца в пиве? Сладкая моя, ты похожа на немого индейца, который сидит на нефтеносной земле, честное слово. Все остальное вокруг, какое он имеет к этому отношение!
— Отношение к чему? Я не собираюсь работать продавщицей в «Лэмз»…
Раздался звонок входной двери. Маша посмотрела на часы.
— Господи, уже родители. Ты знаешь, что мы проговорили несколько часов? — Она скатилась с кровати, когда звонок зазвонил опять. — Иду, иду! Проклятье, они забывают ключ пять вечеров из шести. Пойдем, встретим их, Марджи.
Отец Маши был маленьким седым человеком, а мать оказалась высокой блондинкой, у обоих в руках были коричневые бумажные сумки. Однотонный пепельный пиджак мистера Зеленко выглядел не слишком отглаженным, а его цветной красный галстук был завязан не совсем ровно.
— Хорошо, хорошо, — сказал он с вежливой улыбкой, которая совершенно изменила грустное выражение его лица, — итак, это знаменитая Марджори Морнингстар?
Миссис Зеленко толкнула мужа локтем, и это его остановило.
— Хорошо, Большой Рот, предполагалось, что это секрет. — Она любезно улыбнулась Марджори. — Здравствуй, дорогая. Ты должна знать, в этой семье нет секретов. Однако за этими стенами люди могут соскоблить мясо с наших костей, но мы не проговоримся.
— Это не имеет значения, — сказала Марджори.
— Еда? — спросила Маша, заглядывая в бумажные сумки, которые ее родители поставили на софу.
— Деликатесы, — ответила мать. — Мы не обедали. А вы?
— Я проглотила несколько сосисок в «Недике», но уже проголодалась, — заявила Маша.
— Прекрасно. Достань тарелки, стаканы и штопор, — сказала мать. — Это все здесь… Ты составишь нам компанию, Марджи?
— Я обедала, спасибо.
Мистер Зеленко сказал:
— Чепуха. Стакан пива и сандвич из кукурузного хлеба и говядины, что это значит? Поистине кошерная еда, кстати, единственный вид деликатесов, который мы ценим, свежайший и чистейший, знаешь ли. — Он достал из бумажной сумки толстый зеленый соленый огурец и отрезал от него большой кусок.
— Хог, подожди остальных, — сказала миссис Зеленко, снимая ярко-зеленого, покрытого эмалью Будду со стола с откидной крышкой и раздвигая стол.
— Закуска не в счет, — ответил мистер Зеленко, падая в полуразвалившееся кресло. Он махнул огурцом в сторону Марджори. — Марджи, моя дорогая, мы собираемся проработать твои религиозные проблемы. Прежде всего тебе нужно почитать немного Ингерсола, я думаю… потом Хекеля, возможно, немного Вольтера… и скоро ты будешь наслаждаться ветчиной и яйцами, как любой другой человек, не лишенный желаний.
— Оставь девочку в покое, — сказала миссис Зеленко, завязывая передник поверх красной юбки и вышитой крестьянской блузы. — У нее есть принципы, дай ей следовать им. Хорошо бы у тебя тоже было несколько… Ну, давайте есть.
Сидя за маленьким столом в тесной гостиной вместе с Зеленко и пробуя картофельный салат, холодные закуски и маринованные овощи, Марджори почему-то вспомнила закусочную Ми Фонга. Комната была так же слабо освещена, как это присуще китайской обстановке, хотя превалирующим цветом был скорее оранжевый, чем красный. Она была украшена поразительно разнообразными зарубежными материалами и предметами — среди них африканская металлическая маска, кокосовый орех, клетка для птицы (без птицы), большой медный кальян, маленький потертый коврик на стене, огромное круглое мексиканское медное блюдо и китайская ширма, разрисованная миссис Ми Фонг: размытое изображение истории, в которой драконы и женщины в кимоно появлялись, чтобы раствориться и скрыться, прежде чем приобрести твердые очертания. Экзотический запах тоже присутствовал: смесь аромата турецкого табака, запахов старой заплесневелой обивки, пряной пищи и острого мебельного полироля для пианино. Пианино доминировало в комнате; конечно, оно занимало почти половину пространства — черное, блестящее и торжественное.
— Принципы, она говорит, у меня нет принципов, Марджи, — сказал мистер Зеленко, держа сандвич в одной руке и пикули в другой и поочередно откусывая от них. — Люди, которые думают, что у них есть принципы, это либо дураки, либо лицемеры. Значит, это прекрасная игра для просвещенных людей вроде меня, поскольку все лицемеры должны быть уничтожены, и даже Библия учит нас не терпеть дураков. Конечно, это дает мне преимущество перед большинством людей, но здесь я ничего не могу поделать.
— Вот как получилось, что он мультимиллионер, — сказала миссис Зеленко Марджори.
— Я думала, вы не верите Библии, — произнесла Марджори. Она пила пиво с холодной закуской и чувствовала себя прекрасно. Было что-то восхитительно свежее и забавное в импровизированном ужине из деликатесов в одиннадцать ночи. Она не могла себе представить такую забаву в своем собственном доме. Горячий обед в семь вечера был так же неизбежен, как закат, и из тридцати одного дня тридцать ее родители завершали в десять часов мирным сном.
— Не верю, но там есть несколько великолепных высказываний, — заявил мистер Зеленко. — Книга не может существовать две тысячи лет без некоторых достоинств. Я предпочитаю греческую мифологию за ее мудрость, Платона за глубину и Дарвина и Эйнштейна за фактическую информацию, — говоря это, мистер Зеленко сделал себе еще один сандвич из шести слоев нарезанного языка.
Маша сказала:
— О, прекрати, Алекс, ты шокируешь Марджи. Передай пиво.
Марджори была больше шокирована тем, что Маша называет отца по имени, чем забавными реминисценциями по поводу Библии. В ее собственном доме имена родителей были священны; даже друг для друга они были Папа и Мама. Когда они обращались друг к другу «Роза» или «Арнольд», это означало, что надвигается гроза.
Мистер Зеленко передал пиво.
— А по поводу того, чтобы стать мультимиллионером, — сказал он, — я потерпел поражение по двум позициям — из-за недостатка связей и отсутствия должного положения в обществе. Особенно из-за положения. Мои идеи миллионеру принесли бы миллионы. Обладателю же нескольких сотен они помогают потерять сотни. Я нахожусь в положении линкора с шестнадцатидюймовыми орудиями, который не может воевать, потому что они выдерживают только картечь.
— Как концерт? — спросила Маша.
— Ужасно. Фрэнкис постоянно фальшивила, — возмутилась миссис Зеленко. — Я думаю, она была пьяна. Ее нужно бы посадить в тюрьму за то, что она сделала с «Чаконой» Баха.
— Мне понравилось, — сказал мистер Зеленко, сделав большой глоток пива.
— О ты, кому медведь на ухо наступил! — сердито воскликнула его жена.
— Кто такая Фрэнкис? — заинтересовалась Марджори.
Маша назвала фамилию известной концертной пианистки.
— Возвращаясь к той же теме, — произнесла миссис Зеленко, — я вам скажу, она тряслась, как если бы у нее была болезнь Паркинсона. А ее дыхание! Фрэнкис всегда как будто делает маленькие глотки, но на этот раз это перешло все границы.
— Может быть, тебе стоит попробовать ее марку виски, — сказал мистер Зеленко мягко. — Сорок два города, солидные ангажементы в декабре…
— Я не концертная пианистка, — огрызнулась миссис Зеленко. — Поэтому я умею играть Баха. Когда я играю, мне кажется, что меня слушает Бах, сам Бах, а не двенадцать сотен зевающих, пузатых, облаченных в норковые шубы, надушенных идиотов, которые не отличат пианино от гавайской гитары.
Она сбросила фартук, подошла к пианино и взяла аккорд, заставивший Марджори в удивлении застыть на месте. Миссис Зеленко продолжала играть, и это был действительно Бах: сухой, потрясающе мощный и замораживающе формальный. Марджори игра показалась мастерской. Жаль, что комната была слишком маленькой; получался такой эффект, как будто ты сидел внутри пианино. Удары и грохот все нарастали, и каждый раз, когда миссис Зеленко брала определенную высокую ноту, африканская маска на стене оживала, издавая таинственное короткое гудение. Маша и ее отец, слушая музыку, продолжали есть. В одном месте мистер Зеленко подмигнул Марджори, наклонился к ней и воскликнул, стараясь, чтобы его было слышно за адским громом пианино:
— Я знаю, что я подстрекаю ее играть! Восхитительно, не правда ли? В десять раз лучше, чем Фрэнкис, это точно.
— Мне нравится! — прокричала в ответ Марджори.
— Она подлинный гений! — заорал мистер Зеленко. — На концертной сцене так не играют. Там просто грязное шарлатанское мошенничество.
— Заткнись, когда я пробую играть! — выкрикнула миссис Зеленко, не останавливая страстных ударов по клавишам.
Очевидно, она выбрала одно из длинных сочинений Баха, и десять минут спустя не было никаких признаков окончания. Голова у Марджори, казалось, вот-вот лопнет. Маша и ее отец прикончили оставшуюся еду и пиво и теперь сидели, развалившись на софе, курили турецкие сигареты и слушали с полузакрытыми глазами. Если не считать дискомфорта от слишком громкого звука пианино, музыка доставляла Марджори удовольствие, к ее удивлению. Она всегда считала Баха композитором, чьи сочинения рассчитаны для сухих быстрых упражнений, но теперь она слышала, или думала, что слышала, страстную мелодию и восхитительную мощную колоннаду звуков. Но она отчасти вынуждена была признать, что пытается оценить нечто вне досягаемости. Твердо она была уверена лишь в том, что в ушах у нее звенело, а голова готова была расколоться надвое.
Миссис Зеленко приподнялась со стула у пианино, подняла руки над головой и снова стала с упоением бить по клавишам. Африканская маска загудела и упала со стены. Раздался звонок входной двери.
— О Господи, подожди, Тоня, это Ангел Смерти, — сказал мистер Зеленко. Он подошел к двери и воскликнул: — Да? — Из-за двери донеслось злое громкое кудахтанье на французском языке. Он ответил с соответствующим раздражением на том же языке, затем галльский диалог через закрытую дверь возобновился с нарастающей силой. Потом голос снаружи стал удаляться, что-то по-прежнему пронзительно выкрикивая.
— Почему-то она сегодня хрипит, — сказала миссис Зеленко.
Ее муж улыбнулся Марджори:
— Она живет через холл. Француженка, примерно восьмидесяти пяти лет, но еще в силе. Я видел, как она тащила вверх по лестнице кожаное кресло. Она сидит на одной овсянке и снятом молоке и читает вчерашние газеты, которые выбрасывают остальные жильцы. Я думаю, она миллионерша.
— О Алекс, не говори глупости, Ангел — не миллионерша, — возразила Маша.
— Посмотри, дитя, однажды я ее застал выбирающей финансовую страницу из нашего помойного ведра, и мы поговорили по этому поводу. Эта женщина знает каждую фирму, которая выплачивает дивиденды в последние пять лет… Я свой человек на Уолл-стрит, — сказал он, больше обращаясь к Марджори, — и могу объяснить, что значит, когда человек проявляет такую осведомленность. — Он повесил африканскую маску назад на стену и снял балалайку, висевшую рядом. — Хорошо, мы можем еще себе позволить немного цивилизованной музыки… Как насчет шерри-бренди, Тоня?
Вместе с бутылкой шерри-бренди миссис Зеленко принесла из задней комнаты большую картину в кожаной раме и протянула ее Марджори.
— Ты наверняка видела ее на сцене, — сказала она как бы между прочим.
Это была фотография Гертруды Лоуренс с посвящением: «Тоне Зеленке, экстраординарной пианистке».
— Да, колоссально иметь такую штуку! — восхитилась Марджори.
— Это она в шутку написала «Зеленке», — объяснила мать Маши. — Она меня всегда так называла, хотя знала, как правильно произносится моя фамилия.
Мистер Зеленко сделал маленький глоток шерри-бренди и начал петь русские песни, со знанием дела аккомпанируя себе на балалайке. После нескольких тактов жена и дочь присоединились к нему. Они сидели по обе стороны от него на софе, чуть раскачиваясь в такт музыке и сладко подпевая. Марджори свернулась клубком в кресле и чувствовала, что у нее на глазах выступили слезы. Это была грустная песня, но дело было даже не в этом. Странный пафос был в самих Зеленко: в маленьком седовласом мужчине, на лице которого парадоксально сочетались выражения цинизма и детской непосредственности, в его толстой, заметной, но непривлекательной дочери и жене, игравшей на пианино лучше, чем концертные пианисты, и как сокровище хранившей подаренную ей фотографию Гертруды Лоуренс с автографом.
Мистер Зеленко заиграл веселую танцевальную мелодию. Маша вскочила и не очень умело сделала несколько шагов, руки в боки, чуть запрокинув голову. Потом резко остановилась и сказала:
— Алекс, Алекс, подожди. У меня великолепная идея. Тоня, ты знаешь партитуру «Микадо», не правда ли?
— Правда, я уже несколько лет не играла ее, но определенно…
— Послушайте, Марджори Морнингстар сейчас исполнит «Цели своей возвышенной…».
— Колоссально, — сказал отец, отложив балалайку в сторону и позволив себе еще шерри-бренди.
Марджори стала отнекиваться, но Маша вытащила ее из кресла, а миссис Зеленко уже была за пианино и наигрывала мелодию из «Микадо».
— Продолжай! — сказала Маша. — У нас сейчас настоящая премьера. Сделаем то, о чем мы говорили.
Мать начала играть «Цели своей возвышенной…» с потрясающей энергией. Для прыжков было слишком мало места, но Марджи вошла в роль и все получилось прекрасно. Когда она закончила, Зеленко аплодисментами и возгласами выражали одобрение.
— О, она вторая Гертруда Лоуренс! — воскликнула миссис Зеленко. — Честно, это опять та же Герти, манера, с которой она держится, поворачивает голову…
— У тебя будет миллион долларов еще до того, как тебе стукнет тридцать, детка, — сказал мистер Зеленко. — Приходи, мы подумаем вместе, как им распорядиться. Не бери пример со всех остальных звезд. Тебе не надо умирать разорившейся.
— Я же говорила вам, она была великолепна, правда ведь? — настаивала Маша. Она сделала глоток бренди. — Ну, давайте выпьем за новую звезду. — Она наполнила три бокала до краев, раздала их по кругу и высоко подняла свой. — Выпьем за Марджори Морнингстар, за то, что произойдет с ней в Нью-Йорке в сороковом году… и за бедную маленькую Машу Зеленко, которая ее открыла!
— О чем ты говоришь, в сороковом? — презрительно спросил отец. — Почему семь лет? Она будет на вершине славы в тридцать восьмом, запомните мои слова! Я пью за тебя, Марджори!
Марджори краснела, улыбалась, мотала головой. Миссис Зеленко выпила свой бренди и сказала вдруг с задумчивым выражением:
— Маша, ты не думаешь, что мистер Клэббер мог бы заинтересоваться Марджори?
— Почему я не подумала… Знаешь, это прекрасная идея, совершенно изумительная! — воскликнула Маша. — Господи, он будет без ума от нее.
— Кто такой мистер Клэббер? — спросила Марджори.
— О… есть такой человек, — сказала Маша, подмигнув матери.
— Ну а как мы это сделаем? — поинтересовался мистер Зеленко с загадочным видом.
— Я приглашу его на «Микадо», — предложила Маша.
— Да, это подействует. Ему нужно только однажды увидеть ее на сцене, — сказала миссис Зеленко.
— Пожалуйста, послушайте, так нельзя, скажите мне, кто это…
Маша покачала головой:
— Если из этого ничего не выйдет, ты будешь только разочарована. Нет, моя конфетка, забудь об этом. Выпей свой бренди.
Когда спустя полчаса Марджори собралась уходить, Зеленко были в разгаре яростной дискуссии о современном искусстве. Маша, даже провожая ее до двери, кричала:
— Алекс, ты прекрасно знаешь, что Раулт — это коммерческая подделка! Прощай, Марджи, все было чудесно, увидимся за ленчем, о'кей? А что ты скажешь о керамиках Пикассо, Алекс, Бога ради? — Дверь захлопнулась.
В полумраке холла Марджори остановилась, чтобы застегнуть пальто. В следующую минуту она заметила пару глаз, разглядывавших ее из-за двери напротив. Она поспешила к лестнице, и тут в нее полетело нечто коричневое и бесформенное, что не было ни платьем, ни тапочкой, ни чем бы то ни было другим, знакомым Марджори, а высоко поднятый костлявый палец потрясал в воздухе.
— Я старая, — пищала женщина. — Я больной человек. Я хочу спать. Все хорошие люди сейчас спят. Вы плохой человек, как они, — она указала на дверь Зеленко. — Не спят допоздна, шумят, шумят, шумят… — Это определенно был Ангел Смерти. Марджори, у которой мурашки побежали по спине, увернулась от нее и побежала вниз по лестнице. Ангел скрипела ей вслед: — Плохие люди! Плохие! Плохие! Плохие!
Ночь была ясная, и луна светила бледным пятном над 92-й улицей. Направляясь домой и поднимаясь на лифте, Марджори продолжала прикидывать, кем бы мог быть мистер Клэббер. Самое многообещающее ее предположение состояло в том, что это человек, помогающий молодым дарованиям в кино.
Когда она вошла в квартиру, то была сильно удивлена. Дядюшка Самсон-Аарон сидел с ее родителями в гостиной за чаем. Впервые он пришел — ему разрешили прийти — навестить их в Эльдорадо. Он был гостем из прошлого в Бронксе.
8. Дядя
— Хавайя, Моджери? — приветствовал ее дядя Самсон-Аарон, и его голые красные щеки блестели. — Хавайя? Скажите, наша Моджери уже что-то из себя представляет? Когда мы услышим о свадьбе, Моджери?
— Привет, дядя, ты прекрасно выглядишь, — сказала Марджори, прикидывая, достанет ли он из кармана херши-бар и даст ей, как это он делал всегда с ее раннего детства.
— Я хорошо выгляжу. Спасибо, я выгляжу, как холера. Вот ты действительно хорошо выглядишь. Ты выглядишь… не знаю, несколько лет назад я держал тебя на коленях, а теперь ты выглядишь, как настоящая женщина-вамп из кино…
— Садись, Марджори, выпей чаю, — предложила ей мать. — Возьми еще кусок торта, Самсон-Аарон.
Дядя Самсон-Аарон наклонился вперед и сам отрезал себе внушительный кусок шоколадного торта, стоявшего на кофейном столике. Дядин живот, всегда большой, сейчас был особенно заметен. Синие брюки и коричневый пиджак плотно облегали его фигуру, и кожа на его руках и лице тоже была плотно натянута и лоснилась. Он ухмылялся Марджори сладкой глупой улыбкой из-под тощих усов. «Дядя Самсон-Аарон — помойное ведро, да, Моджери?» Он отправил в рот еще один кусок торта.
Марджори охотно согласилась на предложенную матерью чашечку чая и села. Присутствие Самсона-Аарона в Эльдорадо беспокоило ее, и ей хотелось выяснить, что это означает.
Самсон-Аарон был известен ей всегда только как Дядя. У нее были другие дяди, но он, и он один, был для Марджори дядей с большой буквы. Когда она и Сет были маленькими детьми, Самсон-Аарон заменял семейную няню. Его приглашали на обед, где он объедался, и за его еду платили, только бы он оставался с детьми, пока родители отсутствовали. Обычно это случалось в пятницу вечером. Одним из самых ранних воспоминаний Марджори было, как она сидит, свернувшись калачиком, на коленях у Самсона-Аарона в маленькой теплой кухне при мягком печальном свете догорающих праздничных свечей и дремлет под его пение еврейских колыбельных. В паузах Самсон-Аарон успевает съесть куриную ножку, или достать из холодильника вина, или сделать глоток из коричневой бутылки с сильно пахнущей жгучей жидкостью. Даже сейчас запах ржаного виски мог внезапно заставить ее вспомнить вечера по пятницам из детства.
Тогда она любила дядю. Ей было десять или, возможно, одиннадцать, когда она обнаружила, что ее родители и все остальные в семье считают его дураком, неудачником и ужасным обжорой. До этого она думала, что его любовь поесть и выпить была очаровательной чертой, источником большого, приятного развлечения. На седерсы, большие семейные собрания на Пасху, повторялась обычная шутка: что бы ни осталось у кого на тарелке или в стакане, нужно было передать Самсону-Аарону. Его аппетит Гаргантюа зачаровывал Марджори. Иногда она специально наполняла свою тарелку и съедала совсем чуть-чуть, чтобы посмотреть, как дядя поглощает остальное. Испарина выступала у него на лбу, его глаза блестели, и он кричал: «Не надо мыть посуду! Самсон-Аарон здесь!» — и все тарелки передавали к нему, в конец стола, где он сидел между детьми. Его энергия казалась нескончаемой. Когда он съедал и выпивал за семерых, он еще выступал запевалой веселых синкопированных гимнов, махал руками и еще добавлял бурные трели к счастливым хорам.
Для Марджори Самсон-Аарон всегда был душой, осязаемым символом группы уважаемых людей, которых называли «семья», кого она часто видела в детстве, а позднее только раз или два в год. У них были замечательные еврейские имена — тетя Шоша, тетя Двоша, дядя Шмулка, дядя Аврамка. У одного была кондитерская лавка, другой был портным, третий работал в прачечной; занятия остальных были столь же скромны. Ее отец, по общему признанию, был среди них аристократом, тем, кому удалось достигнуть успеха в Америке. Он всегда сидел вместе с Марджори и ее матерью во главе стола, когда семья собиралась теперь; а Самсон-Аарон всегда сидел в конце, среди новой группы детей, которые любили его и играли с ним так же, как в свое время Марджори и ее кузены. Один небольшой вопрос о статусе дяди возник, когда его единственный сын, преподаватель английского в небольшом загородном колледже, опубликовал роман. Как первое следствие этого события обнаружилось, что Самсон-Аарон может передвинуться ближе к центру стола. Но роман, чрезвычайно жестоко запутанное произведение, которое Марджори так и не смогла дочитать, быстро умер, несмотря на похвалу в затрепанных газетных вырезках, хранившихся в дядином бумажнике. И Самсон-Аарон остался сидеть в конце стола.
— Как Джеффри, дядя? — спросила Марджори, в то время как Самсон-Аарон без приглашения отрезал себе еще кусок торта.
— Когда я только вижу Джеффри? Раз в три года? Думаю, с ним все в порядке. Джеффри… Это имя в моих устах звучит забавно. Но почему ему надо его менять? Милтон не американское имя?
— Джеффри лучше для писателя, — ответила миссис Моргенштерн.
— Для преподавателя в колледже Милтон вполне годится, — сказал Самсон-Аарон. — Лучше бы он никогда не писал этой книги. Вы знаете, сколько он за нее получил, после двух лет работы? Четыреста сорок долларов. Я сказал ему: «Милтон, я старый никто, но какая польза писать истории о том, как парень и девушка забираются в постель, когда они еще не женаты? Разве это красиво?» Он ответил мне: «Па, это настоящая жизнь». Я сказал: «Милтон, единственное, что я знаю, почтенным людям это не понравится». Но я старый никто, он начал говорить о чем-то другом и потягивать свою трубку. Итак, он заработал четыреста сорок долларов за два года тяжелой работы. Настоящая жизнь. Джеффри Куилл. Холера!
— Не следует так говорить о твоем мальчике, — сказал мистер Моргенштерн. — Он что-то завершил. Он писатель. Книга есть книга.
— Правильно, мы гордимся им. Вся семья, — поддержала миссис Моргенштерн.
— Завершение? Чего? Чепухи, которую человек даже не может рассказать. Я могу понять Толстого. Я сказал Милтону: «Читай Толстого!» А он: «Пап, Толстой описывал горизонталь, а я описываю вертикаль». Вы когда-нибудь слышали о таких вещах? Я сказал ему: «Тебе еще нужно пожить, чтобы описать горизонталь, как Толстой». Он состроил гримасу и стал потягивать трубку. Завершение. Знаете, что я называю завершением? Дом, хорошую жену-еврейку, детей…
— Давай заглянем в твой бумажник. Я думаю, ты еще держишь там все вырезки, — сказал мистер Моргенштерн.
Дядя взглянул на него со слабой застенчивой улыбкой.
— Извини меня, он мой сын, мой единственный ребенок, я люблю его. Но не говори мне о завершении.
— Все равно, — сказала миссис Моргенштерн, — мы ожидаем его на бар-митцве.
Теперь Марджори поняла, что дядя Самсон-Аарон делал в Эльдорадо. Она спросила у матери:
— Ты уже пригласила Джеффри?
— Я не хочу посылать ему отпечатанное приглашение, которое он может выкинуть в корзину для мусора. Я хочу, чтобы он пришел. Дядя может заставить его прийти наверняка.
— Что я могу сделать? — спросил Самсон-Аарон, доедая огромный кусок торта и запивая его чаем. — Получить ордер на арест моего собственного сына и доставить его на бар-митцву Сета? Вы думаете, его заботит мое мнение? Если я пригрожу приехать в Олбани и продемонстрировать себя его друзьям, возможно, это испугает его настолько, что он придет.
— Он вовсе не такой плохой, — возразил мистер Моргенштерн. — Почему ты говоришь такие вещи? Он каждый месяц, как часы, посылает тебе деньги. И что он сделал, в конце концов?
— Он хороший мальчик, у него доброе сердце, я ничего не имею против него, — согласился Самсон-Аарон. Он вытер рыжую бровь большим голубым носовым платком, оставив последний маленький кусочек торта в одиночестве, и, тяжело дыша, откинулся на софе.
— Не знаю, сегодня у меня нет аппетита.
— Если ничто другое на него не подействует, — сказала миссис Моргенштерн, — ты можешь напомнить ему, кто помог ему окончить колледж и поддержал его отца.
Ангелоподобный рот Самсона-Аарона растянулся и приобрел резкие черты. Дядя трогательно посмотрел на миссис Моргенштерн и закивал головой медленно и печально. Потом он повернулся к Марджори со своей старой сладкой глупой ухмылкой. Черные дырки зияли вместо двух потерянных зубов, заметила девушка, ощущая дурноту.
— Прекрасный дядя тебе достался, а, Моджери? Не только не может поддержать своего сына, но и сам себя не может поддержать. Самсон-Аарон — помойное ведро. Не надо мыть посуду.
— О, дядя… — сказала Марджори беспомощно.
— Это правда. И я приехал в Америку, чтобы стать миллионером. Но, послушайте, если бы все были миллионерами, где бы они нашли ночных сторожей? Кто бы сторожил их добро по ночам? — Он остановился. — Это мне напоминает, как однажды я собрался пойти на работу… Ты же помнишь, Моджери, у меня всегда были в кармане пять центов, чтобы купить херши-бар, когда я отправлялся в этот дом. Нет херши-бара — нет Самсона-Аарона. Правильно?
Марджори обняла толстого старого человека и поцеловала его в огромную блестящую щеку. Он был пропитан запахом шоколадного торта.
— Правильно, дядя. А где мой херши сегодня?
— Херши? Теперь тебе нужен муж, дорогая, а его дядя не может принести в кармане. — Он постучал по ее плечу и повернулся к миссис Моргенштерн. — Так или иначе, Джеффри придет на бар-митцву. Довольны?
— Это обещание?
— Это обещание. От Самсона-Аарона — обещание.
— Я удовлетворена, — сказала миссис Моргенштерн, критически его разглядывая. — Скажи-ка ты мне вот что, у тебя есть костюм, чтобы надеть на бар-митцву?
Дядя с кривой усмешкой осмотрел себя.
— Ты думаешь, я приду в синагогу, одетый, как ночной сторож? У меня все еще есть костюм, хороший костюм, который ты мне купила на выпускной вечер Милтона. Куда мне его носить, кроме как на бар-митцвы и свадьбы?
— Хорошо, — сказала миссис Моргенштерн. — Только проверь, чтобы он был чистым и отглаженным. И пойди подстригись, и приведи в порядок усы, и… ты знаешь…
— Я знаю? — Дядя посмотрел на дверь и повернулся. Он усмехнулся Марджори. — В следующий раз я надену хороший костюм на твою свадьбу. Да? Свадьбу Моджери.
— Марджори пока не собирается выходить замуж…
— Поторопись, дорогая. Самсон-Аарон становится старым. Мне хотелось бы, чтобы у тебя была маленькая девочка, я мог бы приносить ей херши-бар. Пять центов у меня сейчас есть в кармане. Благодаря моему сыну — Джеффри Куиллу, вертикальному писателю.
Когда он ушел, Марджори спросила:
— Где он работает в это время ночи?
— Работает! — пожал плечами ее отец. — У маклера, который мне одолжил немного денег, есть товарный склад, и Самсон-Аарон спит там ночью с будильником на коленях. Это и есть его работа — на этой неделе. Он перебирается с одного места на другое.
Миссис Моргенштерн, собирая чайную посуду, сказала:
— Он приведет Джеффри, это главное. Он просто так не дает обещаний, но если он дает, то это обещания.
— Чего ради вам так страшно необходим Джеффри? — спросила ее дочь. — Что это даст?
— Просто у меня есть план посадить его за один стол с особо нужными людьми, вот что это даст.
— С Голдстоунами, — сказал отец.
— Не только с ними! — отрезала мать, быстро взглянув на девушку.
— Мам! Мам, ты пригласила Голдстоунов?
— Почему нет? Они мои друзья, не так ли?
— Сэнди тоже, без сомнений?
— Почему мне нужно было исключить Сэнди? У тебя с ним война или что-то еще?
— О Господи, — прошептала Марджори и присела на подоконник, уткнувшись в стекло. — Голдстоуны и семья… хорошо, это все ставит на свои места…
Миссис Моргенштерн с легким стуком поставила посуду.
— За этим столом будут лучшие люди. Голдстоуны, банкир твоего отца Билл Коннелли и его жена, Джеффри, ты и Робинсоны из Филадельфии. Что-нибудь не так?..
— Робинсоны? Родители подружки Сета в лагере?
— Да, Робинсоны. Они любят Сета, и им нравятся банкир твоего отца Билл Коннелли и его жена, Джеффри, ты, двадцать деловых домов в Филадельфии. И если ты стыдишься нашей семьи, Марджори, то я нет. В следующий раз мы поговорим о снобах, запомни это.
Несколько дней перспектива просидеть весь банкет по случаю бар-митцвы Сета за одним столом с Голдстоунами тревожила Марджори. И наконец она излила душу Маше Зеленко. Толстушку это больше позабавило, чем обеспокоило.
— Конечно, мы смотрим с разных позиций, — сказала она. — Меня совсем не заботит, удастся ли тебе очаровать Голдстоунов или нет. Я против этой партии. Может быть, когда я познакомлюсь с Сэнди, я изменю свое мнение. Но сейчас…
— Маша, ты знаешь, это не вопрос партии, но… посмотри, мне нравится Сэнди, и… семья устраивает такие скандалы иногда, это все…
— Сладкая моя, у Голдстоунов тоже есть семья. У всех есть. Ты предполагаешь, руководствуясь логикой, как себя будет вести человек в той части человеческого общества, к которой он относится, но это вовсе не означает, что все так и произойдет. Возможно, следовало бы что-то сделать с эйнштейновской теорией… относительности, ты знаешь…
— Очень забавно, — сказала Марджори.
— Я просто не думаю, что это — проблема, дорогая…
— Во имя Бога! А не кажется ли тебе, что это слишком откровенно: собрать этих, возможно, миллионеров, практически неизвестных в кругу семьи вместе с их красивым сыном (он действительно красив, поверь мне) и усадить меня с ними за стол на целый вечер на обозрение всех моих тетушек и дядюшек? Следующим шагом остается только объявить об обручении, это все, и я не думаю, что родители Сэнди будут очень довольны такой прямолинейной тактикой — оставим в стороне Сэнди…
Они еще поговорили, и Маша предложила, чтобы она пригласила Джорджа. Это собьет с толку семью и нейтрализует все подозрения Голдстоунов. Джордж, очевидно, начнет предъявлять свои права на Марджори, и Сэнди будет счастлив, если удастся с ней потанцевать два раза за весь вечер. Марджори обдумала это и решила так и сделать. В тот же вечер она послала ему одно из отпечатанных приглашений на бар-митцву, дописав к этому от Себя, что просит его прийти. Она написала, а не позвонила ему по телефону, потому что в это время ее отношения с Джорджем были несколько запутаны. Последняя вечеринка, на которой они были вместе, закончилась долгим выяснением отношений на переднем сиденье «Пенелопы». Джордж настаивал на том, чтобы она сказала ему, что именно он сделал неправильно, чем обидел ее, чем он может вернуть ее расположение, чтобы все стало как прежде. На эти классические вопросы Марджори, конечно, не в состоянии была дать какой-нибудь хороший свежий ответ.
Прошла неделя, еще одна неделя, третья. Никакого ответа от Джорджа. Она уже стала сомневаться, попало ли вообще письмо в его почтовый ящик, и два или три раза была готова даже позвонить ему. Она очень обрадовалась, что не сделала этого, когда наконец получила ответ. Он лежал на столе в ее комнате в толстом конверте, когда она вернулась с репетиции. Она вскрыла его и, взглянув на первый абзац, упала на кровать. Она стала лихорадочно изучать письмо, совершенно неузнаваемое, если не считать знакомого аккуратного почерка и зеленых чернил Джорджа. Он не придет на бар-митцву, писал Джордж, и не собирается больше встречаться с Марджори. Это было холодное сухое письмо, абсолютно непохожее по тону на все то, что Джордж писал и говорил ей прежде. Причина была такова: он нашел другую девушку, и у Марджори не оставалось сомнений, что это правда. Он писал с беспристрастной вежливостью о том, как она отдалялась от него после переезда в Манхэттен. Было безнадежно, рассказывал он, продолжать видеться с ней дальше, а теперь он встретил эту девушку — девушку из Бронкса, — более близкую ему по происхождению и интересам, и его решение окончательно.
В последнем абзаце, коротком и забавно-прощальном, половина строк была зачеркнута и жирно замарана; это было единственное исправленное место на четырех аккуратно исписанных страницах. Марджори уставилась на длинную зеленую кляксу и поднесла ее к свету, пытаясь разобрать слова, в надежде, что под ней окажется маленькое предложение, которое покажет настоящие чувства автора и перечеркнет все письмо, вернет Джорджа на прежнее место ее верного поклонника. Но пятно было непроницаемым и таким и осталось.
Этот удар на неделю выбил девушку из колеи, и она переходила от приступов ревности к раскаянию, затем к фантазиям о мщении, которые поразили ее своей силой. Но она ничего не сделала. В этой ситуации было нечего делать.
Она настроила себя на то, что ей придется просидеть всю бар-митцву за столом с ужасными Голдстоунами и с Сэнди.
9. Бар-митцва
Это было необычное и трогательное зрелище: Сет, стоящий перед Священным Ковчегом в новом шелковом пурпурно-белом молитвенном плаще и читающий нараспев Книгу Пророка Малахии.
Синагога в эту субботу была переполнена. Упрямо стараясь держаться в тени, Марджори села как можно дальше. Мать пыталась убедить ее сесть на переднюю скамью вместе со всей семьей, но Марджори все же отказалась и заявила, что лучше останется сзади, чтобы встретить припоздавших друзей и родственников.
Голос Сета ясно звенел над рядами черных ермолок и молитвенных плащей, рассыпался чистыми нотками над разукрашенными шляпами и мехами женщин. Это была Новая синагога, где мужчины и женщины сидели вместе. Многие годы, проведенные в Бронксе, Марджори беспрестанно ругала ортодоксальный обычай разделения полов; в двадцатом веке женщины перестали считаться второсортными гражданами, говорила она. В частности по этой причине ее родители стали посещать Новую синагогу после переезда в Манхэттен. Однако главным поводам для этого послужило их желание подняться. Наиболее богатые евреи были реформистами, но Моргенштерны не были готовы пренебрегать традициями до такой степени, чтобы молиться с непокрытой головой, курить в субботу и есть свинину. Новая синагога была приятным компромиссом с органной музыкой, смешением полов, укороченными молитвами, длинными проповедями на английском и молодым раввином в черной робе, похожей на сутану священника. И все же мистер Моргенштерн чувствовал себя несколько неуютно в этой синагоге. Он постоянно повторял, что раз Авраам Линкольн мог носить бороду, то почему этого не может сделать американский раввин. Когда ему нужно было читать заупокойные молитвы по своему отцу, он всегда шел в маленькую старую ортодоксальную синагогу на соседней улице и в душе считал, что это единственная форма поклонения, которая подходит как Богу, так и духу его почившего отца. Свою совесть он успокаивал тем, что платил членские пожертвования в обеих молельнях.
Его тайной надеждой, связанной с Новой синагогой, было вдохнуть немного религиозного чувства в свою дочь. Но Марджори мало интересовали какие бы то ни было религиозные конфессии. Она рассматривала веру как клубок застарелых предрассудков. Родителям иногда удавалось вытащить ее в синагогу в пятницу вечером, когда у нее не было назначено никаких свиданий, да и в этих случаях не обходилось без пререканий. Сама не сознавая этого, она причиняла много боли своему отцу, сплетничая о раввине, молодом человеке с изысканной речью и красиво резонирующим голосом, рассуждавшим о новинках периодики и последних бестселлерах так же легко, как о Библии. Вот такой человек, думал отец, прекрасно подошел бы его дочери, да и ему тоже. Но Марджори была по отношению к раввину сама насмешка и презрение.
Но сегодня, к ее собственному удивлению, трепет охватил девушку, когда голос ее брата произносил слова тысячелетней давности, наполнив своды синагоги жутковатой, сверхъестественной музыкой веков, затерянных во мраке времени. Облака разошлись, и свет утреннего солнца падал сквозь окна купола, поблескивая на огромном Ковчеге из красного дерева позади Сета и на полукружье ивритских букв на скрижалях Закона: «Знай, пред кем стоишь». Эти слова восхитили Марджори в первый раз, когда отец перевел их ей; и это восхищение вернулось теперь, когда буквы блестели на солнце. Сет продолжал говорить нараспев, торжественно и спокойно, и Марджори показалось вдруг, что в старинном обычае разделения мужчин и женщин была могучая правильность. Эта религия была мужской, это была религия Сета. Сам иврит имел шероховатое мужское звучание, совершенно отличное от мягких английских комментариев раввина; он звучал, как некоторые неровные дробные отрывки из ее любимого «Макбета».
У нее перехватило дыхание, когда Сет споткнулся на слове и замолчал. Повисла тяжелая пауза. Краем глаза он заглянул в книгу, и по залу пробежал шепот. Сет поднял глаза, улыбнулся в сторону скамьи, на которой сидели его родители, и спокойно возобновил чтение. Марджори разжала кулаки; люди вокруг нее посмеивались и кивали друг другу. Она услышала, как одна женщина сказала: «Он хороший мальчик». Марджори готова была расцеловать его. Легкие уколы ревности потонули в порыве любви к маленькому братику, лепечущему малышу со светлыми кудряшками и огромными глазами. Конечно же, время унесло этого малыша с собой много лет назад, но только в этот момент она поняла, что это так и что это навсегда.
Позже, во время ленча в переполненном общественном зале синагоги стайка мальчишек проталкивалась сквозь толпу мимо Марджори, громко болтая, пихая друг друга локтями, держа в руках сандвичи и бутылки с содовой. Среди них был и Сет, раскрасневшийся, с блестящими глазами, руки его были заняты целой грудой подарков, завернутых в разноцветную бумагу. Она растолкала мальчишек, обняла удивленного брата и поцеловала его в щеку.
— Ты был великолепен, Сет! Просто великолепен! Я так горда тобой!
Теплота и признательность сверкнули во взгляде мальчика сквозь торжествующее возбуждение.
— Я действительно сделал все как надо, Марджи? Правда?
— Замечательно, говорю тебе, превосходно.
— Я люблю тебя, — сказал Сет нелепым тихим тоном и поцеловал ее в губы, оставив на них привкус вина. Мальчишки стали насмехаться над отпечатками помады на лице Сета и, толкаясь, увели его прочь, а Марджори осталась стоять, где стояла, словно прикованная, одинокая в этой радостной толпе, захваченная удивительной путаницей ощущений. Сет никогда открыто не выражал привязанности к ней с тех пор, как научился говорить.
Она пробилась сквозь толпу к буфету, но ничего не соблазнило ее на длинном столе, уставленном подносами с кусками индейки, языка, говядины, филе цыпленка, с салатами из тунца и полдюжины других рыб, фруктовыми салатами, всеми сортами овощей, бутербродов и кондитерских изделий. Она чувствовала себя слишком взвинченной для того, чтобы есть. Незамеченная увлеченными поглощением пищи гостями, она прошлась до стойки бара и остановилась там, медленно потягивая виски с содовой и наблюдая за тем, как исчезают еда и напитки, закупленные на тысячу долларов.
Этот ленч брал свои истоки в древнем обычае, называемом киддуш, или благословение вином. Родители мальчика бар-митцва должны были подавать вино всем молящимся в этот день в синагоге. В Соединенных Штатах эту традицию развили и сделали, как говорится, из мухи слона. Ленч в этот день не уступал основной послеполуденной трапезе. Благословение вином играло здесь весьма незначительную роль, хотя обычай все равно называли киддуш.
Усилиями верующих старинная народная традиция приобрела современные формы. Существовали пятисотдолларовые киддуш, тысячедолларовые, и так далее. Мистера Моргенштерна отчаянно соблазняло знаменитое двенадцатитысячедолларовое празднество Лоуенштайнов, включавшее в себя вареных осетров, каскады малиновой содовой воды на ступенчатых сооружениях изо льда и ледяную звезду Давида, обрамленную синим неоновым светом. Но, убоявшись предстоявших расходов, отец решил остановить свой выбор на тысячедолларовом киддуш. У Моргенштернов не было достаточно друзей и родственников, чтобы съесть всю провизию, но это была не проблема. Если в обычные субботние дни в синагоге было всего четыре или пять рядов молящихся, одиноко сидевших на пурпурных подушках, то в день бар-митцва Дом Божий был более чем полон. Марджори замечала подобный феномен и в старых синагогах Бронкса.
В дальнем конце зала началась веселая суета. Оттуда послышались хлопки в ладоши, пение и притоптывание ног. Марджори допила свой бокал и направилась туда. Сгрудившись вместе, все ее дяди, тети, кузены и кузины напевали заводную еврейскую мелодию, полную отзвуков детства, отбивая ритм ногами и руками. На небольшом пространстве в центре, окруженные смеющимися лицами и хлопающими ладонями, прыгали дядя Самсон-Аарон и дядя Шмулка. Шмулка был лыс, и рост его составлял чуть менее пяти футов. Большую часть своей жизни он изнурял себя в жаркой, наполненной паром прачечной и поэтому был весьма слабым партнером для Самсона-Аарона. Оба дяди громко топали ногами, выкидывали замысловатые па, Шмулка даже иногда рискованно повисал на мощном локте своего партнера, отрывая при этом ноги от пола. Самсон-Аарон держал в одной руке бутылку виски, а в другой коричневую ногу индейки. Когда он, прыгая и крича, оказался напротив Марджори, его лицо засветилось от удовольствия.
— Моджери! Привет, Моджери! Шмулка, ну-ка ступай себе, кому ты нужен? — Шмулка, закружась, отлетел в сторону, а Самсон-Аарон взял ее за руку двумя толстыми пальцами той руки, в которой держал бутылку.
— Ну? Потанцуем в честь Сета, да, Моджери?
Все вокруг со смехом приветствовали ее; она не могла этому сопротивляться; без дальнейших препираний Марджори позволила ему вовлечь себя в круг. Самсон-Аарон не вертел ее вокруг себя, как он это проделывал со Шмулкой. Он сразу же стал танцевать правильно и изысканно. Марджори пришло на ум, что он, должно быть, был в свое время стройным, изящным денди. Она почти уже видела худенького веселого юнца внутри этой теперешней мясистой оболочки пожилого мужчины с недостатком зубов и трясущимся красным двойным подбородком. Марджори выучила фигуры танца в детстве на семейных празднествах и теперь с легкостью поспевала за дядей. Глаза Самсон-Аарона блестели.
— Что, в следующий раз будем плясать на твоей свадьбе, Моджери?
Он картинно склонился в галантной позе старинного щеголя, согнув руки в локтях, комично вихляя своим огромным задом и превосходящим его в размерах животом. Это было удивительно забавно, и Марджори расхохоталась, не переставая танцевать. Дядя тоже засмеялся, и прежде, чем она успела сообразить, что произошло, у нее в руках оказалась нога индейки: он умудрился ловко сунуть ее ей в руку, когда они выделывали очередное па. Окружающие снова приветственно засмеялись, и разгоряченная Марджори, взмахнув этой ногой, исполнила что-то вроде маленькой джиги. Через несколько секунд она сообразила, что махала индюшачьей ногой не более чем в десяти дюймах от носа миссис Голдстоун. Мать Сэнди стояла на грани круга и смотрела на нее сквозь очки в серебряной оправе с таким выражением, словно Марджори была танцующей лошадью.
Мардж постаралась немедленно улыбнуться ей в лучшем аристократическом тоне, но сделать это было довольно трудно из-за индейки в руке и скачущего вокруг нее пузатого мужчины.
Миссис Голдстоун улыбнулась ей в ответ, и этого было вполне достаточно при данных обстоятельствах. Затем она смешалась с толпой позади нее и пропала из виду.
Вечерний банкет начался очень неплохо. Мистер Коннелли, ирландский банковский менеджер, взял в руки ермолку, которая лежала рядом с карточкой, обозначавшей его место, и неуверенно поместил ее на розовую лысую голову.
— Так? — спросил он мистера Голдстоуна. — Я сегодня впервые надеваю эту штуку.
— Нет, вот так, — сказал мистер Голдстоун, сдвигая ермолку ему на затылок. — Я носил ермолку каждый день до тех пор, пока не приехал в Америку.
Сэнди конфузливо надел ермолку на голову, подражая отцу. Марджори подумала, что на нем она смотрится не менее странно, чем на ирландце.
— Что же, все вышло очень интересно, очень интересно! — Мистер Коннелли обвел взглядом танцевальный зал. — Весь этот праздник прекрасно устроен.
— Не хуже, чем у Лоуенштайнов, — сказала миссис Голдстоун.
Бриллианты сверкали на ее шее и запястьях. Несмотря на седеющие волосы, она выглядела едва ли на сорок в черном парижском платье, которое, как предположила Марджори, одно стоило целого гардероба ее матери. Лишь очки на серебряной цепочке придавали ей некоторую строгость. Она сердечно поприветствовала Марджори, ни единым словом не упомянув о танце с индюшачьей ногой.
Теперь, после двух бокалов шампанского, банкет увлек ее. Она уже надеялась, что это будет для нее настоящее удовольствие. Ей вспомнились Голдстоуны с их болезненным чувством превосходства в старые времена в Бронксе. Однако теперь этот украшенный цветами танцевальный зал, официанты в синих жакетах, негромкий аккомпанемент оркестра, прекрасная сервировка и серебро на столах, камелии рядом с тарелками приглашенных дам, все это не оставляло желать ничего лучшего даже Голдстоунам. Ее мать усадила гостей с нарочитой расчетливостью. Стол, за которым сидела Марджори, помещался с самой почетной стороны танцевального зала; оттуда были видны только лишь белые рубашки, черные галстуки, жемчужные колье, и вечерние платья. Рядом с ней за этим столом сидели деловые партнеры ее отца, подруги ее матери из светского благотворительного общества, некоторые преуспевающие знакомые, собранные на протяжении всей жизни. За столом на другом конце танцевального зала сидели те знакомые, которые не были преуспевающими, а также сотрудники отца, соседи из Бронкса, приглашенные на это торжество по старой дружбе, тети, дяди и кузены. Некоторые из гостей с той стороны тоже были одеты в вечерние платья, но большинство пришли в повседневной одежде. На возвышении у дальней стены танцевального зала по обе стороны от трех свободных мест сидели несколько раввинов с женами и член законодательного собрания Фейер, самый высокопоставленный знакомый мистера Моргенштерна, краснолицый маленький человечек в черном роговом пенсне. Там же сидела бабушка Сета, мать мистера Моргенштерна — миниатюрная старенькая леди, жившая в Нью-Джерси с тетей Шошей. Бабушка, сидевшая в огромном кресле, выглядела удивленной и потерянной.
Мистер Голдстоун указал на пустые кресла между ним самим и Сэнди.
— Кого же это нет сегодня на нашей вечеринке, Марджори?
— Робинсонов и моего кузена Джеффри Куилла, — ответила Марджори. — Никого из них нет сейчас в городе.
— Ну, что ты скажешь, если мы начнем с грейпфрута?
У мистера Голдстоуна был резкий голос и прямой характер. Когда он улыбался широкой тонкогубой улыбкой, в его светло-карих глазах зажигались насмешливые огоньки. При взгляде на Марджори его глаза, казалось, становились добрее. Он ей инстинктивно нравился, и она подозревала — по крайней мере надеялась, — что и сама производит на него такое же впечатление. Но она легко понимала тот страх, с которым Сэнди обычно разговаривал с отцом. У мистера Голдстоуна было длинное лицо, такое же, как у Сэнди: гораздо коричневее и морщинистее, но удивительно похожее. Когда он не говорил и не улыбался, он походил на резную дубовую индейскую статуэтку.
— Я думаю, что надо подождать до торжественного входа. Ну, знаете, мамы, отца и Сета, — произнесла она застенчиво. — Но если вы хотите, то, пожалуйста, кушайте… не стесняйтесь…
— Конечно же, я подожду, какой может быть разговор, — сказал мистер Голдстоун.
— А что, тот писатель, о котором ты мне говорила, это вот этот Джеффри Куилл? — спросил Сэнди, разглядывая карточку, указывавшую место Джеффри.
— Да, он мой кузен… наш кузен.
— У тебя есть кузен, который пишет книги? — спросил мистер Голдстоун.
— Он написал «Позолоченное гетто», — сказала Марджори. — Эта книга получила прекрасные отзывы.
— Если бы мой сын начал писать книги, я бы его пристрелил, — сказал мистер Голдстоун, — избавил бы его от этого несчастья.
Свет в танцевальном зале потух, и пятно розового света выхватило из темноты одни лишь двери. Музыканты заиграли торжественную мелодию. Двери распахнулись; в них показался церемониймейстер, высокий седой мужчина во фраке, и вкатил в зал столик, на котором в медном котелке шипели оранжево-синие огоньки. Вслед за церемониймейстером вошли родители, ведя под руки несчастного, напряженного, как струна, мальчика. Все гости встали и принялись аплодировать.
— Что это горит в том медном ведерке? — поинтересовался Сэнди.
— Деньги, — ответил мистер Голдстоун.
— Это соус из бренди для грейпфрута, — сказала миссис Голдстоун. — Разве ты не был на ужине у Лоуенштайнов?
— Бренди перед ужином? — сказал мистер Голдстоун. — Вот это мысль! А может быть, еще и немного мороженого?
— Это только ради впечатления, и перестань быть таким серьезным, Лион.
Пока мальчик и его родители направлялись к возвышению, сопровождаемые лучом света, официант поместил ведерко посреди зала, заставляя пламя вздыматься и закручиваться.
Свет включили снова, пламя постепенно погасло, музыка прекратилась. Старейший раввин, седобородый человек в длинной черной робе, благословил хлеб. Официанты разлили соус из ведерка по чашам и поставили их на столы рядом с грейпфрутами.
— Отлично, — сказал мистер Голдстоун, — запьянеть после грейпфрута. Возможно, я попрошу добавки. Ты должна будешь отвезти меня домой.
Миссис Голдстоун обернулась к Марджори.
— Он не имеет в виду ничего плохого, у него просто такая манера себя вести. Дома он вообще несносен.
Марджори едва удерживалась от смеха. Она позволила себе улыбнуться.
— Я думаю, это очень забавно.
Мистер Голдстоун бросил на нее острый взгляд, его лицо напоминало в этот момент комическую маску.
— Не поощряй его, — сказала миссис Голдстоун.
Высокий церемониймейстер тронул Марджори за локоть.
— Прошу прощения, мисс. Ваша мать пересылает вам эту телеграмму. Она просит вас извиниться.
Послание было от Робинсонов. Их девочка заболела свинкой, поэтому они не смогли приехать.
— Робинсоны из Филадельфии? — сказал мистер Голдстоун. — Владелец недвижимостью? Одна дочь? Я его знаю. Прекрасный человек. Дела у него идут прекрасно. Жаль, что он не приедет.
— Привет, Марджори. — Она оглянулась. Рядом с ней стоял Джеффри Куилл, несколько более коротенький и плотный, чем на фотографии в своей книге, но в том же твидовом пиджаке и с той же трубкой в руке. В его улыбке сквозила странная смесь застенчивости и тайного превосходства. — Прошу прощения, я опоздал. Всегда забываю принимать во внимание эти ужасные нью-йоркские пробки на дорогах, когда рассчитываю время.
— Ты почти вовремя.
Она представила его, и он сел. Взяв в руки меню с портретом Сета на обложке, он пробежал глазами список блюд, напечатанный тонким курсивом.
— Королевский пампльмусс, — прочел он удивленным тоном. — Фуа де воляй Лоуенштайн, консоме Мадрильен, лянг де бёф ан сос пикант… Боги мои, Марджори, это что, кошерный банкет? Я поднимаюсь и ухожу.
— Да, кошерный, если тебе так угодно, — сказала Марджори, глядя, как на другом конце зала Самсон-Аарон разгуливает от стола к столу с бутылкой в руках и обносит всех выпивкой. Компанию ему составляла тетя Двоша, помешанная на вегетарианстве женщина в странном зеленом вечернем платье, украшенном желтыми птичьими перьями.
— Не переживайте, мистер Куилл, — вежливо сказала миссис Голдстоун. — Сам раввин Юнг ходит на ужины к Лоуенштайнам.
— Уверяю вас, миссис Голдстоун, это меня мало беспокоит. В поезде я уже съел бутерброд с ветчиной… Надеюсь, что это никого не оскорбит.
— Только не нас, — произнес банковский менеджер со смешком. — Мы ведь ирландцы, вы знаете.
— Конечно же, мы уважаем обычаи других народов, — сказала миссис Коннелли. — Сами мы очень строги насчет употребления мяса в пятницу. Я думаю, что следует соблюдать эти обычаи.
Марджори увидала, как Самсон-Аарон дернул за локоть тетю Двошу, указал ей бутылкой на Джеффри и потащил старую деву на середину танцевального зала.
Мистер Голдстоун покосился на Джеффри.
— Дома я ем только кошерную пищу. Вне домашних стен я могу есть все что угодно, но дом есть дом.
— Не находите ли вы это слегка непоследовательным? — спросил Джеффри, покусывая свою трубку и сидя спиной к приближавшемуся отцу.
— Конечно. Это означает, что я наполовину не так хорош, как мог бы быть, — сказал мистер Голдстоун.
Джеффри улыбнулся и пробормотал.
— Конечно, эти народные обычаи доступны для всех, кто находит в них успокоение.
Самсон-Аарон и тетя Двоша пересекали танцевальный зал. Марджори посмотрела на свою мать, сидевшую на возвышении. Миссис Моргенштерн сделала очень красноречивое движение. Марджори моментально поняла, чего от нее хотят.
— Джеффри! — воскликнула она, вскакивая с места и хватая его за руку. — Вон идет твой отец. Пойдем к нему навстречу и поздороваемся с ним…
Смущенный Джеффри медленно поднялся.
— Ну, в общем-то торопиться не к чему, но если…
— Останься, где ты есть! — закричал Самсон-Аарон с середины зала. — Мы идем до тебя! Мы идем на защиту!
Когда дядя подошел поближе, его неистовый смех замер. Он медленно взял руку, протянутую сыном, так, словно его собственные руки были грязными или мокрыми.
— Значит, Джеффри, ты приехал, чтобы порадовать своего старого отца. Хороший мальчик.
— Как ты поживаешь, папа? — спросил Джеффри с застенчивой теплотой в голосе.
— Слава Богу, как видишь. Здоровье — это все, остальное грязь.
Тетя Двоша пожала руку Джеффри.
— Джеффри, твоя книга! Я прочла ее. Я была так горда… Восхитительно! Джеффри, с твоим талантом ты мог бы передать важные послания всему миру.
У нее был высокий пронзительный голос и светлые глаза.
— Спасибо, тетушка…
— Я бы хотела переговорить с тобой пять минут по очень важному вопросу.
Она подошла к свободному креслу рядом с ним.
— Конечно, тетя, но, может быть, все-таки не за ужином? — засмеялся Джеффри. — Может быть, попозже?
— Конечно, я не стану тебе навязываться, — сказала тетя Двоша, обидевшись. — Я никогда никому не навязывалась и не буду.
Коннелли и Голдстоуны откровенно разглядывали подошедших к столу.
— Джеффри, ты что-то растолстел, — сказал его отец.
— Что ж, у меня есть в кого, папа.
Самсон-Аарон запрокинул назад голову и засмеялся. Он посмотрел на бутылку, которую держал в руке, и сказал с неожиданной решительностью.
— Ну, выпьем за мальчика бар-митцву, да? А потом мы пойдем обратно.
Он принялся разливать виски по маленьким стаканам, стоявшим перед каждым из приглашенных. Толстый и неуклюжий, он, однако, наливал с такой ловкостью, что умудрился не пролить ни капли на белую крахмальную скатерть.
— А с кем мы имеем честь пить? — спросил мистер Голдстоун.
Марджори представила тетю и дядю.
— Рад с вами познакомиться, рад познакомиться, — сказал Самсон-Аарон и поднял вверх свой стакан. — Ну что, старый добрый еврейский тост, да? Пусть Бог благословит этого мальчика и его родителей, а мальчик возрастает в Законе для женитьбы и для добрых дел!
— Лучший тост, который я когда-либо слышал, — заметил ирландский банковский менеджер, осушая стакан.
— Воплотить такой тост в жизнь в наши дни можно лишь с Божьей помощью, — сказал мистер Голдстоун и озадаченно посмотрел на дядю. — Вы отец мистера Куилла, мистер Федер?
Самсон-Аарон улыбнулся Джеффри несчастной щербатой улыбкой.
— Видите ли, мне показалось, что фамилия Куилл более подходит для книжной обложки… — быстро проговорил Джеффри.
— Вы видитесь нечасто? — спросил мистер Голдстоун у дяди.
Дядя пожал плечами.
— Он живет в Олбани, а я здесь…
— Тогда почему же, черт возьми, вы сидите в разных концах комнаты? У нас здесь два свободных места. Садитесь. Садитесь, миссис Рафаилсон. Вы будете ужинать с нами.
Самсон-Аарон опасливо взглянул на сына и на Марджори.
— Не, мы пойдем туда, обратно… я, понимаешь, не в смокинге…
— Садитесь! — Это прозвучало как приказ.
Марджори посмотрела в направлении матери, но ее на возвышении не оказалось.
— Почему бы и нет… это прекрасная мысль. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам, дядя… тетя Двоша.
— Для Моджери все что угодно!
Самсон-Аарон плюхнулся в кресло рядом с сыном и водрузил бутылку перед собой на белую скатерть.
— Слава Богу! — сказала тетя Двоша. — Теперь мы сидим у батареи. Здесь, надеюсь, будет потеплее.
Официанты заменили грейпфруты рубленой цыплячьей печенью. Марджори еще ни разу не видела, чтобы цыплячью печень подавали подобным образом: перед каждым из приглашенных появилась горка размером с мускатную дыню, помещенная в серебряную чашу со льдом.
— Ради Бога, объясните мне, как можно съесть что-либо еще после этого? — спросил мистер Голдстоун.
— Мой дорогой, — сказала ему жена, — после этого ты можешь спокойно не есть ничего целую неделю. Лоуенштайн восхитителен.
Она с увлечением принялась за печень, остальные последовали ее примеру, за исключением тети Двоши, которая просто сидела и озиралась вокруг со светлой улыбкой. Миссис Голдстоун старалась не глядеть на тетю Двошу, но ее взгляд словно магнитом притягивался к блестящим глазам, колышущимся желтым перьям на плечах и мерцающим зеленым блесткам на тетином платье. Тетя Двоша перехватила взгляд миссис Голдстоун, и ее улыбка сделалась еще светлее.
— Почему вы не кушаете, миссис Рафаилсон?
— Цыплячья печень содержит в себе яд, — с готовностью ответила тетя Двоша, не переставая улыбаться.
Сэнди поперхнулся, и у всех остальных сделались испуганные глаза.
— Моя тетя непреклонная вегетарианка, — поспешно объяснила Марджори.
— О! — Миссис Голдстоун вернулась к еде, однако ее энтузиазм заметно уменьшился.
— Это очень интересно, — сказала миссис Коннелли. — У меня есть… э…
Она умолкла на полуслове, глядя, как Самсон-Аарон, разделавшись со своей порцией, взялся за цыплячью печень тети Двоши, отчаянно стуча вилкой о стенки чаши.
— Мы… — продолжила она, — то есть я хотела сказать, что у нас есть… у мистера Коннелли есть сводный брат, который тоже стал вегетарианцем…
Самсон-Аарон налил себе большой стакан виски и помахал бутылкой в воздухе.
— Кто-нибудь еще хочет?
Банковский менеджер кашлянул.
— Почему бы нет, я думаю, что я буду, спасибо.
— И я тоже, — сказал мистер Голдстоун.
— Лион, скоро подадут самые разнообразные вина…
— Ну и пусть подают.
Мужчины выпили, как заядлые собутыльники. Затем Самсон-Аарон съел свой суп и суп тети. Кроме этого, он уничтожил две порции языка в сладко-кислом соусе и три телячьих зобных железы в сухарях. Время от времени он подливал себе и двоим мужчинам виски, и они продолжали выпивать, несмотря на ворчание своих жен. Миссис Коннелли, которая была невероятно стройной и ела очень мало, наблюдала за дядей с нездоровой зачарованностью. Мать Сэнди была более озабочена тетей Двошей. Она неусыпно следила за вегетарианкой краешком глаза. Когда подали зобные железы и она собралась их съесть, тетя Двоша накрыла ее руку своей ладонью, отчего миссис Голдстоун дернулась, словно ее ужалили.
— Простите меня, — произнесла тетя Двоша, — но не ешьте этого.
— Извините, что вы сказали?
— Прошу прощения, я знаю, что это не мое дело, но вы принадлежите к астеническому типу. Так же, как я. Для астенического типа есть гланды… вы можете вскрыть себе горло и найти там точно такие же.
— Тетя Двоша, пожалуйста! — воскликнула Марджори. — Вы не имеете права…
— Нет, нет, это очень интересно, — слабо запротестовала миссис Голдстоун. — Я никогда не думала об этом блюде, как о гландах… это довольно неприятное слово, но…
— Естественно, это гланды. Чем же еще могут быть эти железы, как не гландами? Огромными, много больше, чем человеческие, — сказала тетя Двоша. — Для других типов гланды тоже не слишком полезны, но для вашего есть гланды…
— Я думаю, вы правы, — сказала миссис Голдстоун, отставляя тарелку. — Я определенно не буду есть эти гланды… Лион, не думаешь ли ты, что выпил уже достаточно виски?
Самсон-Аарон как раз заново наполнял стакан магната. Джеффри взял бутылку.
— Спокойнее, папа, отдохни немного…
— Милти, это же бар-митцва! — воскликнул Самсон-Аарон, вырывая бутылку из рук сына.
— Бог мой, вы правы. За Арнольда Моргенштерна и его семью! — воскликнул основательно порозовевший мистер Коннелли.
Он щегольски сдвинул ермолку на лоб и поднял свой стакан.
— Еврей или христианин, человек есть человек, и Арнольд один из лучших людей, которых я знаю, а я их знаю много. Я горд, что присутствую на этой бар-митцве. За Арнольда, за его жену, за его сына и за… — он качнул стакан в сторону Марджори, — за его очаровательную красавицу дочь, элегантную хозяйку нашего стола. Клянусь Богом, если бы я был холост и на двадцать лет помоложе, я бы немедленно попросил ее руки!
Мистер Голдстоун и мистер Коннелли выяснили, что оба они заядлые гольфисты; они обменялись парочкой анекдотов и откинулись на спинки кресел, сотрясаясь от смеха, к которому радостно присоединился Самсон-Аарон.
Тетя Двоша тем временем через Самсона-Аарона беседовала с Джеффри, объясняя ему характеры и сцены его романа и убеждая внести немного диеты и здорового образа жизни в его следующую книгу. Джеффри грыз трубку, оползал и горбился в кресле и кивал с тоской и скукой в глазах. Миссис Коннелли и миссис Голдстоун беседовали об организации благотворительных театральных вечеров, с тревогой поглядывая время от времени на своих мужей, между которыми гуляла коричневая бутылка.
Церемониймейстер вкатил в зал столик, на котором помещался гриль. На его стальные прутья были насажены куски жаркого, под которым пылало настоящее пламя. Его помощник, одетый в белое, принялся разрезать превосходное мясо на порции. Второй помощник раскладывал их по тарелкам и дополнял цельными картофелинами и прекрасной толстой зеленой спаржей.
— Боже правый! — воскликнула миссис Коннелли. — Только не мне, пожалуйста! Мне не надо. Честное слово, я не смогу больше проглотить ни кусочка. Я ничего подобного не видела!
— Положите ей, положите! — вмешался Самсон-Аарон. — Все равно кто-нибудь съест.
Он хитро подмигнул миссис Коннелли. Она пожала плечами и улыбнулась.
Мистер и миссис Моргенштерн подошли к их столу под руку, лучезарно улыбаясь.
— Вам достаточно еды, господа? — спросил отец и услыхал в ответ радостный, одобрительный хор голосов.
— Кто-то, как я вижу, пересмотрел первоначальный план посадки.
Тетя Двоша поправила свои перья, а дядя, покосившись на Марджори, склонился над тарелкой, делая вид, что слишком занят едой.
— Но все равно, все вышло очень хорошо. Отец с сыном. Жаль, что Робинсоны не смогли приехать, это замечательные люди…
— Не могут они быть более замечательными, чем та компания, которая у нас сейчас сложилась, — заявил мистер Коннелли. — Соль земли, миссис Рафаилсон. Замечательный парень, мистер Федер.
— Вот это верно, — сказал мистер Голдстоун. — Чудесная вечеринка. Ради такого общения не жалко любых денег, Моргенштерн. Прекрасный у тебя мальчик.
— У тебя у самого неплохой.
Сэнди в замешательстве поправил ермолку.
— Что ж, не будем отрывать вас от еды, — со смехом сказала миссис Моргенштерн. — Пойдем, Арнольд. Приятного аппетита, господа. Марджори, будь хозяйкой, — добавила она, тронув девушку за плечо.
— Постараюсь, мама.
Самсон-Аарон, последние несколько минут евший с удвоенной скоростью, дабы избегать встречаться глазами с миссис Моргенштерн, вычистил свою тарелку в мгновение ока. Тогда он взял себе тарелку тети Двоши, на которой лежали необыкновенно внушительный кусок мяса и невероятных размеров картошина. Глаза миссис Коннелли округлились. На некоторое время за столом воцарилась тишина. Все были поглощены потреблением пищи, за исключением жены менеджера, которая, барабаня пальцами по столу, смотрела на дядю, как кролик на приближающиеся фары автомобиля. Он издал глубокий вздох, когда разделался с ростбифом тети Двоши. Отложив нож и вилку, он откинулся на спинку кресла и потер брови. Издав второй вздох, он снова взял нож и вилку и повернулся к миссис Коннелли со своей беззащитной улыбкой.
— Ну, — сказал он, указывая вилкой на ее полную до краев тарелку, — если вы уверены, что не хотите это, этому незачем пропадать попусту, и…
— Нет, нет! — взвизгнула миссис Коннелли, выпрямляясь в кресле.
Банковский менеджер повернулся к ней.
— Боже мой, Кэтрин, что случилось?
— Он не может, он не может. Не давай ему. Это антигуманно.
Она закрыла лицо дрожащей рукой.
Самсон-Аарон удивленно посмотрел на Джеффри, затем на Марджори.
— В чем дело? Этой леди нехорошо? Почему же такое случилось? Она немного съела.
— Она тоже принадлежит к астеническому типу, — сказала тетя Двоша. — Она съела достаточно цыплячьей печени для того, чтобы погибла армия астеников.
— Кэйт, дорогая, в чем дело? — Мистер Коннелли взял ее ладонь в свои руки и похлопал ее.
— Дорогой, прости, я понимаю, что это ужасно невежливо с моей стороны, но… — она посмотрела на дядю все тем же напуганным взглядом. — Разве ты не заметил, как много съел мистер Федер? Это просто невероятно. Не думаю, что тигр способен съесть столько, сколько съел он один. А теперь он хочет съесть мой ростбиф. Я боюсь, что он умрет прямо здесь. Я… это невероятно…
Самсон-Аарон посмотрел на Марджори, неуверенно улыбаясь. Он отложил нож и вилку.
— Я слишком много съел? Тебе стыдно за меня? Хорошая еда, жаль, если она пропадет понапрасну…
— Все в порядке, дядя. — Марджори повернулась к миссис Коннелли и засмеялась. — Простите, но мы в нашей семье уже настолько привыкли к дяде, что никому не приходит в голову замечать его странности. Он просто наш чемпион по еде, вот и все.
— Я завидую его аппетиту, — сказал Сэнди. — До сегодняшнего вечера я считал себя неплохим едоком.
— Папа, эти люди рассуждают о том, когда ты закончишь есть. Ты съел уже больше чем достаточно — даже для бар-митцвы.
Самсон-Аарон взял в руки бутылку и повернулся к ирландской леди.
— Миссис, я огорчил вас, простите. Выпейте, пожалуйста. Вам станет хорошо, и мне станет хорошо.
Миссис Коннелли приняла от него виски, выпила и действительно разом почувствовала себя лучше. Она захихикала и взяла в руки свою тарелку.
— Думаю, что мне интересно будет посмотреть, сможет ли он все это съесть.
Она передала тарелку Самсону-Аарону, который воспринял мясо без особого энтузиазма.
— Я не знаю почему, но у меня уже стало мало аппетита… но все же…
— Ради Бога, папа, съешь это где-нибудь в одиночестве, — сказал Джеффри, сильно покраснев. — Невелико удовольствие для окружающих смотреть на создателя подбородков в действии.
Самсон-Аарон повернул к нему тяжелую голову и посмотрел на сына скорбными глазами.
— Что за создатель подбородков?
— Змея может съесть пищу, по весу равную ей самой, — сказал Джеффри, кусая трубку.
— Милти, дорогой, это твой старый отец и это старая история, — сказал дядя, умиротворенно пожав плечами. — Это бар-митцва, в конце концов, разве нет? Человек должен есть, потому что он должен быть защитником.
Мистер Голдстоун осушил свой стакан виски и с грохотом поставил его на стол.
— Скажите мне, мистер Куилл, у вас есть что-либо подобное в вашей книге? Сын, который называет своего собственного отца змеей?
На мгновение наступила тишина. Джеффри посмотрел на мистера Голдстоуна с полуулыбкой, неуклюже зажав в зубах трубку, словно он был подростком, которого застали за курением. Музыканты заиграли мелодию, под которую Марджори и дядя танцевали за ленчем.
— Мистер Голдстоун, в самом деле Джеффри не имел в виду ничего плохого…
— Дайте ему самому ответить на мой вопрос, — сказал мистер Голдстоун, пристально глядя на Джеффри.
— На что ответить? — спросил дядя. — Мой сын Джеффри сказал маленькую шутку, что в этом плохого? Мистер Голдстоун, вам никогда ничего не было нужно от вашего сына, если было бы нужно, он обращался бы с вами не лучше, чем мой. Мой сын — хороший сын. Он назвал меня создателем подбородков, но слушайте, он мог бы сказать хуже, и все равно не стал бы лгуном, знаете? — Самсон-Аарон засмеялся и взял бутылку. — Давайте все выпьем за создателя подбородков! Слушайте, это же бар-митцва, правда? Сын Арнольда Моргенштерна — большая удача семьи, мы все горды за него.
— Если захотите написать книгу о крупном универмаге, нанесите мне визит. Только не называйте меня змеей в вашей книге.
Самсон-Аарон воззрился на мистера Голдстоуна, открыл рот, закрыл его, улыбнулся по-дурацки, обнаруживая недостаток зубов. Затем тяжело отодвинул свое кресло и встал.
— Пойдем, Двоша, нам надо на ту сторону…
Марджори положила ладонь на его руку.
— Дядя, ну не глупите…
— Если бы я знал, что вы владелец «Лэмз», — сказал дядя мистеру Голдстоуну, — то не стал бы садиться с вами за стол. Уважение есть уважение, босс не должен есть за одним столом с ночным сторожем.
Он потянул тетю Двошу за руку.
— Садитесь и не заставляйте всех окружающих чувствовать себя неудобно.
Самсон-Аарон, послушный как ребенок, снова опустился в свое кресло.
Магнат продолжил более снисходительным тоном.
— Это семейное торжество, все эти вещи здесь не учитываются. Вы составили нам прекрасную компанию, мы замечательно провели время. Так что забудьте обо всем и…
Он замолчал на полуслове, потому что молодой раввин на возвышении постучал вилкой о стенки своего бокала. Когда в зале наступила тишина, раввин вознес заключительное благодарение, а затем произнес речь. Вслед за ним речь произнес другой раввин, потом третий. Все эти речи содержали в себе многократные восхваления семьи Моргенштернов, обрамленные в цитаты из Библии и ссылки на Талмуд, молодой раввин упомянул даже Аристотеля и Сантаяну. Бабушка согнулась в своем кресле на возвышении и заснула. Мистер и миссис Моргенштерн слушали с вниманием и гордостью. Сет сидел, опершись на один локоть, и мусолил во рту банан.
Марджори не смогла проследить внимательно ни за одной из произнесенных речей, обеспокоенная скукой, воцарившейся за их столом. У Сэнди в глазах стояли слезы от многократно подавляемой зевоты. Мистер Голдстоун делал отчаянные усилия последовать примеру сына. Один раз Марджори заметила, как он нетерпеливо кивнул жене, на что та устало и отрицательно покачала головой. Только Коннелли решительно сохраняли на лицах благосклонное, улыбчивое внимание.
Но хуже всего был тот эффект, который речи оказали на Самсона-Аарона. Его взгляд сделался безжизненным, на губах застыла неестественная улыбка, тело постепенно оседало, как теплая оконная замазка. Аплодисменты, вызванные речью третьего раввина, заставили его встрепенуться и неистово захлопать в ладоши, беспокойно озираясь по сторонам. Но затем начал говорить член законодательного собрания; его прозаическое выступление подействовало на дядю, как облако хлороформа. Он получал тычки справа и слева от сына и тети Двоши, топил их в себе, словно был пуховым валиком, и продолжал оседать. Веки его постепенно опустились, улыбка увяла, а голова упала на грудь. Самсон-Аарон заснул. Очевидно было, что никто не сможет заставить его бодрствовать.
— Я должен извиниться за своего отца, — произнес Джеффри натянутым тоном. — Боюсь, что ему свойственно впадать в крайности…
— Он очень естественен, — сказал Сэнди. — Когда ест, он ест, когда пьет, он пьет, а если спит, то и спит по-настоящему. Я завидую ему.
— Да уж, охотно верю, — хмыкнул мистер Голдстоун.
Сэнди съежился под саркастическим взглядом отца.
— Я только имел в виду, что мы все заснули бы, если бы осмелились.
— Пойдем, Мэри, или я действительно усну, — сказал мистер Голдстоун. — Марджори извинит нас, я уверен…
— Ну подожди, пока он закончит говорить, Лион. Он же член законодательного собрания.
— И что из этого? Будто я его не знаю. Адвокат из полицейского участка, тридцать лет ошивавшийся в Демократическом клубе. Подумаешь! Идем…
— Тише, — сказала миссис Голдстоун с явственной властной ноткой в голосе, и мистер Голдстоун, ворча, подчинился.
Четверть часа спустя, когда член законодательного собрания закончил речь, мистер Голдстоун вскочил со своего места. В тот же момент заиграла танцевальная музыка.
— Пойдем, Мэри! Сэнди, вставай!
Мать поднялась. Из-за столов на середину зала стали выходить пары.
— Ну я не знаю, папа… может быть, я останусь и потанцую чуть-чуть… — сказал Сэнди.
— Я хочу, чтобы ты вел машину. Я не слишком хорошо вижу ночью. Ты это знаешь.
Мистер Голдстоун протянул руку Марджори.
— Передайте, пожалуйста, вашей матери и отцу нашу благодарность и извинения, хорошо, Марджи? Замечательный вечер, а вы — замечательная девушка…
— Благодарю вас. А вы… вам необходимо уезжать сейчас?
Взгляд мистера Голдстоуна задержался на спящем дяде. С болезненной ясностью Марджори увидела, как в его глазах отразились дядин мешковатый жилет, синий пиджак в пятнах, пуговицы шелковой рубашки в полоску, едва сдерживавшие его необъятный живот, серая щетина на дряблом подбородке.
— Скажите вашему дяде, чтобы он не волновался насчет Гогарти, там все будет в порядке… хороший человек ваш дядя…
Миссис Голдстоун, пожимая руку девушки, сказала с дружелюбной улыбкой:
— Жалко, что мы не можем остаться. Мне бы хотелось еще раз посмотреть на танцы. Как вы танцевали с ним сегодня днем! Мне кажется, Сэнди это понравилось бы.
— Это уж точно, не сойти мне с этого места, — подтвердил Сэнди. Он улыбнулся Марджори с нежностью и, она была уверена, с какой-то тенью печали. — Как-нибудь вы обязательно должны мне показать.
И через миг их уже не было, вслед за ними отправились Коннелли, бормоча слова благодарности и прощания. За столом остались Марджори, Джеффри, тетя Двоша, похрапывающий Самсон-Аарон и пять отодвинутых пустых стульев.
Марджори переживала это паническое бегство в течение шести ужасных дней. На седьмой все было забыто, и ее юный дух воспарил к невиданным высотам. Ибо жизнь ее совершила крутой поворот: Марджори Морнингстар триумфально появилась на свет.
10. Мистер Клэббер
Девушка, исполнявшая роль Ко-Ко, кружась по сцене в самом начале «Микадо», уронила топор палача, который по-дурацки хлопнулся на пол с глухим картонным стуком. Свистки зрителей совершенно лишили ее присутствия духа, так что она никак не могла прийти в себя. Она забыла свою партию, скомкала движения и заразила паникой остальных актеров. Спектакль неуверенно продолжался, но диалог стали заглушать покашливание, шепот и шарканье ног в зале. За кулисами поднялась суматоха, вопли, причитания, и в такой атмосфере фиаско Марджори пришлось появиться перед зрителями в своей первой сцене «Цели своей возвышенной».
Она чувствовала, что от нее зависит, провалится ли спектакль. И она была беззаботно, бессмысленно уверена, что ей удастся спасти его, что она не может потерпеть неудачу, что она была Марджори Морнингстар — одна из блестящих профессионалов среди этих несчастных испуганных школьниц в красной и желтой марле. В зале был Сэнди, и ее родители, и Сет; но она перестала сознавать их присутствие, как только выступила из полумрака кулис на сверкающую сцену. Неясная масса лиц за рампой слилась в одно лицо, в одно существо, в нечто вроде огромного собирательного образа Парня, которого она намеревалась очаровать.
Она вышла под фанфары, приняв величественную позу, и при ее появлении раздались жидкие хлопки. Ее костюм из алого и золотого шелка был самым эффектным во всем спектакле, и Маша наложила ей потрясающий грим в старых традициях: белое, как мука, лицо, огромные черные брови и усы, ярко-красный рот. Когда она начала петь, зрители замерли. В этой пестрой компании ее самоуверенность придавала ей некоторый авторитет звезды. Она повторила то, что делала на репетициях, только аудитория вызвала некоторую вибрацию в ее голосе, и через несколько секунд ее преувеличенно напыщенные ужимки начали вызывать смех из темноты.
Цели своей возвышенной
Я достигну со временем…
Хор, собравшись с духом, отозвался в унисон впервые за все время и даже с определенной живостью и силой:
Цели его возвышенной
Он достигнет со временем…
Марджори подхватила песню, выводя резкие слова Гилберта, так что они звенели по всему залу; потом и хор приободрился и звучал все лучше и лучше, когда она своими антраша вызывала все больше смеха у зрителей. Она закончила в центре сцены, приняв напыщенную позу, и с комической свирепостью оскалила зубы. На миг воцарилась мертвая тишина. И затем раздался электризующий ГРОМ аплодисментов.
Она начала заново, выступая на бис. Теперь и хор, и даже оркестр, воодушевленные ее успехом, стали более точными, и атмосфера зрительного зала заискрилась в лучах Гилберта и Салливана.
«Цели своей возвышенной
Я достигну со временем…»
Марджори испытывала чувство, будто не имеет тела, будто свободно парит; она не думала о том, что может совершить ошибку, она пела эту песню, как птица. Когда она закончила, ей хлопали сильнее, чем до этого. Дирижер махнул актерам, чтобы они продолжали спектакль. Они попытались взяться за свои роли, но аплодисменты заглушали их; а потом раздалось несколько криков, брошенных в воздух, как розы: «Еще! Еще! Еще!»
Марджори, застывшая в своей величественной позе, чувствовала, как по спине бегут мурашки, волосы на голове покалывали ее точно теплыми иглами. Дирижер взглянул на нее, пожал плечами и кивнул, разрешая ей еще раз спеть на бис. Она остановила спектакль.
Она оглядела хористок, которые не сводили с нее блестящих от восхищения глаз. Она позволила себе застенчиво, благодарно улыбнуться публике, в этом впервые проявился ее характер, и важно выступила вперед, чтобы начать сначала, ее лицо снова было искажено свирепой гримасой Микадо.
«Цели своей возвышенной
Я достигну со временем…»
Повторяя роль в этот раз, мыслями она унеслась вдаль. Она снова стояла в школьной аудитории. Она видела отдельные лица среди зрителей, друзей в оркестре, пилящих смычками по скрипкам, хор, неуклюже прыгающий в негодных костюмах, грязные шаткие декорации. Она подумала: «В конце концов это всего лишь жалкая школьная постановка. Но это начало. Я знаю, что могу сделать это, и я сделаю, я сделаю!»
Дергая головой и потрясая в воздухе сжатыми кулаками, бросая вызов зрителям и богам, она пела с ликующим сердцем, и ее слова приобретали тайный смысл:
«Цели своей возвышенной
Я достигну со временем!»
Вечер принадлежал ей. «Микадо! Микадо!» — выкрикивали зрители, когда главные герои вышли вперед со своим финальным поклоном. Занавес упал. Крики не смолкали. Мисс Кимбл вылетела из-за кулис, сжимая в руках суфлерский сценарий, ее волосы разлетались, глаза и нос покраснели, очки свалились, пока она бежала. Она бросилась на шею Марджори. «Ты звезда! Звезда! Ты спасла спектакль!» Она побежала прочь, подобрав очки. «Занавес! Занавес! Микадо на поклон!» И когда Марджори выступила вперед, поднялся еще больший шум, ей аплодировали и занятые в спектакле актеры; кто-то вытащил мисс Кимбл на сцену, несмотря на ее визгливые протесты, и от всей театральной дисциплины ничего не осталось. Занавес опустился, скрывая сумасшедшие рыдания, смех, объятия, поцелуи и прыжки всех участников спектакля.
Ко-Ко убралась со сцены незамеченной (она вышла замуж за лысого молодого дантиста двумя неделями позже и бросила школу). На Марджори навалилась вся труппа; и мисс Кимбл, и рабочие сцены, и музыканты — все хлопали ее по спине, жали ей руки, целовали ее, кричали поздравления. «Спасибо, спасибо, спасибо». Ее лицо онемело от улыбок, костюм взмок от пота, ее тянули то туда, то сюда. «Пожалуйста, пожалуйста, там мои родители, пропустите их!» Глаза миссис Моргенштерн светились гордостью. Отец, заметно побледневший, держал в руках носовой платок, слабо улыбался, и всякому было видно: он только что плакал. Она бросилась ему на шею. «Папа! Папа!» Потом она обняла мать и Сета.
— Я начинаю думать, что из тебя действительно что-то вышло, — сказала ей мать. — Ты была чудесна, в самом деле чудесна!
Сет выразил свое мнение:
— Спектакль был паршивый, а ты ничего себе.
Мисс Кимбл обрушилась на Моргенштернов и затараторила о великом даровании их дочери. Сэнди продирался сквозь толпу, пытаясь не расталкивать девушек. Глядя, как он приближается, Марджори подумала о том, что, может быть, его синий костюм совсем не шел ему или ему не мешало бы подстричь волосы, или что-то еще, менее бросающееся в глаза, было в нем не так. Вдруг он показался ей похожим на переросшего и не слишком смышленого парня. Он сжал ее руку.
— Привет, малышка! Отлично справилась!
— Тебе правда понравилось, Сэнди?
— Ну, ты знаешь, такие вещи всегда слишком кричащи. Ты одна была на высоте.
Марджори сказала с прохладцей:
— О, конечно. Чего можно ждать от школьной постановки!
— Как ты думаешь, не смыть ли тебе все это с лица? Мы с твоими родителями зайдем куда-нибудь выпить, а потом можем потанцевать.
— Отлично, Сэнди. С удовольствием.
Она с трудом пробралась сквозь восхищенную толпу. Когда она открыла дверь гримерной, к ней кинулась Маша.
— Где ты была? Боже, Морнингстар, что за триумф! Невероятно! Быстрей, быстрей! Мистер Клэббер чуть из себя не выходит. Он тебя ждет. — Она крутила Марджори во все стороны, снимая с нее костюм и грим. — Ты получила работу, леденец ты мой, это решенное дело, и уж поверь мне, это…
Марджори схватила руки толстушки, которые накладывали на ее лицо и шею крем.
— Маша, ради Бога, кто такой мистер Клэббер?
— Неужели я не сказала тебе, дорогуша? Он владелец «Лагеря лиственницы», где я занимаюсь ремеслами и прикладным искусством. На следующее лето ему нужен театральный советник, а та, что у него была раньше, недавно вышла замуж. Ты будешь вместо нее! Ладно, вытирай все это полотенцем, а я…
Возмущение и разочарование зазвенели в голосе Марджори.
— Он руководит лагерем? Детским лагерем?
— Не будь идиоткой, говорю тебе, это просто прелесть. Бесплатный отпуск, еда потрясающая, притом театральному советнику ничего не приходится делать, только каждую неделю готовить спектакль на полчаса, верно тебе говорю, а за сезон, дорогуша, тебе заплатят двести долларов — смотри, под бровями еще слишком много черного…
— Послушай, Маша, я не…
— Дашь ты мне произнести хоть слово? Я тебе еще не сказала самого главного. «Лиственница» на том же озере, что и «Южный ветер»! Оттуда десять минут на каноэ, две минуты на машине, пятнадцать минут пешком по дороге, и… — Она перестала вытирать уши Марджори и посмотрела на ее непонимающее лицо. — Уж не хочешь… уж не хочешь ли ты сказать, что не слышала про «Южный ветер»? Придется все тебе рассказать, чтобы вытащить из этого невежества.
— Валяй, рассказывай, — сердито буркнула Марджори. — Я не слышала. Погоди… это тоже лагерь, верно?
— Мартышка, это лагерь для взрослых, самый знаменитый в мире! Он потрясающе красивый, площадки, как в Виндзорском замке, а общий зал — как огромный бальный зал в Уолдорфе. Каждые выходные они устраивают там фантастические ревю, регулярные бродвейские шоу. Какие связи ты можешь там завязать! Ты понимаешь, глава труппы у них Ноэль Эрман, он написал несколько дюжин хитов, таких как «Поцелуи дождя», а художник по декорациям — Карлос Рингель, он поставил десять бродвейских шоу и, между прочим, мой старый приятель, мерзавец этакий. Танцы, вечеринки! Не только это, ты больше узнаешь о настоящем профессиональном театре, чем…
Раздался стук в дверь. Марджори в нижнем белье съежилась за ширмой. Маша вышла и тут же вернулась назад, широко улыбаясь, с маленькой белой карточкой в руке.
— Честное слово, старик Клэббер не из прохвостов. Стоял спиной к двери, чтобы даже случайно ничего не подглядеть! Набожный, готова поклясться. Ему пришлось уйти, Марджи. Тебе нужно позвонить ему завтра.
Марджори взглянула на карточку.
— Что это все такое? Еврейская педагогическая ассоциация?
— Этим он занимается зимой. Самый добропорядочный гражданин, какой только может быть…
— Слушай, Маша, ты не слишком замечталась? Как это я могу быть театральным советником? Я ничего не смыслю ни в декорациях, ни в освещении, ни…
— Милочка, за неделю ты будешь знать это, как свои пять пальцев. Подумай только, если уж Дора Кимбл может с этим справиться…
— Разбираться с кучей хнычущей мелюзги… Не знаю, Маша…
— Марджори, милая, я тебе говорю, помощница по театру — это королева лагеря, ей абсолютно ничего не нужно делать, живет она в великолепном одиночестве на вершине холма в хижине, созерцая свое искусство — и «Южный ветер», котеночек, который оттуда можно видеть, вот как я тебя вижу, чудо что за место на другом берегу озера, земля обетованная. Я тебе говорю, мы все лето проведем в «Южном ветре». Это рай земной. Я клянусь, ты откроешь новый мир.
Послетеатральная толпа у Краффта была очень шумной; поэтому, когда родители и Сет принялись за свои десерты, Марджори отважилась спросить у Сэнди, понизив голос:
— Ты когда-нибудь слышал про место, которое называется «Южный ветер»?
— Слышал ли я? Я там бывал. Веселенькое место. А что?
— «Южный ветер»? — встряла миссис Моргенштерн, не поднимая глаз от шоколадного мороженого. — Что ты хочешь узнать о «Южном ветре»? Я тебе все расскажу о «Южном ветре». Это Содом. Вот что такое «Южный ветер».
— Мам, я не тебя спрашивала…
— Она не так уж ошибается, — сказал Сэнди.
— А почему тебя вдруг заинтересовал «Южный ветер»? — спросил мистер Моргенштерн, приглядываясь к дочери. — Если хочешь поехать туда этим летом, то подумай еще раз. Моя дочь не поедет в «Южный ветер».
— О Господи, зачем только я завела этот разговор! Давайте поговорим о чем-нибудь еще.
Позже, когда они с Сэнди танцевали в Билтморе, он описал ей несколько уик-эндов, которые провел в «Южном ветре». На основании его слов и того, что рассказала Маша, этот лагерь для взрослых начал представляться ей порочной сказочной страной, сверкающей в красноватом зареве.
Прошла неделя. Вдруг однажды вечером после ужина Марджори случайно упомянула о том, что после ее выступления в «Микадо» она получила предложение поработать в детском лагере, преподавая драматическое искусство. Сперва миссис Моргенштерн была довольна, говоря, что пора бы Марджори узнать, что значит заработать доллар. Но когда она измучила дочь расспросами и всплыло имя Маши, мать переменилась в лице.
— Звучит не слишком хорошо.
— Мам, мистер Клэббер — президент Еврейской педагогической ассоциации. Он похож на раввина. Маша говорит…
Мать внимательно уставилась на нее.
— Скажи-ка мне, какое отношение имеет все это к «Южному ветру»?
— К «Южному ветру»? — спросила Марджори, весело хохотнув. — Интересно, с чего это ты вдруг решила заговорить про «Южный ветер»?
— Не знаю, — сказала миссис Моргенштерн. — Сначала ты задаешь вопросы о «Южном ветре», а потом у тебя появляется эта работа в лагере для девочек…
— Мам, про «Южный ветер» мы говорили неделю назад.
— Ну, не знаю, это вышло одно за другим. Есть между этим связь или нет?
Марджори, порядком разозлившись на материнскую прозорливость, посчитала, что ложь только усугубит положение.
— Случайно, — небрежно сказала она, — «Южный ветер» оказался на том же озере, поэтому я про него и услышала. Можешь называть это связью. Он никакого отношения не имеет к лагерю мистера Клэббера…
— Так вот где собака зарыта! — догадалась миссис Моргенштерн. — Думаешь, тебе все лето удастся просто так веселиться в «Южном ветре»? Разве ты не знаешь, что туда нельзя пройти вечером, если ты не платишь? У них там охранники с ружьями, собаки…
— Откуда ты так много знаешь об этом месте, если оно такое ужасное?
— Совершенно случайно, я тебя уверяю. Папин адвокат, мистер Пфефер, возбудил против них дело, потому что они не уплатили большой счет за доставку белья. Он ехал туда и захватил нас с собой. Для нас все было бесплатно, поскольку владелец хотел умаслить его. Уж этот владелец! Дьявол! Самый подходящий хозяин для Содома.
В результате этого диалога мать со многими скептическими оговорками согласилась пойти вместе с Марджори в офис мистера Клэббера как-нибудь на неделе. Она, к своему превеликому удивлению, была довольна встречей с владельцем лагеря, и он, казалось, обрадовался не меньше ее. Это был невысокий старичок с большой лысой головой, тяжелыми зеленоватыми очками и очень волосатыми ушами. Рука, которую он протянул для приветствия Марджори, на ощупь была похожа на сухую бумагу. Стены его небольшого кабинета были увешаны дипломами, почетными значками и грамотами, прославляющими его труд на почве еврейского образования.
Начал он с того, что принялся на все лады расхваливать талант Марджори. Миссис Моргенштерн предпочла не тратить времени на предисловия.
— Во-первых, мистер Клэббер, я хотела бы задать вам вопрос о «Южном ветре».
— Ах, да! «Южный ветер»…
— Он рядом с вашим лагерем, не правда ли?
— К несчастью, да. Я говорю, к несчастью. Он расположен в самом привлекательном месте, но…
— Это Содом.
— Это сильно сказано, мадам. Я могу уверить вас, что он немного более чем богемный… — Он перевел обиженные глаза на Марджори. — Но, дорогая моя, вы, разумеется, рассказали своей матушке о нашем правиле насчет «Южного ветра»? Нет? Но Маша непременно должна была рассказать вам. — Он снова обернулся к ее матери. — У нас есть железное правило, миссис Моргенштерн, непререкаемое правило. Любой преподаватель из «Лиственницы», которого заметят в «Южном ветре» в любое время в течение летнего сезона, без промедления увольняется. Собирает вещи и отправляется восвояси на первом же поезде, ночью или днем.
Миссис Моргенштерн бросила на Марджори довольный взгляд. Марджори не могла скрыть своего разочарования.
— Это в самый раз для тебя!
Полученные сведения, по-видимому, решили этот вопрос для матери. Далее последовали краткие переговоры по поводу жалованья Марджори, в которых сама девушка почти не принимала участия.
Мистер Клэббер, ссылаясь на молодость Марджори, пытался заполучить ее за пятьдесят долларов. Миссис Моргенштерн, указывая на ее дарование, проявившееся в «Микадо», запросила по меньшей мере три сотни. После некоторых споров мать позволила сбить цену до обычной суммы в двести долларов, и всеобщие рукопожатия ознаменовали заключение сделки.
Тем же вечером в квартире Зеленко Маша уверяла Марджори, что железное правило мистера Клэббера было лишь предметом насмешек в «Лиственнице».
— Дорогая моя, все преподаватели просто живут в «Южном ветре». — Она принесла несколько потрепанных и закапанных краской буклетов, которые лежали на полке в ее шкафу. — Тут кое-что из того, чем мы занимаемся. Ему все равно, будешь ли ты повторять. К тому же у нас там большинство декораций. Сегодня же мы можем составить план на весь сезон. Девять недель — девять спектаклей… Господи, прелесть ты моя, что за чудные месяцы мы там проведем…
В течение следующей недели Марджори больше и больше времени проводила с Машей и ее родителями и меньше и меньше времени — с Сэнди Голдстоуном. В Вест-Сайде она все еще была известна как подружка Голдстоуна, и только ей одной было известно, что этот титул был сплошным надувательством. Имея такую славу, она могла уходить на столько вечеров в неделю, сколько хотела. Свидания стали таким частым и обычным делом, что начали терять свое очарование. Когда Марджори было семнадцать, никто не мог заставить ее поверить, что может быть что-либо чудеснее, чем каждый вечер отправляться куда-нибудь с парнями из Колумбии и других загородных колледжей. Но сейчас, год спустя, свидания с состоятельным молодым человеком вроде Нормана Фишера, который постоянно бубнил про джазовые оркестры и автомобили с откидным верхом, начали казаться ей нелепой тратой времени, которое она могла бы проводить с Машей Зеленко.
Марджори просиживала в темной, загроможденной вещами квартире Зеленко четыре или пять вечеров в неделю, обсуждая летние планы, театр на Бродвее или живопись и музыку. По молчаливому взаимному согласию Маша редко посещала Моргенштернов. Открытая неприязнь матери Мардж к Маше немногим отличалась от грубости. Беспорядок у Зеленко, балалайки, коньяк, клубящийся дым турецкого табака — все это создавало благоприятный, почти тропический климат для пышно развернувшейся дружбы. Казалось, он пропадал среди холодной современной обстановки, тяжелых от пола до потолка занавесок из кремового сатина и больших пространств квартиры в Эльдорадо, всегда по-больничному чистой благодаря фанатичному надзору миссис Моргенштерн.
Девушки часто ходили на концерты и в художественные галереи. Маша как будто знала все бесплатные места и все способы пройти, не заплатив, там, где вход стоил денег. Марджори впервые в жизни начала находить искреннее удовольствие в классической музыке и живописи. Кроме того, она, к своему удивлению, открыла в себе способность работать и учиться, когда что-то интересовало ее. Она покупала книги по театральной режиссуре, гриму, декорациям и освещению и быстро их прочитывала. Маша была застигнута врасплох ее техническими комментариями к одной бродвейской постановке, которую они видели вместе.
— Детка, ты слишком много стараешься для старика Клэббера за его денежки, — язвительно заметила она.
Постепенно Марджори стало ясно, что семья Зеленко жила на те средства, что зарабатывала миссис Зеленко, давая уроки игры на пианино. В их семье как бы считалось, что уроками она занималась от нечего делать и была не прочь получать от этого занятия деньги на мелкие расходы, в то время как мистер Зеленко был настоящим кормильцем, который зарабатывал на хлеб семье операциями на Уолл-стрит. Однако из услышанных краем уха мелких перебранок Марджори поняла, что на хитроумные дела мистера Зеленко на Уолл-стрит каждую неделю уходило около половины заработка миссис Зеленко от уроков музыки.
Через некоторое время Марджори так же догадалась, что Маша снабжала ее сплетнями о знаменитостях, которые можно было найти в театральных журналах. В самом деле, прежде чем две девушки отправились вместе в летний лагерь, Марджори хорошо узнала, что ее подруга в определенном отношении была вруньей.
И все-таки это не слишком отталкивало ее. Если близкое знакомство Маши с бродвейскими кругами было лишь притворством, то ее любовь и знание театра были настоящими. Она получала истинное удовольствие от искусства. Маша была склонна к преувеличениям, быстро обижалась и еще быстрее прощала обиды. Но что было важнее всего, она оказалась первым человеком, с которым столкнулась Марджори, оценивавшим ее на разумных основаниях. Молодые люди в жизни Марджори были ослеплены ее тонкой талией, очаровательной грудью, стройными ногами, добродушным кокетством. Она очень радовалась тому, что все это у нее было, но всегда испытывала легкое презрение к тем, кому нравилась только за это.
Как и предсказывала Хелен Йохансен, Маша начала брать у Мардж деньги взаймы на третью или четвертую неделю их знакомства. Время от времени она отдавала долги. Но это становилось все реже и реже между ее займами, и общий итог уже приводил в смущение. Однажды после получасовых стараний привести в порядок дебеты и кредиты Маша сказала:
— Ох, ты только посмотри, это ужас какой-то! Ты знаешь, мелкие суммы у меня просто текут сквозь пальцы. Они не имеют для меня значения, что-то вроде сигарет или спичек, или всякого такого. Я знаю, так не должно быть. Бог знает, я не богата, чтобы так относиться к деньгам, да и другие тоже. Не могу ли я попросить тебя об одном здоровенном одолжении, не заведешь ли ты для меня маленькую конторскую книгу?
Чувствуя себя неловко, Марджори сказала:
— Право, это чепуха, давай забудем. Какая разница, тридцать пять или сорок пять долларов…
— Нет, нет, пожалуйста, веди учет, ты чертовски методичная, когда захочешь. Когда нам заплатят в конце лета, тогда разберемся. Я просто ничего не могу поделать с мелкими деньгами. За большими-то деньгами я могу уследить, как коммунистическая партия Австралии. — Она заметила тень скептической улыбки на лице Марджори и вспыхнула: — Я скажу тебе, где я управлялась с большими деньгами, малышка. Одним летом я была папиным помощником на Уолл-стрит, и тогда дела шли так хорошо, что мы жили у Питера Ставсана, а не в этой дыре на Девяносто второй улице. И уж поверь мне, каждые десять тысяч долларов были у меня в полном порядке до последнего цента.
Марджори согласилась вести учет, но быстро поняла, что идея была не слишком удачная. Это освободило Машу от каких-либо угрызений совести по поводу занятых денег. «Ты просто пометь это в маленькой черной тетрадке, дорогуша», — говорила она, таким образом освобождая Марджори от бремени некоторой суммы денег и в то же время покровительствуя ей. Когда они поехали в «Лиственницу», счет вырос до двенадцати долларов с мелочью, и Марджори, чувствуя нарастающее раздражение, в самом деле стала вести свою конторскую книгу с аккуратностью старого бухгалтера.
11. Ноэль Эрман
С журчанием рассекая черную воду, каноэ скользило к мерцающим огням и далекой музыке «Южного ветра».
Стояла безветренная, безлунная ночь под усыпанным звездами небом. Марджори сидела на носу каноэ, поставив белую сумку между коленями, поеживаясь, несмотря на свитер, наброшенный на плечи. Тонкая хлопчатобумажная оранжевая блузка и зеленые брюки, одежда, предписанная преподавателям в «Лагере лиственницы», не слишком ее согревали. Она обхватила руками колени и скрючилась, стараясь не дрожать. Маша гребла умело, почти без брызг.
— Что это за музыка? — хрипло прошептала Марджори, нарушая молчание в первый раз, когда они были в нескольких сотнях ярдов от берега «Лиственницы».
Маша рассмеялась, высокий негромкий звук под открытым небом.
— Тебе необязательно шептать, крошка. Мистеру Клэбберу нас не услышать, ты знаешь. Это оркестр. Там сегодня жарят шашлыки. Все сидят вокруг костра и поют, и набивают свои желудки, и упиваются пивом, а оркестр для них играет.
— Я думала, там будут танцы.
— О, любые танцы, какие тебе угодно, но после. У них генеральная репетиция шоу, пока гости жарят шашлыки. Ты в самом деле увидишь нечто.
Задрожав, Марджори щелкнула зубами.
— Я замерзаю, ты знаешь? Странно, что ты еще не подхватила воспаление легких.
— Да ведь сегодня же теплая ночь, леденец ты мой! Иногда на этом озере действительно прохладно, когда поднимается ветер. Тебе везет, как всякому новичку.
— Вижу. — По телу Марджори снова пробежала сильная дрожь. — Может быть, я просто немного боюсь.
Маша снова засмеялась.
— Ну, с этим ты тоже справишься. Точно тебе говорю. Я занимаюсь этим уже три года, и вот я перед тобой, толстая и довольная, как всегда.
— Да, я знаю, — сказала Марджори не слишком дружелюбным тоном, и разговор прервался.
Марджори, напрягая зрение, всматривалась в «Южный ветер», думая, не окажется ли этот лагерь для взрослых еще одним разочарованием, еще одним из Машиных обманов, которые раскрываются при ближайшем рассмотрении. В течение первых четырех недель лета ее отношение к подруге круто изменилось. Если она не была еще полностью разочарована, то, во всяком случае, относилась ко всему, что говорила Маша, с осторожностью и явным недоверием. А причина была в том, что постепенно она выяснила: Маша заманила ее в «Лиственницу» с помощью лжи, наглой возмутительной лжи, и, даже уже находясь в лагере, она пыталась покрыть свою ложь другими выдумками, все более неубедительными.
Как и сказала Маша, преподаватель драматического искусства жил в удобной хижине на вершине холма, с которого открывался вид на озеро, и на самом деле Мардж не пришлось присматривать за детьми. Так же верно было и то, что из своего жилища Марджори могла видеть дальний берег озера, площадки и здания «Южного ветра». Это была пленительная панорама, похожая на сказочную страну на картинке из детской книжки, с зелеными лужайками, темно-зелеными фигурными группами деревьев и бело-золотыми башнями причудливой формы.
Все остальное оказалось фальшивкой, циничной и обдуманной. «Железное правило» мистера Клэббера, запрещающее сотрудникам лагеря визиты в «Южный ветер», было далеко не шуткой и строго соблюдалось каждой девушкой из персонала — исключая Машу. В самом деле, они избегали разговоров о лагере для взрослых, как будто это был лепрозорий, расположенный по соседству. Сперва Маша рассказывала ей, что уходит примерно неделя на то, чтобы сотрудницы наладили дружеские отношения и начали тайные посещения «Южного ветра». Но по мере того, как проходило время, стало ясно, что одна только Маша бывала в чужом лагере, и никто другой даже не заикался о таком рискованном предприятии. Она пользовалась каноэ после наступления темноты, привязывала его к плоту для ныряния, стоявшему на якоре у прожекторов, и вплавь добиралась до берега. Там она брала в долг полотенца, одежду и косметику. Она не могла привести каноэ к берегу, потому что хозяин «Южного ветра», мистер Грич, всегда собственноручно разрубал и сжигал на берегу любую незнакомую лодку, на которую натыкался ночью, чтобы отбить охоту к ночным прогулкам у визитеров, не желавших платить.
Остальные сотрудницы, в большинстве своем коренастые невысокие мускулистые девушки, относились к Маше как к эксцентрической особе, а ее поездки на каноэ — о которых они знали, но никогда не докладывали — считали вредной и опасной глупостью. В конце концов Маше пришлось признать все это под давлением Марджори, после того как они серьезно поссорились однажды поздней ночью, когда пошла вторая неделя их пребывания на озере. Даже тогда Маша пыталась обелить себя, обзывая остальных девушек трусливыми дубинами и бесполыми дурами. Марджори убежала от нее в негодовании, слыша подобные речи, и они почти не разговаривали целую неделю.
Но солнце в «Лиственнице» было ярким и теплым, запах сосновых иголок восхитительным, сон на горном воздухе крепким, а еда мистера Клэббера обильной и превосходной. Больше того, Марджори вдруг добилась невероятного успеха своими постановками, она стала популярной, ею восхищались, так что настроение у нее было отличное. Она усердно трудилась и управлялась со своими маленькими актрисами с добродушием и симпатией. Мистер Клэббер искренне признал, что она — лучшая из его театральных помощниц, которые когда-либо у него были. Ей неизбежно приходилось сталкиваться с Машей, которая разрисовывала декорации и шила костюмы с командой девушек, увлекающихся театром. Ее неприязнь растаяла в ежедневной работе и шутках, хотя ее отношение к толстухе оставалось недоверчивым.
Маша день за днем докучала ей уговорами попробовать вместе с ней добраться на каноэ до «Южного ветра», клянясь всем святым, что это самая простая, безопасная и веселая проделка, какую только можно представить.
Марджори сопротивлялась несколько недель. Но в этот вечер она наконец-то сдалась. После четырех недель с щебечущими девчушками, оранжевыми блузками и зелеными брюками, после четырех недель тяжеловесных разговоров с остальными девушками и скучного благочестия мистера Клэббера она изголодалась по веселью. Маша пообещала в безопасности доставить ее на другой берег, не заставляя плыть в темноте. У плота, сказала она, их встретит Карлос Рингель, художник-постановщик шоу в «Южном ветре».
Маша продолжала грести в молчании около четверти часа, прежде чем Марджори увидела черную полоску на воде.
— Вон там плот, — сказала она, — и ни единого признака Карлоса Рингеля.
— Не нервничай, детка. Он там будет.
После новой долгой паузы и молчания, прерываемого только тихими ритмичными всплесками, Марджори спросила:
— А что мы будем делать, если налетим на этого… на этого мистера Грича?
— Милая моя, ну и что, ты же просто еще один гость. Там их тысячи. Не знает же он каждого в лицо. Конечно, чем раньше мы избавимся от этих лохмотьев, тем лучше. Как причалим, сразу же пойдем в коттедж к певцам, там и оденемся. До него не будет и ста футов, и там везде тень и кусты.
— Как он выглядит?
— Кто, Грич? Как сатана.
— Ой, в самом деле?
— Точно. Самый настоящий сатана с огромным пузом и в белых бриджах. Ты увидишь.
Марджори издала невольный стон, плотнее кутаясь в свитер. Маша сказала:
— Ради Бога, куколка, чего это ты так нервничаешь? Что с тобой может случиться? Он что, съест тебя? Или Клэббер съест? Брось эти глупости. Не забывай, что мы едем, чтобы чертовски здорово провести время.
— Маша, я просто не хочу лишиться первой в жизни работы за аморальное поведение, вот и все.
Толстушка рассмеялась.
— Аморальное поведение. Куколка, твои понятия об аморальном поведении сводятся к двум лишним кускам пирога после обеда. Но я тебя люблю как раз такой. А теперь успокойся, слышишь?
Когда каноэ приблизилось к плоту, взрослый лагерь стал виден явственнее, в огоньках он был похож на лужайку со множеством светлячков. Голоса и женский смех раздавались над водой вместе с музыкой. Прожектора показывали массу красных каноэ — казалось, их там было несколько сотен, уложенных днищами вверх на берегу в ровные линии. Общий зал тоже был освещен, это было белоснежное модерновое здание с большой позолоченной круглой раковиной на задней стене. Над входом стоял широкий белый столб, возвышавшийся над деревьями, с огромными позолоченными буквами: «Мюзик-холл лагеря «Южный ветер»». Место для купания выдавалось далеко в озеро аркой красных и зеленых фонарей.
Маша показала веслом на каноэ, появившееся из тени у берега.
— А вот и Карлос, наверняка опять ворчит, да только вот он, тут как тут.
Они приблизились к покачивающемуся, бряцающему деревянному плоту, который стоял на баках из-под нефти, и коренастая темная фигура схватила Марджори за руку.
— Спокойно, — сказал скрипучий голос, и она ступила сначала на мокрый бак, а потом на покрытый мешковиной плот.
Маша выбралась из каноэ с сумкой Марджори в руках.
— Карлос, это Марджори…
— Привет. Быстрее, малышки, репетиция уже началась.
Он помог им устроиться в его каноэ и повел его в сторону берега мощными взмахами весел. Марджори, сгорбившись у его ног, была смущена его молчанием.
— Простите, что мы так беспокоим вас, мистер Рингель.
— Никакого беспокойства. А теперь тихо, мы уже близко, никогда не знаешь, когда ему вздумается выскочить из кустов.
Каноэ с треском вошло в сладко пахнущие ветви, мокрые от росы, и ткнулось днищем в берег.
— Беги со своей подружкой вперед, а я избавлюсь от каноэ.
Быстрая пугливая пробежка сквозь кустарник и шиповник, и вот они уже стоят, запыхавшись, в ярко освещенном домике, балки которого сплошь увешаны женским бельем, чулками и купальными костюмами. На кровати, читая «The Saturday Evening Post», сидела красивая девушка, высокая блондинка, совершенно обнаженная.
— Привет, — сказала она Маше. — Сегодня с подружкой, а? Ты что-то рановато.
— Четверть десятого.
Блондинка взглянула на свои часы и зевнула.
— Черт, так и есть. Мне нужно быть на сцене через десять минут.
Она поднялась и медленно пошла по комнате, подбирая одежду, совсем не беспокоясь из-за отсутствия штор на окнах.
Маша сказала:
— Это Марджори Моргенштерн — Карен Блер.
— Привет, — произнесла Карен, махая Марджори бюстгальтером и потом надевая его. — Чувствуй себя как дома, если что нужно — расчески, пудра… Может, нужно белье?
— Спасибо, я захватила все с собой.
— Отлично. Приятно знать, что на другом берегу озера живут не одни лишь попрошайки.
— На что ты жалуешься? Я все равно в твои вещи не влезаю, ты, гороховый стручок, — сказала Маша.
Карен застегнула «молнию» на зеленых шортах, надела белую английскую блузку и скользнула ногами в мокасины.
— Увидимся, ребятишки.
Махнув длинными вялыми пальцами, она пропала.
— Теперешняя пассия Ноэля Эрмана, — уточнила Маша, доставая одежду из шкафа.
— Она ошеломительна, — сказала Марджори. — Они собираются пожениться?
— Что, они? Да она просто его подружка по постели на это лето. Ей тридцать один, и она тупая, как столб. Три раза была замужем и разводилась.
— Боже милостивый, она кажется на старше двадцати…
— В следующий раз приглядись внимательно к ее глазам и губам, милочка. Увидишь, на сколько она выглядит.
— А сколько ему лет?
— Ноэлю? Двадцать семь — двадцать восемь, наверно.
— Он будет на репетиции, верно?
— Он режиссер, лапуля, — сказала Маша с тенью нетерпения. Она направилась в ванную комнату с охапкой одежды.
Марджори знала, что Ноэль Эрман был главой артистов «Южного ветра», общественным режиссером, который писал и ставил спектакли. В городе Маша частенько наигрывала на пианино и напевала многие его мелодии из ревю для лагеря. Эрман в самом деле казался необыкновенным человеком. Несколько из его музыкальных скетчей были представлены в бродвейских шоу. Многие его песни были опубликованы; две из них — «Босая в небесах» и «Поцелуи дождя» — в эти дни были хитами. Марджори очень взволновала перспектива встретиться с такой знаменитостью. Пока она одевалась, она думала, что белокурая девушка была первой всамделишной любовницей какого-то человека, которую ей довелось увидеть, хотя она читала книги и смотрела фильмы и спектакли о них всю свою жизнь. Но отчего-то Карен Блер не казалась ей похожей на тех. К разочарованию Марджори, в ней не отразилось никаких следов греха или вины. Может быть, подумала Марджори, это просто очередная выдумка Маши.
Маша вышла из ванной накрашенная и похудевшая, в коричневой мексиканской блузе с кожаным поясом, украшенным медными бляхами. Марджори привыкла видеть ее в мешковатой оранжево-зеленой униформе.
— Бог ты мой, да вы только гляньте!
— Похожа на человека? — спросила Маша жеманно. Она взяла Марджори под руку, и они вдвоем встали перед зеркалом. — Две сирены из-за озера. Неплохо.
— Клянусь, ты заткнешь эту блондинку за пояс, — сказала Марджори. — Ты обязательно должна попробовать закадрить Ноэля Эрмана.
— Ага, чтобы Карлос задушил меня и бросил мой труп в кустах?
— Чепуха. Какие у него права на тебя?
— Да никаких, с какой стати, старый он недотепа… пошли. — Маша выключила свет. — Теперь помни, если мы повстречаем Грича, не обращай на него внимания. Ты просто гость. Меня-то он знает, так что с этим никаких проблем.
— Он… он в самом деле тебя знает?
— Боже правый, деточка моя, я торчу здесь три вечера в неделю, не могу же я постоянно увертываться от него. Карлос навешал какую-то лапшу ему на уши. Для меня Грич делает исключение. У меня как будто неподалеку летний домик. Пойдем.
Воздух сумеречной аллеи был насыщен сладким запахом горного лавра. Маша уверенно пошла в темноту.
— Сюда, Мардж, А что касается флирта с Ноэлем Эрманом, то он не про нашу честь, голубушка. Он у нас второй Мосс Харт или Коул Портер. Когда ему стукнет в голову, он женится на ком-нибудь вроде Мэгги Салливан.
— Он не еврей, как ты думаешь?
— Не знаю. Наверно.
— Но «Ноэль»…
— Проклятье. Я знавала еврея по имени Сент-Джон.
Аллея свернула и стала шире, они вышли на пустую открытую площадку чудного желтовато-зеленого цвета под лучами прожекторов, похожую на газон с театральных декораций. В центре лужайки фонтан на белом бетонном основании, освещенный красными, синими и желтыми прожекторами, извергал радужно переливающиеся брызги. Грубые скамейки и беседки расположились на лужайке в веселом беспорядке. Тут и там росли высоченные старые дубы, обложенные белыми камнями, отражавшими свет прожекторов. За лужайкой виднелись линия каноэ, красно-зеленая арка плавательного бассейна и черное озеро.
— Боже мой, — прошептала Марджори, — как здесь тихо.
— В субботу после полудня эта лужайка похожа на Таймс-сквер. — Маша направилась по траве в сторону общего зала, и Марджори засеменила сбоку от нее. — Все теперь заняты шашлыками.
— А где все спят? В тех больших зданиях? — Марджори невольно приглушила голос. У нее было ощущение, будто она пробирается по деревне в нацистской Германии.
— Нет, в коттеджах за деревьями. Мужчины слева, девушки за нами. Тот здоровый дом со стеклянным фасадом — это столовая. Годится только для выходных с большим наплывом гостей, а вообще-то чепуха. Рядом с ним здание администрации, в котором…
Воздух наполнился пронзительным воплем. В унисон ему заскрипели все дубовые деревья.
— Бернис Флэмм — междугородный звонок. Бернис Флэмм.
Еще одна сирена, щелчок и затем молчание.
— Проклятые громкоговорители, — сказала Маша. — Не дают покоя ни днем, ни ночью. С ума можно сойти.
— А что отделяет мужчин от девушек? Ограда или что-нибудь еще?
— Только листва, моя дорогая, и воспитание, — сухо ответила Маша. — Они уже большие мальчики и большие девочки, ты понимаешь.
— Должно быть, иногда случается…
Маша схватила ее за руку.
— Ох, Иисусе Христе! Везет же нам. Грич. Выходит из зала. Прямо на нас.
Марджори увидела невысокого человечка в белых штанах до колен, который спускался по ступеням общего зала. Ее ноги подкосились.
— Что нам делать, повернуться и бежать?
— Не болтай ерунды. Иди, как шла. Не смотри на него. И ради Бога, не гляди так виновато.
Марджори почувствовала, что ей некуда девать руки, которые болтались где-то внизу, и вдруг ей показалось, что нет ничего подозрительного в том, что человек сцепит свои руки. Она отвела их за спину, схватившись за собственные локти. Фигура в белых шортах приблизилась вперевалку, странно покачиваясь из стороны в сторону. Марджори попыталась отвести глаза, но, как ребенок, который не может отвести глаз от чудовища в мультфильме, глядя на него сквозь раздвинутые пальцы, она продолжала таращиться на мистера Грича. Он вглядывался в каноэ и, кажется, пересчитывал их на ходу. Левой рукой он вертел карманный фонарик. Внезапно он повернул голову и уставился прямо на Марджори. Она думала, что лишится чувств. Взгляд Грича на мгновение задержался, потом он быстро перевел его на Машу, его губы едва пошевелились, и он пошел дальше, не произнеся ни слова.
Через несколько секунд Маша сказала с натянутой веселостью:
— Ну, видишь, дорогуша? Злой дракон нас не сожрал.
Чувствуя комок в горле, Марджори проговорила:
— Кажется, ты сказала, что он тебя знает.
— Знает, и очень хорошо.
— Но он смотрел прямо на тебя. Сквозь тебя. Он не поздоровался с тобой. Он вообще ничего не сказал.
— Лапуля, ты разговариваешь с собаками, мимо которых проходишь?
— Он… ты знаешь, он действительно выглядит, как сатана. В самом деле, это удивительно.
— Он обиделся бы, услышав тебя. Это сатана похож на Макса Грича.
Высокий квадратный дверной проем мюзик-холла «Южного ветра» по краям был украшен медью с геометрическим узором. Над входом красовался бронзовый барельеф, изображающий нагую женщину с распущенными волосами, пухлыми щеками и сжатыми губами.
— Леди «Южный ветер», — сказала Маша, показывая на нее. — Здесь ее называют по-другому. Это название не годится для твоих невинных ушей.
Она поднялась по ступеням, толкнула дверь красного дерева и поманила Марджори.
— Что с тобой? Пойдем.
Марджори не могла бы сказать, почему колеблется. Она взбежала по ступенькам и прошла в открытую дверь.
Вестибюль был украшен афишами прошлых шоу: «Суета Южного ветра», «Мы увидимся», «Скандалы Южного ветра». Она последовала за Машей в ярко освещенный зал, где сотни желтых складных стульев располагались вокруг голой танцевальной площадки. На сцене стояли очень неестественные декорации, изображающие пальмовые деревья, а позади висела красная картонная луна. Карен Блер в костюме дикарки, живущей в джунглях, покачивая бедрами и поднятыми руками, пела в страстном ритме тропической музыки.
Лунное безумие Сейчас у моря, Лунное безумие Горит в моей крови…Пианист, толстый мужчина с сигарой в зубах, начал сильнее колотить по клавишам. Пара танцоров в таких же дикарских костюмах, притопывая ногами, вышла на сцену и исполнила угловатый танец, полный соблазняющих движений. Маша помахала Карлосу Рингелю, сидевшему в задних рядах рядом с худым человеком в черной водолазке.
— Вот он, — сказала она. — С Карлосом.
— Ноэль Эрман?
— Он самый. Когда номер кончится, я тебя представлю.
Танцоры отвихлялись, соединились в отчаянном объятии, и блондинка повторила песню.
— Отлично, Карен, не уходи! — крикнул человек в черном свитере. — Мы попробуем освещение, а потом закончим.
Он поднялся и пошел вперед.
Марджори уставилась на него, как зачарованная тупица; она никогда еще не видела мужчины красивее. Он был удивительно высок и строен. Если в чертах его лица и был какой-то недостаток, то это слишком длинный и слишком выдающийся вперед подбородок. Но разве это имело значение? Прямой нос, широкий лоб, глубоко посаженные глаза и копна рыжевато-золотых слегка вьющихся волос — все это делало его похожим на греческого бога, подумала она. Мардж часто слышала эту фразу, к Эрману она подходила полностью.
— Он действительно такой тонкий, как кажется, или это из-за черной водолазки?
— О, Ноэль — настоящая жердь. Девушки не дают ему растолстеть.
— Могу себе представить.
— Пойдем поздороваемся.
— Нет, нет! — в панике воскликнула Марджори. — Они заняты.
— Чепуха, мы не можем торчать на репетиции без его разрешения.
Марджори все еще не трогалась с места, и тогда Маша одернула ее:
— Боже мой, тебе сколько лет?
Она потащила ее вперед за локоть. Свободной рукой Марджори бездумно ощупала прическу. Карлос Рингель, которого она только что увидела при свете, в самом деле казался очень старым: большая лысина, окаймленная тронутыми сединой рыжими волосами, рябое и морщинистое лицо, вздувшиеся вены на руках. Он кивнул девушкам.
— А, заморские шпионы!
Эрман обернулся. Его глаза были необыкновенно голубого цвета. Ему не мешало бы побриться, густая щетина на его подбородке была более рыжего оттенка, чем волосы. Он потирал левый локоть ладонью.
— Привет, Маша.
— Привет, Ноэль. Можно нам посмотреть немножко? Это моя подруга Марджори Моргенштерн.
— Конечно. — Он был равнодушен.
— Марджи преподает театр в моем лагере.
Ноэль Эрман улыбнулся Марджори, и его неприступный иронический вид несколько смягчился.
— Вот как, коллега. Вы имеете право по роду вашей профессии. Уолли, еще два стула!
Прыщавый паренек в черных очках выглянул из-за кулис.
— Ладно, Ноэль.
— Вы меня смущаете, — пробормотала Марджори. — Я ничего не знаю о сцене.
Она думала о том, как он ужасно высок. В спешке она захватила с собой туфли на низких каблуках, и от этого было еще хуже. Она чувствовала себя маленькой девочкой.
— Марджори, говоря откровенно, я и сам знаю немногое. Спасибо, Уолли.
Прыщавый парень прибежал с двумя раскладными стульями, которые он раскрыл и поставил перед девушками, пристально и голодно глядя на Марджори. Это был знакомый взгляд потерявшего голову второкурсника на танцах. Она оценила его на семнадцать лет.
Эрман отдал указания осветителям, когда она села. Внезапно погрузившись в разноцветные лучи, сцена приобрела новый вид. Луна уже не казалась такой картонной и больше была похожа на луну. Пальмы, мартышки на их вершинах, львы, выглядывающие из-за стволов, стали менее плоскими.
— О, мне нравится это освещение, — выпалила Марджори.
Эрман рассеянно посмотрел на нее, закурил сигарету и принялся быстро говорить с Рингелем на жаргоне: увеличить желтые, ослабить третий номер, перевести сетку. Марджори проклинала себя за то, что заговорила слишком поспешно и с ослиным энтузиазмом. Эрман и Рингель давали указания, прожектора перемещались, и с каждой переменой сцена становилась все более естественной и красивой. Парень, которого звали Уолли, карабкался по железной лестнице у задней стены зала, где находились прожектора, и там он управлял цветными лучами. Эрман ходил взад и вперед, сжимая локоть, спокойным и приятным тоном предлагая Рингелю изменить что-то. Наконец он сказал:
— Отлично, давайте посмотрим, как она действительно выглядит. Выключить освещение.
Зал погрузился в темноту. Декорации выступили вперед, сверкающие и захватывающие. Глаза мартышек и львов светились, нарисованное море волновалось и мерцало, луна посылала красноватые лучи сквозь пальмовые деревья.
— О, это просто восхитительно! — воскликнула Марджори.
Стояло молчание, в течение которого ее голос, казалось, разносится эхом по залу, пискливый и детский.
— Что нам делать с тем, что у четвертого номера, Карлос? — спросил Эрман.
Было еще несколько изменений, потом он выкрикнул два или три последних приказа. Освещение еле изменилось, перед декорациями упал прозрачный занавес, и по сцене как будто проскользнул призрак волшебной жизни.
— Ладно, на этом остановимся, — сказал он.
Марджори была раздавлена. Она с рвением изучала книжку по освещению в течение нескольких недель и воображала, что ее световые эффекты в «Питере Пэне» были профессиональными.
— Выходите, Карен, Берт, Хелен, — позвал Эрман.
Певица и танцоры выглядели непривлекательно, в освещении они казались болезненно бледными. Эрман, проходя мимо Марджори, неожиданно остановился и сказал ей:
— Они, конечно, будут в коричневом гриме.
— Да, естественно, — выговорила Марджори.
— Сигарету?
— Почему бы нет, да, да, спасибо…
Ее рука подрагивала, когда она брала сигарету, и она неопытно и слишком долго затягивалась, поднеся сигарету к огоньку его зажигалки.
— Закончим с декорациями, — сказал Эрман Рингелю, когда она выпустила клуб дыма, — все отлично.
В зале снова загорелся свет. Он подошел к пианино и вызвал Карен на авансцену.
— Парочку вещей, дорогая, с хором, послушай.
Штатный пианист прислонился к рампе, попыхивая сигарой. Длинные руки Эрмана в черных рукавах и тонкие пальцы бегали по клавиатуре, он пел, запрокинув голову назад. Он был гораздо более увлекательным певцом, чем Карен, подумала Марджори, и явно играл лучше пианиста. Она прошептала:
— Боже мой, что же он еще может делать?
— Ну, давай посмотрим, — ответила Маша. — В шахматы он играет лучше Карлоса, а Карлос играет в клубе. Поет и играет целые оперы наизусть: Моцарт, Верди, на итальянском. Знает около семи языков. Разбирается в философии лучше профессоров. Вот кем ему действительно хотелось стать — профессором философии, так он говорит. Никогда нельзя сказать, насколько он серьезен. Историю, литературу, искусство — все это он знает, как свои пять пальцев. Но ты этого не поймешь, пока какой-нибудь умник не полезет к нему с разговорами. А он щелкает их, как орехи. Да, между прочим, он еще и самый классный танцор из всех, кого я знаю.
— Ради Бога, — сказала Марджори, — таких людей не бывает.
Сигарета смущала ее. Мардж боялась вдыхать дым, потому что от него кружилась голова, и боялась выпускать дым ртом, потому что чувствовала — будет выглядеть девчонкой, если дым не посереет, пройдя через легкие. Так что она выдыхала его через нос, в котором у нее ужасно щипало. Как только сигарета была выкурена наполовину, она раздавила ее ногой.
Рядом с ней появился парнишка Уолли и протянул ей золотую коробочку. Пару секунд назад Марджори видела его у прожекторов на железной лестнице. Его появление так поразило ее, что она взяла еще одну сигарету. Он счастливо расплылся в улыбке, давая ей прикурить. Гладкие черные пряди волос свисали на его глаза, когда он наклонился к ней. У него был высокий выпуклый лоб, впалые щеки и большой нос, и его глаза сверкали какой-то особенной скорбной горячностью за стеклами очков. Но что больше всего в нем поражало, это его детскость. Он словно был весь в цыплячьем пуху. Каждый его жест был неуклюжим, выражение лица — слишком нетерпеливым. Марджори перестала общаться с подобными прыщавыми мальчишками больше года назад.
— Вы первый раз в «Южном ветре»? — спросил он.
— Мм-м, — сказала Марджори, глядя на сцену.
Она втянула сигаретный дым и поморщилась. На вкус он был, как лекарство от кашля.
— С ментолом. Надеюсь, вы не возражаете, — сказал Уолли.
— Совсем нет.
При нем она чувствовала себя настолько спокойной и взрослой, насколько при Эрмане — маленькой и испуганной. Она посмотрела прямо в его лицо, улыбаясь. Его кадык дернулся. Он пробормотал:
— Ну, я буду нужен на сцене, — и убежал.
Музыканты в белых пиджаках и черных галстуках начали наполнять зал, рассаживаясь по отведенным для оркестра местам со своими инструментами. Эрман встал из-за пианино и подошел к Рингелю, который сидел, скрестив ноги, на полу рядом с Машей.
— Карл, через несколько минут здесь будет стадо. Мы в хорошей форме. Пойдем выпьем пива.
— С удовольствием. — Карлос поднялся, беря Машу за руку.
Эрман улыбнулся Марджори. Это была чудесно теплая, дружеская улыбка; она как будто говорила, что Ноэль Эрман и тот человек, кому он улыбался, были равны и в хорошем смысле отличались от остальных людей и разделяли какое-то тайное знание, которое было одновременно и иронически веселым, и немного меланхоличным.
— Ты не присоединишься к нам, Марджори?
Бар «Сирокко» ее очаровал, как и все в «Южном ветре». Это был узкий зал, располагавшийся вдоль общего зала со стороны озера, украшенный рыбачьими сетями, кокосами, раковинами и бумажными пальмами и освещенный тусклым желтым светом фонарей в черепаховых панцирях. Сквозь широкие окна были видны радужный фонтан и озеро. Всходила поздняя оранжевая луна, и на черной воде озера длинными волнистыми красно-зелеными полосками отражались огни.
Эрман взял пиво и сел за красное лакированное пианино. Он играл мелодии бродвейских шоу и старые песни «Южного ветра». Марджори сидела в людном баре, слушая Ноэля Эрмана и в то же время, сама того не желая, подслушивая соленые сплетни «Южного ветра». Гости тянулись по лужайке к общему залу. Она едва удерживалась от смеха, слыша эпитеты, которыми награждали артисты гостей лагеря: стадо, деревенщины, громогласные ослы, толпа линчевателей, саранча. Для женщин тоже находились разнообразные прозвища: стервы, ведьмы, свиньи, подстилки. Презрение оказалось настолько заразным чувством, что уже через полчаса Марджори тоже смотрела на гостей с насмешкой, хотя сначала они казались ей довольно привлекательной толпой взрослых, но молодых людей.
Она думала, что, наверно, ни разу в жизни ей еще не было так хорошо, — в этот момент Эрман пел и играл свою самую известную песню «Поцелуи дождя», — когда Маша похлопала ее по руке и показала на окно.
— Смываемся.
Невысокий человек в белых бриджах вперевалку шел по лужайке в направлении бара, вертя фонариком.
— Господи, — сказала Марджори.
— Пойдем со мной. — Маша вывела ее через общий зал, который заполнили танцующие пары, на темную веранду, выходящую на озеро.
— Нам нужно только переждать здесь несколько минут. Он никогда не остается в баре надолго, у него язва.
Марджори с удивлением увидела, как озерную гладь волнует резкий ветер, а луну закрывают черные облака. Она глянула на часы, было десять минут первого.
— Может, нам лучше вернуться назад — посмотри на небо…
— Ты что, рехнулась?
— Поздно…
— Полночь, котеночек. Мы здесь, чтобы повеселиться.
— Я уже повеселилась достаточно для одного вечера. Все было чудесно. Пойдем, пока на озере еще спокойно.
— Нет! — Маша приподняла губу, и вдруг девушка показалась Мардж очень неприятной.
В приступе одиночества Марджори сказала:
— Ладно, так когда мы вернемся?
— О, позже! — Маша бросила взгляд в сторону бара. — Ладно, я думаю, опасность прошла.
— Но если Грич…
— Ей-богу, тебе что, четырнадцать лет? Я, знаешь ли, не собираюсь прятаться по углам всю ночь. Что ты занимаешься ерундой? Скажи ему, что он хорошо танцует или у него славный загар, он и растает от удовольствия. А если не хочешь, так черт с тобой, поступай, как тебе угодно. Я возвращаюсь в бар.
Марджори, разумеется, пошла за ней. Она была полностью в руках Маши.
Теперь на пианино играл Уолли, его губы были поджаты, лоб сосредоточенно наморщен, изо рта торчала сигарета. Звуки, которые он извлекал, были неуверенными, тяжелыми и никуда не годились после умелого исполнения Эрмана. Никто не обращал на него внимания. Грича не было видно. Рингель тут же отодвинул для девушек два стула.
Ноэль Эрман во главе стола потягивал виски со льдом и спорил с добродушной аудиторией, выступая против каждого, о том, что Кол Портер — самый лучший из живых авторов песен. Девушка, которая исполняла танец в джунглях, возразила ему, что Портер манерно изыскан.
— Манерно изыскан! — повторил Эрман. — Разумеется. Кто был более изыскан, чем Гилберт — лучший из лучших на все времена? Моя дорогая девочка, популярные песни — это легкие стихи. Легкие стихи — это утонченная форма. Прежде чем они расцветут, необходимо, чтобы их поддержал неработающий класс, рафинированный, легко поддающийся скуке, со склонностью к нюансам, и…
— Черт возьми, Ноэль, неработающий класс в этой стране не поддерживает популярных песен, — сказал Рингель. — Какое капиталистам дело до джаза?
— Капиталистам! Карлос, ты помешался на Марксе. У капиталистов нет времени, чтобы бездельничать. Они все из кожи вон лезут, чтобы заработать побольше денег. Нет, неработающий класс, который поддерживает популярные песни, — это школьники и студенты. Это скоротечный класс, но надежный, силой в несколько миллионов. Он живет за счет труда родителей так же бессердечно, как французская аристократия жила за счет труда крестьян. В конце концов они женятся и выходят замуж, но подрастает новая поросль на смену им. И поэтому…
— Утонченный и популярный — эти слова противоречат друг другу, — сказала танцовщица. У нее было бледное лицо и черная челка. — Мы говорим о популярных песнях.
— Верно, — согласился Эрман со своей странно милостивой и обаятельной улыбкой, — но мы еще говорим и о высоком качестве. Самое популярное стихотворение в Англии, насколько я знаю, это:
«Не нужно много честолюбия,
Чтобы написать свое имя на стене уборной».
Оно гораздо популярнее, чем:
«Что есть любовь? Она не в грядущем,
Сегодняшнему веселью сопутствует сегодняшний смех».
Тем не менее и оно не так хорошо. Это скверные вирши, милая, а не легкие стихи, понимаешь? Большинство популярных песен написаны в стишках — вульгарных или глупых, или приятных, или бесхитростных, бывает по-разному. Портер пишет легкие стихи.
— А как бы ты назвал «Лунное безумие»? — спросила танцовщица.
— Конечно, стишками самого низкого пошиба. Но помни, пожалуйста, что я написал ее за три минуты, пока вы с Бертом отплясывали ваш дикарский танец. Я могу сделать и кое-что получше.
Он очень низко ссутулился, сидя на стуле, одну руку перевесил через спинку и говорил с краткими грациозными жестами тонкой руки. Он говорил убежденно и все же с вежливой легкостью, почти небрежно, как будто стараясь не допускать ни единой ноты догматизма или намеренного остроумия в своих словах. Его произношение было свободно от нью-йоркских интонаций. В нем даже было некоторое понижение тона и невыразительность «р», как у британца, но это выглядело абсолютно непритворно.
— Какая же разница между легкими стихами и стишками? — опять спросила танцовщица.
— Та же разница, что между настоящим яблоком и восковой подделкой, — сказал Эрман. — Или разница между искусством и ремеслом, если тебе угодно, или разница между тем, когда актриса на сцене играет Джульетту, и тем, как она переодевается в своей гримерной. Я понимаю, что говорю запутанно. Когда человек переходит на метафоры, это обычно бывает оттого, что у него трудности с нормальным английским языком. Послушайте. — Он направился к пианино. — Уолли, прекрати издеваться над инструментом и пусти меня за него.
Уолли без слов соскользнул с табуретки и потащился к столу, засунув руки в карманы. Эрман заиграл «Любовь на продажу». Он выговаривал строчку за строчкой, показывая достоинства гласных и согласных при каждом повороте мелодии, структуру образов, подчеркивая скрытую иронию фраз. После этого он принялся за самую популярную песенку в то время, балладу о несчастном влюбленном. Казалось, он воспроизводил ее со всей серьезностью, и все-таки вскоре за столом не осталось ни одного человека, который бы не смеялся. Он делал ударение на гласных, стоявших не на своем месте, на дешевых словах, грамматических ошибках с некоторым изяществом, и контраст оказался потрясающе смешным.
Марджори хохотала громче всех. Ей доставляло огромное удовольствие сознание собственной проницательности в понимании Эрмана. Она чувствовала, что попала в круг остроумия и обаяния в том мире, о котором всегда мечтала. Эрман в ее глазах был фантастическим существом. Ей было трудно поверить, что она сидит в одной комнате с этим человеком, дышит с ним тем же воздухом. Она прекрасно понимала, почему женщины так теряют от него голову, как сказала Маша. У нее не было и мысли о том, чтобы флиртовать с ним или даже быть для него чем-то большим, чем простая девчонка, случайная знакомая, которую он тут же забудет. Она бы скорее стала заигрывать с кардиналом.
Уолли поднялся со стула и пересел ближе к Марджори.
— Не хотите потанцевать, мисс Моргенштерн?
— Ну… немного позже, вы не возражаете? Мне нравится, как он играет.
— Конечно, — сказал парень в глубоком унынии. — Играет, как черт, правда? Я беру уроки.
— Я уверена, вы научитесь. Скажите, вы не видели Машу и Карлоса Рингеля? Вы не знаете, где они?
— Нет. — Уолли потер локоть, неосознанно копируя жест Эрмана.
Он и голову держал немного набок, как Эрман, но совершенно по-другому, потому что голова у него была большая, а плечи узкие.
— Может, они танцуют? Если пойдем на танцевальную площадку, то посмотрим…
— Ладно, — согласилась Марджори с усталым вздохом. — Вы учитесь в Колумбийском? — спросила она, когда они оказались среди загорелых пар в яркой одежде.
Машу не было видно.
— Да, — сказал он, удивленный. — Откуда…
— Вы так танцуете.
Она не прибавила, что его движения были пародией на стиль Сэнди Голдстоуна.
Эрмана уже не было за пианино, когда они вернулись в бар. Двое гостей, мужчина и женщина, сидели за клавишами и в четыре руки играли «Китайские палочки».
— Похоже, все ушли, — сказал Уолли. — Не хотите ли выпить?
Часы Марджори показывали половину второго.
— Ну, пожалуй, да, пока не покажется Маша. Спасибо.
Они сели за столик у окна. Прожектора погасли, ночь казалась очень черной; луна зашла. Марджори заметила, что трава блестит.
— Боже, неужели дождь?
— Точно.
В три четверти второго она была сонной, злой и полной отвратительных подозрений насчет Маши. Ответы Уолли на ее вопросы становились все слабее.
— Еще пива? — предложил он, когда в их разговоре о бродвейских шоу наступила пауза.
— Нет, нет, спасибо. Послушайте, вы не могли бы показать мне дорогу к коттеджу Карен Блер?
— Конечно.
— Давайте пойдем.
Она поднялась со стула и проскочила в дверь, прежде чем паренек успел подняться. От мокрой травы, задевавшей щиколотки, промокли ее чулки. Снаружи моросил противный дождь, косой из-за сильного ветра.
Где-то в темноте рядом с ее локтем Уолли сказал:
— Вам нужен плащ.
— Нет, не беспокойтесь.
Но он повел ее через фойе в темный пустынный зал, взбежал на сцену и через миг вернулся с желтым плащом. Они вышли в моросящую ночь, и в ее туфлях вскоре захлюпала вода.
— Не завидую я вам, когда вспоминаю, что вам придется плыть обратно на каноэ, — сказал Уолли. Они подошли к деревьям, он остановился. — Вы пройдете еще пятьдесят футов и резко повернете налево…
— Пойдемте вместе.
— Я… кажется, лучше мне не ходить. Это женская половина, и они там разгуливают без ничего в своих коттеджах.
Марджори улыбнулась и протянула руку.
— Спасибо, что вы мне так помогли.
— Помог? Я… — Он чуть не подавился. — А вдруг вы не найдете Машу? Вы не хотите, чтобы я довез вас на каноэ? Я буду рад.
— Но Маша должна появиться.
Он зажег сигарету странным жестом, как будто украдкой, склоняясь над огоньком, чтобы защитить его от измороси.
— Слушайте, вы хотите переодеться, верно? Я подожду здесь. Если Маша не придет к тому времени, как вы будете готовы, я вас отвезу.
— Вы промокнете…
— Я уже промок. Сегодня тепло. Это очень приятно. Идите.
Коттедж Карен был пуст. Марджори с отвращением надела на себя оранжево-зеленую униформу и постаралась сделать это побыстрее. Она закрыла свою сумку, когда вошла Маша, мокрая от дождя, с мужским плащом, накинутым на плечи.
— Ну-ка, ну-ка, сбежала от меня, а? Я искала тебя в баре.
Марджори занималась застежками сумки. Однако она чувствовала, что Маша стоит на месте и не сводит с нее глаз. Через мгновение толстушка сбросила плащ, потянулась и зевнула.
— Что ж, пора возвращаться на Дьявольский Остров. Вот что я терпеть не могу. Похоже, почти всегда идет дождь, когда мне нужно возвращаться. Но дело стоит того, ты не думаешь?
Марджори бросила сумку на пол и направилась к двери.
— Я вернусь через минуту.
— Ты куда? — Маша выступила из своей юбки.
— Недалеко. Уолли Ронкен ждет меня под дождем, чтобы отвезти назад по озеру на каноэ. Он не был уверен, что ты вообще появишься.
Маша легко рассмеялась.
— Значит, ты связалась с Уолли? Деточка, в самом деле ты могла бы найти кого-нибудь получше. Даже наугад. Бедный маленький Уолли.
— А что в нем плохого?
— В самом деле, киска. Что ты нашла в этой карикатуре на Ноэля? Он похож на мартышку с очками. К тому же он просто мальчишка, разве ты так не думаешь?
— Иногда бывает выгодно встречаться с мальчишками. Они меньше от тебя ожидают. — Она открыла дверь.
Маша подошла к ней.
— Погоди минутку, дорогая. Ты чуток разозлилась, не правда ли?
Ее загорелое тело выступало, как тесто, из-под тугих тесемок бюстгальтера и пояса чулок.
Марджори сказала:
— Кажется, я не должна обращать внимания на то, что ты исчезла на несколько часов?
— Послушай, котеночек, я не обязана отчитываться перед тобой, как и ты передо мной. Я не знаю, чем ты занималась с малышом Уолли. Мне нет никакого дела. Я привезла тебя сюда, чтобы ты славно провела вечер. Что ты сделала со своим временем, меня не…
— Мы с тобой должны были оставаться вместе, я полагала.
— Я не бралась нянчиться с тобой весь вечер, девочка. Иначе, поверь мне, я не просила бы тебя поехать.
Как безобразна сейчас эта толстуха в натянувшемся нижнем белье, с губами, приподнятыми в странной невеселой улыбке, подумала Марджори.
— Где ты была, Маша?
— Ты уверена, что хочешь узнать?
Марджори почувствовала некоторый страх при виде блестящего неподвижного взгляда Маши.
— Пожалуй, не надо, давай лучше вернемся в лагерь.
Она двинулась к двери, когда Маша схватила ее за локоть и повернула к себе.
— Нет уж, погоди минутку, деточка! — Девушка открыто насмехалась. — По-видимому, ты считаешь, что все это время я была в постели с Карлосом?
— Слушай, Маша, я не хочу…
— Лапуля, когда ты немножко подрастешь, то узнаешь, что на это не требуется много времени. Я была в постели с Карлосом, ладно, но только в последние полчаса или около того. Тоже приятное занятие. Это так ужасно? — Она вызывающе уставилась в ничего не выражающее лицо Марджори, и все-таки в ее лице было что-то печальное, что-то тоскливое. — Остальное время мы были на попойке в одном из служебных домиков. Я знаю, что это оскорбило бы твои нежные чувства, поэтому-то и не потащила тебя с собой. Теперь ясно? Никаких комментариев? Ладно, дорогуша, я скажу тебе еще одну вещь, и мы будем считать тему закрытой. Его жена — чудовище, понимаешь, психованная ведьма с белыми волосами. Он бы женился на мне во второй раз, если бы его жена умерла или в буйном припадке дала ему развод. Я несколько месяцев заливалась слезами, потому что старая карга не хотела его отпустить. А теперь, если хочешь знать, меня начинает это радовать. С Карлосом все в порядке, но я вовсе не уверена, что хочу выходить за него.
Марджори едва могла поднять глаза на свою подругу. Их разговор был похож на сон — Маша в нижнем белье в ярком свете чужой комнаты, дождь, стучащий по крыше, она сама в клэбберовской оранжевой блузке и зеленых штанах, ее глаза слипаются от желания спать, все тело дрожит.
— Маша, — сказала она, с трудом выговаривая слова, — я не так уж искушена в житейских делах, я знаю, но это неправильно, разве не так? Я хочу сказать, он женатый человек, и…
Маша грязно выругалась. Потом она рассмеялась неожиданно добродушно.
— О Господи, теперь ты будешь думать, что я развратница! — Она упала на кровать, и вид у нее был довольно дружелюбный. — Я очень внимательно следила за своим языком в твоем присутствии, не правда ли? Милочка, я могу сказать только одно: тебе так много предстоит узнать, что я тебе сочувствую. Право, твои родители совсем неправильно тебя воспитывали. Ты как будто жила в каком-то бело-розовом сказочном мире, где все мужчины — рыцари, а девушки — лилейно-белые девственницы, только что пыльцой не питаются. Марджи, ты младенец! Весь мир похож на «Южный ветер»: много еды, выпивки, внебрачных связей, и все похожи на меня и Карлоса, испорченных, ищущих удовольствий. Ничто не имеет такого значения, как кажется, леденец ты мой, поверь — ничто не может потрясти мир, он просто продолжает и продолжает катиться по старой колее.
По крыше тяжело забарабанил дождь. Марджори сказала:
— Уолли утонет. Мне нужно пойти, отправить его…
— Конечно, иди. Карлос ждет нас с лодкой. — Когда Марджори открыла дверь, она прибавила: — Мне не хотелось шокировать тебя, детка, но в самом деле, это должно было случиться рано или поздно, и я думаю, это принесет тебе пользу.
Маша быстро натянула на себя униформу. Она стояла теперь под электрической лампой в своей мешковатой блузе и штанах, подбоченясь, с плутовской улыбкой на лице.
Она похожа на переросшую школьницу, подумала Марджори. Было совершенно невозможно связать ее с громким понятием адюльтера.
Раздражение Марджори растаяло в порыве жалости. Она сказала:
— Я шокирована, да. Все это ново для меня. И он… он стар, Маша, ты знаешь. Но это не мое дело и… ну, ладно, ты уже готова? Я подожду.
Они добрались до «Лиственницы», промокнув насквозь и испытывая тошноту от сильной качки, которая поднялась на озере из-за ветра. Еле передвигая налитые свинцом ноги, Марджори добралась до своей хижины на холме, обсушилась, упала в кровать и проспала до полудня. Солнце, светившее ей прямо в лицо, разбудило ее. Она села в постели, щурясь от света, и выглянула в окно; и увидела на другом берегу лазурного озера лужайки и башни «Южного ветра», зелень и золото в солнечных лучах.
Часть третья Содом
12. Уолли Ронкен
Максвелл Грич сидел в своем нью-йоркском офисе в пасмурный мартовский день, просматривая накопившуюся почту, по большей части состоящую из счетов. В его календаре, где он записывал назначенные встречи, значились два имени:
Уолли Ронкен
Марджори Морнингстар
Хотя шумная батарея парового отопления сохраняла в узкой комнате тропическую жару, его шея была замотана поношенным коричневым шарфом. За дребезжащим окном кружилась снежная метель, кричали чайки, и пароходы проплывали мимо статуи Свободы с меланхоличными гудками. Грич арендовал этот офис в высоком старом здании, глядевшем на Нью-Йоркский залив, еще в дни своей молодости, когда был адвокатом. Ему пришлось приняться за управление «Южным ветром» в результате банкротства его прежних хозяев; теперь он совершенно забросил адвокатскую практику, и лагерь стал его карьерой, его страстью, его жизнью. Все в «Южном ветре» ненавидели его, но сам он был влюблен в «Южный ветер».
Отложив наскучившую почту, он взглянул на календарь и хмыкнул от мрачного удовольствия. С утра мистер Грич встретился с некоторыми непримиримыми оппонентами — оптовиком, поставлявшим ему мясо, делегатом от профсоюза официантов, управляющим ипотечного банка, — и он ждал не дождался, когда наконец расправится с парой мотыльков. Он нажал кнопку на своем столе.
— Кто-нибудь пришел?
Резкий металлический голос ответил:
— Только что пришел Уолли Ронкен, сэр.
— Пусть войдет.
В синем пальто с потемневшими пятнами от растаявшего снега, цепляясь за кожаный портфель, Уолли выглядел старше, чем летом, но недостаточно, решил Грич, едва взглянув на него, чтобы быть способным доставить ему какие-нибудь неприятности. Мальчишка сказал, что на этот год хочет быть еще и сценаристом, а не только рабочим сцены. Он нетерпеливо вытащил из портфеля свои новые верительные грамоты. Среди них была вырезка из колумбийского «Зрителя»: «Университетское шоу Ронкена «Выбранный судьями». Еще там была программа шоу, фотография Уолли на всю страницу (бледного, похожего на сову), выглядел он на ней не старше пятнадцати лет. Несколько комических песен, которые написал он, были напечатаны в программке. Грич просмотрел их, они были удивительно гладкими и неглупыми.
— Ну-ну, все это отлично, но шоу для колледжа — это не шоу для «Южного ветра»…
— Я понимаю это, мистер Грич, но, честное слово, я написал все шоу, и сценарий, и стихи, за три недели. Ноэль, наверно, выбросит большую часть моего текста, но я напишу тонны, тонны!
Грич поджал губы и покачал головой.
— Что же, Уолли, я в этом не сомневаюсь, но дело в том, что мне нужен ассистент по освещению, реквизиту и так далее, так же как и в прошлом году, а сценарист мне не нужен. Я по горло сыт сценаристами.
— Так, мистер Грич, я же буду заниматься и освещением, и всем остальным, это мне не мешает, если только первым делом я буду считаться сценаристом…
Пока он говорил, Грич с удовольствием подсчитал, что теперь он может обойтись без автора юмористических скетчей, Милта Квинта, который стоил ему две сотни в год. У Уолли, несомненно, было достаточно таланта, чтобы заменить его. Он сказал с сожалением:
— Нет, Уолли, мне кажется, это невозможно. — Грич подождал несколько мгновений, чтобы на лице мальчишки явственнее показалось разочарование. — Дело в том, открою тебе один секрет, что на этот год я не беру даже Квинта. Я собираюсь использовать старый материал шоу. Я не могу заплатить писателю за этот год, вот в чем проблема.
— О! — Уолли пожал свой локоть. Лицо его стало очень печальным. — Вы совсем ничего не можете заплатить?
— Ничего.
— Но… ладно, говоря откровенно, я знал, что не могу получать столько же, сколько и Квинт, но… я не знаю, вы не заплатите даже и пятидесяти долларов?
— Я не могу заплатить и пятидесяти центов, Уолли.
Паренек вздохнул, поднял свой портфель и положил бумаги обратно. Грич на мгновение заволновался. За пятьдесят долларов Уолли был настоящей находкой. Грич сказал:
— Не думай, что я не восхищаюсь твоим прогрессом, Уолли. Эти песни просто чудесны. Мне кажется, в твоем лице мы имеем многообещающего сценариста для «Южного ветра», а может быть, и большого бродвейского автора. — Благодарность и восторг засияли на лице Уолли. — Насколько я могу судить, если дела пойдут лучше в следующем году и у тебя будет опыт одного сезона, может быть, я легко смогу заплатить тебе двести долларов. Или триста, или тысячу. В конце концов, Ноэль не собирается всю жизнь ставить шоу для «Южного ветра». По сути, мне повезло, что он остался у меня на этот год. Он вырастает из нас. Присмотреть себе нового режиссера, вот в чем я заинтересован главным образом…
— Слушайте, я стану работать бесплатно! — выпалил Уолли. — Если меня официально будут считать автором и я поселюсь в писательском домике, а не с мальчишками на побегушках.
Грич взял со стола большой карманный фонарь: он был его торговой маркой в лагере, его скипетром, и он держал его в своем городском кабинете наполовину в шутку, наполовину в качестве символа верховной власти, — и стал похлопывать им по ладони, уставясь в окно на кружащийся снег. Батарея шипела, окна дребезжали.
— Ты будешь выполнять все свои прошлогодние обязанности по сцене — свет, реквизит и тому подобное?
— Да. Могу я… вы оплатите мне проезд по железной дороге в этом году? Если я буду еще и писать все это…
Грич улыбнулся и протянул руку.
— Хорошо, Уолли, не будем торговаться по мелочам. Ты будешь жить в писательском домике. Если из тебя выйдет автор, что же, приходи повидаться со мной в конце сезона, тогда и поговорим об оплате.
Уолли неуверенно улыбнулся, потряс его руку и ушел. Грич с удовлетворением положил фонарик на стол. Неплохая беседа: за койку в бунгало у него был автор на весь сезон. Это даже не будет стоить ему оплаты за проезд.
Выходя из кабинета Грича, Уолли с удивлением увидел в приемной Марджори в бобровом пальто. Она показалась ему гораздо более хорошенькой, чем летом, и он подумал, что она самая красивая девушка на свете.
— Черт возьми, привет! Вы Марджори, верно? Подруга Маши?
Она улыбнулась несколько беспокойно.
— Я Марджори. Как поживаете, Уолли?
— Отлично! Рад, что вы помните мое имя. Скажите, что привело вас к этим адским вратам?
Он понизил голос, глянув на стенографистку Грича.
— Я пытаюсь получить работу актрисы.
— Это же отлично, это просто великолепно! Надеюсь, у вас получится. Я тоже в этом году собираюсь быть там. Я собираюсь быть автором.
Он сказал это преувеличенно небрежно.
— Я думала, что Ноэль Эрман пишет тексты для шоу…
— Он в основном пишет песни. И время от времени скетчи. Всегда был по крайней мере один автор для скетчей. Иногда и другие авторы песен…
— А… Ноэль будет в этом году?
— Ноэль? Пожалуй. У него есть эта музыкальная комедия, «Принцесса Джонс», которая может выйти на сцене, — но не этим летом, я думаю. Скажите, мы можем увидеться как-нибудь вечером? Ваш номер есть в телефонной книге?
Марджори колебалась.
— Я занята почти каждый вечер, Уолли. Я участвую в театральной труппе «Бродячие актеры», на Девяносто второй улице. Мы репетируем «Пигмалиона».
— В самом деле? Можно сказать, я тоже в театре. В этом году в Колумбийском я автор университетских шоу.
— Вот как? Поздравляю! Это большая честь…
У стола стенографистки раздался шум. Она позвала:
— Мисс Морнингстар…
Марджори вскочила.
— Мой отец — Арнольд Моргенштерн, Уолли, первый Моргенштерн в телефонной книге Манхэттена. Тот адрес про Центральный парк неправильный, мы переехали.
— Хорошо! — Уолли схватил ее руку, тут же уронил ее, будто она его обожгла, и вышел.
Грич теперь гораздо меньше похож на сатану, чем в тот раз, когда она видела его на лужайке «Южного ветра», подумала Марджори. Тусклый желтый свет манхэттенского офиса, снег, падающий за окном, коричневый шарф вокруг шеи — со всем этим он был похож на любого другого невзрачного бизнесмена, как и ее отец. Большой фонарик казался глуповатым, когда лежал на рабочем столе нью-йоркского кабинета.
— Снимайте пальто, моя дорогая. Я знаю, у меня в комнате слишком жарко — этот проклятый сквозняк из окна постоянно дует мне в шею…
— Благодарю вас, мистер Грич.
Она выскользнула из пальто, довольная тем, что надела сшитый у портного серо-голубой твидовый костюм, лучший из тех, что у нее были.
Грич был изумлен тем, как она повзрослела. Она казалась ребенком прошлым летом, когда тащилась в хвосте за неаппетитной Машей, а потом пришла в его кабинет в конце сезона, чтобы, запинаясь, осведомиться о работе актрисы.
— Как поживает Маша? — спросил он.
— Полагаю, хорошо, я не видела ее уже несколько месяцев. Она работает в универмаге «Лэмз».
— Да? Чем она занимается?
— В отделе дамской галантереи, я думаю.
— Ну, что же, — сказал хозяин лагеря, — кажется, вы все еще хотите работать в «Южном ветре», а?
— Этого мне хотелось бы больше всего на свете.
— Но вы все еще не умеете петь и танцевать, не правда ли?
— Ну, я могла бы участвовать в хоре, я полагаю. Но я драматическая актриса, главным образом…
— Я ведь говорил вам, дорогая, что мы ставим драматические спектакли не каждую неделю, так что нам нужно не много…
— Я помню все, что вы сказали мне, мистер Грич. Я научилась стенографировать и печатать.
Грич подался вперед, его крутящийся стул заскрипел.
— Вы научились!
— Ну, вы сказали, что иногда, если девушка может быть полезной в делах, вы могли бы взять ее драматической актрисой.
— Да, это верно, но…
Он уставился на нее. Это было гораздо больше того, чего он обычно ждал или на что надеялся. Практически всегда он набирал в свой штат начинающих актрис, которые ему ничего не стоили, в ревю составляли хор, а в конторе выполняли неквалифицированную работу вроде уборки столов и доски выключателей; они разбирались с документацией и выполняли мелкие поручения. Стенографировали у него жены главного официанта и инструктора по гольфу, обе опытные секретарши, которые работали бесплатно, чтобы проводить лето со своими мужьями. Грич еще никогда не сталкивался с актрисой, которая позаботилась бы о том, чтобы выучиться стенографии.
Через несколько мгновений он сказал:
— Ну, конечно, мы этого и ожидали. Но вы понимаете, что мы не можем позволить себе платить нашим секретарям; главный вопрос в том, стоит ли этого ваш опыт в драматических спектаклях, который вы приобретете…
— О, разумеется. Я и не ждала, что вы будете мне платить.
Ее одежда, как он заметил, была не только со вкусом подобрана, но и дорого стоила; и он почуял запах больших возможностей в этой ситуации.
— Как вы смотрите на то, чтобы прямо сейчас записать одно письмо, чтобы показать, что вы умеете?
— Что же… — Он не пропустил выражение испуга на прелестном юном личике. — Я попытаюсь. Я довольно способная, мистер Грич, вы понимаете, но я еще только учусь. Курс кончится лишь в июне.
Он дал ей карандаш и листок бумаги и принялся диктовать немного быстрее, чем диктовал обычно. Она отчаянно старалась, все больше и больше нервничая, и остановилась.
— Мне ужасно жаль, мистер Грич, я не могу… я знаю, это не слишком быстро… мне просто нужна практика, я два часа в неделю занимаюсь стенографией, я буду писать гораздо лучше…
Он печально покачал головой.
— Что же, моя дорогая, в данный момент вас нельзя назвать профессиональным секретарем или профессиональной актрисой, и все же… конечно, вы очень смышленая и хорошенькая девушка, но я занимаюсь делом.
Мисс Моргенштерн что-то искала в своей черной сумочке. Она вынула из нее два письма и подала ему. Одно было от мисс Кимбл, а другое от директора «Бродячих актеров», некоего мистера Грауба. Оба они утверждали, что у Марджори Моргенштерн блестящее актерское будущее.
— Очень мило, моя дорогая, но все это любительство.
— «Бродячие актеры» берут плату за вход, — неуверенно сказала она.
Грич улыбнулся и передал ей письма.
— Вот что, Марджи, я восхищен вашим упорством. Но вы должны понять, что трехмесячный отпуск в «Южном ветре», чего вы добиваетесь, стоит примерно восемьсот долларов. Иногда в исключительных случаях мы находим некий компромисс. Что-то вроде покрытия разницы. Так вот, если бы вы смогли заплатить четыреста долларов за лето, то я думаю, учитывая то, что вы так много обещаете в будущем, мы могли бы… В чем дело?
Девушка на мгновение поднесла ладонь к лицу и наклонила голову; когда она подняла лицо вверх и попыталась улыбнуться, ее глаза были влажными.
— Я… ничего особенного, я просто немного разочарована. Я ценю то, что вы мне сказали. Но у меня нет четырехсот долларов. У меня совсем нет денег.
Она поднялась и взяла свое пальто, поникшая, неуклюжая.
Он сказал отеческим тоном:
— Ну, конечно, вы слишком молоды, чтобы иметь много денег, но ваши родители, безусловно, заинтересованы в вашей театральной карьере… достаточно, чтобы помочь вам…
— Мои родители!
— Возможно, мы смогли бы договориться о двухстах пятидесяти или трех сотнях, что-нибудь в этом роде…
— Мистер Грич, мои родители не хотят, чтобы я занималась сценой. Они не хотят, чтобы я ехала в «Южный ветер». — Она надела пальто и прибавила с дрожью в голосе: — Все равно спасибо. Может быть, на следующий год?..
Грич встал. Он нутром чувствовал мелкие суммы денег и был уверен, что сможет вытянуть из этой девчонки хотя бы сотню долларов. Но ее очарование смягчило его, да и все равно, даже с ее ограниченными способностями к стенографии она была более выгодным приобретением, чем большинство его конторских девушек.
— Марджори, если вы обещаете, что это останется между нами, — сказал он, — то я прислушаюсь к своей интуиции. Я думаю, что однажды вы станете прекрасной актрисой. Я просто не деловой человек, как мне кажется, и собираюсь дать вам работу.
Девушка посмотрела на него, прищурив глаза, которые застилал туман.
— Мне не нужно… платить?
— Ну, только за проезд, естественно, но это сущий пустяк, около тридцати долларов… так мы договорились?
Она крепко пожала протянутую ей руку.
— Вам не придется об этом пожалеть! Боже, я не могу в это поверить!
Он похлопал ее по руке и отпустил.
— Теперь вот что. Я думал, ваше имя Моргенштерн. Что это за Морнингстар?
Она застенчиво улыбнулась.
— Ну, это мой сценический псевдоним. Я думала, можно начать прямо сейчас. Он подходит?
Грич пожал плечами; в конце концов она была еще ребенком.
— Да, дорогая, он просто очарователен.
Она вышла, оставив в жарком кабинете с желтыми стенами слабый аромат свежей сирени, который сильно отличался от запаха тяжелых театральных духов, обычно употреблявшихся актрисами.
В самом деле, инстинкт его не обманул. У Марджори было сто семнадцать долларов в банке, оставшиеся от того, что ей заплатил Клэббер. Она уже хотела предложить их ему, но он сломался.
Марджори шла домой, ничего не соображая от радости, которую не могла рассеять даже тесная сумрачная квартира на Вест-Энд-авеню. Она заперлась в маленькой спальне, едва ли более просторной, чем комната для горничной в Эльдорадо, и провела остаток дня, свернувшись на постели с романом, время от времени опуская его на колени и уносясь мечтами в следующее лето.
Они уже в течение полугода жили на новой квартире. Моргенштерны были вынуждены уехать из Эльдорадо из-за катастрофы на рынке дамских шляп, когда внезапно подскочили цены на фетр и соломку, которые совершенно разорили «Арнольд Импортинг Компани» за месяц. Марджори туманно представляла себе подробности их поражения, хотя ее четырнадцатилетний брат, казалось, прекрасно в них разбирался. Он даже пытался объяснить их ей в свое время с не по годам развившейся сообразительностью. Все, что девушка действительно поняла, — это что золотые дни Эльдорадо завершились похоронными семейными совещаниями, горячкой телефонных звонков, а потом ужасным вторжением ворчливых перевозчиков мебели с грязными канатами и грубыми голосами, которые эхом раскатывались в ободранной и выпотрошенной квартире.
Сначала ей показалось, что это было крушением всех ее надежд, что она никогда больше не сможет посмотреть в лицо друзьям, что теперь она отрезана от приличного общества. Но через неделю после того, как семья устроилась в маленькой квартирке на Вест-Энд-авеню, Марджори уже вполне свыклась с ней и стала думать о других вещах. Заправлять постели и мыть посуду оказалось для нее обычным делом благодаря детству, проведенному в Бронксе; она не особенно скучала по прислуге. Миссис Моргенштерн объявила, что рада уменьшению количества домочадцев, поскольку ей никогда не нравилось присутствие чужого человека на кухне. Она также упирала на то, что из комнаты Марджори открывался очаровательный вид на Гудзон. В самом деле, из спальни девушки можно было разглядеть голубой лоскуток реки, если высунуться достаточно далеко, рискуя свалиться с одиннадцатого этажа на бетонный двор. А иначе вид из этого окна был обычным для Нью-Йорка: тени окон, спальни, грязные кирпичи. Но Марджори решила: не имеет большого значения, что можно видеть из окна. В фойе здания были мраморные колонны, обилие позолоты и персидские ковры в хорошем состоянии. Это было вовсе не похоже на Бронкс.
В сущности, эффект от потрясения оказался взбадривающим. Марджори чувствовала, что ей придется вести спартанскую жизнь, что ее золотые денечки прошли. Ее родители были удивлены и обрадованы решением Марджори добавить стенографию к своей программе в колледже Хантера.
— Боже мой, — сказала миссис Моргенштерн, — будь осторожнее, а то еще начнешь приносить пользу.
Марджори не упомянула о цели работать в «Южном ветре», разумеется, и она часто пропадала в драматической труппе на 92-й улице.
«Бродяги» были трудолюбивой труппой, они ставили новую пьесу каждые три-четыре недели, и Марджори вскоре стала их младшей ведущей актрисой. Она обожала репетиции, театральную болтовню, поздние бутерброды и кофе; и хотя ни один мужчина в театре не интересовал ее, их внимание и вследствие этого прохладное отношение и сарказм девушек заставляли Мардж держаться на высоте. Мужчины были по большей части выпускниками колледжей, которые старались утвердиться в бизнесе, преподавании или адвокатской практике. Двое из них, красивее остальных и с длинными напомаженными волосами, называли себя профессиональными актерами и брались за роли в каждой новой пьесе, нарочито давая понять, что в любой момент их могут отозвать в Голливуд или на Бродвей. Однако такой непредвиденной случайности никогда не возникало за все то время, что Марджори была связана с «Бродягами».
Особенно она ценила свободу, предоставленную ей спектаклями. «Я на репетицию», — это был неоспоримый пароль, который давал ей возможность уходить из дома по вечерам. Дочь резко выросла в глазах миссис Моргенштерн, когда та увидела домашнюю работу Марджори по стенографии: непонятные каракули на листе бумаги. Возможно, исчезновение Маши из жизни Марджори тоже внесло какой-то прогресс, хотя эта тема никогда не обсуждалась. Во всяком случае, мать практически прекратила допрашивать ее каждый день. Впервые в жизни девушка попробовала вкус независимости, и он ей понравился.
Однажды ноябрьским вечером ей позвонила Маша и после обмена прохладными приветствиями сказала:
— Я знаю, что ты меня не выносишь, да мне и все равно, но мне бы хотелось завтра встретиться с тобой в любом месте. Это очень важно для меня.
Марджори не могла быстро придумать тактичного отказа и поэтому договорилась о встрече.
Она с лета не видела Машу, дружба двух девушек сошла на нет после того, как раскрылась связь Маши с Карлосом Рингелем. Первое изумление Марджори вскоре забылось, и она вежливо обращалась с толстушкой, пока они доживали последние недели в «Лиственнице». Но в Нью-Йорке, когда Маша окончила колледж Хантера, их пути не пересекались, и они не искали встреч друг с другом. Марджори знала, что это произошло главным образом по ее вине. Она много часов проводила, думая о Маше, часто сожалея о том, как закончилась их дружба, которая оставила болезненную пустоту в ее жизни. Иногда она пыталась вызвать презрение к своему поведению, как к старомодному и ханжескому. Такой вещи, как супружеская измена, больше не существовало, говорила она себе. Люди заводили романы, если хотели того, соблюдая некоторые приличия и предосторожности, вот и все. Но ее отношение к этому основывалось не на разуме. Оно было таким же инстинктивным, как неприязнь кошек к собакам, и она не могла этого изменить.
Маша вошла в аптеку около Хантера, лицо у нее было отекшим и бледным, с отчетливыми тенями под глазами. Мех ее старой беличьей шубы местами вылез, и швы синих лайковых перчаток разошлись. Пристраиваясь рядом с Марджори, она жизнерадостно сказала:
— Господи, сколько воспоминаний! Я вот-вот начну спрягать латинские глаголы. Давай выпьем кофе.
Первым делом она постаралась всучить Марджори двенадцать долларов десять центов: точно такую сумму она задолжала ей с лета. Марджори попыталась отказаться, но в конце концов взяла монеты и смятые бумажки. Потом Маша спросила о перемене места жительства и выразила сочувствие по поводу превратностей судьбы.
— По сравнению с моими родителями, — сказала она, — твои все еще богачи. В этом году нам в самом деле пришлось туго. Папе это так надоело, что он почти не ходит на Уолл-стрит, а мама даже не может получить уроки. Мне нужно найти работу, Марджи. — Она сделала паузу и отхлебнула кофе. — И работу не только для себя. Мне нужно достаточно денег, чтобы заботиться о своих родителях. Они из сил выбивались, чтобы я закончила колледж, Бог знает. Они замечательные, и я люблю их, но никто из них за всю свою жизнь так и не научился держать доллар в руках достаточно долго, чтобы рассмотреть, чей портрет на нем нарисован, и, боюсь, они так уже и не научатся. Теперь все зависит от меня. Мне нужно только одно — деньги, деньги для родителей и для меня, и я собираюсь их получить.
Берясь за свой кошелек, Марджори сказала:
— Зачем же ты тогда отдала мне эти деньги? Я же сказала тебе, что они мне не нужны.
Маша внезапно оттолкнула ее руки от кошелька.
— Милочка, когда-нибудь ты станешь понятливой? Это был мой великий символический поступок для меня самой — Маша принимает обет и постригается в монахини. Мне не нужна твоя жалость, котеночек, мне нужна помощь. Ты часто видишь Сэнди Голдстоуна в последнее время?
— Почти нет. Только один раз за осень.
— Но вы все еще друзья?
— Ну, мы не ссорились, но…
— Напиши для меня рекомендательное письмо к нему. — Она ухмыльнулась, заметив изумленный вид Марджори. — Это просто зацепка, деточка, или что-то вроде обувного рожка: всегда нужно что-нибудь, чтобы начать. Как только я попаду в его офис в качестве твоей подруги, я получу работу в «Лэмз», уж будь покойна.
— Маша, письмо от меня… Я так глупо буду чувствовать себя, если напишу… оно ничего не будет значить…
— Оно позволит мне войти внутрь.
Марджори согласилась написать.
Когда они вышли на улицу и уже хотели расстаться, Марджори сказала:
— Вы с Карлосом видели Ноэля Эрмана после лета?
Насмешливо прищурив глаза, Маша проговорила:
— Почему ты спрашиваешь?
— Просто интересно.
— Ну, да? — Маша сунула руки в карманы пальто, приняв кокетливую позу. — Как-то мы с ним встречались. Он живет на Бэнк-стрит, 11, знаешь, в уютной квартирке. Отлично проводит время. В сущности, я все еще частенько его вижу. Может, как-нибудь ты тоже зайдешь?..
— Ох, нет, нет, Боже мой! — сказала Марджори. — Просто… ну, всегда хочется поинтересоваться знаменитостью, с которой когда-то встретился.
— Как твои дела на любовном фронте, если ты не встречаешься с Сэнди Голдстоуном?
— Да никак.
— Что? Неужели ты не умираешь от скуки?
Марджори рассказала ей о «Бродягах». Девушка одобрительно кивнула.
— Это хорошая практика для тебя. Я все еще думаю, что ты станешь знаменитой актрисой, Марджи. Как и мои родители. Они все время говорят о тебе. Они по тебе соскучились… И ни один из парней в этой актерской братии для тебя ничего не значит?
— Ну, я общаюсь с ними, но все они зануды.
Маша отрывисто сказала:
— Знаешь что, деточка? Мне кажется, тебя зацепил Ноэль Эрман.
— Это смешно.
Но сердце Марджори заколотилось, а лицо стало гореть.
— Ох, да перестань ты краснеть и морщиться, как будто ты потеряла подвязку! Все в порядке. Из этого даже что-нибудь может выйти.
— Маша, ему тридцать…
— Ну и что? Между прочим, ему двадцать восемь.
— Мужчина, который спит со всеми подряд…
— Ну да, ты и твое ветхозаветное воспитание. Ничего подобного он не делает. У него всегда только одна любовница, и не какая попало. — Маша склонила голову набок, оглядывая Марджори. — Мне трудно не считать тебя младенцем, но в самом деле, милая, после этих месяцев ты стала взрослее и симпатичнее. Может, ты и смогла бы подцепить Ноэля. Я видела и еще более чудные пары, Бог знает. Попытка — не пытка, что ты теряешь? Мне будет проще простого случайно столкнуть вас двоих…
— Боже милостивый, Маша, забудь про это, ладно? Ты из мухи делаешь слона. Меня совершенно не интересует Ноэль Эрман.
— Ладно, ладно! — Маша положила ладонь на руку Марджори жестом добродушной покровительницы, как это бывало раньше. — Как ты думаешь, когда я смогу получить письмо?
Марджори была так взволнована, что не сразу поняла, о чем Маша говорит.
— Ах, письмо! Я напишу его сразу, как только приду домой.
Прежде чем приняться за домашнее задание тем же вечером, Марджори отослала письмо. Потом она поняла, что не может сконцентрироваться на учебниках. Ей не давало покоя то, что сказала Маша об Эрмане. Было совершенно ясно — хотя раньше она этого не замечала, — что с самого начала она неблагосклонно сравнивала всех мужчин в «Бродячих актерах» с режиссером «Южного ветра». Она могла это вспомнить. Эрман каким-то образом стал в ее понимании образцом идеального мужчины, и это произошло так незаметно, так естественно, что теперь ей казалось: он всегда был эталоном. Для Марджори он все еще был наполовину отвлеченным понятием. Она видела его в течение двух часов, если не меньше. Она неясно помнила высокого мужчину с рыжевато-светлыми волосами и блестящими голубыми глазами; мужчину, который говорил одни только умные вещи, чьи интонации и жесты были исполнены изящества, и который мог делать все, что угодно, лучше всех на свете. Даже во время своего поклонения Джорджу Дробесу, восхищения Сэнди Голдстоуном она сознавала, что оба они далеки от совершенства. Ноэль Эрман в самом деле казался ей совершенным человеком.
В течение нескольких последовавших дней в вихре сменяющихся настроений, рожденном словами Маши: «Тебя зацепил Ноэль Эрман», она поддалась своему желанию думать об Эрмане и ни о ком, кроме него, не думала. Она вспоминала каждое мгновение того вечера в «Южном ветре», собирая по кусочкам его слова, его поступки. Она мечтала о нем в аудитории, за ужином дома, на репетициях по вечерам.
Маша с благодарностью позвонила ей на следующей неделе, дабы сказать, что она получила работу в отделе дамской галантереи в универмаге «Лэмз».
— Это моя специальность, дорогуша, я годами училась тому, как придать куче живого теста форму женщины. Я не побеспокою тебя, пока не заработаю достаточно, чтобы стать покупательницей, тогда позвоню — рассказать хорошие новости. Дай мне два года.
Марджори, чье сердце подпрыгнуло, когда она услышала голос Маши, задавала ей множество вопросов, чтобы не дать разговору заглохнуть, в безумной надежде на то, что Маша каким-нибудь образом заговорит о Ноэле Эрмане снова. Но наконец Маша сказала:
— Пока, дорогуша, желаю удачи, — и повесила трубку.
Марджори с трудом противостояла желанию позвонить ей в течение нескольких дней, как человек, бросивший курить, противостоит желанию взять сигарету. Однажды поздним вечером она даже набрала телефонный номер, но, когда услышала голос мистера Зеленко, с грохотом бросила трубку на рычаг.
Постепенно ее смятение чувств улеглось, хотя она не перестала время от времени вспоминать Эрмана. В день своего девятнадцатилетия, ненастный снежный день, она сделала одну странную вещь. После школы Мардж пошла к Бэнк-стрит и двадцать минут стояла на другой стороне улицы от потрепанного кирпичного дома, в котором он жил, уставясь на окна, пока снег опускался на ее бобровую шубу и ресницы. Ей пришло в голову, пока она стояла среди метели, а из ее рта вырывался пар, что она была не лучше визгливых дурочек, которые собирались в фэн-клубы, чтобы поклоняться актеру. Ноэль Эрман был так же далек от нее, как Кларк Гейбл, и так же не подозревал о ее существовании. Но, удивляясь собственным поступкам и иронически посмеиваясь над ними, она почему-то не испытывала стыда. Она вернулась домой закоченев, но с тайным удовлетворением и больше этого не делала.
Лучшим результатом этого странного периода было то, что Марджори обнаружила в себе способность хранить молчание и жизнерадостный вид, что бы ни было у нее на душе. Она обменивалась сплетнями с некоторыми девушками из труппы, которые часами говорили о своих привязанностях, но ни слова не произносила о себе. Что касается ее семьи, то человек, занимавший ее мысли, просто не существовал для них. Всю зиму и потом, когда наступила весна — пока она мечтала о нем и писала письма, которые никогда не собиралась отправлять, и рвала их на кусочки, и выводила «Миссис Ноэль Эрман» на листах бумаги, и тут же, скомкав, бросала их в корзину, и обдумывала способы поехать в «Южный ветер», и в итоге встретилась с Гричем и получила работу, — все это время, насколько могли судить ее родители и брат, Марджори была девушкой, не имевшей ни забот, ни стремлений.
В этот же сосуд молчания она заключила и потрясающие новости о том, что Грич дал ей работу в «Южном ветре». В тот самый вечер за ужином получилось так, что разговор пошел о планах на лето. Миссис Моргенштерн уныло заметила, что пока остальным придется потеть от жары в городе, для Марджори, по крайней мере, уже обеспечен свежий воздух и солнце в лагере Клэббера. Девушка пропустила это мимо ушей. Она знала, что в июне ей предстоит жаркая битва с собственной матерью, и не видела никакого смысла начинать баталии в марте.
В самом разгаре обсуждения зазвонил телефон. Это был Уолли Ронкен. Затаив дыхание, он сказал:
— Марджори, в следующий четверг состоится открытие моего университетского шоу в Уолдорфе. Ты пойдешь со мной?
— Что! Бог мой, Уолли, ты меня поражаешь. Это ужасно мило с твоей стороны, но… нет, пригласи кого-нибудь еще… это важный вечер для тебя, а ты едва меня знаешь…
Но его нельзя было переспорить. Изумленная и польщенная, она в конце концов согласилась прийти, потом его радость обеспокоила ее.
Придя домой из колледжа в тот день, когда должно было состояться шоу, Марджори обнаружила на кухонном столе огромную белую орхидею, завернутую в зеленую бумагу. Миссис Моргенштерн, чистившая картошку у раковины, спросила:
— Кто такой этот Уолли Ронкен, гангстер?
Марджори с улыбкой читала карточку: «Всего четыре часа до встречи с тобой. Я могу выжить». Она ответила:
— О, глупый мальчишка, — и рассказала матери об университетском шоу.
Миссис Моргенштерн сказала:
— Должно быть, он талантлив. А судя по этому цветку, не так уж беден.
— К сожалению, мама, он младенец. Забудь о приглашениях на свадьбу.
Уолли появился у ее двери в половине восьмого в цилиндре, летящем шарфе из белого шелка, белых лайковых перчатках и пальто с черным бархатным воротником; при нем была черная трость с белым набалдашником из слоновой кости. Марджори лишь большим усилием воли удержалась от смеха. Его словами приветствия, когда он увидел ее в вечернем платье, были: «Чтоб я сдох». В такси он грыз набалдашник трости, глупо улыбаясь Марджори. Войдя в шумный бальный зал в Уолдорфе, слыша приветствия и поздравления со всех сторон, он спотыкался и улыбался, как пьяный.
Его семья, уже усаженная в ложу, критически осмотрела Марджори с ног до головы. Один взгляд на платья его матери и сестры подсказал Марджори, что дела у Ронкенов шли хорошо.
— Я чувствую себя очень странно, — сказала Марджори его отцу и матери. — Я говорила Уолли, что он должен был оказать эту честь девушке, которую знает лучше…
— Не знаю, смог бы он найти более хорошенькую спутницу, — ответил его отец.
Миссис Ронкен только улыбнулась.
Марджори была несколько удивлена тому, что в шоу встречались остроумные места. Актеры были нескладные и туповатые, и ее нисколько не удивили узловатые коленки и волосатые ноги кордебалета, который составлял большую часть прелести вечера для аудитории. Она видела слишком много университетских шоу. Но песни были хорошо зарифмованы, и время от времени попадались превосходные шутки, хотя в остальном это был дурацкий сценарий о диктаторах, греческих богах и Голливуде. Время от времени она бросала взгляд на Уолли, чье лицо казалось неясным белым треугольником во мраке ложи, и думала о том, откуда он набрался здравого смысла и житейского опыта, которые просматривались в его текстах.
Когда в зале загорелся свет в конце первого акта, миссис Ронкен со светящимися глазами взяла сына за руку.
— Это блестяще, блестяще, Уолли! Где ты научился так писать?
— Довольно рискованные эти твои шутки, сынок, — сказал его отец.
Марджори присоединилась:
— Право, Уолли, это ужас как хорошо…
Полный молодой человек в смокинге вошел в ложу, раздвинув занавески.
— Ну, Уолли, все идет отлично, как ты думаешь?
Марджори понадобился один лишь миг, чтобы понять: это был Билли Эйрманн. Она перестала встречаться с ним, как и со всеми остальными молодыми людьми Вест-Сайда, когда была поглощена Машей. Он прибавил в весе, особенно это было заметно по его лицу, и выглядел куда старше.
— Думаю, все идет путем, — сказал Уолли.
Он представил Эйрманна своей семье, сказав, что это менеджер его шоу.
— Билли, полагаю, ты знаком с Марджори Моргенштерн…
Билли обернулся.
— Вот те раз! Мардж!
— Привет, Билли…
— Слушай, ты выглядишь отлично. Ну и ну, уж год прошел, не меньше? Да уж, если б я знал, что ты захочешь попасть на это шоу, я бы… — Он вдруг понял, каким лепечущим тоном говорит, и туповато огляделся вокруг. — Мы с Марджи давние друзья… Слушай, Уолли, не хочу мешать тебе, но в конце концов сюда явился мой брат Саул. Он не хочет врываться в вашу ложу, но если ты не против…
Уолли уже стоял на ногах и сжимал руку Марджори.
— Он пришел? Пойдем, Мардж. Я должен услышать, что он думает.
Почти нехотя Мардж последовала за ним. Прислонясь к стене коридора, пожимая локоть и дымя сигаретой, стоял Ноэль Эрман. Марджори споткнулась, ей пришлось схватиться за руку Уолли. Не было никаких сомнений в том, что это был Эрман. В довольно поношенном зеленоватом твидовом костюме и желтовато-коричневом свитере, бледный и немного усталый, он казался в окружении прыщавых студентов орлом среди воробьев.
— Уолли, рад тебя видеть. Поздравляю. — Ноэль протянул руку и шагнул вперед с очаровательной улыбкой, которую Марджори столько раз за эти месяцы рисовала в своем воображении. — С сегодняшнего вечера ты больше не школьник. Добро пожаловать в ряды безработных писателей.
Уолли сказал:
— Там полно разной детской ерунды, верно, Ноэль?
— Уолли, это твоя первая постановка. Никто не ищет в ней «О тебе я пою». Все отлично, и у тебя будет все отлично.
Его взгляд перешел на Марджори и задержался на ней, не узнавая. Марджори думала, что вот-вот упадет в обморок. Она онемела и замерла.
— Это Марджори Моргенштерн, Ноэль, — сказал Уолли. — Разве ты ее не помнишь? Она как-то вечером заглянула к нам с Машей из детского лагеря…
Лицо Ноэля оживилось.
— Как же, разумеется. Девушка в пурпурном платье. Преподаватель по театру. Привет.
— Привет.
— Как поживает Маша? Давненько ее не видал.
— Я тоже.
Она подумала, что он не кажется таким фантастически высоким, когда она в туфлях на высоком каблуке.
Билли Эйрманн сказал:
— Саул, я говорил тебе о Марджори еще давно.
Ноэль обернулся и улыбнулся ему.
— Так это Марджори, Билли?
— Это Марджори, — печально пожав плечами, проговорил Билли.
— Что ж, понимаю. Я едва ли могу тебя упрекнуть.
Не в силах сдержаться, Марджори выпалила:
— Вас зовут Саул или Ноэль? Или я чего-то не понимаю?
— Билли непременно должен был рассказать о своем непутевом брате, рано или поздно, разве нет? — со смехом сказал Ноэль. — Он рассказал мне все о вас, Бог знает.
Теперь Марджори вспомнила, как иногда вспоминаются отрывки старого сна, что Билли как-то раз напился и говорил ей о старшем брате, который бросил адвокатскую школу, сменил имя и стал писателем.
— Эта реприза про Марса и Афродиту довольно забавна, Уолли. Используем ее в шоу на День памяти, — говорил в это время Ноэль.
Уолли просиял.
— Правда? Она так хороша? Скажи, ты останешься на второй акт, правда, Ноэль? Там ближе к концу есть еще отличный номер.
— Не пропущу его, Уолли. Увидимся позже.
Марджори не могла бы вспомнить ни одного отрывка из второго акта музыкальной комедии Уолли. Она сидела в темной ложе, переваривая ошеломляющее известие о том, что Ноэль Эрман на самом деле был Саулом Эйрманном, старшим братом Билли Эйрманна, тем человеком, о подобных которому говорили: «В семье не без урода». Она сосредоточенно старалась вспомнить все в точности, что рассказывал Билли о брате, но не многое смогла вытянуть из своей памяти. Он говорил о нем лишь однажды, когда они болтали на диване после изнурительных танцев на День Благодарения два года назад. Она спорила с ним о популярных песнях, и, чтобы приподнять свой авторитет, он пьяным тоном заявил, что он лучше разбирается в них, чем она, поскольку его брат сам сочиняет такие песни. Он бессвязно изложил ей историю шалопая с блестящими способностями, который намеренно плохо учился, колесил по Европе несколько лет и наконец остановился на аллее Оловянной Кастрюли. Она вспомнила, что когда она как-то раз снова спросила у Билли о его брате, он сморщился и перевел разговор на другую тему.
Она не могла отделаться от впечатления, что во внешности Эрмана сегодня было что-то странное, что-то ненормальное, чего она не замечала в нем в «Южном ветре». Он был по-прежнему красив, и в городской одежде у него был более элегантный вид, чем в лагере. Что же было не так? Она стала высматривать его в зале и увидела его на дальнем конце, он смотрел пьесу, склонив голову набок. С того момента она большей частью глядела не на сцену, а на него.
После шоу бальный зал был приготовлен для танцев. Ноэль ждал Уолли у подножия лестницы, чтобы поздравить его. На его руке висело пальто. Через мгновение Марджори очутилась в объятиях Эрмана, танцуя, потому что Уолли пригласил свою мать, а Ноэль бросил пальто на стул и протянул руку Марджори.
Некоторое время они танцевали в молчании. У Марджори не хватало храбрости сказать хотя бы слово. Она танцевала со многими молодыми людьми, но никогда еще не ощущала себя такой невесомой, такой воздушной. Он, как и говорила Маша, был прекрасным танцором. Спустя небольшое время Эрман сказал:
— Вы довольно круто обошлись с моим братишкой Билли, не правда ли?
— Почему! Совсем нет.
— В прошлом году он был совсем разбит. И он сам не свой сегодня только потому, что увидел вас. Он так говорит.
— Ему просто нравится так говорить, — сказала она. — Я очень хорошо отношусь к Билли.
Ноэль отодвинулся и посмотрел на нее.
— Хорошо, а? Звучит не обнадеживающе.
— Я не старалась выбирать слова. Вы знаете, что я имею в виду.
Ее лицо порозовело.
— Конечно, да. Если бы вы сказали, что ненавидите его, что он свинья, хам, я посоветовал бы ему продолжать добиваться своего. Но если вы действительно хорошо к нему относитесь…
— Пожалуйста, не говорите ему, чтобы он чего-то добивался. — После следующей паузы она спросила: — Как вам понравилось шоу Уолли?
— Очень изобретательное и веселое.
— Маша постоянно напевала и наигрывала ваши номера для «Южного ветра». Я любила их. Уолли еще далеко до них.
Он наклонил голову.
— Я немного старше, вы знаете.
— Вы собираетесь этим летом вернуться в «Южный ветер»?
— Пожалуй, да.
— Похоже, вы будете моим начальником. Я получила работу актрисы.
— Вот как? — Он отстранил ее от себя, его взгляд был невозмутим и насмешлив. — Это здорово. Собираетесь быть одной из конторских рабынь Грича?
— Я надеюсь еще и участвовать в спектаклях, хотя бы немного. По-моему, это прекрасное место, чтобы учиться.
— Вы многому можете научиться в «Южном ветре». Я не могу сказать точно по поводу актерского искусства, но… Что же, Уолли, должно быть, на седьмом небе, а? Прошлым летом он раз десять пытался пробраться к вам в лагерь, чтобы увидеть вас, но его не пускали.
— Я не знала об этом.
— Полагаю, он слишком робок, чтобы сказать вам.
Он снова приблизил ее к себе, и они продолжали танцевать. В его танце не было ничего, кроме непринужденной любезности. Музыка подходила к концу, и ее захлестнула волна печали. Как неудачно поворачивалось дело! Он считал ее девчонкой для таких, как Билли или Уолли. Это было видно по тому, как он держал ее, как он разговаривал с ней, как он сказал ей это. Никакие, никакие ее слова или поступки не могли бы изменить этого.
Уолли ждал их у дверей рядом с тем стулом, где лежало пальто Ноэля. Когда Ноэль, прощаясь, поклонился, прижав руки к бокам, Марджори вдруг поняла, что показалось ей в нем странным. Это его левая рука, та, что всегда была согнута и держалась за правый локоть. Когда Ноэль ее выпрямил, она оказалась немного короче другой и, если только Мардж не ошиблась, была немного искривлена.
13. Поцелуй под сиренью
Несколько вечеров спустя ей позвонил Билли Эйрманн, жалобно сказав:
— Раз уж ты снова появилась в обществе, я решил еще раз попытать удачу.
Когда он пришел, то оглядел изысканную мебель из Эльдорадо, загромождавшую новую квартиру, и вежливо сказал, что у них очень мило. Из-за него с новой силой, как никогда раньше, она почувствовала семейный упадок.
— Не снимай пальто, — сказала она, — мы пойдем куда-нибудь. Может, в «Старую Касабланку».
Билли запротестовал, умоляя ее позволить ему отвести ее в «Клуб Аиста». Но она чувствовала себя виноватой из-за того, что согласилась встретиться с ним, и успокаивала свою совесть тем, что предложила самое дешевое место, которое знала, и потому они пошли в «Старую Касабланку». Это был захиревший ресторанчик на Бродвее, всего в нескольких кварталах от ее дома, где трое жалких музыкантов уныло развлекали каждый вечер студентов колледжей с ограниченными средствами. Стены, неровные и с неправильными углами, изображали грот и были выкрашены в мертвенно синий цвет, освещение тоже было синим. Танцевальная площадка была заполнена тощими молодыми людьми в поношенных пиджаках и грязных белых туфлях и неопрятными девушками в мешковатой одежде, которые вертелись и шаркали ногами в замогильном свете. Марджори и Билли взяли себе пива и гамбургеров и принялись болтать, и она небрежно упомянула о том, что собирается провести лето в «Южном ветре».
— В «Южном ветре»? Мой брат Саул там режиссер!
Марджори кивнула.
— Я знала, что режиссер там Ноэль Эрман. До недавнего времени я не подозревала, что это твой брат Саул.
Билли криво улыбнулся и склонил голову набок. Марджори в это мгновение увидела в нем мимолетное сходство с братом.
— Ноэль Эрман. Великое имя, не правда ли?
Он стал вертеть в руках бутылку кетчупа.
— Ты практически не рассказывал о нем.
— Он что-то вроде паршивой овцы в нашей семье, Мардж, так или иначе.
— Что у него с рукой?
— О, ты заметила? Он довольно ловко это скрывает. Такую штуку называют паралич Эрба. Он у него с рождения. Бывает из-за наложения щипцов. Полно людей с ним живет. У них короткие и искривленные руки, ты, наверно, видела. Ну, с Саулом дела были не так плохи, он занимался, как черт, и более-менее исправил ее. Он еще и в этом обвиняет моего отца. Заявляет, что отец позвал этого доктора, от которого не было никакой пользы, потому что он был его школьным приятелем…
— Они с твоим отцом не ладят?
— Ну, ты знаешь, мой отец судья, и все такое, так что он хотел, чтобы Саул изучал законы. Саул хотел преподавать философию, по крайней мере теперь он так говорит, но мне кажется, что ему хотелось быть кем угодно, только не адвокатом, назло отцу… Да ну его к черту, этого Ноэля Эрмана, ты не против? Прислушайся к совету старого друга и телом держись от него подальше, вот и все.
— Не беспокойся.
— Слушай, что я скажу тебе про Саула. Не то чтобы он был паршивцем или кем-нибудь там еще… Если бы женщины падали от меня налево и направо, куда бы я ни шел, я бы тоже не упустил такого случая, это точно… Пошли, это румба, давай потанцуем.
После этой встречи Билли звонил ей еще два или три раза. Она была любезной, насколько могла, но у нее был законный предлог для отказа в виде репетиций у «Бродячих актеров», так что вскоре пыл его охладел.
С Уолтером Ронкеном дело обстояло по-другому, он был настойчивым и обезоруживающим.
— Слушай, — как-то раз сказал он по телефону, — давай допустим, что я слишком молод для тебя и слишком смешон. Из этого совсем не следует, что ты должна меня отшить. Мы все же интересуемся одними и теми же вещами, а я не так неприятен в компании. Ты и представить не можешь, какое сокровище готовишь себе на небесах, когда время от времени со мной встречаешься. Ты поддерживаешь во мне жизнь. Ты же отдала бы ради меня пинту крови, если б я умирал, правда?
И она рассмеялась такому экстравагантному признанию и согласилась встретиться с ним. Какое-то время он подшучивал над ней только по телефону, а в ее присутствии терялся и замолкал, но, проведя с ней несколько вечеров, он стал чувствовать себя свободнее. Однажды он привел ее в смущение тем, что без приглашения явился на репетицию «Бродяг». Он мог бы быть сыном режиссера, таким юным он казался среди участников труппы. Она дразнила его, но позволила после репетиции выпить с нею кофе и была поражена проницательностью его комментариев, особенно по поводу ее собственной игры. Он целиком понял то, что она пыталась сказать в своей роли.
— У тебя много здравого смысла — в некоторых отношениях, — сказала она, повышая голос, чтобы заглушить металлическое дребезжание. Они были в кафе-автомате. Она настояла на том, что заплатит за свой кофе, и между ними появилась какая-то натянутость.
— Я быстро соображаю. — Он откусил пончик, как будто разозлился на него.
— Или очень о себе воображаешь.
— И то, и другое. Одна черта не исключает другую. Посмотри на Шоу.
— Ну, не будь так уверен в этом, мой мальчик, по крайней мере пока не отрастишь себе такую же бороду, как у Шоу. Это не такая привлекательная черта в тебе.
— Не называй меня «мой мальчик». Знаешь точную разницу в нашем возрасте? Один год, три недели и пять дней.
— Это все равно что десять лет, Уолли, когда девушка старше.
Он сгорбился над своим кофе — воплощение уныния.
— Верно. Но так не должно быть, Мардж. Это жалкие шутки времени, ошибка в простой арифметике. Это не должно ничего означать.
— Если ты будешь вести себя хорошо, мы можем быть очень добрыми друзьями. Ты мне нравишься. Не гляди так трагично.
— Ну, ладно, я согласен на роль Марчбэнкса[1] при Своей Кандиде — покамест.
— Нет, спасибо. Кандида в девятнадцать лет, в самом деле! По этому счету тебе должно быть четыре года. Иногда ты поступаешь, как четырехлетний. Просто будь самим собой и дай мне быть самой собой. Не придумывай обо мне никаких глупостей, это самое главное. Я просто еще одна девушка.
Он посмотрел на нее, склонив голову, как Ноэль.
— Ладно, — сказал он, — ты просто еще одна девушка. Мне придется это запомнить.
«Бродяги» поставили свой последний спектакль во второй половине апреля, и после этого Марджори ничего не осталось, кроме того, чтобы ходить в колледж и ждать, когда наконец начнется жизнь в «Южном ветре».
Колледж надоел ей хуже горькой редьки. Ей было скучно, смертельно скучно в жарких классах, на школьных изрезанных стульях, от звонка, который объявлял конец тягучим часам, от запаха мела, тяжести учебников под мышкой, коридоров, заполненных хихикающими первокурсницами с дешевой губной помадой, старомодно одетых учительниц, которые постоянно терзали ее своими цифрами и буквами. Она пошла в школу, когда ей исполнилось шесть лет. В унылой рутине городских колледжей, которые каждые шесть месяцев выпускали своих учеников, словно колбасу, она должна была окончить учебу в следующем феврале. Несколько из ее одноклассниц вышли замуж и не собирались возвращаться в школу после летних месяцев на последние полгода. Она бы с радостью сделала то же самое, если б у нее был жених на примете.
Она получила приглашения на несколько свадеб. Каждый раз для нее было потрясением видеть, как старшеклассница превращается в невесту, плывущую по воздуху в белом сверкающем тумане, держа под руку неуклюжего молодого человека (с видом загнанного зверя) в официальном костюме. У Марджори появлялось чувство, будто время зажимает ее в тиски. Она не могла не сравнивать женихов с Ноэлем Эрманом, и такое сравнение оказывалось для них очень невыгодным, но разве это могло быть утешением? Она ничего не значила для Эрмана.
Несколько человек из «Бродяг» продолжали назначать ей свидания, но с ними было так скучно, что она едва не засыпала, ей куда больше нравилось сидеть дома за книгой. Она прочитала все романы в ближайшей библиотеке и потом стала перечитывать старые романы, просто для того, чтобы иметь что-то для чтения; она с изумлением обнаружила, что такие книги, как «Анна Каренина» и «Мадам Бовари», захватывали ее. Возможно, для того, чтобы доказать себе, что посредственные оценки в колледже были делом выбора, а не способностей, она усердно принялась за учебу, хотя была поглощена ею меньше, чем когда-либо. Она получила мрачное удовлетворение оттого, что набрала несколько высших баллов.
Марджори часто отправлялась на продолжительные прогулки по Риверсайд-Драйв. Мягкий апрельский воздух над голубой рекой, запах цветущих вишни и яблони, покачивание их розовых ветвей наполняли ее сладкой печалью. Частенько она вынимала из кармана книжку стихов и опускалась на скамейку, чтобы почитать Байрона, Шелли или Китса. Тоска Марджори по Ноэлю открыла ее сердце для этих старых слов, которые были засушены, исковерканы и вбиты в ее голову бесчувственной каргой, преподававшей английскую литературу.
Иногда Мардж приходила гулять в Центральный парк. Каждое желтое соцветие форзитии напоминало ей о Маше и первых чудесных месяцах их дружбы. Наездники, шлепавшие по грязным дорожкам, вызывали в ее памяти воспоминания о себе самой: образ безрассудной семнадцатилетней девчонки в синяках и ушибах, которая головой вниз летит с Очаровательного принца. Она могла вспомнить, каким мудрым и взрослым человеком казался ей Сэнди Голдстоун, она могла вспомнить, как в ее глазах он превратился в невзрачного болвана. Она смотрела на окна их прежней квартиры в Эльдорадо и думала о том, что, может быть, какая-нибудь семнадцатилетняя девчонка с блестящими глазами стоит в халате за белыми занавесками, пожирая глазами золотой облик мира.
После долгого молчания одним майским утром позвонил Уолли.
— Ты когда-нибудь была в Аркадах?
— Нет. Что это за Аркады?
— Аркады — это настоящий рай земной. Давай поедем туда завтра утром. Сирень зацвела. Я хочу, чтобы ты посмотрела на сирень.
Завтра была суббота. Она чувствовала, что не должна поощрять Уолли, но это вряд ли было похоже на свидание — поездка в субботнее утро с целью посмотреть на сирень.
— Конечно, Уолли. Так мило, что ты обо мне подумал.
На следующее утро шел проливной дождь. Она сидела на подоконнике в своей комнате в домашнем халате и жадно глотала новый роман. Это было очень приятное времяпрепровождение, когда дождь барабанил по карнизу и на страницу падал серо-голубой свет грозы. Герой романа был вылитый Ноэль Эрман, до кончиков рыжевато-золотых волос, это был тот же тип лихого негодяя. Когда зазвонил звонок у входной двери, она не обратила на него внимания. Через мгновение мать просунула голову в ее дверь.
— Пришел этот Уолли. Говорит, что вы договорились куда-то поехать. Он что, с ума сошел, выходить в такой ливень?
— О Господи! Скажи, чтобы он подождал минуту, мам.
Она взглянула на себя в зеркало на дверце шкафа. Ее волосы были причесаны, но на лице совершенно не было косметики, а халат из темно-бордовой шерсти не прикрывал даже подола ночной рубашки. Показаться в таком виде было невозможно; но у нее не было никакого желания одеваться и разрисовываться только для того, чтобы сказать Уолли: пусть он едет домой и перестанет быть идиотом. Она решила, что Уолли едва ли мог сойти за человека, которому назначают свидания, он больше был похож на младшего брата; и она вышла в гостиную, туже затягивая пояс халата. Он сидел за пианино, в желтом плаще, и весело наигрывал одну из песен Ноэля.
— Уолли, иногда мне кажется, что у тебя нет здравого смысла. Неужели ты думал, что я поеду куда-то в такую погоду?
— Почему же, Мардж? Дождь — это наш шанс. Аркады будут в нашем полном распоряжении.
— Ты получишь их в полное свое распоряжение, мальчик. Я соображаю достаточно хорошо, чтобы не высовываться в такой ливень, даже если ты этого не понимаешь.
Узкие плечи ссутулились, большая голова опустилась, длинный нос стал как будто еще длиннее. Она видела, как собаки так же внезапно переходят от безудержной радости к глубокому унынию, но никогда еще не видела, чтобы такое происходило с человеческим существом.
— Ну, ладно, Уолли, я рада, что ты пришел, дай мне только минуту, чтобы одеться. Мы посидим, выпьем кофе и поболтаем про лето.
— Ладно, — заунывно отозвался он.
Когда она снова вышла, наспех одетая, как для школьного дня, он сидел, скрючившись в кресле, все еще в плаще.
— Что с тобой? — спросила она.
— Марджи, я догадываюсь, что ты не жила в сельской местности. Лучшее время, чтобы смотреть на цветы, это дождь.
— Я думаю, ты больше никогда не улыбнешься, — сказала она, смеясь, — если мы не поедем посмотреть на эту сирень.
— Ну, я уверен, что она тебе понравится.
— Что за черт! Мне приходилось делать вещи и поглупее. Поехали.
Как это часто случалось, Марджори обрадовалась, что Уолли вытащил ее из квартиры, как только они оказались на улице и поехали вдоль реки. Она уже позабыла, как здорово ехать в машине сквозь проливной дождь, особенно в таком мощном автомобиле, как «бьюик» отца Уолли; удобно расположиться на мягком сиденье в тепле и сухости, пока снаружи бушует ветер и капли стучат по крыше, и «дворники» бегают по ветровому стеклу взад и вперед, стирая четкие лоскуты серого неясного мира. Она взяла сигарету с ментолом и свернулась на сиденье. Она еще не приучилась курить, но сигареты с ментолом всегда казались ей меньшим грехом, поскольку были похожи на лекарство или леденцы.
— Это здорово, — сказала она, — прости, что я так не хотела ехать.
— Это ерунда, — радостно ответил Уолли, — погоди.
Они миновали колоссальные опоры моста, свернули в сторону от бурлящей черной реки, проскочили в арку и поехали по пологой дороге.
— Видишь? — сказал он, когда они въехали на пустынную стоянку. — Субботнее утро, но мы одни.
Средневековый музей на отвесном берегу с видом на Гудзон оказался новостью для Марджори. Шагая по готическим коридорам, она сказала:
— Как ты нашел это?
— В курсе изобразительного искусства.
Их шаги отдавались эхом в темных каменных галереях. Великолепные гобелены, деревянные святые и богоматери, инкрустированные драгоценными камнями мечи и доспехи, сводчатые потолки — все это пробуждало в ее воображении атмосферу романа, который она читала; она так и представляла себе, как поворачивает за угол и сталкивается с высоким светловолосым героем. Уолли, волоча ноги, тащился за ней — руки засунуты в карманы желтого плаща, прямые черные волосы падают на глаза; в этой обстановке он казался неуместным и комичным. Но она все равно чувствовала симпатию к нему. Он давал ей возможность ощутить себя первооткрывателем. Это удовольствие помогла ей найти Маша, когда они вместе ходили на концерты и в художественные галереи.
В холодной и пустой столовой они пили кофе.
— Готова пойти прогуляться в садах? — сказал Уолли. — По-моему, дождь кончается.
— Конечно, готова.
С деревьев обильно капала дождевая вода, так что казалось, будто все еще идет дождь; но когда они вышли на открытое пространство среди клумб, то увидели, что ненастье прошло. Белые облака, толпящиеся и спешащие вдаль высоко над головой, открывали голубые лоскуты неба. Сильный аромат от пурпурных зарослей ириса наполнял влажный воздух, и редкие лучи солнечного света серебрили огромные опоры моста над рекой. Тихий ветерок шевелил цветы, стряхивая с них дождевые капли.
— Ах, Боже мой, здесь прекрасно, Уолли! — сказала Марджори.
Он взял ее за руку, и она позволила ему держать ее; и если о ладони можно сказать «почтительная», то такова была ладонь Уолли. Он повел Марджори за угол мимо густого кустарника по извилистой дорожке, залитой странным водянистым бледно-лиловым светом.
Это была аллея, над которой сводами смыкались стены из цветущей сирени. Благоухание, сладкое и острое, невыразимое словами, наполняло воздух; оно, как музыка, заставило ее чувства затрепетать. Вода капала с пышных соцветий на лицо Марджори, поднятое вверх, когда она шла по аллее рука об руку с Уолли. Она не могла бы сказать, где был дождь, а где слезы на ее лице. Она хотела смотреть вверх на сирень, белые облака и лоскутки голубого неба вечно, вдыхая этот сладкий воздух. Ей казалось, какие бы уродливые заблуждения ни существовали за пределами этой сиреневой аллеи, должен где-то быть Бог, в конце концов, и что Он должен быть добрым.
Она услышала, как Уолли говорит:
— Я так и думал, что тебе понравится.
Голос вывел ее из состояния, близкого к трансу. Она остановилась, обернулась и посмотрела на него. Он был некрасив, юн и трогателен. Он глядел на нее сияющими глазами.
— Уолли, спасибо тебе.
Она обвила руками его шею — он был выше ее, но ненамного, — и поцеловала в губы. В поцелуе она хотела выразить свою благодарность, больше он ничего для нее не значил. Он прижимал ее к себе, пока она целовала его, и отпустил в тот же миг, как она отступила. Он вглядывался в нее с полуоткрытым ртом. Казалось, он хочет сказать что-то, но не издал ни слова. Они держали друг друга за руки, и капли дождя падали на них с цветов сирени.
Через мгновение она тихо рассмеялась.
— Ну-ка, почему ты так на меня смотришь? Я кажусь такой испорченной? Тебя уже целовали девушки?
Уолли, поднеся тыльную сторону ладони ко лбу, сказал:
— Теперь мне так не кажется! — Он покачал головой и засмеялся. — Я насажу аллеи сирени по всему городу.
Голос его был очень хриплым.
— Это не поможет, — твердо сказала она, беря его под руку и идя вперед, — это было в первый и последний раз, мой дружок.
Он ничего не сказал. Когда они дошли до конца аллеи, то повернули назад, медленно пройдя всю аллею обратно. С шепчущим звуком на дорожку падал дождь.
— Бесполезно, — произнесла она несколько мгновений спустя.
— Что?
— Проходит. Наверно, такое состояние не может продолжаться долго. Это становится просто сиреневой аллеей.
— Тогда пойдем отсюда.
Уолли зашагал быстрее, и вскоре они снова были на открытом воздухе, выйдя на свет из-под сени аллеи.
Они ехали по городу в ярком солнечном свете по высыхающей дороге, открыв окна, чтобы в «бьюик» вливался теплый благоухающий воздух.
— Пойдем, пообедаешь с нами, — сказала она, когда он остановил машину у ее дома.
— Мне нужно идти прямо в библиотеку, Мардж. Но все равно спасибо.
— Спасибо за сирень, Уолли. Это просто чудо.
Она открыла дверь. Вдруг его ладонь оказалась на ее руке.
— Может быть, нет, — проговорил он.
Она взглянула на него.
— Что, может быть, нет?
— Может быть, он был не последний. Поцелуй.
Легко рассмеявшись, она сказала:
— Уолли, дорогой, не ломай голову над этим. Я не знаю. Может быть, мы еще раз найдем такую сирень.
Он кивнул и уехал.
Войдя в квартиру, она попала в шторм. Мать, сидевшая на краю стула в гостиной, поднялась на ноги, как только Марджори вошла.
— Здравствуй, надеюсь, ты хорошо провела время?
— Очень хорошо, — сказала Марджори, сбрасывая туфли. В тоне и поведении ее матери ясно слышался сигнал тревоги.
— В основном тебе удается хорошо проводить время, — произнесла миссис Моргенштерн, приближаясь к ней со сложенными руками.
Сложенные руки — это уже было серьезно. Марджори тщетно пыталась мысленно найти причину. В последние недели она была необыкновенно добродетельна.
— Стараюсь, — сказала она, вешая плащ на вешалку.
— Стараешься! Это верно, что ты стараешься. Ты можешь приложить свои старания к чему угодно. Ты даже постараешься поехать в Содом, если я позволю тебе, но это случится только через мой труп.
Только сейчас на столике в прихожей Марджори заметила распечатанный конверт с эмблемой «Южного ветра» в углу, рядом с адресом отправителя. Она вздохнула.
— Мам, я думала, что мы давным-давно договорились, что ты не будешь читать мои письма.
Она взяла письмо и прошла в гостиную. Это было подписанное Гричем уведомление о собрании работников «Южного ветра».
— Я открыла его по ошибке. Я думала, это рекламный проспект. Откуда мне знать, что ты получаешь письма из Содома?
— Ну, раз ты распечатала его по ошибке, почему бы тебе не притвориться, что ты этого не делала, и мы все будем счастливы? Я хочу есть…
— Это правда или нет?
— Что правда, мама?
— Ты работаешь или не работаешь в Содоме?
— Разве это не мое дело?
— Прости, но это мое дело, если моя дочь решает ехать к собакам. По меньшей мере, я должна быть уведомлена.
— Никто не едет к собакам.
— Если ты собираешься работать в Содоме, то ты едешь к собакам.
Марджори посмотрела в глаза матери. Она была на пару дюймов выше ее. Миссис Моргенштерн смотрела на нее снизу вверх, наморщив нос и прижав руки к бокам.
— Пожалуйста, мама, давай выйдем из средневековья. «Южный ветер» не Содом. Это вполне уважаемое место для проведения летнего отдыха, гораздо более уважаемое, чем Прадо, если хочешь знать. Ты ничего не имела против того, чтобы я ехала в Прадо, где днем и ночью еще больше этих чертовых обниманий-поцелуев и разведенки в узких корсетах постоянно флиртуют с проклятыми музыкантами…
— Откуда у тебя эти слова, Марджори? Чертовы, проклятые. Ты набралась этого в Содоме? Или от Маши?
— Я не видела Машу почти год, и ты это знаешь, — устало ответила Марджори.
— Да, а когда я сказала, что устала от нее, что ты мне ответила? Она будет твоей любимой подругой до конца жизни, а я средневековая дура, я и это, я и то. Ну так кто оказался дурой? Я была права насчет Маши, и я права насчет «Южного ветра». Это не место для тебя, Марджори. Хорошо, некоторые приличные люди могут бывать там — взрослые люди, люди, которые знают, как контролировать себя… ты же будешь там, как младенец в лесу, тебе всего девятнадцать…
— Девятнадцать с половиной, а в июле мне будет почти двадцать. Ты вышла замуж, когда тебе было восемнадцать лет.
Лицо матери изобразило насмешку.
— Ты сравниваешь нас? Я жила самостоятельно с пятнадцати лет, зарабатывая себе на жизнь. Когда мне было восемнадцать, на моих руках были такие мозоли, каких у тебя не будет и в пятьдесят. Я истекала кровью и кричала в такси по дороге в больницу, когда ты родилась, — да, по дороге с того потогонного предприятия, где я гнула спину по шестнадцать часов в день, чтобы заработать три доллара в неделю…
— К чему все это? Ты считаешь, что я не должна была ходить в колледж? Многие мои однокурсницы сейчас работают. Я сделала то, что ты хотела, как я считала, ничего больше…
— Милая, конечно, мы хотели, чтобы ты училась в колледже. Мы с папой хотели, чтобы наши дети получили все то, что не могли получить мы. Вот почему я не хочу, чтобы ты погубила свою жизнь в девятнадцать лет в этом Содоме.
Марджори с горячностью привела довод о том, что ей нужна была практика, чтобы стать актрисой, а ее она могла получить в «Южном ветре». Но раздражение миссис Моргенштерн было не унять.
— Актрисой! Вы только поглядите! Хорошего мужа и детей — вот чего тебе захочется через пару лет, милая, как только тебе надоест слоняться по Бродвею, как бродяга. — Заметив рассерженный взгляд дочери, она поспешно добавила: — Может быть, я ошибаюсь, может быть, ты вторая Этель Бэрримор. Хорошо. Предположим, что это так. Разве Этель Бэрримор обязательно было ехать в такое место, как «Южный ветер»? Когда ей было девятнадцать, таких мест еще не существовало. И все-таки она стала великой актрисой.
Наткнувшись еще на пару-тройку подобных аргументов, которыми с бесконечной изобретательностью действовала в спорах миссис Моргенштерн, Марджори сказала:
— Ну, я не знаю, что ты можешь с этим сделать. Я еду, и тут уж ничего не попишешь.
— А если я запрещаю тебе?
— Бессмысленно. Мне нужно думать о карьере. Я не могу ее бросить только из-за того, что у тебя какое-то дикое представление о взрослых лагерях.
Миссис Моргенштерн глядела на нее с молчаливым удивлением и оттенком невольного уважения. Она привыкла к гораздо большему шуму и крикам, без которых не обходилась Марджори в подобных диспутах. Относительно спокойная решимость — это было что-то еще, что-то новое. Она осторожно добавила:
— Папа скажет тебе то же самое, что и я.
С той же осторожностью Марджори ответила:
— Думаю, я могу поговорить с ним. С тобой не могу.
— А если он скажет нет?
— Я поеду в «Южный ветер».
— В любом случае?
— В любом случае.
— Понимаю. А потом?
— Что потом?
— Ты все еще должна окончить школу.
— Я знаю.
— Ты думаешь вернуться домой, есть нашу еду, мы будем покупать тебе одежду, как будто ничего не случилось?
— Так что же, мама, ты предлагаешь мне никогда больше не переступать порога этого дома?
После недолгих колебаний миссис Моргенштерн сказала:
— Что ж, ты говоришь, что ты независимая женщина с собственной карьерой, о которой должна думать. Тебе не нужны наши советы, наши наставления. Ты не должна нуждаться и в нашей поддержке.
Марджори долгим взглядом посмотрела на мать, ее лицо побледнело. Она ничего не сказала, но вдруг медленно начала улыбаться.
— Чему ты улыбаешься? Расскажи мне эту шутку.
В голосе миссис Моргенштерн слышалась едва заметная неуверенность.
Марджори чувствовала себя пленником, который, прислонившись к двери своей темницы, вдруг попадает в солнечный свет, на свободу.
— Нет, мама, — проговорила она. — Мне не нужна ваша поддержка. Помнишь, как ты сказала, что если я не буду осторожной, то могу оказаться полезной? Я уже полезна. Я печатаю на машинке. Я беру уроки стенографии. И выгляжу я неплохо. Я стою пятнадцати долларов в неделю на свободном рынке. Это не состояние, но девушки живут на это, Бог знает, по всему городу. Дай мне знать, когда ты захочешь, чтобы я съехала, мама.
Мать уставилась на нее, не отрывая взгляда. Марджори дала ей минуту, чтобы придумать ответ. Ответа не было. Она нежно похлопала ее по руке.
— Я хочу есть, мамочка, — сказала она, — пожалуй, пойду умоюсь.
Она вышла из гостиной, как будто сошла со сцены, медленной величественной поступью, слыша призрачные крики и аплодисменты от ее многочисленных вторых «я».
14. Марджори в «Южном ветре»
Марджори приехала в «Южный ветер» одним прелестным июньским днем.
Там ее не ждал шериф с судебной повесткой, чтобы отправить обратно в Нью-Йорк; и когда в своем бунгало (его раньше занимала Карен Блер) она открыла чемодан, то оттуда не выпрыгнула миссис Моргенштерн. Ни то, ни другое происшествие не заставили бы девушку задрожать от страха. Поражение ее матери в первой стычке по поводу «Южного ветра» было временным; она пустила свои силы на бесконечные придирки, уколы, упреки, помехи, только для того чтобы сдаться со странной неожиданной покорностью за неделю до отъезда Марджори. Она проводила девушку до поезда в превосходном настроении и даже на прощание, когда Марджори уже стояла на ступеньках вагона, крикнула ей стандартную шутку:
— Не делай ничего того, что я не стала бы делать!
У Марджори был стандартный ответ:
— Спасибо, постараюсь не загубить свою душу, — но не от чистого сердца, так как она думала о том, что за чертовщина была на уме у матери.
Миссис Моргенштерн от природы была настырной и всегда боролась до победного конца, и ее смирение философа казалось дочери чрезвычайно подозрительным.
Тем не менее, хотя Марджори не верилось в это, она очутилась в «Южном ветре». Она распаковала вещи, все еще ожидая телеграмму, телефонный звонок, внезапный поворот событий, который бы заставил ее вернуться домой. Ничего не случилось. Она пошла вниз к общему залу с книгой под мышкой, чувствуя себя в безопасности и торжествуя все больше, по мере того как проходила каждая четверть часа, и в баре она купила пачку сигарет в первый раз в своей жизни. Ей все еще не нравилось курить, так что она выбрала сигареты с ментолом, как у Уолли, и, шагая по дорожке и выпуская клубы дыма, она чувствовала себя взрослой и значительной.
Ее приподнятое настроение было несколько испорчено неопрятностью лагеря. Увидев его в июне при дневном свете после ненастной погоды и зимней заброшенности, она не ощутила того очарования, лучи которого заворожили ее год назад при лунном свете. Фонтан в центре заросшей травой лужайки был сух. Ржавая железная трубка торчала на фут в высоту на потрескавшемся бетонном основании, которое пятнами заросло зеленым мхом. Все здания нуждались в покраске. Белый цвет превратился в грязный серый с ржавыми полосками, а позолота по большей части облупилась, обнажив олово или дерево под собой. Трое загорелых парней в свитерах и плавках красили в красный цвет поблекшие каноэ. Все казалось меньше — здания, лужайка, фонтан, озеро, дубы, — все. В ее зимних видениях лужайка представлялась ей общественным парком, дубы возвышались, как одряхлевшие монархи, общий зал был великолепным сооружением, чудесным образом перенесенным из Радио-города; она искренне вспоминала их такими. Но лужайка имела обычные размеры лужайки при хорошем отеле, деревья были просто деревьями, а общий зал был чем-то вроде большого сарая с франтоватой модерновой чепухой на крыше, которая сильно нуждалась в повторном оштукатуривании.
Но там был Эрман собственной персоной, он выходил из конторы! Худющий, золотоволосый, длинноногий, в черном свитере, который казался его должностной принадлежностью, он, по крайней мере, среди всех прелестей «Южного ветра» сохранил свой первоначальный блеск. Он заметил Мардж и направился к ней.
— Привет, Марджори. Добралась наконец-то?
— Примерно полчаса назад, Ноэль.
— Хорошо. Добро пожаловать.
— Спасибо. — Ее лицо застыло в улыбке. — Как насчет шоу в этот уик-энд? Я не могу чем-нибудь помочь?
— Нет, все устроено. Так, чепуха для разминки, старое ревю — здесь не будет и двух сотен посетителей. Есть еще сигарета? — Но когда она протянула ему пачку, он отказался. — Боже милостивый, и ты тоже? Ты и Уолли. У младшего поколения определенно дурные вкусы. — Он показал на книгу. — Что ты читаешь?
Она сразу протянула ему «Республику» Платона, радуясь возможности загладить свою ужасную ошибку — покупку любимых сигарет Уолли.
Она в самом деле читала «Республику». Вскоре после того, как Билли Эйрманн сообщил ей, что его брат интересуется философией, она обнаружила, что берет в библиотеке книги по философии. Ей казалось совершенно естественным делать это, абсолютно так же, как, когда ее кумиром был Джордж Дробес, выбрать биологию своим главным предметом в колледже. Теперь биология была для нее смертельно скучной, а Платон и Джон Дьюи стали необыкновенно интересны и удивительно легки для чтения.
Эрман наморщил нос и посмотрел на книгу и на нее.
— Чем это ты занимаешься, готовишься к следующему семестру?
— Нет, я просто читаю.
— Просто читаешь Платона?
— Верно.
— Ты сошла с ума! Почему бы тебе не приняться за приличный детектив?
— Я бы не прочь. Да только мне кажется, что я уже все их прочитала.
Он потер локоть, улыбнувшись ей с оттенком интереса.
— Ты видела недавно моего брата Билли?
— Я не вижусь с твоим братом Билли! — Это прозвучало слишком резко, но его добродушный тон ударил по ее нервам. — Я хочу сказать, что несколько лет назад, когда я была первокурсницей, мы были в одной компании. Вот и все.
Он провел согнутым пальцем по губе, внимательно глядя на нее.
— Может быть, мы используем тебя в шоу, если так. Пойдем-ка.
Большинство состоящих в штате лагеря были все те же люди. Карлос Рингель, растолстевший, с лицом, похожим на тесто, вперевалку ходил по сцене, покрикивая на кого-то за кулисами, и этот кто-то кричал на него в ответ. Актеры сидели тут и там прямо на полу зала, одетые в свитера и брюки, некоторые девушки вязали. Пара, исполнявшая дикарский танец в прошлом году, теперь топталась около пианино, танцуя индийский танец. Пианист был тот же самый, казалось, он жевал ту же сигару и так же нуждался в бритве. Ноэль представил ее всем под именем Марджори Моргенштерн, и у нее не хватило храбрости поправить его. Потом он подвел ее к пухлому человечку с крошечными подвижными ручками, которого звали Падлс Подел, — комик, обменивавшийся с Машей жуткими грубыми шутками в баре год назад. Падлс отвел Марджори на заднее крыльцо здания и научил ее пародийному скетчу под названием «Пятьдесят фунтов штукатурки».
— Это такая история про гостиницу, — сказал он, показывая ей сцену с тысячей едва уловимых движений рук, — просто говори, что взбредет в голову. «У нас медовый месяц, видите — тра-ля-ля — разве это не чудесная свадьба, тарам-парам, наконец-то мы сможем побыть одни, тра-ля-ля»…
Соль шутки заключалась в последних двух строчках. Молодожены возмущенно выбегали на сцену, вероятно, из номера для молодоженов, чтобы пожаловаться портье.
— Что случилось с этим отелем? — должна была сказать Марджори. — Потолок в нашем номере обвалился. Только что пятьдесят фунтов штукатурки упали мне на грудь.
После чего Падлс говорит:
— Черт подери, точно, а если б он обвалился на две минуты раньше, он сломал бы мне спину.
Когда Шутка была произнесена, Марджори покраснела до ушей и разразилась хохотом. Комик замолчал и уставился на нее.
— Ты что, смеешься над шуткой?
Они сыграли скетч на танцевальной площадке для Ноэля, который сгорбился на складном стуле.
— Пожалуй, она справится, — сказал Падлс Ноэлю. — Как ты думаешь?
Ноэль кивнул.
— Марджори, «Пятидесяти фунтам штукатурки» далековато до «Кандиды», но никто не может сказать, что ты не на своем месте. Попробуйте на сцене, Падлс.
Уолли Ронкен появился в общем зале как раз к началу номера и уселся на корточки около стула Ноэля. Почти сразу он принялся что-то серьезно говорить Ноэлю, который выслушал, пожал плечами и поднял руки.
— Остановитесь-ка… Марджи, ты возражаешь против того, чтобы участвовать в этом номере?
— Возражаю? Почему? Нет.
— Не в том дело, Ноэль, — сказал Уолли. — Это не смешно, когда она там, вот в чем дело. Она выглядит слишком хорошенькой на сцене, слишком естественной.
Падлс подошел к рампе.
— Это и меня беспокоит, Ноэль. Мы всегда использовали стриптизерш в этом номере. Марджи похожа на младшую сестренку или что-то в этом роде. Это убивает шутку.
Сверкая глазами на Уолли, Марджори воскликнула:
— Слушайте, я с восторгом сделаю это, пожалуйста, давайте продолжать!
Ноэль покачал головой, зевая.
— Сегодня я не слишком сообразителен. Спасибо, Уолли. Ты выходишь из игры, Марджи, извини. Для этой бессмертной сцены мы подыщем кого-нибудь другого.
Она прошествовала со сцены и вон из общего зала, униженная, рассерженная. Когда Уолли попытался заговорить с ней, она резко оборвала его.
Было всего четыре часа, еще два часа до ужина, и делать ей было нечего. Она пошла в контору, надеясь пригодиться там. Но там она обнаружила жуткий хаос: нагроможденная мебель, разбросанная бумага, грязная одежда, банки с краской и стремянки. Контору перекрашивали в зеленый цвет, от которого пахло рыбой. Грич носился туда-сюда без пиджака, его лицо было измазано зеленой краской, он то хватался за телефон, то орал на маляров. Когда он увидел Мардж, то завопил:
— Убирайтесь, убирайтесь, на вас нет времени, вы здесь не нужны! Выметайтесь! Зайдите в воскресенье! Не приходите больше сюда!
Марджори побрела по извилистой дорожке за столовую к теннисным кортам, думая о том, что ее первый день в лагере не мог бы быть хуже, даже если бы ее мать собственноручно подстроила каждую деталь. Она была лишь помехой в пейзаже; больше того, она была Марджори Моргенштерн — заклейменная, получившая ярлык навсегда, и все за несколько секунд. Ее раздражение и злость сосредоточились на Уолли Ронкене, она чувствовала себя способной не разговаривать с ним все лето. Она закурила еще одну сигарету, но та напомнила ей о Уолли, и в любом случае вкус у нее был ужасный. Мардж выбросила ее после одной затяжки.
В этот миг она увидела дядю.
Он нес ведро с мусором, спускаясь по деревянным ступенькам с заднего крыльца кухни. Она немедленно узнала его, хотя на нем была униформа столовой: небольшой белый колпак, белая рубашка, штаны и удивительно грязный фартук. В мире не могло быть двоих людей с таким пузом; кроме того, когда она замерла в изумлении, глядя, как он вываливает мусор, она еле-еле расслышала, как он напевает песню, под которую они танцевали с ножкой индейки в руке.
— Дядя! Дядя, Бог ты мой, здравствуй! — Она побежала к нему через маргаритки и высокую траву. — Что такое ты здесь делаешь, дядя?
— Хавайя, Моджери! Погоди, я к тебе подойду! Здесь не самый приятный запах. Погоди, я уже иду.
Она остановилась на полдороге. Он приближался, широко улыбаясь, вытирая красное лицо носовым платком.
— Удивилась, а?
— Удивилась? Да я ошарашена…
— Моджери, будем держать это в секрете, а? Маленький секрет для Моджери и дяди. Лучше мы не будем говорить твоей маме, а то она станет поднимать большой шум. Я скажу тебе, милая, на площадке для гольфа было слишком одиноко. Здесь веселее, славные малые, полно еды — работа тяжелая, да что такое работа? Я заработаю кучу денег, не как на площадке…
— Площадке для гольфа? — сказала она, все меньше и меньше что-либо понимая. — При чем тут какие-то площадки для гольфа? Почему ты здесь?
Дядя улыбнулся жалобно, открывая черный проем в зубах.
— Ты пришла, чтобы найти меня у площадок для гольфа, нет? Твоя мама думает, я все еще там. Мы не будем говорить ей ничего другого, зачем она должна знать, что я мою посуду?
После того как Марджори задала ему не один вопрос, наружу выплыло, что миссис Моргенштерн устроила дядю смотрителем в «Южный ветер» примерно за неделю до отъезда Марджори. Это объяснило ее внезапное загадочное добродушие. В конце концов, ей удалось засунуть в Содом хоть какого-нибудь соглядатая при своей дочери. Грич взял дядю без жалованья (и миссис Моргенштерн должна была оплатить и проезд до лагеря) кем-то вроде дворника и смотрителя за площадками для гольфа. Но потом уволились двое посудомойщиков. Грич предложил заняться ему кухонной работой за двадцать пять долларов в неделю, и он с радостью согласился.
Очень медленно до старика дошло, что Марджори вообще была изумлена, когда обнаружила его в лагере.
— Что? Она ничего тебе не сказала? Разве такое возможно?
— Она не сказала, дядя. Ни слова. Клянусь, на минуту мне показалось, что я вижу привидение.
— Славное толстое привидение, а? — он покачал головой. — Вот так так! Ты разочаровалась чуть-чуть, нет? Старый толстый дядя у тебя под боком, а? Вроде холеры, так он тебе нужен. Плохо, Моджери, ты уж прости меня, — твоя мама очень умна…
— Дядя, в самом деле, мне все равно…
— Слушай, Моджери, мама остается Мамой, тут она ничего не может поделать. Ей все кажется, что здесь — пятничный вечер в Бронксе и дяде надо смотреть за ребенком. Ну так что? Ты думаешь, я испорчу тебе все удовольствие, Моджери? Повеселись хорошенько, милая, что я знаю? Я занят на кухне.
Она с беспокойством смотрела на его руки. Когда он махнул рукой, она схватила ее.
— Дядь, в чем дело? Что это такое?
На его толстых пальцах было несколько открытых маленьких ранок. Они не кровоточили и не заживали. Они были похожи на рты, открытые, сухие и красные.
Со смехом Самсон-Аарон отнял свою руку.
— Когда моешь посуду, нетрудно порезаться. Посуда разбивается. Мыло попадает в ранки, и они не заживают, ну так что? Ты перестаешь мыть посуду, и они заживают.
— Мне не нравится, как они выглядят. Ты ходил к врачу?
Марджори не сводила глаз с ранок.
— Моджери, пожалуйста, это ерунда. — Он отвел обе руки за спину. — Не будь, как твоя мама, всегда одни вопросы.
— Я просто не знаю, надо ли тебе этим заниматься.
— Что, я опозорю тебя? Дядя Моджери — Сэм-посудомойка? Я никому ни слова не скажу, положись на дядю.
Она обняла его за шею.
— Не то. Ты… Это тяжелая, грязная работа, ты понимаешь…
— Ну и что? Не мыл я разве посуды? Я мыл посуду, когда тебя еще на свете не было. Что это такое? Смотритель, дворник, такая работа не по мне. Работа для стариков, для калек. Я силен, как лошадь… Погоди, я тебе кое-что покажу. — Он сунул руки под фартук, вытащил потертый засаленный бумажник и достал из него фотографию. — Ты уже видела жену Джеффри? Вот, посмотри на куколку, на милую…
Джеффри был женат уже шесть месяцев. Фотография запечатлела его стоящим на крыльце крохотного домика и обнимающим одной рукой тонкую девушку в туфлях без каблуков и домашнем платье. Она щурилась от солнца, и ее волосы были гладко зачесаны назад и собраны в простой узел, так что Марджори не могла составить себе представления о ее внешности. Джеффри, потолстевший и полысевший, с бутылкой в руке, глупо ухмылялся, выпятив грудь.
— Она просто прелесть, дядя. Как ее зовут?
— Сильвия. Ее отец — доктор в Олбани, большой специалист. Знаешь, что? Она называет его Милтоном. Говорит, это ему больше подходит, чем Джеффри, благослови ее Бог. Куколка, правда? — Он снова показал черный проем, счастливо улыбнувшись, странным образом походя на Джеффри, и понизил голос: — Моджери, в октябре у них уже будет ребенок.
— Это чудесно.
— Теперь ты понимаешь, зачем я мою посуду, может быть? Почему я должен брать деньги у Джеффри, когда они нужны ему самому? Я посылаю их обратно! Будет октябрь, тогда я сам пошлю ему деньги. Для младенца, подарок. Ребенок должен спать в самой хорошей колыбели, которую можно купить за деньги. Детская кроватка из помойного ведра Самсона-Аарона. Хорошая идейка, а?
Из кухни послышался рев:
— Эй, Сэм, старый болван, ты что, голову потерял?
— Ладно, ладно!.. — закричал дядя. Он хихикнул. — Это Пол, другой посудомойщик. Славный малый, венгр. Ну так что? — Он погладил Марджори по щеке. — Иногда я буду тебя видеть, Моджери, а? У меня есть секрет, ты не скажешь маме, и я не скажу ей твои секреты. По рукам? Иногда я тебя буду видеть, когда никто не смотрит. — Он заковылял в кухню, крича: — Что такое, Пол, ты мыл большую тарелку и сломал свою спину?
Марджори направилась мимо конторы прямо к общественным телефонным будкам в главном здании и позвонила своей матери. От едкого запаха свежей краски у нее на глазах выступили слезы. В соседней кабинке мистер Грич время от времени принимался кричать и нечленораздельно ворчать на свою секретаршу в Нью-Йорке. Оператор сказал Мардж, что все нью-йоркские линии заняты. Она вышла на крыльцо, чтобы подышать свежим воздухом, пока ждет. На небо набежали тучи, влажный ветер покачивал ветви дубов, и в воздухе чувствовался запах дождя. Марджори удрученно уселась на ступеньки крыльца, положив подбородок на руки.
Все волшебство улетучивалось из «Южного ветра», как воздух из проколотой шины. Ей нравился Самсон-Аарон, нет, она любила его, старого обжору. Но появление в «Южном ветре» родственного лица омрачило свет дневной. «Южный ветер» в воображении Марджори был новым чистым миром, миром, где грязное детство в Бронксе и неуклюжая юность в колледже забывались, как старые сны, миром, где она могла наконец-то найти себя и быть собой — чистой, новой, независимой, без родительской опеки. Словом, это был мир Марджори Морнингстар. Испарившегося очарования лагеря, собственного скромного положения, неудачи с именем — этого уже было достаточно. И вот появляется еще и дядя, таща за собой длинную цепь старой жалкой реальности. Она почти чувствовала тяжесть этой цепи, она почти ощущала холодные кандалы на своих щиколотках, скованные невидимой длинной рукой ее матери. Это было невыносимо.
— Опять дождь, что ж ты будешь делать! — проворчал мистер Грич, выскакивая на крыльцо, заставив Марджори подпрыгнуть от неожиданности.
Он стоял прямо позади нее, хмурясь пасмурному небу, хлопая фонариком по ладони, теперь он, как и в прошлом году, казался вылитым сатаной. Воздух «Южного ветра» творил что-то с мистером Гричем.
— Когда, черт его подери, я выкрашу все эти дома? Вы понимаете, что у нас шел дождь две недели, не переставая? — Он проревел это последнее замечание прямо в лицо Марджори.
— Мне очень жаль, — сказала она.
Он посмотрел на нее, заморгав, как будто это заговорил камень.
— Что? Что вы сказали?
— Мистер Грич… прошу прощения, мне ужасно не хочется беспокоить вас… это мелочь…
— Что, что?
— Мой дядя, он моет посуду, как я понимаю.
— Кто? Ах, да, старый Сэм. Ну, конечно, он скорее захочет заработать двадцать пять долларов в неделю, чем ничего не заработать. Да и я тоже, ей-богу, но похоже, что в этом сезоне мне это не удастся.
— Это просто… ну, это тяжелая работа.
— Разумеется. Именно поэтому я и плачу ему.
— Он… в общем, он старый человек.
— Ну и что все это значит? Слушай, твоя мать сказала мне, что он сильнее меня. Он не прикован к кухне. Он ухватился за эту работу обеими руками. И, кажется, он весьма и весьма преуспевает. Вообще-то кухарка говорит мне, что он ест за десятерых. Я собираюсь поговорить с ним по этому поводу и заметить, что моя кухня еще не превратилась в ферму по откормке свиней. Так насчет чего ты беспокоишься? Что тебя так волнует?
Обращаясь к ней, он каждый раз тыкал в нее фонариком.
Его голос и взгляд заставили ее поежиться.
— Ну, я просто подумала… я не знаю… я считаю, что если бы это была его идея…
На этом она окончательно сбилась с мысли. Грич ушел от нее в офис.
Через несколько минут ей сообщили, что ее соединили с абонентом. Когда Марджори, держа телефонную трубку в руке, ожидала услышать голос матери, в ее голове промелькнула мысль: если я буду возмущаться, что она послала сюда дядю, не сообщив мне об этом, она скажет: «В чем дело, ты собираешься заняться там чем-то таким, о чем тебе совсем не хочется говорить с нами?»
Марджори попыталась подыскать достойный ответ, но в это время в телефонной трубке раздался голос матери. Уверив ее, что она была в полном порядке, а лагерь замечательным, Марджори сказала:
— Ну и сюрприз приготовила ты для меня!
— Какой сюрприз? — вкрадчиво спросила миссис Моргенштерн.
— Самсон-Аарон.
— А, дядя. Как он там?
— Просто замечательно.
— Это хорошо. Передай ему привет от моего имени.
— Не думаешь ли ты, — немного помолчав, произнесла Марджори, — что могла бы и сказать мне о его приезде сюда?
— Разве я не сказала?
— Конечно, нет.
— Ну, вообще-то да, я думаю, это было на той неделе, когда ты была поглощена экзаменами. Но ведь ты не возражаешь против того, что он живет там, не так ли?
— Мне кажется, немного поздно спрашивать об этом.
— В чем дело, — спросила миссис Моргенштерн, — ты собираешься заняться там чем-то таким, о чем тебе совсем не хочется говорить?
— Я уже сделала это, — ответила Марджори. — С марта у меня была любовь с мистером Гричем. Как ты думаешь, почему я устроилась на работу?
— Не будь слишком умной.
— Он моет посуду.
— Кто?
— Дядя.
— Что?! Он? Он ведь сторож.
— Уже больше не сторож. Он зарабатывает деньги, моя посуду. Хочет купить хороший подарок для своего внука.
Наступило молчание.
— Ну, — наконец выдавила из себя миссис Моргенштерн, — как я вижу, все это очень хорошо. Твой дядя моет посуду. Я напишу ему и попрошу опять стать сторожем.
— Оставь его в покое! Ты неуемна, мама!
— А что ты так разнервничалась? Скоро ты будешь рада, что дядя там.
— Я уверена, что именно поэтому ты и сделала это, мама, — чтобы найти мне жилье.
— Чего ты хочешь от меня, Марджори? Почему ты позвонила? Ты хочешь, чтобы я написала ему и попросила вернуться домой? Скажи «да», и я так и сделаю, вот и все.
Марджори несколько минут пыталась найти выход из сложившегося тупикового положения. В любом случае ей будет очень тяжело заставить дядю покинуть «Южный ветер» после того, как он оказался здесь. Сейчас, когда она увидела его гордость и удовольствие от зарабатывания денег, она понимала, что это невозможно.
— Спасибо, мама, я ничего не хочу. Я подумала, тебе будет интересно узнать, что он в порядке и что я тоже в порядке, и все так хорошо, словно лучше и быть не может.
— Твои слова не могут не радовать меня, дорогая.
— Замечательно. Передай папе, что я его люблю.
— Передам. До свидания. Не делай ничего, и я тоже не буду ничего делать.
— Спасибо, мама, это дает мне свободу действий. До свидания.
Проигран еще один раунд.
Но почему-то Марджори почувствовала, что привыкла к двум неприятным и очень нежелательным фактам: что она все еще была Марджори Моргенштерн и что она, скорее всего, не сможет очаровать Ноэля (по крайней мере в ближайшее время); она прекратила волноваться по этому поводу и стала наслаждаться «Южным ветром». Мардж редко видела дядю, и если они случайно сталкивались друг с другом, то улыбались и обменивались несколькими приятными словами, но не более того. Ей все еще очень нравилось смотреть через озеро на детский лагерь по утрам и чувствовать, насколько же она повзрослела за последний год. На репетициях шоу всегда было весело, даже если она только махала ногами вместе с другими девушками из конторы, и больше ничего. Кроме того, неплодотворная работа в офисе начала приносить ей определенное удовольствие. Она поддерживала на своем столе чистоту и строгий порядок, слышала одобрительное ворчание Грича, когда быстро и без ошибок отпечатывала письма, и это ей нравилось, причем она сама не знала почему.
Лагерь с каждым днем становился все лучше и лучше. Погода тоже была очень хорошей. К первому июля, после ясной и солнечной недели, трава стала бархатно-ровной, здания сверкали белизной и позолотой, а вокруг бегали шумные веселые люди в летних одеждах карнавальных цветов. Это была разношерстная группа молодых ньюйоркцев; несколько девушек говорили с нелепым бруклинским или бронксовским произношением, а многие мужчины были слишком грубыми, но большинство было точно такими же молодыми людьми, которых она знала всю жизнь. Они ели, танцевали, пили и играли во все виды спорта с большим энтузиазмом. Пища, которой их кормил Грич, была любопытной смесью традиционных еврейских деликатесов — соответствующе приготовленная рыба, фаршированная голова, измельченная куриная печенка, и блюда, к которым евреи испытывали отвращение, — устрицы, копченая свиная грудинка и ветчина. Гости поглощали с большим аппетитом и те и другие кушанья. Марджори приходилось вытаскивать бекон из яичницы на протяжении всей первой недели, пока официант наконец не привык к ее старомодным привычкам.
Если «Южный ветер» и был Содомом, то он был весьма жизнерадостным Содомом на лоне природы, где теннис, гольф, шашлыки и румба заменили более классическую и скандальную распущенность. Марджори замечала множество целующихся и обнимающихся пар в каноэ и рядом с главным залом, в лунном свете, но в этом не было ничего удивительного. Быть может, на этой земле совершались ужасные грехи, но во всем «Южном ветре» она не увидела ничего действительно плохого. Все было прозаичным и не очень интересным. Примерно после недели работы здесь она потеряла всякий интерес к гостям. Они были мельканием знакомых лиц, частью ее окружения — как озеро, деревья, облака; были дополнением к жизни, протекавшей среди персонала.
Четвертого июля, в уик-энд, в «Южный ветер» приехал исполнитель эстрадных песен Перри Бэрон, чтобы поучаствовать в развлечении отдыхающих. Он был своего рода второклассной знаменитостью, довольно красивым и неряшливым. Ему было около тридцати пяти лет. Перри имел «кадиллак» с откидным верхом, большое пальто из верблюжьей шерсти с белыми жемчужными пуговицами и весьма ограниченный кругозор. Бэрону почему-то очень понравилась Марджори, с первого взгляда, когда он увидел ее за регистрационным столиком в конторе лагеря. На протяжении всего уик-энда он ухаживал за ней, танцевал с ней, плавал вместе с ней на каноэ, туда и сюда возил на своем желтом «кадиллаке» и представил ее Эрману как девушку, для которой он будет петь на концерте. Но самое большое впечатление на Марджори произвело то, что он послал в Нью-Йорк за двумя дюжинами роз, которые были доставлены ей в пятницу вечером на грузовике, проехавшем более сотни миль. Если бы она не была влюблена в Эрмана, то все это могло бы покорить ее сердце. Но ей, хотя она и была польщена, было скучно. Но поскольку Бэрон обращался с ней как с дамой из высшего света, и так как было очевидно, что ее положение в лагере становилось все значительнее день ото дня, она была с ним обходительной и относилась к его экстравагантным ухаживаниям с максимальной снисходительностью.
Уолли Ронкен по-настоящему страдал от этих ухаживаний. Он хмурился, мрачнел, печалился и напивался; он перестал писать и больше не приходил на репетиции. Смущенная этим Марджори попыталась помириться с Уолли, хваля его работы, прося его потанцевать с ней, и так далее, но он отвергал все в приступе байроновской гордости.
В конце субботней дневной репетиции Эрман спокойно подошел к ней, когда она надевала свитер.
— Убегаешь на обед? А как насчет того, чтобы выпить перед этим?
— Обожаю выпивку.
Она была рада, что свитер скрыл ее лицо и приглушил возбужденные нотки в голосе. Вплоть до этого момента он не обращал на нее никакого внимания, даже на репетициях, если не считать, что он двигал ее по сцене как стул или давал указания, обращаясь к ней ничего не значащим словом «дорогая», заменявшим ему имя любой актрисы.
Они сели вдвоем у окна. Заходящее солнце бросало густые красные и желтые отблески на фиолетовое озеро. Фонари еще не зажглись, и полупрозрачная дымка скрывала поляну и белые здания.
— Лучшее время дня, — пробормотал он, сделав большой глоток из фужера.
Потом он некоторое время молчал и смотрел на нее с ироничной улыбкой. Она подумала, что Эрман был значительно выше ее; тем не менее, его неправильной формы рука, неуклюже лежавшая на столе, вызывала в ней жалость и сострадание.
Ноэль, кажется, заметил, что она глядит на его локоть. Он откинулся назад и сложил руки на груди. На нем был черный свитер, подчеркивавший его худобу.
— Я думаю, ты знаешь, что Уолли сжигает свое сердце.
Она промолчала.
— Я живу по соседству с ним, — добавил он. — Он приходит домой шатаясь, и мне приходится выслушивать его стоны. После брата Билли это своего рода повторение.
Марджори вытащила сигарету из пачки, лежавшей на столе, и зажгла ее, на мгновение осветив комнату желтым светом.
— Молчишь, Марджори?
Она выдохнула табачный дым и уставилась на него.
— Ты признаешь, — сказал он, — что желтый «кадиллак» и розы, привезенные из Нью-Йорка, полностью исключают конкуренцию мальчика из колледжа. Но все не так, и ты знаешь это. Уолли стоит десяти Перри Бэронов. Бэрон — дурак, не больше чем блеклая копия Кросби. А у Уолли есть талант. Ты не должна позволять ослепить себя только потому, что он бросает на ветер несколько заработанных долларов. Все певцы такие.
— Ноэль, извини меня, но тебе-то какое до этого дело?
Его глаза расширились и сверкнули.
— Это вопрос морали персонала. Уолли мне нравится. Более того, он написал несколько действительно замечательных работ, чем немало облегчил мне жизнь. Я не хочу, чтобы он терял присутствие духа.
— Понятно.
Они некоторое время помолчали, и затем Марджори продолжила:
— Я думаю, будет лучше, если я наведу тебя именно на ту мысль, которая, кажется, засела у тебя в голове.
Она медленно затянулась. Он больше не лишал ее присутствия духа; он стимулировал ее. Она почувствовала, что подошла к крутому повороту в своей жизни и что хорошо впишется в этот поворот.
— Мне тоже нравится Уолли. И я также знаю, что я очень сильно нравлюсь ему. Сейчас это не привело пока ни к чему хорошему, но у меня в свое время часто случалось такое, и я уверена, что Уолли преодолеет эту трудность. Но больше всего меня озадачивает твое мнение, что между ним и мною был какой-то роман. Это несколько раздражает меня. Ноэль, я старше Уолли более чем на год. Ему восемнадцать с половиной лет, а мне уже почти двадцать. А насчет Перри Бэрона — он обладает всеми самыми лучшими качествами, которыми обладаешь и ты. И если уж разговор зашел об этом, то я не знаю, кто из вас дурак.
У него был удивленный вид; затем он рассмеялся низким довольным смехом.
— О'кей! Уолли восемнадцать с половиной лет, тебе вот уже почти двадцать. Как я догадался, ты считаешь, что вы — ты и он — люди разных поколений. Но слушай, ты же была на открытии шоу Уолли вместе с ним…
— Конечно. Он попросил меня, и я была горда, что меня пригласили. Я, как и ты, восхищаюсь им, он исключительно умный человек. С того времени я всего лишь несколько раз видела его. Я могу позавидовать той девушке, которую он действительно полюбит и на которой когда-нибудь женится, но я очень хорошо знаю, что это не я. Он тоже узнает об этом, причем довольно скоро. Может, на следующей неделе, как говорит мне мой опыт. Я справляюсь с такими потрясениями значительно быстрее.
Он одобрительно кивнул, оперся локтем о спинку стула и провел костяшками пальцев по верхней губе.
— Хорошо, Марджори. Я рад, что мне удалось поговорить с тобой. Я буду менее сострадательным, когда Уолли опять начнет стонать. Хотя, честно говоря, по сравнению с ним ты заметно прибавила за последний год, он пока только проклевывается из яйца. Со многими девушками происходит то же, что и с тобой, но ты изменилась очень сильно. Я больше не буду докучать тебе описанием достоинств Уолли и извиняюсь за комментарии о Перри Бэроне. О'кей? Давай поужинаем.
— О'кей.
Когда они встали, он повернулся к ней:
— Я хочу надеяться, что ты не решишь, даже несмотря на то, что тебе уже почти двадцать лет, что Бэрон — бог грозы, сошедший на землю. Такие вещи, Господь знает, случаются слишком часто. Он действительно не более чем обыкновенный слизняк, медуза-переросток, умеющая петь и бриться. Я просто не могу смотреть, как красивую девушку уводят на взятом напрокат желтом «кадиллаке».
Они проходили позади пианино. Он остановился у клавиш и взял аккорд; затем сел на стул, и его пальцы быстро забегали, издавая мягкие чарующие звуки.
— Я скажу тебе кое-что, Марджи. Самая красивая и умная девушка из всех, которых я знал, бросилась на шею слабоумного животного с четырьмя конечностями, позирующего в человеческих одеждах, потому что он мог делать две вещи — хорошо танцевать румбу и плохо относиться к ней. Все другие мужчины, которых ей приходилось встречать, падали у ее ног. Его отличие состояло в пикантной новизне. Он был таким серым, а его вкусы такими грубыми, что он почти не думал о ней. Но она не отставала от него и заставила жениться на ней, и сейчас его отец поддерживает их обоих, позволяя своему сыну управлять несколькими чистками. Она могла быть женой посла, сценариста, сенатора или другого уважаемого человека. Она сделала это, руководствуясь мудростью почти девятнадцати лет. Без сомнений, мудрость почти двадцати лет — это совершенно другое дело…
Он ударил по нескольким клавишам, затем, после мгновения тишины, начал играть один из своих вальсов, сентиментальная мелодия которого очень нравилась Марджори. Несколько минут она стояла позади него, слушая музыку. Затем тихо сказала:
— Она, вероятно, была той, которая тебе очень и очень нравилась.
— О да, ты права, — ответил Ноэль, продолжая играть и не поднимая глаз, — я, по сути дела, очень и очень люблю ее. Это моя старшая сестра Моника. Сейчас ей уже тридцать два года и у нее трое детей. Она столь же красива, как и ты, и выглядит такой же молодой.
Когда Марджори оглянулась из дверей бара, Ноэль склонился над пианино, продолжая играть в янтарном мраке. Он, кажется, не подозревал, что она уходит. Но в тот момент, когда она уже выходила, он обронил:
— Подожди.
Он прекратил играть, подошел к ней и прислонился к косяку двери.
— Я ошибаюсь или, когда ты была здесь прошлым летом, ты сказала пару фраз о моих осветительных эффектах?
— Ну, я помню, говорила, что они были просто восхитительными.
— Понятно. Неудивительно, что у меня сохранилось впечатление, будто ты оценила их точно по достоинству. Ну да ладно, не темни, скажи, ты действительно что-то знаешь о свете?
— Я… ну, ты понимаешь, я не более чем персонал лагеря. Но я много чего читала о свете.
— Уолли нужно заняться освещением, а на нем сейчас лежит много письменной работы. Это может быть одной из причин его срыва. Я бы предпочел отстранить его от этого дела, и мне пришло в голову, что ты могла бы помочь…
— Я принимаю предложение, — оборвала его Марджори, — сделаю все, что ты мне скажешь. Слушай, я не могу делать вид, что равнодушна ко всему. Я без ума от световых эффектов, эта идея мне очень нравится.
— Тебе еще надо будет выполнять обязанности в конторе. И танцевать с хором. Это просто дополнительная работа без дополнительной платы.
— Когда начать?
Он улыбнулся.
— Ну, Марджори, скажем, мы испытаем тебя в воскресенье вечером, после того как этот бог штормов покинет нас, о'кей? То есть, если он не унесет тебя в пещеру ветров раз и навсегда.
Во время танцев в воскресенье Эрман подошел к ней.
— Готова? Пойдем за кулисы.
Ей почему-то пришлось приложить некоторое усилие, чтобы заговорить с ним.
— Конечно. Как видишь, я не в пещере ветров.
Он кивнул и слабо улыбнулся.
Они прошли через дверь на сцене и оказались в полнейшей темноте.
— Дай мне руку, — сказал Ноэль.
Его прикосновение в темноте взволновало ее.
— Черт побери, я же приказывал оставлять здесь одну лампу горящей все время. Грич продолжает бродить тут и выкручивать ее…
Он двинулся вперед, осторожно ведя Марджори за собой. Веревка грубо скользнула по ее лицу.
— Берегись, не повисни на этих чертовых шнурах… а вот и пульт. Если я коснусь не того выключателя, то отошли мое тело брату Билли.
Свет заполнил сцену, падая на них через занавески.
— Вот это лучше.
Он отпустил ее руку, но она еще некоторое время ощущала его ладонь, как будто на ее руке была теплая перчатка. Он начал показывать ей выключатели и реостаты и позволил пощелкать ими. Затем он приказал сделать имитацию утра и ночи при помощи выключателей с пометками, указывающими цвета.
— Хорошо! Совсем неплохо!
Хлопнула дверь на сцену.
— Кто и какого черта дурачится с выключателями? — донесся крик Уолли, бежавшего по сцене.
Ноэль заговорщически улыбнулся Марджори.
— Успокойся, Уолли. Просто готовлю тебе замену.
— О, извините. Ты повернул не тот выключатель или сделал что-то не то, Ноэль. Одна из розовых ламп над тропинкой…
В этот момент он появился из-за занавеса, увидел их, и его рот раскрылся от удивления. Он стоял не шелохнувшись, держа в руке грязную черную тряпку.
— Привет, Уолли, — сказала Марджори.
— Моя замена? — прерывистым голосом спросил Уолли.
— Ты удивишься. Она многое знает об этом.
Уолли подошел к ней и коснулся ее руки, отрицательно качая большой головой.
— Послушай, Мардж, пожалуйста, не надо. Я никогда не думал, что он пригласит тебя. Я могу заниматься этим. Это грязная, суетливая работа, тебе придется лазать по веревочным лестницам, быть на ногах по нескольку часов.
— Мне это очень нравится, — сказала Марджори. — Я бы ни на что не променяла это.
— Забудь это, — сказал Уолли Ноэлю, — забудь, что я когда-то просил найти мне замену. Я напишу свою работу. И справлюсь с огнями, и отдавать приказы тоже буду я, когда смогу…
— Уолли, — перебила его Марджори, — разве ты не можешь понять, что я на самом деле хочу заниматься этим? Я нахожусь в «Южном ветре», чтобы учиться, равно как и ты.
— Ты ведешь себя, как дурак, Уолли, — сказал Ноэль, — здесь нет ничего особенного. Сейчас ты уже хорошо научился создавать нужное освещение. Пусть она займет твое место. Тебе нужно будет заняться более важными вещами.
Уолли стоял и переводил взгляд с одного на другую. Марджори и Ноэль стояли по обе стороны от пульта управления. Рука Ноэля уходила за ее спину и лежала на выключателе.
— Пожалуйста. Дайте мне заниматься освещением, — ужасно расстроенным голосом попросил Уолли.
— Я займусь этим! — резко сказала Марджори. — Все уже решено!
— Все решено, — повторил Уолли. Он, как животное, вскинул голову и ушел за занавески.
15. Ширли
Вид своей обнаженной груди в свете настольной лампы мгновенно вывел Марджори из состояния полусна, которое охватывало ее. Она села.
— О Господи, что я делаю? Что ты делаешь? Отвернись, пожалуйста, я хочу одеться.
— Я сделаю нечто лучшее, — ответил Ноэль, — я уйду.
Он встал и вышел.
Чертежная доска и наброски плана освещения валялись на полу на том же месте, куда упали. Полено, лежавшее в огне, выкатилось, и его горящей конец дымился. Как только Марджори застегнула пуговицы, она тут же закатила полено кочергой на прежнее место, думая, что, вероятно, поддалась из-за этой комнаты; это место сейчас было самым неприятным для нее местом на всей земле. Камин, грубо сложенный из камней, неотесанные деревянные стены, заставленные книгами; старая люстра под потолком; запах табака, книг, зеленых деревьев и горящих дров — все это смешивалось в единое целое и успокаивало. Медная настольная лампа с красным абажуром, которой они пользовались, бросала круг желтого света на индийский плед, лежавший на кушетке; остальная часть комнаты была мрачной. Холодный синий лунный свет, проходя сквозь окна, делал освещенное огнем место на кушетке еще более уютным.
Марджори думала, пройдет еще немало недель, прежде чем можно будет ожидать, что Ноэль захочет целоваться и обниматься с ней. Это произошло, как короткое замыкание между двумя оголенными проводами. Она опустошила себя вплоть до шокирующей свободы, неизвестной ей до этого. Но самое худшее состояло в том, что она не чувствовала никаких угрызений совести. И она не была зла на него, хотя и была напугана, сильно и приятно напугана до самых отдаленных кончиков нервов. Марджори почувствовала, что не сердится на него. Она устроилась на кресле рядом с огнем. Возбуждение, от которого ее пальцы стали до того негнущимися, что она не могла застегнуть блузку, исчезло, оставляя в ее теле приятную усталость, как после ванны. Прошло пять минут.
Дверь открылась.
— О Боже, ты все еще здесь? — спросил он. — Я думал, что ты с криками сорвешься с места и убежишь в ночь, а к этому времени вернешься с полисменом.
Он упал спиной на кушетку и положил под голову подушку. Его лицо было мрачным и усталым.
— Уходи, Марджори.
— Полисмены? Зачем?
— Нарушение моральных устоев подчиненного, без сомнений, наказуемо.
— Забудь об этом, Ноэль!
Он потянулся за сигаретами, бросив взгляд на лежащие на полу бумаги.
— Пригласив тебя прийти сюда поработать, я, очевидно, совершил большую ошибку.
— Мне можно взять сигарету?
Он подошел к ней, зажег ее сигарету и отошел, никак не реагируя на прикосновение ее руки. Снова бросившись на кушетку, он сказал:
— Нет, нет, Ширли. Это больше не повторится. Ни одна часть этого. Я слишком стар. Я знаю лучше. Мне даже это не нравится.
— Ширли? Мое имя Марджори.
— Твое имя Ширли.
Ноэль сел на кушетке; он ссутулился, и его руки свисали меж колен. Он посмотрел на нее. Свет, падавший от огня и от настольной лампы, освещал его лицо, делая линии щек резко очерченными.
— Послушай, дитя, запомни это и помни, что я сказал об этом еще в самом начале игры, когда в первый раз совершил ошибку, коснувшись тебя. Я не собираюсь жениться ни на тебе, ни на ком-либо вроде тебя. Ничто никогда не сможет заставить меня сделать это, ничто, ясно?..
— Да кто же, ради Бога, говорит о свадьбе? — Она была встревожена и испытывала головокружение. — Ты мне даже не очень нравишься.
— О, черт побери, ну и чушь же ты несешь! Послушай, — сказал он, встал и подошел к ней, — думаю, ты веришь, что, когда в прошлую субботу я попросил тебя помочь мне с освещением, я не вел все к этому. Я не мальчишка из колледжа. Ласки вызывают во мне отвращение. Я могу получить все, что захочу, когда захочу и с самыми лучшими девушками…
— Но со мной ты не можешь, — не задумываясь, перебила она.
— У меня нет абсолютно никакого желания заниматься этим с тобой, — ответил Ноэль. — Я сомневаюсь, чтобы ты смогла заставить меня. Вероятно, в свое время ты попытаешься сделать это.
Она вскочила на ноги; слезы застилали ее глаза.
— Я осталась здесь, чтобы сказать тебе, что не сержусь, но я быстро начинаю сердиться. Я буду заниматься твоим освещением, участвовать в твоих шоу, а за остальным ты можешь пойти к черту. До свидания.
Она не успела сделать и двух шагов, как его рука оказалась на ее плече. Держа ее на расстоянии вытянутых рук, он серьезно и открыто смотрел ей в лицо.
— Что ты думаешь насчет хорошей прогулки? Я думаю, нам не мешало бы немного поговорить.
— Ты думаешь, что я всего лишь глупый ребенок, не так ли? Который не может оторваться от тебя, так же как Уолли не может оторваться от меня. Ну хорошо, что если это правда? Зачем тебе надо было оскорблять меня так жестоко? Что ты хочешь? Ты не сможешь заставить меня сделать что-нибудь плохое. Я знаю, что всем женщинам не терпится переспать с тобой. Ну, хорошо. Ну, хорошо! Оставь тогда меня одну! Даже больше не целуй меня. Не прикасайся ко мне, не разговаривай со мной, не танцуй со мной, не проси меня выпить вместе с тобой, не мучь меня — это все, что я прошу! Я хотела поцеловать тебя с тех пор, когда в первый раз увидела год назад. Я признаю это. Сейчас я покончила с этим, и все. Отпусти меня. Я не хочу идти с тобой.
Он опустил руки. Она подошла к стулу, на котором лежал ее кожаный пиджак, и надела его.
— Марджори, — позвал он.
Сейчас он улыбался теплой, слегка грустной улыбкой, таящей в себе иронию.
— Так дело не пойдет. Волей-неволей мы оказались этим летом вместе. Нам нужно немного поговорить. Здесь или гуляя, это не имеет значения.
Она засунула руки в карманы пиджака.
— Ну, тогда пойдем. Давай выйдем отсюда.
Марджори и Ноэль прошли вдоль берега, залитого лунным светом, затем мимо ламп, бросавших красные и зеленые отблески на их лица. Они сели на скамейку, от которой исходил запах мокрого дерева, и закурили. Волны бились о берег, а издалека, еле слышно, доносилась мелодия «Любовь — это старая сладкая песня», которой подпевала группа пьяных людей.
— Нам нужно было пойти туда, где делают шашлыки, — сказал Ноэль.
— Пожалуй, — согласилась Марджори.
— Мне было восемнадцать лет, — произнес Ноэль, луна стояла за его спиной, и его лицо было бы совсем невидимым, если бы не зажженная сигарета, — когда я в первый раз переспал с женщиной. Я был руководителем драматического кружка в детском лагере, а она — матерью одного из детей. Посмотрев на нее, ты бы сказала: это самая что ни на есть безобидная женщина. Черт! Образование заставляет меня чувствовать себя грязным, когда в мыслях возвращаюсь к ней, хотя я пытаюсь никогда не делать этого…
— Послушай, Ноэль, я не хочу слышать о твоем прошлом. Ты для меня ничто.
— Воспользуйся моим советом и слушай. Тебе лучше знать обо всем этом… Вплоть до того времени я чувствовал стеснение, даже когда просто думал об отношениях между мужчиной и женщиной. Но миссис Деринг, так ее звали, сделала все очень простым, раз и навсегда. Я сильно изменился после этого Мой отец быстро заметил произошедшую перемену. «Должен женить тебя, Саул, это единственная вещь, способная исправить тебя, остепенить». В колледже я не получал хороших отметок. И это после того, как закончил самую лучшую среднюю школу в штате Нью-Йорк и тесты на интеллект показали, что у меня прекрасные способности. Видишь ли, мой отец хотел, чтобы я пошел учиться на юриста, я мечтал о другой профессии… ну, тебе нужно знать, что моя мать и сестра приняли мою сторону в этой истории. Давай будем считать точно установленным фактом, что я был тогда никому не нужным бездельником и находился на грани изгнания из Корнелла, которое опозорило бы имя главного судьи Эйрманна. Мой отец, Марджори, и я говорю об этом с сожалением, самое напыщенное ничтожество в мире, и он успешно подавлял, пересиливал всех людей, с которыми имел дело, за исключением меня… хотя именно это было главной целью его жизни…
Но дело было совсем не в этом. Я был совершенно согласен сделать все, что он захочет. Я хотел исправиться и остепениться, если это только было возможно. Мне не очень-то нравилось быть никчемным бездельником. Но тогда я совсем не понимал себя. Узнав о желании моего отца, я начал появляться среди хороших девушек Вест-Сайда. Я, должно быть, назначил в свое время свидания девяти десятым из них. Вот так я стал знатоком Ширли. Я ходил гулять с Ширли после Ширли. Этому не было конца. Она была повсюду. Я слышал о какой-нибудь новой хорошенькой девушке — Сюзан Рэйн, Хелен Хаплен, Джуди Моррис, имя не имело значения. Я звонил ей, договаривался о встрече, шел к нужному дому, она открывала дверь — и там оказывалась Ширли. В различных платьях, с различными телами, смотрящая на меня другими глазами, но смотрящая на меня тем же самым неменяющимся взглядом, взглядом Ширли. Хорошо выглядевшая девушка, мать следующего поколения, которую заставляли быть веселой и вести себя по-детски, хотя это и не могло скрыть просвечивавшую тусклость личности, как проглядывают серые камни сквозь траву в Центральном парке. Позади нее, каждый второй раз, стояла ее мать, отпугивая непрошеного гостя, с таким же лицом, как и у матери Сюзан или Хелен, только чуть более или менее грубым, морщинистым или одутловатым, на котором была заметна неприкрытая тусклость личности, о Боже!
Ноэль встал и начал ходить взад и вперед, его каблуки громко стучали.
— О Боже, Марджори, эта тусклость матерей! Эта невыразительность была смесью чувства собственной правоты и настороженного тщеславия, непроизносимого подозрения: «это старший сын судьи Эйрманна, говорят, что он замечательный мальчик, но я не знаю, это не проверено, он хочет быть композитором или кем-то еще не менее странным, и я также слышала, что он как-то спутался с женщиной, не выполняет задания в колледже…» Марджори, поразительно, чертовски поразительно, с какой быстротой распространяются слухи. Меня начали опасаться. Появился слух, что я был сущим бездельником; и он казался вполне правдивым. Самое забавное заключалось в том, что я влиял на Ширли так же, как виски действует на индейцев. Она знала, что ей будет плохо, я могу причинить ей вред, но я сводил ее с ума. Марджори, у меня довольно высокое самомнение, но оно никак не распространяется на мои романтические похождения в Вест-Сайде. Я честно говорю тебе, что был похож на человека, идущего с палкой по грядке с гиацинтами и сбивающего цветы направо и налево. Напомню тебе, что они все пришли в себя. Ширли была неуязвима. Сейчас они все замужем — за дантистами, производителями шерсти, юристами и многими другими, но я уверяю тебя, они все еще помнят Саула Эйрманна. И не всегда все выходило однобоко. Я помню пару из них. Но тогда я был без ума от Ширли. Эта любовь была самым худшим моим мучением.
Марджори удивилась, когда дрожь сотрясла все ее тело. Она вдруг поняла, что сжалась в комок от холода и что сырость скамейки пронизывает ее до самых костей.
— Ноэль, я замерзла.
Он перестал ходить и взглянул на нее сверху вниз. Лунный свет делал впадины его щек особенно отчетливыми. Его волосы все еще были спутаны ее пальцами.
— Я надоел тебе.
— Нет, нет, нет! Но здесь так сыро.
— Ты права. Нам нужно бренди. Я сам уже почти дрожу.
Он не произнес ни слова, пока они не сели опять, на этот раз в полупустом баре «Сирокко». Затем, выпив залпом половину своего двойного бренди, он продолжал:
— Как видишь, Ширли не играет честно. Она хочет то, что должна хотеть любая женщина, и что она всегда будет хотеть — большое обручальное кольцо с бриллиантом, дом в окружении милых соседей, мебель, детей, хорошо скроенную и сшитую одежду, меха, — но она никогда бы не сказала об этом. Потому что в наше время эти вещи считаются слишком приземленными и невыразительными. Она знает это. Она читает романы. Наполовину веря тому, что говорит, она сказала бы тебе все, что думает по поводу домашней невыразительности, и объяснила бы — она не для нее. Ширли собирается рисовать или быть социальным работником, или актрисой — женщины часто хотят стать актрисами, если они имеют хоть немного красоты, короче, идея состоит в том, что она хочет быть кем-то. Не просто женой. Опасайтесь подобной мысли! Она леди Бретт Эшлей, дьявольски красивая и умная, блистающая умом при каждом удобном случае. Это, как ты понимаешь, не более чем карикатура, ничто — всего лишь болтовня. Ширли — хорошая девушка, в то время как леди Бретт очень умело снимала с себя одежду. Однако Ширли, чтобы изобразить леди Бретт, если она в моде, болтает и ласкает с той или иной страстью, меняющейся от Ширли к Ширли, но не слишком сильно…
— Ты так чертовски умен? — спросила Марджори с удивлением.
— Дорогая, дай мне прояснить кое-что, я вовсе не виню Ширли. Я восхищаюсь ею. Она чертовски прекрасная девушка. Она нигде не может найти нужного пути. Ее родители говорят, что у нее нет никаких проблем. Религия дает ей никчемный совет не обращать ни на что внимания. Ее проблема в литературе не существует. Старые романы рассказывают о Джейн Остин и о героинях Диккенса, которые скорее застрелятся, чем позволят мужчине поцеловать себя. А новые романы в той или иной степени — о Бретт Эшлей, которая спит с любым парнем, настаивающим на этом, но у которой чувствительные и поэтичные душа и сердце. Это оставляет Ширли точно посередине. Что же ей делать? Она ведет себя по-разному, но в целом справляется с ситуацией с завидной силой воли…
— На это требуется не так уж много силы воли, — взорвалась, почти зарычала Марджори, — с большинством парней, которые просто грубые животные! А имея дело с самонадеянными интеллектуалами, пытающимися обезоружить тебя, говоря, что ты холодна, также не нужно обладать очень большой силой воли. Такие люди просто смешны. Я думаю, что разгадала твой ход, а?
Ноэль моргнул и медленно улыбнулся.
— Господи, моя дорогая, ты приняла хоть часть моего рассказа близко к сердцу? Это просто абстрактный разговор…
— Будь ты проклят, но ты назвал меня Ширли четырнадцать раз. Ты — чертов интеллектуальный сноб, вот ты кто! Ты также подлый представитель богемы, если хочешь знать, в некоторой степени — антисемит!
— В самом деле? — удивился Ноэль.
— Более того, я собираюсь быть актрисой, а не толстой невыразительной домохозяйкой с большим обручальным кольцом, что бы ты там ни говорил. И я скажу тебе кое-что еще. Я бы могла повернуть и рассказать тебе все о… о Сиднее, желающем быть писателем или лесным разбойником, или композитором, короче, кем угодно, лишь бы не тем, кем его отец, так как он стыдится, что его отец еврей, или он считает, что слишком чувствителен для бизнеса и юриспруденции, каковы бы там ни были законы Фрейда; и в конце концов он приходит именно к тому, чем занимался его отец. Я открывала дверь моей квартиры довольно многим таким людям.
Ноэль склонил голову и потер локоть. В первый раз за все время их знакомства его лицо изменило обычное выражение. Его глаза зло горели, рот приоткрылся и слегка улыбался, морщины на скулах загадочно исчезли. Она на мгновение получила представление о том, как он выглядел, учась в колледже; виски для индейца — это было похоже на правду.
— Хороший выстрел, — неожиданно медленно произнес он. — Но послушай, я действительно композитор. Делающий деньги и имя, шаг за шагом, год за годом. А если принять во внимание, что меня вышвырнули с юридического факультета Корнелла с самыми низкими за все времена оценками за первый год обучения, то маловероятно, что я закончу свою жизнь, ведя дело моего отца. Но посмотрим. Интеллектуальный сноб? Разумеется, это дыхание моей жизни. Представитель богемы? Да, конечно. Антисемит? Теперь уже нет. На мне лежало заклятие, но, как видишь, я вырвался из Вест-Сайда. Я обнаружил, что Ширли существует везде. Это общая проблема, а не только еврейская, постоянное действие сексуального закона. У Ширли Джонс та же самая сущность, что и у Ширли Кон, и та же среда, то же окружение. Таким образом, это одно и то же существо. Сравнительно недавно я перестал связывать все зло в жизни со своим отцом и, следовательно, со своей национальностью.
Он дал знак официанту принести выпивку.
— Конечно, к тому времени я для всех был Ноэлем Эрманом. Сейчас мне жаль, что я двигался так очевидно к Ноэлю Трусу. Мне еще не было и двадцати двух лет. Если еврея зовут Ноэлем, то это малость смешно. Сейчас, разумеется, я еврей только по рождению, но этого, кажется, достаточно, скажем, для Гитлера…
— Для меня тоже ничего не значит быть евреем по национальности, — заметила Марджори, — но я все же не смеюсь над ними так, как ты, и я пытаюсь…
— Марджори, твое недостаточное знание самой себя неправдоподобно. Быть еврейкой — это вся твоя жизнь. Господи, ты даже не ешь бекона. Я видел, как ты убирала его с тарелки, как будто это была дохлая мышь.
— Это привычка, и здесь я ничего не могу поделать.
Ноэль покачал головой, внимательно рассматривая ее, откинулся назад и скрестил руки.
— О Боги, Марджори, дорогая Марджори, ты такая прелестная красивая девушка.
— Но Ширли, — проворчала Марджори, глядя на него.
Официант поставил напитки на стол.
— В чем дело, мистер Эрман, теряешь вкус к шашлыкам?
Ноэль усмехнулся.
— Я думаю, — сказал официант, — что в жизни есть вещи получше шашлыков, так ведь?
Он улыбнулся Марджори и пошел прочь, вытирая руки о фартук.
— Мне кажется, — сказала она, — что утром вся округа, и не только округа, будет считать меня твоей новой любовницей.
— Нет. В этом единственном случае, думаю, твоя пуританская репутация обгонит мою порочную репутацию. Знаешь, ты все еще загадка «Южного ветра», потому что ты не подпускаешь Перри Бэрона слишком близко. Все думают, что ты религиозный фанатик или кто-нибудь еще в этом роде.
— А откуда они знают, что я не подпускаю его слишком близко?
— Дорогая, в «Южном ветре» такие вещи хорошо известны. Если ты и я начнем вместе проводить время, то это должно вызвать большой интерес. Битва титанов. Зло против добра. Неотразимая сила и аморальный объект. Ормазд, дух света, и Ахриман, принц темноты. Они будут делать ставки.
— Ноэль Ахриман, — сказала Марджори.
Он рассмеялся.
— Господи, ты тоже шутишь!
Она была очень довольна собой.
— Я скажу тебе, старый Принц Темноты, что если такая битва произойдет на самом деле, то ты будешь побежден. Во мне есть многое от Ширли, и мне все равно, кто знает об этом. У меня не будет с тобой никакого романа. Никогда. А если я буду до того несчастлива, что влюблюсь в такую собаку, как ты, то тебе все равно надо будет жениться на мне. Если я захочу. Я не знаю, мог ли хоть когда-нибудь появиться такой роман. В тебе есть несколько ужасных вещей.
— Ну, Сладость и Свет, вы тоже пугаете меня, немного.
— Уверена, что это так.
Он некоторое время смотрел на нее, не произнося ни слова, немного склонив голову.
— Что для тебя значит имя Мюриель? — наконец спросил он.
— Мне почему-то вспомнилась толстая девчонка с занятий по латыни. Кто она такая? Еще одна Ширли?
— О нет! Мюриель была слишком реальной.
Он сделал большой глоток бренди.
— Мюриель была единственной причиной, удерживавшей меня в Корнелле. Я делал ровно столько, чтобы меня не выгнали с учебы, и только потому, что я учился в одном с ней классе. Она была примерно на год старше меня.
Он прищурился и осмотрел Марджори.
— Она была не такой красивой, как ты. И не была столь же заметной и умной.
— О, бедная девушка, — сказала Марджори, чувствуя благосклонность к Ноэлю.
— Но она обладала собственными и особенными чарами. Высокая. Очень тонкая, черноволосая. Ее звали Мюриель Вейсфрейд. Я уверен, что половину притягательности в Мюриель составлял ее ирландский вид — голубые глаза и черные волосы. Чтобы объяснить тебе, на что это было похоже, скажу тебе, причем без какой бы то ни было самоуверенности: она была без ума от меня, так же как и я от нее. Наши ласки были восхитительными, неповторимыми, она хотела этого, и я был ее рабом, конечно. На протяжении месяцев я был комком нервов. Я клянусь, что по-настоящему любил ее, и я начал ненавидеть это. Но это было ласками, и ласками осталось. Все было хорошо, хотя натурального секса не было. И еще одна странная деталь. Мы ласкали друг друга в полной тишине, никогда не обсуждали это и никогда не признавали, вплоть до последнего часа, что мы хоть раз в жизни делали это. Таковы были правила. Я один или два раза попытался пошутить об этом, но, о Боже, она разъярилась, как тигрица, и я знал, что если скажу еще одно слово, то потеряю ее. Так я замолчал. Она была моей королевой, моей звездой, что еще мог я сделать?
Он выпил.
— Она, кажется, была ужасной, — заметила Марджори.
— Я организовал музыкальную группу, только чтобы зарабатывать деньги и тратить на нее. На наших занятиях я писал за нее контрольные — контрольные, за которые она получала высшие отметки, тогда как мои оценки были более чем скромными. Это казалось совершенно естественным. Хорошо написать за нее контрольную было чем-то вроде подарка для нее… Затем пришло время танцев. Обычно Саул и Мюриель ходили вместе. Друзья по школе даже не потрудились пригласить ее. Но Саул не пошел с Мюриель. Саул пошел один. Мюриель, видишь ли, познакомилась во время рождественских каникул с молодым человеком и продолжила знакомство на уик-эндах в Нью-Йорке, а наши ласки все продолжались по ночам в будни. Они продолжались, если мне не изменяет память, до тех пор, пока за два дня до танцев она не сообщила мне, что пригласила этого парня сопровождать ее. Марджори, на танцы она пришла одетой в синий бархат, и на ней был самый большой алмаз из всех, которые только можно увидеть за пределами музеев. Если бы она упала с этим алмазом в реку, то он утащил бы ее вниз и она утонула бы. Ее парень оказался приятным небольшим человеком с круглой головой и розовыми щеками, немного пониже Мюриель. Он был сыном владельца большой шерстяной фабрики.
Честное слово, Мардж, за всю свою жизнь мне ни разу не удавалось так точно изобразить Ноэля Труса, как удалось тогда. Я пожелал им счастья со всей возможной элегантностью и попросил ее сделать мне услугу, позволив потанцевать с ней в последний раз. Он действительно был очень хорошим маленьким парнем. И, черт побери, она досталась ему. Они должны были оказаться вместе в постели в свадебных нарядах «Мавритании» через две недели; она бросала занятия, чтобы выйти за него замуж. Он передал ее мне с открытой, доброй и, как мне показалось, извиняющейся улыбкой. И Мюриель и Саул станцевали свой последний танец.
— Господи, — пробормотала Марджори.
— Синий бархат, — слегка удивленным голосом промолвил Ноэль, — руки Мюриель, такие тонкие и белые, и запах весенних цветов от ее волос был таким же, как всегда, а этот чертов «Гибралтар» мерцал на моем правом плече, где покоилась ее рука, и ее палец, как и всегда, слегка играл моими волосами.
Он допил бренди и откинулся, улыбаясь Марджори.
— Как видишь, в моей эпической дуэли с Ширли она получила один или два удара. Я забежал вперед, однако, но возвращаться обратно не собираюсь.
— Это мрачная картина, — сказала Марджори. — Должна признать, я узнаю некоторые фрагменты этой картины. Только фрагменты. Она была жалкой девушкой.
— Я знаю. Наиболее характерную мою девушку зовут Ширли, не Мюриель.
— Я ничуть не похожа на нее. Можешь верить, а можешь нет, как тебе нравится.
— Ты хочешь сказать, что не вышла бы замуж за толстого маленького сына владельца шерстяной фабрики? Может, и нет. Я надеюсь, ты никогда не поддаешься искушениям.
Марджори подумала о Сэнди Голдстоуне и взглянула на бренди.
— Я думаю, у меня есть основания сказать, что ты не гонишься за безудержными ласками, по крайней мере, я надеюсь, это так.
— Конечно, нет! А насчет этого вечера, я… — Тут она замолчала и покраснела.
— Не продолжай, Мардж. Было очень хорошо видно, как ты изумилась. Ты заставила меня устыдиться самого себя в первый раз за последние, быть может, десять лет. Поразительно! А я уже думал, что моя совесть померла.
— О, ты не такой черный, каким себя рисуешь.
— Именно такой черный я и есть. Что бы ты ни решала, не обманывайся на этот счет.
— Тебе не напугать меня, — сказала она. — Больше не получится. Я просто начинаю понимать тебя.
— И чувствовать необходимость сделать меня достойным себя, быть может.
— Нет, мне наплевать, что из тебя выйдет, почему нет?
Ноэль прикурил сигарету и бросил взгляд на озеро.
— У меня была прекрасная возможность отыграться, между прочим, которая выпадает не многим в этой жизни. Когда моя первая песня превратилась в хит, Мюриель написала мне письмо, утверждавшее, что она горда за меня. Потом, когда «Поцелуи дождя» достигли того же успеха, пришло приглашение на прием в ее доме в Райе, штат Нью-Йорк, дворце в стиле итальянского Ренессанса, который был подарен сыну владельцем шерстяной фабрики. Я пошел. Последний пункт маршрута я проехал несколько раз, скрежеща зубами. У меня не было проблем найти его. Прошло семь лет. Итак, Мюриель была гвоздем программы. Ты никогда не видела столько дорогих одежд. Но притом они были такой юной, только обвенчанной парой, такой тридцатилетней, такой робкой, причесанной, ухмыляющейся, громко смеющейся и скалящейся! Вот делец по недвижимости, там владелец бакалейных магазинов, здесь адвокат, там врач, здесь делец по шерсти, там делец по шелку, все лоснятся, все упитанны и все в супружестве. Жены — пара дюжин стареющих Ширли. Подбородок Мюриель заострился. Овал ее лица потерял всю свою привлекательность. Она была чопорной и зажатой — натянутая улыбка, тесные одежды, безрассудные глаза. Я пришел туда с одной из лучших девочек Нью-Йорка, по глупости называемой Имоджин, восемнадцатилетней яркой блондинкой. Позднее она вышла замуж за нефтяного магната. Дорогая любимая Марджори, я говорю тебе, мы, две богемы, прохаживались среди этих тридцатилетних респектабельных людей, как боги. Мы ослепили их. Все обкормленные снующие мужья жаждали Имоджин и ненавидели меня. Их жены ненавидели Имоджин и жаждали романтически выглядевшего в твидовом пиджаке композитора. О, это было великолепно! Мюриель вывела меня в сад. Я не сделал ни единого движения к ней, Марджи, клянусь гонораром в двадцать миллионов золотом. Я был снова Ноэлем Трусом, искренне сохраняющим дистанцию с доброй старой тетей. Она попыталась вернуть все на прежние позиции и сказала, будто очень счастлива и только надеется, что я покончу однажды с хорошими девочками и докажу, что я лучше в самом деле. Она подразумевала, что Имоджин была козырем. Это полностью соответствовало истине. Одна причина, которая разбудила сочувствие к ней, должен отметить, — она извинилась с грубой прямотой за некоторые свои высказывания в отношении меня на вечеринке семь лет назад. Ну, что было, то было, скажу я тебе, я довольно измучился с Имоджин: она была идиоткой, правда, но жгучие взгляды тех мужей объединили меня с ней, должен отметить, и мы оставались великолепной парой еще месяц или около того после удивительного приема. С тех пор я никогда не видел Мюриель и не жду встречи с нею.
Официант принес бренди. Ноэль выпил.
— Бренди Сэма начинает становиться приятным на вкус. Невероятно.
Марджори холодно взглянула на него.
— Ты действительно иногда дьявол — мстительный, мелочный, надменный, самодовольный.
Он взглянул через окно и указал на гостей, разбредающихся по газону.
— Сюда движутся Джукс и Каликас, загруженные стейками и пивом. Когда, к черту, я смогу прикончить все это?
— Что она сказала тебе?
— Кто? Когда?
— Мюриель. На вечеринке, перед ее свадьбой.
— А, это… Я забыл. — Он выпил.
— Что ты сказал, Ноэль?
— Тебя интересует так много, что теряешь мысль во время паузы.
— Да, это меня интересует.
— Ну, хорошо. Пойми, пожалуйста, это в основном дело моих рук. Я завел ее в танце в угол, усадил и в нескольких живых и довольно мерзких выражениях описал ей предстоящее замужество. Она стала похожа на взъерошенную кошку, но меня ни черта это не беспокоило! Когда я выговорился, она сказала нечто наподобие этого: «Ты всегда был способен обволакивать меня речами и причинять мне боль. Ты обидел меня сейчас, ладно. Мне плохо. То, что ты говоришь о моем замужестве, все справедливо. Я скажу, однако, словечко в пользу Марти. Он не урод». С этим исчезли синий бархат, белые руки и алмаз.
Он допил бренди и встал.
— Пойдем.
Они молча пересекли газон рука об руку. Когда они подошли к проходу в кустах, ведущему к женским коттеджам, она повернулась лицом к нему.
— Я очень тупая. Я знаю, но…
Он нежно провел рукой по ее щеке.
— Достаточно разговоров для одного вечера, дорогая. У нас еще целое лето. Я скажу тебе, какое у меня странное чувство. Вероятно, это не от бренди. Я принял недостаточно… Марджори, радость моя, мы влюбились друг в друга, и это все. Ты любишь меня. Я люблю тебя. Не проспи это.
Электрический разряд пробежал по ее рукам и ногам. Она выставила свои руки с растопыренными пальцами, останавливая его, ослепленная какой-то маленькой догадкой. Он взял ее руку. Она потянула его в теневую часть тропинки и поцеловала.
16. Красные стаканы
В течение следующих двух недель в «Южном ветре» все решили, что Марджори стала любовницей Ноэля Эрмана. Во время репетиций она сидела около него; когда она не играла роль или не работала осветителем, она превращалась в своего рода ассистента режиссера. Она проводила все свое свободное время с ним: на лодочной прогулке, на танцах, на теннисном корте.
Это была новая эра для Марджори, солнечный удар любви, радости и счастья. Ноэль поставил «Пигмалиона», и никто не возражал, когда Марджори получила роль Элизы. Труппа решила, что если Марджори спит с патроном, то следует относиться к ней хорошо, по крайней мере первые несколько недель их отношений.
Ко всеобщему удивлению, Марджори достигла успеха в постановке, и не только из-за сюжета пьесы. Публика полюбила ее. Теплый прием, видимо, придавал ей силу и живость, почти увеличивал ее рост, после робкого начала она с блеском провела весь спектакль, и при закрытии занавеса ее провожали аплодисментами, подобно ее Микадо.
Этот вечер стал незабываемым, труппу вызывали на сцену многократно. Грич пригласил их всех в свое прекрасное бунгало на озере и был вынужден через некоторое время послать на кухню за ящиком шампанского. Около двух часов ночи, когда все были довольно пьяны и полны желания продолжить вечеринку, кто-то предложил, чтобы Ноэль сыграл свою новую музыкальную комедию «Принцесса Джонс». Он пытался отвертеться, но требования были настойчивы. В конце концов он сел за пианино и начал. Шут тут же утих, кругом были театралы, а знакомство с новой вещью было делом серьезным. Слушатели расположились и здесь и там, на стульях и на полу, бесшумно попивая и внимая одновременно. Спустя некоторое время их уважительное отношение переросло в энтузиазм, а затем в восторг. Многократно они разражались аплодисментами. Когда Ноэль закончил, игра и пение заняли более часа, раздался взрыв поздравлений. Марджори считала, что «Принцесса Джонс» — незабываемая вещь, но как возлюбленная Ноэля, сидела тихо, наслаждаясь ревом поздравлений, подобно ему, внимавшему молча. Уолли Ронкен подошел к Ноэлю со стаканом в руке и низко поклонился.
— Салям. Ты мастер, Ноэль. Пьеса будет популярна весь год. Наверняка это нечто сногсшибательное. Ты станешь богатым и знаменитым. Я преклоняюсь перед мастером. Салям.
Он коснулся лбом пола, расплескивая свою выпивку.
С той ночи все в труппе стали воспринимать Марджори как свою. Саркастическое прозвище «Сладкая и светлая», привешенное к ней, ушло в забвение. Рыжеволосая певица Адель, с которой Марджори жила в бунгало, сбросила надменность, предложила виски, хранившееся в ее чемодане, и стала делиться подробностями своих взаимоотношений с официантом. Ассистентка актрис, которая спала с Ноэлем (как многие думали), начала более откровенно рассказывать о своих любовных проблемах в ее присутствии, а также о Любовных делах других членов труппы. Марджори была изумлена масштабами и запутанностью сексуальных отношений в «Южном ветре» и ужаснулась от мысли, насколько раньше была слепа.
Ее глаза вдруг открылись, она стала замечать у гостей лагеря признаки, указывающие на характер их отношений: симпатичный мужчина, постоянно сопровождаемый робкой или безобразной девушкой; посетительница, танцующая каждую ночь с одним и тем же официантом или посыльным; мужчина средних лет и молодая женщина в неразлучной компании, выглядящие спокойными и не пытавшимися развлечь друг друга. Она поделилась своими впечатлениями с Ноэлем.
— Ну, оставь свою наивность, — сказал он. — Наслаждение получаешь от самого процесса. Конечно, ты еще не искушена в этих вещах. Возможно, ты можешь судить о том, как мужчина гребет веслами, а девушка лежит в лодке, или пара сплетает руки, или как они танцуют, или как они ведут себя на теннисном корте и поле для игры в гольф, или как выглядит губная помада девочки во время завтрака. Я мог бы выиграть, если бы кто-либо попытался поспорить со мной о таких вещах.
— Конечно, это место живет сексом, — сказала Марджори. — Оно пропитано им. Оно кишит им. Оно извергает его. Это ужасно! Оно подобно Дантову аду. Множество мерзких корчащихся, демонстрирующих наготу тел.
— О, успокойся, — попросил Ноэль. Они находились на веранде общего зала, загорая в раскладных креслах. — Хочешь еще пива?
— Мне понятно. Моя мать называла это Содомом. Она права.
— Ты воспринимаешь все слишком болезненно, дорогая. Здесь не настолько много секса, как тебе кажется. Среди всей труппы я выделяю тебя, тесно общаясь с тобой все лето, это представляется несколько неприличным. Но посетители в целом совершенно разные. — Он бросил взгляд на людской муравейник, снующий по лужайке, и на загорающих на пляже девочек в открытых купальниках, мужчин в коротких спортивных трусах. Все они были веселые и очень шумные.
— Парни приходят сюда, конечно, с обычной мыслью студента соблазнить привлекательную девочку, попутно поиграв в теннис, гольф и позагорав. Но они не очень удачливы. Хорошенькие девочки Ширли приходят в закрытых купальниках и ярких легких платьях, намереваясь заполучить мужа и никак иначе. Это свиньи, которые в основном извлекают выгоду из непрерывных козней. У них призрачные надежды. Им хочется лишь немного внимания, и они заплатят за это своими грязными телами. Немногие мужчины на самом деле не сдерживаются и проявляют интерес к некоторым смазливым девочкам. Несколько больше тех, кто выдержаннее, прекратили совокупляться со свиньями. Вот и все об этом.
— Ты слишком грубо и высокомерно относишься ко всему этому.
— Послушай, Марджи, существует обстоятельство, которое тебе следует учитывать. Секс существует. Люди не только едят, пьют и дышат, они совокупляются. Таким образом получается, что рождаемость населения превышает смертность. Твоя точка зрения — она привита тебе родителями — устарела даже для австралийского крестьянина. Удивительно не то, что слишком много, а, наоборот, слишком мало секса в «Южном ветре». Большинство ограничивается несколькими неумелыми поцелуями и объятиями, и лишь немногие достигают большего, прячась и ползая в темноте, как будто они совершают преступление. В течение сорока веков Моисей все еще управляет этими бедными юными евреями. Это абсолютно непостижимо.
— Что ты защищаешь? — спросила Марджори. — Полнейшую неразборчивость в связях?
— Я ничего не защищаю, моя дорогая. Я лишь иду в одиночестве, живу по-своему и не пытаюсь оставить потомство. Я очень хорошо провожу время. Существует такой тип девочек, Марджори, беззаботных варваров, подобных мне, для которых секс — такое же простое и приемлемое удовольствие, как стакан выпивки. Их единственное пожелание, чтобы была хорошая компания и сам секс. Ты никогда не поймешь такой образ мыслей, поэтому не пытайся.
После паузы она сказала:
— Я не знаю ничего о твоих друзьях балбесах. Я не считаю, что девушка может лечь в постель с мужчиной и тут же забыть об этом. Это противно человеческому естеству…
— Это несвойственно твоей натуре, Марджори. Не обобщай. Обмен женами у эскимосов является стилем жизни. Полинезийские девушки твоего возраста…
— О, достаточно, эскимосы и полинезийцы, — прервала его Марджори. — Это взято для сравнения, не так ли? Однако ты живешь не в «иглу», и я не ношу набедренную повязку, а мы говорим о людях, подобных нам, а не обо всем мире.
— Постарайся быть последовательной, старушка. Хоть я и ценю, что это достижение. Ты говоришь, человеческая натура. Все они — человечество.
Марджори ответила:
— Спасибо, я бы не отказалась выпить еще пива. — Она созерцала веселящихся гостей, пока Ноэль ходил в бар.
— Знаешь, что все это мне напоминает? — сказала она, когда он подавал ей высокий пенящийся стакан. — Набор французских открыток, который один идиот как-то демонстрировал в танцевальном кругу. Понимаешь, это были цветные фотографии — невинные, даже прекрасные на первый взгляд: только танцующие и гуляющие по парку люди. А затем он дает тебе несколько красных стаканов, через которые нужно рассматривать картинки, и вдруг обнаруживаешь самые отвратительные непристойности. За последние одну-две недели все это я ощущаю здесь, в «Южном ветре». Я чувствую себя стоящей в красном стакане.
Пока она отхлебывала холодное пиво, Ноэль проговорил с ухмылкой:
— Красные стаканы — это твоя разношерстная мораль. То, что ты наблюдаешь, — повседневная жизнь.
Смахивая пену с губ, Марджори ответила:
— Знаешь что? Мне кажется, все, что ты говоришь о сексе, — сплошная ложь. Ты говоришь это, потому что любишь удивлять меня и тебе нравится извращать мои мысли.
Ответ Ноэля был откровенно ироничным:
— Конечно, это все то, во что ты предпочитаешь верить.
— Иначе ты, в конце концов, попытаешься соблазнить меня.
Он пыхнул сигаретой и, сощурив глаз, глянул на нее через облачко дыма.
— Однако ты взрослеешь прямо на глазах. Мне кажется, что для тебя это было бы очень неплохо!
— Я надеюсь, ты позволишь решать мне самой.
— Несомненно.
Она кивнула головой, с любопытством разглядывая его.
— Твоя самонадеянность или откровенность, трудно сказать, что больше, переходит все границы. Я не знаю, как это тебе объяснить.
— У тебя неплохо получается.
— Иногда мне кажется, что ты — сам дьявол.
— Это опять твои красные стаканы. Я всего лишь парень, которого ты считаешь привлекательным. А ты приделываешь мне рога и хвост.
— Может быть, — ответила Марджори мягко. После паузы она добавила: — Ноэль, к чему мы идем?
— Кто знает? Кого это беспокоит? Летние романы — непредсказуемы. Аналогичны романы в морских круизах. Наслаждайся ими, пока они длятся. Развлекайся и не попадай в западню иудейской морали. Любой из нас может втюриться в кого-либо другого в следующий вторник, и на этом все.
— Ну, конечно, — ответила она. Они глянули в глаза друг другу, оба смеялись, но в них сквозило противоборство.
Она не знала, сколько времени Уолли Ронкен наблюдал за ними, когда наконец почувствовала его пристальный взгляд. Уолли опирался на перила балкона, свесив большую голову между узкими, слегка загорелыми плечами, покуривал и разглядывал их. Выражение его лица было скрыто блеском солнечных очков. Она вздрогнула, ужасно смутилась, чувствуя, как оба они с Ноэлем застеснялись своих томных улыбок.
— Эй, Уолли, сигареты есть?
Он оторвался от перил:
— Только «Кул».
— Благодарю.
Он поднес ей спичку. Холодный клубок ментола на языке заставил ее вспомнить день в Аркадах, сирень под дождем.
— Давно я таких не курила, Уолли. Они прекрасны для разнообразия.
— В любое время кличь меня, как только захочется разнообразия.
— Как продвигаются дела со скетчем? — спросил Ноэль.
— Довольно хорошо. Я вновь собираюсь его переделать.
— Тебе нравится управлять, Уолли? — поинтересовалась Марджори.
— Ну, я считаю, это заслуживает изучения, как и многое другое. Я учусь. — Он швырнул сигарету и пошел в общий зал.
Немного погодя ментол проник в дыхательные пути. Марджори спросила:
— Что нужно делать в подобных случаях?
Ноэль ответил:
— Ничего. Все новички должны получать взбучку. Это правило. Пойдем купаться.
С пятнадцати лет Марджори безоговорочно считала, что секс — наиболее важная и рискованная проблема в ее жизни, что она была бы дурой набитой, потеряв девственность до первой брачной ночи, что серьезные отношения до замужества могут стать страшнейшей катастрофой в ее судьбе. Теперь, впервые в жизни, ее непоколебимая уверенность в таких вещах стала разрушаться.
По сравнению с Ноэлем и Джордж, и Сэнди были менее искушенные в сексе ребята, готовые и жаждущие, как все юноши, принять любой знак внимания, который она им окажет. Иронический, откровенный сарказм Ноэля в отношении секса был чем-то новым. На деле он не переходил границ, она пресекала эти попытки, поворачивая таким образом, что в подобных случаях инициатива исходила как бы от него: все заканчивалось невинной шуткой или предложением сигареты. Он, казалось, хотел защитить ее от худших проявлений, от безумной страсти к нему, вместо того чтобы получить свою выгоду, как, в ее представлении, мог бы сделать на его месте любой из мужчин или юношей. Она не могла не восхищаться им из-за этого. Тем более когда он в своей непринужденной манере, но с ясной откровенностью сказал, что для нее неплохо было бы вступить с ним в любовную связь, — она была потрясена.
Марджори многократно настаивала, чтобы он объяснил ей, почему он думает, что любовная связь для нее во благо; Ноэль отшучивался.
Наконец он сказал:
— Ну, хорошо. Ты получишь эталон и все, меру отсчета эмоций на всю оставшуюся жизнь. Мы действительно любим друг друга. Из всего, о чем ты говорила мне, это будет первая реальная вещь для тебя. Для меня нет, дорогая, и не впивайся зубами в меня: я, к сожалению, уже двадцатидевятилетний, как видишь, имею опыт. Но ты несведуща, как треска. В твоем теперешнем положении: начитанности, полуцерковной морали и духовной невежественности, — ты, вероятно, сохранишь девственность и выйдешь замуж Бог знает за какого ужасного мужлана из-за своих искаженных принципов. Как и моя сестра. Чистосердечно, я иногда думаю о тебе, как о Монике, получившей второй шанс.
— Ты предпочел бы видеть свою сестру в любовной связи с мужчиной, который растлил бы ее — как ты меня?
— Тысячу раз да, если бы это смогло научить ее любить, предотвратить замужество с жирной свиньей, которую она зовет мужем.
Окружающая обстановка сделала все слова Ноэля более доходчивыми. В «Южном ветре», казалось, не было других способов смотреть на жизнь. Гости с их бесконечными уединенными играми — флиртом с разнообразными Ширли, которые напоминали свиней, ошивающихся в сторонке и ждущих отбросов. Ноэль смеялся над ними. Однако несколько месяцев назад поведение Марджори и ее заботы не очень отличались от их. Члены труппы выглядели знающими и обычными: танцоры, певцы, музыканты, актеры с их раскрепощенной моралью, с их малопристойными шутками обо всех важных событиях жизни. Женатые пары среди них были не более положительными, чем остальные. Было полдюжины скандальных адюльтеров, известных Марджори, и несколько других, о которых она в общем догадывалась. Среди неженатых сближение и разрыв беспорядочных связей происходили быстро и почти безболезненно.
Хотя Марджори была принята в этот круг, недомолвки и ироническое отношение к ней сохранялись. Расхожей шуткой стало выражение «не затрагивайте определенную тему, чтобы не шокировать бедную Марджори». Играя в анаграммы, например, женщины получали удовольствие, формируя неприличные слова и пряча их от Марджори с подмигиваниями и хихиканьем. Подобного рода добродушные подшучивания не могли укрыться от внимания Марджори. Она чувствовала себя занудой, отсталой и неотесанной; естественно, ей хотелось войти в общество, не выделяться из него. В театральном кругу Марджори впервые обнаружила людей, которые в жизни говорили и действовали подобно героям дешевых новелл. Это дополняло их привлекательность, обаяние и независимость. Она относилась к их шуткам с большим тактом и день ото дня все больше привыкала к положению, которое ей отводилось в результате ее нелепого и старомодного воспитания. Одно из ее прежних убеждений разрушалось быстрее, чем остальные, — это представление о том, что незаконные любовные отношения губят девичью жизнь. Когда она прошлым летом узнала о любовных отношениях Маши с Карлосом Рингелем, она ожидала увидеть ужасно испуганную и покрытую паршой толстушку. Но это оказалось очевидной глупостью. В составе труппы, насколько ей было известно, не было девственниц, за исключением Марджори. Большинство танцовщиц и актрис откровенно обсуждали прошлые и нынешние любовные отношения. Они были довольно открыты, вежливы, и ни одна из них не впадала в безутешную печаль и не сгорала от стыда. В целом они несильно отличались от девственниц Хантера и Вест-Сайда, за исключением манеры одеваться. Эти женщины впадали в безрассудство и слишком поздно обнаруживали, что мужчины их предавали, но они не умирали — вот они живые, загорелые, смеющиеся — и как ни в чем не бывало затевали новые интрижки с официантами или музыкантами. Если бы они были грубыми и тупыми, если бы их новые интрижки предполагали дешевые удовольствия, если бы их жизнь в целом была весьма незавидной, они в глазах Марджори были бы падшими женщинами. Однако факт остается фактом, они таковыми не были — даже несмотря на скрытый смысл сказанного. Потребуется нечто большее, чем одно или два любовных похождения, для того, чтобы признать их падение.
Но наиболее сильный удар по своим прежним убеждениям Марджори получила с самой неожиданной стороны: от собственного тела. Для нее стало невозможным оставаться наедине с Ноэлем. Неоднократно он вынужден был грубо трясти ее за плечи и вставлять ей в рот сигарету; она как будто просыпалась от гипноза, с взъерошенными волосами, счастливым и разгоряченным лицом, почти не помня, что происходило, но с чувством стыда и мрачным предчувствием полной опустошенности, которая может овладеть ею. Это было подобно безумию.
И это было совершенно новым в поведении Марджори. Ничего нельзя было изменить в ее личных симпатиях, ее вкусах, мыслях, привязанностях. Это необычное новое стремление исходило из самых потаенных мест ее тела. Оно было более убедительным доводом, чем слова Ноэля. Эта нота все более доминировала в звуке ее обычного внутреннего голоса, знакомого, всю жизнь бдительного друга, который подсказывал, что пора есть, или что желтое платье больше подходит, чем зеленое, или что неплохо бы подкрасить губы. В тех же дружеских тонах новый голос продолжал предлагать способы остаться наедине с Ноэлем. В одиннадцать часов вечера, когда она раздевалась ко сну, она вдруг подумала, что хотела бы почитать новый рассказ. Затем ее осенило, что она видела в комнате Ноэля новейший бестселлер. Она вынуждена была бороться с собой, как будто с кем-то посторонним, чтобы удержаться от соблазна посетить Эрмана.
Она стала привыкать к мысли о вступлении в любовную связь. Это не было сиюминутным порывом для Марджори Моргенштерн, типа стать наркоманом или решиться на самоубийство. Она представила, как это может произойти. В итоге она составила замысел.
Она была расстроенной и очень нервной. Дважды за ночь она упаковывала чемоданы и нерешительно распаковывала их утром. Она разыскала Самсона-Аарона и проводила с ним долгие вечера, вспоминая свое детство, пытаясь заставить спящий якорь удержать ее на прежних позициях. Марджори давно сказала всем, что Сэм-посудомойщик — ее дядя, он очень был смущен, когда она отыскала его впервые в «Южном ветре». Однако никто не стал думать о ней хуже из-за этого родства. Фактически дядя был более популярен в качестве «чудака», легендарного едока и оригинального еврейского философа. Часто она думала, что откроет сердце Самсону-Аарону. Но разница в годах, языке и воспитании у них была очень велика; он был лишь Дядей, помимо того, необразованный и комичный, толстый и старый. Было нечто унизительное в обращении к посудомойщику за помощью в любовных делах. Она не смогла сделать этого.
Самсон-Аарон, казалось, чувствовал ее неприятности. Он был очень приветлив и тактичен с нею. Только однажды он попытался бестактно полюбопытствовать:
— Так как у вас с господином Эрманом? Может, вы уже поженились? Вы все время проводите вместе или нет?
Марджори рассмеялась и сказала, что она только развлекается с Ноэлем; он не подходит для семейных отношений.
— Так я и думал, Моджери. Я думаю, он джентльмен. Мне кажется, он серьезный парень. Ты хорошая девушка, я знаю, чем ты занимаешься, поэтому какая разница? Я давно знаю, кто есть кто, поэтому развлекайся. Послушай моего совета, малышка.
— Есть вещи, дядя, которым нас не учат в школе.
— Твоя мама пишет, дружит ли Моджери с кем-либо из парней. Я ничего не отвечаю. Я говорю: в «Южном ветре» хорошая погода. Я говорю, что ловлю много рыбы в выходные.
— У тебя доброе сердце.
— А что я знаю? Я мою посуду на кухне. Ну а если мама и папа приедут сюда на следующей неделе? Что тогда?
— Ну, пускай приезжают.
Марджори убедила себя не думать о предстоящем визите своих родителей. Они собирались приехать в субботу вечером и уехать в воскресенье после полудня по пути на дачу в Сэте, расположенную в ста милях севернее. Как-нибудь, думала она, выкручусь, заморочу им голову в течение этих двадцати сумасшедших часов и скрою от родителей то, что случилось.
17. Гребная шлюпка
Вечером ее родители смотрели представление, в котором Марджори споткнулась и упала, танцуя на сцене с хором. Впервые подобное произошло с ней. До того, как зрители разразились смехом, она снова была на ногах, шустро вытанцовывая и смеясь. Когда она гордо удалилась за кулисы, Ноэль был там, приподняв край занавеса рукой.
— Ты в порядке? Ты, должно быть, перепугала своих стариков.
— О, у меня все нормально. Каблук внезапно подвернулся, вот и все.
Ноэль рассмеялся:
— Не в духе папаши Фрейда. Падение было с серьезным намерением.
— Несомненно. Почему бы тебе не написать об этом книгу? Извини, мой выход.
Пока спектакль продолжался, она пришла в замешательство от потока сексуальных и непристойных шуток. На репетициях до нее не доходило, что спектакль настолько непристойный. Но в этот вечер скетчи Падлса Подела смутили ее. Ее ошарашило и то, что романсы и скетчи Уолли были нарочито вульгарны. Гвоздем вечера был номер Уолли, в котором три актера изображали Гитлера, Сталина и Муссолини. Они были одеты медсестрами и нянчили детей, распевая о том, что они используют для ускорения их роста. Марджи смеялась до слез, когда впервые это услышала на репетиции; но сейчас она поняла, насколько пошлыми были их шутки.
После спектакля она лихорадочно сменила макияж и переоделась. Как это ни странно, Марджори была полна желания поговорить с родителями. Она нашла их сидящими на раскладных креслах у самой танцплощадки и наблюдающими за танцорами. После месяца разлуки они показались ей старыми. Отец был почти совсем седой, у матери пролегли глубокие морщины, которых Мардж не замечала раньше, особенно существенный отпечаток возраст оставил на ее шее. Конечно, обоим было за пятьдесят, подумала Марджори. Она не могла ожидать, что они будут всегда выглядеть такими же молодыми, какими были в ее детстве.
Отец сказал:
— Я не мог предположить до настоящего времени, какая у меня прекрасная дочь. Ты выглядишь на сцене лучше любой кинозвезды, которую я когда-либо видел. Все здешние парни, должно быть, влюблены в тебя.
— Они падают без чувств направо и налево, папа! — рассмеялась Марджори.
— Ты ушиблась, когда падала? — спросила миссис Моргенштерн.
— Нет. Эта сцена пустотелая, и поэтому звук получается гулким. А, пустяк. Жаркий вечер, не так ли? Как насчет выпить чего-нибудь?
Они заняли небольшую кабинку в баре. Она заметила, как родители переглянулись, когда она заказала эль. Отец заказал то же самое. Миссис Моргенштерн долго мялась и наконец попросила принести лимонад. Они снова переглянулись, когда она вытащила пачку сигарет и прикурила одну.
— Эль, сигареты, — сказала мать. — Все взрослеют, и ты тоже?
— Мы тоже можем столкнуться с этим, мам, я пропала, как ты предсказывала.
Марджори выпустила кольцо дыма и была раздосадована тем, что вырвалось у нее. Она пустила еще кольцо и втянула его в себя.
— Это не то, что дядя нам говорит, — ответила миссис Моргенштерн. — Он говорит, каждый здесь считает, что ты единственная хорошая девушка в этом обществе.
— Ну ладно, мам, у меня хорошая перспектива. Я, понимаешь, актриса.
— Ты моя дочь, поэтому ты хорошая, вот и все, — сказал отец, — это меня не удивляет, и не стесняйся этого. Люди могут подшучивать над тобой, но они будут уважать тебя.
Подали напитки, и Марджори залпом отпила половину своего эля, с удовлетворением наблюдая, как изумило это ее мать.
— Ах! Нет ничего лучше в такой жаркий вечер. — Она затянулась сигаретой, сощурившись, как мужчина.
Отец спросил:
— Ответь мне, Мардж, ты хоть чуточку чувствуешь… я не знаю, что немного странно… играть в таком спектакле? Я имею в виду, я не так мелочен и слыхал за свою жизнь множество пошлых шуток, но…
— Чего ты ожидал в Содоме? — прервала мать. Гамлета? То, чего хочется толпе, то они и дают ей.
— Мама права, папа. Мне кажется, сегодня вечером было хуже, чем обычно, но в конце концов, с этой толпой… Привет, Ноэль, иди сюда и познакомься с моими родичами.
Он подходил со стаканом, одетый в вельветовый пиджак порыжевшего цвета поверх черной водолазки, и ей понравилось, что он был свежевыбрит, а волосы тщательно причесаны. Субботними вечерами он часто выглядел, как тощий усталый бродяга. Ноэль сказал, удивленно подняв брови:
— Привет, как приятно видеть тебя, Мардж.
— Мама, папа — это руководитель труппы… вы знаете, он пишет и ставит пьесы — Ноэль Эрман.
Ноэль был любезен и непринужден в обмене приветствиями.
— Я надеюсь, вы не ужаснулись, когда Марджори упала? Это не входит в танец, она сама это придумала.
— Нам понравился ваш спектакль, — сказал отец, — немного грубоват, но мы, естественно, этого здесь ожидали.
— Боюсь, что так.
— Вы считаете, что у нашей дочери есть способности, мистер Эрман? — спросил отец.
Ноэль смерил Марджори взглядом и рассмеялся:
— Трудно сказать, мистер Моргенштерн. Откровенно говоря, если актриса привлекательна, как Марджори, нелегко судить о таланте. Хорошая внешность — маскировка. Но я думаю, у нее есть талант.
— Ну, спасибо, дорогой. — Марджори хлопнула своей ладонью по его и со смехом обратилась к родителям: — Ну, я счастлива, что вы приехали. Впервые он вынужден открыто высказаться об этом. Обычно он не хочет делать мне комплименты, чтобы скрыть свою доброту.
— Это очень любезно, назвать тебя привлекательной, — сказала миссис Моргенштерн, потягивая лимонад и награждая Ноэля одобрительным взглядом поверх стакана.
— Но не когда я пытаюсь выяснить, могу ли я играть, мам. Это все равно что говорить доктору о его привлекательности, когда хочешь выяснить, может ли он вырезать аппендицит.
— Вы из Нью-Йорка, мистер Эрман? — спросила мать.
— Да, мадам.
— Из Манхэттена?
— Да. Конкретно из Виллиджа. — Ноэль прикурил сигарету. На секунду он бросил взгляд на Марджори. Он откинулся на стуле, сложил руки на груди и глядел на ее мать, склонив голову.
— О, Виллидж. Зимой вы тоже ставите спектакли?
— Я поэт-песенник, миссис Моргенштерн.
— О, поэт-песенник.
Марджори вмешалась:
— В бродвейских спектаклях есть скетчи Ноэля, и публике известны десятки его песен, мама. Ты помнишь «Поцелуи дождя»? Это очень популярная песня.
— Боюсь, что нет.
— Ну, я не знаю, как же ты могла ее упустить? Это была самая модная песня 1933 года.
Ноэль вставил:
— Ну, достаточно.
Марджори сказала:
— Папа, а ты слышал? Она всегда звучала по радио, все оркестры повсюду играли ее…
— Мне кажется, — ответил отец, — времена, когда мы с мамой следили за популярными песнями, для нас давно миновали.
— Ну и какая разница? — возразила мать. — Модная песня кое-что значит. Послушай, Ирвин Берлин не бедняк.
Ноэль усмехнулся:
— Одной модной песни недостаточно, чтобы стать Ирвином Берлином.
— У тебя много модных песен, — возразила Марджори.
— Хорошо, я начну следить за вашими песнями, — сказала миссис Моргенштерн, — повторите, как пишется ваше имя?
Ноэль повторил снова.
— Ноэль Эрман, хм? Очень интересное имя. Оно мне еще не встречалось. Ну, итак, вы не еврей. Не думаю также, что были им.
— Боже мой, мама, какая разница? — сказала Марджори. — К примеру, он еврей, но по тем же причинам большинство труппы нет, и…
— Однако Ноэль, — возразила мать, уставившись на него, — означает Дед Мороз, не так ли? Никто не называл еврейских мальчиков Ноэль. У католиков вас, видимо, звали бы Пасовер.
Ноэль запрокинул голову и рассмеялся. Марджори кусала губы. Эрман сказал:
— Миссис Моргенштерн, я мог бы согласиться с вами, но я привык к Ноэлю. — Он помахал официанту: — Я должен заплатить за выпивку.
— Благодарю. Я выпила весь лимонад, и мне довольно, — сказала миссис Моргенштерн.
Но Ноэль заказал всем по новой порции. Затем он объяснил, что выберет себе имя, как только будет опубликована его первая песня.
— О, тогда это будет псевдоним, вот что, — сказал отец. — Как Марк Твен или Шолом Алейхем.
— Ну, я хотел бы приблизить переименование, и это идея, мистер Моргенштерн.
— А какое у вас другое имя? То есть, можно узнать ваше настоящее имя? — спросила мать.
После короткой паузы Ноэль ответил:
— Саул Эйрманн. Не слишком сильно изменил, как видите.
— Нет, ничего подобного, — возразила миссис Моргенштерн. — Эйрманн… Я знаю судью Эйрманна. Его фамилию писали с двумя «н».
Ноэль вздохнул и пожал плечами:
— Я пишу так же, миссис Моргенштерн. Он мой отец.
— Что? Судья Эйрманн ваш отец? — Она повернулась к Марджори. — Он брат Билли! Неужели? Ради всех святых, почему ты сразу не сказала?
— Мать, ты так много задаешь вопросов, что никто слова не может вставить.
— Не будь посмешищем. Ну! Сын судьи Эйр-манна! — Миссис Моргенштерн смотрела на Ноэля с растущей дружелюбностью. — Во всем совпадения! Почему нет, у нас в общем много знакомых. Я довольно хорошо знаю твою мать, а есть ли у тебя сестра Моника? Замужем за старшим сыном Зигельмана? Зигельман из белоснежной сухой чистки одежды?
— Это моя сестра.
— Конечно. Ну, миссис Зигельман, свекровь твоей сестры, к тому же лучшая подруга моих закадычных друзей, Белла Клайн. Я их хорошо знаю. Чудесная семья Зигельманов. Как зовут мужа твоей сестры? Хорас, не так ли?
— Хорас, — ответил Ноэль.
— Очень симпатичный парень. Очень способный. Он сотрудничает со своим отцом, не так ли?
— Он сотрудничает со своим отцом.
— Я бы не прочь потанцевать, — вмешалась Марджори.
— Ну а ты — поэт-песенник! — заключила миссис Моргенштерн. — Могла ли я подумать, Белла как-то говорила мне о старшем сыне Эйрманна, пишущем песни… Только я никогда не связывала это с именем твоего отца, я предполагала, ты тоже должен быть юристом.
— Ну, понимаете, миссис Моргенштерн, меня выгнали с юридического факультета за самую низкую успеваемость в истории Корнелла. — Ноэль выпрямился, сидя на стуле и обхватив локти.
Миссис Моргенштерн рассмеялась, затем со значением взглянула на Марджори и вновь на Ноэля:
— Не говорите мне этого, это не про вашу семью. Слишком много идей…
Марджори выскользнула из кабинета:
— Если ты, Ноэль, не хочешь танцевать со мной, я поищу того, кто будет.
Ноэль вежливо обратился к родителям:
— Вы извините меня?
— Давай, — сказал отец. — Приятного времяпрепровождения. Не сиди за болтовней с парой старых чудаков.
— Но я получил истинное удовольствие, — остановился Ноэль. Его улыбка была теплой и искренней. — Может, позже нам удастся потолковать поподробнее о Зигельманах и обо всем.
Марджори, танцуя, вцепилась в него, пугаясь холодной манеры его поведения. Она долго ждала, когда он заговорит. Один танец кончился, начался другой. Она сказала:
— Ты, несомненно, можешь быть противным, или нет?
— Повтори.
— Мы можем поболтать еще немного о Зигельманах. Так, просто поехидничать.
— Это была лишь легкая шутка. Извини, если она задела тебя.
Марджори подняла на него глаза. Он слегка обхватил ее талию, на его лице была обычная ироническая усмешка.
— Что ты ищешь, Марджи? Ты вывихнешь себе шею.
— Пытаюсь определить твою суть.
— О, это пустая затея. Ну, по лицу ничего не прочтешь. Смотри, я не грущу, не удивляюсь, не схожу с ума или что-нибудь в этом роде, если это тебя беспокоит.
— Знаешь, у меня хорошая память, — сказала Марджори, — я помню, что ты говорил о матерях. Безобразные дешевки; те же лица, что и у дочерей, только старше на двадцать лет, потерявшие красоту, но сохранившие ужасающую скуку.
— Мне твоя мать понравилась.
— Ну, конечно. Особенно, как ты ее подкалывал…
— Ну, это инстинкт. Кошка и мышка. Я бросил это занятие в восемь или девять лет, я почти забыл, как это делается.
— Мама была совершенно одурачена сегодня вечером.
— Теперь послушай, Марджори, не пытайся оправдываться за свою мать. Она хорошая. Практически великолепная. Какая для нее разница, что я был раздосадован? У нее шекспировская строгость и сила характера. Все происходило, как и должно было произойти. Я не знаю, мне кажется, я невольно выглядел искренним. Вы обе мне нравитесь.
— О, чудесно! Смешивать меня с моей матерью. Как я пала!
— Я люблю тебя, — сказал Ноэль изменившимся голосом.
Она быстро взглянула в его глаза и замолчала. Они танцевали. Немного погодя она увидела своих родителей, сидящих в раскладных креслах и наблюдающих за ней. Когда музыка окончилась, Ноэль сказал:
— Тебе неплохо бы вспомнить, что такое сценарий, моя дорогая, и затем следовать ему. Ты хочешь танцевать с другими парнями или посидеть со своими стариками, или что-нибудь еще? Не дуйся, не беспокойся о моих чувствах, только делай то, что тебе хочется. Твои предки сидят вон там, прямо за тобой, и наблюдают за нами.
— Я знаю, где они. Я хочу танцевать с тобой.
— Ты уверена?
— Да.
— А мучения?
— Оставь это мне.
Начался следующий танец. Он обхватил ее руками:
— Ну, тогда хорошо.
На следующее утро Марджори заставили проснуться дробные звуки мексиканской музыки. Приподнявшись из-под простыни, она упала назад со стоном, взглянув на наручные часы и закрывая глаза. Громкоговоритель для женской половины лагеря висел на дереве прямо над бунгало Марджори. Был праздничный день. Ровно восемь утра. Безжалостная контора включала музыку точно в срок.
В висках Марджори стучало. В состоянии возбуждения и нервного напряжения прошлым вечером она выпила после эля еще несколько стаканов. Даже заткнув уши пальцами, она не могла заглушить мексиканскую танцевальную музыку, бесившую ее и разламывающую голову на части. Громкоговоритель, казалось, был в ее голове, гремящий почти на полную мощь. Марджори добрела до аптечки и приняла две таблетки аспирина, с неудовольствием отметив, что чувствует, как жаркий воздух проникает через ее тонкую ночную сорочку. Белый бар чуть проглядывал через деревья, и блики от купальни били ей в глаза. Она застонала. С наступлением дня над всем лагерем нависла испепеляющая жара — тяжелая, как мексиканский костюм, предвещавшая мерзкую работу, контрастирующая с ее внутренним состоянием.
Она пригласила своих родителей пойти на праздничный уик-энд, надеясь, что возбуждение и суета отвлекут их внимание от нее и Ноэля, особенно рассчитывая на Самсона-Аарона, вызвавшегося играть роль тореадора в корриде. Первое воскресенье августа было праздничным днем в «Южном ветре», и ежегодный карнавал превращал самого толстого человека в лагере в бойца с быками. Дядя был вне конкуренции. Костюм тореадора, хотя и безразмерный, дополнительно увеличивался для его фигуры. Дядя был шире всех тореадоров, и Ноэль говорил Марджори, что с его естественной склонностью к дурачеству он мог бы стать самым забавным.
Она надевала свой костюм — кофту с зелеными оборками, когда вдруг вспомнила, что получила благословение православного священника поссориться с отцом перед поступлением на работу артисткой.
— Я схожу с ума, — проворчала она.
Она надела купальник и пошла в бар выпить кофе, не имея желания завтракать. Снаружи рабочие на лужайке сколачивали легкие маленькие кабинки для раздачи талисманов, прохладительных и крепких напитков, а сквозь шум ударов молотков громкоговорители весело ревели раскатывающуюся румбу. Кофе и аспирин подняли и облегчили душевное состояние Марджори. Заметив отца, выходящего с причала в купальном костюме и сомбреро (сомбреро бесплатно раздавали устроители праздника), она быстро допила вторую чашку кофе и поспешила навстречу ему.
— Сеньор Моргенштерн к вашим услугам, моя дорогая, — сказал отец с поклоном. Сомбреро сползло ему на затылок, обнажив седые волосы.
— Добрый день, сеньор, — ответила она. — Через час мне нужно идти на работу, поэтому поспешим. Как мама?
— Прекрасно. Она смотрит репетицию боя с быками твоего дяди. Такая глупость…
Марджори все лето не плавала на гребной лодке. Эта посудина двигалась по воде медленнее и тяжелее, чем каноэ. Поля сомбреро отца раскачивались в такт его ударов веслами. Солнце пекло очень жарко, хотя еще не было девяти утра. Марджори подумала, что ее отцу, наверно, неудобно в цельнокроеном черном шерстяном мешковато выглядящем костюме, который подчеркивал мертвенно-бледную белизну его тонких рук и ног. Она хотела предложить ему опустить верхнюю часть костюма до пояса, но невольная робость сдержала ее.
Когда они отплыли довольно далеко от берега, он втащил мокрые весла в лодку и уперся руками в бока.
— Эх, старею. Гребля мне нравилась больше всего. Мы могли покидать Бронкс каждое воскресенье, твоя мать и я, плыть к Центральному парку. Я мог грести часами. Это было до твоего рождения. Я обычно показывал на большие дома на Пятой авеню и говорил: «Смотри, там мы когда-нибудь будем жить. Послушай, мы подошли слишком близко, дальше западная часть Центрального парка». — Он глубоко вздохнул и рассмеялся печально-обезоруживающе. Она же думала, как заметен акцент в говоре ее отца. Когда она жила дома, она так привыкла не обращать на это внимания.
— Двадцать три года назад. Почти как твой возраст, не так ли, моя милая? Время бежит, уверяю тебя. Я скажу тебе нечто удивительное. Я не очень изменился с тех пор. Я не чувствую себя другим. Это похоже на то, как изнашивается машина. Двадцать три года! Двадцать три года назад мне было двадцать восемь. Видимо, возраст твоего друга Ноэля.
Упоминание имени Ноэля слегка взволновало Марджори.
— Ему двадцать девять.
— Хм! Конечно, я был старым женатым мужчиной, а не студентом.
Она зажгла сигарету, оперлась спиной на один планшир и свесила ноги за другой, напряженно размышляя, осмелится ли ее отец обсуждать Ноэля. Он никогда не обсуждал с ней ни один из ее романов; предмет разговора, казалось, вызывал у него робость. Он взглянул на дочь, сощурив в улыбке глаза:
— Ты не слишком легко одета? Или это только купальник?
— Это я, я становлюсь большой, как гиппопотам. Это ужасно.
— Не глупи. Ты прекрасная девушка. Более того, слово «девушка» уже не подходит. Марджори, ты — прекрасная женщина. Когда это случилось? Мне кажется, будто в прошлом году ты бегала по дому, называя свою игрушку не слон, а «снол». Ты, наверное, даже и не помнишь.
Марджори улыбнулась:
— Вы с мамой так часто говорили об этом «сноле», что, мне кажется, запомнила.
Мистер Моргенштерн тряхнул головой и сбросил сомбреро:
— Солнце хорошее. Немного солнца в лицо не повредит мне.
— Папа, почему ты не берешь отпуск? Ты выглядишь усталым. И ты такой бледный.
— Твоя мать тоже любит это повторять. Вы обе правы.
Он наклонился вперед, упершись локтями в колени и медленно крутя сомбреро в руках. Марджори вдруг вспомнила Джорджа Дробеса и его коричневую шляпу. Джордж как будто выплыл из отдаленных времен ее «снола». Отец произнес:
— Скажу правду, Мардж, два-три дня безделья приводят меня в изнеможение.
— Ты должен научиться распределять обязанности, папа. Для твоей же пользы, тебе это нужно.
Он мрачно усмехнулся:
— Ну, я смотрю на это так. Сет слишком ленив, чтобы стать доктором в конце концов. Через семь лет он будет заниматься бизнесом, тогда я смогу не напрягаться. Что такое семь лет?
— Боже мой, папа, через семь лет мне будет двадцать семь. Древность.
— Ну, тебе виднее. Время летит, не успеешь оглянуться. Я надеюсь, к тому времени у тебя будет двое детей. Чем раньше заведешь их, тем лучше. И чем больше, тем лучше. Марджори, пока я жив, скажу одну вещь. Я хотел бы тебе посоветовать: заводи детей!
Она засмеялась:
— Это потому, что у тебя такие хорошие?
— Нет, потому, что это истина. Ничто в жизни не стоит большего.
— Ну, тогда все бессмысленно, не так ли? Ты растишь детей, с тем чтобы они могли вырастить детей, которые также будут растить детей, — к чему это все?
— Да, да, милая. Когда-то я говорил так же. Но, родив первого ребенка, ты поймешь это.
Она произнесла нетерпеливо:
— Если все так, как ты сказал, почему ты не можешь объяснить прямо сейчас? Пока это меня волнует: дети могут стать помехой до того, как мне не стукнет тридцать. К тому времени я наверняка буду готова вычеркнуть себя из общества и стать родильной машиной. (Эту фразу Мардж позаимствовала у Ноэля — она показалась ей удачной). Но до этого я хочу получить от жизни все заслуживающее внимания. Любой идиот может рожать детей. Они все и занимаются этим, как кролики.
— Я понял, — медленно кивнул отец.
Он взгромоздил сомбреро на макушку. Отец привел ее чувства в абсолютное смятение. Он выглядел странно в этой глупой шляпе и простом черном купальном костюме, обтягивающем отвисший живот, с такими тонкими конечностями и бледной кожей. Только его лицо было знакомым. Оно немного походило на то, каким было после бани. Инстинктивно ей хотелось отвести глаза.
— Скажи мне, Марджори, что является стоящим в жизни?
— Хорошо. Я скажу. Развлечения. И любовь. И красота. И путешествия. И успех. Боже мой, много в жизни стоящего, папа!
Марджори было непривычно говорить с отцом откровенно о самой себе, как будто на его месте был Ноэль Эрман или Маша Зеленко. Это напоминало болтовню с новым другом, когда она не была уверена, что ему можно доверять. Но ей нравилось это.
— Прекрасная еда заслуживает внимания, лучшие вина, любимые места, лучшая музыка, лучшие книги, лучшее искусство. Стремление к чему-то хорошо известному, важному, требующему раскрытия всех моих способностей, вместо превращения в ничтожную миллионную часть человеческого стада! Дети, несомненно, ценность, если я живу и не гожусь на что-нибудь большее. О, не пойми меня превратно, папа.
Ее тон смягчился, поскольку отец выглядел побежденным.
— Я уверена, что полюблю их сразу, как только они будут у меня, и все мои ценности поменяются, и я соглашусь остепениться, и буду надоедать моей дочери наставлениями, чтобы она была хорошей девочкой и мыла уши, и не висела на телефоне, как моя мама. Но, папа, подумай над этим. Это самое лучшее, кем я могла бы стать? Взгляни на меня! Я только начинаю. Я совершенно не гожусь ни на что другое? Должна ли я поскорее стать матерью?
— Я думаю, твоя мать была очень счастливой женщиной, — сказал мистер Моргенштерн, откашливаясь. — Ты считаешь, что ей было скучно? Поговори с ней.
— О, папа, мне поговорить с ней? Ты знаешь, это бесполезно.
— Она находчивая женщина. Тебе может не нравиться кое-что в ее поведении, но…
— Послушай, я люблю ее, папа. Но я не могу разговаривать с ней. Я никогда не могла и не смогу сделать это. Мы две кошки в одной сумке, и этим все сказано.
— Это очень плохо. Она многое могла бы рассказать тебе, многое. — Он снова натянул шляпу на голову: — Погрести еще?
— Зачем? И так хорошо, подрейфуем.
— Как ты намереваешься получить те прекрасные вещи, о которых говорила, милая?
— Играть в театре. Тебе это известно.
— Это очень ненадежное занятие. Большинство артистов голодает. — Он засмеялся: — Богатый муж — лучший шанс.
— Может, я буду исключением из большинства. Я могу попробовать.
Помолчав, он сказал:
— Ну, это очень интересно. Мы должны чаще делиться мнениями, вот так, как сейчас.
— Да, непременно, папа.
— Скажу тебе, Марджори, многое из того, о чем ты говорила, стоит иметь, возможно, я не до конца представляю. Ты более образованна, чем я. Музыка, книги, вино, искусство, все это, скажу тебе, мне кажется, неплохо, если ты счастлива, но если ты несчастна, от них мало пользы. Главное — это счастье. Любовь, конечно, я согласен с тобой. Но любовь предполагает детей, именно так, как я и говорил.
— Необязательно, папа, вспомни католиков.
Она увлеклась непослушанием и немножко смутилась, когда он покраснел.
— Да, Марджори, ты знаешь много, я в этом убедился. Я рад, что ты так хорошо образована. Только, если ты по-настоящему любишь, то хочешь их, вот в чем дело.
— Ну, в этом мы расходимся, папа. Существуют разные виды любви.
Отец вставил весла в уключины и начал медленно грести. Глядя на свои движущиеся руки, он снова заговорил:
— Относительно путешествий: в этом что-то есть. Как только появятся дети, ты не сможешь путешествовать. Нет. — Он помолчал. — Довольно странно, мы говорили с твоей матерью об этом прошлой ночью. Мы не могли уснуть. Мы… ну, ты знаешь, мы беседовали. Мы говорили, что ты еще нигде не была. А посещая бесплатный колледж, ты позволила нам сэкономить примерно тысячу долларов. Поэтому, ну, такая идея, тебе хочется путешествовать? Думаю, мы сможем это организовать. Мы не так бедны.
Он повернул лодку так, что яркое солнце било ей прямо в глаза. Она, щурясь, смотрела на него и хмурила брови:
— Что все это значит? Нравится ли мне путешествовать? Да, я мечтаю об этом.
— Ну, если ты хочешь путешествовать, то почему бы и нет? — ответил он поспешно. — Возьми шесть-семь сотен долларов, съезди на Запад. Калифорния, Йеллоустонский парк, Большой каньон. Ты достаточно взрослая для самостоятельного путешествия. Ты встретишься со множеством разных интересных людей.
— Папа, я… — Она заикалась и смеялась. — Это настолько неожиданно, что верится с трудом… с голубых небес… зачем… спасибо. Может, мне лучше было бы получить это в письме…
— Не волнуйся. Это то, что ты заслужила, и ничего более. Мама сказала, шесть-семь недель перед началом занятий в колледже. Ты могла бы совершить чудесное путешествие, и еще…
— Что еще?! — Она пристально посмотрела на отца, но он не отводил взгляда от весел. — Вы же не собирались в поездку этим летом.
— Дорогая! Время для поездки выбирается тогда, когда выпадает случай.
— Но я же работаю, отец, у меня здесь работа. Я полагала, что вы имели в виду следующую весну, когда я закончу колледж.
— По словам твоей матери, Грич не платит тебе.
— Да, ты прав… Но мне нравится здесь. Прямо вот так, сорваться и пуститься в путешествие, сейчас, когда я… однако это безумная идея.
— Понимаешь, мы с мамой все обговорили, и таким образом возникла мысль о поездке, тем более что ты сама упомянула об этом… — его голос утих.
После недолгого молчания Марджори холодно спросила:
— Что, мать не могла сказать мне об этом сама? Почему она поручила это сделать тебе? — Он посмотрел на нее из-под седеющих бровей. Под глазами у него были большие темные круги.
— Какая разница, кто это сделает?
— Она, должно быть, действительно ненавидит Ноэля, если хочет расстаться с семьюстами долларами.
— Марджори! Пожалуйста, не думай, что мы пытаемся…
— В чем же дело? Отец, Ноэль — сын судьи Эйрманна, не так ли? «Как же высоко она хочет взлететь!» Так ты думаешь? Я просто прыгать должна от радости? Не хочу этим сказать, что отношения между нами ничего не значат для нас, но…
— Я думаю, что он очень умный и приятный юноша; так же считает мать.
— О, папа, скажи мне наконец, пожалуйста, о чем идет разговор? Если не ты, то мать это сделает рано или поздно со своей дипломатией парового молота. Что она имеет против него? Имя Ноэль? Ему оно также не нравится. Возможно, вскоре он избавится от него.
— Мать вспомнила некоторые вещи, Мардж. Мне трудно объяснить, дорогая…
— Продолжай же!
— То, что Белла Клайн рассказала ей, услышанное от Зигельманов. Я ничего не имею против этого человека, но если все это правда, а я в этом уверен… то он тебе не пара. Он, понимаешь, ковбойского типа парень, путавшийся с Бог знает сколькими девчонками и даже замужними женщинами. Я не хочу сказать, что он плохой, но он какой-то ленивый. Со всеми его способностями и талантами он не сделал ничего. Он спит целыми днями и пишет песенки только тогда, когда его заставляет голод. Он даже не общается со своим отцом. Говорят, что он атеист.
— Он не атеист. Он верит в Бога. Он сам так сказал мне.
— Марджори, я полагаю, ты не собираешься сказать мне, что религиозный человек мог бы вести такой образ жизни?
— Я не говорила, что он религиозный в твоих понятиях, у него есть свои. Какое ты имеешь право быть нетерпимым к его убеждениям? Неужели его надо считать дьяволом, уголовником или кровавым убийцей только из-за того, что он не верит, что будет поражен молнией, вкусив сандвич с ветчиной? Даже вы себе в этом иногда не отказываете. Смотрите, как бы и вас не покарал за это Бог. Может быть, вера Ноэля чище вашей. Хотя вряд ли вы это допускаете, не так ли?
Тяжело дыша, отец продолжал грести. Насупив брови, он посмотрел на нее и спросил:
— Он тебя любит?
— Да.
— Он так сказал?
— Да.
— Вы собираетесь пожениться?
— Нет.
— Как это — нет?
— Конечно, не собираемся. Влюбленные необязательно должны жениться.
— Не должны? Что же тогда они делают?
— Они наслаждаются общением, используя каждую минуту отведенного им времени.
— Понятно! Значит, они наслаждаются.
— Ты прав. Мне никогда не было так хорошо, как с Ноэлем.
— Я верю тебе, — вздохнув, отец снова налег на весла, направляя лодку к берегу. — Пора возвращаться, — сказал он.
Отрешенная и ожесточенная, она сидела на жесткой скамейке, прикуривая очередную сигарету. Отец, опустив голову так, что сомбреро скрывало его лицо, продолжал грести к берегу. В конце концов головной убор сполз набок и упал в мутную воду, но он даже не заметил потери. Сквозь волнистые седые волосы проглядывала розовая кожа макушки. Марджори подхватила сомбреро и стряхнула с него мутные капли воды.
— Пап, твоя шляпа.
Он бросил весла, при этом они выскочили из уключин и с грохотом увлеклись потоком воды, пока кожаные ремни рукояток не задержали их. Прикрыв ладонью лицо, он подался вперед, пригнувшись на одно колено.
— Пап?! — Он плакал. Слезы сбегали между пальцами, беззвучно капали в лужицу воды у его ног.
— Ради Бога, папа, не плачь. Для этого нет никаких причин. Я клянусь! — При этом у нее перехватило дыхание и стали вырываться сухие всхлипы, похожие на смех. — Не надо, папочка, вокруг нас люди на лодках. Они же все видят! — Она собрала всю волю, чтобы не заплакать самой. — Не стоит, со мной ничего не случилось.
— Извини. Все в порядке. Подай, пожалуйста, шляпу. — Он надел сомбреро, сдвинув его на затылок, и утер рукой лицо. — Все в порядке.
Отец вытянул из воды весла и уложил их себе на колени. Когда он вновь поднял на нее глаза, лицо у него уже было сухое и бледное.
— Так ты говоришь, ничего не случилось?
— Да нет же, ничего.
Он глубоко вздохнул:
— Конечно, ничего, кроме одной вещи, — и снова налег на весла.
— Ты, наверное, думаешь обо мне что-то плохое, я так понимаю?
Он посмотрел на нее со страданием на лице. Марджори продолжала:
— Если мы откровенны друг перед другом, давай во всем разберемся. Это будет лучше. Вы с мамой буквально напичкали меня своими предубеждениями, а я их принимала за добрый совет. Ноэль слишком прекрасный и порядочный человек, чтобы заставить меня что-то делать против моей воли. Мы с ним прекрасно проводим время. У нас не возникает проблем.
— Наши предубеждения! — промолвил отец и покачал головой. — Сколько времени ты его знаешь? Месяц?
— Мы познакомились год назад, но постоянно встречаемся месяц.
— Марджори! Я понимаю, мне надо было уделять тебе больше внимания. Наверное, я пренебрегал этим. Все дела, дела, а время проходит.
— Я ни на что не жалуюсь, папа, все было чудесно.
— Я постоянно спрашивал у матери: все ли в порядке с Марджори? Я умолял ее помягче относиться к тебе, больше беседовать, а не настаивать всякий раз на своем. Я объяснял ей, что девочку надо направлять, а не толкать, толкать и толкать постоянно. Она понимает это, но ничего не может с собой поделать. Мать говорит, что ты упрямая и доводишь ее до истерики. И это правда, я сам был этому свидетель. А ведь девочке нужна мать. Она должна быть более терпимой. Вернее, ты и мать. Ты более образованна, но зато она имеет жизненный опыт, поэтому прислушивайся к ней, даже если кое в чем не согласна.
— Папа, я все понимаю, но…
— Послушай, дорогая, я не хочу тебя дурачить. Мысль об этой поездке принадлежит матери. Но я умоляю тебя, делай то, что она говорит. Завтра не уходи из «Южного ветра». Собирайся в дорогу.
— Вы не доверяете мне? Я хотела бы знать это.
— О, небеса Господни, доверять тебе? Ты ведь еще глупый ребенок.
За все это время он впервые повысил голос и заговорил властным твердым тоном, который она часто слышала в его телефонных деловых разговорах. Она даже немного испугалась. Недалеко от них скользнуло красное каноэ с двумя девушками, и он смущенно посмотрел на них. Понизив голос, он сказал:
— Не исчезнет же твой Ноэль, если ты ненадолго уедешь, или он женится на ком-нибудь, так, что ли? К началу сентября ты вернешься и сможешь встречаться с ним сколько захочешь, если только у вас останется интерес друг к другу.
В другое время только мысль о путешествии на Запад одной привела бы Марджори в дикий восторг. Но в данном случае полностью проявился характер ее матери, которая подсовывала ей такую наживку с подло торчащим крючком.
— Что же, папа, твои доводы можно парировать тем же способом. Если я не поеду на Запад до весны, то Скалистые горы исчезнут? Я не хочу увольняться из «Южного ветра». Сейчас у меня Лучшее время в моей жизни. За месяц здесь я узнала больше, чем за четыре года в Хантере.
— Но я не хочу, чтобы ты научилась слишком многому. Это тебе достаточно ясно? — Он снова повысил голос и посмотрел ей в глаза. — Что с тобой происходит? Мне уже за пятьдесят, а ты не десятилетний ребенок, не будем дурачить друг друга. Ради Бога, давай поговорим начистоту. Неужели ты не понимаешь своего положения и какому риску ты подвергаешь себя? Сейчас перед тобой вся будущая жизнь. Ты можешь сломать ее в течение месяца, даже недели.
— О-о-о, это все ваши проклятые старомодные идеалы, твои и матери. Не надо мелодрам, папа. Ноэль вовсе не негодяй с большими черными усами, а секс — это не сотрясающая основы мира вещь, как ты думаешь, и моя жизнь не разобьется вдребезги, если у меня любовный роман. Папа, ты живешь в мире грез. Я бы могла остаться такой же, как была раньше, но не хочу, повторяю, не хочу. Ты слышишь меня? Пожалуйста, хочешь верь, хочешь не верь. И я также не собираюсь ехать на Запад. Скажи матери, что она сможет сэкономить семьсот долларов. Я не уйду из «Южного ветра».
Отец стиснул зубы, словно от боли.
— Марджори, где же мы тебя упустили, когда совершили ошибку? Что, наконец, с тобой происходит?
— О Боже, папа, просто уже тридцать пятый год и мы живем в Соединенных Штатах, вот и все! — При этом слезы ручьем хлынули у нее из глаз и закапали со щек. — Не надо говорить обо мне столь трагично, я не потерянный человек. Бог мой, теперь я начала рыдать! — Машинально улыбнувшись, она вытерла рукой лицо. — Папа, давай оставим этот разговор, ну пожалуйста. Как-нибудь все переживем. Лучше поспешим домой, я опаздываю на работу.
Прикусив нижнюю губу и уперевшись тонкими белыми ногами в перегородку, отец с усилием начал грести к берегу. С каждым взмахом весел поля его сомбреро колыхались на ветру.
18. Тореадор
Около двух часов дня, в завершение изысканного обеда, музыканты, сидящие в своей жаркой ложе над самой кухней, заиграли томное попурри Виктора Герберта. Широкополые сомбреро покачивались на их головах, а поверх пропотевших рубах были накинуты пестрые шали. Под звуки ударов ковбойского хлыста на середину сцены выпрыгнул высокий, стройный танцор в желтом костюме. Это был Ноэль Эрман, поразительно похожий на настоящего мексиканца, с длинными широкими бакенбардами, усами и коричневым гримом на лице. Его можно было узнать только по глубоко посаженным, сверкающим голубым глазам. Ботинки у Ноэля были отделаны серебром, костюм вышит, а с полей сомбреро свисали серебряные кисточки. Патронные ленты крест-накрест пересекали его грудь, а сбоку висел блестящий пистолет. Блеснув широкой белозубой улыбкой, он сказал по-испански: «Добрый день, сеньориты и сеньоры», — и снова рассек воздух плетью так, что находившиеся поблизости дамы взвизгнули, когда кончик хлыста щелкнул перед их лицами. После короткого объявления программы на испанском он со смехом покинул сцену. Из дверей кухни, через которые обычно бегают туда и обратно официанты с подносами, вышли, кружась, полдюжины танцевальных пар в ярких мексиканских костюмах. Последней замыкала шествие Марджори Моргенштерн, задыхающаяся от запаха пищи и жара плиты на кухне. Танцовщицы простояли минут десять между печью и горячим, обогревающимся паром столом, ожидая, когда в зал подадут ростбиф. Но все же девушки с воодушевлением вышли на сцену с возгласом «оле» и начали бросать посетителям розы, одаривая всех сладкими улыбками. Марджори пустилась в головокружительный мексиканский танец под шумные аплодисменты зрителей. Под алчными взглядами нью-йоркской публики она чувствовала себя жертвой пришедших на охоту людей.
После выступления она наконец присела за стол, где сидели ее родители, и устало вытерла с лица выступивший пот. В это время официанты выкатили на сцену обшарпанное пыльное пианино, потом из кухни вышел Ноэль с плетью в руках. Вновь приветствуя публику потоками испанского лексикона, он прошел к пианино, бросил плеть на его крышку и после короткой паузы начал исполнять мексиканские песни.
Ноэль составил программу четыре года назад, после полугодового бродяжничества по Мексике. В то первое лето он получил должность управляющего по общественным программам. Ему понравилась работа. Но в тот раз его энергичная подготовка ревю разительно отличалась от обыденного отношения к делу. Грич выделил приличную сумму на костюмы и декорации, предоставив в распоряжение Ноэля практически все средства. Расчет был поставлен на то, что мексиканская фиеста в «Южном ветре», намеченная на первое воскресенье августа, станет таким же популярным праздником, как 4 июля или День труда.
Вслушиваясь в пение Ноэля, Марджори забыла о головной боли, усталости и липком от пота костюме. Временами срывающийся голос Ноэля был похож на пение настоящего мексиканца. Марджори была очарована этими простыми, томными песнями, в такт с покачивающейся головой Ноэля, его вибрирующим голосом, который буквально заставлял ее таять. Сама она не аплодировала, но испытывала глубокую благодарность публике, приветствовавшей его, когда он вставал из-за пианино.
Марджори вздрогнула, когда во время очередной любовной песни услышала воркование матери: «Он бесподобен!» Марджори взглянула на нее. Миссис Моргенштерн с улыбкой глядела на Ноэля горящими глазами, постукивая одним пальцем по столу в такт медленной мелодии.
— И почему бы им дурацкие шутки клоунов не заменить сегодня на чудесные песни Ноэля?
— Они были бы еще чудеснее, если бы ты понимала их смысл, — ответил мистер Моргенштерн, — лучше бы он пел по-английски.
— Вы совершенно правы, — раздался голос из-за соседнего стола.
После неоднократных вызовов на «бис» Ноэль перешел на английский Он поблагодарил публику и объявил праздничную программу.
Весь день на ближайшей лужайке намечались фольклорные песни и танцы, а после этого — бой быков. К вечеру готовился мексиканский ужин на открытом воздухе, при свете факелов. Затем должен был состояться карнавал под брызги фейерверка над озером.
После всего Ноэль попросил гостей облачиться в маскарадные костюмы и пригласил всех проследовать за ним, чтобы бесплатно получить широкополые сомбреро, испанские гребни, мантильи и шали. Взрыв смеха и возбужденные голоса заполнили зал, когда он вновь щелкнул хлыстом и прокричал: «Hasta la fiesta!» — и под взрыв музыки выскочил на сцену.
— Я даже не знаю, — сказала миссис Моргенштерн супругу, — может быть, нам остаться ненадолго?
— А почему бы и нет? Будет очень весело, — поддержала ее Марджори.
— Роза, я не хочу ехать на ночь глядя, — ответил отец безразлично, избегая взгляда Марджори.
— Ну хорошо, — сказала миссис Моргенштерн, — когда же будет бой быков? По-моему, в четыре часа? А до Сэт-кемпа только два часа езды. Мы посмотрим бой быков и еще дождемся выступления Самсона-Аарона. Ты просто умрешь со смеху.
— Неужели в дурачестве этого дядюшки ты находишь что-то новое? Я могу вполне обойтись без него.
Марджори стояла, не вмешиваясь в разговор. В таких спорах слово матери обычно брало верх.
— Прекрасно, встретимся позже, — сказала дочь, — идите на лужайку и займите хорошие места.
— А куда ты собралась? — спросила мать.
— Зайду в бунгало, мне нужно переодеть костюм.
— Я пойду с тобой. — Мать отодвинула стул. — Мне бы хотелось посмотреть, как ты живешь. — Они оставили отца за столом. Он мрачно перекатывал сигару между губ.
— Твой Ноэль вполне талантлив, — сказала миссис Моргенштерн, пересекая вместе с дочерью поляну. — Где он научился так петь?
— На самом деле не слишком хорошо.
Солнце нещадно пекло голову Марджори, но влажный бриз ласкал кожу, проникая сквозь материю. От усталости, головной боли и эмоционального напряжения выходного дня чувство реальности покинуло Марджори. Все вокруг нее происходило как бы в цветном, шумном и ярком сне.
— Его искренность производит более свежее впечатление, чем у большинства певцов, — уточнила Марджори.
— Но он действительно играет на пианино необыкновенно. Что ж, я уверена, он мог бы этим неплохо зарабатывать на жизнь, — задумчиво произнесла миссис Моргенштерн.
— В девятнадцать лет он уже создал свою музыкальную группу.
— Неужели? Поразительно! Этот молодой человек может все, не правда ли? О! Ты только видела бы его сегодня утром на репетиции с дядюшкой и быком. Он очень умен. А как он рассуждает!
Они вышли на тенистую аллею. Марджори искоса взглянула на мать, удивляясь, к чему она ведет речь.
— Однако, Марджори, меня беспокоит поведение дяди. Ты знаешь, он прыгает и танцует при такой жаре, как будто на свадьбе. Мужчине уже за шестьдесят, в нем тонна веса, а он ведет себя, как я не знаю кто… как школьник, как ненормальный.
— Мама, ничего не поделаешь с Самсоном-Аароном. Таков уж он есть.
— Но я пыталась кое-что сделать. Старик лежал и отдыхал перед выступлением, а я подошла к Гричу и сказала все, что думаю о нем. «Вам должно быть стыдно заставлять старого человека выделывать эти обезьяньи трюки». А этот Грич, он посмотрел на меня с дьявольским выражением на лице и не проронил ни слова. Он знал, что я права.
— Он ни к чему не принуждал Самсона. Дядя сам хотел быть тореадором. Это почетная и забавная роль.
— Это то, что тебе известно. Ему платят за это сто долларов.
— Кто тебе сказал такое? — удивилась Марджори.
— Это так. Вначале, когда его попросили выступать, он сказал «нет», и в конце концов Грич пообещал ему сто долларов, после чего он согласился. Старый дурак, ему нужны деньги, чтобы покупать вещи для ребенка Джеффри.
— Мама, он не получает деньги. Грич никогда не стал бы платить. Дядя делает это ради смеха. Он сам мне так сказал.
— Он сказал это тебе. Но меня-то не стоит кормить такими сказками.
— Вот мое бунгало.
Марджори быстро приняла душ. Закрывая воду, она услышала, как мать напевает слова из песенки «Поцелуи дождя». Обернувшись полотенцем, она выскочила из ванной.
— Но это же песня Ноэля. Ты говорила, что не слышала ее… — прошептала Марджори.
— Я знаю, что это песня Ноэля, — смеясь, ответила мать. Она полулежала, облокотившись на кровать дочери. — Он наиграл мне ее сегодня утром. Конечно, я слышала ее раньше. Просто я не помнила слов.
— Вы стали хорошими друзьями, не так ли? — осторожно спросила Марджори.
— Не стой мокрой на сквозняке, оботрись и оденься.
Взяв свежее белье и новый костюм, Марджори вернулась в ванную комнату. Через открытую дверь она спросила:
— Как это получилось, что он исполнил для тебя песню?
— После репетиции мы с Ноэлем разговорились. Он очаровательный мужчина. Я не виню тебя за то, что ты влюбилась в него. Если бы я была на несколько лет моложе, то смогла бы соперничать с тобой. — Миссис Моргенштерн засмеялась.
Придерживая на себе полотенце, Марджори подошла к матери и взглянула ей в глаза.
— Тебе действительно нравится Ноэль Эрман?
— Он в самом деле мог бы очаровать любую индейскую девчонку из табачной лавки. Ну и, конечно, он мне тоже понравился. Ничего не могу с собой поделать.
— Но ты же не одобряешь его.
— Я этого не говорила. Давай же одевайся.
Когда Марджори вновь скрылась в душевой, мать с любопытством спросила:
— Что у него с рукой?
Марджори почувствовала, как холодок тревоги пробежал у нее с головы до пят.
— У него с рукой все в порядке.
— Он как-то странно держит левую руку…
— Нормально держит.
— Ну хорошо, он научился работать рукой, держать ее и все такое, просто чудесно, но она слегка покалечена, не так ли?
Марджори стояла в проеме двери в нижней рубашке. Глаза ее горели на фоне белоснежных белков, под вздернувшейся губой блестели зубы. С хрипотцой в голосе она сказала:
— Если ты будешь изливать на Ноэля свою неприязнь из-за случившегося с ним при рождении, не по его вине, из-за того, что он сумел преодолеть за счет своей непостижимой силы воли, предупреждаю тебя…
— Почему ты постоянно говоришь, будто я имею что-то против него?
— Потому что это так, так, так!
— Да нет же.
— Да, так!
— Послушай, я же тебе говорила, что он нравится мне, в самом деле. Ну, в чем дело? Я должна поклясться на Библии? Что ты так смотришь на меня? Неужели я такая идиотка, что не могу оценить столь достойного молодого человека?
— Наверное, ты делаешь это впервые, — сказала Марджори, глядя на мать с выражением испуганного зверька.
— Неправда, первый раз это было, когда ты показалась с Сэнди Голдстоуном. Я сказала, что он прекрасный мальчик и выгодная пара… Правда, я никогда не утверждала, что он гений. А как же тот парнишка, Билли Эйрманн… Извини, но я не могу сказать, что Ноэль является важной личностью в своем бизнесе. Было бы глупо утверждать иначе.
Ухватившись рукой за косяк двери, Марджори старалась удержать равновесие. Даже после приема двух очередных таблеток аспирина она чувствовала себя все более разбитой и вялой. Она собралась с мыслями, чтобы разрешить неясное подозрение, которое преследовало ее, разрывая на части каждую ниточку сознания.
— Итак, Ноэль — просто щеголь? Не потому ли ты отправила сегодня утром отца ко мне, чтобы он в качестве взятки предложил мне поездку на Запад? С единственной целью: удалить меня на следующий день из «Южного ветра»? И это по той причине, что ты хорошо относишься к Ноэлю?
— Да, для тебя это лучший выбор, — спокойно ответила мать. — Я знаю, что ты обо мне думаешь. Ты смотришь на меня в ожидании, что я выхвачу нож и что-нибудь сотворю с тобой. Поэтому я попросила отца передать тебе это предложение, надеясь, что ему повезет больше. Он сделал это великолепно, не правда ли? Великий дипломат. Мне хочется смеяться. Оказывается очень легко быть дипломатом. Но он годами твердил мне: «Я не дипломат». Он просил меня чутко относиться к дочери, которая влюбилась в ничтожество, умолял уважать ее готовность совершить глупость. Посмотрим, как это все будет выглядеть. Живей одевайся. — Мать подошла к двери душевой. — А помнишь, когда ты пришла с Джорджем Дробесом? Вспомни.
— Я помню. — Марджори начала надевать платье.
— Как ты возненавидела меня, когда я заметила, что твой кавалер далек от Кларка Гейбла, президента Рузвельта, Эйнштейна или Юлия Цезаря! Он выделялся только своим красным носом обыкновенного студента из Бронкса. Помнишь?
— Мне было тогда только пятнадцать…
— Это продолжалось в течение двух с половиной лет, дорогая доченька. Была ли я права или нет? Мне что, надо было выскакивать от радости на улицу, когда ты тащила домой своего Джорджа? За кого ты меня принимала бы, за дьявола, монстра или бессердечную злодейку, осмелься я вообразить на минутку, что существует Ноэль Эрман, который талантливее, намного симпатичнее и превосходит всем твоего чудесного Джорджа Дробеса?
— Отлично! — воскликнула Марджори, покрывшись румянцем. — Что ты мне прикажешь делать, лизать тебе пятки, потому что ты старше меня и разбираешься в жизни больше, чем пятнадцатилетняя девчонка? Я не стыжусь и никогда не буду стыдиться, что любила Джорджа. Это добрый, нежный и блестящий человек. Но, к несчастью, он…
— И как он по сравнению с Ноэлем Эрманом, дорогая? Если бы не я, запомни, ты никогда не встретила бы своего мистера Эрмана. Сейчас ты была бы миссис Дробес с Северного бульвара.
— Ты несправедлива и недобра. Эти качества к тебе не относятся, — задыхаясь от гнева, сказала Марджори.
— Пусть будет так. И пусть я буду нетактична, но прошу тебя помнить об одном дурацком моем свойстве: быть иногда правой. Я и дальше собираюсь спорить с тобой, как делала в тот раз, ради твоего же блага. Ты сказала отцу, что не собираешься выходить замуж за Ноэля. Не надо мне только рассказывать сказки. Если ты не честна с другими, так не лги по крайней мере сама себе. Ты только и думаешь, как бы заставить Ноэля жениться на тебе, устроить свою жизнь и выдвинуться за счет его таланта. Вот о чем ты мечтаешь на самом деле. Это трудная задача, но, послушай, вполне выполнимая. Как-никак, яблоко от яблони недалеко падает, а судья Эйрманн очень большой человек.
— Я не собираюсь замуж за Ноэля. Я ничего не планирую. Просто я наслаждаюсь. Именно это вы с отцом не можете понять. Я не обязана просчитывать каждый свой шаг, мне не пятьдесят пять лет. Ради Бога! Мне только двадцать. Ноэль восхищает меня, он блистательная личность. Как ты сказала, он очарователен, только вы не знаете, насколько он очарователен, вы даже не можете представить. Действительно, это чудо — быть рядом с таким человеком.
— Что же, какой ты была, такой и останешься. Говори что хочешь, а я не слепа. Мне достаточно видеть, как вы смотрите друг на друга. Он влюблен в тебя.
— Большей глупости мне не приходилось слышать, — сказала Марджори, и с радостным волнением, охватившим ее, она подумала, что с возрастом мать начала меняться, причем в лучшую сторону. Расправив юбку, она направилась к выходу.
— Извини, мам, что я вынуждена прервать столь прелестную беседу, но мне надо работать.
— Если ты задержишься на минутку, Грич не уволит тебя, особенно за те деньги, которые он тебе платит. Выслушай меня, это очень важно. Твой друг Ноэль так обращается с девушками, что он не может ни одну воспринимать слишком серьезно, даже великую Марджори Моргенштерн. Твоя проблема в том, чтобы заставить его быть серьезным. И поверь мне, что есть способ добиться этого: надо сломить его самолюбие. Ты оказываешься в невыгодном положении. Ты находишься поблизости, ты работаешь для него. В любое время дня или ночи ты у него под рукой, а ему на это наплевать. Это слишком просто. Пусть он немного почувствует твое отсутствие. Вот это первым делом придется тебе сделать.
«Это удивительно, — подумала Марджори, — как иногда мама может добираться до самой сути дела». А дело было в том, что за последние недели она почувствовала: он пренебрегает ею, и это задевало ее самолюбие. Она даже рискнула выразить свое недовольство Ноэлю по поводу его невнимания к ней. Но, услышав это, он громко рассмеялся; он был просто поглощен мыслями о празднике, как он объяснил это. Такие доводы были вполне приемлемыми, и она приняла их. Но она не забыла холодности в его настроении и страха стать презираемой и отвергнутой Ноэлем, вот что мучило ее эти два дня.
Она сказала, смеясь, не совсем удачную фразу:
— Ну, он, вероятно, будет просто рад избавиться от меня, если я уеду на Запад; это будет конец всему.
— Марджори, если в этом дело, не время ли сейчас все выяснить?
— Папе он не нравится, я знаю. Он ненавидит его.
— Он не ненавидит его. Он относится к нему с подозрением, вот и все. Он не думает, что такой мужчина достаточно хорош для тебя. Послушай, Марджори, я не хочу обманывать тебя. Я не переполнена счастьем. Человек, который изменяет свое имя, автор песен из Гринвич-Виллидж… но, послушай, ты влюблена, ты почти уже закончила колледж. Его происхождение — превосходное. Он — человек со странностями, но и ты тоже странная. Моя актриса! — Мама улыбнулась ей нежно и немного иронично.
— Тебе на самом деле… тебе все-таки действительно нравится Ноэль?
Миссис Моргенштерн покачала головой.
— Я не говорю, что он как раз тот человек, который тебе нужен. Я не знаю. Я делала все возможное в течение двадцати лет. А сейчас предстоит решать Богу.
— Мы поговорим о поездке позже, мама. Позволь мне подумать об этом.
— Подумай обо всем, что тебе требуется.
Все места были заняты. Множество зрителей пришли посмотреть бой быков, многим не хватило мест, и они сидели на траве, на подушках. Круглая арена для боя быков была отгорожена желтыми складными стульями, стоящими в пять рядов на лужайке; они занимали три четверти окружности. В свободной четверти, рядом с проходом, располагался оркестр. Музыканты были в сомбреро, их инструменты лежали рядом на траве, а листы нот на неустойчивых подставках развевались от легкого дуновения ветерка.
Марджори готовилась вместе с другими танцовщицами к выступлению, а на лужайке в это время люди смеялись, кричали по-испански и бросали розы. Она была удивительно веселой. Поразительное дружелюбие ее мамы по отношению к Ноэлю давало ей надежду, что все закончится хорошо. Марджори размахивала подолом юбки так кокетливо и бросала такие сверкающие улыбки гостям, что многие мужчины наблюдали только за ней, не обращая внимания на других танцовщиц.
Было и странно, и приятно танцевать на траве летним солнечным днем! Круг зрителей представлял собой прекрасное зрелище. Прежде, утром, они неприятно поразили ее. Гости развлекались на лужайке в дешевых сомбреро и розовых марлевых накидках, они пели отрывки из «Ранчо Гранд» и «Сьелито Линдо», называли друг друга Педро и Кармен, стараясь произносить слова с мексиканским акцентом. Часто это было монотонное пение импровизированных песен Бронкса и Бруклина. Марджори пришло в голову, что эти песни могли хорошо проиллюстрировать рассказ о Нью-Йорке. Но сейчас, кружась в танце и улыбаясь, Марджори глядела на зрителей и думала, что они были точно такими же, как она сама, такими же юными, старающимися не пропустить каждую минуту веселья, мечтающими о счастливом браке, который искали по всему миру, а этот мир с каждым годом становился все более сложным и неустойчивым. Она даже посочувствовала полицейским, которые носили сомбреро с щегольски поднятыми кверху полями.
Днем стало прохладнее, тени деревьев сделались длиннее. Когда танцы закончились, Марджори присоединилась к родителям, чтобы посмотреть бой быков. Миссис Моргенштерн заняла для нее свободный стул, при этом она очень грубо отгоняла всех от этого места.
— Это невежливо, ты же знаешь, — сказала, тяжело дыша, Марджори, с благодарностью опускаясь на стул. Она заметила недовольные взгляды гостей, сидящих на корточках на траве. — Я просто нанята в помощь.
— Пусть он уволит тебя, этот дьявол, — ответила миссис Моргенштерн. — За те деньги, что он платит тебе, ты можешь посидеть на стуле.
Начался бой быков.
Ежегодная коррида, проводимая в «Южном ветре», хотя по-своему яркая и красочная, имела очень отдаленное сходство с мрачным, но доблестным ритуалом, описанным в произведениях Эрнеста Хемингуэя. Сначала оркестранты выстроились в конце арены, где должен был состояться бой быков, и промаршировали вперед, играя музыку, которая возвещала о начале представления, но мелодия была невыразительной и звуки раздавались как-то отрывисто. Затем последовала процессия из официантов и служащих, помогавших при проведении боя быков, и глупо ухмылявшихся посыльных. Все они были одеты в разноцветные костюмы тореадоров. Костюмы были им ужасно тесны и ограничивали их движения. «Тореадоры» тяжело передвигались в своих красных марлевых накидках, расшитых золотистыми блестками. Некоторые из них сидели верхом на лошадях, взятых из лагерных конюшен. Лошади также были украшены тканью кричащего цвета, перьями и бумажными длинными узкими лентами. Когда шуточный пародийный строй вышел вереницей с арены, раздались отдельные аплодисменты и послышался смех.
— Это прелестно, однако, — сказала миссис Моргенштерн, наблюдая, как марширующие вставали полукругом перед выходом. — С ними было много хлопот.
— Ноэль сделал все, — подтвердила Марджори. — Он даже сконструировал костюмы.
Музыка смолкла. Хихиканье и крики затихли. Прохладный легкий ветерок развевал длинные ленты на лошадях. Все смотрели на вход. Раздалась барабанная дробь, и оркестр заиграл арию Тореадора из оперы «Кармен». Тореадоры начали петь хриплыми голосами хором, а из-за кулис появился Самсон-Аарон, ехавший верхом на длинной и тощей старой белой лошади.
На нем было бледно-лиловое трико очень большого размера, которое натягивалось от колен до подмышек, белые шелковые чулки, темно-красные лакированные башмаки, с серебристой отделкой пиджак темно-красного цвета, едва закрывавший его плечи. На голове была очень маленькая плоская шляпа матадора с двумя темно-красными помпонами. Сбоку к поясу вместо шпаги был прикреплен громадный нож, которым мясник разделывал туши. Когда Самсон-Аарон рысью въезжал на арену, его огромный живот подпрыгивал в натянутом трико, грозившем лопнуть, как непомерно раздутый бледно-лиловый воздушный шар. Всадник был таким грузным, что казалось, будто он свисал по обе стороны своей костлявой клячи. На его лице была мрачная усмешка, когда он кланялся подобающим образом. Марджори и миссис Моргенштерн начали громко хохотать над его причудливым, смешным видом, как только дядя появился на арене, и даже папа Марджори после упорного ворчания запрокинул голову и рассмеялся, а это редко с ним случалось. По всей лужайке раздавались аплодисменты и хохот. Самсон-Аарон объехал не спеша арену по кругу, приподняв свою маленькую шляпу и приветствуя зрителей, и потом удалился, оставив зрителей, продолжавших смеяться. Музыканты промаршировали за ним и вернулись в оркестр. После этого тореадоры разошлись по разным концам арены и заняли свои места, они стояли, грозно подняв для атаки картонное оружие.
Раздался звук охотничьего рога, и на арене появился фыркающий бык.
Этот бык был необыкновенно похож на настоящего. Падлс Подел нес голову, а заднюю часть изображал сварливый рабочий сцены, который очень гордился своей ролью. В течение четырех лет эта пара мастерски играла роль увертливого, устрашающего быка, подражала его походке и поведению. У животного были ужасные широко раскрытые глаза, которые могли вращаться и закрываться. Рот с неровными зубами открывался и закрывался с помощью тесемки, иногда из него высовывался громадный красный язык.
Сначала животное било копытом по земле и пыхтело, кружась в середине арены, затем бык издал страшный рев и пошел прямо туда, где сидела семья Моргенштернов. Его глаза смотрели пристально на них, его острые изогнутые рога плясали в воздухе, приближались, и казалось, что они вот-вот вонзятся в зрителей. Рот быка был широко открыт, обнажая ужасную красную пасть. При этом зверь дико ревел. Тореадоры с пронзительными криками бросались по очереди на него, безуспешно преграждая ему путь; и когда бык очутился возле зрителей, Марджори немного испугалась, что было совсем непохоже на нее. Некоторые из гостей, сидящие впереди, быстро наклонили головы и пригнулись, а одна полная девушка, визжа, убежала. В нескольких дюймах от стульев бык внезапно остановился, услышав голоса людей, которые сообщали о перерыве. Когда полная девушка робко возвращалась на свое место, язык высунулся изо рта быка и лизнул ей руку; затем бык понюхал ее сзади, начал вращать глазами и брыкнул задними ногами в воздухе.
После перерыва коррида продолжалась. За десять минут боя тореадоры были рассеяны, а некоторые из них лежали на траве, вероятно, пронзенные рогами быка насмерть. Рассвирепевший бык, тяжело дыша, стоял в центре арены; он был украшен лентами из крепа, его язык свисал почти на три фута. Оркестр заиграл арию Тореадора, и Самсон-Аарон вышел, переваливаясь, на арену. У него был большой нож мясника, прикрепленный к ремню для правки бритв.
Глупость происходящего была неописуема. Марджори смеялась так сильно, что в какой-то момент упала со стула. Сидя на траве и обхватив голову руками, она покатывалась от смеха, и по ее щекам текли слезы. Все зрители хохотали непрерывно, от смеха у них заболели животы, а те, кто уже не мог больше смеяться, просто стонали. Дядя стал преследовать быка; бык погнался за ним, между ними начался поединок по боксу, они ударяли друг друга; затем бык встал на колени и начал просить пощады; он выхватил большой нож мясника зубами и взмахнул им у дяди перед носом; и дальше на арене продолжались такие же сумасшедшие трюки. Ноэль использовал в представлении комические номера предыдущих лет и, кроме того, придумал несколько новых; а Падлс и Самсон-Аарон разработали еще несколько своих сцен. Марджори никогда раньше не смеялась так громко и так безудержно. В конце представления, когда дядя с большим, поднятым кверху ножом был уже готов отправить быка на тот свет, он произнес под пристальным взглядом животного первые строчки из иудейской молитвы по умершему. Бык поднял голову и точно промычал мелодию. Дядя опустил огромный нож, поразившись этому, и спросил быка на идише, откуда он родом. Обменявшись несколькими словами на идише, бык и тореадор обнаружили, что они оба родом из одного небольшого городка под Одессой. Самсон-Аарон бросился к быку, обнял и поцеловал его. Оркестр заиграл музыку веселого русского танца. Дядя начал прыгать и кружиться, затем он сел на корточки и стал танцевать вприсядку, при этом его живот ужасно трясся. Бык пристально посмотрел на него, также присел на корточки и начал попеременно выбрасывать все четыре ноги на манер русского танца. Было в этом невероятно смешном зрелище — гигантский тореадор в штанах бледно-лилового цвета и бык с высунутым языком, танцующие вприсядку и кричащие «Эй! Эй!» — что-то такое, из-за чего Марджори опять упала со стула. Самсон-Аарон и бык, танцуя, вышли с арены по-дружески бок о бок, и все гости встали с мест и зааплодировали, и начали бросать свои сомбреро в воздух.
Зрители продолжали аплодировать и приветствовать громкими возгласами актеров. Они не удовлетворились простыми поклонами. Даже когда Падлс снял с себя маску головы быка и попытался произнести благодарственную речь, вытирая багровое лицо, они не хотели его слушать. Быку пришлось вернуться на середину арены, и Самсон-Аарон вынужден был нападать на него снова, отстегивая свой огромный нож для разделки мясной туши с ремня для правки бритв. Они повторили весь номер целиком. Но в этот раз в конце выступления Самсон-Аарон не танцевал, он просто сел на землю, скрестил руки, поднял ноги и стал попеременно их поднимать, как будто в танце. Затем он встал и пошел, покачиваясь, к быку, обнял его руками за шею и показал жестами, как он устал. Зрители снова смеялись этой импровизации, но миссис Моргенштерн сразу стала серьезной и поднялась со стула.
— Что случилось с ним? Почему он делает это?
— Не говори глупости, мама, — сказала Марджори, — это его идея: дурачиться, изображая из себя клоуна. Вот и все. — Но мама уже пробивалась через сидящих людей.
Они нашли дядю за сценой на складном стуле, он был окружен исполнителями корриды. Марджори сильно испугалась на мгновение, когда увидела группу людей вокруг полного человека в бледно-лиловой одежде, но успокоилась, услышав, что они смеются.
— Привет, Мардж! — громко сказал дядя. Его лицо было бледным, и трико от пота покрылось темными пятнами, но глаза светились от успеха и радости. — Ну, ты и я, мы выходим на сцену и получаем много денег, да? Дядя — настоящий Чарли Чаплин! Если бы я смог обнаружить у себя такой талант раньше, я был бы уж миллионером, а не посудомойкой, да? Чушь! Такой испытательный срок.
Это очень подходит для меня и идет мне на пользу, так как я уже потерял двадцать фунтов.
— Ты хорошо себя чувствуешь, дядя? — спросил отец Марджори.
— А почему нет? Разве небольшое упражнение причинит вред человеку?
Падлс, стоящий в шкуре быка с маской головы под мышкой, возмутился:
— Что это все беспокоятся о нем? А почему не обо мне? Я едва не умер внутри этой проклятой головы.
— Ты! — сказала миссис Моргенштерн. — Ты же молодой человек. — Она пыталась сразу же отправить Самсона-Аарона отдыхать, но он настаивал на том, чтобы проводить семью Моргенштернов к машине.
— Чтобы я не пошел и не сказал до свидания? Что я, калека какой-нибудь?
Когда они проходили по лужайке, с которой убирали стулья, составлявшие арену, гости аплодировали дяде, и ему приходилось неоднократно снимать матадорскую шапочку.
— Чтобы посудомойщик пользовался такой популярностью, а? — сказал он. — Милтону следовало бы знать это. — Лицо пожилого человека сияло от радости, покрытое потом, помпоны на шапочке раскачивались из стороны в сторону. Обычный румянец залил его толстые щеки, и он стал напевать старую еврейскую песню, как будто один шел весело вперед.
Чемоданы родителей были уже уложены в машину, которая стояла на автостоянке за конторой.
— Ну, я думаю, что это прощание, — сказала мама. Она бросила сомбреро отца на заднее сиденье.
Мистер Моргенштерн обнял Марджори быстро, крепко, волнуясь и не глядя на нее.
— Следи хорошо за моей дочерью, — сказал он и похлопал Самсона-Аарона по спине. Потом торопливо сел за руль.
Мама всматривалась в лицо Марджори, прищуривая глаза:
— Итак? Никаких решений?
— Мама, я действительно… я признаю это, поверь мне, я подумаю. Ты можешь быть спокойна. Когда ты с папой будешь дома, в среду? Я позвоню вам.
— Не жди до среды. Если ты все же решишь сегодня вечером или завтра, в общем, как только надумаешь, позвони мне в Сэт-кемп. Я тогда свяжусь с офисом отца, и они все подготовят для тебя. — Она дала ей номер телефона. — Марджори, сделай это.
— Может быть, я поступлю так, Я на самом деле смогу, мама.
— Хорошо. — Миссис Моргенштерн повернулась к дяде. Ее лицо омрачилось. — Итак, Самсон-Аарон? Ты хочешь выслушать меня? Хватит глупостей. Брось эту работу. Возвращайся домой. Мы найдем тебе что-нибудь получше.
— Почему? Я зарабатываю доллары, это хорошо, я добываю… я понимаю, Марджори…
— Ты же немолодой человек. Почему ты должен держаться за эти глупые трюки? Посмотри на себя, работаешь как лошадь, танцуешь как сумасшедший. Посмотри на свои руки, они все порезаны разбитыми тарелками. — Дядя виновато спрятал красные порезанные руки за спину. — Какой же будет конец, дядя? Ты собираешься быть Самсоном-Аароном всегда?
Дядя улыбнулся.
— Кем же еще мне следует быть, если не Самсоном-Аароном? До свидания, Роза, ты — хорошая, ты мне как сестра.
Мама тяжело вздохнула, надув щеки. Она перевела взгляд с дочери на пожилого человека.
— Я пытаюсь решить все. Почему? Этот мир принадлежит Богу. — Она поцеловала их обоих. — Следите за собой. И… и становитесь взрослыми, вы оба. — С улыбкой, пожав плечами, она села в автомобиль. Машина тронулась, и гравий захрустел на дорожке. Глядя ей вслед, Марджори почувствовала покрытую шрамами, влажную руку дяди, нежно сжимающую ее ладонь.
Она потянулась к плечу дяди и поцеловала его в колючую щеку.
— Давай мы оба пойдем сейчас и приляжем отдохнуть. Я умираю от усталости. Тебе не придется мыть посуду сегодня вечером, не так ли?
— Я сегодня обедаю за одним столом с мистером Эрманом. Он — важная персона.
— Хорошо, увидимся позже. Ты иди и отдохни сейчас, как говорила мама.
— Ты не думаешь, — сказал дядя, — что я сыграю партию в теннис? — Они пошли разными тропинками. Марджори еще видела его какое-то время. Он двигался с трудом вверх в гору к домикам, где находилась кухня: громадная ковыляющая фигура в бледно-лиловом трико и темно-красной матадорской шапочке.
Марджори направилась к своему бунгало; она шла, почти шатаясь от внезапного прилива усталости, а придя домой, упала на кровать, совсем обессилев.
19. Вальс «Южного ветра»
Поцелуй разбудил ее. В поцелуе чувствовался сильный запах рома. Было еще светло. Уолли Ронкен стоял, наклонившись над ней и немного покачиваясь. На нем была желтая рубаха и серые фланелевые брюки; не проходило ни одного праздника, чтобы он не напился.
— А, принцесса, проснулась, — проговорил он.
— Скажи, зачем ты действуешь мне на нервы? — Марджори посмотрела на него сонными глазами, затем потянулась, непроизвольно зевнула; на ней по-прежнему был костюм, в котором она выступала, — короткая юбка и лиф. — Ты уйдешь сейчас же отсюда. Тебе никто не позволял находиться здесь. И с чего это ты вздумал целовать меня, когда я сплю? Мне следовало бы ударить тебя за это.
— Почему, это же классический способ пробуждения спящей красавицы, — сказал Уолли. — Я разрушил чары колдовства столетней давности, принцесса. Часы снова тикают в замке. Повара и конюхи зевают и потягиваются. Король вновь стал считать свои потускневшие деньги, а паук заканчивает плести паутину, которая висела незаконченная и пыльная целый век…
— Ты пьян, — произнесла Марджори, зевая. — И сейчас уже не средневековье. Ты отвратителен.
— Да, я знаю, принцесса. Я действительно отвратителен. Но я не всегда был таким. — Он говорил медленно, но достаточно ясно, делая изящные жесты стаканом и не замечая, что проливает спиртное. — Сейчас, когда я избавил тебя от колдовства, ты не расколдуешь меня? Знаешь, принцесса, злая ведьма превратила меня в отвратительную жабу в очках. Один поцелуй этих девственных губ, и на твоих глазах я превращусь в стройного, высокого, красивого человека с золотистыми волосами, в черном свитере директора по социальным вопросам. Мы с тобой поженимся и будем счастливы всю оставшуюся жизнь; она будет у нас с поцелуями, рублеными шницелями и рестораном, где стоит автомат для изготовления кофе.
— Не будь таким смешным. — Она взглянула на часы. — О Господи, уже половина седьмого.
— Тебя хотят видеть в конторе, — сказал Уолли, — эти «сильные мира сего», особенно я.
— Ноэль?
— Христос с ним. Скажи мне, я бы тебе понравился больше, если бы меня звали Аш Вензди Вронкен?
— Уходи отсюда. Я спущусь туда через минуту. Что он хочет?
— Твое прекрасное белое тело. А кто не хочет его?
— Боже милостивый, сколько же ты выпил?
Он осушил стакан и бросил его в сторону, а затем поплелся к двери и обернулся.
— А сирени нет. — Он показал пальцем вверх. — Слышишь? Нет сирени.
— Что?
— Она не помнит, — сказал он, глядя на потолок. — И эти слова остались в моем сердце. «Ты получишь еще поцелуй, — говорила ты, — когда мы найдем такую сирень снова». Я получил его, малышка. А сирени нет. Я обманул тебя.
— Сирень или не сирень, я вообще не собиралась прибегать к крайним мерам с тобой, но если ты не прекратишь вести себя как ребенок…
— Она не знает тайны, которая хранилась в сердце поэта. Уход со сцены Марчбэнкса — человека, сорвавшего банк. Пусть играют марш, — сказал Уолли. Он вышел из двери и тут же упал вниз головой со ступенек лестницы со страшным грохотом. Когда Марджори в тревоге подошла к двери, он стоял на коленях и очищал себя от грязи и опавших листьев. — Это не причинило никакого вреда. Мне — ничего. Скажи мне, между прочим, как твоей родне понравился Ноэль?
— Вставай и уходи отсюда, ты, неотесанный болван, пока я не сообщила полицейским о тебе как о чрезмерно любопытном человеке.
Он поднялся на ноги, щурясь и оглядываясь вокруг. Его лицо выглядело странным, взгляд был пустым и беззащитным.
— Если вынесено обвинение, то мне нужны мои очки. Я не могу видеть даже собственную руку без них.
— Они как раз за твоим каблуком. Не наступи на них.
Уолли надел очки и посмотрел на нее украдкой.
— А, так лучше. Доктор Ливингстон, я осмелился?..
— Уходи. — Она вошла в бунгало, но вскоре снова появилась на улице. Хотя Марджори проспала два часа, она чувствовала, что ее силы не восстановились, и была сонной. Этот день, казалось, был самым длинным днем в ее жизни. Как будто целая неделя прошла со времени ее разговора с отцом в лодке. Марджори, одетая в зеленое хлопчатобумажное платье, побежала вниз по тропинке по направлению к конторе.
— Давайте сохраним наше достоинство, пожалуйста, мисс Морнингстар, — услышала она слова Уолли, когда вышла на лужайку. — Что, Катарина Корнелл сбежала? А Бернхардт?
— Вы снова?
Он подошел к ней и стал ходить за ее спиной.
— Что на самом деле сказала твоя родня? Понравился ли им наш мужчина — обладатель тысячи достоинств?
— Он понравился им гораздо больше, чем вы в вашем теперешнем состоянии, вот что я вам скажу. Стыдитесь. Вы еще совсем ребенок, а уже так напиваетесь в середине дня.
— У меня есть несколько ответов на это. Половина седьмого — это не середина дня, а конец его. Я не пьян, я немного выпил в лучших традициях английского джентльмена. Я не ребенок, а изумительно талантливый молодой писатель. Поэтому требую к себе соответствующего уважения, и я решительно советую вам подумать, чего стоит ваш выбор…
— Вот о чем я собираюсь поговорить с вами, Уолли, когда вы будете более трезвым. О вашем произведении. Вам необходимо все исправить, мой мальчик.
— О, в самом деле? — Он указал на палатку. — Извини меня, я отойду, чтобы восстановить силы несколькими глотками спиртного. Я мигом, это не займет много времени. Может быть, вам тоже принести?
— Нет, спасибо. Вы извинитесь за этот вечер. Идите, продолжайте в том же духе, превращайтесь в свинью. Только держитесь от меня подальше.
— Не в свинью, а в лягушку. Принца-лягушку. Пожалуйста, не оставляйте меня. Нет другой такой чистой девушки в пределах тысячи миль.
Марджори скорчила ему рожу и вошла в здание. Ноэль сидел за фортепиано, разучивая мексиканскую песню с группой собравшихся вокруг него людей. Он по-прежнему был в желтом выгоревшем костюме. На крышке фортепиано лежало сомбреро, украшенное серебристыми блестками. Ноэль выглядел очень странно, его лицо было своеобразного темно-коричневого цвета, а волосы — густые, волнистые и белокурые.
— Эй, Мардж, ты получила удовольствие от праздника?
— Это было замечательно. Если не считать того, что я ни жива, ни мертва.
— Праздник прошел хорошо, не правда ли? — Он оставил фортепиано. Его глаза и зубы оттеняли блеск коричневого грима, на лице сверкала мужественная усмешка. — Ни один лагерь не имеет ничего подобного. Конечно, это просто набор банальных глупостей, но было весело.
— Очень весело.
— Твои родители получили удовольствие?
— Да. Они уже уехали. Она чудесно провели здесь время.
— Надеюсь, что это так. Они на самом деле очень приятные люди. Этим утром мы с твоей мамой подружились.
— Она мне рассказала.
— Тебе сегодня больше не надо работать, не так ли? Никаких танцев не намечается.
— Хорошо. Разве только ты захочешь, чтобы я сделала что-нибудь.
— Нет, нет, я просто так, хотел узнать… Почему бы тебе не поужинать со мной при свете факелов? Со мною и твоим дядей? У меня такое чувство, что я не видел тебя целый год.
— О, разве? — Она рассмеялась с облегчением. — Поэтому ты послал за мной? У меня тоже похожее ощущение. Я бы с удовольствием, Ноэль, спасибо. Я пойду и переоденусь.
— Подожди, есть еще одно дело.
Подошел Уолли и встал рядом с Марджори; он начал приставать к ней, чтобы она выпила.
— Вот, Морнингстар. Выпей за кого-нибудь, кто у тебя умер или кого уже давно нет в живых.
Марджори с неохотой взяла у него стакан и сказала Ноэлю:
— За этого дурака, посмотри на него. Он пришел и разбудил меня своим влажным, пропитанным ромом поцелуем.
Ноэль рассмеялся, посмотрев на Уолли с дружеским любопытством.
— Ну, что случилось с тобой, молодой степенный человек? «Южный ветер» окончательно вселился в тебя, эй?
— Я усвоил местные обычаи, — ответил Уолли. — И когда я падаю, я падаю, как Люцифер. Вас заинтересует, очевидно, что я всерьез не замечаю своей невежественности.
— Уходи прочь от меня, — сказала Марджори. — Я никогда больше не буду разговаривать с тобой.
— Чепуха, — перебил ее Ноэль дружелюбно. — Это такой сноб с лучистыми глазами, если он не сблизится со свиньей, не напьется, не влюбится, то будет проводить вечера за чтением ей Т.С. Элиота.
— Это показывает, как много ты знаешь. Я открою тебе мой план действий, — сказал Уолли. — Ровно в полночь, после того как я сделаю соответствующее сообщение по громкоговорителю и включу прожектора, я приведу в экстаз эту свинью в самом центре лужайки. Прочь устаревшие запреты. Отношения полов — это прекрасно.
— Ты в плохом состоянии, — помрачнел Ноэль. — Послушай, Мардж, дело заключается в том, что праздник обычно достаточно хорошо выглядит ночью. Половина людей уезжает домой: новизна карнавала уже выдохлась, даже фейерверки почти не помогают. А у нас есть много заявок, чтобы повторить бой быков во время ужина, только — часть представления, когда выступают бык и твой дядя. Но он был ужасно поражен, и…
— Не надо, Ноэль, я думаю, что он сделал достаточно для одного дня, ты так не считаешь?
— Ну, вот поэтому я и хотел спросить тебя.
— А что? Это важно? — Она была обеспокоена внезапным изменением его бодрого жизнерадостного настроения. — Я имею в виду… Ну, это, конечно, пустяки, но как бы там ни было, Ноэль… я знаю, что он с нетерпением ожидает ужина с тобой за одним столом, это такая большая честь в его глазах…
— Почему бы тогда ему не повторить номер, Марджори? Ведь он был просто неподражаем… Я знаю, что Грич не заплатил бы ему ничего больше. Он просто попил бы его крови, вот и все. Но я заплачу ему еще пятьдесят из моего собственного кармана.
— Послушай, Ноэль, а может, ты сам спросишь его? — Было очень неприятно вести разговор о деньгах с Ноэлем и выслушивать его заявления о том, сколько он заплатит ее дяде.
— Хорошо, я поговорю с ним, если ты не возражаешь.
— Но он будет ужинать с нами? Если ему придется отказаться от этого из-за выступления…
— Конечно, будет. Перед представлением.
— И затем он будет исполнять все эти трюки с полным желудком, — заметил Уолли. — Забавно.
— Уолли, ты не мог бы помолчать? — с раздражением сказал Ноэль. Но потом улыбнулся, похлопал Уолли по спине и произнес с обычной приятной теплотой в голосе: — Извини. Темперамент. Нервы. Переутомление. — Он повернулся и крикнул певцам, которые стояли у фортепиано и обсуждали что-то: — Мы продолжим через пять минут, ребятки! — Ноэль обнял Марджори недолгим, но крепким объятием. — Посмотри, какой сегодня прекрасный вечер. — Он торопился к артистам.
Марджори взглянула на Уолли и сделала большой глоток из стакана.
— Скажу тебе, это необыкновенно. В нем есть вкус ананаса.
— Пойдем, — сказал Уолли, взяв ее за локоть.
— Куда?
— Ты тоже сделаешь мне выговор.
— О нет! Раз ты знаешь, что я собираюсь сказать, я не буду.
— Поверь мне, Морнингстар, каждое слово, которое когда-нибудь ты мне скажешь, запомнится и останется в моем сердце.
Марджори сделала еще один большой глоток из стакана.
— Почему это вино совсем некрепкое, оно как фруктовый напиток. Однако, как тебе удалось достичь такого состояния?
— Хочешь еще выпить?
— Конечно.
— Идем.
Серую скалу, что была позади этого здания, называли Местом влюбленных. Они сидели за стаканом вина под открытым небом, которое в тот вечер было безоблачным. Дул прохладный легкий ветерок, солнце уже опускалось огромным оранжевым шаром за деревья и бросало длинные, струящиеся лучи на озеро. Уолли обернулся и посмотрел сквозь свои блестящие очки в сторону Марджори.
— Пойдем дальше. Опускай гильотину.
— Что?
— Выговор.
— Забудь про это. Давай просто наслаждаться заходом солнца. — Она потягивала маленькими глотками вино.
— Нет, пожалуйста. Опусти ее. Это будет, вероятно, полезно для меня.
— Ну, хорошо, Уолли. — Спиртное начало согревать ее. — Вряд ли кто-нибудь говорил с тобой об этом. Ты мне нравишься, ты знаешь, и я скажу это только потому, что ты мне нравишься. Я хочу, чтобы у тебя было прекрасное будущее. Ты… ну, ты продаешь свой талант.
— О? Как именно? — спросил он, прищуриваясь.
— Ты очень хорошо знаешь как. Написанием множества грязных шуток, двусмысленных рифмованных стихотворений, вызывающих дешевый хохот.
Он пристально посмотрел на нее.
— Но, Мардж…
— Я знаю, что ты собираешься сказать. «Южный ветер» показывает… это не имеет значения. Публика вульгарна и глупа, получается, что ты потворствуешь ей. Ну, хорошо, это просто, в чем ты не прав. Если ты продолжишь потворствовать здесь, ты будешь это делать всю оставшуюся жизнь и закончишь литературным поденщиком. Сейчас наступило время, когда уже надо иметь принципы в работе. И… хорошо, это все, что я в действительности хотела тебе сказать. — Его лицо было по-прежнему в ожидании обращено к ней. Наступило недолгое молчание. — Это не было слишком больно? — спросила она мягко, чувствуя тяжесть тишины. — Но это правда, и я думаю, ты примешь ее в глубине души. У тебя есть талант, и тебе следует использовать его должным образом. — Она выпила еще. — О Господи, Уолли, посмотри на солнце. Оно делается плоским и похожим на тыкву.
— Мардж, я ценю, что ты сказала, и действительно сделаю это. — Он говорил тихим голосом и неожиданно стал рассудительным. — Ты, может быть, даже очень права.
— Приятно слышать от тебя, Уолли. Я рада, что все высказала тебе. Смех — это не все, что нужно, этого недостаточно. Тебе следует изучить работы Ноэля. Там есть такие вещи, как обаяние, вкус…
— О Боже мой. — Он встал и медленно произнес: — Давай сейчас запишем это на пластинку. Ты только что сказала, будто мне следует изучить произведения Ноэля. Правильно?
— Я действительно это сказала, и если ты…
— Хорошо. Спасибо. — Он допил свое вино. И вдруг бросил стакан под ближайшее дерево. Тот ударился о ствол и разлетелся вдребезги, а осколки, как небольшие оранжевые искры, падали со звоном на землю. — Марджори, ты сказала мне все это. А теперь сама выслушай меня. — Он гордо сделал шаг вперед и встал перед ней, сутуля плечи и покачиваясь. Уолли стоял на нижнем выступе скалы, и его глаза были на одном уровне с ее глазами. Он ткнул пальцем куда-то в сторону и сказал с подчеркнутой медлительностью: — За последние три недели ты поставила себя в такое великолепное, зависимое, осужденное Богом положение по отношению к Ноэлю, что у тебя не осталось друзей в «Южном ветре», кроме меня. Нет никого, я замечу тебе, никого среди служебного персонала, кто не считал бы тебя дурой, никого, кто не смеялся бы и не строил гримасы за твоей спиной. Ты не смогла бы ничем выпытать это из меня, Марджи, но когда ты имела наглость сказать мне, будто я должен изучить, что пишет Ноэль…
— Но, Уолли, как ты смел начать ругать меня просто потому, что я раскритиковала твои произведения? Ты попросил меня, вспомни, ты попросил меня…
— Послушай, моя работа — еще сырая писанина, я знаю это очень хорошо, но, во имя Бога, мне девятнадцать лет! Я еще учусь в колледже. А Ноэлю уже почти тридцать, Марджори… Ему — ТРИДЦАТЬ лет, ты что, не понимаешь этого? И как раз ясно не представляешь себе, что мои произведения лучше, чем его, лучше…
— Ты слишком пьян, мой мальчик…
— О Господи, как любовь может сделать девушку слепой? — Его полная нижняя губа задрожала. — Ты что, не можешь понять? Он достиг своего уровня несколько лет назад и никогда не поднимется выше, никогда не поднимется! Что он делает — он берет немного из этого, немного из того, мелодию, сольный номер для фортепиано, оркестровую аранжировку, женщину, шахматную партию. — Уолли покачивал плечами ритмично из стороны в сторону, делая насмешливые жесты. — Он ведет беседы на французском языке, а также беседы на испанском, заводит дискуссию о Фрейде или Спенглере, и вот он какой — Ноэль Эрман, начало или конец его творчества? Марджори, прими это от меня и никогда не забывай, что я сказал тебе сегодня, в первое воскресенье августа 1935 года: Ноэль Эрман — НИЧТО. Он не добьется ничего, нигде и никогда. К тому времени, когда мне будет тридцать лет, как Ноэлю, ты запомни, десять лет спустя я буду ЗНАМЕНИТЫМ, ты слышишь?
Он наклонился вперед и страстно погрозил ей кулаком. В этот момент он напомнил ей Марчбэнкса, которого она однажды видела в любительском представлении, — резкого, энергичного, ужасно вспыльчивого человека, который, страстно обращаясь к Кандиде, так сильно наклонялся над ней, что возникало подозрение: не прикреплены ли к полу его ботинки. Это воспоминание заставило Марджори улыбнуться.
— «Хорошо, Уолли. Ты — великий непризнанный гений. Это будет нашей маленькой тайной. Дай мне, пожалуйста, сигарету.
— Не надо делать мне комплиментов: я этого не стою. — Нервным движением он достал из кармана пачку сигарет с ментолом и, вынув одну, дал ей закурить. — Мой талант не играет никакой роли, ведь так? Он имел бы вес, будь я автором «Один раз в жизни» и «Их частная жизнь». Но я не Ноэль. Вот в этом-то все и дело! Ноэль — он. Поэтому он и Шоу, и Ковард, и Ричард Роджерс, и…
— Уолли, а что ты думаешь по поводу «Принцессы Джонс»? — тихо, но внятно спросила она.
Он остановился и покосился на нее.
— Что-что?
— «Принцессы Джонс», дорогой. — Он заморгал и непонимающе уставился на нее. — Ну, Уолли. Помнишь тот небольшой отрывок, который Ноэль играл нам на днях? Он сочинил целую музыкальную комедию: музыку, стихи, либретто, — словом, все. Ты еще сам сказал, что это шедевр. Так как насчет нее?
Секунду Уолли стоял с открытым ртом, затем еще раз переспросил:
— «Принцесса Джонс»?
— Ну да, да, «Принцесса Джонс».
Уолли бессильно опустился на камень и положил голову на руки.
— Я напился сильнее, чем предполагал: ужасно болит голова. — Он замолчал.
Солнце уже зашло. Вода в озере потемнела, и ветерок с запахом лаврового дерева сделался прохладнее и сильнее. Не поднимая головы, Уолли проговорил изменившимся голосом:
— Я не могу ясно вспомнить «Принцессу Джонс». Я тогда был пьян. Вещица милая, не спорю. Но кто может сказать, будет ли она иметь успех? Может, я и перехвалил ее немного, но ты ведь отлично знаешь, черт возьми, что он за этот год не сделал ничего, что хоть в какое-то сравнение шло бы с моим номером о Гитлере…
Она положила ему голову на плечо.
— Дорогой, ты ведь видишь, что ему надоело это место. Он мне сам говорил, что работа здесь ужасно скучная. Он в восторге от твоих скетчей потому, что они свежи и оригинальны. Тебе девятнадцать лет, Уолли, и «Южный ветер» — это возможность для тебя проявить себя…
— Под началом у Ноэля Эрмана, не так ли? Хорошо, я скажу тебе. Я знаю, что мне не следовало бы спорить о нем с тобой. — Он резким движением снял ее руку со своего плеча. — Надеюсь, ты знаешь, что вся труппа, кроме меня, уверена, что ты спишь с ним?
— Знаю, и мы много смеялись по этому поводу. Что поделать, если у людей такое превратное суждение.
— Но ведь ты не давала для этого повода?
— Я часто танцевала с Ноэлем, мы вместе появлялись на людях, — в общем, то же самое, что и с остальными друзьями, которые у меня были в свое время. Но у людей моего круга это не означает любовный роман…
— Это просто невероятно! — Он покачал головой. — Я этого не забуду никогда. Такая слепота, полная потеря самокритики… Марджори, я же знаю тебя. Ты дьявольски умна, обладаешь чувством юмора, от тебя не ускользает ничего, что происходит вокруг. Неужели ты не отдаешь себе отчета в том, что последние несколько недель на репетициях ты ведешь себя, как жена, да к тому же любящая всем распоряжаться: говоришь Ноэлю, что и как ему следует делать, критикуешь в присутствии актеров их же игру, пытаешься даже сама режиссировать отдельные сцены. Неужели ты совсем не замечаешь, как ему приходится успокаивать людей, как он уже двадцать раз тактично намекал тебе не лезть не в свое дело. Ты просто очаровательно невыносима. Секретарша, за ночь превратившаяся в миссис Фиксит. Как ты думаешь, сколько времени все еще будут молчать? Или, может, ты все же просто глупа?
Атака Уолли привела Марджори в неописуемое смущение.
— Это неправда, это совершенная ложь! Ты говоришь это, только чтобы обидеть меня, ты, безжалостный негодяй! — говорила она, но в ее памяти лихорадочно проносились события последних недель, и обвинение Уолли вдруг соединило в логическую цепочку целый ряд ситуаций и разговоров.
— Да, я делала предложения, касающиеся освещения. Я отвечаю за это. Но…
— Марджори, я сам раньше был осветителем. Скажи, меня кто-нибудь видел на сцене во время репетиций? К тому же твои предложения далеко не ограничивались освещением…
На ее глаза стали наворачиваться слезы.
— Ну, если я вела себя столь идиотски недвусмысленно, почему же ты сомневаешься, что я его любовница?
— Я поверю в это только тогда, когда ты мне сама об этом скажешь. Ничто другое меня не заставит поверить в это. Он прав, говоря, что я романтик. По крайней мере во всем, что касается тебя.
Она топнула ногой.
— Я не желаю, чтобы нас хоть что-то связывало, ты слышишь? Надеюсь, в двадцать пять ты сочинишь свой шедевр, заработаешь семь миллионов долларов, получишь приз Пулитцера и сделаешь счастливой какую-нибудь девушку. Никогда больше не говори мне о своем колоссальном таланте! И не смей при мне поливать грязью Ноэля! Вообще, мне безразлично все, что ты говоришь, и не потому, что любовь лишила меня разума, а потому, что тебе всего лишь девятнадцать лет и ты еще ничего не понимаешь в жизни. Да, у тебя есть талант, но ты жалкий невежа во всем, что касается хорошего вкуса. Моя вина лишь в том, что у меня хватило наглости сказать тебе в лицо — ты сочиняешь пошлые вещи. И я не возьму назад ни единого слова, Уолли. Когда-нибудь ты мне сам скажешь спасибо; может быть, даже извинишься, если достаточно повзрослеешь.
Он умоляюще протянул к ней руки.
— Мардж, прошу тебя, поверь, я совсем не потому, что ты так отозвалась о моей работе…
— А теперь послушай, что я тебе скажу. — Она повысила голос. — Ноэль всегда прекрасно к тебе относился, и ты знаешь это. Он во всем помогал тебе, восхвалял тебя до небес. По мере того как рос твой опыт, он давал тебе все более сложные задания. Он не боится тебя и не завидует тебе… Ноэль будет рад больше всех, если к тебе придет успех в «Южном ветре». А ты… ты способен его видеть лишь сквозь пелену своих амбиций и ревности. И тебе так вскружил голову твой небольшой успех вчера вечером, что после нескольких рюмок все это вылезло наружу. Послушай, Уолли, я не так уж слепа, как ты думаешь. Ноэля испортили его красивая внешность и обаяние. И я прекрасно знаю о его былых похождениях. Но несмотря ни на что, он одним взмахом пера создает гениальную музыку, он поставил в «Южном ветре» изумительные шоу, он преуспел во всем, за что бы ни брался. Даже моя мама, которая опекает меня, как банкир свои миллионы, полюбила его. Она еще не знает о «Принцессе Джонс». И если «Принцесса Джонс» не станет сенсацией, а я думаю, что станет, то следующая пьеса, которую он напишет, уж непременно. Ничто не остановит Ноэля Эрмана, если он по-настоящему берется за…
— Твоя мама… полюбила Ноэля? — прервал ее Уолли дрожащим голосом. — Это правда?
— Поверь, я бы не взяла на себя труд лгать тебе.
Уолли закурил другую сигарету, сгорбившись и пряча ее в руках, как школьник. Он сел на камень. Плечи его согнулись, большая голова упала на грудь, челка черных волос закрыла лоб.
— Видит Бог, все это могло быть правдой, Мардж: что меня ест зависть, что я неуклюжий, вульгарный тип, что я ехидничаю над Ноэлем и оскорбляю тебя, лишь потому что перебрал рома. Лучший способ завоевать тебя, не так ли? О Боже! — Он уронил голову на ладони.
Она почувствовала, что должна как-то утешить его. Конечно, он изобразил ее попытки давать советы на репетициях как деспотизм ужасной гарпии, но она знала, какие злые языки у актеров труппы, и теперь решила быть начеку.
— Уолли, пожалуйста, не бери в голову! Ты не представляешь, какой трудный был у меня день сегодня! — Она положила ему руку на плечо. — Знаешь, ты наговорил мне много обидных слов, но я по-прежнему люблю тебя и восхищаюсь твоими работами.
Он взял ее за руки.
— Марджи…
Она наклонилась, поцеловала его и рассмеялась:
— А лилии-то нет! Ну что, Принц Лягушка? Почему ты не превращаешься? Ты же обещал!
Он с трудом поднялся.
— Теперь ты видишь, что я лгал тебе. Я не смогу превратиться. Я был, есть и навсегда останусь только лягушкой, вот и все.
— Неправда. Ты будешь медленно, но неуклонно превращаться и лет через десять станешь прекрасным принцем…
— Мне нужно помочь установить прожекторы. Спасибо за беседу. Я этого не забуду.
На ужине при свете факелов присутствовал сам Самсон-Аарон. Он поглотил неимоверное количество чили с рисом и энчиладо, смеясь над протестами Марджори. Его рука покоилась на бутылке виски, и он наполнял стакан Ноэля и свой собственный, как только они пустели. — Что, моя маленькая королева, ты хочешь быть похожей на Милтона? — хохотал он, и его красное лицо горело в рассеянном желтом свете. Марджори попыталась убрать от него подальше бутылку. — Фиеста есть фиеста, не так ли, мистер Эрман? — Ноэль не переставая смеялся над потоком его еврейских шуток и афоризмов (Марджори удивлялась, как он мог их понимать).
Самсон смеялся вместе со всеми. Когда стали петь мексиканские песни, он быстро схватывал мелодию и подпевал вместо слов свое «да-дидли-да». Через некоторое время Марджори перестала беспокоиться и от души веселилась в странной компании. Маленький столик Ноэля располагался возле фонтана, на самой вершине отлогой лужайки, чтобы видеть, как проходит ужин. Из-за шума разноцветных брызг, наполнявших воздух влагой и свежестью, приходилось говорить громче.
Ощущение, что все происходящее ей снится, почти полностью захватило Марджори. С одной стороны струились водопады, становящиеся то красными, то зелеными, то синими, то белыми; с другой — вытянулся ряд столов, освещаемых колыхающимся светом. Под черным небом со сверкающими звездами сидели и ели экзотические блюда слева Ноэль в своем сомбреро, желтом костюме и коричневом гриме; справа дядя в своих невероятных светло-лиловом трико и сиреневой шляпе с помпоном. Все ее тело пронизывало странное смешанное чувство легкости и боли, не покидали покалывание в руках и звон в ушах, душевная и физическая усталость и вместе с тем дерзкое, пьянящее желание участвовать даже в большом безумстве. Все эти чувства вихрем бушевали у нее внутри, и, получая странное наслаждение от происходящей фантасмагории, ей одновременно хотелось, чтобы все это продолжалось как можно дольше, и чтобы она уже с ясным рассудком проснулась серым утром в понедельник, и ничего серьезно плохого не случилось бы.
Бой быков не удался. Его было плохо видно, несмотря на свет прожекторов: мешали столы, да и большинство гостей пребывало в оцепенении от пережитых событий дня, еды и напитков. К тому же эту шутку повторяли в третий раз. Дядя вернулся к столу, тяжело дыша. С него градом катил пот, он был бледен, но улыбался.
— Здорово, да?
Ноэль и Марджори стали уговаривать его пойти в домик, чтобы принять душ и переодеться, и, к ее удивлению, он согласился.
— Большая честь для простого посудомоя, — он никак не мог отдышаться, — почему бы и нет? Спасибо, мистер Эрман. — Он исчез в темноте.
Марджори и Ноэль посмотрели друг на друга. Ноэль сказал:
— Я думаю, мы могли бы обойтись и без этого. Но это здорово помогло.
— Конечно, — согласилась Марджори.
Над черной водой озера засверкали и захлопали вспышки фейерверка, раскрывающиеся разноцветными бутонами.
Лето прошло. Настала наша последняя ночь. Слышишь? Это вальс «Южного ветра». Перед тем, как расстаться, Наши влюбленные сердца Соединятся в вальсе «Южного ветра».Ноэль сидел за пианино. Уже без грима, в черном свитере с высоким воротом он выглядел бледным, но необыкновенно молодым и красивым. Марджори, одной рукой обняв дядю за талию и с бокалом шампанского в другой, очарованная этой вечеринкой среди множества разукрашенных декораций, картонных камней и деревьев, клубков веревок и электрических кабелей, осветительных ламп, чувственно покачивалась в такт музыке. Труппа, оправившаяся от усталости с помощью дешевого калифорнийского шампанского, поставляемого Гричем, сгрудилась вокруг репетиционного пианино: полусгнившей развалины без крышки, с прожженными сигаретами клавишами и дребезжащими молоточками. Металлические звуки пианино усиливали прекрасную меланхолию нового вальса Ноэля:
Время властно изменить нас, разлучить нас, И любовь может не сбыться, Но невзирая на время и расстояние, Наши сердца будут вместе Каждый раз, когда мы услышим вальс «Южного ветра».Послышался одобрительный шепот и короткие аплодисменты.
— Это чудесно, Ноэль, — сказала Адель.
— Это вульгарная базарная вещь для финала «Трудового дня», — поправил Ноэль, пробегая пальцами по клавишам, — думаю, что выжмет из публики пару слез. — Он проиграл песню еще раз. Звенящая, печальная мелодия глубоко тронула Марджори. Она не была согласна с Ноэлем, что музыка вульгарна. Несколько актеров подпевали, покачивая в такт головами.
— Она чудесна, — сказал дядя, обращаясь к Марджори, — только немного грустная. Я больше люблю веселые песни. — Он наскоро побрился перед тем, как прийти на вечеринку, и на его полном лице виднелись полосы пудры.
— Устал, дядя?
— Побуду еще немного, потом пойду. Отличная вечеринка: молодежь…
— Хочешь еще шампанского?
Он улыбнулся:
— Извини, но по мне это — просто сельтерская водичка. От нее только еще больше жажда. Спасибо.
Адель, положив голову на широкую грудь своего любовника-официанта, произнесла мечтательно:
— Спой еще раз, Ноэль. Слова просто изумительны.
Ноэль запел, и остальные стали, запинаясь, подпевать:
Лето прошло, Наступила наша последняя ночь. Слышишь? Это вальс «Южного ветра». Перед тем, как расстаться…— Вальс, — произнес Самсон-Аарон. — Моя жена хорошо танцевала вальс. Сестра твоей мамы. Ты не поверишь, я был тогда тощий, как зубочистка. — Он покосился на Марджори. — Она была немного похожа на тебя.
Марджори повернулась и протянула к нему руки:
— Дядя, давай потанцуем с тобой.
— Что? — Он устало рассмеялся. — Я свое оттанцевал сорок лет назад.
Грич, который стоял возле Марджори и отбивал на ладони ритм карманным фонариком, поддержал ее:
— Хорошая идея. Давай, Сэм. Начинайте, Марджори!
Остальные присоединились к Гричу:
— Давай, тореадор! Сэм, Марджори! Вальс!
Самсон-Аарон оглянулся вокруг. На лице его сияло привычное веселье.
— Такой старый слон, как я? А все равно на родине другой вальс, не такой, как здесь…
Но Грич уже подтолкнул фонариком Марджори в спину, и она оказалась в руках у дяди. Он обнял ее за талию.
— Ну, Моджери, хоть раз твой дядя потанцует с тобой.
Он неловким движением отвел ее руку в сторону, принимая нужную позицию, сделал короткий нерешительный шаг, и они степенно закружились в вальсе на пустой сцене.
Толстый старик в мятом пляжном костюме желтого цвета и девушка в голубом платье, открывающем плечи, завершили один круг по сцене. Раздались аплодисменты и ободряющие возгласы.
— Давай, Сэм! Ну-ка, попляши, Сэм!
Они кружились в танце, выполняя точные старомодные па, а сцена, люди, рояль — все медленно проплывало мимо них. Самсон-Аарон смотрел на свою племянницу с благодарностью и удовольствием одинокого человека. Она произнесла:
— Ты чудесно танцуешь, дядя. Нам нужно было бы и раньше танцевать с тобой.
— Правда? Что мы должны были бы делать в жизни — и что мы делаем. Жена моя, она — ну, да ладно, мы не болтаем, мы танцуем.
Перед тем, как расстаться, Наши влюбленные сердца Соединятся в вальсе «Южного ветра», Время властно изменить нас, разлучить нас…Марджори танцевала с закрытыми глазами, испытывая приятное головокружение и почти готовая заплакать. Она думала о том, какой удивительный день сегодня, как легко и в то же время как трудно она пришла к нему — чтобы просто вот так танцевать с дядей Сэмом под мелодию вальса, которая теперь всегда будет напоминать ей о нем.
— У-уф! — Он остановился. Она открыла глаза. Он оглядывался, с трудом улыбаясь. — Я ж вам говорил, в моем возрасте лучше мыть посуду. Это ж легче. — Он доковылял до стула, сопровождаемый аплодисментами и смехом, уселся и стал смешно обмахивать себя руками, как веером.
Вскочив из-за рояля, Ноэль схватил бутылку шампанского, стоявшую в крошечном ведерке со льдом, мгновенно вытер ее и положил Сэму на колени.
— Первый приз! Победителю в конкурсе вальса — Сэму Федеру — мойщику посуды, тореадору, отличному парню — с горячей признательностью от руководства «Южного ветра»!
Аплодисменты были оглушающими и долгими. Даже Грич клацал своим фонариком громче, чем обычно. Дядя смотрел по сторонам, глаза его сияли, усы распушились, скрывая довольную ухмылку, а руки неумело держали призовую бутылку.
— Н-да, ну что ж, теперь вот пусть молодежь танцует. Я показал, как это делается.
Пианист сел за рояль, взял несколько аккордов, которые потом плавно перелились в мелодию вальса. Танцующие пары заполнили сцену. Без единого слова Ноэль взял Марджори за руку, и они закружились в вальсе. Она увидела Уолли, опиравшегося на рояль и наблюдавшего за ней без всякого выражения. Потом она закрыла глаза. Волшебное тепло, исходившее из рук Ноэля, проникло в ее тело. Так было всегда, когда он касался ее.
— Чудесная песня, Ноэль, — прошептала она. — Правда, чудесная.
— Текст неважный, — услышала она его голос. Ее лицо касалось грубой шерстяной ткани. — Я писал слова так быстро, как только позволяла рука. Музыка, я надеюсь, выражает больше. Это в твою честь.
Она сжала его руку, а он чуть приблизил ее к себе. Сердце ее переполняла теплая сладостная боль. Какая-то пара в танце натолкнулась на них, и она открыла глаза. Она увидела, как Самсон-Аарон тихонько опустил бутылку шампанского обратно в ведерко со льдом и направился к выходу за сценой. Прервав танец, она схватила Ноэля за руку и побежала за дядей.
— Подожди, дядя, подожди!
Он остановился, робко ссутулившись. Затуманенные усталостью глаза как-то встревоженно взглянули на них. Она еще не успела сказать ни слова, как он уже выпрямился, и лицо его снова засветилось жизнелюбием и добрым юмором. Он сказал:
— Довольно для старика. Я иду спать. Выпейте после вальса мое шампанское вместе с мистером Эрманом. Меня жажда замучила. Выпью пойду стакан холодной воды на кухне — и спать.
— Через пятнадцать минут принесут сандвичи, Сэм, — проговорил Ноэль. — Вы ведь не откажетесь перекусить?
— Мистер Эрман, я сегодня достаточно съел. За добрый стакан чистой воды я бы выложил сотню долларов, благо, она бесплатная. Та желтая штука — она как соль. Спокойной ночи. И танцуйте, танцуйте, развлекайтесь!
— Я пойду провожу тебя до кухни, — предложила Марджори. — Все равно я хотела подышать воздухом и…
Он так резко оттолкнул девушку, что ее отбросило на Ноэля.
— В чем дело, я что, ребенок? Не повторяй свою маму. Я сам прекрасно дойду. Спасибо. — Затем голос его смягчился. — Спокойной ночи, дорогая. Дядя идет спать, так что ж? А вы танцуйте. Потанцуйте с ней, мистер Эрман. — И он вышел на темную лестницу и закрыл за собой дверь.
Несколько минут спустя Ноэль и Марджори стояли одни в дальнем углу террасы, освещенной только голубоватым лунным светом, и целовались. Она уже совершенно забыла о дяде. Оторвавшись от ее губ, Ноэль сказал:
— С прискорбием вынужден сообщить — я на самом деле люблю тебя. На самом деле люблю. — Он был очень пылок. Глаза сияли.
— Уолли говорит, что я была несносна на репетициях, что я тебе только мешала, и ты не можешь придумать ничего лучшего, как избавиться от меня.
— Будь добра, забудь о Уолли. Иди сюда.
Но она отклонилась назад, избегая поцелуя.
— Это что, бунт?
— Так ты не хочешь избавиться от меня?
— Разумеется, нет!
— Ну, что ж, плохо. Потому что тебе придется.
— Придется сделать что?
— Избавиться от меня.
— Вот как?
— Я покидаю «Южный ветер». Возможно, даже завтра. Еду путешествовать на Запад.
Его объятия ослабли.
— На Запад?
— Да.
Он молча смотрел на нее, и на губах его появилась изумленная усмешка. Она продолжила, вызывающе встречая его взгляд:
— Всегда мечтала посмотреть Большой каньон!
— Знаю. По-моему, ты только об этом и говорила все лето.
— Пожалуйста, не иронизируй. Я действительно хочу его увидеть, сейчас у меня появился такой шанс, и я его не упущу, поеду.
— Ты что, серьезно?
— Абсолютно!
Улыбаясь, он кивнул.
— Ясно. Хотя и неожиданно. Пытаешься вырваться из мертвой хватки Саула Эйрманна, не так ли?
— Не глупи. Я увижусь с тобой осенью.
— Все же странно. Я бы поклялся, что понравился твоей матери.
— Ты ей и в самом деле нравишься. Послушай, это не она отсылает меня на Запад. Никто никуда меня не посылает. Я сама еду.
— Ты хочешь поехать?
— Да!
— Он взял ее руки в свои и стал внимательно вглядываться в лицо.
— Ну, что же на этот раз, а? Ты чувствуешь себя покинутой? Или что-то еще? Знаю, я был слишком поглощен приготовлениями к празднику, но…
— Ноэль, поверь мне, я просто хочу поехать на Запад. Ну неужели так трудно поверить в это? Разве ты сам не поехал бы, если б мог?
— Марджи, ради Бога, не нужно играть со мной в эти игры, ладно? Ты уезжаешь до Карнавала масок. Я бы слопал такую маленькую дрянную девчонку. Эта поездка на Запад возникла ниоткуда, спустя всего несколько часов после отъезда твоих. Поэтому не делай мне тут круглые глаза, пытаясь убедить, что ты мечтала об этом с пятнадцати лет. Что сказала твоя мама? Она хорошо знает мою семью?
— О-о! Ну что ты все об одном и том же! Это же всего на несколько недель, Ноэль. Ведь уже август! Ты что, не хочешь, чтобы я поехала? Тебе что, не все равно?
Он притянул ее к себе и поцеловал. Оторвав свои губы от его, она сказала:
— Этого недостаточно.
— Марджори, ну почему ты такая маленькая, такая простодушная? Ну, какие слова тебе хочется из меня вырвать?
— Я вовсе не хочу из тебя что-нибудь вырвать. И не нужно ничего говорить, просто оставь меня одну… уйди от меня…
— Марджори, я люблю тебя. Если тебе хочется быть действительно мудрой, то не будь слишком мудрой. Дай мне время. Дай мне свободу действий, это все, что от тебя требуется.
Они стояли, крепко обнявшись.
— О Ноэль! Господи, зачем я только вообще встретила тебя? Зачем я в ту ночь пересекла озеро с Машей и появилась здесь? Я погубила себя.
— Не уезжай на Запад, любовь моя. Не уезжай.
— Черт тебя побери! — Руки ее переплелись у него за спиной, и она запустила пальцы в его волосы. — Ты думаешь, у меня хватит сил отказать тебе хоть в чем-нибудь? Может быть, ты лгал, когда говорил, что любишь меня? Наверное, я никогда не узнаю, насколько это было честно. Но я люблю тебя так сильно, что не знаю даже, что я ем, во что одеваюсь, что делаю, о чем думаю. Все покрыто туманом — и так все лето. Единственное, чего я боюсь, так это проснуться. Мне кажется, тогда я умру.
— Марджори, дорогая, послушай. Ты знаешь… Бог знает, ты не первая девушка в моей жизни, и не вторая. Но я клянусь тебе, что у нас с тобой все по-другому. Ты потому так безумно влюблена, что и я влюблен точно так же. Другой причины для такой любви нет и быть не может. Один раз в жизни, говорят, такое случается с каждым, и я, клянусь Господом, начинаю верить в то, что это происходит и с нами.
— Ты назвал это курортным романом…
— Да-да, знаю, я чувствовал себя значительно умнее, выше тебя, крепче стоящим на ногах, верно ведь? Не дави на меня, Мардж, дорогая, не пытайся прижать меня к стенке, как бы тебе этого ни хотелось. Со мной такое не проходит. — Он опирался на перила террасы, прижимая ее к себе. Она почти физически ощущала, как тает ее решимость.
— Я не поеду на Запад. Останусь здесь. Я сделаю все, что ты потребуешь. Мне наплевать на все, кроме возможности быть с тобой. И ты это знаешь. Ты знал об этом с того самого момента, как поцеловал меня в первый раз.
Крошечная часть ее самой стояла поодаль и с любопытством наблюдала, как они снова слились в поцелуе, но теперь уже совсем другом. Оставшаяся, значительно большая ее часть тонула в страсти. Она как-то смутно подумала о том, что никогда раньше Ноэль не соблазнял ее, и вот теперь он это делает. Но она не могла сопротивляться. Ей этого даже не хотелось. Сладость его губ, касающихся ее губ, эта сладость, захлестнувшая все ее существо, смела весь ее опыт. Невинность ее испарилась. В одно мгновение, не успела она и глазом моргнуть, как барьер исчез, и вот она уже жаждала взрослого удовлетворения взрослого желания.
— Ладно, — прошептал Ноэль. — Так не годится. Пойдем. — Он вынужден был легонько потянуть ее. Он сделал это одновременно нежно и настойчиво, с приглушенным низким смехом.
— Куда?
— Ко мне.
— Нас будут искать.
Ноэль улыбнулся.
— Не к тебе, — сказала она.
— Почему не ко мне?
— Куда-нибудь еще.
— Ну, почему? Не будь ребенком.
— Уолли. Он… Это только перегородка. А он с другой стороны, под одной крышей с нами.
— Он пьян. К тому же он в любом случае спит как убитый.
Она отдалась напору его руки и сделала несколько шагов.
— Ноэль. — Она остановилась. До сих пор ее чувства были сконцентрированы на них двоих. Теперь же она вдруг увидела луну и звезды на залитом лунным светом голубом зеркале озера, услышала плеск воды где-то внизу террасы и — очень неясно — звуки продолжающейся вечеринки. — Ноэль, я люблю тебя. Все остальное мне безразлично. Вся моя жизнь может пройти, но этого ничто не изменит. Я люблю тебя, Ноэль.
Они поцеловались быстро, украдкой, слегка наклонившись друг к другу, как будто парочка, скрывающаяся от посторонних глаз в общественном месте. И рука об руку пошли вниз по ступеням, а затем через лужайку.
Прожектора и подсветки после полуночи были выключены. Темнота, покрывавшая лужайку, кое-где рассеивалась благодаря лампе, светившей с грубого деревянного столба. В призрачном свете этой лампы стремительно носились комары и ночные бабочки. Было удивительно тихо. Всплески воды в фонтане казались звучными и музыкальными, как будто это был водопад.
Они дошли уже до середины поляны. Шли молча, в одном ритме, с тихим счастьем в сердцах. Марджори так никогда и не смогла понять, что это было — что она увидела краешком глаза и что заставило ее взглянуть в сторону фонтана. Уже вглядываясь прямо туда, она все еще ничего не видела: пятно белого цвета или, скорее, желто-белого, только чуть-чуть отличающееся от пены на бурлящей воде, еле заметное в тусклом свете фонаря. Потом она заметила, что поверхность воды в фонтане как-то неровно рябила. Она сказала:
— Там что-то есть, в фонтане. Какой-то идиот уронил туда что-то большое… О Боже! — Она впилась ногтями в ладонь Ноэля. Желтый цвет был от желтого пляжного костюма, и ей показалось, что она видит, как этот костюм колышется под струями воды.
— В чем дело? — спросил Ноэль. Он посмотрел в том же направлении, что и она, и сказал пугающе напряженным голосом, разорвавшим тишину:
— О ГОСПОДИ!
Она побежала, и он побежал.
Самсон-Аарон лежал вверх лицом в длинном и широком бассейне. Его глаза и рот были открыты. Струи фонтана падали на лицо, и черты его казались смазанными. Тело его слегка выступало из воды, потому что бассейн был всего лишь пару футов глубиной. Но голова была скрыта под водой. Ноэль схватил его за плечи и придал ему сидячее положение прямо в воде, так, чтобы спиной он опирался на край бассейна. Голова Самсона-Аарона безжизненно упала набок. Глаза невидяще закатились.
— Дядя! Дядя! Боже мой, дядя! — Руки ее обвили его тело, проникая под мокрую насквозь одежду. Ее губы дотронулись до мокрого лица. — Ноэль, он холодный, он ужасно холодный!
— Я позову врача! — Ноэль побежал в темноту, вода с него текла ручьем. Марджори согнулась над большим, неловко лежащим телом, не обращая внимания на то, что платье ее погрузилось в воду. — Дядя, дядя! Господи, Самсон-Аарон! Дядя! Дядя! — Она прислонила его голову к своей груди. — Дядя, это Марджори. — Она горько плакала. — Вернись, дядя! Дядя!
20. Покончено с грязной посудой
Он не реагировал. Она нащупала пульс. В какой-то момент она всерьез запаниковала — ей показалось, что пульса нет. Но потом она услышала как будто слабое биение. Она не могла бы наверняка сказать, дышал он или нет. Его широкая грудь не поднималась и не опускалась — ну, разве что чуть-чуть. Но она заметила, что его губы теплые — гораздо теплее, чем лицо. Слезы все еще текли по ее щекам, но первое потрясение прошло. Она была почти спокойна, когда со стороны мужской половины лагеря послышался шум: голоса, топот бегущих ног. Виден был свет и проблески от фонарей. Она с обостренной ясностью замечала все вокруг — и запах примятой травы, и свет от луны, мерцавшей почти у нее над головой, и звезды, и зеркально лунную поверхность озера, и громкие всплески струй в фонтане. Все было такое знакомое, такое обычное — все, кроме того, что Самсон-Аарон, насквозь мокрый, сидел в фонтане по пояс в воде, тяжело привалившись к ее груди.
Доктор, плотный, почти полностью лысый молодой человек, прибежал в пижаме, с черным чемоданчиком в руках. За ним мчались два официанта, раздетые, в одном нижнем белье. Волосы у всех троих были взъерошены, и они выглядели заспанными и очень испуганными.
— Давайте вытащим его из воды, — сказал доктор, схватив дядину руку.
— С ним будет все в порядке? — спросила Марджори, приблизив свое лицо к лицу доктора.
— Как давно это случилось, вы не знаете? — спросил он вместо ответа, быстро и тщательно подготавливая все для укола.
— Может быть, сделать искусственное дыхание? — предложил один из официантов.
— Верно, давайте, — сказал доктор.
Марджори старательно пыталась вспомнить время, которое они с Ноэлем провели на террасе.
— Может быть, около двадцати минут назад он ушел с вечера. Может, чуть больше или меньше — нет, не больше! Даже двадцати минут еще не прошло.
Доктор закатал дяде левый рукав и сделал укол. Ноэль подбежал вместе с Гричем и еще несколькими людьми из персонала в тот момент, когда официанты делали дяде искусственное дыхание. Доктор склонился над лицом Самсона-Аарона, повернутым в сторону, безжизненным, с закрытыми глазами и слегка приоткрытым ртом, с прилипшими мокрыми волосами. Все молчали.
— Остановитесь. Вода не выходит изо рта, а воздух проходит свободно. Он не утонул.
— Доктор, как он? Что это, доктор? Что мы можем сделать? — произнесла Марджори.
Доктор взглянул на нее, и с его лица исчезло бесстрастное выражение, свойственное людям его профессии. Он был просто крайне напуганным полным молодым человеком.
— Марджори, все очень плохо.
Сердце у нее заколотилось от волнения. Она спросила:
— Он умер?
— Я могу попытаться сделать инъекцию адреналина прямо в сердце. Понимаешь, у него остановилось сердце.
— Сделайте все, что можете, доктор! — Она произнесла эти слова спокойно, она чувствовала себя центральной фигурой в этом скорбном круге людей, драматической фигурой в сцене. И еще она чувствовала, как ею начинает овладевать невыносимый смертельный ужас.
Доктор готовил инъекцию. В движениях его чувствовалась скованность. Марджори отвернулась, когда официанты приподняли дядю и обнажили ему грудь для укола. Она прикрыла глаза и привалилась всем телом к Ноэлю. Он поддерживал ее напряженной рукой.
Она услышала, как Грич спросил:
— Что еще мы можем сделать, доктор? Может быть, позвонить в больницу в Тетерсвилле? Они сделают все, что я им скажу.
— Если он сейчас очнется, ему понадобится прежде всего кислородная подушка, и… мне кажется, с ним очень плохо. Через минуту я скажу точно.
— А пока мы можем позвонить и сказать им, чтобы они были готовы.
— Хорошо, мистер Грич, — согласился доктор.
Грич поручил одной из девушек позвонить в госпиталь.
— Марджори, — позвал доктор. Она посмотрела на него. Он поднялся со своего места рядом с дядей и сейчас укладывал инструменты в чемоданчик. — Он когда-нибудь жаловался на боли в груди? Тошноту? Что-нибудь случалось у него с сердцем?
Она монотонно ответила на множество вопросов. Дядя, как и прежде, мокрый и неподвижный лежал на траве. К ней постепенно приходило понимание, что он и вправду умер.
— Его мучила жажда. Это было последнее, что он сказал. Ему ужасно хотелось пить, — проговорила Марджори.
Доктор посмотрел на Грича. Потом еще раз склонился над дядей, внимательно посмотрел на него. Затем выпрямился и снял стетоскоп.
— Марджори, мне очень жаль, но твой дядя умер. Наверняка это сердечный приступ. Он не утонул.
Она кивнула.
— Я понимаю. Спасибо, доктор. — Затем, обращаясь к Ноэлю, сказала: — Мне необходимо сделать множество звонков. — Потом снова посмотрела на дядю. Слезы наполнили горящие сухие глаза. Чувствуя излишнюю мелодраматичность того, что она сейчас делает, Марджори тем не менее не могла удержаться. Она упала на колени рядом с дядей, обвила его руками. — Дядя, дядя, о Боже, о мой Боже! Самсон-Аарон умер! Что произошло, доктор? Как это случилось?
Доктор посмотрел на нее, и она с удивлением увидела слезы у него на глазах.
— Мардж, я не могу сказать, я не знаю. И никто никогда не узнает. Он единственный, кто мог бы это сделать, Мардж, понимаешь? А он уже никогда не расскажет. — Она внимательно вглядывалась в лицо доктора, а слезы текли по щекам, и руки продолжали обнимать дядю. Доктор продолжал: — Может быть, он почувствовал себя плохо в тот момент, когда проходил по лужайке, понимаешь, и присел на край фонтана, чтобы переждать приступ. А может быть, — ведь ты говорила, что он хотел пить, — может быть, он наклонился, чтобы набрать в ладонь воды и напиться, а в этот момент голова закружилась, и он упал. В любом случае он, должно быть, умер мгновенно, иначе он бы выбрался оттуда. Он ведь был очень сильным человеком. Это счастливая смерть, Мардж. Всего за несколько секунд. Он не успел по-настоящему осознать. Вот он жив — и вот он уже мертв…
— В фонтане. О Боже, в фонтане! — прошептала Марджори. Она прижалась лицом к груди дяди, к холодной коже и влажным курчавым волосам и зарыдала.
Укол был очень болезненным. Доктор пообещал Марджори, что успокаивающее лекарство не подействует, как снотворное, и он оказался прав. Через несколько минут странное теплое чувство облегчения проникло в нее и растеклось по рукам и ногам. Дрожь, сотрясавшая ее тело, исчезла. Ноэль сидел рядом, у нее в ногах, смотрел на нее и курил.
— Дай и мне сигарету, — сказала она. Она села и поднесла сигарету к спичке. — Извини меня.
— Ради Бога, — сказал Ноэль, — ты держалась превосходно, тебе незачем извиняться. Все это чертовски тяжело.
— Куда его положили?
— В изолятор.
— Я пойду. Я хочу посмотреть на него. Потом нужно будет позвонить.
— Послушай, почему бы тебе не полежать хоть немного? Кто-нибудь позвонит вместо тебя. Так будет лучше.
— Нет. Пойдем. — Она встала, оправила измятое мокрое платье.
Вытянутая, покрытая простыней фигура на кровати выглядела почему-то, как в кино. Грич стоял рядом с доктором, который присел возле кровати и что-то быстро писал на медицинском бланке. Небольшая комната с желтыми оштукатуренными стенами была освещена одной-единственной лампочкой, свисавшей с потолка на черном проводе. Здесь стоял сильный запах лекарств, но Марджори почувствовала еще какой-то запах, совершенно незнакомый ей и довольно приятный, хотя и страшный одновременно. Это был тот самый запах, который в книжках обычно называли «запахом смерти». Доктор взглянул на нее снизу вверх. Она сказала:
— Я хотела бы взглянуть на него.
— Не стоит, Марджори, — сказал Грич.
— Все нормально, можно, — возразил доктор и откинул край простыни.
Только теперь Марджори действительно осознала, что дядя мертв. Его лицо уже не было лицом живого человека. Оно было зеленоватого цвета, с застывшей навсегда улыбкой. Руки спокойно лежали одна на другой поверх влажного пляжного костюма, и многочисленные порезы на пальцах были не ярко-красного, а скорее синевато-красного цвета. Внезапно, как будто в забытьи, она услышала его живой голос: «Покончено с грязной посудой». Горестно покачав головой, она сказала доктору:
— Он умер.
— Да, — грустно повторил доктор. — Он умер.
В памяти всплыл давнишний урок Закона Божия. Она взяла одну из холодных застывших рук в свои и произнесла на иврите:
— Слушай, Израиль. Я Господь Бог твой! — Она обернулась к остальным, все еще сжимая руку дяди: — Странно, что мне захотелось это сказать. Вряд ли он хоть раз в жизни произнес эти слова. — Она опустила руку дяди и накрыла тело простыней.
Грич вытер слезы.
— Марджори, все, что я могу сделать для тебя…
— Спасибо, мистер Грич, сейчас мне нужно позвонить маме.
Ноэль проводил ее в канцелярию. Часы на стене, которые так громко тикали, показывали без двадцати четыре. Сонной телефонистке понадобилось пятнадцать минут, чтобы дозвониться до матери. Это время она просидела с Ноэлем за столом, освещенным настольной лампой, куря и разговаривая о книге, которую он давал ей почитать несколько дней назад. Тепло и спокойствие разливалось по телу, видимо, благодаря успокаивающему. Она чувствовала себя готовой к испытанию, которое предстояло ей пережить в последующие дни. Она обдумывала, какое платье выбрать из своего гардероба, чтобы оно было достаточно темным и простым для похорон.
Голос матери звучал пронзительно и очень испуганно.
— Да-да, девушка, говорю же вам, это миссис Моргенштерн, алло, алло, кто меня спрашивает, кто это?
— Привет, мам, это я.
— Марджори, алло, Марджори! Что случилось, дорогая, ради Бога, сейчас ведь четыре утра!
— Мне очень жаль, мам, ужасно сообщать тебе об этом, но дядя…
Наступило молчание. Затем внезапно севшим, ледяным голосом мать спросила:
— Как он?
— Все кончено, мама.
Она услышала вздох и сдавленный вскрик. Потом миссис Моргенштерн, плача, сказала на иврите:
— Благословен будь, Судья истинный! — И снова пауза. — Что случилось? Как это было?
— Сердце.
— Сердце?
— Да.
— Когда? Как? Господи!
— Только что, мамочка. Это случилось только что. Мамочка, приезжай. Приезжай сюда.
— Ты позвонила Джеффри?
— Я не знаю его номера.
— Я сама ему позвоню. Я позвоню всем. Как ты? С тобой все в порядке? Боже мой, Самсон-Аарон! Я ведь ему говорила… Самсон-Аарон… Марджори, с тобой точно все в порядке?
— Я в порядке, мама.
— Марджори, не позволяй им его трогать или что-то делать с ним, слышишь? Абсолютно ничего. Побудь с ним. Мы должны забрать его домой.
— Хорошо, мам. Я не позволю с ним что-нибудь делать.
— Вот именно, ничего. Мы приедем через пару часов. Самсон-Аарон!.. До свидания, Марджори, Джеффри я позвоню.
Марджори положила трубку с ощущением стыда оттого, что разговор был слишком обычным, слишком будничным, не соответствующим ужасному поводу — смерти Самсона-Аарона. Этот разговор был намного короче ее частых разговоров с матерью, когда они обсуждали, например, беду каких-нибудь друзей.
— Как она это перенесла? Отсюда выглядело сносно.
— Вот насчет моей мамы тебе не стоит волноваться. Мне нужно с ним побыть — так она сказала. Дай мне еще сигарету, пожалуйста. — Ноэль вышел вместе с ней. Сейчас ее нисколько не интересовал Ноэль, разве что только как умный друг, которого хорошо иметь рядом, пока не приедет мама и не возьмет на себя всю ответственность. Она как-то отстраненно вспомнила, что они целовались с Ноэлем на террасе в тот самый миг, когда Самсон-Аарон упал в фонтан и умер. Но это все происходило по другую сторону какого-то мига. Для нее не существовало прошлого, до смерти Самсона-Аарона. А в настоящем была смерть и только смерть. Несколько человек болтались у фонтана, и еще несколько, как тени, мелькали на лужайке. Увидев ее, они приглушили голоса и разглядывали ее, перешептываясь. Темнота, лунный свет, нежный запах горного лавра, доносившийся с озера, — все было абсолютно такое же, как и двадцать предыдущих ночей, когда она через лужайку возвращалась домой с Ноэлем. Странно, что по эту сторону страшного мига все осталось таким же. Смерть дяди изменила окружающий мир не больше, чем гибель прихлопнутого ладонью комара.
В единственной освещенной из комнат изолятора запах смерти стал явственнее. Возле накрытого простыней тела сидела медсестра. Лицо ее было помятым, сонным, глаза опухли, халат не застегнут на все пуговицы. Прикроватная лампа освещала желтым светом лишь один угол простыни, все остальное скрывалось в полутьме. Медсестра виновато отложила в сторону журнал.
— Марджори, мне ужасно жаль, что твой дядя…
— Спасибо, теперь я с ним посижу.
— Но доктор сказал, чтобы это сделала я.
— Нет, я посижу.
Медсестра взглянула на Ноэля, явно обрадованная возможностью избежать этого задания.
— Я, конечно, не могу препятствовать желаниям родственников. Но ведь такая нагрузка…
— Все нормально, — сказал Ноэль.
— Я буду в кабинете доктора, — уже исчезая, проговорила сестра, — на случай, если что-нибудь понадобится.
— Хорошо. — Марджори заняла ее место на стуле.
Ноэль шепотом сказал ей:
— Я только принесу стул. Я останусь с тобой.
— Это ни к чему, Ноэль. — Она произносила слова обыденным небрежным тоном. — Почему бы тебе хоть немного не поспать? Ты, должно быть, смертельно устал со всеми этими празднествами и тому подобным. Черт побери, кажется, что с тех пор прошло сто лет, правда? А ведь все это было несколько часов назад!
Ноэль с трудом заставил себя посмотреть на тело.
— Я не могу оставить тебя здесь одну.
— Ну, как ты не поймешь, — уставшим голосом произнесла она, — все уже кончено. Просто мама хотела, чтобы я убедилась, что с ним не будут делать ничего, что идет вразрез с нашей религией.
Ноэль взял ее руку, прижал к своим губам, потом к щеке. Рука была безжизненная и какая-то застывшая, хотя и теплая. Его жест не произвел на нее никакого впечатления. Он взглянул ей в лицо и вышел.
Она подавила в себе желание приподнять простыню. Ей подумалось, что в данный момент этот жест был бы вызван только болезненным желанием доставить себе еще большую боль. Самсон-Аарон умер, и он имеет право на тайну смерти. Марджори осознавала, что при всем ужасающем страхе смерть, тем не менее, была удивительно ярким и волнующим переживанием. С легким чувством стыда она ощутила, что испытывает от нее слишком большое удовольствие — и это несмотря на глубину ее горя и боли. Все это было для нее слишком сложным и новым и ни капельки не походило на то, что она думала о смерти раньше. Каким-то странным пугающим образом смерть оказалась забавной, в самом деле, хотя она никогда не смогла бы объяснить почему, да и не решилась бы хоть словом обмолвиться об этом кому-нибудь. Где бы ни был сейчас Самсон-Аарон — а она чувствовала, что дух его рядом, недалеко от покинутого им тела, — он не рассердился бы на нее за эту странную и недостойную реакцию. Возможно, так действовало успокаивающее. Возможно, она просто не способна была отвечать за свои мысли.
Внезапно все в ней съежилось от страха, ее затошнило. Схватив журнал, она рывком раскрыла его на коленях.
— Так не пойдет, Марджори. — Грич стоял в дверном проеме, подбрасывая на ладони фонарик. — Кто-нибудь другой должен здесь побыть, никак не ты. Где сестра? Я сам ее сейчас разбужу и…
Марджори объяснила ему, какой наказ дала ей мать.
— Очень хорошо, — ответил Грич. — я прикажу, чтобы здесь ни до чего не дотрагивались до приезда твоей мамы.
— Я хотела бы быть в этом уверенной наверняка, мистер Грич. Я никогда не прощу себе потом, если… Честное слово, мне нетрудно…
— Ну-ка встань со стула! — сказал Грич. Марджори автоматически подчинилась, уронив журнал на пол. Грич уселся и положил фонарик на тумбочку возле кровати. — За пятнадцать лет еще никто здесь не сделал ничего без моего позволения. И так будет всегда. Я имею в виду всяких там констеблей и прочих. Клянусь тебе в этом. Я побуду с ним до тех пор, пока не приедет твоя мама. А ты делай, что я тебе скажу. Позови сестру, пойдите вместе в одну из свободных комнат, и постарайся вздремнуть.
Поколебавшись немного, она взглянула еще раз на закрытого мертвого дядю и решилась оставить его на попечение маленького толстого человечка в белых шортах до колен.
В конце концов оказалось, что весь этот кошмар — только сон. Потому что вот же он, Самсон-Аарон, в трико сиреневого цвета, выкидывает на траве коленца с быком, посреди веселящихся гостей, разместившихся на желтых стульях под ярким солнцем. А мама говорит ей:
— Что это за дурацкие шутки о том, что Самсон-Аарон болен или мертв или что-то там еще? Он же в великолепной форме!
— Мамочка, это, наверное, был сон, но, честное слово, все казалось таким реальным, что я просто не могла не сообщить тебе.
Кто-то тронул ее за плечо. Она обернулась, чтобы посмотреть на подошедшего, и все в ней перевернулось от ужаса. Рядом с ней стояла Маша с седыми разбросанными по плечам лохмами, дикими глазами и прыщавым лицом. В руке она держала кухонный нож и с глупым хихиканьем вонзила его прямо Марджори в горло.
Усилием воли Марджори заставила себя открыть глаза. Рука, трясшая ее плечо, была мамина. В окно тускло лился свет пасмурного утра. Миссис Моргенштерн сказала:
— Извини, дорогая, но тебе пора вставать. Джеффри только что приехал.
— О Боже, неужели я заснула? Который час? — Она села на кровати, откинув грубое коричневое одеяло, все еще ощущая дрожь в спине от своего кошмара. Осознание того, что произошло, возвращалось к ней.
— Сейчас половина восьмого. Я очень рада, что тебе удалось немного поспать. Тебе понадобятся силы.
— Как Джеффри?
— В общем, довольно хорошо.
— Ты взяла с собой Сета?
— Нет. У него достаточно будет в жизни времени, чтобы насмотреться на такие вещи.
Марджори с трудом добралась до стоявшего в комнате дешевого шкафа, взглянула на себя в зеркало, попыталась пригладить волосы. Ее вечернее платье выглядело до нелепого неподходящим для утра вообще, а тем более для столь трагических обстоятельств. Кроме того, оно было сильно измято и испачкано. Косметика на лице превратилась в одно смазанное пятно. В ушах были огромные серебряные серьги. Просто невозможно появиться на людях в таком виде, являя собой потерпевшее крах легкомыслие и напоминая рваную карнавальную маску в ведре для мусора.
— Ты только посмотри на меня, мама! У меня есть пять минут, чтобы сбегать к себе и привести себя в порядок?
— На улице дождь.
— Мне все равно. — Она отвернулась от зеркала. Глаза матери слегка покраснели, но в остальном она выглядела абсолютно такой же, как всегда. На ней была та же коричневая кофта, в которой она вчера вечером уезжала отсюда. — Ох, мамочка, все это было так ужасно!.. — Она обняла мать.
Миссис Моргенштерн прижала ее к себе покрепче, потрепала по плечу.
— Ну, успокойся. Грич мне все рассказал.
— Мам, он чувствовал себя нормально, когда уходил с вечера. Немного устал, но… Я хотела его проводить, но он не позволил…
— Дорогая, уж не собираешься ли ты спорить с Господом? Это случилось потому, что его время пришло. — Она откашлялась. — Довольно, у нас уйма дел. Я вызвала представителя похоронного бюро, вся семья в курсе. Похороны в Нью-Йорке в половине двенадцатого, так что времени не так уж много…
— В половине двенадцатого — сегодня?
— Порядок требует, чтобы умерших хоронили как можно быстрее.
— Мам, я вернусь через пять минут. Обещаю.
Пробегая мимо комнаты, где лежал дядя, она услышала голоса и скрежещущие звуки, как будто передвигали мебель. Снаружи действительно шел такой дождь, что она с трудом различала ближние деревья. Концертный зал вырисовывался смутными очертаниями в дымке дождя. Ни о чем не думая, она пробегала мимо фонтана, когда вдруг заметила, что из него спустили воду и обнажилось грязное дно. Тогда она все вспомнила и отвернулась, снова объятая ужасом.
Она поспешно умывалась и переодевалась в простое платье унылого серого цвета, одновременно прикидывая, успеет ли собрать и отослать домой свои вещи. Нет, самой ей не успеть, решила она. Она не принимала специального решения о том, что покинет «Южный ветер». Она просто знала, что не вернется сюда. Одно мгновение она поколебалась у зеркала. Лицо ее без косметики выглядело желтоватым, как ей казалось, просто уродливым. Сухие бледные губы были невыносимы. Она все-таки слегка тронула их розовой помадой.
Длинный черный автомобиль появился как будто из ниоткуда в тот момент, когда она подбегала к изолятору. Автомобиль стоял перед административным зданием, за рулем сидел человек во всем черном.
— Боже, все происходит так быстро, — прошептала она.
Первое, что пришло ей в голову, когда она увидела Джеффри, была мысль о том, что со времени женитьбы он, похоже, набрал фунтов шестьдесят. Лицо его расплылось и своими выпуклостями сильно напоминало теперь дядино. Джеффри стоял в холле изолятора и разговаривал с окружавшими его людьми, время от времени вытирая глаза носовым платком. Дверь в комнату, где лежал Самсон-Аарон, была закрыта, Джеффри стоял к ней спиной. Он заметил Марджори и скорбно кивнул ей. Она прошла прямо к нему и крепко обняла. Твидовый пиджак на нем был влажным, галстука не было.
— Джеффри, мне так жаль…
— Спасибо, Марджори, я знаю. Ты любила его. Мне жаль, что ты вынесла на себе всю тяжесть этого. Спасибо за…
— Господи, Джеффри, не нужно меня благодарить!
— Это моя жена Сильвия, это Марджори.
Жена выглядела как две капли воды похожей на свои фотографии — белокурая узколицая иностранка в чрезвычайно широком темном платье будущей матери. Она заложила руки за спину, опираясь на стену. Она произнесла: «Привет, Марджори», — и Марджори, вспомнив, что улыбаться не следует, кивнула ей с тем же торжественным выражением на лице.
Ее родители, Грич и доктор беседовали с представителем похоронного бюро, черноволосым человеком в брюках со штрипками, серых гетрах и рубашке с отложным воротничком. Он больше походил на продавца обуви в магазине на Пятой авеню — такой же энергичный и в то же время мрачный. Он говорил:
— Конечно, миссис Моргенштерн, я привез простой гроб. Мы всегда учитываем пожелания родственников. Но послушайте, они уже вышли из моды, это я вам говорю! Я бы предложил для вашей церемонии прекрасный гроб красного дерева, украшенный серебром…
— Что вышло из моды? — спросила миссис Моргенштерн. — Закон вышел из моды? Закон из моды не выходит. А закон гласит: гроб должен быть как можно проще. Это не вопрос экономии. В этом суть иудейской религии, в том, чтобы гроб был очень простым. Прах в прах да возвратится.
— Уверяю вас, мадам, я обслужил несколько сотен еврейских похорон, где были прекрасные гробы. Только совсем уж старомодные люди…
Мистер Моргенштерн взял Марджори под локоть и отступил вместе с ней на несколько шагов назад. Лицо его было белым и испуганным.
— С тобой все в порядке?
— Конечно, па.
— Ты неважно выглядишь.
— Это все от кошмарной ночи.
— Ты поедешь с нами?
— Да, папочка.
— А что потом?
— Я не вернусь сюда.
— Хорошо. Хорошо.
Черноволосый владелец похоронного бюро продолжал свои уговоры:
— В конце концов, решать должен сын, мадам, а не золовка. Мистер Куилл, я отдаю себе отчет, что сейчас не время для таких разговоров, но я просто убежден, что вы предпочтете хороший гроб. Мы иногда используем простые гробы, но…
— Делайте, что сказала тетя, — произнес Джеффри уставшим голосом, вытирая заплаканные глаза.
Тот уставился на Джеффри.
— Ну, что ж, сэр. Естественно, желания наших клиентов — наши желания, но гроб, который я вам предлагаю, вовсе не так дорог, особенно учитывая…
— Пусть будет простой гроб, — сказала миссис Моргенштерн.
Грич, облаченный в темно-серый деловой костюм, все еще с фонариком в руке, молча слушал, облокотившись плечом на стену. Затем он сказал:
— Счет пришлете сюда.
Похоронный устроитель недоверчиво переспросил:
— Сюда?
— Корпорация «Южный ветер», — сказал Грич, — Максвеллу Гричу.
Миссис Моргенштерн изумилась.
— Мистер Грич, это очень порядочно с вашей стороны, но мы прекрасно справимся со своими…
— Моя территория. Мой служащий. — Грич говорил хрипло, щелкая фонариком. — Первая смерть в «Южном ветре». Он работал у меня. Мне пришлете счет.
Лицо мрачного служащего прояснилось.
— Сэр, я считаю, что это замечательно. Горе выявляет самое лучшее в людях. И сейчас я в этом убеждаюсь. Но теперь, когда платит «Южный ветер», может быть, красивый гроб…
— Простой гроб, — перебил его Грич. — Делайте все, что сказала миссис Моргенштерн.
Только теперь лицо владельца похоронного бюро приобрело то печальное выражение, которое, как казалось Марджори было принадлежностью людей этой профессии.
— Очень хорошо, простой гроб, — произнес он уныло.
За спиной у Джеффри открылась дверь, и появился огромный длинный гроб из желтого некрашеного дерева, грубо сколоченный, скорее напоминавший упаковочный ящик, если бы не его форма. Его несли два незнакомых Марджори человека в одежде похоронного бюро, доктор, два человека из персонала кухни и — самое странное — Уолли Ронкен. Они с трудом развернули гроб и направились в коридор. Казалось, что этот ящик не имеет никакого отношения к Самсону-Аарону, хотя Марджори точно знала, что его тело находится там. Смерть как таковая, истинное событие, оказавшееся таким странным, ужасным и волнующим одновременно, завершилась. Это уже начались похороны. Грич, мистер Моргенштерн и Джеффри тоже взялись за ношу. Гроб пронесли мимо Марджори, и она увидела даже свежие царапины на стенах. Когда они медленно двигались мимо, Уолли угрюмо взглянул ей в лицо. Женщины последовали за гробом на улицу.
Дождь стихал. На небе кое-где появлялись светлые пятна. Уже можно было разглядеть деревья вдали и спокойное озеро. Воздух стал заметно теплее. На лужайке около катафалка собралось тридцать-сорок человек. Они подались назад, пропуская гроб в автомобиль.
Ноэль Эрман вышел из толпы. Он был, как всегда, в черном свитере с высоким воротом. Светлые волосы казались еще светлее в утреннем свете. Она автоматически подошла к нему. Он взял ее руку в свои.
— Мардж, скажи мне, что я могу сделать?
— Спасибо, я думаю, уже все сделано, Ноэль. Мы уезжаем.
Близкие родственники и те, кто помогал нести покров, стояли тесной группой позади нее, а остальные чуть поодаль от него. Марджори и Ноэль оказались одни в пустом пространстве посередине, как парламентарии враждующих сторон. Она чувствовала себя привлекающей всеобщее внимание; все вокруг наблюдали за ними, она в этом была уверена, поскольку их роман был притчей во языцех. Тихим голосом она произнесла:
— Я не вернусь сюда.
Он смотрел на нее в удивлении, потом кивнул.
— Я понимаю, что ты сейчас чувствуешь, Мардж. Но через неделю-другую, может быть…
Она отрицательно покачала головой.
— Я не вернусь.
— В таком случае я приеду повидать тебя, может быть, в четверг. Но скорее всего в воскресенье.
— Спасибо. Я надеюсь на это.
— Я хотел поехать в город на похороны, Мардж, но это просто невозможно. Представление… Меня просто некем заменить.
— Конечно, ты не можешь уехать, я знаю. Извини меня, Ноэль. — Она кивком подозвала свою подругу по комнате, Адель, которая стояла чуть позади. Певица подошла к ней, лицо у нее было абсолютно бледным, если не считать мазка помады на губах. Солнце просвечивало ее волосы, обнаруживая черные корни под рыжей краской. Марджори быстро договорилась о том, чтобы она уложила ее вещи и отправила их домой. Они разговаривали, а вокруг шуршал гравий под колесами машин, маневрирующих так, чтобы образовать процессию: впереди катафалк, затем черный «лимузин», ржавый маленький «шевроле» серого цвета, принадлежащий Джеффри, фургон из «Южного ветра», старенький «бьюик» Моргенштернов.
Уолли вдруг оказался рядом с Марджори.
— Твоя мама просит тебя подойти, Мардж. Осталось всего несколько минут до отправления. Она говорит, тебе может понадобиться что-нибудь теплое.
— Я принесу, — предложила Адель. — Что взять, Мардж?
— Даже не знаю. Наверное, мой голубой плащ подойдет…
— Я принесу. — Уолли побежал по лужайке.
Пока Марджори шла к кортежу, солнце проглянуло сквозь тучи, и в его лучах засверкали крылья и стекла автомобилей. Она остановилась, положив руку на дверцу «бьюика», и в последний раз оглянулась на «Южный ветер». «Бьюик» стоял перед главным зданием, поэтому перед ней открывался превосходный вид на пляж и концертный зал. Озеро серебрилось на солнце. Башня на здании концертного зала тоже сверкала, как белоснежная пика. Мокрая после дождя трава на лужайке блестела от мириадов крошечных радуг в каплях, и деревья роняли мелкие блестки. А в центре всей панорамы находился фонтан — сейчас выключенный, незаметный, и голая черная труба его одиноко торчала из серого камня каскада. Марджори содрогнулась, забралась в машину и села на заднее сиденье.
В окне появился Уолли, он принес ее смятый плащ.
— Мардж, я помогу Адель, — он задыхался. — Ты все получишь в наилучшем виде.
— Спасибо, Уолли.
— Это был отличный старик.
— Да. До свидания, Уолли.
После гудка процессия тронулась вниз по дороге. Громкоговоритель над главным зданием вещал: «Завтрак накрыт в большом обеденном зале». Толпа на лужайке уже поредела, отдыхающие потянулись к дверям столовой. Марджори вдруг почувствовала, что очень голодна, но уже было слишком поздно что-либо предпринимать. В заднее стекло она видела Уолли и Ноэля, стоявших бок о бок на крыльце главного здания и наблюдавших за отъездом процессии.
Машины медленно продвигались по неровной дороге, подпрыгивая на ухабах, из-под колес веером летели брызги. Затем они миновали арку ворот и выехали на автомагистраль.
Марджори оглянулась на сверкающую позолотой Леди «Южного ветра», которая украшала арку, и вспомнила, с каким восторгом и душевным подъемом прошла она в июне под этим изображением. Мать поразила ее заданным в это мгновение вопросом:
— Разница между приездом и отъездом огромна, а? — Миссис Моргенштерн искоса наблюдала за дочерью с переднего сиденья.
— Да, мам.
— Для дяди, однако, разница еще больше.
— Я знаю.
Помолчав, миссис Моргенштерн спросила:
— Скажи честно, Марджори, это Содом и Гоморра, верно?
Марджори колебалась. Потом ответила:
— Более или менее, мама. Более или менее так и есть. Теперь ты мне скажи честно. Почему тогда все это так прекрасно?
Мать сделала гримасу.
— Это древний вопрос. — Она опять смотрела вперед.
Кортеж плавно продвигался по магистрали к Нью-Йорку.
Только много часов спустя, когда похороны окончились и машины покидали кладбище на Лонг-Айленде, где дядю опустили в черную землю, Марджори внезапно поразила одна мысль, пробившись сквозь туман потрясения и горя. Мысль о том, что смерть Самсона-Аарона помешала ей отдаться Ноэлю и что вряд ли что-либо другое на свете смогло бы ее остановить.
Часть четвертая Ноэль
21. Возвращение Маши
Девушки не так уж часто получают приглашение на главную роль на Бродвее на следующий день после окончания колледжа. Марджори Моргенштерн это удалось.
Перед самым началом церемонии, когда она, переодеваясь, хохотала и проказничала с остальными выпускницами в раздевалке Карнеги-Холла, преподаватель драматического искусства мисс Кимбл стремглав влетела к ним. И глаза, и нос — все у нее покраснело. Она крепко обняла ошарашенную Марджори, окутав ее ароматом хвойного мыла, прижалась к ней мокрым лицом, поцеловала и вручила письмо для бродвейского продюсера Гая Фламма.
— Это, конечно, не волшебный ключ, который откроет тебе врата рая. Но поверь мне, девочка, любой контракт — это прекрасно, если ты заключаешь его на Бродвее. Ты стоишь на пороге славы, дорогая моя. Я верю в это. Передай от меня огромный привет Гаю, и да хранит тебя Господь!
С этими словами, подарив Марджори еще один поцелуй и еще одно облако хвойного аромата, мисс Кимбл исчезла.
Марджори шагала в переполненный концертный зал, где оркестр очень громко, но нестройно играл «Пламя битв и торжество побед». Голова ее была приподнята, плечи развернуты, глаза смотрели прямо перед собой, на пучок кудрявых волос Энни Монахан, шагающей впереди нее. И только краешком глаза она смутно видела ряды любопытных лиц и белые пятна программок в руках.
У форменного платья из грубой черной шерсти, которое выдали для выпуска, был неприятный запах, как будто оно долгие годы провалялось в углу на чердаке. Марджори казалось, что она видит себя со стороны — в черной квадратной шапочке с кисточкой, покачивающейся у виска. В раздевалке она острила вместе с остальными над абсурдностью этого наряда и наигранной помпезностью всего выпускного вечера в снятом внаем зале. Но в этот торжественный миг, шагая в проходе между рядами, она забыла, как игнорировала месяцами занятия и как ненавидела, всей душой ненавидела колледж Хантера за то, что это отнюдь не Корнелл или Барнард.
В душе у нее смешались сентиментальная жалость и возвышенное предвкушение счастья. Она часто видела имя Гая Фламма на афишах. Он не был всемирно известным режиссером, но он в любом случае наверняка был режиссером на Бродвее. Неожиданное письмо от мисс Кимбл, лежавшее у Марджори в кармане, значило для нее больше, чем диплом, который ей должны были вручить. Это было настоящее посвящение в профессию, каковы бы ни были ее успехи в колледже, куда там диплому! Это письмо должно было осветить ее путь в будущее.
Кроме того, Марджори очень волновало, присутствует ли в зале Ноэль. И если да — то как ей быть после окончания церемонии. Мама, естественно, захочет пойти к Крафту. А Ноэль, который мог с аппетитом поглощать пищу в самой шумной и грязной забегаловке, об этом ресторане говорил, что его атмосфера наводит на него ужас.
После катастрофически скучных речей началась церемония вручения дипломов. Семь сотен девушек, одна за другой, выходили на сцену и получали от декана рукопожатие и белый свиток, как на конвейере. Жидкие аплодисменты слышались то в одном, то в другом конце зала при выходе очередной девушки. Лишь медалисты и общественные лидеры вызывали бурную овацию.
По мере приближения своей очереди в Марджори росло напряжение и острое сожаление о том, что она не постаралась учиться лучше, чтобы выбиться из этого серого ряда никому не известных личностей.
— Фелиция Мендельсон…
— Агнес Монахан…
— Марджори Моргенштерн…
Она прошла по пустой сцене к декану, чувствуя, как земля плывет у нее под ногами. К ее огромному удивлению, раздались аплодисменты.
Она взглянула влево, на ряды многочисленных лиц. Хлопали даже ее однокурсники. В глазах декана официальное выражение смягчилось до дружеского, рука его тепло, мягко и крепко пожала руку Марджори. «Удачи тебе, Элиза», — и все. Марджори Моргенштерн, бакалавр наук, покидала огромную сцену Карнеги-Холла с дипломом в руке.
— Катарина Мотт… Роза Муччо… Флоренс Нолан… — Ей стало ясно, что ее «Пигмалион», поставленный самостоятельно в ноябре, после отказа от него театрального кружка из-за излишней амбициозности, принес-таки ей определенную известность в студенческих кругах.
Несколько минут спустя она плакала, как и многие другие девушки, получившие диплом, когда следующий выпускной курс запел гимн альма-матер:
Слава по всему огромному миру — вот мечта
Истинной дочери Хантера…
Ей этот гимн всегда казался глуповатым. Ну, что это — «слава по всему огромному миру»! — и это о толпе мечущихся по темным мрачным коридорам девушек! Он и сейчас показался ей глупым. Но она все равно плакала, потому что это было расставание.
Набитый битком, душный вестибюль был пропитан запахом дождя и влажных плащей. Марджори пробиралась сквозь толпу, расталкивая народ локтями, к своим родителям, стоящим поодаль от толпы под навесом, вместе с Ноэлем. Шел очень сильный косой дождь, ветер просто обжигал холодом. Она нежно обняла мать, затем отца и порывисто схватила Ноэля за руку.
— Тебе устроили настоящую овацию, — сказал он. Ноэль был одет в видавшую виды коричневую шляпу с потерявшими всякую форму полями, коричневое пальто «в елочку», слегка протертое на локтях. Руки сжаты в кулаки и засунуты в карманы, плечи напряжены, кривая усмешка на губах — ему было явно не по себе. Светлые тонкие волосы сегодня отнюдь не скрывали его тридцати лет.
— Наверняка это были твои и мои друзья, — ответила она, — хлопали достаточно громко, чтобы вызвать эхо в зале.
Вдруг ее закружили объятия, лицо погрузилось во влажный беличий мех.
— Зайчик мой сладкий, поздравляю! Да здравствует свобода!
— Маша! Привет.
— Солнышко, ты не обижаешься, ведь правда? — Глаза Маши были все такие же острые, но глядели они с сильно похудевшего лица. — Я увидела объявление в «Таймс» о сегодняшнем выпуске, вынуждена была отпроситься с работы, чтобы увидеть выпускницу-Морнингстар! Дорогая, ты выглядела грандиозно, но остальные — страшилища. Послушай, откуда Хантер их выкапывает? — Она повернулась к родителям. — Нет, только посмотрите на них! Как им удается выглядеть все моложе и моложе? — Она бросила лукавый взгляд на Ноэля: — А это, похоже, сам великий мистер Эрман!
— Привет, Маша, — произнес Ноэль немного уставшим голосом.
Маша продолжала, уцепившись за локоть Марджори:
— Ты слышала треск на балконе, когда объявили твое имя? Это была я. Я чуть не сломала эти чертовы очки, чтобы разглядеть…
Порывы ветра швыряли в них струи дождя. Миссис Моргенштерн сказала, вытирая лицо:
— Глупо стоять тут и мокнуть. Ресторан Крафта всего в нескольких шагах отсюда.
Марджори очень тревожило поведение Ноэля в ресторане. Он медленно опустился в кресло, закурил и стал разглядывать деревянные панели стен и женщин средних лет в огромных шляпах, поедающих мороженое и беседующих визгливыми голосами. Он автоматически взял со стола салфетку и, продолжая глазеть по сторонам, начал рвать ее на мелкие кусочки. Маша продолжала болтать о выпуске. Подошедшей официантке родители заказали мороженое, а девушки — коктейль. Ноэль пробежал глазами меню.
— А мне сыр «коттедж» и кресс-салат с грушами.
Марджори в изумлении уставилась на него.
— Господи, Ноэль, ты никогда не ел эту дрянь. Лучше выпей.
— Это вместо епитимьи. Вроде как проползти по лестнице на коленях, искупая грех, — сказал Ноэль.
Глаза Маши блеснули на Марджори:
— Что ты сделала с ним? Это же конченый человек!
— Конченый, — повторил Ноэль, — оседланный, взнузданный и прирученный. Детки в Центральном парке катаются на мне. Десять центов за поездку.
Родители неловко улыбались. Миссис Моргенштерн сказала:
— Послушайте, Ноэль, не жалуйтесь. Это приличная работа.
Ноэль улыбнулся и без неприязни спросил:
— Миссис Моргенштерн, как бы вам понравилось, если бы я зарабатывал двадцать пять тысяч в год?
— Думаю, это понравилось бы Марджори, — ответила мать.
— Как? — обратился Ноэль к Марджори.
— Послушай, Ноэль, какое мне дело? Работай, где хочешь, лишь бы тебе нравилось. «Какая кошмарная ситуация, — особенно при Маше, которая скалит зубы, впитывая каждое слово».
Завязалась беседа о планах Марджори на ближайшее будущее. Миссис Моргенштерн считала, что Марджори должна пойти работать секретаршей к отцу в офис.
— Просто чтобы узнать, каково это — зарабатывать себе на хлеб, — сказала она. — Все в мире меняется с первым заработанным долларом.
— Это точно, — поддакнула Маша.
Марджори обернулась к ней.
— Кто бы говорил!
Маша вскинула голову, взяла сигарету и вынула из сумочки серебряную зажигалку.
— Милая моя, если в театральной гильдии придерживают роль специально для тебя, тогда, конечно, другое дело. — Она поднесла огонь к сигарете. У Марджори возникло искушение подкинуть сногсшибательную новость о письме к Гаю Фламму. Но она все-таки удержалась. Будет время сообщить о нем, когда станет известно, вышло ли из этого что-нибудь. Маша продолжала: — Я всегда верила в тебя, я и сейчас верю. Но это правда, ты действительно только наполовину человек, ты еще полудитя, пока не начнешь зарабатывать деньги. К тому же ты можешь поднакопить достаточную сумму, чтобы попытаться следующей осенью найти работу по специальности. В конце концов, узнаешь, как живет большинство людей. А то в этом смысле у тебя огромная брешь в образовании.
— Если быть последовательным в проведении этой теории в жизнь, то ей также остро необходимо выйти отсюда и постараться, чтобы ей оторвали в метро руку или еще что-нибудь. Ведь в конце концов, большинство людей в мире живут искалеченными.
— Что это за разговоры, — сказал отец необычно резким тоном. Все замолчали до тех пор, пока официантка не принесла заказ.
Маша подняла свой бокал и весело провозгласила:
— Ну, что ж, за восходящую в мире новую звезду!
Ноэль приподнял на вилке кусок сыра, кивнул Марджори и съел его.
Мистер Моргенштерн отодвинул мороженое после нескольких ложек.
— Вы извините меня, молодые люди. Мы отпразднуем по-настоящему попозже, вечером дома. В офисе уйма дел.
Ноэль вытянул свою длинную руку, выхватил чек у официантки и облачился в потрепанные пальто и шляпу.
— Я тоже, дорогая восходящая звезда, свяжусь с тобой вечером. Нужно идти, разведать насчет этих самых двадцати пяти тысяч в год.
Миссис Моргенштерн еще немного поболтала с девушками, расспрашивая Машу о ее работе в универмаге. Тон ее был гораздо мягче, чем раньше. Когда и она удалилась, девушки посмотрели друг на друга и расхохотались.
— Ты как насчет еще выпить? — спросила Маша.
— Почему бы нет? У меня нет на завтра уроков.
Маша поймала взгляд официантки и сделала быстрое круговое движение пальцем, показывая на пустые бокалы.
— Грандиозное чувство, ты не находишь?
— Маша, сколько же ты сбросила? Фунтов сорок? Ты выглядишь восхитительно. — Маша довольно ухмыльнулась, поправив редкие волосы, подстриженные и завитые. Толстый слой косметики и ярко-красная помада исчезли — девушка была лишь слегка подкрашена. Лицо стало более четко очерченным. Формы у нее все еще были пышными, но черный костюм и простая белая английская блуза делали это менее заметным. Кроме того, не было и огромных кричащих серег. Единственным украшением в ее наряде был большой необычный золотой краб, приколотый на груди.
Явно наслаждаясь произведенным на Марджори впечатлением, Маша сказала:
— За это время я сделала все, что в моих силах, дорогая. Но я все еще не старший продавец, поэтому, думаю, мне не следовало даже приближаться к тебе, но…
— Не будь идиоткой, Маша. Я очень рада, что ты пришла.
— Видишь ли, дорогая, ты же обращалась со мной, как с прокаженной, всего лишь два года назад. Может быть, после лета, проведенного в «Южном ветре», ты будешь ко мне снисходительнее. Согласись наконец, что это не я изобрела секс.
— Да ладно, Маша, я ведь была совершеннейшим младенцем!
— Видит Бог, хотела бы я, чтобы ты была тем самым младенцем, устами которого говорит истина. Это же не мир, а хлев загаженный, вот что я тебе скажу! Но я порвала с Карлосом, когда поступила на работу — если это тебя, конечно, интересует — и с тех пор я была паинькой, честно. Не по своей воле, правда, поэтому я не утверждаю, что я сама безгрешность. У меня, собственно, не было никого достойного, о ком стоило бы рассказать. Да к черту все это! Ты-то, маленький бесенок! Загарпунила самого Моби Дика! Кто бы мог подумать! Ноэль Эрман, которого положила на обе лопатки крошка Марджори! Я горжусь тобой, радость моя! Если ты помнишь, именно я говорила тебе, что ты очень даже можешь сделать это. Ну, ладно, что ты сидишь, как омар вареный, давай, рассказывай!
— Вовсе я его не гарпунила, не смеши меня. — Марджори отпила, чтобы скрыть свое смущение.
— Да брось ты, детка. Никогда не видела мужика, который так окончательно и безнадежно втрескался. Как это тебе так удается? В чем секрет? Расскажи все в подробностях.
— О, Маша, это ужасно. Если хочешь знать, я в ужасном затруднении.
— Бедный ребенок. Ты беременна? Не стоит беспокоиться об этом.
Марджори поперхнулась питьем, сплюнула в салфетку и долго откашливалась. Прошло несколько секунд, прежде чем она смогла выговорить хрипло.
— Бог мой, Маша. Ты когда-нибудь переменишься?
Ехидно усмехаясь, Маша сказала:
— Извини, киска, мне всегда трудно отказаться немного попугать тебя. Ты всегда вспыхиваешь, как фейерверк.
— О, заткнись и дай мне сигарету. — Марджори начала смеяться. — Нет, я не беременна. Дело в том, я думаю, что это я тебя сейчас ошарашу. У нас ничего не было с Ноэлем!
Маша с любопытством взглянула на нее.
— Я верю тебе.
— Ну, спасибо.
— Не иронизируй, — сказала Маша. — Ты хоть понимаешь, какую победу ты одержала? Мужчины типа Ноэля не будут связываться с девушкой из Вест-Сайда по пустякам. Что у вас происходит?
Марджори все еще чувствовала некоторое недоверие к Маше, но необходимость излить кому-то душу взяла верх.
— Маша, это все так непонятно, что даже не знаю, с чего начать.
— Вы помолвлены?
— До этого еще очень далеко. — Она начала с рассказа о лете, которое она провела в «Южном ветре», и вскоре взахлеб рассказывала всю историю. Маша слушала, как ребенок, широко раскрыв глаза, забывая иногда стряхнуть пепел, и тогда он падал ей на костюм. Когда Марджори дошла до смерти Самсона-Аарона, она стала запинаться, и голос ее задрожал. Маша покачала головой.
— Бедная девочка.
Марджори помолчала некоторое время и затем продолжала. — У меня было огромное желание никогда больше не видеть Ноэля. Я не хотела этого. Он писал, но я не отвечала. Он звонил, но я притворялась, что меня нет дома.
— Ты отправилась на Запад?
— Нет. Мама взяла меня с собой в один из тех отелей в горах, где можно познакомиться с прекрасными молодыми людьми. Она никогда не имела ничего против Ноэля. И по сей день не имеет ничего против. Я встретила массу прекрасных молодых людей. Докторов и юристов, половина из них с усами. Они приезжали в августе в горы во всеоружии. Я была царицей сезона, если можно так сказать. Другие мамаши с удовольствием отравили бы меня, если бы посмели. Когда я вернулась домой, была масса свиданий и встреч — звучит как-то довольно хвастливо, правда?
— Дорогая, мы же старые подруги, — сказала Маша. — Будь благодарна своей хорошенькой мордашке: я знаю, каждое слово в твоем рассказе — правда.
— К чему я клоню… Мне было смертельно скучно, будто я дама, оставшаяся без кавалера. Все эти ребята казались таким занудами после Ноэля! Маша, я не питаю никаких иллюзий относительно него — ну, ты знаешь, он все-таки такой…
— Такой? Ты сама должна это знать, Ноэль Эрман — это конечная цель. Я надеюсь, ты выйдешь за него замуж — конечно, ты обязательно выйдешь, хорошо это или плохо, иначе он будет тебя преследовать до самой могилы. Не каждый день появляются такие мужчины, как Ноэль.
— Теперь мы подходим к самой странной части. Об этом довольно сложно говорить. — Она отвела взгляд от Машиных любопытных глаз и посмотрела на улицу.
Их столик стоял около окна. Лил сильный дождь, и капли, разбиваясь о тротуар, разлетались маленькими серыми звездами. Еще с детства она любила наблюдать за этими маленькими прыгающими звездочками.
— Ты знаешь, какой ливень идет? Счастливый день окончания колледжа… Я думаю, я могла бы отказаться увидеть его, когда он позвонил в последний раз в конце сентября, Маша, если бы не эти скучные свидания. Это было такое блаженное облегчение снова услышать его голос, такой интеллигентный голос. Ты же знаешь, у него такой интеллигентный голос. Так получилось, я сказала, хорошо, давай встретимся. Мы, естественно, пошли поужинать. Потом пошли новые свидания, ну — я не знаю, ненавижу входить во все эти подробности.
— Милая, я же не девочка, — сказала Маша.
Глядя на танцующие серые пузыри на дороге, Марджори продолжала:
— Я не наслаждаюсь больше, целуя его. Или этим всем, ты знаешь. Это все равно что целовать Уолли. Так прошло пять месяцев, и это более или менее правда. Теперь ты знаешь. Самое главное в этом. Во всех других отношениях я восхищаюсь им, и он мне нравится, он действительно меня пленяет, я думаю, но — романтика, скажем так, уже больше как-то не срабатывает.
— Совсем нет? — спросила Маша, уставясь на нее. — Никогда?
— Ну, откровенно говоря, если признаться честно, пару раз, когда я выпивала несколько рюмок, что-то слегка мерцало. Но настолько слабо по сравнению с тем, что было раньше, что он тут же возмущался и прекращал. Я не борюсь, ты понимаешь, или что-нибудь такое. Мне просто все равно.
— Никакой реакции, — сказала Маша.
— Вот именно, никакой реакции. — Марджори застенчиво рассмеялась. — Бывает ли что-нибудь более странное?
— А что он чувствует к тебе? Или, скажем, он чувствует?
— О, он. Так же, как всегда или даже больше, как он говорит. В данных обстоятельствах он был удивительно добр и терпелив. Конечно, он об этом часто вспоминает.
Маша скривила губы.
— И что он об этом думает, дорогая?
— О, он очень сложно рассуждает, что у меня ужасный духовный беспорядок — иудаизм, и сексуальный грех, и любовь папы, и ненависть мамы, и желание мучить Сета, и все такое, и все это завязано в клубок с моим происхождением. При этом он считает, что я его все еще безумно люблю, но смерть моего дяди была ужасным шоком и выплеснула наружу чувство вины и все осложнения, и у меня сейчас сложный случай эмоционального паралича или потеря памяти. Какое-то есть этому название. Он сказал, что в книгах много описаний подобного, это самая простая вещь в мире, и я справлюсь с этим. Он просто подождет, когда это произойдет.
— И что тогда? Он женится на тебе?
Марджори заколебалась.
— Нет, совсем необязательно. Ну, что ты, не можешь представить? Если два человека любят так, как мы, было бы жалко это игнорировать или терять время — и так далее и тому подобное.
Маша прикурила от горящего окурка.
— Он последнее время не пишет новых песен?
— Он ничего не делает с тех пор, как уехал из «Южного ветра». Или фактически ничего. Ты представить себе не можешь, как ленив он может быть, Маша. Это беспокоит меня. Он может спать восемнадцать часов подряд. Он может пойти в один из этих шахматных клубов и играть в шахматы день за днем. Он необыкновенный. Затем он может проделать ошеломляющую работу, потрясающую в удивительно короткий срок. Во время рождественских праздников продюсер по имени Альфред Когель сказал, что он мог бы поставить музыкальную комедию Ноэля, если он внесет в нее некоторые изменения. В течение девяти дней Ноэль написал совершенно новую пьесу. Чтобы помочь мне. Включая много новой музыки, прекрасной музыки. Я имею в виду, что основная идея та же самая — это сценарий, названный «Принцесса Джонс», но он улучшил ее потрясающе. Я уверена, что она будет поставлена когда-нибудь и принесет славу Ноэлю. Она великолепна. Но, к сожалению, все сорвалось.
— Что случилось с Когелем? Он чертовски хороший продюсер.
— У него разрыв сердца. Ноэль пришел в его офис с исправленным сценарием и узнал, что Когель чуть не умер от сердечного приступа накануне Нового года, и теперь ему придется пробыть в санатории в течение года. Таким образом, все началось сначала, он спит и играет в шахматы. И это Ноэль продолжает делать до сих пор.
— Да, я могу это понять. — Маша покачала головой. — Скверный удар. — Она отпила свой коктейль, затем долго его размешивала, ее взгляд следил за двигающейся соломкой. — Но не беспокойся, Золотой мальчик оправится. Невозможно разочаровать такого человека, как он. Есть масса других продюсеров, и он напишет новые пьесы. Что касается твоего эмоционального оцепенения, это ничего, это следует перетерпеть. Это самое лучшее, что могло произойти в известном смысле. Ты взволновала человека до глубины души. Одну вещь Ноэль может делать даже со связанными руками — это будить чувства женщин. Он разбудит тебя снова или умрет, пытаясь. Мужское тщеславие. Ты его покорила, детка. Я не предвижу ничего другого, кроме счастливого конца для вас обоих. Флердоранж, известность, состояние и огромный дом с бассейном на Беверли-Хиллз.
Марджори не могла не улыбнуться на Машину неизменную говорливость.
— А что с тобой происходило, Маша? Боже мой, я все о себе и о себе, и ты позволяешь мне это делать.
— Милая моя, у тебя все интереснее. Что может со мной произойти? Я хотела бы встретить какого-нибудь парня. Как ты видишь, я сделала все возможное, что было в моих силах, до смерти изводила себя голоданием в течение года и так далее.
— Ты сейчас выглядишь ошеломляюще.
С кривой улыбкой Маша сказала:
— В действительности это по вине матери, ты знаешь, старый экзотический эффект. Идеи русской интеллигенции о высокой моде. Кстати, у нее теперь есть меховое пальто. Прекрасная персидская мерлушка. Она выглядит в ней грандиозно. Когда она направляется в городской Холл в этом пальто, можно поклясться, что это Ванда Ландовская. Я купила и своему отцу немного приличной одежды. — Марджори бросила взгляд на серое пальто из белки, висящее на вешалке у стола, которое Маша носила много лет назад, когда ходила на репетиции «Микадо». Маша проследила за ее взглядом и быстро сказала:
— Черт, что такое пальто? Нечто, что мы носим, когда холодно или сыро. Это как раз оттого, что моя мамочка втемяшила себе в голову идею о шубе. Она хотела ее в течение десяти лет, с тех пор как ее старая развалилась. Но что можно было купить в результате блестящих операций моего отца на Уолл-стрит… Не беспокойся, дорогая, я куплю себе норковую шубу на днях, но сначала вещи первой необходимости. Мне нужно купить приличную мебель для квартиры. Я купила все вовремя, и Бог свидетель, я по уши в долгах, но я схожу с ума, когда дело касается срочной оплаты, детка. Ты бы не узнала меня. Я думаю, меня изменили деньги, которые поссорили нас больше, чем что-нибудь другое. Я никогда не забуду этого.
— О, Маша, клянусь, я никогда об этом не думала!
— Ты думала и много. — Маша отпила. — Ты знаешь, мои родители говорят все время о тебе. А Я, я никогда не переставала о тебе думать. Ты одна из богинь домашнего очага. Ты просто быстро промелькнула, как ракета на пути, понимаешь, ты такая хорошенькая, счастливая и такая чертовски порядочная. Мои родители хотели быть респектабельными с тех пор, как сошли с корабля, и им никогда этого не удавалось. До нынешнего времени. Теперь они респектабельны, милая, ты не узнаешь их. Мелкие буржуа, чистые и простые, сидящие на солнышке в парке — они будут проводить зимы во Флориде через год или два, я добьюсь этого. У них никогда многого не было. Но по крайней мере у них есть я, и теперь я большая девочка.
Марджори сказала мягко:
— Ты стоишь десяти таких, как я, Маша. Я все еще нахожусь на попечении родителей.
— О, прекрасный принц очень скоро освободит их от этого. А если нет, то ты будешь грести деньги на Бродвее. Этот маленький красный ковер будет прямо развернут для тебя, милая. — Она рассмеялась. — Я дам тебе один крошечный совет все-таки. Если ты пообещаешь не бить меня.
— Валяй.
— Ну, это совсем немного. Это просто: если Ноэль как-нибудь вечером с сумасшедшим блеском в глазах прижмет тебя в угол в своем любовном гнездышке на Банковской улице, не кусайся и не царапайся очень сильно и долго, хорошо? Он не привык к такой борьбе. Ну, не смотри на меня такими обиженными глазами. Что ты думаешь, судьба хуже смерти? Собери сведения среди выпускников вашего класса через десять лет об их женитьбе и выясни, сколько из них заключили сделки, предварительно не попробовав; если ты, конечно, сможешь заставить их сказать правду. О, снова я — растлитель молодежи. Не обращай на меня внимания.
— Не буду, — сказала Марджори. — Никогда в действительности не обращала и никогда не буду. — Она покачала головой, улыбаясь.
— Следуй своим идеалам, дорогая, — сказала Маша, надевая пальто. — Бог знает, мои привели меня в никуда, хотя не думаю, что в этом причина. Мы сравним свои записи, когда мы будем старыми и седыми, и посмотрим, кто оказался ближе к цели. — У выхода из ресторана она добавила: — Но давай не будем ждать так долго, чтобы встретиться снова. Было очень хорошо. — Переход из теплого застоявшегося воздуха на холодный сырой ветер заставил Марджори чихнуть. Они задержались у двери, прячась от ветра, застегивая пальто. Маша сказала:
— Мне на автобус, а тебе?
— О, выпускной же день. Я возьму кэб.
Маша заглянула в ее глаза:
— Ты хорошо развлекаешься, Мардж? У тебя много друзей?
— Не особенно. В основном Ноэль. Ты знаешь, как это бывает.
— Конечно. — Маша протянула руку. — Мы когда-то хорошо развлекались, правда? Сегодня было, как в старые добрые дни. Счастливого выпуска, Марджори Морнингстар.
Маша побежала под дождем к автобусной остановке. Это был ее прежний неуклюжий бег: бедра закачались, каблуки отбрасывались наружу.
22. Гай Фламм
Марджори ждала весь вечер звонка Ноэля. Она старалась казаться веселой и благодарной во время изысканного обеда, который ее мать приготовила, чтобы отметить ее выпускной, но мысли ее были очень далеко, так что Сет наконец сказал:
— У тебя скоро ухо отвалится, Мардж.
— Что?
— То, которое направлено к телефону.
Родители захохотали, и она слегка покраснела. Сет сидел невозмутимо, наслаждаясь успехом своей шутки. Ему было пятнадцать лет. Он был высотой шесть футов, с громадными болтающимися руками и с гладким смешным детским лицом, увенчивающим его долговязую фигуру. Его выбрали президентом класса, он получал хорошие отметки и удостоился нескольких школьных наград и постов. Он пользовался невероятным успехом у четырнадцати- и пятнадцатилетних девочек, накрашенных детей, качающихся на высоких каблуках, одетых в платья, из которых они уже выросли. Марджори было трудно осознать, что они были такого же возраста, как и она в начале великой смутной «эры Джорджа».
Марджори ни в коей мере не обиделась на насмешку Сета. К этому времени Ноэль был своим человеком в семье; время тайных свиданий в библиотеке на 42-й улице давно прошло. Они резко прекратились однажды вечером в октябре, когда Марджори сказала, уже в третий раз за неделю: «Ну, мне нужно снова идти в библиотеку», и ее мать ответила: «Слушай, перезвони этой книге и скажи ему прийти сюда для разнообразия. Мне он нравится». Миссис Моргенштерн относилась с неизменной сердечностью к Ноэлю, но отец был склонен ограничиваться формальными разговорами с ним. Ноэль, как мог, избегал появляться в доме Моргенштернов. Он говорил, что никто в этом не виноват, но там он чувствует себя в ловушке.
Мистер Моргенштерн сказал, протирая глаза:
— Мне кажется, что нам следовало бы сегодня куда-нибудь пойти. На спектакль…
— Спасибо, папа, но я думаю пораньше лечь спать, — возразила Марджори, — чтобы завтра встать с ясной головой и встретить лицом к лицу жестокий мир.
— Ты действительно собираешься поискать работу актрисы? — спросила мать.
— Я собираюсь получить ее.
— Ну, мне кажется, — сказала миссис Моргенштерн, — что это все равно что вытаскивать монеты через решетку тоннеля. Сумасшедший способ зарабатывать на жизнь, но ты будешь много на свежем воздухе. В конце концов — это твоя жизнь. Успеха тебе.
Мистер Моргенштерн сказал, зевнув:
— Она была великолепна в той школьной пьесе. Может быть, она всех нас удивит.
Марджори растянулась на кровати в домашнем халате, читая роман, который она взяла в библиотеке, когда раздался стук в дверь.
— Ты одета?
— Входи.
На Сете было кричащее серое твидовое пальто с поднятым воротником и новый красно-желтый галстук. Его увлажненные светлые волосы блестели.
— Я просто хотел сказать поздравления и все такое лично.
— Спасибо, Сет.
— Жалко, что меня не было на выпускном вечере. Мне бы хотелось посмотреть на тебя в берете и плаще. Ручаюсь, ты выглядела смешно.
— Ужасно.
— Какие чувства ты испытываешь, Мардж? Ты вне школы, с ней все покончено.
Марджори подумала.
— Ну, с одной стороны, это большое облегчение, с другой стороны, чувство пустоты.
— Думаю, я был бы в панике. Я не хочу кончать школу.
— Ты скоро изменишь свое мнение об этом. Конечно, сейчас ты любишь ее. Ты король школы. И все твои девушки бесценны и привлекательны…
— О, ну, если говорить об этом. — Глядя на свой качающийся ботинок, он сказал: — Не то чтобы ты была так уж потрясающа, но я не встречал никогда и нигде девушку, хоть немного похожую на тебя, что показывает, как несчастна сильная половина человечества.
Марджори подошла и поцеловала его в щеку. Она еще не привыкла к тому, что ей приходится поднимать голову, чтобы посмотреть на своего младшего брата.
— Спасибо, несмотря на оговорки.
С удивительной силой он быстро обнял ее и отпустил.
— Мардж, желаю тебе всяческих успехов. Думаю, фу, черт, извини, что я пошутил по поводу Ноэля, я думаю, он в порядке. — Сет вышел из комнаты — спотыкающийся клубок рук, ног и пальто.
Контора Гая Фламма находилась в узком старом здании на 40-й западной улице, между двумя театрами. Марджори испытывала трепет, даже прочитав его имя на грязной табличке указателя. Еще раз она проверила, на месте ли письмо, затем нажала кнопку лифта, руки ее вспотели, в животе было неспокойно.
Она открыла стеклянную дверь, на которой золотыми буквами было написано «Предприятие Гая Фламма», с чувством, будто вступает в свое будущее.
Полная девица с сальными волосами в зеленоватых очках сидела в комнате, втиснутая между старым коммутатором, еще более старой картотекой и столом, заполненным доверху сценариями, переплетенными в разноцветные обложки.
— Да? — сказала она раздраженным голосом, отхлебывая кофе из бумажного стаканчика и откусывая от сдобной булочки с изюмом.
— Мне бы хотелось встретиться с мистером Фламмом.
— По какому поводу?
— Насчет роли.
— Нельзя.
— Извините?
Девица жевала булочку некоторое время.
— Он не распределяет роли.
— У меня назначена встреча.
— Так бы и сказали. Имя?
— Марджори Морнингстар.
— Подождите. — Девушка сообщила имя по коммутатору и через некоторое время повторила: — Подождите, — и продолжила чтение сценария, который был у нее на коленях, всматриваясь и хмурясь через свои зеленоватые очки.
Марджори неловко стояла посередине маленькой приемной, ей было чрезвычайно жарко в бобровом пальто, но не хотелось его снимать. Половина впечатления от ее нового красного платья состояла именно в том, чтобы его не показывать; она хотела, чтобы Гай Фламм это прочувствовал. Позади нее был стул, заполненный сценариями.
— Мисс, вы не возражаете, если я возьму этот стул?
— Нет.
— Что?
— Не трогайте его. У меня там сценарии сложены в определенном порядке.
Итак Марджори, молча стояла. Было неестественно находиться вдвоем в помещении размером в две телефонные будки и не обменяться ни единым словом с другим человеком. Она переминалась с ноги на ногу. Томительно прошло десять минут. Марджори с трудом сдерживала себя, чтобы не возмутиться, когда загудел коммутатор.
— Входите, — сказала девушка, резко показывая большим пальцем руки через плечо.
Первой достойной внимания характерной чертой Гая Фламма была пара стреляющих глаз, один из которых был красным и слезился. Фламм прижал к нему платок. Он встал из-за стола — краснолицый маленький человек с густыми, тщательно подстриженными седыми волосами, с седыми аккуратными усами, в рыже-коричневом твидовом пиджаке, в рубашке в бледно-зеленую полоску, с зеленым галстуком-бантом.
— Входите, входите, дорогая. — Он указал ей на кресло. Марджори не могла понять, что он делал, пока она ждала. Кабинет был абсолютно пуст, не считая стола, двух кресел и Гая Фламма. Ни одного телефонного звонка не проходило через коммутатор. На столе ничего не было, кроме пепельницы, в которой лежали две загашенные сигары и немного пепла. На книжной полке над головой Фламма стоял ряд томов с пьесами, которые выглядели так, будто их не трогали много лет.
— Так, так, значит, вы любимая ученица Доры Кимбл. И вы собираетесь воспламенить Бродвей. Садитесь, садитесь.
Марджори вытащила из сумочки письмо и протянула ему.
— Мисс Кимбл была чрезвычайно добра ко мне.
— Чудный человек Дора. Никогда не находит времени для зрелищного бизнеса, но… — Мистер Фламм взглянул на письмо, вытирая свой больной глаз. — Вы играли Элизу в «Пигмалионе»? Просто вызов. И сама поставила! Интересно. — Он взглянул на нее ласково. — Прекрасное пальто. Немногие молодые актрисы могут себе позволить такое пальто. Вам не жарко в нем?
Марджори кивнула и сняла пальто. Поскольку глаза Фламма были и так пронзительны, она не была уверена в силе того эффекта, который произвело ее красное платье. Она подумала, что его глаза взглянули на нее еще более внимательно.
— Марджори Морнингстар? Очень благозвучно. Это ваше настоящее имя, дорогая?
— Нет, настоящее — Моргенштерн.
— А-а, еврейка?
— Да.
Фламм кивнул и вытер глаза.
— Моя первая жена была еврейка. Прекрасный человек. Где вы живете?
Марджори сказала ему.
— А-а, с родителями?
— Да.
— Чем занимается ваш отец?
— Он импортер. — Замешательство появилось в ее голосе.
Фламм улыбнулся.
— В моем безумии есть некоторая метода, дорогая. Я наблюдаю за всем, что вы делаете и говорите. Вы удивитесь, узнав, как вы себя уже охарактеризовали. — Он замолчал, уставясь на нее. — Интересно. — Он повернулся к полке, достал книгу, сдул с нее пыль и протянул Марджори. — Вы играли в труппе? Прямо сейчас давайте послушаем большой монолог Джулии Кавендиш из «Королевской семьи».
Испугавшись, Марджори сказала:
— Дайте мне хоть несколько минут.
— Столько, сколько надо. — Фламм закурил и вытер свой глаз.
Она прочитала сцену; встала с книгой в руке, собралась и разразилась речью. Глаза Фламма, казалось, вылезут из орбит, и он прекратил их вытирать. Он начал кивать, сначала медленно, затем более выразительно.
Когда она села, дрожа, он еще некоторое время кивал, затем обратился к ней.
— Дорогая, это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Такого не бывает, чтобы девушка оканчивала колледж и так читала подобные строки. — Он встал и повернулся к ней спиной, глядя через окно на кирпичную стену. Затем повернулся, улыбаясь. — Послушайте, извините, в моем возрасте я должен лучше держать себя в руках. Это один шанс из миллиарда. Я искал девушку на роль Кларисы в течение восьми месяцев, и вот вы входите в мой кабинет прямо из Хантера и от маленькой старушки Доры Кимбл. Это невероятно, но… — Он дернул верхний ящик стола и вытащил сценарий, переплетенный в красное. — Если вы сможете прочитать Кларису так же, как вы прочли Джулию… Конечно, это не ведущая роль. Одна сногсшибательная сцена во втором акте. Я уже испытал всех девушек в городе на чтении слов Кларисы… В чем дело, дорогая?
Марджори задыхалась, прижимая руку к груди.
— Мистер Фламм, эта роль — у меня есть шанс получить роль?
Он вложил сценарий в ее руки.
— Я не хочу быть жестоким и говорить, что есть какой-то шанс. Прочитайте пьесу, и все! — Его голос немного дрожал. — Это театр, все может случиться, даже может быть и шанс. Но я ничего не обещаю. Может быть, вы будете совсем плохи в роли Кларисы. Кроме того, помните, что эта пьеса совсем не Бернард Шоу. Забудьте о ваших представлениях в колледже, дорогая. Это Бродвей, а эта пьеса деньги, просто старые коммерческие деньги. Как быстро вы учите? Вы хотите прийти завтра и попытаться прочитать? Все или ничего. Ваш единственный шанс — Клариса. Завтра в это время?
— Да, да! О Боже, мистер Фламм, я буду здесь.
Она вышла, спотыкаясь, из сырого здания на солнечный свет со сценарием под мышкой. Чувство нереальности было таким же сильным, как и в ночь смерти ее дяди, только этот сон был настолько сладким и прекрасным, насколько тот был ужасен. Она попыталась прочитать первую страницу сценария на ходу, но яркий солнечный свет, отражаясь от белой страницы, слепил ее. Она побежала в маленький магазин через дорогу, заказала там кофе и пирожное и начала читать пьесу. Страницы казались красными после слепящего солнца. Сначала было трудно сосредоточиться: это было так возбуждающе, держать в руках профессионально отпечатанный и переплетенный сценарий, с именами действующих лиц, напечатанными заглавными буквами (ДЖОН входит. Это молодой человек тридцати лет, одетый для тенниса. ОН подходит к зеркалу). Обложка сценария была из необычно грубой волнистой бумаги, ярко алая, прикрепленная к страницам медными скрепками. Пьеса называлась «Одолеть две пары».
В первых нескольких страницах не было никакого смысла. Марджори не могла привести свои мысли в порядок. Проглотив, не разжевывая, пирожное и выпив кофе, она продолжала читать. Она прочитала около сорока страниц, когда начала подозревать, что дело не только в ее волнении. Пьеса оказалась невероятно глупой халтурой. Диалоги такими надуманными, характеры смутными, действие бесцельным. Она заставила себя продолжать читать, отчаянно пытаясь сосредоточиться. Чем больше она читала, тем хуже создавалось впечатление.
Спустя некоторое время она решила, что просто невозможно читать «Одолеть две пары». Это было труднее, чем читать юридический документ. Она перелистывала страницы, пока не дошла до сценического толкования: «Входит КЛАРИСА. Это красивая темноволосая девушка восемнадцати лет. АМАНДА и ТОНИ вскакивают с дивана, удивляясь ЕЕ появлению».
Клариса была такая же невыразительная, как и остальные герои. Ее речь была слабым шутливым подражанием манере школьного сленга десятилетней давности. В пьесе рассказывалось о двух молодых парах, соперничающих в турнире по бриджу, которые проходят через сложные постельные интриги, чтобы добраться до предложенных ставок. Клариса — младшая сестра одной из жен. Она приезжает из колледжа на выходные, разоблачает интриги, переигрывает всех лучших игроков в бридж. Это все, что могла понять Марджори в туманной путанице слов, названной «Одолеть две пары».
Разочарование было болезненным. Может, Гай Фламм превратился в тихого старого сумасшедшего? Однако она видела его имя в колонке театральных сплетен в «Таймс» совсем недавно. Может, он сам написал эту тарабарщину? Или ее мнение столь незначительно, столь искажено академическим идеализмом, что она не может оценить возможности коммерческого сценария? У нее было непреодолимое желание позвонить Ноэлю; он мог прочитать эту пьесу за полчаса и дать ей безошибочное суждение. Она подошла к телефонной будке, бросила монету и затем передумала. Ее горячим желанием было удивить его, ошеломить новостью, что у нее роль в пьесе на Бродвее. Она забрала монету, нашла номер Хантеровского колледжа и позвала мисс Кимбл.
Учительница музыки чуть с ума не сошла, когда Марджори сказала ей, что Фламм дал ей читать сценарий. Марджори прервала море поздравлений.
— Я бы хотела вас увидеть по этому поводу прямо сейчас, если можно. — Мисс Кимбл стала объяснять, запинаясь, что у нее масса работы, которую надо сделать, и наконец предложила Марджори приходить сразу же в любом случае; она отложит всю работу, даже если бы ее за это уволили.
Было странно приехать в колледж в половине двенадцатого утра. Мисс Кимбл обняла Марджори, поцеловала ее, высморкалась (глаза ее покраснели) и закрыла дверь. Она уставилась на сценарий с устрашающим ожиданием.
— Это — это он?
— Я хотела бы, чтобы вы его прочли. Необязательно весь. Одного акта будет достаточно, мисс Кимбл. Но сейчас…
— Конечно, обязательно, Марджори. Я к твоим услугам, дорогая. Я твоя помощница и поддержка, и горжусь этим. И называй меня Дора, ради Бога, все в театре так делают. — Ее пальцы прикоснулись к сценарию. Марджори с опаской протянула его ей. — «Одолеть две пары». Волнующее название. О Боже мой, правда, Гай милый? И он великолепен.
— Мисс… Дора, давайте я выйду или еще что-нибудь? Мне нужно услышать ваше мнение. Давайте я вернусь через час.
— Прекрасно. Прекрасно. Беги, дорогая. — Ее глаза сверкали. Мисс Кимбл была уже поглощена пьесой.
Когда Марджори вернулась, выкурив так много сигарет и выпив так много кофе в магазине, что уже дрожала, она нашла мисс Кимбл менее взволнованной.
— Садись, дорогая, — сказала учительница, поджав губы и разглаживая свою коричневую твидовую юбку. Сценарий лежал закрытый на ее столе.
— Как много вы прочли, Дора?
— Я закончила его.
— Что вы думаете?
— Ну, у него есть определенные возможности.
— Правда? Это ваше честное мнение?
— Марджори, Гай Фламм очень умный человек. Он с театром работает очень давно. Если ему нравится сценарий, значит, в этом что-то есть.
— Но вам понравилось?
— Ну, откровенно говоря, он немного странный при первом чтении, и, конечно, я только просмотрела его.
— Дора, разве это не абсолютная и безнадежная чепуха?
Учительница музыки выглядела оскорбленной.
— Марджори, первая вещь, которую ты должна будешь усвоить в театре, не делать поспешных суждений. Это коммерческая комедия. Такие пьесы очень часто полны скрытого значения. Вспомни «Ирландскую розу» Эби. Ты не понимаешь их, и я не понимаю, а Гай Фламм видит. Скажи мне, он еще помнит меня вообще?
— О да! Отзывался очень хорошо о вас.
Учительница музыки вспыхнула и потянулась за очками на столе.
— Мы хорошо провели время этим летом, когда ставили «Время цвести». Да. Какую роль он предлагает тебе?
— Кларисы.
— Да? Это лучшая роль.
— Я никакого смысла не могу в ней найти. Это просто слова. В ней нет никакого характера. Она не говорит, как реальный человек. Она просто результат какого-то глупого печатания на машинке в течение некоторого времени. Извините, Дора, но такое впечатление она на меня производит.
Мисс Кимбл надела очки и с ними вместе стала строгой и авторитетной классной дамой.
— Я думаю, у тебя отсутствует чувство пропорции, может, совсем немножко, Марджори. А что ты ожидала? Прошел всего один день, как ты окончила колледж. Ты думала, что театральная гильдия тебе предложит роль Джульетты или Кандиды?
— Нет, но…
— Гай Фламм предлагает тебе возможность играть. Выйти на сцену Бродвея, ради Бога! Ты должна встать на колени, чтобы отблагодарить его. И передо мной, хотя это не имеет никакого значения. Если бы он дал тебе просто пройтись, просто две строки в роли служанки в ужасной пьесе…
— Дора, я очень благодарна вам, это не то, чтобы…
— Тебе подвалила самая фантастическая удача, о какой я когда-либо слышала. Хватайся за нее, дурочка. Ты призвана быть актрисой. Сделай что-нибудь из Кларисы, даже если она просто много слов, напечатанных на машинке. Выходи на сцену.
Марджори взяла со стола сценарий.
— Ну, вы определенно вернули меня к жизни.
Мисс Кимбл подбежала к ней, крепко обнимая и распространяя аромат хвойного мыла.
— Марджори, нет. Не принимай это так близко к сердцу или, наоборот, принимай. Это была просто ободряющая беседа, но я имела это в виду. Дорогая, это шанс, разве ты не видишь, это твоя звезда.
Марджори пошла домой и читала рукопись пьесы весь день и весь вечер. Она выключила светильник в полночь и беспокойно металась во сне, а в ее мозгу крутились разрозненные бесцветные строки роли Кларисы.
Толстая секретарша Фламма, все так же попивавшая кофе и жевавшая сдобную булочку, поздоровалась с Марджори на следующее утро с удивительно приятной улыбочкой, и сразу предложила ей войти в кабинет.
На столе перед Фламмом лежала другая красная папка с рукописью. Он все так же тер глаз, который выглядел еще хуже. На этот раз на нем были голубая рубашка в клеточку, голубой галстук-бабочка и голубой пиджак спортивного покроя.
— Ни слова, — сказал он, когда Марджори хотела поздороваться. — Снимите пальто. Забудьте о том, что на свете когда-то жила Марджори Моргенштерн. Вы — Клариса Тэлли. — Она села на стул, сжимая рукопись. — Один вопрос: вам понятна пьеса?
— Я… да, мистер Фламм.
— Какой эпитет, по-вашему, лучше всего подходит для нее — сентиментальная, романтическая, вульгарная, слабая, веселая?
— Ну… веселая и несколько вульгарная.
Глаза Фламма увеличились, как у лангусты, и он улыбнулся. Затем, посерьезнев, он развернул рукопись.
— Акт второй, страница сорок первая, — сказал он. — Начали.
Чтение сцены, в которой была занята Клариса, потребовало двадцати минут. Когда оно завершилось, Марджори была вся в поту. Она не могла бы сказать, хорошо ли читала эти бредовые фразы или плохо. Она пыталась отразить в своем голосе и на своем лице невинность и притворный шарм.
Фламм неторопливо закрыл рукопись, повернулся к ней спиной и выглянул в окно. Прошло три-четыре минуты. Он резко, как и вчера, развернулся, все его лицо засветилось.
— Простите, я должен бы отправить вас домой, дать вам возможность покорпеть несколько дней — вот так, между нами говоря. После восьмимесячных поисков я нашел то, что нужно. Вы — Клариса! Ей-богу! Начинаем репетиции через неделю, считая с понедельника. Первая постановка — в Нью-Хэйвене 15 марта.
Марджори не выдержала и расплакалась. Он стоял над ней, похлопывая ее по плечу. Она вымолвила:
— Простите, глупо…
— Вовсе нет, Марджори. У меня такое ощущение, будто я сам реву. — Он дал ей сигарету, и она успокоилась. Он немного потолковал об удивительно волнующих деталях: костюмах, графике репетиций, гостиничных номерах в Нью-Хэйвене. Она с трудом следила за его речью, настолько была ошеломлена от восторга. Она сказала:
— Да, да, мистер Фламм, — и продолжала кивать, бессвязно размышляя о том, как она объявит эту новость своим родителям и Ноэлю.
Минут через десять или около того Фламм каким-то образом перешел на тему о своем брате, горном инженере в Колорадо, для которого он подписал вексель в связи с приобретением горного оборудования. История была крайне запутанная, но итог сводился к тому, что ему пришлось заплатить десять тысяч долларов, которые брат, безусловно, вернет через шесть месяцев, поскольку контракт заключен с «Анаконда Коппер», являющейся более надежным контрагентом, чем даже правительство США.
— А пока, конечно, это дьявольская забота, — сказал Фламм. — По сути, это единственная загвоздка во всем деле. Получается так, что деньги на Бродвее оказываются самым сложным делом за всю мою жизнь. Да, Кауфману и Харту тяжеловато собрать деньжат на свою новую пьесу. Если бы я знал… Ну ладно, нам просто нужно как-то выкрутиться.
Он помедлил, и, не зная, что сказать, она бодро кивнула. Он еще поговорил о подготовке спектакля в Нью-Хэйвене. Затем сказал:
— Конечно, если вы знаете кого-нибудь, у кого найдется десять тысяч для вложения в настоящую комедию и кто хочет, чтобы вы сделали карьеру — вы ведь знаете, что гвоздь сезона легко окупается в соотношении тысяча центов на доллар, а теперь, когда я заполучил свою Кларису, я уверен, что у нас будет гвоздь сезона…
— Право, мистер Фламм, я не знаю ни души с такими деньгами. Десять тысяч! Если бы я только знала кого-нибудь.
— Ну, обычно в театре мы, конечно, собираем такие суммы по частям, пять тысяч здесь, пять тысяч там.
Она отрицательно покачала головой, улыбаясь. Он сказал:
— Ну, как это ни глупо звучит, в данный момент от этого может зависеть, начнем мы репетиции или нет. По существу, я с радостью подыскал бы любого инвестора с персональной гарантией на случай ущерба, подписанной моим братом. Вот насколько я уверен в этой пьесе. Но, понимаете ли, через шесть месяцев моя труппа может развалиться, вы можете заболеть, я могу заболеть… — Он потер глаз.
— Мне очень жаль, если бы я только знала кого-нибудь… Боже…
— Ну, по существу, план, который я продумал, — это четыре равных доли, каждая по две тысячи пятьсот… Подумайте, может, например, ваш отец, я уверен, что он страстно желает увидеть, как вы начинаете карьеру в такой роли, как роль Кларисы… в конце концов, будучи коммерсантом-импортером, он, вероятно, никогда не потеряет двух тысяч пятисот долларов, а кроме того, какое наслаждение посмотреть репетиции, и все…
При словах «ваш отец» Марджори почувствовала прилив тошноты. Пристально глядя на Фламма и качая головой, она положила рукопись на его стол.
— Ну ладно, а как насчет хотя бы тысячи долларов? Наверняка тысяча долларов для импортера…
— Мистер Фламм, — хрипло проговорила она, — мой отец ненавидит театр. Он не верит в театр. Он не вложит деньги в вашу постановку. Мне очень жаль. Это невозможно.
Он потер глаз. С его лица сбежало дружеское участие и возбуждение. Он сказал устало и сухо:
— Ну, Марджори, как я говорил, вы талантливая девушка, но будем смотреть правде в глаза, вы абсолютный новичок. Если мне приходится ставить на кон свою репутацию, взяв новичка, то, по-моему, попросить у своего отца пятьсот или тысячу долларов, чтобы он проявил доверие к вам, это не так уж много.
В каком-то тумане она надевала пальто.
— До свидания, мистер Фламм. — Ее рука уже была на ручке двери.
Он сказал:
— Я имею в виду, что за пятьсот или тысячу я не могу дать вам роль Кларисы, но роль горничной была бы вашей. Ну ладно, до свидания. Как я говорил, у вас есть талант, хотя и сыроватый…
Оцепеневшая, несчастная, она поехала домой на метро. Она лежала на кровати ничком, не обращая внимания на то, что мнет свое красное платье, когда зазвонил телефон.
— Марджори? Привет. — В голосе Ноэля звучало поразительное воодушевление. — Скучала? Как насчет того, чтобы пообедать со мной в «Риц-Карлтоне»?
Она села.
— Как?.. «Риц-Карлтон»? Ноэль, ты не можешь себе этого позволить…
— Кто не может? Ты говоришь с человеком, который стоит двадцать пять тысяч в год. А теперь поторопись!
23. Новый Ноэль
— Хэлло! — сказала Марджори. — Бог мой, только посмотрите на него!
Перемена в Ноэле была разительной. На нем был новый черный костюм в полоску, черные туфли, белая рубашка с коротким вставным воротничком и серый шелковый галстук. Волосы были коротко подстрижены, а лицо сияло удивительной свежестью.
— Пошли, я уже заказал обед. — Метрдотель кивнул им на незанятый столик — поразительно! — в середине заполненного людьми зала, отделанного деревянными панелями.
Марджори чувствовала себя крайне неловко. Все женщины в ресторане выглядели до обидного нарядными: повсюду были видны парижские шляпки, сшитые по фигуре костюмы, элегантные прически. На ней не было шляпки, ее волосы свободно спадали на плечи (то была попытка выглядеть, как Клариса), а красное платье оказалось поистине ужасной ошибкой. Она была слишком повержена, потерпев фиаско у Фламма, чтобы еще думать о том, во что переодеться, когда выходила из дому. Взгляды мужчин были заурядным делом, но взгляды женщин, поистине имевшие значение в таком заведении, были презрительными и слегка забавляющимися.
— Я выгляжу здесь, как уличная девка, — шепнула она Ноэлю, когда они уселись.
— Вряд ли, — сказал он. — Дело в том, что несколько самых известных проституток города сидят в этом зале, и, как видишь, они выглядят совсем иначе.
— Этот метрдотель относится к тебе, как к другу, которого давненько не видел.
— Я здесь часто бывал, дорогая.
— Но не за время нашего знакомства.
— Это верно. Но это был довольно безденежный отрезок жизни. У тебя же нет заработка. — Он рассмеялся, увидев ее обиженный взгляд. — Боже правый, так смешно помучить тебя. Хотя, правда и то, что подчас платила леди. Одна леди, с которой я порвал.
— Ты не находишь это унизительным?
— Отнюдь. Я сижу и подсчитываю, сколько блюд, выдаваемых автоматом, я сэкономлю, когда не оплачиваю счет.
— Ты хулиган. Надеюсь, на этот раз ты не рассчитываешь, что я оплачу счет.
— Ты, дорогая?
— Ну а тогда, что происходит? Почему такой цветущий внешний вид? Почему ты выглядишь семнадцатилетним? Что это за речи о двадцати пяти тысячах в год?
— Сегодня утром я вышел на работу.
— Куда? Какую работу?
— «Парамаунт Пикчерз». — Официант поставил на стол два коктейля с шампанским. — Ага, а вот и мы. Ты выпьешь за нового Ноэля, не так ли? Он — твое творение, так же как и творение кого угодно.
Марджори подняла стакан, подозрительно глядя на собеседника.
— «Парамаунт»! Ты серьезно? — Он кивнул. — В качестве писателя? Ты едешь в Голливуд?
Его губы напряглись от удовольствия.
— Нет, дорогая. Ты не теряешь меня, оставь этот трагический тон. Выпей. Да сгинет старый Ноэль, жалкое ничтожество, и долгой жизни новому, ну как?
Она улыбнулась чуть недоверчиво и выпила.
— Почему ты так удивлена? — спросил Ноэль. — Я ведь говорил тебе о Сэме Ротморе как-то раз, верно?
— О богатом старике, с которым ты играешь в шахматы?
— Именно. А я не упоминал, что он из «Парамаунта»?
— Думаю, нет…
— Ну, вот, он оттуда. И он любит меня, грустный старый шельмец. Должно быть, он самый одинокий человек в городе. Бездетный, а его жена — полный инвалид, живет во Флориде. Он один из руководителей нью-йоркской конторы. Напускает на себя вид крутого мужика, а на деле очень мягкосердечный. Он фактически содержит шахматный клуб, в котором я играю, и пару еврейских домов для престарелых в Бронксе. Вот такие дела. Тонко чувствует живопись и музыку, владеет очень хорошей подборкой Моцарта и… ну, да я же рассказывал тебе о картинах, уверен. Я провел с ним сотни часов, играя в шахматы и попивая лучшее на свете бренди. Честно говоря, и это, вероятно, не очень благородно с моей стороны, через какое-то время с ним становится невыносимо скучно. Не могу сказать, в чем тут дело. Полагаю, все одинокие люди патетичны и скучны, независимо от того, кем являются. Так чертовски благодарны за то, что с ними водят компанию, понимаешь ли, так неохотно отпускают от себя. Так или иначе, Сэм в конце концов нацепил на меня упряжь. Я начинаю в качестве помощника сценарного редактора с окладом сто двадцать в неделю, а потом…
Марджори выпалила:
— Что? Сто двадцать в неделю с самого начала?
Ноэль ухмыльнулся и провел косточками пальцев по верхней губе.
— Не льсти мне, дорогая. Планируется пропустить меня через все отделы для стажировки и в конечном счете дать мне должность заведующего кадрами у него в подчинении, если я прорвусь. Сэм уже пару лет неоднократно предлагал мне это. Я же обычно посмеивался над ним. Я не представлял себя в качестве раба на заработке. Но неделю назад или около того я начал серьезно заговаривать на эту тему. Он уверен, что я — заблуждающийся гений, и он собирается раскрыть мои таланты и сделать меня крупным администратором. Он говорит, что через несколько лет я смогу зарабатывать двадцать пять тысяч в год или даже больше. Полагаю, он больше взволнован моим выходом на работу, чем я сам… Вот и весь рассказ. Ты удовлетворена?
— Да я просто бездыханна. Бог мой, да ты непредсказуем, не так ли? Вот так выйти на улицу и заполучить работу на сто двадцать в неделю… и это в разгар того, что все именуют депрессией…
— Пока я от нее получаю только дополнительные пинки, сказать по правде. Как тебе нравится мой костюм младшего, администратора?
— Изумительно. От «Брукс Бразерс»?
— От Фейнберга с Диленси-стрит. Я одеваюсь там уже много лет. Одежда на размер короче экстрадлинной обычно подходит мне довольно хорошо. Однако на днях я задам работенку настоящему портному. Не делал этого со времен «Поцелуев дождя». Забавно, но дороговато. По правде говоря, мне все равно, бросаю ли я деньги на ветер или живу на них, Мардж, жизнь интересна во всех своих проявлениях, но у меня был довольно долгий мучительный период безденежья, и должен сказать, он меня прилично утомил.
Марджори отмечала странную способность Ноэля управляться с деньгами. Он мог протянуть на тысячедолларовый заработок, полученный у Грича, всю осень и большую часть зимы. Он знал поразительное множество дешевых ресторанчиков. Он, кроме того, хорошо умел готовить еду, гораздо лучше ее, но ленился. Он готовил большую кастрюлю отличных спагетти и питался ими целую неделю.
— Ты ведь как раз оставался почти без денег, правда же?
— О, я мог продержаться еще несколько месяцев. Может, я малость похудел и стал раздражителен, как медведь в спячке. В Париже такой образ жизни — просто искусство. Научись этому. Клянусь, мне также в охотку быть бедным, как и богатым. Это спорт — отлынивать от кучи денег и планировать, чтобы они долго не кончались.
Обед был превосходен: закуска, которую Ноэль выбирал с огромной тележки на колесах, аккуратно нарезанная телятина с грибами и рисом, гарнир из оригинально приготовленных баклажанов и салат из яиц и анчоусов, приправу к которым он накладывал сам. У белого вина был изысканный, отдающий жаром и чистотой вкус. Марджори забыла о своем чувстве неловкости и наслаждалась, смакуя каждое блюдо.
Наливая вино, Ноэль сказал:
— Зачем обманывать самих себя, Марджори? Лучшие в жизни вещи стоят чертовски дорого. Каждый раз, когда я сую свой нос в верхние слои, я понимаю, почему люди губят себя ради денег. Бог мой, в бедняцкой свободе есть резон, но… — Он выпил. — Знаешь, у этой работы есть очаровательные привилегии. Куда, ты думаешь, я еду отсюда сегодня после обеда? В аэропорт Ньюарк. Встретить Дженис Грей, если это тебя устраивает, и проводить ее в «Уолдорф».
— Дженис Грей? — Марджори прилагала все усилия, чтобы сдержать нотку тревоги в голосе. — Ну, это должно быть прекрасно. Она прелестна.
— Воистину так. Обычно ее встречает Сэм. Это высокая политика. Она неважно вела себя на студии, поздно являлась на съемки, ошибалась в эпизодах и так далее. Видишь ли, для нее мой приезд за ней — это оскорбление: вместо босса ее встретит простой служащий.
— Ну, надеюсь, она по-настоящему оскорбится. — У Марджори вдруг пропал аппетит. Она сунула в губы сигарету, и официант напугал ее, бросившись к ней с зажженной спичкой.
Энергично закусывая, Ноэль произнес:
— Нет сомнения, она серость. Вот уже третий или четвертый раз она разводится, и, по слухам, она совершенно беспутна. Вероятно, прибудет пьяная в стельку.
— Несомненно. И, вероятно, ты окажешься в ее постели еще до конца дня. Надеюсь, ты насладишься этим.
Он положил нож и вилку и, смеясь, глядел на нее, его глаза сияли.
Она сказала:
— Ладно, смейся. Ты всегда жил, как свинья, и нет оснований менять свой образ жизни. Клянусь, мне все равно, что ты делаешь. Меня озадачивает лишь одно: почему ты продолжаешь приходить ко мне? Почему ты позвал именно меня, когда получил новую работу? И почему ты взялся за эту работу? Что ты стараешься доказать мне? Я всего лишь немая, бесталанная девушка с Вест-Энд-авеню…
— Прекрасноликая…
— Но не такая, как Дженис Грей…
— Свеженькая, прелестная, голубоглазая, веточка сирени на утреннем солнышке. Милая, мне не следовало дразнить тебя, но я просто не могу отказаться от этого. Почему ты всегда клюешь на наживку? Дженис Грей — возмутительная старая баба. Когда она проходит перед камерой, чтобы сыграть сцену, я не вижу ничего, кроме ее агента как раз за камерой, который малюет новый параграф в контракте. Она одиозна.
— О, конечно, — проворчала Марджори, хотя уже чувствовала себя лучше. — Но ты все же не ответил мне. Почему ты взялся за эту работу?
Ноэль передернул плечами.
— Ну как, не правда ли, в «Рице» приятнее покушать, чем у мамы Мантуччи на Одиннадцатой улице?
— Ну, конечно, но кажется, тебе он нравится в другом смысле…
— Я люблю жизнь почти во всех ее проявлениях… не считая… ну, я собирался сказать, кроме респектабельной стороны, но не уверен, что это так. Я начинаю думать, что мне могло бы понравиться быть буржуа, хотя с некоторым отличием. Можно было бы сказать: с ухмылкой про себя. Черт возьми, Марджори, мне нравятся хорошие вещи. Мне доставляет удовольствие мысль, что я могу их себе позволить. Я люблю рубашки, которые хорошо сидят, галстуки, которые привлекательно завязываются, потому что сделаны из добротного материала, и костюмы, сшитые из тонкой материи, а не как у Фейнберга из кованого железа. — Он потрогал рукав. — Люблю золотые запонки, но черт меня побери, если я надену золоченые. Меня все больше и больше привлекает мысль, что я вновь могу позволить себе эти вещи, как это было в дни «Поцелуев дождя». Это было золотое время. Все хорошие вещи моего гардероба куплены в тот период. Я люблю и океанские круизы — в первом классе. Это большое удовольствие — просто знать, что я могу в них поехать, если захочу. И потом, конечно, самый большой люкс — это буржуазная жена. Любовь не знает логики. Положим, в один прекрасный день я буду таким невезучим, что женюсь на подобном существе?
Она избегала его взгляда и сказала, сделав над собой серьезное усилие, чтобы показаться беспечной:
— Будем надеяться, что не женишься. Ты бы сделал ее ужасно несчастной на всю жизнь.
— Возможно. Но в то же время, если бы я точно знал, что делаю, она могла бы стать такой же счастливой, как сказочная принцесса.
Она не смогла удержаться и встретилась с ним взглядом. Его страстный взгляд без улыбки взволновал ее. Через мгновение она пробормотала:
— Не смотри на меня так, дурачок.
— Буду смотреть, пока это мне доставляет удовольствие, черт меня побери.
— А я говорю, не надо. Позволь мне задать тебе такой вопрос: что вдруг послужило причиной столь резкого поворота в твоем поведении? Ты отказался от своих писательских амбиций?
Ноэль отпил вина; на его лице появилась задумчивость.
— Ни в коем случае. Меня заставили пойти в контору Сэма некоторые события, происшедшие как бы нарочно в последнее время. Эта катастрофа с Когелем и «Принцессой Джонс», во-первых. Театр — это ничего более, как механизм, подавляющий вдохновение, Мардж, — то есть до тех пор, пока ты пытаешься жить на средства, получаемые от него. Коул Портер — миллионер. И Кауэрд тоже. Легкая музыка, пустые вирши, комедия — все это производные досуга, беззаботного существования. Я же жил, как романист из чикагских трущоб. Все это поставлено с ног на голову. Театр — это в точности глупенькая девушка. Проси, умоляй, льсти, будь охотливой и прилежной — и получишь оплеуху. Беззаботный уверенный жест — вот, что побеждает. Я абсолютно теперь уверен, что прорвусь на Бродвей в тот самый день, когда мне будет наплевать, прорвусь я или нет. Вот первая причина, по которой я пошел на заработок к Сэму. Чтобы выбраться из этой непролазной бедняцкой рутины и жить хорошо, пока я не прорвусь с «Принцессой Джонс», или не напишу новую пьесу. А может быть, я даже и тогда останусь с Сэмом. Может, образ жизни окажется стабильным. Все зависит от того, смогу ли я эффективно делить свое время между зарабатыванием на жизнь и писательским трудом в течение длительного отрезка жизни. Посмотрим.
— Ну, что верно, то верно: Господь рассудит.
— Думаю, да. Сегодня я чувствую, что у меня полный карман монет. И я благодарен тебе. Знаешь, полагаю, что именно твое окончание колледжа подтолкнуло меня на это решение. По сути, я вышел от Крафта и позвонил Сэму. Окончание учебы было таким водоразделом для тебя… и получилось как-то так, что я и сам чувствовал, будто тоже прошел через это. Я увидел себя в подлинном свете. Уже тридцать, и ничего не достичь, и твои противные родители, твой жалкий бедно одетый ухажер и Гринвич-Виллидж. Может, если бы не было так серо и дождливо и я не был бы одет в свое самое старое пальто и не имел на голове самую засаленную шляпу… И к тому же появилась Маша, ухмылявшаяся при виде нас с тобой, как паршивая старая дева… Не знаю, все обрушилось на меня сразу, и я пошел и позвонил Сэму. Ты видела, в каком состоянии я был много дней? В прошлое воскресенье я узнал, что у моего брата Билли скоро помолвка.
Марджори, казалось, была удивлена.
— Билли!
— Ему двадцать два. Он на втором курсе юридического факультета. А она — дочка адвоката из крупной корпорации, он важная шишка демократической партии в Бруклине. Кстати, еще одна Марджори, Марджори Сандхеймер…
— Марджори Сандхеймер? Господи, так Билли женится на ней.
— Так ты ее знаешь?
— Ой, да тысячу лет на студенческих танцульках… и все такое… Ну и ну! Билли Эйрманн и Марджори Сандхеймер! Честно говоря, правда бывает удивительнее вымысла.
— Марджори, но ведь дурнушки тоже выходят замуж.
— Я никогда не говорила, что она дурнушка.
— Твой тон, дорогая, означает, что ты была бы меньше поражена, если бы Билли помолвился с краснозадым бабуином.
— Какой абсурд! Она славная девушка. Просто… ну, они оба так молоды.
— Радость моя, это означает для Билли пожизненное устройство. В сорок он будет судьей. Ничто не может помешать этому. Какого черта, я счастлив за него, он молоток.
— Билли молодчага.
— Он неожиданно заскочил ко мне с этой девицей в твой выпускной вечер. Вот почему я не позвонил тебе. Я был так подавлен. Они еще такие дети! Я едва-едва привык к тому, что он уже бреется. Между прочим, у нее неплохое чутье, и она действительно довольно привлекательная. И для такой богатой девушки она трогательно скромна. Как и Билли. Они славная пара. Думаю, они будут счастливы.
— Нет сомнения, что она все знает о нас.
— Ее последними словами, когда они уходили, были: «Передайте мой поцелуй Марджори», произнесенными дрожащим голосом, и это после того, как в течение двух часов никто не упомянул твоего имени. Думаю, зайти дальше Четырнадцатой улицы для нее было страшным приключением. Она все время глазела по сторонам, знаешь ли, на книги, ковер, картины, пыль на багете, на меня. Каждое мое слово она встречала истеричным хохотом, даже десяток моих вполне серьезных ремарок. Она, очевидно, полагала, что я ужасно декадентское чудище вроде Бодлера. Думаю, взглядом она выискивала иглы для подкожных впрыскиваний. Я жалел, что у меня не было хотя бы ярко накрашенной пьяной блондинки, которая в какой-то момент могла бы выпасть из клозета. Казалось, гостья ждала чего-то вроде этого.
— Чего она ждала, и это более вероятно, так это того, чтобы я вылезла из-под кровати в прозрачном неглиже.
Ноэль расхохотался.
— Клянусь, уверен, что именно так!
— Ладно, чего мне беспокоиться? — заметила Марджори. — Моя репутация и так подмочена из-за связи с тобой.
С неожиданной серьезностью он проговорил:
— Честно говоря, у многих сложилось нелестное мнение о жизни в Виллидж, не так ли? Поверь, главная прелесть Виллидж состоит в дешевом жилье. Для меня, во всяком случае. Как и ты, я нахожу оскорбительным сталкиваться с волосатыми и заросшими грязью. Что касается ославленной сексуальной жизни в Виллидж, — свидетельства которой девчонка Билли высматривала так, что у нее глаза вылезали из орбит, — то что это такое в конце концов, раз ты прошла через студенческие гулянки, на которых можно было это видеть? По большей части — это низкая грязная возня. Неприглядные люди, сопящие и барахтающиеся друг с другом, потому что они истомились, или одиноки, или у них не все в порядке с головой. Ты говоришь, я вел свинскую жизнь? Ну, так это неправда. Я заявляю, что всегда был разборчив, как ни посмотри. Но скажу тебе вот что, и вовсе не для того, чтобы набрать очки. С того дня, когда ты покинула «Южный ветер», у меня не было ничего подобного. Абсолютно ничего.
Этот вопрос терзал Марджори месяцами. Ей страстно хотелось знать ответ на него, но как, подобно Ноэлю, вставить это ненароком в разговор в качестве ничего не значащего замечания! Она взглянула ему в лицо.
— Я не сожалею, что слышу это.
— Пойми, я не стал более щепетильным или морализирующим, чем прежде. Я просто решил, что для потворствования себе лучше всего или иметь любовь, или никого не иметь.
Она не могла подавить усмешку.
— Ноэль, дорогой, полагаю, медленно, но верно ты обращаешься к своим корням.
Он отрицательно покачал головой.
— Ты переделаешь меня независимо от того, наступит ли конец света или произойдет наводнение, не так ли? Или ты убедишь себя, что переделываешь меня, так или иначе. Уже тогда в твоем голосе звучал тон твоей матери. Давай выберемся из этого зала, отделанного дубовыми панелями.
— Хорошо, но должна сказать, что мне здесь страшно нравится.
— Какой вкус ты приобретаешь! Ты вчистую разоришь своего муженька и заставишь заниматься целыми ночами портняжным ремеслом. — Он заплатил по счету.
— Я не выхожу замуж за кого-нибудь, занятого этим ремеслом.
— О, конечно, я забыл. За доктора. За специалиста.
— Да, с большими черными усами, по фамилии Шапиро. Мы уже покончили с этим.
— Ага, видишь, наши отношения иссякли. Я повторяюсь со своими шутками.
Они пошли по переулку в сторону Пятой авеню. Было холодно и ветрено, но ясно, солнце чуть ли не слепило глаза. Он сказал:
— Пошли, пройдемся по Пятой вместе со мной. Мне нужно перехватить машину Сэма на Шестьдесят третьей.
— Конечно… Ты слыхал когда-нибудь о продюсере Гае Фламме?
— Естественно. Он с большими странностями. А почему ты спрашиваешь о нем?
Она рассказала ему все, пока они шагали мимо витрин в снующей толпе. Его это развлекло, и он посочувствовал ей:
— Бедняжка.
— Ой, да я не очень переживаю. Это продолжалось не так долго, чтобы переживать. И, так или иначе, пьеса была просто галиматьей… по крайней мере я так считаю.
— Конечно, бурда. Но все равно он, вероятно, поставит на днях эту «Одолеть две пары», когда в его контору придет Клариса с более богатым или более сговорчивым отцом по сравнению с твоим. Это может случиться хоть завтра, так много Кларис слоняется по Бродвею. Желание стать актрисами у американских девушек среднего класса с коэффициентом умственного развития, скажем, около 15, — это далеко не здравое решение, Мардж. Это — тропизм, органическое явление, связанное с характером их жизни… Ну, хорошо, хорошо… — Она кусала губы, косясь на него. — Я считал, мы договорились о том, что никакие обобщения не будут относиться к тебе.
— Ноэль, а Фламм знает, что «Одолеть две пары» — чепуховина? Или он правда думает, что это стоящая вещь?
— Кто знает? Для карьеры, которую делает он, все, что требуется, так это бесконечная способность к самообману.
— А на что он живет, из чего платит ренту? Его фамилия мелькает в театральных колонках…
— Но почему нет, дорогая, он настоящий продюсер. Вероятно, он уже наскреб какую-то сумму на свою «Одолеть две пары», — небольшие деньги от идиотов, спонсирующих любителей. Театр — это такая непредсказуемая вещь; он даже может когда-нибудь поставить хитовый спектакль. Рукописи, которые ты видела у его секретарши, — это мусор, всегда дрейфующий по продюсерским конторам, один сценарий омерзительнее другого. Я как-то был читателем рукописей пьес. Так я чуть не тронулся. Наверняка он вытащил «Одолеть две пары» из этого затхлого потока. Может, она ему нравится. Может, заставил автора переписывать ее десяток раз. Может, он запросил с него денег за рекомендации. Безумию, творящемуся в театре, нет конца и края.
— Держу пари, ты решил, что у меня нет таланта, — сказала Марджори. — Ты все еще увиливаешь от темы, которой мы в прошлый раз касались.
Лицо его нахмурилось.
— Я поистине не уверен. Любому видно, что ты умна и хороша собой, полна шарма, отдающего прошлым веком. Ты двигаешься по сцене, как одаренная по природе доброй половиной тех приемов, которым опытная актриса должна научиться в процессе большой работы. Но такой накал долго не продлится. Что останется, когда он погаснет, — я сказать не могу. Могу только догадываться, что задолго до того ты подцепишь славного зажиточного женишка, и потому ты этого никогда не выяснишь. Хотя одно могу тебе сказать. Если у тебя на это дело серьезный настрой, тебе нужно избавиться от фамилии Марджори Моргенштерн. В ней — фальшивое звучание.
— Много ты понимаешь! Эта фамилия есть даже в нью-йоркской телефонной книге.
— Мне все равно. Тебе будет легче продвигаться, назвав себя Марджори Морган.
— Это скучно и банально.
— Да ну? Смысл смены фамилии заключается в том, чтобы больше походить на других, а не меньше.
— Полагаю, Ноэль Эрман — банальность.
— Я как раз был почти на той же стадии, что и ты сейчас, когда размышлял об этом. Если бы мне довелось заниматься этим снова, я бы назвал себя как-нибудь вроде Чарли Робинсон. Если ты хочешь прикинуться, что ты не еврейка, ты тоже можешь сделать именно так.
— Я не потому делаю это.
— Тогда почему бы не Моргенштерн?
— Слишком ординарно.
— Ага, ты хочешь необычную фамилию, вроде Мэгги Салливан?
— Ну, это другое дело. Моргенштерн звучит так… Ну, не знаю…
— Так по-еврейски, девочка, так по-еврейски. С теми самыми намеками на картофельные оладьи, свечи в пятничный вечер, фаршированную рыбу — вот, что тебе не нравится.
В раздражении она сказала:
— Конечно, мотивы каждого человека должны быть такими же никудышными, как и твои. Все равно, Ноэль, я собираюсь именовать себя Марджори Морнингстар и собираюсь стать актрисой, несмотря на Гая Фламма, на мою мать, на тебя и на кого угодно.
Он обнял ее за талию и на мгновение прижал к себе.
— Это старая институтская драчка. — Они немного прошлись молча. Он сказал:
— Но я не могу себе представить этого, и ты знаешь почему, Мардж? Каждая подлинная актриса, которую я когда-либо знавал, обладала… ну, не знаю, чем-то вроде железного стержня. Когда ты разговариваешь с ними — даже романтично, — в ответ получаешь металлический звон. Я плохо выражаю свою мысль. Я не имею в виду неискренность, видишь ли, или пустозвонство, или холодность. Это… ну, они больше походят на мужчин — стабильностью цели и жесткой проворностью в бизнесе, которым занимаются. Большинство из них превращают в мешанину свою личную жизнь. Это как бы плата за талант, заключающаяся в утрате женского инстинкта, с помощью которого женщины чуют верный путь в жизни. Ну а ты… ты — такая женщина, такая киска, карабкающаяся по своему пути с помощью грациозных лапок…
— Я часто удивляюсь, откуда ты черпаешь свои представления обо мне? Из всего моего выпускного курса именно на меня бы указали как на девушку, которая, вероятнее всего, испортила бы свою личную жизнь.
— Ты любишь романтизировать себя. Ты настоящая киска, нервно принюхивающаяся, но наверняка к домику в Нью-Рошелл и к муженьку, зарабатывающему минимум пятнадцать тысяч в год.
— Пойди влезь-ка на дерево. Бог мой, иногда ты бываешь просто занудой!
Он рассмеялся. Они шли по восточной стороне Плаза. От дыхания лошадей, запряженных в красивые экипажи на другой стороне улицы, исходил пар, хорошо видимый в солнечных лучах.
— А знаешь ли ты, что оказало на меня влияние? Я уважаю кошачью мудрость. Думаю, теперь я и сам прекрасно мог бы наслаждаться таким образом жизни… делать покупки в этих магазинах, по выходным проводить время на Пьер или на Плаза, и все такое… всегда имея в виду одну вещь. А именно, что моя жена и я, оба рассматривали бы такую жизнь как приятную комическую маску, надетую так, будто мы живем в Мексике или на островах Фиджи, потому что в данный момент нам это нравится, но нутром осознавали бы, что на деле эта жизнь ненастоящая, пустая, не имеющая значения и такая, от которой можно было бы уже через сутки отказаться. — Резко повернувшись, он увлек ее в цветочный магазин.
— Ради Бога, в чем дело…
— Фиалки в феврале. Ты разве не видела их в окне? Я должен купить тебе букетик.
— Ты сумасшедший.
Ноэль быстро набросал что-то на визитной карточке, пока цветочница подбирала фиалки. Широким жестом он вручил Марджори маленький букетик и карточку:
Фиалки зимой, Нежность во льду… Не тот, что тебе нужен, дорогая, Этот лукавый совет.Она вспыхнула, хрипло рассмеялась и опустила карточку в сумочку.
— Очень коварный. Думаю, я сама понесу цветы.
Черный «кадиллак» Сэма Ротмора стоял перед узким серым каменным домом с черными железными решетками в стиле рококо и массивными дверями. Шофер, аккуратный седой мужчина в черном, уважительно поздоровался с Ноэлем и придержал открытую дверцу лимузина.
— Ну, садись, сначала я подброшу тебя домой, — сказал Ноэль.
— О нет, Ноэль, эта машина — для работы.
— Ерунда. Бывают разные времена. Перестань спорить и садись в машину. Номер семьсот сорок, Вест-Сайд, Филипп.
— Слушаюсь, мистер Эрман.
Проезжая по Центральному парку в «кадиллаке», Марджори ощутила аромат фиалок и, посмотрев в окно на грязные коричнево-зеленые лужайки и на нерастаявший лед, который кое-где лежал на возвышающихся камнях, подумала, что сейчас можно было бы и умереть. Она повернулась к Ноэлю.
— Ты портишь мою жизнь, интересно, ты это делаешь умышленно?
— Я влюблен в тебя, — ответил Ноэль.
Бросив взгляд на спину шофера, она слегка поцеловала Эрмана в губы.
— Я тоже в тебя влюблена.
— Один из нас должен уступить, — произнес Ноэль.
— Не я, — ответила Марджори.
24. Церемония помолвки
Время тянулось отчаянно медленно и тоскливо, Ноэль не звонил вот уже три недели. Она провела это время, исследуя положение дел в области театра, и обнаружила, что огромное количество девушек, таких же как она, упорно ходили от режиссера к режиссеру в поисках работы; и все это несмотря на идущий снег и февральскую слякоть, под неизменно пасмурным небом, низко нависшим над крышами домов.
Позвонил Сэнди Голдстоун и пригласил пойти с ним на прием в честь помолвки Билли Эйрмана, Марджори охотно согласилась. Она не горела большим желанием увидеть Сэнди или же Билли с его будущей невестой, но предположила, что и Ноэль может прийти на этот прием. Сэнди грустил и решил позвонить ей в воскресенье. При встрече ей показалось, что он был еще меньше ростом, чем она его помнила, сутулый, равнодушный, скучный. Он бодро сообщил ей о том, что ему нравится работать в «Лэмз» и что дела обстоят как нельзя лучше. По секрету он сказал Марджори, будто знает, как сколотить состояние. У него в собственности было двадцать процентов скаковой лошади. В то время как его часть сена для лошади полностью поглощала зарплату, он питал надежды, что в ближайшее время сорвет большой куш в одном из крупных забегов.
Когда они прибыли, зал в «Чери-Нидерланд» был так переполнен, что Марджори стала сомневаться, найдет ли там Ноэля. Около четырех сотен приглашенных, большей частью молодежь, все прекрасно одетые, прохаживались по украшенному цветами, наполненному табачным дымом залу, болтали, у каждого в руке был высокий стакан с виски и содовой или же бокал шампанского.
— Обычное сборище, — резюмировал Сэнди. Они вошли внутрь и встали в очередь, чтобы поздравить молодую пару. Молодые и их родители были скрыты от глаз гостями, пожимающими им руки.
— Такое расточительство, — сказала Марджори. — Уж я точно не устрою большого приема, сэкономлю деньги.
— Тебя ждет великолепный вечер, — произнес Сэнди, — почему ты все время смотришь на дверь?
— Я вовсе туда не смотрела.
Очередь таяла, и Марджори оказалась лицом к лицу с Марджори Сандхеймер. Первое, что она сделала, — бросила быстрый взгляд на кольцо: крупный, продолговатой формы бриллиант. Марджори встречала камни и покрупнее, и данный акт смягчил ее отношение к девушке. Марджори Сандхеймер произнесла:
— Мардж, я так рада, что ты пришла! — Она прекрасно выглядела, лучше, чем могла бы вообразить Марджори; лицо ее порозовело, а широко раскрытые глаза блестели. На ней было экстравагантное длинное зеленое с оранжевым платье, с весьма забавными, сделанными в виде шали, рукавами. Марджори даже обрадовалась, что ее голубое платье было неприметным. Иначе, чтобы не нарушать тона, ей бы пришлось смириться с веселой безвкусицей в своем наряде.
Билли Эйрманн с энтузиазмом сжал ее руку. Он весь взмок, рубашка помялась, а его серый костюм выглядел уж слишком новым; прямые волосы упали на лоб.
— Мардж!
Она заговорила с наигранной скромностью в голосе:
— Другая Мардж, Билли, желаю огромного счастья.
Он возбужденно продолжал:
— Да, Мардж, я хочу сказать, ты знакома с моими родителями? Мама, это Марджори Моргенштерн.
Искусственная улыбка исчезла с лица миссис Эйрманн, и она одарила Марджори живым, полным дружелюбия взглядом.
— Отлично, Марджори Моргенштерн! Дорогая, я очень рада вас видеть. Отец! — Она потянула за локоть высокого лысоватого мужчину, стоящего рядом с ней и разговаривавшего с другой парой. — Отец, познакомься, Марджори Моргенштерн.
Он быстро оглянулся. У него было вытянутое лицо с выступающей вперед нижней челюстью, глубоко посаженные голубые глаза, худые узловатые щеки и шея; «Ноэль будет в старости походить на него», — подумала Марджори. Говорил он не спеша, низким голосом.
— Да, моя дорогая, какая честь, как поживаете?
— Здравствуйте, мистер Эйрманн.
— Подождите немного, Марджори, — сказала мать, — я хочу с вами поговорить.
— Конечно.
Сэнди пошел принести ей виски с содовой. С разных сторон ее толкали спешащие куда-то приглашенные, она начала искать свободное место где-нибудь у стены, все время оглядываясь в поисках Ноэля.
— Привет, Мардж. Так и думал, что здесь тебя увижу. — Через толпу к ней пробирался Уолли Ронкен. За руку он держал очаровательную, очень молодо выглядящую девушку с милым, озадаченно счастливым выражением лица, совсем как у маленького зверька.
— Привет, Уолли.
— Марджори Моргенштерн, познакомься, пожалуйста, с Марджори Печтер.
— Потрясающий день! — воскликнула Марджори. — Сколько же девушек по имени Марджори в этом забытом Богом городе?
— Там, где я родилась, их немного, — ответила девушка высоким звонким голосом. — Я из Гарисона, штат Нью-Йорк.
— Марджори учится в Барнардском колледже первый год, — пояснил Уолли. — Ты прекрасно выглядишь.
— Я живу в студенческом общежитии, — добавила девушка.
— Где Ноэль? — спросил Уолли.
— Я не знаю. Я пришла с Сэнди Голдстоуном. — Мардж вновь прислонилась к стене. Она опустилась в красное с позолотой кресло недалеко от оркестра. Сэнди, принеся ей коктейль, опять куда-то ушел. Марджори отрешенно наблюдала за шумящей толпой. Кругом мелькали знакомые лица: она видела их раньше в колледже и на танцах, приемах, на вечеринках. У молодых людей лица посерьезнели, а у девушек стали менее свежими и в них прибавилось настороженности. Казалось, что нашедшие свою половину и поженившиеся громче шумели и больше пили, чем остальные.
— А, привет, Мардж! Где Ноэль? — замахал ей рукой саксофонист. Музыкант из «Южного ветра», она узнала его, а присмотревшись, поняла, что все четыре музыканта играли в ансамбле в лагере. Она подошла поболтать с ними.
— Нас порекомендовал Ноэль, — объяснил саксофонист. — Мы всю зиму играем на таких мероприятиях. — Они очень удивились, услышав, что Марджори пришла не с Ноэлем.
Вновь появился Уолли Ронкен с девушкой из Барнарда и пригласил Мардж танцевать. Его несколько грубоватая манера в танце совершенно не изменилась.
— Где твоя девушка, Уолли?
Он вскинул голову, сконцентрировавшись на танце.
— Где-то там.
Марджори увидела девушку, она, смеясь, разговаривала с тремя молодыми людьми, переводя свой веселый взгляд с одного на другого.
— Я вижу в ней себя, много-много лет назад.
— Жаль, что мне она тебя не напоминает, — с грустью произнес Уолли. — Неплохая девчонка, только уж слишком какая-то сладенькая.
— А я какая? Что же я, как красный перец?
— Самианское вино в позолоченной чаше.
— Очень мило. Я думаю, ты такого никогда не пил.
— Это Байрон написал, тебе это очень подходит.
— Самианское вино! В этом-то твоя беда, Уолли Ронкен. Однажды ты обнаружишь, что у тебя налет на зубах от ужасного греческого уксуса.
— Ты рассуждаешь, как Ноэль.
— Что с того? Ты всегда говорил, как Ноэль. Такое всегда случается с людьми, окружающими его.
— Я знаю. Как он?
— Последнее время не видела его.
Уолли немного отстранился и внимательно посмотрел на нее.
— Как давно?
— Не твое дело.
— Вы собираетесь пожениться?
— Что-то я об этом ничего не знаю.
— Мое новое шоу утвердили.
— Прими мои поздравления.
— Ты пойдешь со мной на премьеру?
— Не нужно ворошить прошлое, это выглядит весьма странно. Ты пойдешь с Марджори Петчер, она очаровательна.
— Она все время в облаках витает, не представляю, как она по улицам ходит.
— Не будь высокомерным. Ты должен свыкнуться с мыслью, что не так уж много девушек, которые могут сравниться с тобой умом, иначе закончишь жизнь старым холостяком.
Сэнди прервал их разговор. Он легко танцевал, для Марджори это было облегчением, но на мгновение она ощутила, что ей не хватает преклонения Уолли перед ней, его робкой руки на талии. С Сэнди Марджори чувствовала себя, как с подругой. Она опять кинула взгляд на вход.
Около бара они столкнулись с уже изрядно подвыпившими Филом и Розалиндой Бойхэм. Последняя была совершенно явно беременна, и Марджори, удивившись, что-то сказала по этому поводу.
— Не беспокойся, — замотала головой Розалинда, — я как машина для производства детей, ничто этому не мешает. Они у меня появляются как новые «форды», правда, Фил?
— Как пончики, — высказал свою версию Фил Бойхэм.
— О Господи, что происходит с женатыми людьми на помолвках? — пожаловалась Марджори Сэнди, когда чета Бойхэмов неуверенно провальсировала мимо них, едва не расплескав содержимое своих стаканов. — Мне иногда кажется…
Вот и он.
Он стоял при входе, в дальнем конце зала, высокий, светловолосый, одетый в черное, оглядываясь вокруг с величием огромного кота. Его заметила не только она. Все присутствующие обратили на него свои взгляды. Марджори знала, что у четырех из присутствующих здесь был с ним роман, теперь все уже были замужем. Без всякого сомнения, были и другие. Среди мужчин он тоже был легендой, они смотрели на него не менее внимательно, чем женщины. Он вошел в комнату, игнорируя очередь к помолвленным. Ему навстречу бросилась девушка и, схватив его за руку, стала что-то быстро говорить. Несколько танцующих пар остановились и тоже подошли к нему. Очень скоро, окруженный людьми, он пропал из виду.
В этот момент Марджори поняла, что взгляды были обращены и на нее, Сэнди не составил исключение, в его взгляде ощущалось скрытое удовольствие. Она поняла, что, вытянув шею, смотрела в сторону Ноэля. Невероятно смутившись, она чуть было не расплескала свой коктейль, поспешно повернувшись.
— Что-то много народа, да? — произнес Сэнди. Грустно улыбнувшись, она отпила из стакана. Сэнди продолжал: — Он прекрасно выглядит, я надеюсь, ты сможешь найти к нему подход, говорят, он сущий ребенок.
— Да, Сэнди.
— А что случилось с его рукой?
Удивившись, она поняла, что с лета совершенно не думала о его пороке, скорее, даже не замечала его.
— Пустяки, как ты только заметил издали? Давай потанцуем.
Вскоре она увидела длинную, затянутую в черное руку, прикоснувшуюся к плечу Сэнди.
— Я разобью вашу пару?
— Да, конечно. Осторожно, она хрупкая, — произнес Сэнди, уступая ее.
— Я знаю, — ответил Ноэль, — хрупкая, как хромистая сталь.
Какое-то время они танцевали молча.
— Спасибо, — промолвила Марджори, — конечно, хромистая сталь.
— Как ты?
— Безумно счастлива, а ты?
— У меня все дела, а Макс здесь?
Она устремила на него пронзительный взгляд.
— Макс?
— Доктор Шапиро, специалист по желудку.
— Иди ты к черту.
— Что ты, такие вечеринки для того и существуют! Встречаются неженатые люди, вдруг с ужасом понимают, что время проходит, и в панике начинают искать себе партнера. Больше половины семей зарождается на помолвках. Я думал, что ты сегодня здесь встретишь Макса.
— Ну, раз он не пришел, тебе придется терпеть мое общество, Ноэль Эрман.
— Кому, мне? Никогда не слышал о тебе.
Раздался громкий голос саксофониста.
— Привет, Ноэль. — Ноэль, улыбаясь, закивал. Музыканты доиграли мелодию и без интервала начали другую: «Поцелуи дождя».
Марджори заметила, что на них смотрят. На площадке для танцев осталось мало народу, люди стояли вокруг.
— Ты все еще работаешь у Сэма Ротмора?
— Да. Это не отдых. Сэм заставляет отрабатывать те деньги, которые платит, поверь мне. Никаких посиделок во время работы. Он суровый парень. Меня это не беспокоит, он мне симпатичен, заставляет меня шевелиться.
— Я понимаю, он так тебя загружает, что ты не можешь позвонить мне.
— Нет, нет, Сэм тут ни при чем.
— Кто же тогда?
— Никто.
— Послушай, меня не волнует, позвонишь ли ты мне когда-нибудь еще или нет.
— Я в этом и не сомневаюсь.
Заиграли другую мелодию, темп изменился. Мурашки пробежали у Марджори по спине. Это был вальс «Южного ветра».
— Ну разве ты понимаешь, черт возьми, их секреты, — пробормотала она.
Ноэль крепче прижал ее к себе.
— Приятная мелодия, — произнес он. — Не слишком необычная, но милая.
На Марджори нахлынули щемящие сердце воспоминания: Самсон-Аарон, ночной аромат деревьев в «Южном ветре» под светом луны, горячие поцелуи, от которых она чувствовала слабость в коленях, запах масляной краски за кулисами… Еще две пары кружились в танце. Кольцо любопытствующих и шепчущихся росло.
— Все, хватит, — пробормотала она и начала пробираться к выходу, все еще держа Ноэля за руку.
— Что случилось? — спросил он.
Она продолжала проталкиваться сквозь толпу любопытных, уводя его за собой.
— Я не знаю, мне вдруг показалось, что я исполняю танец семи девушек в чадре. Здесь так накурено! Давай пройдемся по холлу, выберемся отсюда.
— Ноэль! Подожди! — Среднего роста женщина в каракулевом пиджаке и шапочке русского стиля из такого же меха торопливо подошла к ним, за ней шел грузный мужчина в расстегнутом пальто из верблюжьей шерсти. Оба держали стаканы с виски. — О, его величество, все-таки осчастливило нас своим присутствием! — воскликнула женщина преданно глядя на Ноэля. Лицом она походила на двадцатилетнюю девушку, но в ее каштановых волосах блестела седина. — Мы с Хорасом, отчаявшись тебя увидеть, уже собирались уходить, устали от этой мышиной возни. Братишка, какая у тебя хорошая партнерша.
— Марджори, познакомься, это моя сестра Моника, а это — Хорас Зигельман. — Ноэль как-то удивительно по-простому вдруг стал разговаривать с ними.
— Привет, Марджори, — она пожала ей руку, у нее было хорошее настроение, лицо излучало доброту. — Я слышала о вас, вы еще приятнее, чем я думала.
Хорас Зигельман, приятный мужчина, немного смуглый, с копной черных волос, дружески похлопал Ноэля по спине.
— На этот раз ты нашел себе отличную девушку, может, остановишься на ней? — спросил он резким и громким голосом.
— Вот что я тебе скажу, Хорас, мне не хватает обаяния, как насчет того, чтобы преподать мне урок? — сказал Ноэль.
— Хватит болтать, потанцуй со мной, — вмешалась сестра Ноэля, кладя ему на плечо руку. — Мардж, дорогая, ты ведь не возражаешь? Я к нему раз в десять лет могу обратиться с такой просьбой, понимаешь. По правде говоря, если бы я не выпила пять виски с содовой или шесть, Хорас…
— Семь…
— …да, семь, я бы не решилась подойти к нему. Он с презрением относится к своей глупой сестре, но несмотря на это я люблю этого зверя.
— Любовь моя, я не презираю тебя, просто по некоторым вопросам наши мнения не совпадают.
— Ну, давай же потанцуем.
— Вы с Хорасом отличные танцоры, почему бы вам не станцевать румбу?
Моника весело улыбалась, но ее огромные голубые глаза, казалось, были печальны. Она была необычайно привлекательна; как и в Ноэле, в ней было нечто магнетическое. Марджори подумала, что она разбила сердце не одного мужчины. Только ее меховой наряд был немного неуместен и неестественен.
— Саул, пожалуйста, хотя бы разок потанцуй со своей подвыпившей сестрой. Отметим важный день в жизни Билли, — заключила она, допив виски и передав пустой стакан мужу.
— Торопись, Ноэль, следующий поезд в Порт-честер отправляется в пять часов, — вмешался Хорас. — С удовольствием останусь с Марджори, со мной ей не будет скучно.
Ноэль мрачно посмотрел на Хораса и Марджори.
— Конечно. — Он последовал на танцевальную площадку за сестрой, и они автоматически закружились в танце, как супруги, широкий каракулевый пиджак Моники так и развевался во все стороны.
— Сейчас ей будет очень жарко, — заметил Хорас, — потом она простудится, пересаживаясь из поезда в поезд, они обычно переполнены, она всегда там простужается…
— Она такая милая, — сказала Марджори.
Хорас расплылся от удовольствия, с гордостью наблюдая за Моникой.
— Вы ее не знаете. Надеюсь, что в скором времени вы зайдете к нам в гости. Таких, как она редко встретишь. Вы хотите потанцевать? Я могу снять это пальто.
— Нет, нет, спасибо, мистер Зигельман, я уже натанцевалась.
— Хорас. Мы можем перейти на ты. Я чувствую, что мы будем видеться чаще. — Он многозначительно одарил ее игривой улыбкой. — Этот Ноэль, он отличный парень, да? Бьюсь об заклад, что он самый одаренный человек, которого я когда-либо встречал. Я всегда говорил, что если он однажды женится на рассудительной девушке, которая немного утихомирит его, то к нему очень быстро придет известность. Он неуправляемый человек, такие люди бывают объектом зависти до каких-то пор. Я ему больше не завидую. В какой-то степени я к нему привык. Я не могу утверждать точно, но мне кажется, что последние несколько лет он грустит, чувствует одиночество, понимаете, не может добиться желаемого.
— Мы обо всем договорились, Мардж, — вернувшись, сообщила Моника. — Как только погода наладится, вы приедете к нам в гости. Мой отпрыск будет к вам приставать, обязательно испачкает вас мороженым, но мы хорошо проведем время.
— Отлично.
— При условии, что Мардж еще будет со мной общаться, — добавил Ноэль.
Моника, взяв Марджори за руку, чмокнула ее.
— Пока, дорогая, вы так милы. Не обращайте на меня внимания, я сентиментальна, когда выпью. — Отвези меня домой, Хорас. Хорас, послушай меня, «Норас». — Она притянула к себе Ноэля и быстро поцеловала его в щеку. — До свидания, негодник. Поторопись, последуй примеру Билли.
— Да ну, — отозвался Ноэль, глядя ей вслед, — она завязла в семейной жизни. Обычно она подает мне руку.
— Я тоже не люблю целовать своего брата, это как-то глупо. Она обаятельна, неудивительно, что ты так ее любишь.
— Кто тебе это сказал? Она скучна, провинциальная неряха с домом, кишащим детьми.
— Ты мне сам об этом говорил, когда мы были в лагере. Ты также говорил, что Хорас — это кусок свиного сала. Мне кажется, ты ошибался. Он приятный человек.
— Неужели, я так говорил про Хораса? Это очень точное определение. Мы что, идем на улицу?
В отделанном зеркалами холле часть диванов была скрыта от любопытных глаз искусственными пальмами в зеленых кадушках, на них сидели задушевно беседующие парочки, держали друг друга за руку, целовались.
— Вот видишь? — произнес Ноэль. — Процесс знакомства продвигается вперед. Как жаль, что не пришел доктор Макс. Вам светят звезды, зачем же упускать случай…
— У меня, должно быть, отсутствует чувство юмора. Думаю, это уже не смешно.
— Ты становишься ранимой.
— Это на меня не действует.
— Я исключу эту шутку из своего репертуара. Больше ее не услышишь.
— Благодарю.
— Я буду скучать по Максу, он мне уже начал нравиться.
Они проходили мимо комнаты отдыха для женщин. Фил Бойхэм стоял, прислонившись к стене, волосы у него были сильно взъерошены, на губах играла изможденная улыбка.
— Привет, Розалинда в порядке? — спросила Марджори.
— Надеюсь, надеюсь, ей немного нехорошо.
— Мне ей помочь?
— Нет, нет, с ней сейчас женщины.
Они отошли, и Марджори спросила:
— Может быть, ты мне объяснишь, почему женатые люди так страдают на подобных мероприятиях?
— О Боже, что за вопрос! Конечно, чтобы забыться, — ответил Ноэль. — Хотят забыть несбывшиеся надежды и свое осознание этого. Желают забыть денежные проблемы, не думать о друзьях, купивших более дорогие, чем у них, машины, о хворающих детях, о бессонных ночах, о выкидышах, об оставленных любовницах, об обыденности каждодневного секса, о тещах и свекровях, отравляющих жизнь.
— Ты говоришь о семейной жизни, как о сплошном кошмаре.
— Разве? Я не имел это в виду. Время идет, дорога становится все уже и уже, и когда-то ты понимаешь, что женитьба — неизбежность. Это не помогает, но все равно ты это должен сделать, а после свадьбы жизнь предстает перед тобой как череда все менее приятных альтернатив. А ты удивляешься, почему женатые люди напиваются.
— Да, девушку сочтут сумасшедшей, если она выйдет замуж за человека, говорящего такие вещи.
Повернувшись, он одарил ее таким презрительным взглядом, что она даже немного отпрянула.
— У нас разве не прошел период этих женских хитростей? Если я тебе предложу, то мы мгновенно поженимся.
— Более самоуверенных людей я не встречала.
— Послушай, Марджори, ты же не спала ночами, думая обо мне. У тебя и круги под глазами! Ты плохо выглядишь.
— Ты невыносим. Естественно, я думала о тебе! Мы разве не влюблены целый год?
— Почему же тогда ты мне не позвонила?
— Позвонила тебе? Ты же сказал, что сам мне позвонишь.
Он разразился короткими резкими смешками.
— Боже, я действительно тебе обещал? Мардж, ты когда-нибудь слышала о французском короле, который истлел у камина, потому что сам не хотел отодвинуть стул. Тебе ничего не стоило побить его рекорд. Небеса разверзнутся, но правила Ширли должны быть соблюдены, так?
Она посмотрела на него.
— Ты сказал, что ты начинаешь новую работу и некоторое время будешь занят. Ты ведь помнишь? Ты это так говоришь, что ни одна уважающая себя девушка не решится позвонить такому безумцу. Будут упреки, унижения…
— Ты совершенно не права. Девушки звонят таким, как я, каждый день семь дней в неделю, Мардж, и гордые девушки, и уважающие себя. По всей земле раздаются такие звонки. Только учти, они никогда не звонят, чтобы назначить свидание, понимаешь? Они просят одолжить им книгу, хотят узнать о твоем здоровье, если слышали, что ты заболел, иногда они просто якобы ошибаются номером, или говорят еще что-то испытанное в этом роде. Это естественно. — Он обнял ее за талию. Они дошли до конца коридора, за окнами над синеватыми зданиями нижней части города садилось темно-красное солнце. Немного помолчав, он сказал: — Извини. Мне следовало тебе позвонить, я знаю это. Но лучше было не делать этого, у меня было отвратительное настроение, да и сейчас, по правде говоря, такое же. Не отвлекаясь работаю с девяти до пяти — старый Адам не сдается, Мардж. И когда у меня что-то не ладится, я всегда виню тебя. Однако… — Он нежно поцеловал ее в висок. — Ладно, пойдем потанцуем, и я должен тебя покинуть.
— Куда ты идешь?
— У меня свидания.
— С кем-нибудь, кого я знаю?
Он улыбнулся.
— Дженис Грей. — Он улыбнулся еще шире, увидя, как она изменилась в лице. — Послушай, она томящаяся одиночеством старая вешалка, любовница человека, занимающегося производством свитеров. Он сейчас возвращается к ней из Европы, и она умирает от тоски. В Нью-Йорке у нее нет знакомых, и, будучи не робкого десятка, она мне все время звонит. Я ей совершенно не нравлюсь, но устраиваю ее как достаточно приличный партнер для танцев. Я не трачу так непросто дающиеся мне деньги, она оплачивает все счета.
— Ты и в постели его заменяешь? — зло спросила Марджори.
— Нет, — ответил он, глядя ей в глаза.
— Нет?
— Нет, ей это не нужно, да и на ней такой слой косметики, что заниматься с ней — этим все равно что приставать к жирной свинье.
— Да, так и нужно говорить о кинозвезде! — нервно рассмеялась Марджори. — Ты меня обманываешь, чтобы облегчить мои страдания?
В зале музыканты перестали играть.
— Пойду, скажу что-нибудь помолвленным. — Взяв Марджори под руку, он подошел к уже изрядно уставшим Сандхеймерам и вежливо поздравил их. Марджори Сандхеймер как-то с испугом трясла его руку. Похлопав Билли по спине, он сказал:
— Мой друг, тебе нужно еще раз прочесть Книгу бытия. Младшие не женятся первыми.
Судья Эйрманн резко оборвал его:
— Ты бы перечитал свою Книгу бытия, Саул. Это относится только к дочерям.
— Да, все равно, — обратился Ноэль к Марджори Сандхеймер, — не удивляйся, если, проснувшись утром после свадьбы, ты обнаружишь, что вышла замуж за меня. Это библейская традиция.
— Боюсь, я так побегу, что меня не догонят, — ответила Марджори Сандхеймер.
Судья хрипло рассмеялся.
— Прощай, мать, — попрощался Ноэль, обняв и поцеловав ее в розовую морщинистую щеку.
— Ты уже покидаешь нас, ты же только что пришел. — Он проводила их до лифта, говоря Ноэлю: — Почему бы тебе не прийти к нам на обед, ну, скажем, в следующую пятницу. Возьми с собой свою подружку, правда, Марджори? Ты так давно у нас не был.
— Да я едва знаком с ней, — отшутился Ноэль.
— Хватит молоть всякую чушь.
Двери лифта стали закрываться, и Марджори объявила:
— Мистер, это ваше последнее свидание с Дженис Грей.
— Кто это сказал?
— Я говорю.
— До свидания, девочки, поболтайте еще.
В полночь Марджори набрала номер телефона Ноэля. Никто не ответил. Она читала роман до часу ночи и позвонила еще раз. Опять молчание. Бросив книгу, она принялась думать об этом вечере. Она до сих пор ужасалась тому, что произошло сегодня. К ней, пошатываясь, подошла одна из бывших подружек Ноэля (она замужем вот уже пять лет, мать двоих детей) и начала нечленораздельно что-то говорить про Эрмана. Совершенно потеряв самоконтроль, отталкивая мужа, который пытался остановить ее, она говорила все громче, и ее улыбка становилась все более странной. В конце концов на помощь Марджори поспешил Сэнди и увел ее из комнаты, а женщина все кричала ей вслед:
— Вернись! Вернись! Тебе бы лучше знать это о Сауле Эйрманне.
Когда часы показывали два часа ночи, она опять позвонила ему.
— Привет, — у него был сонный голос.
— Привет, это Ширли.
— Боже! — Его голос зазвучал радостно. — Звонить мужчине в два часа утра!
— Я знаю, я совершенно испорченная, и в этом виноват ты.
— Приятно тебя слышать, испорченная ты или нет.
— Надеюсь, я тебя ни от чего не отвлекаю. Дженис Грей рядом?
— Не будь дурочкой. Я завез ее в «Уолдорф» час назад. Может быть, заедешь сейчас? Поцелуемся.
— Да нет.
— Хорошо, тогда заходи и побей меня.
— Нет, я уже отбивалась от Сюзанны Хоффен сегодня днем.
— О Боже! — Он насторожился. — Не говори мне ничего. Она была пьяна?
— Она вела себя крайне странно. Хватая меня за руки, она поведала, как мил ты и как хороша я, и так далее с вылезающими из орбит глазами. Меня в дрожь бросает.
— Да, Сюзанна это может. Она ненавидит своего мужа и срывает на всех свое зло.
— Еще один растоптанный цветок на твоем пути, мистер Эрман.
— Будь спокойна. Они только загрязняют Вест-Сайд. Только на этот раз я оказался жертвой Сюзанны. Мы поругались, и она вмиг оказалась замужем, я долго не мог в себя прийти. Теперь это, вероятно, моя вина, и будет таковой до ее смерти.
— Вероятно, ты до сих пор по ней страдаешь. Или же по Бетти Фрэнк, или Ирен Горен, или Руфь Мендельсон, или Мерилин Либин? Тебе книгу нужно написать.
Он рассмеялся.
— Что я могу для тебя сделать?
— Ничего.
— Ты мне позвонила.
— Я знаю. Я это сделала только потому, что ты так долго распалялся по этому поводу. А еще я хочу попросить у тебя книгу.
— Вот это разговор, какую?
— Да не знаю, любую, например, «Республику» Платона.
— Отлично. Дам тебе ее, когда мы с тобой вновь увидимся.
— Великолепно, а когда это случится?
— Ты хочешь назначить мне свидание, Марджори Моргенштерн?
— Почему бы и нет?
— Хорошо, спаси меня Господи. Давай сделаем это сейчас. Я оденусь и заеду за тобой.
— Не будь безумцем, Ноэль, — фыркнула она.
— Почему бы нет? Черт возьми, сейчас самое подходящее время. Поедим гамбургеров, будем кататься на пароме, скажем, как Эдна Милли.
— Я не Эдна Милли, мистер. Я в кровати, вся в креме, на голове у меня беспорядок, и я даже не встану, чтобы есть гамбургеры с Кларком Гейблом.
— Нет в тебе романтики, — заключил он расстроенно. — Давай же, может быть, от этого зависит наше будущее. Скушай со мной гамбургер, и я женюсь на тебе.
— Даже за это не буду.
— Хорошо, я не уязвлен. Как насчет ленча завтра? В Сарди в час дня?
— Договорились.
— Ты ведь позвонила мне, чтобы назначить свидание? Ширли мертва. Да здравствует Марджори! Это вселяет надежду. Спокойной ночи, дорогая.
1
Марчбэнкс — персонаж пьесы Б. Шоу «Кандида» (1895), молодой поэт, влюбленный в Кандиду.
(обратно)





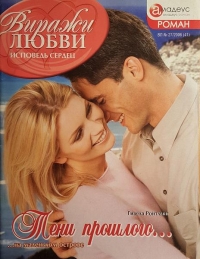


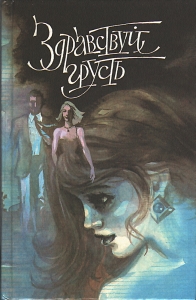
Комментарии к книге «Марджори», Герман Вук
Всего 0 комментариев