Станислав Лем Король Глобарес и мудрецы
Однажды Глобарес, властелин Гепариды, призвал к себе трех мудрецов величайших и сказал им:
— Поистине плачевна судьба короля, который познал все на свете и для которого любая речь звучит пусто, словно кувшин надтреснутый. Я хочу, чтоб меня удивили, а на меня наводят скуку; ищу потрясений, а слышу глупую болтовню; жажду необычайного, а получаю грубую лесть. Знайте же, мудрецы, что нынче велел я казнить всех моих шутов и паяцев вместе с советниками, тайными и явными, и та же судьба ожидает вас, коли не выполните моего повеления. Пусть каждый из вас расскажет самую удивительную историю, какую знает, и ежели не вызовет у меня смех или слезы, не поразит меня или не напугает, не развлечет или не заставит задуматься — не сносить ему головы!
Король подал знак, и мудрецы услышали железную поступь: палачи окружили их у ступеней трона, обнаженные мечи сверкали как пламя. Встревожились мудрецы, и давай подталкивать друг друга локтями — кому же хотелось навлечь на себя государев гнев и подставить голову под топор? Наконец заговорил первый:
— Король и господин мой! Без сомнения, всего удивительнее в целом Космосе, видимом и невидимом, история звездного племени, именуемого в летописях наоборотами. Уже на заре своей истории наобороты делали все совершенно иначе, нежели прочие разумные существа. Предки их поселились на Урдрурии, планете, знаменитой своими вулканами; каждый год она рождает горные гряды, сотрясаясь в ужасных судорогах, от которых рушится все. И в довершение этих бед заблагорассудилось небесам пересечь орбиту Урдрурии большим Метеоритным Потоком; двести дней в году долбит он планету стаями каменных таранов. Наобороты (которые тогда еще назывались иначе) возводили постройки из закаленной стали, а самих себя обивали многослойным стальным листом, так что подобны были бронированным ходячим холмам. Но земля, разверзаясь при сотрясениях, поглощала стальные их грады, а молоты метеоритов сокрушали их панцири. Всему их народу грозила гибель. Сошлись тогда мудрецы на совет, и сказал первый из них: «Не спастись нам в нынешнем нашем обличье, и нет иного спасения, кроме преображения. Земля разверзается снизу, поэтому, чтобы туда не свалиться, каждый наоборот должен иметь широкое и плоское основание; метеориты же падают сверху, поэтому каждый пусть станет остроконечным. Уподобившись конусу, можем ничего не бояться».
И сказал второй: «Нужно сделать иначе. Если земля разинет свой зев широко, то проглотит и конус, а косо падающий метеорит пробьет его бок. Идеальной будет форма шара. Если земля начнет дрожать и перекатываться волнами, шар откатится сам; а падающий метеорит ударится о его круглый бок и соскользнет по нему; преобразившись так, мы покатимся в лучшее будущее».
И сказал третий: «Шар точно так же может быть сокрушен или проглочен, как любая материальная форма. Нет такого щита, которого не пробьет меч достаточно мощный, и нет меча, который не зазубрится на твердом щите. Материя, братья, это вечные перемены, непостоянство и пертурбации, она непрочна, и не в ней надлежит обитать существам, действительно разумным, но в том, что неизменно, вечно и совершенно, хотя и посюсторонне!»
«А что же это такое?» — спросили прочие мудрецы.
«Отвечу не словами, но делом», — молвил третий мудрец. И у них на глазах принялся раздеваться; снял одеяние верхнее, усыпанное кристаллами, и следующее, златотканое, и исподнее, из серебра, снял крышку черепа и грудь, и чем дальше, тем быстрее и тщательнее раздевался, от шарниров перешел к муфтам, от муфт к винтикам, от винтиков к проводочкам, а там и к мельчайшим частицам, пока не дошел до атомов. И начал лущить свои атомы, и лущил их так споро, что не было видно уже ничего, кроме исчезновения да пропадания; но действовал столь искусно и столь проворно, что после раздевания на глазах изумленных сотоварищей остался в виде идеального своего отсутствия, в виде изнанки столь точной, что она обретала новое бытие. Ибо там, где прежде имел он один атом, теперь у него не было одного атома; там, где только что было их шесть, появилась нехватка шести атомов, а вместо винтика возникло отсутствие винтика, зеркально точное и ничем от винтика не отличающееся. Короче, становился он пустотой, упорядоченной точно так же, как прежде была упорядочена его полнота; и было небытие его не омраченным ничем бытием: до того он был проворен и ловок, что ни одна частица, ни один материальный пришелец не осквернили своим вторжением его идеально отсутствующего присутствия! И прочие видели его как пустоту, сформированную в точности так же, как и он минутою раньше, глаза его узнавали по отсутствию черного цвета, лицо — по отсутствию голубоватого блеска, а члены — по исчезнувшим пальцам, шарнирам и наплечникам. «Вот так, братья, — молвил Сущий Несуществующий, — путем воплощения в небытие обретем мы не только невиданную живучесть, но и бессмертие. Ведь меняется только материя, небытие же не следует за ней по пути постоянной изменчивости, значит, совершенство обитает не в бытии, а в небытии, и второе надлежит предпочесть первому!»
Как решили они, так и сделали. И стали наобороты племенем непобедимым. Жизнью своей обязаны они не тому, что в них есть, ибо в них ничего нет, а лишь тому, что их окружает. И ежели кто-нибудь из них входит в дом, то увидеть его можно как домашнюю неполноту, а ежели вступает в туман — как локальное отсутствие тумана. Изгнав из себя материю, ненадежную и переменчивую, они невозможное учинили возможным...
— А как же они путешествуют в космической пустоте? — спросил Глобарес.
— Только этого они и не могут, государь, ибо внешняя пустота слилась бы с их собственной и они перестали бы существовать как локально упорядоченные несуществования. Потому-то они неустанно оберегают чистоту своего небытия, пустоту своих естеств и в таковом бдении проводят время, а называют их также ничтоками, или небывальцами...
— Мудрец, — молвил король, — твою историю мудрой не назовешь: возможно ли разнообразие материи заменить единообразием небытия? Разве скала подобна дому? А между тем отсутствие скалы может принять такую же форму, что и отсутствие дома, значит, то и другое становится как бы одним и тем же.
— Государь, — защищался мудрец, — имеются разные виды небытия...
— Посмотрим, — сказал король, — что случится, когда я велю отрубить тебе голову: станет ли ее отсутствие присутствием, как ты полагаешь? — Тут премерзко засмеялся монарх и дал знак палачам.
— Государь! — закричал мудрец, схваченный стальными их пальцами. — Ты соблаговолил рассмеяться, значит, моя история возбудила в тебе веселость, и ты по уговору должен меня помиловать.
— Нет, это я сам себя развеселил, — ответил король. — Разве что мы уговоримся вот как: ежели ты добровольно выберешь смерть, твое согласие позабавит меня и я исполню твое желание.
— Согласен! — крикнул мудрец.
— Ну так казните его, коли сам просит! — повелел король.
— Но, государь, я согласился ради того, чтобы ты меня не казнил...
— Раз уж согласился, надо тебя казнить, — пояснил король. — А ежели ты не согласен, значит, не развеселил меня и все равно надо тебя казнить...
— Нет, нет, наоборот! — закричал мудрец. — Если я согласен, ты, развеселившись, должен меня помиловать, а если я не согласен...
— Ну, хватит! — сказал король. — Палач, принимайся за дело!
Сверкнул меч, и отлетела голова мудреца.
Наступила мертвая тишина, а затем отозвался второй мудрец:
— Король и господин мой! Удивительнейшее из всех звездных племен, без сомнения, народ полионтов, или множистов, именуемых также многистами. Каждый из них имеет, правда, одно лишь тело, зато ног тем больше, чем выше он саном. Что же касается голов, то их носят по обстоятельствам: в любую должность у них вступают с приличествующей ей головой; бедные семьи довольствуются одной головой на всех, а богачи собирают в сокровищницах самые разные, для всякой надобности: головы утренние и вечерние, стратегические, на случай войны, и скоростные, если нужно поторопиться, а равно холодно-рассудительные, вспыльчивые, страстные, свадебные, любовные, траурные; короче, они экипированы для любой оказии.
— Это все? — спросил король.
— Нет, государь! — ответил мудрец, видя, что дела его плохи. — Множисты называются так еще и потому, что все до единого подключены к своему властелину, и если большая их часть сочтет его деяния вредными для общего блага, оный владыка теряет устойчивость и рассыпается на кусочки...
— Банальная идея, чтобы не сказать — цареборческая! — хмуро заметил Глобарес. — Коль скоро ты, старче, столько наговорил мне о головах, может, ответишь, казню я тебя или помилую?
«Если я скажу, что казнит, — быстро подумал мудрец, — он так и сделает, поскольку разгневан. Если скажу, что помилует, то удивлю его, а если он удивится, то должен будет сохранить мне жизнь по уговору». И сказал:
— Нет, государь, ты не предашь меня казни.
— Ты ошибся, — молвил король. — Палач, принимайся за дело!
— Но разве я не удивил тебя, государь? — кричал мудрец уже в объятиях палачей. — Разве ты не ожидал скорее услышать, что предашь меня казни?
— Твои слова не удивили меня, — ответил король, — ведь их диктовал страх, что написан у тебя на лице. Довольно! Снимите эту голову с плеч!
И покатилась со звоном по полу еще одна голова.
Третий мудрец, самый старший, взирал на все это в полном спокойствии. Когда же король снова потребовал необычайных историй, промолвил:
— Государь! Я бы мог рассказать историю поистине необычайную, да только не стану — мне важнее открыть настоящие твои побуждения, нежели тебя удивить. И я заставлю тебя казнить меня не под жалким предлогом забавы, в которую ты пытаешься обратить смертоубийство, но так, как свойственно твоей природе, которая, хоть и жестока, потрафлять себе отваживается лишь под прикрытием лжи. Ты намерен казнить нас так, чтобы после сказали: король-де казнил глупцов, не по разуму именуемых мудрецами. Я же предпочитаю, чтобы сказали правду, и поэтому буду молчать.
— Нет, я не отдам тебя палачу, — сказал король. — Я всерьез, непритворно жажду необычайного. Ты хотел разгневать меня, но я умею свой гнев укрощать. Говори, и ты спасешь, быть может, не только себя. Пусть даже то, что ты скажешь, будет граничить с оскорблением величества, которое ты, впрочем, уже совершил, — но пусть оскорбление это будет настолько чудовищным, что окажется лестью, которая из-за своей грандиозности снова становится поношением! Итак, попробуй одновременно возвысить и унизить, возвеличить и развенчать своего короля!
В наступившей тишине еле заметно зашевелились придворные, словно проверяя, прочно ли держатся головы у них на плечах.
Третий мудрец глубоко задумался и наконец сказал:
— Государь, я исполню твое желание и объясню тебе почему. Я сделаю это ради всех присутствующих здесь, ради себя, но также и ради тебя, чтобы годы спустя не сказали, что был, мол, король, который из пустого каприза уничтожил мудрость в своем государстве; и даже если сейчас твое желание не значит ничего или почти ничего, я наделю значением эту причуду, придам ей осмысленность и долговечность — и потому я буду говорить...
— Старче, мне надоело это вступление, которое снова граничит с оскорблением величества, отнюдь не соседствуя с лестью, — гневно сказал король. — Говори!
— Государь, ты злоупотребляешь своим могуществом, — ответил мудрец, — но это пустяк по сравнению с тем, что выделывал твой отдаленнейший, неизвестный тебе предок, основатель династии Гепаридов. Этот прапрапрадед твой, Аллегорик, тоже злоупотреблял монаршею властью. Чтобы понять, в чем заключалось его величайшее злоупотребление, соизволь взглянуть на ночной небосвод, видимый в верхних окнах дворцовой залы.
Король посмотрел на небо, вызвездившее и чистое, а старец неторопливо продолжал:
— Смотри и слушай! Все существующее бывает предметом насмешек. Никакой титул не спасает от них, ведь иные дерзают насмехаться даже над королевским величеством. Смех колеблет троны и царства. Одни народы посмеиваются над другими, а то и над самими собою. Высмеивается даже то, чего нет, — разве не насмехались над мифическими божествами? Предметом насмешек бывают явления, куда как серьезные и даже трагические. Достаточно вспомнить о кладбищенском юморе, о шутках, отпускаемых по поводу смерти или покойников. Издевка добралась и до небесных тел. Взять хотя бы солнце или луну. Месяц изображают лукавым заморышем в шутовском колпаке и с острым, как серп, подбородком, а солнце — в виде пухлощекого толстяка в растрепанном ореоле. И все же, хотя предметом насмешек одинаково служит царство жизни и царство смерти, малое и великое, есть нечто такое, чего никто еще не осмелился высмеять. К тому же это предмет не из тех, о которых легко забыть, упустить из виду, ибо речь идет обо всем существующем, то есть о Космосе. Если же ты, государь, призадумаешься над этим, ты поймешь, насколько Космос смешон...
Тут впервые удивился король Глобарес и с возрастающим вниманием слушал речь мудреца, а тот продолжал:
— Космос состоит из звезд. Это звучит довольно внушительно, но, если взглянуть поглубже, трудно сдержать улыбку. И в самом деле — что такое звезды? Огненные шары, подвешенные среди вечной ночи. Картина вроде бы патетическая. Но почему? В силу своей природы? Да нет же — единственно из-за своих размеров. Но сами по себе размеры не очень-то много значат. Разве мазня идиота, перенесенная с листка бумаги на бескрайний простор, перестает быть мазней?
Глупость размноженная — все та же глупость, только еще смехотворнее. Космос — это каракули из разбросанных как попало отточий! Куда ни взглянуть, чего ни коснуться — сплошные отточия! Монотонность Творения представляется мне замыслом самым банальным и плоским из всех, какие только бывают на свете. Ничто в крапинку, и притом бесконечное, — кто бы состряпал конструкцию столь убогую, если бы ее лишь предстояло создать? Разве только кретин. Это надо же — взять безмерные пустые пространства и ставить точку за точкой, наобум, как попало, — ну, где тут гармония, где тут величие? Ты скажешь, Вселенная повергает нас на колени? Разве что от отчаяния при мысли, что уже ничего не поправить. Ведь это всего лишь результат автоплагиата, совершенного в самом начале; само же начало было бестолковее всего, что только можно придумать. Ну, что можно сделать, имея перед собой чистый лист бумаги, в руке — перо, но не имея ни малейшего понятия, чем этот лист заполнить? Рисунками? Но рисунок надо вообразить. А если в голове пустота? Если нет ни капли фантазии? Ну что же, перо, прикоснувшись к бумаге, как бы непроизвольно поставит точку. И в состоянии тупой отрешенности, обычном для творческого бессилия, тот, кто поставил первую точку, создаст узор, впечатляющий только тем, что больше на бумаге нет ничего и без особых усилий можно повторять этот узор бесконечно. Повторять, но как? Ведь точки могут сложиться в какую-нибудь конструкцию. А если и на это ты не способен? При такой немочи остается одно: трясти пером и разбрызгивать чернила как попало, заполняя бумагу случайными крапинками.
При этих словах мудрец взял большой лист бумаги и, обмакнув перо в чернильницу, тряхнул им несколько раз, а затем достал из-под кафтана карту звездного неба и показал ее королю вместе с листом бумаги. Сходство было разительное. На бумаге были разбросаны миллиарды точек, одни покрупнее, другие помельче, поскольку перо иной раз брызгало обильнее, а иной раз пересыхало. И небо на карте выглядело точно так же. Король глядел со своего трона на оба листа бумаги и хранил молчание.
А мудрец продолжал:
— Тебя учили, государь, что Вселенная — это постройка, изумительная до бесконечности, поражающая величием громадных пространств, расшитых звездами. Но взгляни, разве эта почтенная, всеприсутствующая и вековечная конструкция не есть свидетельство крайней глупости, насмешка над разумом и порядком? Ты спросишь, почему никто этого до сих пор не заметил? Да потому, что эта глупость повсюду! Но такая повсюдность заслуживает язвительного, отстраненного смеха уже потому, что смех стал бы предвестником бунта и освобождения. Несомненно, стоило бы в таком именно духе написать пасквиль на Вселенную — чтобы этот продукт величайшей тупости был оценен по заслугам, чтобы отныне его сопровождал уже не хор молитвенных воздыханий, но ироническая улыбка.
Король слушал, застыв в удивлении, а мудрец после минутного молчания продолжал:
— Написать такой пасквиль было бы долгом каждого ученого, если бы не то, что тогда ему пришлось бы коснуться первопричины нынешнего порядка вещей, именуемого Универсумом, которое заслуживает разве что снисходительной усмешки. Начало же этому было положено тогда, когда Безмерность была еще совершенно пуста и лишь ожидала акта творения, а мир, почкующийся посредством небытия из чего-то меньшего, нежели небытие, породил лишь горсточку скученных тел, на которых правил твой прапрапращур Аллегорик. И замыслил он невозможное и безумное дело, а именно: помочь Природе в ее бесконечно терпеливых и неспешных трудах! Решил он, вслед за нею, создать Космос, обильный и полный бесценных чудес; поскольку же сам не сумел бы этого сделать, велел построить наиразумнейшую машину, чтобы поручить это ей. Строили этого молоха триста лет и еще триста — впрочем, время тогда считали иначе, чем ныне. Не жалели ни сил, ни средств, и механическое чудовище достигло размеров и мощи, едва ли не безграничных. Когда машина была готова, узурпатор велел пустить ее в ход, не догадываясь, что, собственно, делает. Машина, по причине его безграничной спеси, оказалась чересчур велика, и потому ее мудрость, оставив далеко позади вершины разума, проскочила кульминацию гениальности и скатилась до полного умственного распада — в косноязыкую тьму центробежных токов, всякое содержание разрывающих в клочья; страшилище это, закрученное спиралью, словно галактика, заработало на бешеных оборотах и растеклось сознанием при первых же невысказанных словах, и из этого якобы мыслящего со страшным напряжением хаоса, в котором громады недоразвитых понятий взаимно упраздняли друг друга, из этих судорог, корчей и столкновений напрасных зародились и начали поступать в послушные исполнительные подсистемы лишь обессмысленные знаки препинания! То была уже не машина, разумнейшая из всех возможных, Всемогущий Космотворитель, но развалюха, плод опрометчивой узурпации, который в знак того, что предназначался для великих свершений, только и мог заикаться точками. Что же потом? Правитель ожидал всесотворения, которое подтвердило бы правоту его замысла, самого дерзкого, какой когда-либо рождался у мыслящего существа, и никто не осмелился открыть ему, что он стоит у истоков бессвязного бормотания, механической агонии монстра, который уже родился полумертвым. Но безжизненные и послушные громадины машин-исполнительниц, готовые выполнить любой приказ, в заданном такте стали лепить из материального месива проекцию точки в трехмерном пространстве, то есть шар; вот так, штампуя без устали одно и то же, пока внутренний жар не распалил вещество, швыряла машина в пустую бездну огненные шары, и в такт ее заиканию возник Космос! А значит, твой прапрапрадед был творцом Мироздания, и он же — автором глупости столь грандиозной, что второй такой никогда не будет. Ведь уничтожение этого выкидыша было бы, конечно, гораздо более разумным поступком, а главное — совершенно сознательным, чего о Творении никак не скажешь. Вот и все, что я хотел рассказать тебе, государь, потомок Аллегорика, зодчего миров.
Когда король распрощался уже с мудрецами, осыпав их милостями, и больше всех — старца, сумевшего разом преподнести ему величайшую лесть и нанести величайшее оскорбление, один из молодых любомудров, оставшись со старцем наедине, спросил, много ли правды содержалось в его рассказе.
— Что ответить тебе? — молвил старец. — Рассказанное мною не из знаний проистекало. Наука не занимается такими свойствами бытия, как смешное и несмешное. Наука объясняет мир, но примирить нас с ним может только искусство. Что мы действительно знаем о возникновении Космоса? Пустоту столь обширную можно заполнить лишь мифами и преданиями. Я хотел, сочиняя миф, достигнуть предела неправдоподобия и был, кажется, близок к цели. Впрочем, ты знаешь об этом и хочешь только узнать, точно ли Космос смешон. Но на этот вопрос каждый пусть отвечает сам.
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg



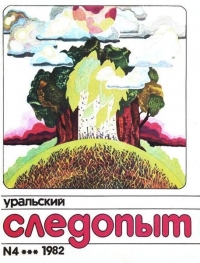
Комментарии к книге «Король Глобарес и мудрецы», Станислав Лем
Всего 0 комментариев