Генри Лайон Олди Герой вашего времени
Рассказы невежественных людей поражают слух. Мудрый удивительного не рассказывает.
Из древнихЧеловек, не имеющий чувства юмора, должен иметь хотя бы чувство, что у него нет чувства юмора.
С. Е. ЛецКоллапс
Тангенциальный коллапсатор изобрел инженер Павел Лаврентьевич Манюнчиков. Не хватайтесь за энциклопедию – в ней не найти Павла Лаврентьевича. Гораздо проще найти его в курилке маленького института «НИИЧТОТОТАМПРОЕКТ», коротающего восемь рабчасов за обсуждением последнего заседания Верховного Совета. А зря, зря не берутся биографы за жизнеописание господина Манюнчикова, ибо был господин Манюнчиков человек обиженный и втайне страдающий.
Надо сказать, что Павла Лаврентьевича обижали все. Его обижали коммунисты («Почему у нас так плохо?!»), а также капиталисты («Почему у них так хорошо?!»), правительство («Умники!»), народ («Дураки!»), начальство («Хам и бездарь!»), сослуживцы («Выскочки и сопляки!»), жена («Стерва безмозглая!»), работники торговли («Жулье!»), работники милиции («Сатрапы!») – и многие-многие другие, полный перечень которых вполне заслуживает упоминания если не в энциклопедии, то уж хотя бы в телефонном справочнике.
И вот как-то раз сидел Манюнчиков в своем совмещенном санузле, неисправный бачок которого лишь усугублял страдательные порывы, и думал, придерживая брюки: «А как хорошо было бы, если бы все они, которые меня обижают, вдруг взяли бы и исчезли к соответствующей матери!.. И, может быть, тогда проявились бы наконец мои выдающиеся способности, талант или – чем черт не шутит? – даже гениальность!..»
И тут неожиданно Манюнчиков ясно представил себе схему. Не сразу он понял, что это такое, но почувствовал всем своим существом, что это нечто очень важное и лично ему крайне необходимое, – и сразу же принялся лихорадочно срисовывать видение, портя импортную женину помаду и разматывая рулон дефицитнейшей туалетной бумаги.
Когда бумага смоталась окончательно, а вместе с ней смоталось и озарение, Павел Лаврентьевич удовлетворенно откинулся на неисправный бачок, оглядел свое творение, ничего не понял и укрепился в мыслях о собственной гениальности.
Вымыв руки и вернувшись в комнату, Манюнчиков вновь предпринял попытку разобраться, что же он все-таки наваял. Получилось нечто среднее между пылесосом, электрошашлычницей и противотанковым ружьем.
Долго сидел Павел Лаврентьевич над детищем своим и уже потихоньку злиться начинал, не находя ему ни объяснения, ни применения, но решил для отдохновения души в журнале научно-популярном порыться, кроссворд поискать. Полистал-полистал, кроссворда не нашел, зато статейку одну обнаружил. Пульсары-коллапсары, дыры разные, черные и белые, тарелки летающие некондиционные – в общем, пришел гений Манюнчиков в волнение страшное, потому как понял суть изобретения своего.
А изобрел Павел Лаврентьевич оружие ужасное, название которому – тангенциальный коллапсатор!
На следующий же день принялся Павел Лаврентьевич за расчеты, потому как без расчетов скрупулезнейших самая замечательная модель у тебя же в руках шарахнуть может и родителя своего же сколлапсировать.
И вот тут-то и выяснились в знаниях Манюнчикова пробелы немалые, а точнее – один большой девственный пробел с редкими оазисами обрывочных и весьма куцых знаний. И от открывшейся истины в расстройстве душевном засел Павел Лаврентьевич в библиотеке – книжки умные читал, выписки делал. А когда заполнился пробел бездонный выписками до середины – приступил товарищ Манюнчиков к сборке аппарата своего, с немалым трудом рассчитанного.
Только вот сослуживцы Павла Лаврентьевича, выскочки и сопляки вышеупомянутые, как-то косо поглядывать на него начали. Да и то сказать – на перекуры не ходит, кроссворды не решает, о заседании последнем и говорить не хочет – совсем, видать, свихнулся человек. Пришлось Манюнчикову в целях конспирации включаться обратно в жизнь коллектива, отчего работа пошла куда медленнее, зато сигареты закончились куда быстрее. Ну да бог с ними, с сигаретами, а только сделал Павел Лаврентьевич модель действующую, сделал все-таки, несмотря на общественную нагрузку, чтоб ей пусто было…
Коллапсатор вышел большой, черный, тангенциальный, работающий на батарейках «Крона». Долго сидел Павел Лаврентьевич на кровати, долго вертел в руках детище свое родимое – и наконец решился. Выставил он мощность (самую малую), прицелился в старый будильник «Чайка» (звонивший на редкость противно) и нажал кнопку.
Загудел слегка коллапсатор, засветился, буркнул что-то невнятное… И исчез будильник «Чайка», исчез со всеми своими семнадцатью псевдорубиновыми камнями!
Павел Лаврентьевич даже рукой провел по пустому столу. Чисто. Сколлапсировал будильник! Ай да Манюнчиков, ай да сукин сын!.. Получилось!.. И тут Манюнчиков, действительно сукин сын, не утерпел.
Сунул он коллапсатор свой за пазуху, квартиру запер тщательно и во двор вышел. Идет по двору Павел Лаврентьевич Манюнчиков и чувствует себя сильным и уверенным. «Теперь, – думает, – кого хошь сколлапсирую. Нету на меня теперь никакой управы, вплоть до милиции, потому как вещественных доказательств аппарат мой не оставляет. Раз – и нет! А на нет и суда нет».
Вот так, думая о разных приятных для себя вещах, дошел Манюнчиков до голубятни в углу двора. А надо сказать, что голубей Павел Лаврентьевич тоже не любил – и за бульканье их глупое, и за окраску несерьезную, и за гнусную склонность гадить куда попало, не исключая и его, Манюнчикову, личность. Так что подошел он к голубятне, по сторонам оглянулся, коллапсатор свой вытащил… Хлоп – и нет голубятни, как и не бывало, со всеми ее гадами пернатыми.
Хихикнул злорадно Павел Лаврентьевич и хотел было дальше направиться, как вдруг услышал за спиной:
– Ах ты, ирод, антихрист окаянный! Что ж ты птичку невинную, божье творение, изничтожаешь?! А ну подь сюды, сто чирьев тебе на седалище! В милицию пойдем…
Обернулся испуганно Манюнчиков и увидел деда-голубятника, коего в сумерках ранее не приметил. Вредный был дед, злопамятный, склерозоустойчивый.
Глянул еще раз по сторонам Павел Лаврентьевич – на этот раз внимательно, – улыбнулся ехидно ругателю-орнитологу – и кнопочку надавил. Раз – и нет деда.
Плюнул тогда Манюнчиков на асфальт и в приятном расположении духа домой пошел.
Утром Павел Лаврентьевич на работу опоздал по причине сколлапсированного будильника. И не просто опоздал, а на целых сорок три минуты. Так что вахтер на проходной аж подпрыгнул от радости и служебного рвения и палец в телефонную дырку сунул – начальству доносить. Посмотрел Манюнчиков – одни они в холле с вахтером. Давно ему, кстати, этот вахтер не нравился, и фуражка его противная, и морды выражение неприятное для глаза, и вообще…
Рванулся подлец вахтер в сторону, но не зря коллапсатор у Павла Лаврентьевича звался тангенциальным, ой не зря! Хлоп – и нет вахтера. А на нет – и суда нет. Пора идти на работу.
В тот же день Манюнчиков подкараулил на лестнице своего начальника – хама и бездаря – и отправил вслед за вахтером. А назавтра пришла очередь и зама – тупицы и чистоплюя, – имевшего неосторожность разогнать в туалете курильщиков, в том числе и Павла Лаврентьевича лично. Хотели еще Манюнчикова в колхоз заслать, но ответственная за колхозы – дура крашеная – запропастилась куда-то, искали ее, искали, не нашли и бросили.
Думал Павел Лаврентьевич и жену свою, Люсю, сколлапсировать, да передумал ввиду некоторой пользы ее существования, в горячих обедах и стираных носках проявляемой. Так что с этим пришлось повременить.
Ну, ясное дело, стал народ вокруг нервничать, слухи поползли разные: дескать, люди куда-то пропадают. Кто международный империализм винит, кто – сепаратистов и номенклатуру, а некоторые, страшно сказать, – самого… Пришлось милицию вызывать. Двух не в меру ретивых служителей порядка Павел Лаврентьевич быстренько сколлапсировал, а остальные сами смылись. По причине отсутствия вещественных доказательств и скудной оплаты героического труда работников органов.
И всем бы доволен был Манюнчиков, но стала к нему закрадываться этакая подленькая мыслишка: «А куда ж все эти, сколлапсированные, деваются? Хоть и подлецы они все, а интересно…»
Снова засел Павел Лаврентьевич за книги да расчеты, еще треть пробела своего с великим трудом засыпал и вывел-таки формулу конечную, вывел, глянул – и ужаснулся, потому как по формуле этой треклятой выходило, что все, кого он сколлапсировал, живы-здоровы, только перешли они все в восемнадцатое измерение, где испытывают неудобства немалые, и ровно через девять дней и шесть часов после факта исчезновения вернутся обратно крайне обозленные – и окажутся в радиусе трех с половиной метров от тангенциального коллапсатора!..
Дернулся Павел Лаврентьевич, на часы взгляд бросил, с воплем к двери кинулся – да поздно было. Грянул гром, ударила молния, противно зазвонил будильник «Чайка» на семнадцати псевдорубиновых камнях, и толстый сизый голубь обгадил весь пиджак гражданина Манюнчикова под радостный вопль ворвавшегося деда: «Хватайте его, ирода, люди добрые!..»
Не ищите в энциклопедии имя Манюнчикова Павла Лаврентьевича. Ни к чему это. И в курилке институтской тоже не ищите, не стоит. Впрочем, если у вас много лишнего времени…
Счастье в письменном виде
В воскресенье вечером Павел Лаврентьевич Манюнчиков получил письмо следующего содержания:
«Письмо-счастье.
Это письмо – подлинное счастье. Находится в Голландии. Оно обошло вокруг света 1000 раз. Теперь оно попало и к вам. С получением этого письма к вам придет удача и счастье. Но с одним условием – отправьте его дальше. Это не шутка. Никаких денег не надо, потому что ни за какие деньги не купить счастья. Отправьте письмо тому, кому вы желаете счастья. Не задерживайтесь с отправлением. Вам необходимо отправить 20 штук в течение 96 часов после получения этого письма.
Жизнь этого послания началась в 1853 году. Артур Саян Даниель получил его и велел секретарше размножить. Через четыре дня он выиграл миллион. Служащий Хорита из Нагасаки, получив это письмо, порвал его и через четыре дня попал в автокатастрофу.
Хрущев получил это письмо, отдыхая на даче в 1964 году. Он выругался и выбросил его в урну. Через четыре дня Хрущева свергли. Ни в коем случае не рвите это письмо, отнеситесь к нему серьезно! Итак, 20 писем в течение 96 часов. Результат – на четвертые сутки после отправления. Желаем счастья!»
Дочитав письмо, Павел Лаврентьевич собрался было последовать пагубному примеру Никиты Сергеевича и служащего Хориты, но тут, после рекламного сообщения, начался третий тур телеигры «Поле чудес», где молодой майор и две агрономши никак не могли получить стиральную машину, угадав последнюю букву в иностранном слове «аборт», – и назойливое письмо мирно упокоилось в глубинах потертых брюк несуеверного Манюнчикова.
Обнаружилось письмо только завтра, на работе, когда Павел Лаврентьевич, зайдя в курилку, полез в карман за сигаретами. Естественно, Манюнчиков не преминул показать послание приятелям, большинство которых отнеслось к нему скептически. Однако Сашка Лихтенштейн из соседнего отдела вдруг заявил, что его теща получила такое же, в отличие от некоторых размножила – и спустя четыре дня умотала наконец в свой Израиль – после чего лично он, Сашка Лихтенштейн, искренне верит в счастье. Манюнчиков глянул в сияющие Сашкины глаза – и его осенило.
Вернувшись в отдел, Павел Лаврентьевич быстро набрал на клавиатуре своей персоналки (кстати, соотечественницы упрямого служащего Хориты из Нагасаки!) текст письма, проверил, нет ли ошибок, – и сбросил текст на принтер. Через восемь минут два десятка экземпляров лежали перед довольным Манюнчиковым.
По дороге домой Павел Лаврентьевич раскидал письма по первым попавшимся почтовым ящикам и с приятным чувством выполненного долга стал ждать заслуженного счастья.
Прошло четыре дня.
Манюнчиков выиграл рубль в лотерею и не поехал в колхоз, так как заболел гриппом. Все вышеуказанные события он приписал действию письма, но, получив еще одно, аналогичное, также отпечатанное на принтере, – не раздумывая, выбросил его в мусорное ведро. И ничего страшного с Манюнчиковым не произошло. Разве что машина грязью окатила, так не через четыре дня, а через неделю!
А персоналочке японской, на которой Павел Лаврентьевич работал, наладчик поставил на место все украденные ранее микросхемы, старый плоттер заменил, а потом кто-то, видимо по ошибке, загрузил импортную суперпрограмму «бой в памяти». И играет она теперь в эту игру с утра до вечера и ни на какие запросы не отвечает.
Счастлива, наверное…
Скрытая проводка
Стихийное бедствие из шести букв, по горизонтали…
– Ремонт! – подсказали сзади, и измазанные спецовки выставили-таки упирающегося Манюнчикова из четвертого по счету кабинета, выставили вместе со стареньким электрочайником и подозрительным ржавым порошком чаеразвесочной фабрики г. Очамчиры. Плюнул Павел Лаврентьевич в сердцах, посмотрел грустно на ботинок оплеванный и пошел искать по институту, где оскорбленному есть чувству уголок. Уголок отыскался на третьем этаже – мирный благодатный оазис среди барханов песка, цемента и известки, с чахлой вечнозеленой пальмой и белым неоновым солнцем пустыни, весело подмигивавшим очарованному Манюнчикову. И вот уже радует глаз связующая нить от греющегося чайника к розетке у самого плинтуса, уже мягкое полудиректорское кресло приняло в объятия свои лучшую из составных частей Павла Лаврентьевича, уже неприступная твердыня кроссворда готова выбросить белый флаг и сдаться победителю по вертикали и по горизонтали…
– Здорово, Манюнчиков! Чаи гоняешь? – В дверях оазиса возник верблюжий профиль Сашки Лихтенштейна из соседнего отдела, скалящийся всеми своими золотыми россыпями. Собственно, хам Сашка исказил, как всегда, родовую фамилию Павла Лаврентьевича, меняя в ней первые буквы по своему усмотрению, но результат получая одинаково неприличный и чувствительно задевавший гордого Манюнчикова.
Подождав реакции на любимую шутку, Сашка шагнул в кабинет и явил себя миру целиком, обнаружив неожиданное сходство с небезызвестным Лаокооном, борющимся с древнегреческими змеями. От небритой шеи до предполагаемой талии на нем был намотан грязный лапшеобразный провод, конец которого исчезал в глубинах Сашкиного организма.
– Директор послал, – трепался Лихтенштейн, приседая на корточки и выдергивая из розетки штепсель многострадального чайника, – сделай, говорит, проводку скрытую, а то скрытности у нас маловато, и про водку слышать тошно, это каламбур такой тонкий, Манюнчиков, про водку-то, только темный ты у нас, и с чувством юмора у тебя, как у директора, даже хуже…
И уснул бы, наверное, Павел Лаврентьевич, уснул в тепле и уюте под болтовню нудную, волнообразную – когда б не пауза длительная, трепачу Сашке не присущая, и не вопль дикий, несуразный, взорвавший Манюнчикову нирвану.
Всклокоченный Лихтенштейн стоял на коленях у стенки и совал отверткой в раскуроченную розетку.
– Ты глянь, нет, ты глянь, Манюнчиков, нет, ты глянь… – бормотал он, тупо моргая рыжими ресницами.
Павел Лаврентьевич склонился над розеткой, последил с минуту за бессмысленными Сашкиными манипуляциями и осведомился об оказании первой помощи человеку, богом обиженному и током ударенному.
Дальнейшая информация, скрытая в монологе неудачливого электрика под шелухой оскорбительных выпадов в адрес Манюнчикова, в очищенном виде сообщала, что к данной розетке никаких проводов не подведено и подведено никогда не было, и если бы не Сашка, то электричество бы здесь и не ночевало, ныне и присно и во веки веков, аминь.
Надоело Павлу Лаврентьевичу сопереживать речи страстной и неуравновешенной, взял он кроссворд недорешенный и вышел вон. А спускаясь по лестнице, вспомнил он чайничек свой верный, к неработающей розетке подключенный, тепло бока его округлого вспомнил – и остолбенел, истину уяснив. И обратно кинувшись через препятствия многообразные, застал Манюнчиков Сашку над чайником склоняющимся и ноздри носа своего породистого, с горбинкой, раздувающим.
– Слышь, Паша, – в дрожащем голосе Лихтенштейна вибрировало неподдельное уважение, – ты гений, тебе Нобелевскую надо, я тару сейчас организую, и мы немного вздрогнем…
На столе обнаружились две синенькие чашки, чайник завис в воздухе, и густо-коричневая струя полилась вниз, наполняя комнату отменным коньячным ароматом, вызывающим светлые воспоминания о белоглавых горах Армении. Манюнчиков медленно приблизился к столу, поглядел на таинственную розетку, на пятизвездную жидкость в чашках…
– Саша, – необычайно торжественно произнес Павел Лаврентьевич, – Саша, я себя уважаю. А ты?..
За пьянство в рабочее время Манюнчиков с Лихтенштейном получили по выговору. Тщетно взывали они к научному мышлению случайно вошедшего начальства, тщетно будили дух просвещения в темных административных умах, тщетно ткнул Павел Лаврентьевич отверткой в предательскую псевдорозетку. Тем более что, пока Манюнчиков размышлял на лестнице, постигая тайны природы, подлец Сашка успел-таки подключить розетку к щитку распределительному, забыв в эйфории поставить в известность соавтора!
Всю последующую неделю ударенный Манюнчиков с Сашкой не здоровался. Здоровью это, правда, особенно не помогало. А в среде институтских уборщиц да сторожей слухи поползли, один другого ужаснее. И передавали тети Маши дядям Васям, что призрак бродит по институту, вздыхает тяжко по ночам и провода у всех розеток на пути своем режет. Кто шаги слыхал, кто проводку потом чинил, а кто и спину привидения, нетвердо прочь шагавшего, видеть сподобился. И в руках порождения адова, краем савана прикрытый, чайничек покачивался, старый, электрический. И нетопыри кружили над гладким черным хвостом с помятым штепселем на конце…
Мифург
…В сыром прокуренном подвале На строгом девичьем овале Глаза, глубокие, как омут, Манят к счастливому концу…В дверь позвонили. Отложил Павел Лаврентьевич ручку в сторону и скрепя сердце в коридор направился, пнув в раздражении вечно путающегося под ногами Жлобного карлика. Тот взвыл от обиды и к ванной кинулся, где и скрылся в грохоте рушащихся штабелей пустых бутылок. Добровольно сдавал посуду лишь услужливый Поид кишечнослизистый, но он был в отгуле, а остальные утверждали, что их приемщик обсчитывает.
На лестничной площадке уже торчала обаятельная вампиресса Лючия и весь выводок ее сопливых вампириссимо.
– Не взяли, – пожала она острыми плечиками, сокрушенно глядя на Манюнчикова, – я же говорила вам, что синьор редактор терпеть не может сложноподчиненных предложений. Миль дьяболо, он в конце забывает, что было вначале!..
Взял Павел Лаврентьевич пакет с возвращенным романом «Белый клык» да понес в комод прятать. Пацаны Лючии радостно запрыгали вокруг него.
– Дядька дурацкий, – вопили они, – ты не Стругацкий, дядька дурак, ты не Карсак!..
Затосковал уязвленный Манюнчиков, рукопись в ящик сунул и с рецензией непрочитанной на кухню побрел, влекомый предчувствиями дурными, редко его подводившими. И действительно, в холодильнике уже хозяйничал пожилой упырь Петрович, дожевывавший в увлечении грабежа последнее колечко колбаски кровяной, базарной, с добрую гадюку в диаметре.
Рядом с ним вертелись чертика два малорослых, Мефя с Тофей, хвостиками крысиными умильно виляя.
– С чесночком, Петрович? – робко верещал Мефя, заискивающе шаркая копытцем.
– С чесночком, – отзывался угрюмый непонятливый Петрович, пуская черные сальные слюни.
– С перчиком, Петрович? – попискивал в возбуждении тощий Тофя.
– С перчиком, – кивал толстокожий упырь, швыряя в попрошаек огрызком колбасной веревки, – нате, повесьтесь, злыдни…
В углу дальнем, хвост к рубильнику подключив, блаженствовал полиголовый Змей Героиныч, рептилия нрава геройского и склонностей нездоровых к топливу любому, от мазута до спирта изопропилового, редкой вонючести – лишь бы горело… На крайней его пасти подпрыгивала шкворчащая сковородка с глазуньей из трех яиц, по яйцу на рыло.
Урезонивание вконец освиневшей компании затянулось, и лишь угроза заточения в «Хирамиду Пеопса», любым издательством отвергаемую по причине малоцензурности, вынудила публику утихнуть, дожевать и заткнуться.
Вернулся Манюнчиков в кабинет, вымарал из рецензии вписанный туда лючийскими сопляками похабный стишок про некрофила и его голубую беби, и головой поник. Было от чего…
А как славно все начиналось! Как хороша, как свежа была проза, как ярок глянец переплета, как злобно косилась рожа инопланетная на фантастическом альманахе, сыну Витальке ко дню рождения купленном… С этого-то момента и изменилась судьба Павла Лаврентьевича, изменилась круто и радикально, еще с полуночи, когда он книжку отложил и решение принял. Осталось лишь ампул для авторучек прикупить, бумагой форматной запастись да псевдоним гордый в муках выносить – «граф Манюнчиков» (фамилия родовая, титул же – для значимости, и в честь тезок любимых литературных – Монте-Кристо и Дракулы).
Правда, первая же редакция умудрилась все переврать, и рецензия на возвращенный рассказ «Бутерброд с соленой и красной» начиналась издевательски серьезно: «Уважаемый Графоман Юнчиков! Сообщаем Вам…» – после чего зарекся Павел Лаврентьевич к фамилии своей графский титул приписывать…
Вот тогда-то и объявился в квартире Манюнчикова Петрович, упырь лет пенсионных, главный герой «Бутерброда», объявился и уйти не пожелал.
– Пошел вон! – в сотый раз указывал на дверь разъяренный Манюнчиков.
– Да не могу я вон идти! – Желтые прокуренные клыки жалобно скалились в умоляющей гримасе. – Я ж теперь прописан у вас…
– То есть как это? – растерянно сдавал позиции Павел Лаврентьевич. – Кто это тебя сюда прописывал?
– Как – кто?! Вы же сами и прописали, – сипел гость, пачкой листков замусоленных помахивая. – Так что вместе проживать будем. Пока не выпишете.
«Добре, сынку, – пригрозил кровопийце возмущенный Манюнчиков, – я тебя прописал, я тебя и выпишу!» Но многочисленные редакции, выгоды своей не сознавая, упрямо возвращали шедевры новорожденные, плодя все новых субъектов прописки, на жилплощадь претендующих.
Первой не выдержала жена и, прищемив хлопнувшей дверью хвосты сунувшихся было мирить Мефи с Тофей, ушла вместе с сопротивляющимся Виталькой к йогу Шри Прабхупада Аристархову, давно звавшему разделить его нынешнее вегетарианское перерождение. Вторым пострадал соседский сенбернар Шарик, не по натуре злобствующий и осмелившийся повысить голос на Гнусняка Крылоухого из повести «Грустный динозавр Кишок». Ответный рык высунувшегося в окно стомордонта вульгарис, гнуснячьего приятеля и симбионта, породил в агрессоре лохматом такой комплекс неполноценности, что на потерявшем голос Шарике поседели последние рыжие пятна.
Ну а когда антисемит Петрович сцепился в присутствии домоуправа с озверевшим вервольфом Фишманом, крепко осерчавшим на кличку «кобель несытый», то с легкой руки разнимавшего антагонистов спартанца Мегаамнона и прилипло к Павлу Лаврентьевичу прозвище Мифург, обидное и малоприятное.
Если, конечно, справиться в энциклопедии, то это всего-то навсего творец мифической действительности, но произнесите это слово вслух, на языке покатайте, на себя примерьте – и вы поймете душевную дисгармонию Манюнчикова Павла Лаврентьевича, беспартийного, литератора, мифурга. Тьфу, пакость-то какая!..
А вреднее прочих зеленые были, с бластерами, из «Эпсилона Буридана». Лезут, подлецы, из всех тарелок, пищат возмущенно не по-нашему – однако же понятно для русского человека! – и требуют дописать к ним незамедлительно часть вторую, «Буриданов мосол», их способы размножения, в отличие от первой, не порочащую, а в случае отказа грозятся конфликт учинить, со стрельбой и порчей мебели. Хотя и сами бы рады по-хорошему, да не могут – так они, альдебараны ушастые, устроены.
Пробовал Манюнчиков к реализму обратиться, стихи писал, про подвалы и овалы, втайне надеясь на появление в доме замены жены ушедшей, – но тщетно. То ли рифмы подводили, то ли реализм проклятый нежизнеспособен оказался, но как была вокруг Павла Лаврентьевича, по образному выражению иностранца Фишмана, «ист дас дер пролочь своклятая», так и осталась.
И до того дело дошло, что в рецензии последней среди прочих оскорбительных выпадов и такой обнаружился: «…и к тому же непонятно, почему убитый в последней главе вампир женится в послесловии на не упоминавшейся ранее принцессе?!»
С тяжелым предчувствием перелистал Манюнчиков исчерканную рукопись – и обнаружил эпилог новоявленный, корявым почерком Петровича дописанный, о принцессе через «ы» и с одним «с», зато с голубыми глазами.
Затрясся вурдалак проклятый, посинел в ответ на возмущение авторское справедливое, но пера не бросил, заявив о видении своем неординарном, и в пример Говарда с Гоголем привел: мол, не чета всяким…
А там, глядишь, и Властелин Черного Круга бьет стомордонту пятую, тридцать седьмую и девяносто первую морды за аббревиатуру ВЧК, ему не глянувшуюся, Лючия метафору на зубок коренной пробует, а шпана ее Героиныча оседлала и вписывает цельный эпизод похождений Василиска Прекрасного в любимую Манюнчикову повесть для детей «Конец Добрыни Никитича». А дурень многоголовый бензином подфыркивает, недоросткам вторя: «Тили-тили, трали-вали, сам сиди в своем подвале, тили-тили-тесто, там тебе и место!»
И конца-краю не предвиделось злоключениям Павла Лаврентьевича, потому как бросить писать он уже не мог, засосала стихия, да и на ранее прописанных оно все равно бы не повлияло, – как вдруг… Ох уж это «вдруг»! Сколько раз швырял Манюнчиков его спасательный круг гибнущим героям, а тут и самому вцепиться довелось. После никак не мог вспомнить – то ли сначала пришел типовой договор на забытую новеллу «Волка ноги кормят» (с просьбой уточнить, чьи именно ноги), а уж после пропажа Фишмана обнаружилась, то ли сначала вовкулак смылся, а договор только вечером принесли…
Так или иначе, но повернулась к Павлу Лаврентьевичу фортуна местом надлежащим, и с каждой новой подписью под очередным договором пустела квартира малогабаритная.
Ушла, выписалась верная Лючия, стихли дразнилки детишек зубастых, хвосты чертячьи не мельтешат под столом, улетел змей неведомо куда, и космический разбойник Трофим улетел, и сенбернар Шарик скулит под дверью, не чуя привычных запахов серы, мяса и дешевого портвейна…
И плесневеет колбаса, которой добрый Фишман подкармливал местных хиппи, воя с ними на луну и защищая тихих лохматиков от хулиганья и милиции…
Последним ушел Петрович, покаявшийся перед уходом и удостоверение новенькое показавший, где синим по белому написано было: «Вампырь Е. П., генеральный директор издательской компании „Интеркол“. Добился-таки своего Петрович, добился, хотя и осунулся, похудел, побледнел – много кровушки попили из него исполкомы, типографии, заводы бумажные, да и мало ли их, до нашего брата охочих!..
Как же много места жилого оказалось у Павла Лаврентьевича, и деньжата завелись, и автографы давать приходилось, а счастья не было. Пробовал Манюнчиков к реализму обратиться, стихи писал, но заклинило его… «В сыром прокуренном подвале на строгом девичьем овале…»
И все. Не пошла лирика, отказал реализм, утихло в квартире. Хорошо стало, свободно, тихо. Как в могиле.
Манят, засасывая в омут, Зовя к счастливому концу…И тут решился Павел Лаврентьевич и ручку покрепче ухватил.
…Зовя к счастливому концу, — И кровь текла по боковому, Еще молочному резцу!Дописал, адрес редакционный на конверте вывел и на почту бросился с улыбкой радостной на просиявшем лице. Авось не примут…
Недостающий компонент
От предка чубатого, куренного кашевара Лаврентия, унаследовал Манюнчиков Павел Лаврентьевич многие фамильные склонности. В частности, счастье для Манюнчикова состояло из трех основных компонентов.
Во-первых, испытывал Павел Лаврентьевич тягу неодолимую к горилке с перцем, которую сам же на стручках огненных и настаивал, государству в деле этом важном справедливо не доверяя.
Во-вторых, после стартовой стопки двигал умиленный Манюнчиков к душе поближе миску с пузатыми варениками, горячими еще, и чтоб сметана обязательно…
А вместо третьего, решающего компонента, речь о котором после пойдет, пришлось Павлу Лаврентьевичу к телефону брести, и звоном погребальным отдалось услышанное в гулких сводах Манюнчикова черепа: «Командировка… Срочно… Бекдаш… Химзавод…»
Вот почему в единственной полутораэтажной гостинице Бекдашского райисполкома (по причине сгоревших лампочек мутировавшего в «РАЙ И К°») – вот почему на продавленной никелированной койке лежал небритый гражданин, чем-то похожий на Манюнчикова Павла Лаврентьевича; и спал гражданин если не как убитый, то уж наверняка как тяжелораненый.
О, Бекдаш! Сады твои полны жасминовым ароматом, озера твои манят голубой прохладой, чинары твои…
Впрочем, несмотря на слог Востока, где любой сапожник красноречивей Цицерона, честно признаемся: ни садов, ни озер, ни тем более чинар в Бекдаше не наблюдалось. А были там чахлые акации, вездесущий, лезущий в глаза и рот песок и книги в свободной продаже по давно забытой государственной цене.
Книг на русском здесь почти не читали, да и в разговорах многие старались обходиться лишь самыми необходимыми русскими словами, редко попадающими в печатные издания. Потому-то и удалось Павлу Лаврентьевичу, погрузившемуся в полумрак книжного магазинчика местного издательства «Еш Гвардия», приобрести несколько томиков дефицитных, в том числе и сюрреалистическую поваренную книгу – с реализмом картошки и сюром семги свежекопченой.
Сунул довольный Манюнчиков в урну нагрузку рублевую – три брошюры «СПИД – чума человечества» – и на базар отправился.
Ах, рынок Востока!.. Просим прощения – вах, базар Востока! Прибежище и Дворец культуры правоверного, где розы алее губ красавицы, дыни желтее щек скупца, шашлык нежнее пальцев карманного вора, а цены выше самаркандского минарета…
Так бы и ходил ослепленный Павел Лаврентьевич меж рядами, распустив павлиний хвост любопытства, – но, к неудовольствию своему, обнаружил он позади эскорт непонятный, в виде тощего туземца с хитрой азиатской рожей, на которой красовался чужеродный европейский нос, острый и длинный.
Ох и не понравился тощий «хвост» свободолюбивому Манюнчикову, да и в гостиницу пора было возвращаться. Глянул Павел Лаврентьевич на часы свои дедовские, старинные, фирмы «Победа», – глядь, а туземец уже тут как тут, рядом стоит, носиком крысиным шмыгает и на часы смотрит с жадностью.
– Дай часы, – неожиданно с детской непосредственностью заявил абориген.
– Половина пятого, – машинально ответил Манюнчиков и устремился к выходу.
Субъект заколебался, потоптался на месте – и снова тенью пристроился за спиной Павла Лаврентьевича.
«Тьфу ты, напасть какая!» – огорченно подумал Манюнчиков, пытаясь обогнуть трех местных жителей, торговавших в базарных воротах. Этот маневр не удался ему с первого раза, равно как со второго и с третьего. Уголовная компания прочно загородила дорогу, и центральный Илья Муромец попытался сложить части помятого лица в дружелюбную гримасу.
– Слышь, мужик, ты б часы-то отдал, – отвязал наконец центральный верблюда своего красноречия.
– Фиг тебе! – не остался в долгу Павел Лаврентьевич, подтвердив сказанное «министерским» кукишем.
Агрессоры замялись.
– Ты б не ругался, а? – виновато просипел собеседник Манюнчикова. – А то мы тово…
– Чего – тово? – неожиданно заинтересовался крайний, до того молчавший.
– Ну, тово… – в раздумье протянул Муромец. – Значит, то есть не этово…
– Нет, ты уж разъясни! – не уступал любопытный напарник.
– Да чего там разъяснять?.. Тово, и все…
Надоела Павлу Лаврентьевичу беседа эта содержательная, обогнул он спорящих и в гостиницу направился. Шагов сто пройдя, обернулся Манюнчиков – и тощего туземца увидел, к спору подключившегося. Носатый обильно жестикулировал – видать, взволновала его проблема обсуждаемая. Пожал плечами Павел Лаврентьевич, на часы еще раз глянул – и побрел восвояси.
День следующий прошел в трудах. Унылый Манюнчиков сидел над поломанным аппаратом «зозулятором», прозванным так в честь изобретателя Зозули, ничего про аппарат этот не зная, кроме вышеуказанной информации. Техническая документация дела отнюдь не прояснила, и после пятой попытки прочесть справа налево вывеску «ПО Карабогазсульфат» ушел Манюнчиков с химзавода, преисполненный сознанием честно не выполненного долга.
От завода до городка было километра полтора. Шел Павел Лаврентьевич, шел, на барханы поглядывал, сигаретку курил – и высмотрел-таки в пустыне близлежащей девушку странную, в песках этих гнусных травки собирающую – хотя травкам-то здесь никак не место было.
Сорвала девушка очередную верблюжью колючку, в пальцах помяла, понюхала и к Манюнчикову направилась. Подошла и говорит тихо:
– Здравствуйте, Павел Лаврентьевич.
– Салам-алейкум, – ответил Манюнчиков, начиная привыкать к чужим дурацким вопросам и своим дурацким ответам. После постоял и, чтоб болваном полным не выглядеть, осведомился: – А откуда, собственно, вы меня знаете?
– Да уж как не знать, – улыбнулась девушка. – Вы ведь избранник, вам в новолуние могут открыться Врата Третьей Сферы.
– Не могут, – уверенно заявил Павел Лаврентьевич. – Я в командировке.
– Могут-могут, – пресекла девушка попытку Манюнчикова увильнуть от ответственности. – Непременно откроются, и вы войдете в Обитель Счастья. Держите. – И протянула пыльный крохотный букетик.
– Спасибо, – сказал Манюнчиков, вертя подарок в руках. – Очень приятно.
– А это не для приятности, – как-то очень невежливо прервала его девушка, – травки эти вас по Сферам проведут. Чекмет – по первой, зира – по второй… А третью травку вы сами найдете. Знак подскажет. – И пальчиком тоненьким на часы дедовские указала.
Вот этот-то жест и вывел Павла Лаврентьевича из состояния лирического. Руку отдернув, попрощался он сухо да прочь пошел.
Букетик, однако, не выбросил. В карман сунул.
А в номере гостиничном обнаружил удивленный Манюнчиков давешних базарных витязей, всей троицей игравших в нарды с тощим и носатым. Справедливое возмущение хозяина узрев, повскакали интервенты с койки и в шеренгу по одному перед Манюнчиковым выстроились.
– Прощения просим, Павел Лаврентьевич, – смущенно забасил Муромец, – ты уж не серчай… Мы вчера тово…
– A сегодня – этово! – встрял в разговор носатый, неизвестно откуда извлекая пару бутылок водки, и палку колбасы копченой, и балыка кусок изрядный, и…
…Через пару часов все хлопали друг друга по спине, пили уж совсем непонятно чье здоровье и сыпали анекдотами, один другого смешнее и неприличнее. Новые бутылки возникали на столе, новые бутерброды исчезали в животах, и уже заваривал Павел Лаврентьевич чай, сунув туда для запаха подаренную девушкой травку чекмет, – но тут глянул он случайно на левую свою руку и обомлел. Ловкие пальцы тощего пытались справиться незаметно с хитрой застежкой ремешка, а все остальные внимательно следили за паскудными манипуляциями приятеля, и морды их блестели от усердия…
Ох и вскипел уязвленный Манюнчиков и перст указующий к двери простер:
– Вон! Все во-о-о-он! Жулье! Дармоеды окаянные! Все вон!!! Навсегда! На веки веков!
И заваркой дымящейся плеснул на всполошившихся аферистов.
Заклубился пар, потянуло крепким мятным запахом, и в пряных клубах исчезли «витязи», номер, гостиница… Последним исчез лично Манюнчиков Павел Лаврентьевич.
…Барханы текли, переваливались, оплывали ленивыми желтыми струйками, а на одном из барханов сидел Павел Лаврентьевич и ожесточенно щипал себя за руку. Когда рука окончательно опухла и посинела, а окружающий бред окончательно отказался исчезать, поднял Манюнчиков глаза к равнодушному небу и возопил: «За что?!»
– Не кричите, – ответило небо. – И не задавайте риторических вопросов. Вы в Первой Сфере. Так что сидите и наслаждайтесь.
Тут из-за бархана девушка утренняя вышла и улыбнулась мягко ошалевшему Павлу Лаврентьевичу.
– Девушка, милая, родная, – кинулся к ней Манюнчиков, – я же в командировке, мне обратно надо… Что ж это такое вокруг-то, а?
– Желание ваше, Павел Лаврентьевич, желание ваше сокровенное. Вы же хотели, чтобы все вон и непременно на веки веков? Теперь довольствуйтесь результатом. Вы хотели быть один – здесь вы один.
Вот только стояла девушка – и нет ее, рассыпалась песчинками, закружилась в налетевшем ветре… Тихо, спокойно вокруг. Безлюдно.
Сел Павел Лаврентьевич на песок горячий, сигареты достал, а с сигаретами и травка зира из кармана выпала. Чекмет-то мятный в чайнике остался, а зира – вот она лежит и сильно на коноплю банальную смахивает. Подумал Манюнчиков, подумал, анашистов бекдашских вспомнил – и, не мудрствуя лукаво, сунул зиру в сигарету да за спичками полез.
«Нет уж, чтобы все вон – это я перестарался, – размышлял Павел Лаврентьевич, спичкой чиркая и затяжку глубокую делая. – Надо, чтобы все были. Правильно, пусть они все будут, и я их всех…»
Додумать такую приятную мысль Манюнчикову не удалось. Травка зира ярко вспыхнула, густой дым окутал притихшие барханы, и в его аромате растворились пески, солнце, спичка сгоревшая… Последним исчез лично Манюнчиков Павел Лаврентьевич.
…Голова была трезвая и соображала на редкость быстро. Только ничего хорошего эти соображения не несли, поскольку над Павлом Лаврентьевичем завис здоровенный топор на невообразимо длинной рукоятке. За рукоять держался толстогубый ухмыляющийся негр, до боли похожий на базарного витязя, разве что перекрашенного. Его вопящие приятели уже спешили к месту происшествия, держа в руках… Даже в кино не видел Манюнчиков подобного железа, но в назначении его ни на секунду не усомнился.
Отшатнулся в сторону Павел Лаврентьевич, руками взмахнул испуганно – а в рученьке-то правой, деснице богатырской, меч-кладенец оказался, острый да тяжелый. Покатилась под откос голова черная, белками вращая и бормоча ругательства в адрес героического Манюнчикова. И грянул бой! Свистел меч, волоча за собой спотыкающегося Павла Лаврентьевича, летели недруги в разные стороны, сшибая с ног змеев многоглавых, уж совсем невесть откуда взявшихся, кровь лилась рекою, и вороны слетались на близкую поживу…
О поле, поле, кто тебя усеял мертвыми костями? Наивный вопрос! Конечно же, Манюнчиков Павел Лаврентьевич, гордо оглядывающий плоды труда своего непомерного.
Однако пора было уходить, уходить на поиски выхода из сфер этих назойливых, где ни людей приличных, ни гостиницы, ни командировочных не наблюдалось. Обернулся усталый Манюнчиков, глядь – три дороги перед ним, и камень на распутье, мхом поросший. А на камне крупными печатными буквами написано: «Направо пойдешь – головы не сносить! Налево пойдешь – сносить, но не головы! Прямо пойдешь – …» Последнее было аккуратно затерто, и внизу имелась приписка: «Не ходи, Павел Лаврентьевич, на кой ляд они все тебе сдались?!»
Остановился Манюнчиков в раздумье, нацарапал на камне мечом: «Здесь был Паша», подумал еще немного, исправил «Пашу» на «Павла Лаврентьевича» – и обратно повернул: не по душе ему предлагаемый ассортимент пришелся.
И почти сразу увидел дракона, невинно убиенного, игравшего в нарды со всей базарной компанией, а рядом девушка знакомая стояла, и все они дружно орали Манюнчикову: «Паша, не уходи! Не бросай нас, Павел Лаврентьевич! Возвращайся, еще подеремся!»
Опустился обессиленный Манюнчиков в пыль осевшую, на часы дедовские машинально глянул и царапину свежую на руке обнаружил. Сорвал он лопух придорожный да к руке под часами и приложил – кровь унять.
Всполошились прилипалы рыночные, кинулись к Павлу Лаврентьевичу – да куда им поспеть-то! Вспыхнул рубиново циферблат «Победы», туча лохматая небо заволокла, и в наступившей тишине предгрозовой скрипуче прозвучал девичий голос: «Поздно. Он нашел последнюю траву. Теперь избранник войдет в Обитель Счастья, а вам всем – шиш с маслом, лопухи придорожные!»
…И, в частности, счастье для Манюнчикова состояло из трех основных компонентов.
Во-первых, испытывал Павел Лаврентьевич тягу неодолимую к горилке с перцем, которую сам же на стручках огненных и настаивал, государству в деле этом важном справедливо не доверяя.
Во-вторых, после стартовой стопки двигал умиленный Манюнчиков к душе поближе миску с пузатыми варениками, горячими еще, и чтоб сметана обязательно…
А после брел Павел Лаврентьевич к телефону и с ликованием сердца слушал голос шефа, отменявший командировку в Бекдаш и сообщавший, что вместо Манюнчикова в пески туркменские отправится Сашка Лихтенштейн, разгильдяй и тупица, ни в какое сравнение не идущий с трудолюбивым Павлом Лаврентьевичем…
Вернулся Манюнчиков к столу, вторую стопку налил, вареник вилкой уцепил и физиономию Сашкину так ясно представил, вытягивающуюся в предвкушении аэропорта, автобуса, жары, «зозулятора» поломанного…
И понял Павел Лаврентьевич, что именно этого, решающего компонента и не хватало ему до полного блаженства. Посмотрел он на часы дедовские с остановившимися стрелками, хотел было завести их, да передумал – и время остановилось в Обители Счастья…
Синдром Кассандры
…Если бы вы ведали то, что ведаю я, то перестали бы смеяться и много бы плакали…
Коран, сура 16, аят 3Мироздание относилось к Павлу Лаврентьевичу приблизительно так же, как и его жена Люська. Обычно когда Манюнчиков стоял уже в дверях, за пивом собравшись, то немедленно требовалось выносить мусор и выбивать ковер; а когда в жизни Павла Лаврентьевича наклевывалась рыбалка, опять же с перспективами крупного возлияния, – то гримасы мироздания неизменно выражались в осадках, командировках и прочих несуразностях.
Видимо, из-за непокладистого мироздания и упрямой спутницы жизни и стал мутировать гомо сапиенс Манюнчиков, подтверждая догадки сэра Чарлза Дарвина и неприятно удивляя друзей и знакомых. А удивляться было чему, ибо проявился в Павле Лаврентьевиче некий дар, людям вообще-то мало свойственный и к последствиям разнообразным приводящий.
Начало событиям положил черный кот Вячеслав Николаевич, обитавший на помойке и нагло перебежавший дорогу спешащему Манюнчикову. Остановился Павел Лаврентьевич, на проходимца лишайного глянул – и вдруг понял, что не жилец кот на белом свете, ну не жилец – и все тут!.. Да и Вячеслав Николаевич занервничал, хвост грибом ядерным распушил и чесанул от пешехода подозрительного через дорогу, а на дороге-то грузовик, а за рулем-то веселый парень Владик, размечтавшийся с устатку о подружке вчерашней, с вот такими…
Вот этот-то визг тормозов, оборвавший антиобщественное бытие черного короля помоек, определявшее его же антиобщественное сознание, – он и ознаменовал в жизни Павла Лаврентьевича новую прелюбопытнейшую веху.
Пришел Манюнчиков на работу, а там у шефа в кабинете встреча деловая, и сам шеф сияет, как свежепокрашенный, втирая очки наивным импортным бизнесменам на предмет купли некоего аппарата, лично шефом сконструированного и любые реки на чистую воду выводящего.
Глянул Павел Лаврентьевич на кивающего азиата в пиджаке от Кардена и с телевизором на запястье, глянул – и понял, что не возьмет раскосый шефово детище, ну ни за какие коврижки отечественного производства.
Отвел Манюнчиков начальство в сторонку, мнение свое изложил, ответное мнение выслушал, подавился инициативой и дверь за собой тихо прикрыл. А назавтра выговор схлопотал, с занесением и устным приложением, за срыв договора важнейшего и пророчества вредные, работающие врагам нашим на руку, кольцами да часами увешанную.
Только беда одна не ходит, и, когда Манюнчиков домой возвращался, пристали к нему хулиганы. Стоят на углу могучей кучкой: эй, кричат, дядька, дай сигарету!.. Дальше – больше, слово за слово, и двинулся наконец атаман на укрощение строптивого дядьки Павла Лаврентьевича. Глянул на него Манюнчиков – и сразу все понял. «Не подходи, – умоляет, – не подходи, пожалей себя!..»
Да куда там, разве атаман послушает… Взял гроза подворотен крикуна за грудки, к стенке прислонил для удобства, а стена-то дома пятиэтажного, а на крыше-то каменщик Василий трубу кладет, и хреновый он каменщик-то, доложим мы вам, кирпича в руках – и то удержать не может…
Одернул Манюнчиков куртку и прочь пошел от греха подальше. Хоть и предупреждал он покойного, а все душа была не на месте.
И пошло-поехало. Отвернулись от Павла Лаврентьевича друзья, потому что кому охота про грядущий цирроз печени да скорую импотенцию выслушивать; жена ночами к стенке и ни-ни, чтоб не пророчил о перспективах жизни совместной; на работе опять же одни неприятности, – так это еще до предсказаний судеб начальников отделов, судеб одинаковых и одинаково гнусных…
Пробовал Манюнчиков молчать и три дня молчал-таки, хотя и зуд немалый в языке испытывал, а также в иных частях тела, к пророчествам вроде бы касательства не имеющих, – три дня, и все коту Вячеславу под хвост, потому как подлец Лихтенштейн при виде душевных терзаний коллеги взял да и спросил с ехидством: «Ну что, Паша, скоро заговорит наша валаамова ослица?!»
Глянул на эрудита взбешенный Манюнчиков, и «Типун тебе на язык!» сам вырвался, непроизвольно. Не поверил Сашка, улыбнулся, в последний раз улыбнулся, на неделю вперед, по причине стоматита обширного, от эрудиции, видимо, и образовавшегося…
И вот однажды сидел удрученный Павел Лаврентьевич в скверике, думу горькую думая, а рядом с ним старичок подсел, седенький такой, румяный, бодрый еще, – и изложил ему Манюнчиков неожиданно для себя самого всю историю предсказаний своих несуразных и бед, от них проистекающих.
Не удивился старичок, головкой кругленькой покивал и говорит: «Ничего экстраординарного я у вас, голубчик, не наблюдаю, обыкновенный синдром Кассандры, и все тут».
Хотел было Манюнчиков обидеться, но сдержался, и правильно, потому как изложил ему академический старичок и про пророчицу Кассандру, в древней Трое проживавшую, и про проклятие Аполлона, за треп несвоевременный на нее наложенное, так что в предсказания ее никто не верил, хоть и правду вещала Кассандра, только неприятную весьма, даже для привычного эллинского слуха неприятную…
А в конце лекции своей подал старичок надежду вконец понурившемуся Павлу Лаврентьевичу.
– Вы, – говорит, – людям дурное пророчите, вот они вам и не верят, ибо человек по натуре своей оптимист. Тут, голубчик, связь причинно-следственная имеется: вам не верят, а оно сбывается. Вот и найдите кого-то, кто в слова ваши поверит, – глядишь, оно тогда и не сбудется, и вздохнете вы с облегчением…
Сказал, встал с лавочки и к выходу направился. Поинтересовался Манюнчиков, откуда старичок столь осведомленный образовался, а тот и сам признался: дескать, и у него синдром, только другой, имени маркиза какого-то заграничного.
Порылся после любопытный Павел Лаврентьевич в энциклопедии и отыскал там маркиза оного, де Садом именуемого, а заодно и о происхождении садизма вычитал, – то есть совет советом, а убрался он из скверика крайне своевременно.
Полный список людей, не поверивших Павлу Лаврентьевичу и за неверие свое пострадавших, мы приводить решительно отказываемся по причине дороговизны бумаги, а также полного единообразия последствий. Особый интерес вызывают разве что сотрудники иностранных консульств в Занзибаре, так до конца своего и не уверовавшие в возможность конвенции о каннибализме, да заезжий английский миллионер, собравшийся было завещать Манюнчикову все свое состояние, но вовремя раздумавший, при предвещании грядущих неудач в гареме разорившегося шейха арабского…
Ну кто мог знать, что стоящая рядом блондинка – не секретарша пожилого греховодника, а жена законная, почище ревнивой Люськи?! И напрасно дипломатичный Павел Лаврентьевич разъяснял ей на пальцах, что гарем еще только имеет место быть купленным, – хорошо хоть местные сопровождающие по шее не дали, из апартаментов выводя, пожалели убогого…
А старичка советчика Манюнчиков встретил как-то в скверике памятном, где академик приглашал к себе на чашку чая молоденькую девицу с немного вдавленной переносицей, даму, однако, не портящей, а дедушку возбуждающей.
Умный был старичок, начитанный, а и он не поверил Павлу Лаврентьевичу, хотя здесь и синдрома кассандровского не потребовалось – девочку эту Манюнчиков видал ранее, в городском Дворце спорта видал, на турнире по фулл контакт карате, и представление о ее женственности имел изрядное.
Не поверил старичок и теперь жалеет небось, да и как не жалеть, когда колясок инвалидных в продаже нет, а без них со сломанным позвоночником до скверика не добраться…
…Шло время, и отчаяние овладело вконец обессиленным Манюнчиковым. И в полной тоске стоял он как-то в очереди за колбасой, сам себе пророча, что не хватит, и сам себе не веря. Стоял и слушал одного голодного оптимиста, вещавшего озверелым любителям колбасы о временных трудностях, после которых все будет гораздо лучше.
Глянул на оратора Павел Лаврентьевич, глянул – и все понял.
– Лучше? – скептически ухмыльнулся пророк. – Лучше не будет.
Очередь затихла, и в тусклых глазах появилось новое, незнакомое выражение.
– Не будет лучше! – бросил Манюнчиков в звенящую тишину, и люди послушно потянулись к нему. – Не будет лучше! – И стены гастронома замерли в ожидании. – А будет мор и глад, и град огненный, и всадник бледный со взором горящим, имя которому Смерть, и мука неслыханная будет тому, кто не свернет с широкой дороги греха на узкую тропинку покаяния, и живые позавидуют умершим, когда…
Его слушали.
Ему верили.
Кажется, он приобрел новый синдром.
Страшные сны Павла Лаврентьевича
Однажды философу Чжуанцзы приснилось, что он – бабочка. Проснувшись, философ долго не мог сообразить, кто он: философ, которому приснилось, что он – бабочка, или бабочка, которой приснилось, что она – философ.
1
И приснился Павлу Лаврентьевичу Манюнчикову страшный сон.
Будто стоит он один на вершине Кавказа, и не то чтобы стоит, а прямо-таки висит, цепями к скале прикованный; и не то чтобы один, а в компании с каким-то крупным пернатым, обладателем хитрой морды и клюва ланцетообразного.
Посидел орел этот, посидел, под мышкой почесался, нахохлился и говорит:
– Здравствуйте, дорогой Павел Лаврентьевич! Как дела, как здоровье?
– Здравствуйте, – отвечает висящий Манюнчиков с присущей ему вежливостью, – дела, в общем, ничего, здоровье тоже, печень вот что-то пошаливать стала, надо бы сходить провериться…
– Так чего ж далеко ходить? – удивляется стервятник. – Прямо сейчас и проверим!..
И клюв свой поганый нестерильный между ребер и засовывает.
Хотел было Манюнчиков послать хирурга самозваного к его орлиной матери, да глянул поверх крыла на пейзаж – и видит, что идет внизу по горному серпантину здоровенный мужик, в шкуру львиную завернутый, и тащит мужик на плече дубину, лук и еще разные предметы, неведомые энциклопедическому разуму Павла Лаврентьевича.
Увидел путник, как подлец орел безвинного человека тиранит, сорвал лук тугой, прицелился тщательно и тетиву спустил.
Запела стрела, взвилась в воздух, и все было бы хорошо, если б не орел паскудный, за секунду до выстрела улетевший.
И когда зазубренный наконечник, смоченный в лечебном яде лернейской гидры, вошел в многострадальную печень Манюнчикова, – рванулся в негодовании Павел Лаврентьевич, лопнули цепи – и спрыгнул он на дорогу.
И это был последний подвиг Геракла и первый подвиг национального героя Эллады Манюнтия Сиракузского.
2
…И приснился Павлу Лаврентьевичу Манюнчикову страшный сон.
Будто сидит он в замкнутом помещении, на квартиру панельную малогабаритную похожем, и если что и смущает Павла Лаврентьевича, так это непривычная вогнутость стен, медью отливающих, и шаровары синтетические, чувствительный Манюнчиков зад натирающие.
А прямо над головой Павла Лаврентьевича два голоса бубнят – соседи, видать, ссорятся. Первый этаким плаксивым тенорком молит, чтобы дядя его откуда-то вытащил – по всему видно, влип шалопай в историю, а дядин бас требует, чтоб племянничек ему сначала лампу передал, – тоже тот еще дядя попался!..
Надоело Манюнчикову пререкания их слушать, огляделся он вокруг и швабру в углу обнаружил. Стал Павел Лаврентьевич шваброй в потолок стучать, чтоб заткнулись ироды, – а те и впрямь примолкли, пошептались и давай чем-то шершавым по потолку елозить. Трут и трут, во всю Манюнчикову акустику.
Не выдержал Павел Лаврентьевич, швабру прихватил и наружу выскочил.
И Алла-ад-дин ибн-Хасан Багдади так никогда и не женился на царевне Будур. На ней женился Ман-ан-Нюнч ибн-Лаврентий аль-НИИШапури.
3
…И приснился Павлу Лаврентьевичу Манюнчикову страшный сон.
Будто расположился он на природе, в развилке огромного дуба, и шашлыки жарит. Птички в листве щебечут, букашки в коре шебуршат, зелено вино в речке охлаждается, жены назойливой на сто поприщ не наблюдается – рай, да и только!
И въезжает в Манюнчиков Эдем на добром коне некий субъект, поперек себя шире, и ноздрями обросшими шевелит, к запаху мяса в уксусе принюхиваясь.
Направляет детина клячу свою к дубу, и ни тебе «здрасте», ни тебе «до свиданья», а сразу, со славянской прямотой:
– А засвисти-ка ты, собака, по-соловьему!..
– Езжай, езжай, детинушка, бог подаст! – отозвался было миролюбивый Павел Лаврентьевич.
Ан нет! – не слушает его приезжий, знай свое долдонит:
– А зареви-ка ты, собака, по-звериному!..
Смотрит Манюнчиков – не до шуток становится, визитер настырный, вон уже и за булаву хватается… Взял Павел Лаврентьевич шампур с шашлыком недожаренным да с дуба полез – свистеть, как просили.
И Илья так и не довез Соловья-разбойника во стольный Киев-град. Это сделал Павло Манюромец, крестьянский сын, называемый в богатырской среде просто и любовно – «Лаврентич».
4
…И приснился Павлу Лаврентьевичу Манюнчикову страшный сон.
Будто стоит он на перекрестке, тупо глядя на указатель дорожный; да и указатель-то так себе, краска облупленная, и сбоку готические глупости нацарапаны. Крайняя табличка на запад показывает, сама кривая, и написано суриком: «К Многоглавцу Зм. Г. Звенеть три раза», – а чем звенеть-то, и не написано!.. Рядом стрелка на юг, «Шли бы вы…» – и крест в конце – видать, по-немецки; а остальные Павел Лаврентьевич все равно разглядеть не успел, потому как из-за поворота выскочил усатый паренек на пегой легкомысленной кобылке и к столбу затрусил.
Подъехал паренек, шляпой положенное отмахал и спрашивает с акцентом:
– Ист либер зи, мин херц, где здесь есть проходить дорога в замок?
– А бог его знает, – отвечает Манюнчиков, – где она здесь есть проходить, я сам только что подошел. Читай вон, на столбе написано.
– Найн, найн, – трясет париком собеседник, – ай дас наме принц Генрих, мы читать не обучены, мы все больше по фройлян части.
– Ишь ты, – смеется Манюнчиков, – а как же ты, их высочество, в документе брачном-то расписываться станешь? Или даму свою попросишь, ась, Гена?
А принц нервный попался, шпажонку свою вытащил, в нос Павлу Лаврентьевичу тычет и про дорогу нешутейно спрашивает.
Ну и махнул Манюнчиков наугад, чтоб отвязаться, – на запад махнул, где дым стоял и звенело что-то по три раза, обрывисто так звенело, нерадостно… И принц Генрих фон Клейст так и не разбудил свою Спящую Красавицу. Это сделал совершенно другой человек.
5
…И приснился Павлу Лаврентьевичу Манюнчикову страшный сон.
Будто висит он на кресте, гвоздями к нему приколоченный, а внизу толпа беснуется, лохматое солнце стоит над Лысой горой и маленький командир сирийских всадников холодную воду на свой белый тюрбан льет.
Повисел-повисел Павел Лаврентьевич, вниз посмотрел, ничего интересного не высмотрел, проснулся, побрился и на работу пошел.
6
…И приснился Павлу Лаврентьевичу Манюнчикову страшный сон.
Будто стоит он в длинной бесконечной очереди, и тянется очередь эта туда – не знаю куда, и достоявшиеся получат за горизонтом то – не знаю что; давно завершены все двенадцать подвигов, и отзвенела зурна на свадьбе с принцессой Будур, скрылся за тучу князь Владимир Красное Солнышко, и разбужена Спящая Красавица, и стоять ему в треклятой унылой очереди до утра, а там вставать, бриться и идти на работу, и вновь ложиться спать, и стоять в очереди, вставать, бриться, работа, постель, очередь, очередь, очередь…
И был это воистину страшный сон.
С тех пор Павел Лаврентьевич Манюнчиков страдает бессонницей.
Как погибла Атлантида
На планете Земля известный мореплаватель Христофор Колумб открыл Америку.
На Земле-Альфа известный мореплаватель Семафор Колумб проплыл мимо Америки, не заметив ее, и открыл Индию с черного хода (ибо нормальные герои, как известно на Земле-Альфа, всегда идут в обход).
На Земле-Бета-прим Америка открыла известного мореплавателя Христофора Лумумбу.
А тем временем (или не тем?!) на Земле-Зет в кубе дипломированный шаман Акведук Торнадо вызывал демона.
Демон тихо ругался в подпространстве и наружу не выходил.
– Явись! – в сотый раз взывал возмущенный Акведук. – Вылезай, кому сказано!..
– Ангела с два! – огрызался упрямый демон. – Я вылезу, а ты меня опять в «миксер» засунешь!
– Не засуну! – убеждал своего скептично настроенного оппонента вспотевший шаман. – Ей-богу, не засуну… ну явись, посидим, поговорим… Дело у меня к тебе, а?..
Услыхав о «деле», демон нечленораздельно булькнул и перестал подавать признаки жизни.
– Ну ладно! – пригрозил Акведук несговорчивому демону. – Я на тебя, подлеца, найду управу, клянусь призраком моей тети!
Начертал он на полу вторую пентаграмму, кувшин святой воды на всякий случай заготовил и прочел заклинание двадцать восьмого беспорядка.
Существо, возникшее в пятиугольнике, было невелико, в тапочках на босу ногу и со шваброй в передних лапах. Просиявший Акведук простер к нему руку повелительным жестом.
– Как зовут тебя, вызванный мною для устрашения непокорных?! – грозно спросил шаман.
– Манюнчиков, – хмуро отозвались тапочки. – Павел Лаврентьевич.
…Вначале было Слово. Однако то Слово, которое было в начале нашей истории, мы повторять решительно отказываемся. Произнес же его Манюнчиков Павел Лаврентьевич, стоя в раздумье над «черной дырой», в подвале его образовавшейся.
Дыра действительно была черная, круглая, и в ней непрерывно что-то гудело и всхрапывало, – так что Слово вполне соответствовало увиденному.
Постоял Павел Лаврентьевич над феноменом, в затылке почесал, дверь на ключ закрыл да домой отправился.
Неприятности начались на следующий день.
Первой пропала в дыре трехлитровая банка вишневого компота, на зиму сохраняемая. Пропажа ее вызвала шок у Манюнчиковой жены Люськи; жена Люська вызвала участкового уполномоченного Амбарцумяна; героический Амбарцумян вызвал усиленный наряд и уполз в дыру.
Вряд ли стоит говорить о том, что вторым после злополучной банки пропал участковый уполномоченный Амбарцумян.
Следом за ним последовала швабра, которой угрюмый Манюнчиков тщетно пытался выковырять неудачливого сыщика, и наконец – наиболее близкий к швабре объект, судорожно вцепившийся в ее ручку. Когда Павел Лаврентьевич сообразил, кто же именно этим объектом является, – он уже летел вниз головой через пространственно-временной континуум, больно обдирая живот о хроносинкластические инфундибулумы.
Первые пять минут полета кувыркающийся Манюнчиков, не стесняясь в выражениях, крыл Мать-Вселенную на чем свет стоит. Однако ж на шестой минуте дошло до него, что летит он как раз через то, на чем этот самый свет стоит, – после чего Павел Лаврентьевич умолк и с полчаса летел молча, подыскивая нужные эпитеты.
Постепенно общая раздражительность Манюнчикова отходить стала на второй план, сменяясь интересом к происходящему – правда, надо заметить, интересом довольно-таки раздражительным. Вокруг планирующего Манюнчикова мелькали общественные формации и пластические деформации, пронесся и исчез в бездне обломок мироздания с корявой клинописью: «Ашурбанипал + Настя =?»; вдалеке замигала неоновая реклама: «Бытие определяет сознание! Покупайте определитель сознания компании „Господь и K°“! Только у нас…» – и светящаяся лента исчезла за поворотом; усатый тираннозавр с золотыми коронками на передних коренных и в милицейской фуражке, подозрительно смахивающей на головной убор пропавшего Амбарцумяна, подлетел поближе, приценился к зажатой в руках Павла Лаврентьевича швабре – и, не сторговавшись, куда-то в сторону по силовым линиям ускакал; и едва хвост склочной рептилии (надо сказать, весьма неприличной формы хвост!) скрылся за вихревым поворотом, как увидел Павел Лаврентьевич сперва покосившуюся табличку «Великий Предел», а следом за ней – другую табличку, «Великий Беспредел», и немедленно ощутил почву под ногами, а потом и под тем, из чего его ноги росли.
Посидел немного Павел Лаврентьевич, поразмыслил о судьбе своей пакостной, после голову поднял – и увидел мордатого субъекта в залатанной бордовой мантии и островерхом колпаке, делающем его похожим на отъевшегося Буратино с отрезанным носом.
– Как зовут тебя, вызванный мною для устрашения непокорных?! – гнусаво забубнил субъект, жмурясь и облизываясь от удовольствия.
– Манюнчиков, – хмуро ответил честный Манюнчиков. – Павел Лаврентьевич.
И ткнул Буратину кулаком под отвисшую челюсть.
…На Земле-Аж-В-Квадрате Великий Инквизитор Торквемада собирался сжечь великого ученого Галилео Галилея за вредные гипотезы о вращении планеты.
На Земле-Бета-прим великий ученый Галилео Водолей сделал себе харакири, узнав о самосожжении своего лучшего друга, Великого Инквизитора Торквемады.
Земля-Ом-439908 прочно покоилась на трех глянцевых китах.
На Земле-Си-Эс круглый дурак Лева Бармалей и Великий Инквизитор Торквемада пили розовое столовое, дружно проклиная вращающуюся под ногами планету.
На Земле-Зет-В-Кубе состоялось заседание высшего органа местной власти – Ветхого Совета.
Зал гудел. Ведущие маги современности, брызжа слюной, наматывали седые бороды собеседников на сучковатые волшебные палочки. Амнистированные демоны, возникающие по углам, в страхе бежали на галерку, откуда мерными воплями подбадривали заседающих.
Шутка ли – впервые за всю многовековую историю Атлантиды на ее землю вступал лично Демон Юнчиков, Факел Лабиринтович, в древних пророчествах предсказанный.
Однако ж для уяснения происходящего необходимо уделить внимание нюансам проблемы параллельных миров и образовавшегося между ними смесь-пространства, на местном жаргоне «миксера». (Просим прощения за сложность формулировки. См. магический словарь Пакгауза и Фреона.)
Всякому известно о существовании параллельных миров, а также о существовании обилия литературы на эту тему. Но лишь немногим ведома тайна смесь-пространства и суть метаморфоз любых объектов, в нем оказавшихся. Поясним на примере.
Допустим, из пункта А в пункт В, находящийся в мире ином (просьба не путать с загробным!), переправляется рыжая корова Елизавета ярославской породы, дабы проживающий в пункте В гуру Джавахарлал мог ее доить.
В то же время из пункта С в пункт Д переправляется рыжая Елена Прекрасная, дабы проживающий в пункте Д Парис мог ее любить.
Что произойдет с посылками, если принять во внимание непрерывно действующий «миксер»? Ответ приводится в любом учебнике для практикующих заклинателей. Гуру Джавахарлал рискует получить Елену а-ля натурель, но с печальной рогатой головой ярославской Елизаветы – и попытка подоить полученный результат вряд ли приведет аскета к желаемым последствиям.
В свою очередь, страдающий Парис вряд ли сумеет достойно любить оставшееся на его долю, при всех Парисовых выдающихся мужских способностях.
Что и требовалось доказать.
Многочисленные попытки магов Атлантиды преодолеть упрямый закон «миксера» привели к резкому увеличению числа смешанных и помешанных, а оставшиеся нетронутыми люди и нелюди лезть в «миксер» отказывались категорически.
К счастью, в древних пророчествах упоминался некий могущественный Демон Юнчиков, никогда и ни с чем не смешивающийся – и способный начертать на Алтаре вселенской и еще какой-то там ихней Матери тайное заклятье, Неведомое-Всяким-Там. К чему это должно было привести, никто не знал, но все считали, что хуже, чем есть, уже не будет.
Наивный оптимизм населения Атлантиды и членов Ветхого Совета только упрочился в связи с появлением долгожданного мессии.
Вы спросите, почему это именно Манюнчиков Павел Лаврентьевич чести такой сподобился?! Все очень просто. Дело в том, что миры-то были друг другу параллельны, а Павел Лаврентьевич был всем этим мирам глубоко перпендикулярен!..
…К Алтарю соответствующей Матери Манюнчикова сопровождали первооткрыватель Акведук и его ассистент, застенчивый зомби Филимон, по прозвищу Живее-Всех-Живых.
– Чтоб ты сдох! – ругался возмущенный Павел Лаврентьевич, когда неуклюжий Филимон в сотый раз наступал ему на ногу.
– Не могу, Факел Лабиринтович, – виновато сипел Живее-Всех-Живых, руками разводя. – Я уже сдох…
– Это когда ж? – интересовался Манюнчиков с присущим ему тактом.
Зомби морщил синюшный лоб, загибал корявые пальцы и, не отвечая, шкандыбал дальше.
– Отстань от парня, демон! – вступался за приятеля Акведук Торнадо. – Сам видишь, склероз у него… Зомби, они все такие – физически еще ничего, а вот морально разлагаются…
– Да я ж ничего, – сдавал позиции пристыженный Павел Лаврентьевич. – Я ж так просто…
Тут Филимон снова наступал Манюнчикову на ногу, и все начиналось сначала…
…Вообще-то Демон Юнчиков, легендой предсказанный, оказался существом строптивым и малосимпатичным. То он требовал возвратить ему некий «ком-пот», якобы украденный Акведуком, то призывал на помощь своего коллегу, горного демона Амбар-Цумяна, то просто ругался на забытых диалектах и идти к Алтарю наотрез отказывался.
Вышеупомянутый демон Амбар-Цумян появился в Атлантиде неделей раньше, без всякого вызова и с доставшимися ему в «миксере» огромными клыками, а также с некоторыми отвратительными чертами его пылкого характера.
Еще в бытность свою участковым уполномоченным испытывал товарищ Амбарцумян гипертрофированную склонность к полу противоположному (он же женский, слабый или прекрасный) – а попросту говоря, был заядлый бабник.
Теперь же, унаследовав от неведомого попутчика обаятельный оскал и неукротимый звериный норов, клыкастый блюститель порядка немедленно стал грозой местных упитанных кариатид, к немалому удовольствию последних – и к не меньшему неудовольствию их мужей-атлантов, которые и рады бы были отвадить разрушителя и наплевателя в их семейный очаг, да побаивались новых атрибутов его мужского достоинства. Когда же товарищ демон Амбар-Цумян изредка отрывался от любимого эротического времяпровождения – он тут же, по старой памяти, принимался наводить порядок, чем приводил население в дикий ужас; и в конце концов атланты стали выделять пришельцу по даме в день, решив, что так будет дешевле. Жертва оказалась единственным способом укротить служебное рвение саблезубого уполномоченного.
Выяснив связь между демоном Амбар-Цумяном и еще более могущественным Демоном Юнчиковым, перепуганный Акведук Торнадо поспешил облить выбиравшегося из пентаграммы Манюнчикова святой водой, за что немедленно схлопотал шваброй по колпаку. И если бы не малочувствительный к швабре Живее-Всех-Живых, явившийся на вопли Акведука и отобравший у Павла Лаврентьевича его магическое оружие, то неизвестно еще, чем бы вся история закончилась. Но при виде зомби несговорчивый демон малость поутих и со скрипом согласился пойти к Алтарю.
По дороге они пару раз слышали торжествующее рычание с восточным акцентом и веселый женский визг пополам со стонами, – и Филимон крепче сжимал в руках отобранную швабру, озираясь по сторонам.
Над последней дверью прямо в воздухе горела метровая надпись: «Поту– и посюсторонним вход воспрещен!» – так что к Алтарю Павел Лаврентьевич подошел уже один.
Алтарь был дощатый, покосившийся, выкрашенный в ядовито-зеленый цвет, и над ним болтался оптимистичный транспарант: «Выхода нет!»
– Ну и не надо! – буркнул Манюнчиков и сразу же понял, что напоминает ему Алтарь. Святыня до крайности походила на сарай под окнами Павла Лаврентьевича, давно мозоливший чувствительные Манюнчиковы глаза. Сходство странно усиливалось до боли знакомой банкой из-под вишневого компота, стоявшей у подножия. Впрочем, компота в банке уже не наблюдалось, хотя жестяная крышка оставалась нетронутой.
Поглядев с минуту на сей сюрприз природы и вспомнив несколько подходящих к случаю идиом, взял Павел Лаврентьевич огрызок мела, под ногами валявшийся, и задумался. После руку протянул и изобразил на фасаде кривую пятиконечную звезду. Отошел, творением полюбовался – затем вспомнил неожиданно своего сослуживца Сашку Лихтенштейна и пририсовал сбоку еще одну звезду, на этот раз шестиконечную. Больше на ум ничего не приходило.
И вдруг Манюнчикова осенило. И, кроша скрипящий мел, вывел он поперек Алтаря ту самую фразу, которая уже с полгода красовалась на соседском сарае, возмущая стыдливых старушек и радуя глаз местных алкоголиков, – а в конце слово приписал, им же самим в начале нашей истории произнесенное.
Дрогнула земля, звякнула под ногами Манюнчикова трехлитровая банка экс-компота, краснеющая Мать-Вселенная вчиталась в тайное заклятье, неведомое просвещенным магам Атлантиды, – и пробудившийся «миксер» всосал в себя все параллельные миры, повинуясь великому и могучему русскому языку, к месту употребленному перпендикулярным Манюнчиковым.
…Не верьте измышлениям о параллельных мирах. Их больше нет. Оскорбленный «миксер» создал из них всего один мир – тот самый, извините за выражение, «коктейль», который мы с вами имеем на сегодняшний день. Не верите – оглядитесь по сторонам. Ну как? То-то же… И ничего, однако, не поделаешь – закон матери нашей природы…
А вот что касается Атлантиды… Одни утверждают, что она накрылась тем самым, о чем упоминалось в тайном заклятии. Другие настаивают, что соседский сарай с его вечной нестираемой надписью и двумя разноконечными звездами – это и есть все, что от Атлантиды осталось. Третьи считают, что Манюнчиков скрывает Атлантиду у себя в подвале в банке из-под компота, – но проверить данный факт никак нельзя, поскольку ключ от подвала Павел Лаврентьевич никому не дает. Четвертые…
Впрочем, мы и не обещали давать ответы на все загадки Мироздания.
Второй день изобилия
Больше двух изобилий в одни руки не давать!..
Вынырнул Павел Лаврентьевич из-под колес грузовика, обалдевшего от прыти такой неожиданной, и сломя голову кинулся к хвостовому сегменту очереди.
– Кто последний? – риторически поинтересовался встрепанный Манюнчиков, пристраиваясь за двумя мрачными субъектами в одинаковых лохматых тулупах, из воротников которых торчали одинаковые оттоптанные физиономии.
– Что дают, братцы?
Братцы-разбойники подозрительно скосились на объемистый Манюнчиков портфель и отвечать раздумали окончательно и бесповоротно.
– Изобилие дают, – влезла в несостоявшийся разговор общительная дама, поразительно напоминающая свиноматку-рекордистку, недавно вышедшую в тираж. – Вчера завезли. Просили не занимать. Сами второй день стоим.
– Второй день изобилия, – неудачно сострил очкастый представитель межклассовой прослойки между свиноматкой и тулупоносителями. – Вы б за деньгами сбегали, а то вдруг не хватит…
Сунул Павел Лаврентьевич руку в карман, мелочью побренчал и понял, что наличных и на пол-изобилия не наберется…
– Я сейчас, сейчас, – засуетился расстроенный Манюнчиков, искательно заглядывая всем близстоящим в глаза, – я мигом, жене вот только позвоню, и все… Скажете, что я за вами?
– Без номера не скажем! – категорически отрезала Свиноматка, багровея медальным профилем. – Мы тут все… пронумерованные. Четырехглазый, покажи новенькому…
Четырехглазый покорно вздохнул и принялся расстегивать пальто.
– Да что вы, что вы! – замахал на него руками испуганный Павел Лаврентьевич. Четырехглазый увернулся от зажатого в Манюнчиковом кулаке портфеля и продолжил стриптиз.
Павел Лаврентьевич зажмурил глаза, но перед внутренним взором продолжал маячить надвигающийся кошмар: голый синий Четырехглазый, стоящий за изобилием.
– Ничего, земляк, не боись, – доверительно прогудел Манюнчикову в ухо Тулуп Первый. – Мы сами поначалу того… сбежать намылились, да попривыкли… оно только сначала боязно, а там дальше полегче… Давай, профессор, давай рубашечку-то, чего зря в грязь кидать…
Повернулся Четырехглазый к обомлевшему Манюнчикову, и увидел Павел Лаврентьевич номер заветный, и тянулся оный номер от ключицы до ногтя пальца безымянного, и стояла в нем цифирь римская, арабская и уж совсем никому не ведомой национальности.
Поглядел Павел Лаврентьевич на Четырехглазого с уважением неподдельным, поинтересовался, где ж красоту такую пишут на человеках, да и побрел в указанном направлении.
– Пропадет, родимый, – жалостливо всхлипнула жилистая бабуся с метлой за плечами, немедленно влезшая на освободившееся место. – Не дойдет, болезный… И до чего ж люди-то живучие… Иная животина сдохла б давно, а ваш брат… Не по зубам, видать, изобилие…
– Наш брат, – строго поправили Ягу из очереди. – Наш брат вашей сестре не товарищ. И не каркай, старая… Не по зубам… Тебе зато по зубам, да не по тем…
Захлопнула бабулька ротовое отверстие и отлетела на безопасное расстояние. И правильно, поскольку очередь за ней выстраивалась большей частью несуразная и со странностями: кучка пионеров с зелеными галстуками до колен, панки, похожие на инопланетян, инопланетяне, похожие на панков в третьем поколении, синдикат вездесущих наперсточников, тут же приговоривших братьев по разуму на летающий чайный сервиз на двенадцать персон…
Но дальнейших событий ушедший Манюнчиков уже наблюдать не сподобился, а посему не станем заострять на них внимание.
…К Писарю тоже стояла очередь, но немного меньше.
– Пол? – тыча бородой в дисплей, бодро интересовался Писарь. – Вероисповедание? Педикулезом не страдали?..
Компьютер уныло жевал данные и в муках рожал номера. Ветераны Пунических, Отечественных и Шестидневных войн лезли прямо к окошечку, тыча в нос возмущавшимся костылями и справками о похоронах. Обномеренные счастливчики застегивались и вливались в основной поток. За спиной Манюнчикова любопытные толпились вокруг раскосого азиата в шафрановой ночной рубашке.
– Наса здеся стояла, – вежливо кланяясь, разъяснял Косой. – Наса здеся в осередь завсегда стояла. Вся одна миллиарда сетыреста тысясь сто сорок сетыре селовека стояла.
Писарь проштемпелевал Манюнчиков бок и с криком «Следующий!» захлопнул окошечко, закрыв его на большой амбарный замок. Расстроенный следующий подергал замок за чугунную дужку.
– Отцепись! – сказал ему замок. – Перерыв у нас… Небось мы тоже люди…
– Наса холосая, – продолжал между тем Косой. – Наса понимает: по два исобилия в одни руки. У китайса два рука. Всего полусяется два миллиарда восемьсот тысясь двести восемдесят восемь исобилий. Наса совсем мала-мала нада…
Обогнул Павел Лаврентьевич ходока из Поднебесной, собрался было обратно идти, да забыл напрочь, в какой стороне это самое «обратно» лежит. Налево глянул, направо, затылок поскреб и двинул вдоль очереди наугад – назад, мол, не вернусь, так хоть к изобилию поближе буду!..
Шел Манюнчиков, шел и неожиданно обнаружил он между собой и очередью сходство немалое. Сами посудите: Манюнчиков движется, и очередь движется, и оба в одном направлении, да только туда-то они движутся, а вот назад с изобилием вожделенным ни одна зараза не возвращается! Задумался над проблемой Павел Лаврентьевич, ан тут из-за угла мужик здоровенный выныривает, и идет-то мужик как раз против движения, и несет мужик на плече ящик картонный, а ящик-то размером тютелька в тютельку с изобилие, как оно Павлу Лаврентьевичу представляется!..
– Мужик, а мужик, – подскочил к нему подмигивающий Манюнчиков. – Скажи хоть, почем оно там идет?..
– Полсотни рваных за трехлитровую банку… – воровато озираясь, просипел мужик.
– Банку? – оторопел Павел Лаврентьевич. – А оно что – жидкое?
– Кто – жидкое? – почему-то обиделся мужик.
– Как кто? Изобилие…
– Изобилие – оно завсегда жидкое, – ухмыльнулся мужик. – Дрожжей не достать, сахар весь с чаем выпили, вот и гоним… чего пожиже…
Тут из очереди двое вышли, с «маузерами» и в куртках кожаных покроя старомодного, – носами крутят, вроде как принюхиваются. Мужик ящик на плечо и в переулок! – а Манюнчиков от греха подальше в телефонную будку схоронился и номер свой домашний крутить стал – для конспирации и деньжат недостающих.
– Да не избили меня! – орал взбешенный Манюнчиков в глухонемую трубку. – Изобилие, говорю, дают! Да, и без талонов! Талоны, они на бедность, а тут совсем наоборот… Деньги неси, дура! Конец связи!
Собрался было Павел Лаврентьевич из будки наружу выбираться, да не тут-то было – очередь за это время вокруг телефона морским узлом обмоталась, двери чьим-то ухом заклинило, а на крыше уже тарелка космическая прителефонилась, и давешний наперсточник закатал по плоскости шарик фиолетовый, с параллелями да меридианами по контуру!..
Высунулся в окошко заточенный Манюнчиков, а вокруг – камзолы, парики, ботфорты – и все за изобилием! Трое усатых парней в плащах с крестами все норовили всунуть впереди себя еще одного коллегу, но очередь пружинила и возражала.
– Пропустите, месье! – умолял усатый.
– Пардон тебе с маслом! – огрызалась очередь. – Шерше ля вам в душу! Сначала, дескать, три мушкетера, а теперь и четвертый объявился… Вали отсюда и приходи двадцать лет спустя!
Четвертый хватался за шпагу, намереваясь резко сократить поголовье взыскующих изобилия.
– Выпустите меня! – заорал в разбитое окно будки Павел Лаврентьевич. – У меня номер есть! Я изобилия хочу!
– Все хотят, – урезонивала скандалиста непреклонная очередь. – Хоти молча…
– Я больше всех хочу! – не унимался несчастный Манюнчиков. – Я его не видел никогда!..
– И не увидишь, – успокаивала его очередь. – Тебе очки нужны, а не изобилие…
Рванулся Павел Лаврентьевич, выпал из будки и бросился вдоль очереди. Замелькали перед Манюнчиковым ливреи, короны, латы, шлемы, тоги, туники – и у каждого номера, и всем изобилие требуется! И когда волосатый неандерталец впился зубами в Манюнчиков портфель, понял Павел Лаврентьевич, что никакой жизни ему не хватит, чтобы достояться, дойти, пощупать это трижды проклятое изобилие!..
Впрочем, выход был, был – нет безвыходных ситуаций для гомо сапиенс Павел Лаврентьевич вульгарис! – и Манюнчиков ринулся на поиски. И уже над совсем другой очередью в совсем другом месте взвился победный крик воспрянувшего Павла Лаврентьевича:
– Больше двух бессмертий в руки не давать! Кто последний?..


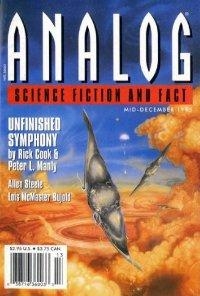


Комментарии к книге «Герой вашего времени», Генри Лайон Олди
Всего 0 комментариев