Глеб Тенин
Малкут
I
21 марта 1986 года. 7:30 утра.
Бывший оперуполномоченный Ленинского РОВД, старший лейтенант милиции Андрей Русинский проснулся резко и недвусмысленно, будто выбитый из той жизни, которою он жил во сне, пулей в лоб.
Накануне обмывали уход Русинского с работы. В длинной общаговской комнате присутствовали соседка Тоня - веселая деревенская баба, трудившаяся где-то на рынке продавщицей, Семен и Слава, оба с приблудными комсомолками, и друг детства Петро Каляин, работавший в каком-то хитром НИИ. Приятели исчезли ближе к десяти часам ночи, якобы выйдя покурить и рассосавшись как бы сами собой. Русинский обеспокоился их пропажей.
- Фигня это все, - сказал Русинскому Петр. - Пусть все пропадают бесследно! Пусть Родина осознает, какого ценного кадра она потеряла. Ладно бы еще платили по-людски. Так нет! Еще к тому ж интриги... Ладно, Андрюха. Плюнь и разотри. Ты ведь не мент. Какой ты на фиг опер? Филолог с диссертацией. Мы все чуть не облезли, когда услышали, что ты в ментуру пошел. Ничего не имею против милиции, абстрактно, но для тебя странный это был поступок, Андрей. Небожеский. Противоестественный то есть. Пойдем, пройдемся по общаге? Трахнем каких-нибудь передовиц торговых?
Русинский так устал от частых и спорадических совокуплений с нимфоманкой Тоней, жившей в конце коридора, что поллитра поганой водки намертво пригвоздили его к полу. Он не встал бы с облупленной, но прочной табуретки, даже если бы к нему в общагу приехал министр чего-нибудь глобального и вручил ему большой блестящий орден.
- Майора Вихря первой степени. С бантом, - пробормотал Русинский.
- Не понял. Что? - навострил слух Петр.
- Так. Мимолетное виденье... Девочки уже спят. Да и по летам ли нам бегать со спущенными подтяжками? Расскажи лучше, над чем сейчас работаешь.
- Готовлю докторскую, - легко ответил Петр и усмехнулся. - Если не утвердят, года через три продам ее американцам. Я - латентнтый миллионер, Эндрю. И предатель нашей советской Родины...
Русинский поднял на Каляина усталый взгляд. Петр рассмеялся, захрюкав и уткнув нос в рукав ковбойской рубашки. Затем шумно потянул воздух в себя и продолжил:
- Ты не знаешь, а зря. Очень интересная тема... Я открыл алгоритм, по которому без проблем можно вычислить будущее - с точностью до суток. Это слишком малое приближение, согласен, но полученный мною радиус довольно точен. Знаю, что ты скажешь: мол, таких чудаков, как я, в мире достаточно. И ты будешь неправ. Видишь ли, всем этим, - он обвел рукой комнату, управляют процессы, обязательно отмеченные некими вехами. В том числе - и по направлению к будущему. Время - это магнитная запись. Эти вехи, о которых я сказал - ориентир для исследователя, но кроме этого, они ответственные за процесс эволюции. Они всегда оказываются в нужном месте. Более того: это живые твари, я полагаю. И они вечны. А потому достаточно проследить их расположение, выявить, так сказать, из пустоты, и сразу станет ясно, что случится завтра. А знаешь, что всем этим управляет? Ментальная энергия! Если собрать ее в пучок и разом выпустить, можно все изменить на Земле. Всю историю - на фиг! Внешне это просто, ага?
Внезапно Петр схватил Русинского за ворот рубашки, сдернул с табуретки и дохнул ему в лицо:
- Я переверну их представление о жизни. Эти суки думают, что они спокойно догниют до пенсии. Фигня! Они еще не знают, что их ждет через три года. Будет такое, Андрей... Закачаешься.
Немного отпустив хватку, он отошел. Лицо его пылало. Закурив дрожащими руками, Петр тихо продолжил:
- Это будет дикий Запад. Даже круче. И ни хрена они уже не вернут, эти разработчики. Эх, только бы дожить. У нас впереди десять сумасшедших лет. Такое тебе и не снилось. Это счастье распада... А потом ждет много чего интересного. Но сначала надо позаботиться о себе.
Не докурив, Петр выбросил окурок, плеснул в рюмку водки и выплеснул ее в свой рот.
- О'кей, - продолжил он внезапно успокоившимся голосом. - Оставайся как знаешь. А меня Тоня пригласила. Пойду, мозги проветрю...
Затем Петр ушел, а Русинский растянулся на кровати. Умостил ноги на железную спинку, развернув их по-балетному, чтобы не было больно - спинка давила с определенностью УК, лишенного адвоката - и, отмахнувшись от навязчивой арии "Люди гибнут за металл", оравшей в его скучающей голове громче утреннего радиоприемника с песней про омулевую бочку, открыл книгу, подло подаренную Каляиным. Тот знал, что Русинский покупает книги самостоятельно и выбрал автора, сочинившего толстый роман про очередной подвиг партизана. Русинский открыл первую страницу и убедился, что главный герой просыпается с бодуна и что он эту книжку уже где-то видел - в день, когда впервые пришел в РОВД. Ничто не мешало ему уснуть. И он уснул.
Теперь наступило российское утро, бессмысленное и беспощадное. Русинский проснулся по привычке в семь утра, хотя с ночи еще собрался выспаться как следует, и теперь нахохлившись сидел у себя в комнате за столом, прихлебывал чай и курил сигарету "Родопы". Малосемейное общежитие (глубину этой фразы можно было вполне ощутить по утрам и ночью, особенно в праздники, когда гуляли все и напропалую) оживало медленно и неуклонно. День вставал с хмурой и какой-то отвлеченной враждебностью. Ничто так не объединяет страну, как утро рабочего дня. Для одних грядущие сутки - повод утрамбовать его в работе и забвении, для других - чтобы сразу перейти к медитационной фазе, и Русинскому было скучно об этом думать, равно как думать вообще. Все картины жизни и какие-то понятия, выброшенные на скалистый берег утренних пятиэтажек, были слишком малозначительны и бесполезны; короче говоря, он проснулся с похмелья.
По радио передавали речь нового царя, традиционно, по-кремлевски, притиравшего "гэ". Русинского не покидало очень тревожное предчувствие. Дым сигареты казался ему по-подлому злым, чай - безвкусным. Глядя на бруски общаг за окном, Русинский чувствовал, что в нем поднимается мутная неудовлетворенность еще не прожитым днем. Впереди - еще одни сутки, судя по всему, вполне обыкновенные. Работы не было, но чем не день отпускного сезона? С той лишь разницей, что он находится не в Сочи, и другого выхода у него, в общем-то, нет.
С отвращением зевнув, он вытянул вперед жилистые крестьянские руки и без всякого нарцизма принюхался к воздуху. В комнате все еще висело неистребимое, как грех гордыни, прокисшее табачное амбре. Убранные с вечера под стол бутылки упали на бок (видимо, кто-то задел ногой) и теперь смотрели на Русинского пустыми глазками горлышек, точно сваленная на пол селедка, и это сравнение вдруг показалось ему на редкость паскудным. Русинский смял большим и указательным пальцами фильтр и несмотря на бодун мастерски катапультировал окурок в форточку.
- Все. Подъем, - сказал он громко и отчетливо.
Эта простая мысль освежила его. Он поднялся со стула, машинально схватился за напомнившую о себе голову и, морщась от боли, начал собираться в свет. По давней договоренности Русинский посещал бывшую жену - учительницу по имени Лана, женщину образованную, чувствительную и до сих пор оставшуюся на том призрачной отдаленности, что позволяет без угрызений совести называть женщину своей. Они расстались друзьями - может быть, потому, что сейчас, как прежде, они обладали схожими интересами, или по той причине, что Русинский оставил ей свою квартиру со всем барахлом. Но втайне он любил расставаться с материальными предметами - это делало его более легким и проясняло мысли; впрочем, никто из знакомых не поддерживал его оптимизма на сей счет. Так или иначе, в эту минуту ему стало проще. С Ланой он не виделся месяц или больше. Появилась полезная и вполне осуществимая цель, и кто знает, не добьется ли он большего?
***
21 марта 1986 года. 12:00.
Гладкий мартовский ветер начинал свой разгон на глади водохранилища и врывался в окно, надувая золотистые шторы с цветами неизвестного происхождения - не исключено, что пионами. В воздухе рассыпалась центробежная сила весны. Омываемый ветерком Русинский лежал на диване и смотрел телевизор. Только что он вышел из ванны и еще благоухал болгарским шампунем "Рила". Лана хлопотала на кухне.
Кряжистый и сдержанный в красках, хоть и не всегда правдивый, "Рубин" все еще работал; звук, однако, время от времени бывал похищен неполадками. Шесть лет назад, сразу после свадьбы, они взяли его в прокат, потому что так было спокойнее - одно из первых поколений цветных телевиженов ломалось безбожно, зато чинили его с редкой для СССР пунктуальностью. Беременный экран показывал нового генсека, чьи очки в тонкой металлической оправе настораживали.
Русинскому было легко. И еще легче от мысли, что он ничем не обязан симпатичной женщине с гордой шеей и умным взглядом, готовившей ему, изрядно прогревшемуся, ужин.
- Лана, я закурю? - крикнул он в направлении кухни.
- Нежелательно, конечно. Но ладно. Приходишь раз в год...
- Ты еще не бросила? - спросил Русинский потише, нашаривая пачку сигарет в кармане брюк и прикидывая в уме, не испортит ли аромат родопский настроение его экс.
- Бросаю. Думала бросить вместе с тобой. Ну, в смысле, ты понял. Там на тумбочке за вазой лежит пара штук Мальборо. Оно кишиневское, но все лучше твоей болгарщины. Одну возьми.
Русинский не терпел упрашиваний, потому ловко дотянулся до тумбочки, взял сигарету и щелкнул зажигалкой. Этот лайтер - настоящую Zippo - он купил за 20 настоящих долларов у Толика Бея, официанта из гостиницы "Интурист". Скорее всего, Толик скоммуниздил зажигалку у кого-нибудь из посетителей, но Русинский на стал разводить его по ментовским понятиям и купил честно, как лох. Он любил качественные мелочи. Первая затяжка навеяла воспоминания о его бывшей клиентуре - утюгах преимущественно из иняза, которых он исправно пас и время от времени выкачивал баксы и кое-какую информацию.
- Ты в курсе, что наступил год тигра? - донесся певучий голос Ланы. По идее, это твой год. Тебе же тридцать шесть, да? Что-то важное для тебя наступит.
- На-stupied. Обязательно на-stupied, - пробормотал Русинский, вспоминая, с каким заговорщицким видом Лана покупала в поездах черно-белые фотоснимки гороскопов, как прятала от него рукодельные листы с зодиакальными значками. Ее самые глубокие интересы всегда отдавали чем-то потусторонним. Лана - его вторая и снова бывшая жена - не была прирожденной блудницей, чем резко отличалась от всех женщин Русинского. В душе тоскуя по первому браку, рожденному и скончавшемуся по одной причине - простоте душевной, - Русинский сразу "выделил ее из толпы", как говорят женщины и старые поэты. Их первое свидание произошло в переполненном автобусе. Она даже не пыталась ему понравиться, и когда пробовала кокетничать, то получалось пошловато и смешно, хоть она и была умна, как настоящая еврейка, и неплохо сложена; ее ужимки были продиктованы природой, но устарели как минимум лет на сто. Довольно скоро он почувствовал, что перед ним - воплощение статуи на Мамаевом кургане, мать-героиня с мечом в руке, осиянная газом, что бьет из-под наполненной костями отцов земли. Эта ассоциация в первое время забавляла его, как забавляла, когда не злила, советская Отчизна, но как-то ночью, взглянув на бесстрастное тело ее, Русинский вдруг осознал, что вся его дальнейшая жизнь будет жертвой семейного идеала, который он так глубоко и скрытно ненавидел. По природе своей Русинский был воин; десять раз на дню он думал о смерти и цели, ради которой примет смерть, и в этом нехитром наборе список детских имен занимал самое последнее место. Прощальный разговор он провел хирургически резко, хотя в душе переживал не меньше Ланы. Молчаливо утешая ее, он думал, что пройдет лишь месяц, и она забудет его, а через полгода станет счастлива с другим, но расчет оказался неверным, хоть и лестным для него; после развода Лана ударилась в науку и, чего Русинский совершенно не хотел понимать - в мистику, пачками приобретая неправильные с точки зрения государственной идеологии снимки и брошюры. Вероятно, - подумал он с некоторой тревогой, - развод усугубил в ней страсть к иррациональному.
- Не ерничай, Русинский! - Лана появилась из кухни и взглянула на него с упреком или даже скорее с нажимом. Ее груди покачнулись под халатом. Что-то должно произойти. Что-то большое и поперек горла. Может, война с Америкой, а? Ты свою "Спидолу" еще не загнал?
- Боже упаси. Это единственная матценность, имеющаяся у меня в наличии. Хоть эта ценность, скорее, духовная. Впрочем, "Голос Америки" ничего такого не передавал. Если наши ублюдки шарахнут по ублюдкам из Вашингтона, я сразу сообщу тебе.
Лана перевела дыхание и закрыла дверцу холодильника. Ее обтянутый халатом упругий живот заставил Русинского подумать о том, сколько времени он может провести сегодня в этой квартире.
Тем времен Лана поставила на журнальный столик тарелку с нарезанной колбасой, две бутылки "Жигулевского" и откупорила банку с огурцами (крышка приятно чмокнула, разжав свою пластмассовую челюсть). По вскрытию этих сокровенных запасов Русинский понял, что его /встречают/.
- Лана, ну зачем такие навороты? - вопросил, растрогавшись, Русинский. - Не спорю, так эстетичнее, но можно было не беспокоиться. Просто отрезать кусок.
- Во-первых, так экономнее. Во-вторых, разве так не вкуснее?
- Я воспринимаю вещи целиком, а не по кусочкам.
- Поэтому ты и не любишь романы.
- Да. Я не читаю романы, потому что люблю колбасу, а не ее вкус. Извини, я не экономен. Хорошо, что мы развелись, да?
- Не включай этот патефон. Какого рожна ты пошел в ментовку? Писал бы книги. Тебя же брали в Союз.
- Одним Солженицыным меньше. Ничего, страна не заплачет. Ты, кстати, в курсе, что древние авторы ничего не сочиняли? Они назывались так: одни вьяса, что значит компилятор, другие - липика, что значит записывающий наблюдатель. При чем последние были синонимом кармы, а Вьяса - общий псевдоним авторов Махабхараты. Все они принадлежали к высшей касте и работали со священными текстами. А что теперь? Две кучки козлов: одна в Союзе, другая - за бугром или в подвалах. Те и другие строчат исключительно политику. /Сочиняют/. Мне такая литература на фиг не нужна.
- Брэк. Что-то на меня нашло... Да, еще. Знаешь... Мне Беркутов сказал - а он историк, если ты помнишь - что у древних славян был такой миф. Про чудовище, которое пожирало у людей разум. То есть питалось им. Оно приходило каждые 120 лет, и этот год попадает на нынешний. Вот это я и чувствую сейчас. И бабы на работе тоже...
- Нектар и амброзия, - кивнул Русинский. - Тварь хорошо кушает. Но вообще-то все это - какой-то греческий миф, а не славянский, хотя происхождение, конечно, общее. Слушай больше Берка. Он тебе расскажет, что Атлантида была первым славянским княжеством.
И на излете этой фразы Русинский вспорхнул с дивана, зашел к Лане сзади и приподнял руками ее грудь.
- Ланочка... Как же я по тебе соскучился, страшно сказать...
Она изогнула гибкую спину и прижалась к нему.
***
- Андрей! Тебя к телефону.
Русинский расплющил веки и вмиг почувствовал себя так, словно шел по улице голым и кто-то из прохожих ткнул в него зонтиком. Приподнявшись на локте, Лана смотрела на него удивленно и не без сострадания. Зрачки ее близоруких глаз были сплошной черной массой.
Русинский взял трубку, заметив, что уже четыре часа дня. Этот голос он узнал сразу. Жена Каляина, Вероника, говорила с легкой скользящей интонацией, от которой у Русинского всегда просыпалась предэрекционная уверенность в себе.
- Андрей, прости, если потревожила, но я позвонила к тебе в общежитие, там сказали, что ты ушел, вот я и подумала, что ты у Ланы.
- Ничего, ничего... Что-то случилось?
- Петя пропал. Ушел к тебе, и вот - нету! Ночевать не вернулся. И утром его не было. Я звонила в институт - там тоже не появлялся. Ты ничего не знаешь?
Русинский не любил экспромты. Этот вид творчества никогда ему не давался. Вообще, люди, заставлялвшие его соображать слишком быстро, вызывали в Русинском сильную неприязнь. В этот миг он напрягся всем телом и загодя почуял, что его отмазка пролетит мимо цели, но произнес самым приятным голосом, на который был способен:
- А-а, вот в чем беда-то. Да ты не волнуйся. Петро остался у меня. Понимаешь, немножко выпили, отключился... А утром он уехал к какому-то профессору, для консультации. Какая-то машина времени, или что-то в этом роде...
Голос Вероники и даже ее взволнованное сопение провалились в тишину. Она переваривала две противоречивые вещи: проект вычисления временного алгоритма, о котором Петр неоднократно ей рассказывал, и новость о профессоре, к которому Петр отправился впервые за всю их пятнадцатилетнюю совместную жизнь, забыв предупредить ее по телефону.
- А ты не помнишь фамилию профессора? - с надеждой спросила она.
- Что-то на букву вэ, - напряженно соврал Русинский.
- Волынин, да? - обрадовалась Вероника. - Ну да, я знаю. Это в НИИ биологии, да? Ах, извини, ты, конечно, не знаешь Волынина... Ну ладно. Передавай привет Лане. Пока.
Русинский блеснул чистейшим, быстрым и округлым "au revoir" - в университете его всегда хвалили за произношение - и положил трубку. Утренняя тревожность проснулась в нем опять и угловато повернулась в глубине грудины, с какой-то особенной подлостью задев сердце и ту незаживающую рану на месте ребра, что отдано навеки, но вместо шоколадки и значка "Почетный донор" оставило лишь сладкую тревогу и захватывающую неуверенность.
Русинский засобирался.
- Ты куда? - поинтересовалась Лана, с кошачьей грацией протягивая руку к столику, где лежали ее очки.
Русинский натянул джинсы, присел у кровати и поцеловал Лану в продолговатый коричневый сосок.
- Дамские пальчики, дамские пальчики... Где-то запали опять ваши мальчики. Петро загулял. Пойду оттаскивать от тела.
Он знал, что Лана не скажет лишнего даже своей лучшей подруге.
***
Пожалуй, для марта погода была слишком теплой. Русинский не мог привыкнуть к неправильным изгибам климата. В глубине души он считал, что резкие скачки температур ведут к несчастью.
Настроение стало препоганое. Автобус 55-го маршрута симметрично опоздал на 55 минут. Невесть откуда возникла контролерша и Русинскому пришлось вспоминать об увольнении из органов, когда он вынимал из кармана удостоверение. Кроме прочего, зверски хотелось есть.
До общежития он дошел быстрым нервным шагом. Открыл незапертую дверь своей комнаты и убедился, что Петра в ней нет. Затем открыл замок в расположенную справа секцию и постучался к Тоне. Никто не ответил. Русинский толкнул дверь - она оказалась открытой.
Было темно. Петр сидел на полу в расстегнутых брюках. Его желтая сорочка, купленная в Ангарске пару недель назад, встала на спине коробом и напоминала крыло майского жука, неопрятно выглянувшее из-под черного панцыря. Раскачиваясь из стороны, Петр хихикал и смотрел прямо перед собой, при чем его взгляд был не то чтобы веселым или бессмысленным, но скорее слегка озабоченным, как у чиновника горкома, застигнутого с секретаршей. Когда Петр взглянул на Русинского - взгляд был совершенно стерильный, бессмысленный и где-то даже одухотворенный - он почувствовал, что у него подкашиваются ноги.
- Петро, очнись, - произнес Русинский - как оказалось, самому себе. Каляин не подавал признаком умственной ипостаси бытия.
Русинский медленно поднял взгляд. В дальнем конце вытянутой как носок подростка комнаты, на стуле у зашторенного окна, сидел зловещего вида гопник в Тониной норковой шапке, черной рубашке из поддельного шанхайского шелка и в грязнокоричневых широких штанах. Его длинную кадыкастую шею украшала красно-золотая цепь. Пальцы были унизаны перстнями с толстыми барельефами в виде черепов и каких-то других цацек, выполненных по моде древнеримских плантаторов.
Минуту или две они молча смотрели друг на друга. Гопник кадыкастый не выдержал, сморщился как от изжоги и, вскинув пальцы, словно ракеты к бою, смачно сплюнул Русинскому прямо под ноги.
- Че, лошарик позорный, зверюга ментовская, зыришь на меня? - с надрывным шипением вопросил гопник и сморщил гусиную кожу скул в улыбке. Корешок твой, да? Самое место под нарами Петюне твоему, по-ал? Пе-тю-ю-юня, - подчеркнул он, вытянув омерзительно белые губы. - Нельзя из мамки вылазить с таким именем. Или, может, ты тоже - того? Петя-петушок?
И разразился булькающим смехом с резкими горловыми перепадами.
- Тварь... - прошептал Русинский и двинулся к гопнику. Тот вскочил со стула, но, не приходя в сознание, Русинский нанес ему точный сокрушительный удар правой в челюсть. Гопник сковырнулся на кровать, грохнулся лбом о стену и клюнул носом в пол. Шапка отлетела в сторону.
Гопник вскочил на ноги, смазал с лица ухмылку и глумливо-визгливым голосом Тони заголосил:
- Ой ты поглядь-ко, поглядь, каков ухарь-то бравый!
И бросился на Русинского. Он отбил его руку, но гопник зашел сбоку и Русинский почувствовал, что слева его резанул нож. Быстро обернувшись, Русинский вновь ударил гопника в подбородок. Тот снова отлетел в дальний конец комнаты. Выроненный нож загремел о половицы. Русинский взялся за ребро: сочилась кровь. Внезапно гопник привстал и впился в Русинского пустыми белесыми глазами. Русинский явно ощутил, что его мозг начинает мертветь, с каждой секундой сердца, удар за ударом, деревенеть, терять энергию, становясь все тяжелее. Мысли путались, все перемешалось в хаосе догадок, фраз, воспоминаний, голосов начальников, друзей, жен, продавщиц и каких-то билетерш в кинотеатре "Стерео"; возникло непонятное эхо, глаза ничего не видели - только туман, заволокший пространство. Русинский стоял как вкопанный, где-то в дальних уголках сознания удивляясь тому, что совершенно не чувствует беспокойства. Его мозг стремительно пустел, и казалось, что все его нематериальное содержимое быстро вытекает через темя, попутно распуская клубок извилин, и только что-то неподвластное этому потоку не давало ему упасть и сохранять контроль над происходящим.
Вдруг сознание вернулось к нему - резко и больно, словно оттянутая резинка. Гопник зарычал и упал на колени, свалился на бок.
- Ах, какие мы прижимистые... - пробормотал он.
Русинский медленно приобретал способность соображать, но вначале мысли его были чисты и наивны, как в юности. Ему показалось, что лицо непрошенного гостя свела судорога зевоты, или сильного переживания, течение которого он прервал своим неуместным вмешательством; на секунду он вспомнил нервные судороги, сводившие скулы инженера Шклова, зама своего отца (зама, зама, озза рахама озаи, - вспыхнула непонятная фраза) - но инженер давно не стеснялся своей патологии, с тех пор как все привыкли к ней, и часто сидел с перекошенным зерцалом души за праздничным столом, когда встречали Новый год или первомайские праздники у его, Русинского, родителя; но нет - все эти ассоциации мгновенно вылетели из его головы, едва лицо гопника выступило из тени. Замешательство сменилось тихим уверенным ужасом (такое бывало с ним в детстве перед прыжком в воду с ветки старого дуба, вклинившейся в воздушное пространство над речкой), щеки гостя, его глаза, зубы и даже казалось волосы съежились, и теперь похабно расползались по передней части черепа, превратившись в ненавистное, мрачное, нечеловеческое рыло.
Русинский схватил с пола нож и полоснул ему по горлу.
***
Гость был трупом. Чтобы убедиться в этом, Русинскому хватило только одного прикосновения к его цыплячьей шее. Все случилось быстро и не очень красиво. Подумав о том, что надо бы вернуться к себе и обдумать произошедшее, он пошатнулся от дикой, не знакомой еще усталости. В голове было пусто и тяжело, но не как с похмелья, а гораздо поганее. Русинский подошел к кровати и рухнул на грудь.
Он уснул с необычной для себя, унизительной и тяжелой быстротой; такого не случалось даже с сильного перепоя. Просто мысли враз исчезли, не оставив и тень. Сон был сбивчивым. Захлебываясь, цепенея от ужаса и ледяной воды, он размашисто плыл через реку, по течению которой густо и как-то целеустремленно тянулись трупы старух, позеленевших под серым тряпьем и тусклым небом. Заполонив всю реку, они были совершенно одинаковы, не оставив потомству ни воспоминаний, ни биографии, и даже если у них было потомство и у потомства имелись воспоминания, то никакого смысла в этом не было. Русинский взмахивал руками автоматически, не чувствуя ни плечей, ни ладоней. Иногда он изловчался и, наклонив голову в зловонную воду, отталкивал макушкой рыхлый труп, попавшийся навстречу мимоходом; тушка неохотно поворачивалась на бок и плыла дальше. Порою пальцы его задевали склизкую кожу, и он вздрагивал, невольно обращая внимание на воздетые к небу заостренные, но отчего-то такие красивые носы утопленниц. Позже, когда промокшая его душа стала вежливо, но неотступно тянуть его на дно, в холодеющем пространстве мозга мелькнула догадка, почему старухи запрудили реку так компактно - ибо в руке у каждой была авоська, набитая новогодними апельсинами. Именно новогодними; почему так, Русинский не хотел знать, и лишь выворачивая глаз по-лошадиному и фыркая для храбрости или чтобы не думать о лишнем, он тупо наблюдал на желтых кожистых шарах ромбики с надписью /Maroc/. "Апфель Сина, Авель Синай, яблоко китайское, Лунная гора", твердил он про себя абракадабру, и когда ум его утратил власть над внутренним своим пространством и заставил окунуться в холод - видимо, уже навсегда, - Русинский содрогнулся всем телом и сел на кровать.
Он просыпался еще пять или шесть раз и не то чтобы не верил своим глазам, но просто осознавал, что тело на полу и мгла за окном, и он сам лишь части сна, понять который было невозможно и, в сущности, не нужно. Все что было помимо сна, превратилось в поток, и поток менялся; такова была его природа. Проснувшись в первый раз, он увидел на полу не сморщенного урода, а белокурую женщину с бледным блудливым лицом - мертвую, в чем не было сомнений, и это была Тоня, но уродливая лужа на полу осталась прежней; во второй раз он краем глаза нашел старуху с завитыми рыжими волосами, крашенными, должно быть, слишком неумело, чтобы усомниться в реальности старухи; третье больное пробуждение заставило его увидеть мужика лет пятидесяти в коричневом костюме и синей джинсовой рубашке; в четвертый раз он определил ребенка в белой футболке с надписью "Modern Talking". На его шее собралось жирное кровавое пятно в форме буквы Т.
II
22 марта 1986 года. 4:25 утра.
Он просыпался мучительно и долго. Тошнота подкатывала к горлу и исчезала, пронзив его насквозь. Лежа с открытыми глазами, Русинский пытался вспомнить, что же такое страшное случилось с ним вчера. Ничего не вспомнив, он поднялся, и обычно сшибая плечами мелкие предметы, на заплетающихся ногах отправился в ванную.
Над рукомойником он вспомнил все. Бросив кран открытым, он вбежал в Тонину комнату. Петр сидел на полу не шелохнувшись и все также смотрел перед собой. Мертвое тело исчезло. Кровь впиталась в бордовый коврик - по крайней мере, он не нашел ни малейшего признака крови.
На лице Петра за ночь успела отрасти щетина. Русинский потрепал его по макушке, присел на кровать и закурил, но сигарета пропускала слишком много воздуха сквозь рваный обод перед фильтром. Русинский сидел на месте, с отделившейся от фильтра сигаретой. По щекотанию возле губ он понял, что плачет.
***
- Семен, извини. Это Русинский. Можно к тебе?
- Что, теперь и с Тонькой поцапался?..
- Что-то вроде этого.
Семен захрипел, откашлялся. Видимо, смотрел на часы.
- Харэ. Приходь...
Русинский положил трубку телефона. Из каптерки в дальнем углу холла донесся скрип кровати.
- Иванна Сергеевна, дело есть, - крикнул Русинский.
Кровать породила надрывное отчаяние скрипа; в них пробрались вздохи невыспавшейся шестидесятилетней женщины. Иванна Сергеевна вывалилась из своего убежища, поправляя на голове сбившийся платок из цветастой линялой шали.
- Чего тебе?
- Тут человеку плохо, - сказал Русинский. - Я скорую вызвал, так вы уж покажите им, куда идти.
- К тебе, что ли?
- К Антонине. В триста первую. Спасибо.
И энергично сбежав по лестнице общаговского холла, он оборвал дальнейшие вопросы. Затем сунул руки в карманы черного пальто и углубился в ночь.
Семен, соратник Русинского по РОВД, жил в пяти сотнях метров от общаги в панельной пятиэтажке, известной своей щелью, что пронзила стену дома год назад после землетрясения и с тех пор оставалась нетронутой словно памятник стихие. Но в подъезде Семена было тепло и почему-то пахло тушеной капустой. От резкой смены температур Русинский вздрогнул.
Семен открыл сразу. Видимо, после звонка он уже не ложился. Коротко хлопнув ладонью в его большую вялую ладонь, Русинский разулся и проследовал вслед за ним на кухню.
Семен курил, сморщившись как спекшийся помидор. На электрической плите потрескивал каэспэшного вида чайник. Русинский вздохнул и примостился за стол, от которого пахло несвежей тряпкой даже в пять часов утра. Семен косился на чайник взглядом невыносимо уставшего, но сохранившего бдительность человека.
- Извини, что вот так, - сказал Русинский. - Приперся.
- Да ничего, старик. Моя к своим уехала. Бессонница у меня без нее, один хрен, - Семен почесал себе грудь, захватывая толстыми пальцами майку. К тому ж я в отпуске нонче. Отдыхаю, блин...
- А что так жестоко? В марте?
- Да наш кэп взбесился после твоего ухода. Орет, мол, десять висяков на отделе, раньше такого не было, ляля-тополя. Охренел, сссука... Хорошо, что вообще отпустили. Витаутас, вон, получил такую кучу нерасхлеба, что звездаускас его отпуску. Не-а, не уйдет...
Обычно сморщенное лицо Семена сморщилось по-особому, из чего ясно было видно, что Витаутас обязательно сгорит не на Рижском взморье, а на работе.
- Не знаю, как тебе сказать, - сомневаясь в выборе слов, но не в целесообразности разговора, начал Русинский. Семен резко повернулся к плите своим грузным корпусом и, сняв чайник, поставил его в дальнюю часть стола. Русинский закашлялся. С ним так всегда бывало, когда не стоило говорить то, что он намеревался сообщить - собеседника отвлекало нечто, будто некие силы удерживали Русинского от вредного поступка. Однако в этот момент кровь хлынула ему голову; Русинский понял, что не сможет остановиться.
- Семен, тут происходят очень странные дела. Мистика.
Семен кивнул и снова сморщился по-особому, дополнительно, как бы говоря, что вообще-то по мистике он не мастак, но мало ли чего не бывает.
- Люди теряют разум. Просто блымс - и нету. Нет, я не образно говорю. Я конкретно. Это на полном серьезе, Семен. Помнишь случаи с этими... даунами? Так внезапно разум не теряют.
- Хрен его знает, - вновь почесал грудь Семен. - Вон, сколько случаев: был с утра нормальный, а вечером старушку зарубил.
- Нет, я не о том. Тут что-то не так. Ты помнишь Петьку?
- А, этот твой одноклассник? На дне рожденья?
- Да. Такая же фигня.
Семен замер.
- Сразу после того как.
Почувствовав внимание, хоть и тяжелое, с трудом пробивающееся сквозь многослойную усталость и безразличие, но все же явное, в каком-то смысле даже большое, Русинский ощутил натиск вдохновения и смаху вывалил события последних двенадцати часов.
Озадаченный, Семен встал и разлил чай по стаканам. Он заваривал по-монгольски, в чайнике, кипятил несколько минут и использовал самый паршивый прессованный чай, какой только знал Русинский; напиток всегда получался пахучим и крепким, словно борщ. Семен шумно прихлебнул. Отдельная чайная морщина, словно мотострелковая рота, пересекла карту его лица.
- Я что-то слышал о похожих случаях. Через Кировский отдел проходило... Два чувака - один какой-то старообрядец, или какой другой мудак, другой - из бригады Качнутого. Киллер. Обоих нашли на улице в невменяемом состоянии. Ну, ясен перец, обследовали, а потом - в дурку. На Николаевоском тракте, бывший императорский централ. Слышал?.. Тут нам велели молчать - типаря, эпидемия какая-то началась. Ну, чтоб паники там не было, туда-сюда.
Русинский задумался.
- Черт. В отделе я, конечно, ничего не узнаю, - сказал он. - Пособишь, а?
- Старик, это все интересно, - после долгой сморщенной паузы произнес Семен, разминая в пальцах овальную сигарету "Рейс". - Я тоже захотел вмешаться... Есть в этом что-то эдакое. Да. Но пойми, братишка: у меня тут есть свои планы. В место одно, бляхи-мухи, надо съездить. На родину. Хреново мне, старик. Очень... Сны какие-то ежанутые... Давай, вернусь через десять дней - и вперед. А?
Русинский почувствовал тонкую жалобную вибрацию, исходящую от Семена; в сравнении с его торсом она показалась чудовищно трогательной.
Он встал и похлопал Семена по волосатому плечу.
- Не смурей, Семен. Все будет нормально.
Затем вынул из его пальцев окурок, задавил его в пепельнице, и ушел.
III
22 марта 1986 года. 8:05 утра.
Троллейбус первого маршрута, громыхая рогами, подкатил к толпе ожидающих и нехотя раскрыл двери. Всю дорогу до Академгородка Русинский тупо смотрел в окно, пропуская мимо вязкий черно-серый поток городского пейзажа. Не хотелось думать. Он поймал себя на страхе перед мыслительным процессом.
Через двадцать минут он вышел на остановке "Институт номер 75" и направился вверх по отлогому холму, где возвышалось мрачное здание из фальшивого гранита. Сверкавшая на солнце табличка извещала:
ИНСТИТУТ МИКРОХИРУРГИИ МОЗГОВОЙ КОРЫ ГЛАЗА
Ниже располагалось изображение всевидящего ока, венчавшего перевернутую пирамиду. В ее нижнем крае был отчеканен знак - перекрестие копья и пропеллера, вместе образующих крест.
Русинский постоял в задумчивости и толкнул тяжелую дубовую дверь.
Крутые узкие ступени спускались вниз, туда, где холл кругообразно расширялся. В центре круга пылал синеватый газовый костер, шумно вырываясь из центра медной пентаграммы. Ее верхний луч клином упирался в лицо входящего, будто острие меча. За звездой располагался телефон, возле которого стоял испугавшийся при виде Русинского гражданин, и чуть дальше дежурный в штатском.
- Доброе утро. Я по делу, - коротко сказал Русинский.
Дежурный (его черный галстук на белой рубашке скреплял зажим с изображением копья и пропеллера) угрожающе ознакомился с удостоверением Русинского, затем набрал номер внутреннего телефона и сказал пару слов - как показалось Русинскому, на санскрите.
- Вас ждут в кабинете номер девять, - отчеканил дежурный. Русинский кивнул и проследовал.
Люминисцентные лампы горели тихо и как-то зловеще. Русинский шел в мертвом свете по коридору, выложенному дубом и плитами из настоящего мрамора (он разбирался - в армии строил дачу для генерала). Что-то удерживало его от желания оглядеться, шею словно залило свинцом, но краем глаза он все же заметил, что плиты испещрены чьими-то фамилиями - и ему показалось, что в соответствующем разделе он увидел свою.
Путь оказался долгим. В мыслях о природе ухмылки дежурного - то ли он его раскусил, то ли ведомство института с традиционным скепсисом относится к МВД - Русинский наткнулся на портрет мужика с кустистыми бровями и с орденом Красной звезды на форменном пиджаке. Край портрета перечеркивала черная лента. Подпись внизу гласила:
/Агап Гинунг. При исполнении мозговых обязательств в Тель-Авиве./
Русинский вдруг понял, что дежурный его раскусил.
Однако отступать было поздно. Его покрывшаяся капельками пота рука помимо воли открыла дверь с табличкой "IX UBERDIVISION".
Комната оказалась неожиданно просторной и со всех сторон была обшита кожей, украшенной задумчивыми татуировками на тему партии и правительства. Двое мужчин в черных костюмах и черных же галстуках, наклонившись, стояли перед массивным столом. Мужчина постарше, с пышной седой шевелюрой и гордым носом, аккуратно разглаживал пальцем порох, насыпанный в латунную пепельницу.
- Вещеслав Карлович, разрешите войти? - произнес Русинский.
- Я помню, помню, - завороженно глядя в пепельницу сказал директор института, имя и отчество которого Русинский недавно слышал в очень приватной беседе. - Сейчас порох будем поджигать. Я люблю запах жженого пороха. Знаете, эта сера... Questa sera... м-да.
Русинский проник в комнату. Каждая минута пребывания в институте напрягала его все неуклонней. Он не мог понять навскидку, кто мог звонить в институт. Семен? неужели Семен? Нет, вряд ли...
Сера вспыхнула. Взвились искры, теряясь в столбе дыма. Вещеслав Карлович вдумчиво сделал вдох и по-комариному звонко хлопнул в ладоши.
- Вот это да! Вот это жизнь! Бог мой, да в этом бездна мифологии, бодро выкрикнул он, резко выпрямился и впился в Русинского ясным счастливым взглядом.
Крякнув с чувством, Вещеслав Карлович отошел от пепельницы, сел во вращающееся кресло и жестом пригласил Русинского присесть на диван.
- Итак, по сути проблемы, - сказал он. - Как вы, наверное, знаете, мы занимаемся не только и не столько мозгом, сколько глазом. Вы в курсе, что у человеческого зародыша глаза растут из мозга? И что у человека когда-то был третий глаз, так называемый Дангма? Это по-тибетски. Дангма располагалась в затылочной части. Ее рудимент - шишковидная железа. Посредством этого глаза обеспечивалось сферическое зрение и общались с энергиями космоса, что давно доказано нашим ведомством на секретном Красноярском симпозиуме. Два лицевых глаза были слаборазвиты, и сейчас они работают за счет Дангмы. Обязательно напишите в своей газете, что мы работаем над созданием гармонического советского человека, у которого и лицевые глаза, и Дангма будут одинаково хорошо видеть врагов государства и неплохо различать нюансы политики на настоящем этапе. С остальным вас ознакомит мой заместитель по политической части. Пожалуйста, Агродор Моисеевич.
С этими словами директор встал, накинул пиджак и вразвалку вышел за дверь.
- На обед поехал. /В гостиницу,/ - с меланхолическии ударением на последнем слове заметил Агродор Моисеевич, наблюдая в окно, как начальник садится в черную "Волгу". - Значит, сегодня уже не будет.
Он с удовольствием сел в кресло начальника, вытянул ноги и хрустнул костяшками пальцев.
- Да вы не дергайтесь так, Андрей. Я знаю, что вы не из газеты. А насчет шефа - не обращайте внимания. Издержки напряженной работы на острых рубежах современности... Эти его штуки с порохом - не шизофрения, но, без сомнений, говно полное. Каждую неделю сдает кровь на анализ. Надеется увидеть там серу. Говорит, что до Брежнева его кровь горела как спирт и самовозгоралась. Вы слышали, как однажды он едва не сгорел, порезавшись во время бритья?..
Русинский решил не тянуть и спросил в лоб:
- Вы что-нибудь знаете о прецедентах, когда уничтожался разум человека? К примеру, какая-то секта? - добавил он, уже осознавая, что добавлять вопрос не надо было - вышло бы короче и корректней.
- Любая секта уничтожает разум, - пожал плечами Агродор.
- Я говорю о той, что лишает покровительства Афины.
- А-а, эта ересь орфическая... Мечта кришнаита.
Неожиданно лицо его побледнело.
- Опасность окружает нас. Нужно глядеть во все три. Они специализируются на ослаблении расы. Вы знаете, что евреи относятся к поздним ветвям арийства? В эволюционном смысле они - дети. Младше их никого нет. Надеюсь, вы не сочувствуете тайной доктрине Анджелы Дэвил?
Агродор вспыхнул взглядом и уставился на гостя в упор:
- Русинский! Ты еврей?
- Вроде нет. А что?
- А то, что без Каббалы тут не разберешься, - откинулся он на спинку кресла. - Только еврей может твердо понять Каббалу. Врага нужно бить его оружием. Жаль, что ты гентильман.
Смягчившись, расслабившись, он расправил галстук и продолжил:
- Ну что же. Да, мы располагаем некоторыми данными, но... поймите меня правильно: необходима небольшая подготовка. Сначала нужно взять в руки эту книгу...
Он вынул из ящика стола и развернул тяжелый фолиант в пурпурной матерчатой обложке. Титульный лист украшало изображение, выполненное шариковой ручкой: человек в черной каске, какие носили солдаты Вермахта, в черной кожаной униформе, повторявшей форму подразделений СС. Подняв суровый подбородок, человек летел с выброшенной вперед правой рукой. Левая, словно продолжая линию, была симметрично отставлена назад. За спиной человека бешено вращались винты, напоминавшие вертолетные, но поменьше. Название книги гласило:
SUPERCARLOS. НЕПРЕРЫВНЫЙ ПОЛЕТ
Книга для всех и ни для кого
Имя автора - Мария Блади - вызывало в Русинском смутные ассоциации, но лишь на секунду.
- Но позвольте, - заметил Русинский. - Ведь это же Карслон.
Мозговик скользнул по лицу улыбкой.
- Я знал, что вы зададите этот вопрос. Потому начну по порядку...
Он отпил чай из стакана в сверкающем медном подстаканнике, и повел задумчивую речь:
- Вот вы говорите - Карлсон, детский персонаж. Но ведь дело не в том, что создано. Дело в том, что за этим следует. Дело в идеальном. Мир был идеальным и снова таким будет. Каким должен быть человек? Погляди на человека на обложке. Каким он, по-твоему, должен быть, если учесть, что все в этом мире развивается, растет?
Русинский попытался представить идеального Карлсона. Картина получилась примерно такой же, что и на титульном листе книги.
- Я вижу, вы со мной согласны, - произнес зам. - Потому вы легко поймете, что Карслон - это образ сверхчеловека. Образ, в полноте своей намеренно скрытый писательницей. Каждый человек, причастный к оккультной тайне, дает обет молчания. Итог его - искажения истины, которые мы бросаем в умы профанов. Зачем? Чтобы не случилось искажений более опасных. Почему? Вот лишь несколько объяснений.
Начнем с так называемого Карлсона, который живет на крыше. Эту книгу написала нордическая писательница Астрид Линдгрен, это известно. Но мало кто знает, что Астрид - под именем Мария Блади, или Mariah Bloody, - эти слова Агродор начертал рукой в воздухе, - она была посвященной в мистерии Карлоса. Чтобы донести его культ до людей, она изложила историю о нем в простом и доступном виде, в форме сказки. Так же поступили офиты, которые создали историю о Христе, изложив ее в форме сборника экзистенциальных анекдотов, ныне известном как Евангелие. Офиты - древнейшая секта - боролись с засилием иудаизма. Их Книга стала ударом по этой религии. Первые христианские священники были офитами. Но не в этом дело. Давайте проанализирует так называемую сказку о Карлсоне.
Во-первых - что такое его пресловутые винты за спиной? Известно, что у человека между лопатками есть мощнейший энергетический центр - Вриль. Он известен из ведических книг, которые стали тайными с началом Кали Юги. Немцы в своих лабораториях проводили исследования на эту тему. При СС было специальное оккультное подразделение, Анэнербе - "Наследие предков". Винты образ Вриля. В оккультной сказке Астрид Линдгрен он выполнен в форме винтов - в духе нашей техногенной цивилизации. Вриль позволяет летать. Это одна из его мистических функций - возносить человека в тонкие миры. Пропеллер - образ Духа. Потому мы называем себя пропеллитами.
Во-вторых, Карлсон живет на крыше. Что такое крыша мира? Это, во-первых, Север - прародина нынешнего человека, хомо сапиенса. Во-вторых, это высшие космические сферы, управляющие Вселенной, Землей и человеком. Карлос - их аватар, или воплощение. Точно также Иисус был аватаром Бога. Само имя - Карлсон - означает буквально "Сын Карлоса". То есть - сын или воплощение Бога. Вообще, у Карлоса много аватаров. Самый известный - Карлос Кастанеда. Его фамилия эзотерически расшифровуется так: Каста Недо. Кроме него, известны Карл Великий - создатель империи, а также великий террорист Карлос Шакал, а в ипостаси культурной - Карел Готт. Но здесь фамилия выбрана слишком в лоб: Gott - по немецки - Бог. Надо быть скромнее...
В-третьих, Карлос в сказке общается с ребенком. Ребенок - образ человечества. Так же Иисус, и Будда, и Кришна общались с людьми, рассказывая им сказки, иначе никто бы их не понял. Сказка - это форма. Все они были аватарами друг друг друга. Вообще, СуперКарлос - это для профанов. Карлос существовал всегда. Супером он является с точки зрения современного состояния человечества. Он - над ними. Он выше их. Слово "король" происходит от Карлоса, ибо он - повелитель человеческих дум и стремлений. И одновременно - воплощение духовного поиска. Надеюсь, вы понимаете, о чем это я. Вы посвященный?
- В каком-то смысле.
- Благодарю. Это ответ посвященного. Знаете, что бы я вам посоветовал? Обратитесь в Николаевский централ. Там работает выдающийся специалист в интересующей вас области. Мы встретимся позже. Auf Wiedersehen, Kamerad.
***
Водитель рыжего "Москвича" был нервен и словоохотлив, что выдавало в нем профессионального шоферюгу. Русинский остановил машину на улице Береговой, впадавшей в широкий и древний Озерный тракт. Его путь лежал к Николаевскому централу - бывшей царской тюрьме, где в настоящее время располаглось нечто вроде хосписа для неизлечимых инвалидов Армагеддона. Как правило, душевнобольные уже никогда не возращались из централа.
Одесную жарило солнце, ошуйную гнила колоссальная свалка, устроенная меж старых небрезгливых сосен. Водила изливал боль разума.
- ...Вот, к примеру, мамаша моей тещи. Бабке девяносто лет, последние сорок пять живет без мужа - сгорел на работе. Видать, эта смерть произвела на нее сильное впечатление - с тех пор, прикинь, не переодевается, так что сейчас к ней не подойдешь без противогаза. Я говорю: "Бабушка, ваши одежки провоняли совсем, стерлись до дырок, сплошная порнография, вот вам новые юбки, кофточки - переоденьтесь, ну ради Бога." Так она уперлась как баран, лежит на своей койке и теребит свои тряпки, жалуется на злые времена. Говорит, мол, не верю я в эти ваши новые платья - свои-то ближе. Вы, говорит, мне всякую фигню подсунете, я знаю. Ведите меня к портному, пущай залатает.
- Если тебя это достает, сорви с нее лохмотья, - задумчиво вмешался Русинский.
- Ага! Щас. Это же тяжелая статья! За это вышка полагается в нашем самом гуманном в мире суде.
- Жаль, что ты не китаец. Там почитают стариков. И вообще, любую древность, потому что будущего у них нет. Я слышал, это очень старый народ.
- Но мы-то моложе.
- У нас есть Библия, а там говорится, что старики существуют для нашего испытания в милосердии.
- Хорошо, - оживился водила. - То есть имеется в наличии некий непреложный порядок от Бога. А она его отрицает.
- Так ведь эти тряпки - на разумном существе. И вообще, есть такой божественный опыт - опыт наблюдения за изнашиванием одежды. Переживание такое. Мысли о полной наготе, вызывающие эрекцию духа...
- А у женщин? Что у женщин-то поднимется? Потому-то и спорили мужики древние, есть у них душа или нет. И эту дуру старую ты считаешь разумным существом? Сорок пять лет не снимать колготок?! Если я соглашусь с твоим милосердием, то писец моим мозгам. Стану таким же, как эта выдра. Хотя, добавил водила, измяв лицо гримазой раздумья, - быть счастливым дураком тоже не всегда хочется. Это все равно что иметь первую красотку на Москве - но в полной темноте. И не располагая воображением. С другой стороны, секс у нас в эсэсэсэр - явление тактильное... Мы только ненавидим глазами. Все остальное - наощупь. Скажи совкам "наслаждайся" - и все ломанутся в темноту, насиловать. А кто не побежит - того, стало быть, оприходуют первым...
Русинский понял, что хочет пить, но по-спартански отвлекся от воображения, полного запотевших бутылок пива.
- Однако, приехали, - весело бросил шофер. - Вот он, твой централ. Располагайся.
***
Русинский увидел примерно то, что и ожидал увидеть. Обшарпанная серая громада вздымалась среди густого сосняка, шумевшего под ветром. Маленькая дверь в передней части здания была открыта. Русинский вошел и оказался в сыром мрачном помещении, где все напоминало о внушительной толщине стен, сжимающих пространство в узкую и обидную для души нежилую площадь.
Пройдя по коридору, Русинский толкнул рукой первую попавшуюся дверь. В камере, очевидно расчитанной на шесть человек, стояли семь двухъярусных кроватей. Камера была пуста, и на шконках сидели только двое: мужик гармонировавшего с обстановкой уркаганского типа, с испитым лицом и остекленевшими глазами цвета чифиря, и девушка лет восемнадцати; ее щеки были измазаны чем-то подозрительным.
Заметив вошедшего, девушка протянула к нему руки и захлопала гнилозубым ртом:
- Я хочу выйти замуж и иметь четырех бэбиков. Ты во сне обещал. Ты будешь работать, только не в праздники. Еще ты будешь мыть полы, посуду, купать меня в заботах и роскоши, а я буду рожать тебе бэбиков. Хорошо же, ага?
Нахохленный внезапно ожил, напрягся и просипел:
- А если ты, баклан позорный, хоть волос с ее головы упадешь, то тебе понял.
И рубанул стремительной диагональной распальцовкой.
Тройная смысловая синкопа показалась Русинскому интересной, но он почувствовал себя школьником, к спине которого привесили табличку с надписью "У кого нет коня, все садитесь на меня". Он обернулся. В дверях, точно под триумфальной аркой, стоял невысокий хитрый мужичок в белом халате. Холеная рыжая бородка торчала вызывающе, очки сверкали.
- Вы из милиции! - воскликнул он почему-то радостно. - Ведь это вы звонили?
Русинский кивнул, хотя никому не звонил. Не вынимая рук из карманов, доктор бочком переместился к Русинскому и, с большой любовью глядя на пациентов, каждого потрепал по вихрастой маковке.
- Я тут главным врачом работаю, - стыдливо признался он. - Позвольте представиться: Сатурнов Гикат Даздрадемаевич. Предвидя ваши вопросы, охотно отвечу. Я появился на свет по семейной традиции - девятого мая; экзотерически мое имя означает Гитлер Капут. Имя моего родителя означает Да Здравствует Девятое Мая. Как видите, патриотизм я впитал с семенем отца. Генетический факт.
И жестом пригласил Русинского проследовать за ним.
Они вышли в длинный обшарпанный коридор. Ступавший впереди Сатурнов продолжал говорить на ходу, то и дело оглядываясь на своего попутчика.
- Наш род теряется корнями в священниках Этрурии, жрецах Сатурна - бога времени, если вам известно. Впрочем, герб нашей фамилии высечен на Центральной плите Атлантиды, точнее, острова Дайтья, в чем вы можете убедиться, посетив секретную лабораторию номер шесть бис при КГБ. Там хранятся слепки. Насчет вас мне вчера звонили. Проходите, - на грани истерики и душевного порыва произнес он, раскрыв кабинетную дверь. - Знаете ли, нечасто в моем ведомстве появляются люди из непроявленного мира.
Вйдя вслед за постетителем, доктор возлег на кушетку и глубокомысленно уставился в потолок.
- Что я могу вам сказать?.. Давайте все издалека. В романном ключе. Я разработал свой собственный метод. Он очень прост. Вся суть его заключена в классификации пациентов. Своих пациентов я разделил на пять основных категорий. К пятой принадлежим мы с вами. А также те, на туманной земле, откуда вы сюда прибыли. Они пока находятся на сохранении. К четвертой, несомненно, относятся эти двое, которых вы имели случай лицезреть. Там есть еще несколько диссидентов - вы ведь понимаете, свои спецзаказы есть и у меня тоже. Они сейчас на нашем кладбище, предают земле одного из своих. Слышите, стихи читают?.. А, это текст "Марсельезы"? Нет. Мне кажется, это гимн СССР... Ну да ладно. Что касается третьей категории, то там собраны презабавные типы. Расстройства на сексуальной почве. О, доктор Фрейд был бы счастлив - хотя всех моих бедолаг он разместил бы в третьей категории, конечно... Вот типичный пример: мужчина сорока лет, инженер. Вдруг решил, что он - женщина. Видите ли, он сомневался, что способен стать героем Красного космоса. Плюс жена: сказала ему, что, дескать, он мало зарабатывает. Есть еще дамочка, которая любит носить мужские костюмы и пишет книжки феминистического содержания. Окончательно заболела, когда у нее начал расти пенис, потому что тестикулы так и не появились. То, что вы ищете, находится во второй категории. Полная невменяемость, но тело, что симптоматично, визуально наблюдается. Бесповоротная идентификация с тенью. Причем со своей собственной. Что характерно: при жизни (я имею в виду жизнь в обществе) они все отличались некой непримиримостью. Кто-то стремился попасть в ум-честь-и-совесть нашей эпохи, кто-то - в миллионеры. Большая часть - конченые преступники. В начальники никто не пошел, и это тоже характерно. Кстати, жду пополнения: договорился с Министерством обороны. Своих героев оно сразу будет отправлять сюда, минуя госпитали. Таким образом, каждая категория находится в соответсвующей палате. А первая палата пуста.
- Вы держите ее для более тяжких случаев?
- Нет. На самом деле, она переполнена. Просто они невидимы. Но они есть.
Русинский немного подумал и произнес:
- Это разумно. Однако мне хотелось бы взглянуть на вторую категорию.
- При всем нашем уважении, - всплеснул руками доктор и взвился с кушетки. - Пойдемте. Они как раз в саду. Общаются с народом. Это еще одна моя разработка: инсталляция в социум. Понимаете, я поставил там несколько социально-пиктурологических стендов, мне подарили их в соседней воинской части. Лечил там одного полковника. Типичный марсов комплекс: жена совокупляется с кем попало, что, несомненно, являет комплекс Венеры. В общем, полковник решил устроить Великую Троянскую войну и совершил бросок на соседнюю дивизию. Но ничего. Я его вылечил. Заказал ему орден в форме яблока раздора, облачился в тогу и венец и преподнес ему награду. Спасибо, выручили санитары: они в театре на полставки работают.
- И все же я не понимаю, чем вызван ваш интерес к этой категории, продолжил доктор, шествуя впереди Русинского. - В сущности, обыкновенное быдло. Хотя нет, - хитро блеснул он глазами. - Я понял: это элитное быдло. /Конченые люди/. Ну да, конечно. Ведь я собирал досье на каждого.
Сад представлял собой скопление полузаброшенных кривых деревцев - по всей видимости, когда-то слив и вишен. Над голыми ветками Солнце жарило как печь, о которой забыла хозяйка. Глумливо надрывались воробьи. После пятиминутного обозрения граждан второй категории Русинский впал в состояние, близкое к трансу. Возле выбеленных ветром и дождями стендов с одинаковыми во всех отношениях солдатами, постигающими тайны строевого шага, он насчитал двадцать одну тень во плоти, или просто плоть, живущую по ничем не отменимым законам. Они бродили по земле с целью, неизвестной и Господу Богу, ибо вряд ли Он обитал в этих существах со стерильным мозгом. Должно быть, они жили какими-либо ощущениями только ночью, когда под влажным вращением Луны их кровь набухала и ускорялась в венах или, напротив, становилась тише, как воды отлива. Русинский подумал, что идеальным для них местом был бы крайний север с его полярными ночами, и если бы вдруг они вновь обрели способность мыслить, то сказания о блаженной северной поре и гиперборейской Родине не утихали бы средь них веками.
В мыслях о том, есть ли душа у этих тварей, Русинский вначале подумал об инфузориях, затем ему подумалось, что если это возможно - ведь разум отбрасывает свою тень, тело - то непременно должно было существовать время, когда по земле бродили бессмысленные призраки, сияющие и лишенные тени, только дух и, может быть, душа, такие же слепые, как у матерей, обожествляющих свое потомство; что такой же бессмысленной и полной смысла, вложенного в будущее, была планета и что театр лишь позже начался с вешалки, на которой появилось первое пальто - с первыми звуками Пьесы. И когда в его голове почему-то заиграл вальс Мендельсона, резкий хруст накрахмаленного халата ворвался в эту скорбную гармонию.
- Понимаю, понимаю, - с одобрением произнес Гикат. - Должно быть, вы тоже любите "Клуб кинопутешествий", когда там про Бермудские острова?... Так вот, Бермуды - это остатки Атлантиды, ее горные плато. С тех пор там и творится чертовщина, а здесь - ее филиал. Тут специальное место. Каждый ходячая надгробная плита. Вы не представляете, каково это - подбирать утонувших моряков с летучего Голландца. Только представьте: куда ни глянь везде Бермудский треугольник. Люди исчезают, а когда приходят в себя... То есть в себя они уже не приходят. Так вот, просто. Лишь доживают срок. Иногда я чувствую себя архангелом Гавриилом. Да, да! С той, однако, разницей, что меня сослали на Землю за какой-то чертовски человеческий поступок... Понимаете, люди здесь очень странные. Точнее, были когда-то людьми. Вот, например, Антон Павлович, режиссер местного драмтеатра. Видите - вон тот, с ушами?
- Признаться, я не поверил своим глазам, - сказал Русинский. - Так значит, вот он где. А писали, что у него что-то с сердцем, лечится в Москве.
- Ну, тут тоже в каком-то смысле столица, но с сердцем у него полный порядок. Уверяю вас. Или вот Роман Егорович. Гроссмейстер, мастер спорта... Я ходил на его игры еще студентом. И что? Заделался иеговистом-проповедником. Рвался убить Сатану, а потом и на Бога переключился. Все они здесь. В моей тихой гавани.
- Vela negata in pelago meo, - машинально проговорил Русинский (Корабли не появляются в моей гавани - лат., из поэмы Овидия. Прим. авт.).
- Говорят, Овидий в последние годы был очень плох, - посочувствовал доктор.
- Как вы думаете, что конкретно с ними случилось? - спросил Русинский, прикуривая сигарету. Ради этого вопроса он приехал сюда.
Доктор вздернул плечи и лицо его стало будто у куклы с изуверской гримасой, шуткой пьяного дизайнера - Русинский видел такую в квартире Петра и уже не смог забыть.
- Сложно сказать... Хотя, на самом деле, все просто. Вы ведь понимаете: говоря строго, нормальных людей не существует в природе. У природы - одни образцы, у духовной жизни - другие. Одно всегда с другим воюет... Есть только те, кто находится на сохранении, и те, кто увлекся в какую-либо сторону. Это знание и есть самое главное в психиатрии. Не молиться на нормальность, которая совершенно оккультна - ибо латентна по сути своей, как Всевышний брахманистов - а просто хорошо различать все эти сдвиги, которые суть бытие. Степени, причины, оттенки... Ну, вы знаете. Я начал романный цикл об этих людях. Боги мои, тут столько материала.
Русинский потушил сигарету и, пожав Гикату руку, направился во внешний мир.
***
Прошагав пешком около километра до поворота на Николаевскую трассу, Русинский впервые за последние пятнадцать минут услышал звук приближающейся машины. Не задумываясь, он вскинул руку. Черная "Волга" мягко притормозила рядом с ним.
За рулем сидела блондинка вызывающей сексуальных форм. На заднем сидении раскинулся небритый детина, посмотревший на Русинского с доброжелательностью степняка, встретившего в поле бесхозную лошадь.
- В Малкутск? - спросила дама, в волнующем наклоне свесив грудь.
- Туда.
Дама улыбнулась и распахнула дверцу.
...Машина неслась на вызывающей для нее скорости - не меньше ста тридцати в час. Ровная дореволюционная дорога плавно извивалась, пряча в тайге свои изгибы. Русинский молчал; не хотелось разговаривать. После увиденного в больнице он размышлял о слишком разнообразных вещах, часто противоречивых. Закрыв глаза, он вдруг увидел себя стоявшим перед венецианским зеркалом. Стекло отражало букли его парика, кружева манжет и малиновый сюртук, туго застегнутый на руди. Сзади, появившись из анфилады роскошных комнат, вышла женщина дивной красоты в высоком парике, напоминавшем взбитые сливки. Она остановилась за спиной Русинского, обвила его шею нежными руками - и вдруг стиснула его голову с чудовищной силой.
Русинский захрипел и дернулся вперед. Схватившие голову руки последовали за ним. Жлоб за спиной тяжело дышал. В мозгу Русинского пролетело все его детство и какие-то картинки, подобные увиденным во сне. Летящая навстречу дорога исчезла, он уперся лбом в пластмассовый выступ, бардачок распахнулся, оттуда вывалился пистолет и больно ударил его по ноге. Напрягши все мускулы, Русинский с боевым криком рванулся влево. Женщина завизжала и крутанула руль. Раздался удар и скрежет железа. Русинский опрокинулся в небытие.
IV
23 марта 1986 года. 0:05 ночи.
Натужно шумели сосны. Почти омертвевший, но все же не утративший способность соображать, мозг подавал однообразную команду: вперед, на свободу. Застонав, Русинский приподнялся на локте. Голова женщины очевидно, мертвой - скатилась с его плеча и со стуком ударилась о резиновый коврик. Ей пришлось хуже всех. Машина врезалась в ствол сосны левым краем бампера. Автоматически Русинский прикинул, что если бы женщина осталась в живых, вытаскить ее из-под железа пришлось бы целый день.
Выбравшись в открытую дверь, он сделал глубокий вдох и ощупал свои ребра. Несмотря на первые подозрения после отключки, серьезных переломов не оказалось - зато явно наличествовало сильное сотрясение мозга и, скорее всего, не обошлось без внутреннего кровотечения. Русинский нашарил в кармане сигарету и зажигалку и не вставая с земли закурил. Начало тошнить. Отбросив курево, он схватился за крыло машины и сделал рывок. В тот же миг перед глазами вспыхнуло, мгновенно погасло, и наступила ночь.
***
...Легкий толчок в макушке вернул сознание. Поднявшись, он увидел свое тело сверху и не удивился. Вокруг по-прежнему шумели сосны, ветер бросал снежную крупу на разбитый автомобиль с двумя трупами внутри. Русинский почувствовал, что неизвестное и мощное притяжение влечет его за собой, и сопротивляться было бесполезно. Все случилось в один миг, и вот он уже летел в центре завихряющегося пространства, свернувшегося словно труба.
Полет захватывал, как любовь, но внезапно пространство распахнулось в очень светлое место и ему стало необыкновенно хорошо. Прямо перед ним расстилалась широкая лестница, сиявшая, как все в этом месте, очертания и фигуры которого расплывались в море огня. В конце лестницы горел костер; там, собравшись кругом, сидели несколько мужиков в белых одеждах и стройно пели песню. Русинский сделал несколько продвижений - ибо шагами это трудно было назвать - и поднялся наверх. Мужики грянули с особой силой:
Вррррагу не сдается великий Христос,
Ниррррваны никто не желает!
Русинского обволокло теплом и почему-то гордостью за поющих. Свет наполнил его таким восторгом, что он готов был распространиться во всю Вселенную.
Из полыхавшего впереди огненного тумана вышел ангел с ослепительно блиставшей львиной гривой и в белом с синим, под цвет небес, камуфляже. Через его плечо был перекинут ремень золотистого АК-74. Ангел поманил Русинского.
Вместе они вышли в поле, геометрически безупречным квадратом усталенное палатками, и по неестестественно прямой улочке, сразу навеявшей воспоминания о казарме и неизбежном дембеле, проследовали в центр лагеря. Над центральной палаткой развевался пурпур знамени с надписью:
ПЕРВЫЙ АНГЕЛЬСКИЙ ЛЕГИОН
Слава легату Господа Императора архистратигу Михаилу!
Внутри палатки стояли деревянный стол и скамейка. Ангел присел и жестом пригласил Русинского последовать его примеру.
- Куришь? - спросил архангел Михаил, ибо это был он.
- Курю, - покаялся Русинский.
Михаил запустил руку в карман и вынул длинную сигару.
- Держи. Это ритуальный табак ацтеков. Не "Беломор", конечно, но тоже ничего.
Сигара зажглась сама собой, словно включенная таймером. Раздался тонкий будоражащий аромат. С первой же затяжкой Русинский заметил, что его прозрачная рука приобрела розоватый оттенок.
- Ну, рассказывай, - отвлеченно сказал Михаил.
- А что рассказывать? - Русинский едва удержался от желания сплюнуть. Хреново все. Гады бесчинствуют, но рай неизбежен. Все люди говорят об этом. Кстати: если научных материалистов и других ментов пускают в рай, то где же ад? - самокритично поинтересовался он.
- А ты откуда пришел? - взглянул на него архангел. - Отступать некуда. Позади - Небесный Иерусалим. Там, у вас, проходит передовая. Вопросы?
- Когда наступление?
- Скоро. Практически, уже началось. Сейчас мы формируем разведывательные когорты и преторий на местах. Нам нужны люди с опытом боевых действий. Знаешь ведь, новобранцев надо беречь. Потому что проблем с ними выше крыши. Вот, набрали одних. Пришли в армию только после третьего Призыва. Поздние пташки. Только и умеют, что летать.
Русинский откашлялся.
- Скажи, великий. Весь этот сыр-бор на Земле - только чтобы все попали сюда?
- Все так или иначе попадут сюда. Только в разными дембельскими поездами. Война - в сущности, иллюзия. Но война идет. С Иллюзией. Если она не будет идти, вселенная погибнет. Ты сейчас призван лишь для собеседования.
- Значит, я вернусь?
- Если ты видишь меня - значит, вернешься.
- А если б я видел Пустоту?
- Болтался бы здесь, как космонавт в Первичной Проруби. Ее нельзя ощущать. Ею можно только быть - к тому мы все и следуем. Это не бытие. Я не смогу обрисовать тебе это даже на боевой карте Господа. Но представить пытайся. Это разгружает. Я знаю. Был там у вас недавно, перед Кали Югой. Правил твоей колесницей, Арджуна.
У Русинского защемило сердце. Он встал, но Михаил махнул рукой:
- Да ты присядь, присядь. Еще набегаешься. Тут видишь в чем стратегия, - продолжил он, поднявшись со скамейки и присев на краешек стола. - Может быть, я повторяюсь, но тут дело не столько в войне, сколько в ее наличии. И не столько в ее наличии, сколько в войне. То есть мы один хрен победим, но необстреляные души в раю быть не могут. Древние викинги это понимали. Правда, выразили эту мысль несколько по-солдатски... Война закаляет. Война - естественное состояние мира, но не в смысле тупого убийства, как сейчас в Афгане, и вообще, а война как лучший и точнейший образ. Она дает возможность исполнить долг перед Вселенной, которая наш дом. До Пустоты еще добраться надо. Изжить врагов мечом и светом. Вопросы?
Русинский молча посмотрел на свои наливающиеся телесным цветом руки, на миг подумав, что кончики пальцев или вся эфирная кожа сейчас покроется кровью по локти, но кровь не появлялась, и Русинский скучно произнес:
- Извините. Я понимаю: несчастный мент-расстрига вдруг взлетает к такому генералу, как вы, и присутствует на личной, так сказать, задушевной беседе. Но, Бомомать вашу, я отбыл свои два года в доблестной Красной армии и теперь не вижу смысла в войне, финал которой предрешен. Победный финал, я имею в виду. Я выхожу из этой игры.
Михаил ничего не ответил. Повернувшись резко вправо, он подхватил со стола планшетку с золотым обрезом, извлек один лист и убедившись в чем-то, произнес:
- Взгляни.
V
23 марта 1986 года. 2:30 ночи.
В ординаторской Второй городской поликлиники Малкутска находились пять живых существ: реаниматолог Танатов; санитары Коля и Фома - изможденные юноши с признаками вырождения на лице; медсестра Людочка - девушка со всеми достоинствами - сидела на коленях у доктора, который с нежностью поглаживал бок черной костистой кошки, примостившейся на коленях у Леночки. Кошка спала; господа играли в покер. Людочка не играла, но принимала самое живое участие в перепитиях картежной войны.
Из магнитофона "Весна", шипя и булькая, раздавался подпольный матерный концерт А. Розенбаума. Доктор проигрывал, уже достигнув той черты, за которой исчезает последний шанс подняться в Эдем карточных победителей. Однако доктор был бодр, чем тайно озадачивал санитаров.
- Однако вы проигрываете, сударь, - сочувственно вздохнула Леночка.
- Зато ему в любви везет, - пробурчал Фома.
Доктор наклонил голову и спокойно заметил:
- Я не играю в карты. Я играю в жизнь.
Почувствовав сомение в играющих, он пояснил:
- Мы все играем в жизнь. Это все - символы. Каббала, одним словом.
Доктор положил свои карты на стол рубашками наружу и, достав шесть карт из колоды отбоя, сказал:
- О'кей. Объясняю... Это - черви. Так? - он показал карту присутствующим. - А это - пики. Что в них общего? Форма?
Колян хмыкнул:
- Это только у ментов форма одинаковая.
- Не гони, - с удовольствием, явно обрадованный возможностью блеснуть пониманием, возразил Фома. - Погоны-то разные!
- На зоне тоже форма есть, - сказал Колян.
- У кое-кого даже ментовская, - уточнил Фома.
- За ментов ответишь, - прошипел Колян и взялся за сверкнувший в его пальцах ланцет.
- Господа, я все понимаю, - счел нужным вмешаться доктор. - Вы тут просто и благородно помогаете страждущим, утратившим путь, цель и нюх, а заодно косите от Красной армии, так что напряжение чувств имеете большое. Но давайте пока оставим ченч между зоновской и армейской пластами культуры.
- Тем более, что разницы никакой, - примирительно, но в то же время торжествующе резюмировал Фома.
- Э-э, ну ты лох, в натуре, - ухмыльнулся Колян. - Ну да, с одной стороны, там хавка одинаковая, и все эти ларьки, и дубаки в погонах, и стукачи, и неволя, и рабский труд, но никто же в крытке не заставляет тебя кроссы нарезать в противогазе и со всем этим говном, типа рюкзаков? И срок для всех одинаковый. Ну ладно, на флоте три, и если попал на кичу, то еще накинут, а для рэксов - срок до пенсии, но это же детали.
- Дебилы! - крикнула Леночка. - Он вам говорит, что форма есть у всех у ментов, солдат, офицеров, даже у шахтеров, я слышала, но эта форма - общая для всех только по названию. Ну, цвет там другой, пуговицы...
Доктор соскользнул рукой с кошачьего бока и нежно провел под Леночкиной грудью. Затем, когда тишина восстановилась, он продолжил:
- Все, о чем мы можем рассуждать, касается только формы вещей и явлений. По-своему вы правы, но суть пока не в этом. Дойдем и до цвета. Сейчас давайте посмотрим на туз пик. А propos, обратите внимание: и черви, и пики нарисованы в форме наконечника для копья. То есть - в форме треугольника. Стало быть, они имеют простое числовое значение - тройку, и сколько их, символов, на карте, в данный момент неважно. Теперь: что такое цифра три? Это - троица. Самое высокое в мироздании: Отец, Мать и Сын. От них исходит все. Теперь возьмем трефы...
Доктор развернул и всем показал бубновый туз.
- Трефы - это что? Это - шаманский бубен. Четырехугольник. Значит, числовое значение - четыре. Форма - квадрат. Что такое квадрат? Самая устойчивая геометрическая фигура. А что такое правила геометрии, как говаривал старик Пифагор? Это законы, которые не отменить даже богам. Четыре стороны света, четыре стены, четыре магнитных направления, четыре ветра. Это наш космос, в котором мы все бытуем. Его создала тройка. Но как? А очень просто. Прибавьте одну сторону к треугольнику - и получится квадрат. Но это - с одной стороны. Со стороны Каббалы все иначе. Тройка над четверкой это крыша над домом. Крыша, понятно?
- Правительство. Кремль, - догадалась Лена.
- Мафия, - уточнил Колян.
- Далее, - сказал доктор. - Возьмем три и четыре отдельно. Три плюс четыре равно семь. Это символ совершенства. Но - не человеческого совершенства, прошу отметить особо. Человека еще как бы нет. И где же он? Под кроватью папы Римского? А вот он! - воскликнул врач и безошибочно вынул из колоды туз червей. - Три плюс четыре плюс три равно десять. Десятка - это и есть весь мир с богоизбранным человеком, который испытывает на себе весь этот бардак. Эту зону. И если вы хотите закосить, то прикиньтесь больными. Ну, типа, пустыми. Ясно?
Колян замотал головой. Фома закурил.
- Поясняю еще раз, - сказал доктор. - Этот треугольник падает вниз. Проходит через квадрат как нож через масло, или отражается в нем, как в воде. Возникает нижний треугольник - тень высшего, но для нас он - высший, потому что мы видим его, а высший - не видим. Верхний выходит из Абсолюта как луч прожектора, его основание - бубен. А нижняя сторона бубна становится основанием для нижнего треугольника. Это - сошествие в материальный мир. Это и есть все мы, господа. Хомо сапиенс и все твари, и все камни и растения, со всеми микроорганизмами и уголовным кодексом. Цвет высшего треугольника черный, потому что это свет, которого мы не видим, а цвет этого треугольника - красный, цвет огня. Потому этот знак - черви, червонный, и потому мы под УК живем как черви, братаны. Но черви кушают плоть, эти маленькие змеи мудрости. И копят золото. А поклоняются Луне, которая противница Солнца, которое и есть воплощение УК. Я знаю, почему в тюрьмах никого не выпускают на улицу. Это умные люди придумали. Они понимают, что этому человеку Солнца уже не надо, оно уже настигло его. И потому пусть его хранит Луна. Это гуманно, я считаю. А золото обожествили - как напоминание об УК и как приманку.
- Сейчас золото законно не сделаешь, - задумчиво повел ушами Фома.
- А верхний тогда какой? - спросил Колян.
- Верхний - пики, - расслабленно ответил доктор. - Я уже говорил. Они черные.
- Хрень какая-то, - засомневался Фома. - Черных надо мочить. Вон их сколько на рынке. И в Афгане их мочат.
- Да че хрень-то, - презрительно сплюнул Колян. - Для космоса черный цвет - самое то. Вот ты идешь, допустим, ночью по улице. Фонари поразбивали, звезд нет, полный абзац. Тут впереди - непонятки. Ты идешь и стукаешься лбом. А это, оказывается, стоб фонарный. Свет, который мы не видим.
- Нет, господа, - запротестовал доктор. - Не в этом дело. Бог не может отключиться, пока люди ползают во тьме и называют светом только то, что им доступно. Бог - не фраер, и дело тут вот в чем. Если ты знаешь, что впереди - столб, и не настолько набухался, чтобы забыть об этом, то ты обойдешь его и продолжишь свою дорогу. А если нет, тогда получишь в тыкву, но будешь знать. Вот в чем вся суть. Неясные воспоминания о столбе называются интуицией.
- Значит, если я не хочу в тюрьму, потому что чую, что нифига хорошего из этого не выйдет, значит, я уже сидел в тюрьме? - спросил Фома.
- Это значит, что в прошлой жизни ты уже там был, - ответил доктор. - И значит, имеешь право требовать освобождения. Только сначала ты должен доказать свое право атеистам в прокуратуре. А это дохлый номер, если золота нет.
- Вы говорите - освобождение, - возник Колян. - Но вот Серега Прухин из первого подъезда, ну, сосед мой. Сначала в армию сходил, а потом сел. Или Кирюха: сел сразу, не выходя из армии. А если война, то всех загребут, кто уже служил, и кто сидел - тоже. Так что ни фига это все не значит.
- Это и называется реинкарнацией, - пожал плечами доктор. - Все раз по разу. Но по-другому.
Несколько минут они провели в молчании. Когда Колян уже прочистил горло, чтобы предложить выпить и возобновить игру, Фома вдруг вышел из ступора и спросил:
- А крести? Крести - что?
Доктор вздохнул.
- Это бестолку рассказывать. Слишком много разного. Жизни не хватит, чтоб рассказать. Все, что мы видим - это перекресток миров. Не Земля, а проходной двор. Однако что-то вы загрустили, орлы поднебесные. Скоро домой. Сходил бы ты, Колюня, глянул, как там этот мужичок-лесовичок. Проверь заодно, я там спирт оставлял на столике. Аполлонов хотел его сегодня стырить.
Коля поднялся и прошествовал в палату интенсивной терапии.
- Как он уже достал, этот Аполлонов, - грудным голосом произнесла Лена. - Скоро шоколадки будет таскать у меня из сумочки. Прикинь, вчера сидим с девчонками, пьем чай, тут появляется этот козел и говорит: типа, девочки, золотинку оставьте? Алколоид хренов...
- Лена, - с мягкой укоризной заметил доктор. - Вадим Андреич - твой старший товарищ, председатель парткома трудового коллектива нашего лечебного учреждения. Да и какой же он алкоголик? Скорее, клиптоман. Солнышко любит... Как ты можешь отзываться о нем дурно?
- А что мне ему, минет делать? - отпарировала Лена и обиделась.
Фома сплюнул на пол, а доктор с восторгом облобызал руку прекрасной дамы и заметил:
- Право же, Леночка. Вы бесподобны.
- Все о'кей, герр целитель. Спирт на месте, - умиротворенно потряс бутылочкой вернувшийся Колян. - А мужичка мы, по-моему, потеряли.
Доктор разлил по стаканам. Спирт был желтоватый, потому что накануне в нем отмачивали бинты.
- Значит, еще одну партеечку - и спасать будем. Расталкивать ангелов, заметил доктор.
- Рай не пройдет, - согласился Фома.
- Откуда ты знаешь? - презрительно, но со всей сдержанностью поинтересовался реаниматор.
- Откуда ты знаешь, что именно рай? - Лена серьезно взглянула на Фому. - Может, ему в аду пердеть до второго пришествия?
- Ах, дети мои, - пожурил присутствующих доктор, поднимая глаза на Леночку. - Ведь это так просто. Из этой страны путь один - в сады Эдемские, каким бы ублюдком вонючим ни был отбывающий, ибо сколь тяжко в мучении, столь же легко в раю. Или ты считаешь, милая, что мы - благотворительная организация? Или бенефис тут справляем? Пусть вернутся все, кого суждено вернуть. Пускай живут как можно дольше, суки. Хотя неудачники в квадрате это слишком круто даже для эс эс эс эр. Вуаля, мезанфан! Упустить его нельзя. У нас - граница. Пост, прошу заметить, важный для всего нашего государства в целом. И если мы упустим нарушителя, Родина нам не простит.
- Аполлонов - враг народа. Уже троих пропустил, нелегалом, - проговорил Колян и цыкнул, резко всосав струю воздуха в угол рта.
- Это его жена - враг народа, - встрял Фома. - Третьего пропустила сюда. Это, конечно, правильно - нефиг в нирване отсиживаться, пора и Родине послужить, но кем он их воспитает? Космонавтами безродными. Вредитель, еб его мать... А все потому, что эти, на таможне в роддомах, пропускают слишком много нелегалов в нашу великую и необъятную. И еще: почему страна не выдает презервативы интеллигентам? У них от этой нехватки все заходеры случаются. Кто сбивает с толку народ и правительство?
- Нет, друг мой, - возразил раздумчиво доктор. - На посту в родильных спецчастях находятся очень умные, хоть и не слишком сострадательные люди. Все акушерки, как известно, являются сержантами и прапорщиками КГБ. А согласно служебной инструкции, правило у нас какое? Не знаете, товарищи... А надо бы знать. Правило весьма простое: всех впускать, никого не выпускать, ибо среда формирует сознание. Коммунизм должен победить в космическом масштабе. даже если это капитализм. И только здесь, братья мои, суть его школа. Мы пропитываем сознание нашим бытием. Так что родчасти - это посты номер один. Ну, а мы, следовательно, существуем для страховки. Вторая линия обороны. Наше дело - бдить. Никто не должен уйти ни раньше, ни позже пенсионного возраста. Отдай все - и совесть знай. Потому что у страны нет денег на отдыхающих. Сколь там этому лесовичку?
- Тридцать шесть, - вспомнила Лена.
- О'кей, товарищи. Эйджик самый трудовой. Будем спасать. Еще двадцать пять - и в дорогу!
VI
23 марта 1986 года. 5:01 утра.
Белый бумажный лист вполне обычного машинописного формата медленно темнел, обретая объем, и вот он стал экраном, походя на тот, что Русинский видел в кинотеатре "Стерео". Однако то, во что он всматривался сейчас, отличалось неизмеримо большей насыщенностью, дышало, жило, и словно происходило в двух шагах от смотрящего. Сопровождавший картинку текст звучал в голове Русинского естественным образом, как знание и мысль. Он видел Семена: сначала с высоты птичьего полета, затем снижаясь все ближе и ближе к нему, и вот он был рядом, и знал о нем все.
- Семен родился в Малкутске четвертого июля сорок третьего года, нежно сообщила Русинскому его собственная мысль, весьма чувствительно резонируя от сердца. - Отца своего он не помнил: тот погиб на фронте, когда Семену исполнилось три года. Его воспитывала мать. Летом пятьдесят пятого ее не стало. Семену тогда еще не исполнилось двенадцать лет. Он остался на попечении бабушки и деда.
Они жили в деревне Восьмитовка, недалеко от Малкутска. Каждое лето Семен проводил на берегу Озера. Позже он часто вспоминал эти места, где проводил все свои школьные каникулы. Он никогда не смог бы объяснить, почему его так тянет в этим чащобы, почему в городе он чувствует себя скованно. Бывало, и довольно часто, что в пятницу после занятий он уезжал к деду. Здесь, среди хвойной тишины и первозданности, он чувствовал себя легко и счастливо.
После гибели матери он стал брать с собой в эти вылазки свою школьную подругу Ольгу. Они знали друг друга давно, поскольку выросли в одном дворе и учились в одном классе. Он защищал эту нескладную девчонку от соседских пацанов, и все в один голос звали их женихом и невестой. Детская привязанность часто перерастает в первую любовь, и пожалуй, соседи были правы. Когда им исполнилось 14, Семен и Ольга уже не сомневались, что их будущее связано неразрывно. В 15 лет они стали любовниками. Это произошло в июле, после заката, спрятавшего их от людских глаз, на берегу залива, в неподвижных водах которого, казалось, плещутся русалки.
Год пролетел незаметно. Они продолжали встречаться украдкой. После выпускного бала они убежали от всех и упросили попутного водителя подбросить их в Листвянку. Там они встретили рассвет. Сзади их окружали горы, впереди плескался могучий и древний Байкал.
- Я скоро уеду в Москву. Буду поступать, - сказал Семен.
- Семка, я еду с тобой, - проговорила Ольга, заглядывая в его глаза. Я же не смогу здесь остаться, без тебя. Как ты не поймешь этого, дурачок?..
Семен поежился от прохлады.
- Ты знаешь: я никуда не исчезну. Мы будем вместе.
- Обещаешь?
- Клянусь.
Вскоре Семен уехал. Его планы осуществились: он поступил с первого захода. Когда он вернулся домой после экзаменов, Ольга ходила с высоко поднятой головой. Она была горда и счастлива. Иногда в ней вспыхивала тревога, но Семен еще ни разу не дал ей повода усомниться в правоте его обещаний.
Как прежде, каникулы он проводил вместе с Ольгой. Все реже они навещали Озеро, все короче становилось время, которое Семен отдавал Ольге. Он рвался обратно в Москву. Ольга не знала, что там у него появилась девушка.
В Москве он он полюбил другую - землячку, из Малкутска. Друзья "подкалывали" Семена - дескать, стоило ехать в столицу, чтобы втюхаться в иркутянку. Эта любовь была зрелой и не столь романтичной. Родители девушки очень мало походили на тех простых работяг, что дали жизнь и Ольге, и Семену. После третьего курса они поженились.
Семен ехал домой с тяжелым сердцем. Он должен был признаться в произошедшем, и хоть он чувствовал свою правоту, его сердце разрывалось при мысли об Ольге. Она ждала его и он точно знал, что она верна ему как прежде.
Разговор был неизбежен. Но Семен едва успел сказать пару слов, запинаясь, как Ольга повернулась к нему и положила ладонь на его губы.
- Не надо... - сказала она. - Молчи, не говори...
Семен надолго запомнил ее взгляд - ее умоляющий, полный боли и света взгляд, способный свести с ума чувствительного человека. Но вспышка сострадания в его душе потонула в радости. С тяжелой обязанностью покончено. Впереди целая жизнь.
Семен со своей молодой женой уехал в Малкутск, как только закончил учебу. На этом переезде настояли родители супруги. Его ждала престижная и денежная работа в организации, возглавляемой его тестем. О нищей юности и детстве можно было забыть. Дед написал письмо лишь дважды. В первом он сообщал, что Ольга болеет. Во втором - что она утонула, когда пришла к нему в лесничество. Вроде бы была какая-то пьяная компания, не рассчитали с водкой - и вот итог.
Семен почувствовал, что дед что-то скрывает или пытается его успокоить, но, помянув Ольгу, успокоился. Он ничем не мог ей помочь. Отпуск летом решил провести у родных. Жену оставил в Малкутске и отправился к деду и бабушке, чтобы навестить их, уже очень больных пожилых людей, заодно порыбачить и подышать воздухом детства. В родном дворе его встретили радостно, но в лицах и обращении ощущалась какая-то сдержанность. Недолго пожив в доме родителей, он уехал за город.
В тот день рыбалка обещала быть превосходной. Он вышел на берег Озера еще перед рассветом. Присев на корточки, он закурил и вспомнил ночь, проведенную когда-то давно, когда он был еще почти ребенком. Не отрываясь, Семен смотрел в темное зеркало воды, покрытое водными растениями, название которых он забыл. На душе его было тревожно. Память, потеряв мелкие детали, вернула ему чувство бесконечного доверия и жизни, чувство, утраченное им навсегда. Когда на воде возникло робкое, почти незаметное движение, Семен не обеспокоился. Но движение продолжалось.
Медленно, почти незаметно на водной глади что-то происходило. Вдруг Семена сковал непонятный, животный ужас. Он не смог пошевелиться. Вода стала будто масло и начала приподниматься.
Она поднималась, и не было в этом ничего случайного. Он заметил, как вода приобретает форму человеческой головы, шеи, плеч, груди... Рука отбросила болотную зелень с лица. Невдалеке, в метрах шести, перед ним стояла обнаженная девушка. Он узнал ее.
Дрожь прошибла его тело. Не успев даже вскрикнуть, Семен попятился. Ударился спиной о ствол дерева и услышал:
- Не уходи...
Семен вскочил на ноги и бросился бежать. Небо, земля, он сам - все исчезло. Девушка догнала его, впилась ладонями в его виски. Семен вскрикнул и упал на дороге.
Огненно-белая вспышка озарила лес. Семен колотился будто в лихорадке, в наркотической ломке, в агонии, как загнанная лошадь. Его щеки сочились кровью из десятков порезов. Свернувшись калачиком, он почувствовал, как с тяжелым колокольным звоном стонет его сердце, и для него все вокруг изменилось, поблекло, и перестало быть.
Нежный голос, сообщавший эту историю, замолк на оборванной ноте. Дальнейшее происходило в полной тишине.
Освещение на берегу принялось медленно и верно сгущаться, пока не превратилось в полумрак. Вместо ровной и зловещей панорамы возникла, переливаясь, с акждой минутой набиравшая плотность масса, в которой скрывался слабый вечерний свет, не оставляя после себя ничего, кроме редких сполохов, переливавшихся словно под влиянием прилива. Русалка вышла из воды. Тина, озерная растительность, вода потекли по ее плечам и бедрам. Русалка опустилась на колени и склонила голову. Из ее макушки выбился луч света и ударил в глубокое мерцающее полотно. Ее тело пробила дрожь, будто от невыносимого наслаждения; руки сжались, выдавив наружу костяшки пальцев. Когда порции света прошли в массу и скрылись в ней, точно в бездне, полотно свернулось в одну точку, а точка оказалась тающей пылинкой, и скрывшись в плоти воздуха, она оставила меланхолический водный пейзаж с пушистою веткой сосны на переднем плане.
***
Русинский ворвался в мир с криком боли и удивительной бранью. Когда санитары вкатили каталку с его телом в морг, бешеная сила вышибла двустворчатые двери морга. С грохотом они рухнули на пол; каталку внесло в коридор, где она взвилась на дыбы и Русинский оказался стоящим на ногах. Каталка упала обратно и снова вкатилась в морг. Ощутив невероятную силу, Русинский сделал несколько шагов мимо упавших ничком, как при команде "газы", санитаров.
Больница ожила. Повсюду раздавался визг и шум. Выскочившая в коридор женщина в белом халате на голое тело вздрогнула и сползла на пол. Сознание Русинского было ясным, однако раздававшиеся вокруг голоса казались ему застревающими в воздухе, вытянутыми и нереальными. Мощный блеск пронзил его голову, и показалось, что волосы впились иголками в мозг, и голова взорвалась, но на самом деле - он понял - взорвался черный венец над макушкой. Прилив энергии направил его прямо к двери ординаторской. Он потянул ручку на себя, и в этот миг в коридор вылетели обломки стула, которым подперли дверь с обратной стороны. Легко отодвинув железный шкаф, Русинский подошел к доктору с черной злобной кошкой на плечах и попросил:
- Будьте добры, дайте мне, пожалуйста, мою одежду.
К удивлению Русинского, просьба была выполнена мгновенно. Он неспеша оделся, поправил на себе ворот свитера и, поблагодарив врачевателя, направился к выходу.
VII
23 марта 1986 года. 6:10 утра.
Пар валил изо рта, но Русинский не чувствовал холода. Свежий воздух опьянил его настолько, что миновав узкий проход между зданием морга и оградой психбольницы, и выйдя на дорогу, спускающуюся к реке, он почувствовал себя едва ли способным к пешим прогулкам. Опыт послересторанных возращений помог, но не выручил, и когда машинально передвигавшиеся ноги вынесли Русинского на берег, он почти не чувствовал себя.
Поскользнувшись на пустой бутылке из-под "Манастирской избы", он тяжело опустился на скамейку и поглядел в небо. Мрачное утро вплывало в его сознание, и вместе с утром он обнаружил присутствие мужика в плаще военного покроя - такие носили фронтовики и спившиеся прапорщики. Черная, клином, борода делала его похожим на Ивана Грозного из кинокомедии Гайдая.
- Хороший денек для Армагеддона, - бросил мужик, не обращая внимания на Русинского.
Русинский сжал кулаки и выразительно посмотрел на приблудного. Однако тот не ушел и внимательно созерцая пейзаж, добавил:
- Вам привет от Михаила Кришновича.
Когда смысл фразы дошел до Русинского, мужик сидел уже рядом и, прищурившись, смотрел куда-то поверх тяжелых и опухших после зимней спячки волн реки.
- Чего надо? - спросил Русинский.
- Михаил Кришнович просил объяснить вам суть задания. Генерал извинялся, что не смог рассказать всего сам - срок вашей командировки был ограничен. Извините за всю эту конспирацию - как-никак, мы находимся в тылу врага. Если вы не против, давайте переместимся на явочную квартиру. Тут недалеко.
...В сером как ноябрьская демонстрация доме, на третьем этаже в апартаментах, уставленных книгами, вазами, голографическими иконками Шивы и каких-то других божеств, Русинский с удовольствием сбросил холодные скользкие ботинки и, пройдя в зал, приземлился в кресло. Мужик ушел на кухню; вскоре запахло свежесваренным кофе. Он вернулся с подносом, на котором стояли две маленькие благоухающие чашечки и бутылка азербайджанского коньяка.
- Тело есть тело, - развел руками связной. - Пока необходима машина, ей нужен бензин. Вам высокооктановый?
- Спасибо. Можно солярку.
Связной оставил чашки на журнальном столике и в руках принес фарфоровую миску с пловом.
Пока Русинский впитывал многовековой опыт восточных кулинаров, связной попивал кофе и задумчиво листал большую, в четверть листа, книгу с пожелтевшими и почему-то остро пахнущими приправой страницами. Наконец, отставив пустую миску, Русинский одним глотком выпил крепкое черное варево, на треть состоявшее из коньяка, и удовлетворенно закурил.
- Вот, кстати, известный вам случай, - сказал мужик и развернул книгу так, чтобы Русинский смог рассмотреть картинку. Это была репродукция известного всем более-менее образованным советским людям офорта Гойи.
- Сон разума?.. - узнал Русинский.
- Он самый. Трофейная книжка.
Связной закрыл альбом и неспешно погладил свою бороду.
- Меня зовут Маг. Просто Маг. Все имена, сами понимаете, ничего не значат, по большому счету, а так получается короче. Я состою в подпольной или подлунной, как угодно - оганизации "Ковпаки универсума". Партизаним понемногу. Вы готовы меня выслушать?
Русинский кивнул с готовностью, обратно пропорциональной желанию воспринимать всех магов всех универсумов.
- Когда-то мы были знакомы, но сейчас вы не сможете припомнить это время. Такое бывает. Вы слишком долго находились в этом концлагере, - Маг кивнул за окно. - Тридцать шесть лет - солидный срок, и он не способствует, конечно, духовному здоровью. Между тем диспозиция сил нисколько не изменилась. С одной стороны - Верхняя Сладкая Троица, ВСТ, для краткости, а с другой - Горькая Нижняя, ГНТ. Нижняя выглядит довольно просто. Это Дарвин, Фрейд и Ленин, как основание треугольника. Сатана для них занимает место Превышнего, поскольку он невидим и неизрекаем, но существует как главный принцип. У всех вещей по-прежнему одна суть и два проявления. ГНТ опрокинута снизу вверх, из мира демонов и незнания - в мир людей. Ее тень так называемый прогресс. ВСТ не изменила функций и помогает людям просыпаться. Эти две силы входят друг в друга, образуя знак Вишну или так называемую звезду Давида. Как вам известно, это так называемый макрокосм, в центре которого - человек. И добро, как ни сомнительно это звучит, все так же побеждает зло. Правда, победившим приходится соблюдать тщательную конспирацию и уходить по одному... Эта борьба - ГНТ и ВСТ - длится уже миллионы лет, и она естественна, ибо таков договор, заключенный в первый день мироздания. Но в последнее время - примерно пять тысяч лет назад главари ГНТ отказались от договора. Конфликт особенно обострился две тысячи лет назад, с известной вам эпохи. Силы ГНТ ударили нам в тыл; они стараются лишить человека главного: его оружия - разума, для чего используется религиозный и прочий фанатизм, а также эмпирическая наука, которая тоже существует на договорных условиях - до того момента, когда она докажет то, что было известно всегда. Силы ГНТ - жертвой которых вы едва не стали готовят большое наступление. Для него они собирают резерв мыслительной энергии из своих жертв - человеческих существ, которые добровольно отказываются от этой силы.
- И чем я могу помочь? - с неохотой спросил Русинский.
- Вы - профессионал. Пройдет немного времени, и вы вспомните все. А пока вы направляетесь в качестве поддержки к нашему старому проверенному ветерану. В одиночестве вы можете только погибнуть со славой, и то если повезет. Мой совет - не обсуждайте направление.
Сказав это, Маг открыл фолиант, взял маленький квадрат бумаги, лежавший между его страницами, и черкнул что-то своей роскошной перьевой ручкой.
- Возьмите. Это пароль. Слова покажутся вам идиотскими, но Дед их любит.
- И кто этот Дед? - с сомнением поинтересовался Русинский.
- Ему семьдесят лет, но это, сами понимаете, не возраст для Посвященного. Фронтовик, служил в разведроте. Отмечен в конфликте шестьдесят седьмого года. Зовут его Брам Халдейфец; Брам - это жреческое имя, изначальное, индийское по своему происхождению, - не А-Брам, прошу заметить, без этих отрицаний - но Деду почему-то не нравится. В общем, я все сказал.
Русинский поднялся и пожал руку Магу. "Ну и контора, ешкин пес", подумалось ему.
***
Свежепобеленные стены подъезда были, тем не менее, густо покрыты именами рок-групп, фаллосами и аллюзиями из Булгакова. Когда Русинский спустился на первый этаж, навстречу ему пробежали двое санитаров с носилками. Остановившись, Русинский рефлекторно посмотрел им вслед. Что-то в облике этих рыжих амбалов ему не понравилось - может быть, просто то обстоятельство, что это были рыжие амбалы. Уже выйдя из подъезда и сделав несколько шагов, он почувствовал страшную слабость; все повторялось, как было в комнате общаги - когда монстр пытался вытянуть из него мозг. Чувство было паническим. Как ни старался Русинский держать себя в руках, он не уберегся от чудовищного страха и ненависти к чему-то, что впилось в него и не отпускало, и пило кровь, и было настроено очень решительно. Шатаясь от внезапной и очень заметной слабости, он побрел вдоль скамеек у подъездов, прошел один ряд, другой, третий, и на автопилоте, заметив неподалеку узкий заваленный хламом аппендикс между двумя домами, держась за шероховатую кирпичную кладку, направился к нему. Земля понеслась навстречу, выгибаясь змеей. Сжав зубы, Русинский побежал, и едва достигнув темного закутка, наконец дал волю усталости, рухнув в мутную лужу, в черное небо и грязь.
***
Продолговатое жестяное крыло с едва заметным уклоном вверх отбрасывало тень на стену. Похоже, это был край карниза. Внизу, на проржавевшем изогнутом выступе, висела продолговатая капля, подрагивая под легким ветерком.
В небе скапливались первые вечерние сгустки, но Солнце еще не покинуло горизонт. На нижнем крае капли появилось небольшое утолщение, наливаясь уходящим солнечным светом все больше и больше. Казалось, что нижний край водяной границы скрипит, прогибаясь под тяжестью земного притяжения, уже не выдерживая натиск, - и вдруг от сияющего массива оторвался шарик и, вытянувшись в полете, расплющился о лоб Русинского.
Он попытался поднять руку, и движение удалось ему со второй попытки. В голове было пусто. Вставать не хотелось, но превратившийся в мерзлую глыбу мозг постепенно возращался к жизни, и Русинский, сцепив зубы, приподнялся на локте.
- Ну и оттепель, - прошептал он без всякого выражения, глядя на измазанное грязью пальто. Затем сделал еще несколько рывков, отозвавшихся резкой болью в висках и левом боку, и присел на корточки, пережидая, когда пройдут мутные позывы к рвоте.
Первым делом, поднявшись и отпустив стену с грязно-серой кирпичной кладкой, заляпанной еще строителями, Русинский снял с себя пальто и свернул его вовнутрь. Немного подумав, он освободил карманы от пачки "Родопи", коробка спичек и двух скомканных десятирублевок, и бросил пальто в жидкий снег. Ноги сами понесли его, отяжелевшего и кренящегося на оба борта, в квартиру на третьем этаже, в первом подъезде, где еще, должно быть, не выветрился кофейный аромат.
Дверь была приоткрыта. Мертвенное чувство - первое за последние десять минут, после боли и усталости - поднялось от диафрагмы и сжалось в горле, когда Русинский толкнул дверь и вошел внутрь.
Комната пережила непродолжительную схватку: пара ваз была разбита, журнальный стол опрокинулся. Маг лежал на ковре в зале, подогнув под себя левую руку и выбросив вперед, в сторону окна, правую. На его груди был заметен аккуратный порез, сделанный ножом с треугольным лезвием. Под лопаткой и возле рта собралось немного крови.
Русинский опустился на диван, с силой сдавив ладонями голову. Партизан... Кино. Но они не смогли взять то, за чем пришли.
Закурив, Русинский обвел комнату взглядом. Затем бросил сигарету в пустой кофейник, поднялся и, взяв с вешалки в прихожей черный плащ Мага, осторожно прикрыл дверь. Только на выходе из подъезда он подумал, как ему повезло - никто не вызвал милицию.
VIII
23 марта 1986 года. 10:05 вечера
Гвардейское предместье лежало во влажной холодной тьме, будто затонувшая подлодка. Русинский осторожно пробирался вдоль единственной улицы, лишь по собачьему лаю догадываясь, что где-то рядом есть жизнь.
Полчаса назад, оставив попутный трактор с портвейновым рыцарем полей, испытывавшим явное влияние ницшеанства, Русинский понял, что дом Брама ему придется искать интуитивно или наощупь - в общем, полностью положась на судьбу. Дом номер двадцать один, сороковой от точки пересечения центрального бездорожья с местным, - эти несложные на первый взгляд координаты заставили его ходить от одной стороны улицы к другой, от забора к забору, но ни один не обозначался цифрой. Сбившись со счета, он насчитал уже как минимум три сороковых дома, но все они оказались развалинами, населенными псами. Русинский решил идти до конца - не до конца улицы, которую он прочесал уже трижды, но до конца круга, должного размотаться в спираль с наступлением утра или со смертью терпения.
Улица выливалась в поле, перечерченное квадратами Гвардейского Ордена Кутузова кладбища. Там гулял ветер и кто-то орал песни. В черном холоде поблескивали островки пористого льдистого снега. Русинский обнаружил, что вновь его вынесло на окраину, и сжав кулаки, решил вернуться обратно.
Метров через двести он остановился как вкопанный. Он мог поклясться, что это этого дома здесь не было еще пять минут назад. И тем не менее, крепкий сруб с витиеватым узором на окнах (ему почудились замысловатые комбинации со звездой Давида) - дом с большой белой цифрой 21 и горящим в окнах светом, немного выступавший в прямую как могила улицу, стоял перед ним.
Справа от массивных ворот была дверь. Русинский постучал в нее кулаком. Где-то взвилась, затявкала шавка, разом поддержанная другими. Во дворе по-прежнему царила тишина. Ни единого звука. Русинский отошел на полметра и с чувством всадил ногу в доски двери. Шавки замерли, затем взорвались оглушительным испуганным лаем, уже не по привычке и от чувства долга, но вполне по личным мотивам, поскольку цепь мешала им убежать. Вдруг Русинский заметил крохотную кнопку звонка и, мысленно измываясь над самим собой, придавил ее пальцем.
Через мгновение дверь приоткрылась. В щели возникло грубое и волевое, словно из куска базальта вырубленное лицо с горящими выпуклыми глазами. На минуту лицо впилось взглядом в Русинского, пристрастно изучая его и словно к чему-то принюхиваясь. Наконец Русинский произнес:
- Вам привет от Неисчислимого.
- Ты знаком с Богом? - хрипло спросило лицо.
- Я знаком с математикой.
- Проходи. Эйн-Соф Ковалевский, твою мать...
Громыхнул замок, звякнула цепочка, поразившая Русинского самим фактом своего существования в этом предместье, и Русинский проник во двор.
***
Следуя за огромной спиной он вошел в избу. Обстановка была казарменная: стол, тумбочка, две табуретки, с истеричной аккуратностью заправленная кровать и древний, но весьма дорогой шкаф из красного дерева, словно притащенный сюда каким-нибудь прапорщиком, охраняющим музей. Вокруг распространялся пряный запах табака Drum, перебиваемый амбре явно самогонного происхождения.
Примостившись на широком разлапистом табурете, через полчаса Русинский окончательно убедился, что Дед не обращает на него никакого внимания - он сидел за столом и ловко прошивал подошву сверкающего офицерского сапога. Экипировка его вполне соответствовала домашней обстановке: ношеная афганка, обтянутая хэбэшкой фляга, портупея и синие военные носки. Кашлянув, Русинский поднялся, вынул из карманов плаща предусмотрительно купленную водку в количестве двух поллитровок, и без лишнего пафоса выставил их на стол. Дед не отвлекся, и лишь когда Русинский вновь оседлал свой табурет, Дед прохрипел - впрочем, не особенно раздражаенно:
- Еще один из внутреннего отдела. Юноши с горячим сердцем и чистыми руками. Как вы задолбали.
Наконец Дед окончил работу, натянул сапоги, притопнул ногами и неспешно, с достоинством и даже некоторой брезгливостью, присел за водконоситель. Бутылку он откупорил зубами, затем сгреб из шкафа и выставил пару пятидесятиграммовых граненых стаканов.
Первую стопку они выпили молча. Ни один не коснулся квашенной капусты, горою возвышавшейся между ними. Так же точно прошла и вторая. Лишь после третьей Дед зачерпнул щепоть и благостно отправил в кратер своего рта. Русинский воздержался.
Алкоголь смыл мертвечину воспоминаний о сегодняшнем дне. Русинский посмотрел вокруг, на обстановку дома, и вдруг заметил вокруг следы торопливости, небрежности, словно при переезде с места на место. На тумбочке, среди вороха каких-то анкет и пятирублевок, лежал загранпаспорт. Русинский изрек задумчиво:
- Понимаю Моисея. Этот Исход... Великая идея. Она вселяет надежду. Если снимут железный занавес, брошу все к чертовой матери и махну в Штаты. Отдыхать от Родины.
- И как долго? - поинтересовался Дед.
- Что долго?
- Отдыхать будешь как долго?
- До смерти.
- Отдыхай в таком случае здесь. Смерти нет.
Русинский заерзал.
- Вы не поняли. Они, на Западе, думают только о себе, а мы - о всем мире, но это всегда заканчивается одинаково: водкой и тюрьмой. Я, конечно, тоже не ангел, но мне это не нравится. Не хочу гнить.
Дед нахмурился, вынул из нагрудного кармана пачку табака и, сворачивая сигарету, сказал:
- Я часто вспоминаю о Борисе. Он мой брат был. Разбился в автокатастрофе. Автобус. Я так думаю: у этого автобуса был свой маршрут, а это значит, свое назначение, или карма, чтоб тебе понятнее было, - вы все нынче буддистами заделались, гентильманы. Получается, он, автобус, должен был разбиться именно в тот день и час, и по своим причинам. Но это что значит? Главное - то, что назначение Бориса и назначение автобуса совпали. Возможно, у них изначально была одна приписка, а автобус - это вахана, носитель назначения Бориса, и все это из одного разряда. Понял? Мы неслучайно родились там, где родились, и такими, какими родились. Я в следующей жизни могу быть чистопородным немцем, или зулусом, и что тогда?.. Надо принять это все, но не быть рабами. Служить - не значит быть рабом. Если с чем-то я не согласен, то пусть Бог меня убедит, Бог, а не ваш внутренний отдел, что я неправ. Это и есть настоящая жизнь: быть здесь - и быть выше, одновременно. Все мои родственники, они хотят уехать. Дуроломы. Никуда не надо бежать. Куда ни беги - везде Земля, этот воздух, эти проблемы, этот геморрой. Уходить надо в себя настоящего, другого пути нет. Раз уж целиться, так в Солнце... Ты пойми, - добавил Дед сощурившись, после принятия очередной стопки. - Главное - чтобы твоя воля и воля Бога совпадали. А для этого не надо амбиций. Вот ты собрался Тварь победить. Но ты пойми, у Твари нет к тебе ничего личного. Она и помогает, и мешает. Это зеркало. Тварь - и таможня, и выход на взлетную полосу, и самолет, все в одном лице. А улетишь ты или нет - зависит только от тебя... Она не человек. Ее нельзя подкупить или надавить на жалость, а проклинать нету смысла. Она просто делает то, что должна делать.
- Я не понимаю вас, - ответил Русинский.
- Поэтому я здесь, а ты - передо мной. Иди, ищи свою Тварь. Гвура безбинная.
Дед встал и отвернулся к старому шкафу. Русинский сплюнул.
- Теперь все понятно, - сказал он. - Вот за что я вас, евреев, не люблю, за то и уважаю. Вы все делаете по уму, а не по совести. Но тут неувязочка есть. Ладно, я облажаюсь. Не убъю ее и так далее. Но ведь тебе тоже кирдык.
Дед резко повернулся и подбросил в воздух небольшой черный предмет. Поймав его на лету, Русинский увидел, что это пистолет ПМ.
- Зарядить не забудь, - буркнул он и подал две пистолетные обоймы. Правда, вряд ли этим мы сможем убить их по-настоящему, но отключим дней на сорок, до следующей реинкарнации. А там, глядишь, карма у них другая будет. Расхлебывать начнут все дерьмо, которое тут наложили. Мы для них - что-то вроде суда. Только в той зоне, куда мы их забросим, все для них сложится очень паршиво.
Закончив приготовления, Дед передернул затвор АК-74.
- В шестьдесят седьмом я уложил из него двенадцать прислужников Твари, - сказал он и улыбнулся. После чего внимательно наплескал во флягу пахучей жидкости, явно с алколголем и травами.
- Ладно. Пойдем, - сказал он. - Надо получить свежую информацию.
Они переместились во двор дома. Пройдя по длинной дорожке, Дед остановился в центре огороженного белыми кирпичами круга, неспешно выпрямился, поднял руки и, не сводя взгляда с Луны, глубоким голосом произнес:
- О Древняя Мать, я помню тебя еще девочкой. Когда все началось, ты ковчегом была, и отправила птицу узнать, суха ли поверхность планеты. И все отдала, родила наше тело, и повелеваешь мечтой, и водами этого мира. Скажи мне, о Древняя Мать, где учитель и враг человеческий?
Дед замер и обратился во внутренний слух. Несколько минут он стоял в полном молчании. Затем его пробила крупная дрожь, он склонился и с громким расширяющимся звуком выдохнул воздух. Ничего не говоря Русинскому, он вернулся в дом.
В комнате он присел и уперся руками в гранитные колени.
- Слушай сюда. Ты из внутренних, я - во внешней разведке, но тебе придется мне помочь. Ночью у них запланирована атака. Есть такое место в небесах - Ворота. Через них проникают в мир людей, пока они спят, а в нашем секторе другого пути нет. Великая стена. Ее поставили с началом Калиюги. Твари используют Ворота, чтобы врываться в человеческие мозги, вербовать новых солдат. Первый и Второй легионы сегодня заняты, у них большая операция где-то в Америке. Третий и Четвертый - под Киевом, там намечается большое сражение возле одной электростанции. Наша задача - помешать продвижению бандформирования. Взять огонь на себя. Обычно они ставят заслон по дороге к месту сходки, а собираются они на своем скотном дворе. Там у них база. Нам заслон не обойти, так что будем упреждать, пока они не окопались. Численность заградотряда - шесть штук. Вооружение - пистолеты ПМ. В штурмовой бригаде - штук двести. Вооружение - астральное, но тебе это мало о чем скажет. Понял?
- Понял.
- Так точно, твою мать. Еще один пиджак на мою голову... Был тут один до тебя. Тоже из внутреннего. Замочили пацана в первом же бою. Я все понимаю, смерти нет. Но задачи надо выполнять сегодня, а не когда-то... Ладно. Все. Вперед, за мной.
***
Во мраке предместья Дед мог ориентироваться даже забыв голову дома. Пройдя сотню метров, они свернули в какой-то двор, принадлежавший, вероятно, местному сельпо.
- Постой тут, - сказал Дед и, оставив Русинского у входа, между складским сараем и столбом, лампочка на котором погасла много лет назад, с кряхтением перебрался через забор. Пару минут его не было слышно. Затем рявкнул мотоциклетный двигатель, ворота распахнулись и Дед появился верхом на грохочущем "Иже". Кивком он указал Русинскому на коляску.
...Северный ветер хлестал в лицо, и чтобы сделать вдох, нужно было отвернуться. Дед гнал на максимально отпущенной "Ижу" скорости, но дух все равно захватывало. Ровная пустынная дорога оставляла справа розовеющее нежное небо, слева - подернутые светлыми бликами поля. Оглохнув и ослепнув, дыша с перерывами, Русинский, тем не менее, чувствовал небывалый подъем. Он думал о смерти.
Прошло не больше сорока минут, когда они свернули с трассы в густой кедрач и запрыгали по проселочной раздолбайке. Наконец Дед притормозил ревущего монстра и не сходя с седла ревниво оглядел окрестности.
- Все. Здесь, - прохрипел он.
Русинский сделал глубокий вдох.
Мотоцикл они загнали в чащу и присели на корточки за кустами.
- Курить можно? - спросил Русинский.
Дед флегматично пожал плечами.
- Только не лупи по той стороне, - сказал он и показал на противоположные от дороги деревья. - Занимайся в своем секторе. А то меня подрежешь.
***
Докурить Русинский не успел. Колонна из двух черных "волг" с упорством пробиралась по дороге с разбитой и схваченной морозцем колеей. Пассажиров скрывали тонированные стекла. Номера были местные и блатные, отличаясь только последней из четырех цифр.
- Пошли, - буднично сказал Дед.
Они поднялись. Русинский остановился с правой стороны. Дед вразвалку вышел на дорогу.
Когда до передней машины осталось девять метров и послышался крик, он выхватил из-за спины "калашников", на лету щелкнул планкой предохранителя и резанул длинной очередью по ветровому стеклу. Авто резко свернуло и уткнулось в кусты. Русинский бросился к арьергардной машине и выстрелил в мужика, выскочившего из салона, но тот нырнул в канаву и сходу ответил двумя выстрелами. Пуля сбила иней с ветки над головой Русинского, или сбила ветку, но уточнять было некогда, и он с колена дважды выстрелил. Мужик по инерции пробежал еще несколько метров, споткнулся и упал лицом вперед.
На другой стороне дороги работал Дед, срезая прибывших аккуратно и прицельно. Возле машины, с левой стороны, уже лежали два существа - одно из них корчилось возле открытой двери, схватившись за окровавленный живот, другого откинуло спиной в салон, и его длинные ноги вывалились из машины безвольно, точно кишки. Уцелевший перебегал от дерева к дереву, видимо, решив заморить Деда кроссом.
Четкий лязг оружия слился с хлопками пистолетных выстрелов и сдержанным, разделенным пунктиром пауз, хриплым напором АК. В обыденной практике Русинский предпочитал самбо и ножи, но в этот миг стрельба полностью овладела его сознанием. Привкус крови вперемешку с острым чистым воздухом отбивал лишние мысли. Группа прикрытия - те трое, что от нее остались - вели себя внимательно, будто опомнившись, но Дед опомнился гораздо раньше. По отчаянному резкому крику справа Русинский понял, что Дед уложил последнего из передней машины, но сам не мог похвататься таким успехом. Один из его подопечных все дальше уходил в лес, другой - и этот был наиболее опасен - кружил по спирали, отвлекая от уходящего. Несколько раз Русинскому хотелось броситься в атаку, но только приходилось уклоняться от пуль, все происходило то ли слишком быстро, то ли слишком медленно - на облавах все было иначе. Когда Русинский перебросил свое тело в канаву, его лодыжку обожгло. Он сжал зубы и выстрелил в мелькнувшую впереди фигуру. Там заматерились, тело шлепнулось на мягкую землю. Послав к черту все, что он слышал об искусстве боя, Русинский рванулся вперед; раненый вскочил на ноги и бросился бежать, ломая сучья и оборачиваясь; он становился все более и более предсказуемым, и вскоре, подловив его на суетливой перезарядке магазина, Русинский на выдохе, словно в прыжке, выпустил в него остатки второй обоймы - и не промахнулся. Мужик впереди замер, качнулся и словно аквалангист, ныряющий с лодки, рухнул в серый снег. Русинский вставил последнюю обойму и удовлетворенно вытер сопли.
Впереди не наблюдалось никакого движения - только один раз прозвучал "калашников". Ничто не нарушало космическую тишину леса.
За спиной раздался шелест. Русинский взвился и выстрелил на звук.
Могучая ладонь к квадратными пальцами отогнула ветку. В проеме показалось хмурое лицо. Дед молча подошел к Русинскому, сел рядом на пенек и, откашлявшись, сказал:
- Он готов. Два жмура твои. Поздравляю.
***
Ранение оказалось очень легким: лишь оторвало кусочек кожи. Дед плеснул на рану из своей фляги, перевязал припасенным бинтом и посоветовал забыть о царапине. Неспешным шагом они углубились вдоль дороги, постепенно успокаиваясь и молча наблюдая облака.
Лес кончился. Отверстая черная степь развернулась во все стороны. Небо уходило резко ввысь, не нависая над сердцем. Несколько длинноволосых всадников, укутанных в черные плащи, с сияющей медью копий, вырвались на каурых своих жеребцах слева по горизонту и, покрутившись на месте, повернули на Запад. Немного позже с той же стороны потянулась цепочка тяжелых повозок в сопровождении других всадников. Деревянные колеса вдавливались в мерзлую почву. Воины несли шесты с конскими черепами на верхушках, на копьях остальных ветер рвал красные бунчуки. В окружении трех юношей, опираясь на длинный извилистый посох, шел крепкий старик с длинной темной бородой и спускавшимися до плеч волосами, открытыми из-под откинутого на мощную ровную спину капюшона. Позади мычали коровы, плелись козы и бараны. Мотались гривы коней. Из повозок доносился детский плач; женщина пела убаюкивающую песню на языке, что показался Русинскому неизвестном, но чем внимательнее он вслушивался в слова, вольные и плавные, как ветер, как пологие сопки вокруг, тем сильнее становилось предчувствие, что он сейчас поймет, и тем дальше отодвигалось понимание.
Странная цепочка прошла по краю горизонта и растворилась в пространстве. Когда последний проблеск звука исчез, Русинский остановился и потрясенно взглянул на Деда.
- Отмотало на четыре тысячи лет назад, - констатировал Дед. - Такое бывает, особенно в марте.
- Кто это?..
- Может, и ты. Или я.
- И куда мы идем?
- На Урал, или в Иран. В Грецию, Норвегию, на Днепр, Дон, в Италию... Откуда я знаю? Здесь проходила Коровья Дорога. Память о ней осталась только в мифах. Эсхила наказали за то, что он выдал ее в "Прометее" своем. Так что сильно не трепись, масса всегда одинаковая, русская, еврейская, американская... Какая угодно. В лучшем случае поднимут на смех.
Они прошли еще несколько шагов по хрустящей корочке снега, и Русинский спросил опять:
- Я что-то не понял насчет конских черепов. Год назад мы брали сатанистов. У них все было завалено этим добром.
- Да ты и впрямь дурак, мой граф, - огрызнулся Дед. - Евреев не любишь - это привычное явление. Но почему своих костеришь сатанерами? Сатану придумал Ездра, составитель Библии, а вы его развили, когда с манихейцами боролись. Дух зла, конечно, был еще у персов, но все ж таки это агнец какой-то, если с вашим Дьяволом сравнить. Больное воображение...
Русинский не решился спросить, с чего вдруг Дед решил назвать его графом. Все это звучало очень странно, и на миг Русинский засомневался в том, что Дед - именно тот человек, за кого себя выдает, но остановился перед вопросом, за кого Дед себя выдает и выдает ли вообще за кого-либо. В этих размышлениях Русинский не заметил, как они вошли в железные ворота, проникнув внутрь своеобразного городка, образованного рядом бытовок. Дед уверенно направился в один из вагончиков. Вскоре он появился, держа в руке связку больших амбарных ключей.
Впереди похабно распласталось кладбище разбитой техники. Десятки машин, проржавленных под ветром и солнцем, напоминали металлические кости цивилизации - то, что останется после нас, подумал впавший в элегическое оцепенение Русинский. По извилистой тропе, с обеих сторон окаймленной глубокими колеями от колес грузовиков, они приближались к скотомогильнику. Местность была открытой, голой. Справа начинался спуск - там был овраг; его обратная сторона поросла деревьями. Слева поднимались сопки. Четырехугольный квадрат скотомогильника напоминал бастион. Сходство усиливал ров, проходящий по периметру бетонного забора. Вероятно, по этому желобу во время дождей стекали сточные воды, отравленные смертельными бациллами.
Дед отпер черные, железные, проржавевшие врата. Захоронения представляли собой бетонный саркофаг с тремя углублениями, расположенными в ряд. Каждое отверстие представляло собой железные двери, ведущие вниз, в бездну. Несмотря на нежаркую погоду, страшная вонь ударила в ноздри. Ядовитый пар вырвался на свободу. Русинский после небольшого размышления бросил камень вниз. Звука, удостоверяющего, что камень коснулся дна, пришлось немного подождать.
Двор был заброшен. Ветхая крыша нависла над четырьмя воротами, ведущими в нижнее пространство. Слева от входа находилась полуразваленная сторожка. Стену изукрасили аккуратные надписи: кто-то кому-то признавался в любви, и подпись: "Пусик". Не хватало кукушки, отсчитывающей годы.
- Пошли отсюда, - сказала Дед. - В засаде подождем. Там выпьешь вот это.
И подал свою флягу. Русинский осторожно снял крышку. Пахнуло пряным травным запахом, словно он вышел из прокуренной комнаты в цветущее летнее поле.
- Это что такое? - спросил он когда они отправились к самом высокому в окрестностях холму, располагавшемуся местрах в тридцати от скотомогильника. Русинскому вдруг стало неудобно от внутреннего вопроса, почему он не спросил, когда Дед поливал его рану этим составом.
Они залегли на северном склоне холма.
- Это Твишита, - ответил Дед, устраивая локти поудобнее. - Сияющий напиток. Мне подарил его один маг из Пенджаба.
- Странное название, - заметил Русинский, рассматривая цвет застывшей на пальце капли - цвет напоминал крепко заваренный чай.
- А ты выпей его, - бросил Дед.
Выпив, они несколько минут сидели молча. Русинский почувствовал, что темнота вокруг него расступается, но не так, как происходит, когда глаза привыкают к темноте. На самом деле темноты не было. Пространство заполняли странные движущиеся объекты. Одни были похожи на мыльные пузыри, только длинные и вытянутые; колыхаясь в воздухе, они проплывали в разных направлениях, и все сияли изнутри. Неясные тени, едва различимый шепот стоял вокруг. На миг показалось, что мир состоит лишь из этих разреженных образований, фигур без формы и вида - "sine visu atque forma", слово в слово, как говорилось в одном каббалистическом манускрипте, который случайно всплыл в его памяти или воображении, - Русинский не разобрал. В этом царстве неопределенности люди, деревья и дома казались чужими, подавляя своей неприступностью, будто зрелище высоких гор.
Русинский заметил, что давно лежит на спине строго параллельно земле, только на высоте около пятидесяти сантиметров над заснеженной почвой. Вдруг раздался голос Деда. Голос доносился не справа, не слева, не с других сторон, а прямо в голове.
- А зоф. Пора, - сказал Дед. (A sof - заканчивай, хватит (идиш)).
С некоторым удивлением Русинский заметил, что его ноги медленно поднимаются, тело как бы раздваивается, - тело, к которому он так привык за свои годы, оставалось лежать на земле, и от него отделялся его тень, более прозрачная, сиявшая как лунный свет. Он видел происходящее как бы стороны и понимал, что в любой момент может вернуться в одно из своих тел, и в тот же миг тонкая эманация исчезнет, снова спрятавшись внутри кожи, костей и мышц.
Но думать об этом не хотелось. Тонкая часть его тела отделилась от своей плотной упаковки. Русинский осознавал, что гораздо большей частью принадлежит к этой тени, отбрасываемой невидимым солнцем, которое - он точно знал - светит где-то рядом, несмотря на хмурое утро, которое все - обман, мистификация, как и он сам, и все его тела, сколько бы их ни было, и все окружающее, и все, чем можно его воспринять - настоящее было где-то рядом и очень далеко, но все живое вращается вокруг этого Солнца, увидеть которое можно лишь в минуты очень сильного экстаза или невыносимого страдания, - не сомневаясь в этой догадке, подумал он.
Они парили в воздухе. Это вовсе не напоминало парение космонавтов в невесомости, стукающихся об углы и предметы. Пространство вокруг было ясным и свободным - родной средой обитания. Они перебросились парой фраз, но, скорее всего, звука в привычном понимании не было: мысли направлялись напрямую от одного сознания к другому.
- Именно так в древности передавали основное знание, - сказал Дед. Прямая передача представлений. Когда ученик возращался в физическое тело, он становился Дважды Рожденным.
- Да, так эффективнее, - сгласился Русинский.
- Можно было бы слетать куда-нибудь в Америку или в глубокое прошлое, или в будущее, но времени нет.
Русинский блаженно подумал о расстоянии и границах, которые ничего теперь не значили, вместе с той сворой, что создала их, и властвует над ними, но голос Деда вернул его к тому, что происходит на обратной стороне размышлений:
- Стоп. Гости.
Русинский едва удержался, чтобы привстать. Зрелище завораживало. Густой бледно-серый поток волной надвигался к четырехугольным стенам скотомогильника, словно нечаянный луч Луны проникал в прокуренную комнату. Вскоре поток разлился в две стороны, окружил могилы кольцом. Русинский заметил, как из общей массы отделились очертания человеческих фигур. Все они не проронили ни звука. От толпы отделились четверо и прошли к железным люкам, остановились каждый напротив одного и точно по команде произнесли долгие тянущиеся в воздухе заклинания, состоявшие главным образом из гласных.
- Это Сензар, - раздался шепот Деда. - Древний священный язык. Его раньше все маги планеты знали.
Из люков потянулся свет, такой же бледный и серый. Четверо помогали потоку пассами рук, пока лившиеся из могил струи не излились на землю, собираясь в подобие тумана, сгущаясь в шарообразный ком. Вдруг из туманного шара вышело одно существо, за ним - другое, третье, четвертое... Русинский насчитал двести существ - и это, вне сомнений, были кони всех известных ему мастей и пород. Они вышли из загона, собрались в поле и мирно стояли, прядая ушами и мотая гривами. Тени очень быстро рассредоточились, запрыгнули на спины коней, и устремились прямо и покато вверх.
- Скорее! - крикнул Дед. - Запрыгивай! Уйдут, козлищи!
Тени отодвинулись вдаль. Дед и Русинский побежали к табуну. Русинский выбрал белого ахалтекинца с постриженной гривой и разом махнул ему на спину. Раздалось тонкое ржание. Набирая силу и высоту, вслед за конной турмой они ринулись в галоп, поднимаясь все выше и выше. Русинский вцепился в гриву руками и смотрел прямо перед собой. Казалось, звезды наступают на него, становятся больше и ярче. Он взглянул вниз. Где-то под копытами коней проплывал ночной Малкутск. Мигали трассеры микрорайонов; прямые улицы переливались синими, красными, желтыми огоньками. Они были на высоте около десяти тысяч метров, и набрали ее так быстро, что захватывало дух лишь стоило об этом подумать. Страха не было - вначале только любопытство, а потом - чувство полета, непередаваемое, мощное, быстрее ветра (внезапно он вспомнил это сравнение, давно казавшееся ему избитым). Они летели в воздухе, сделали круг над городом и устремились куда-то к северу. Справа поблескивало Озеро.
Клин перечеркнул небо, словно шрам на лице ребенка. Клин то выравнивался, то рассыпался в черный шлейф, виляя змеиным хвостом, и когда впереди ударили лучи Солнца, выглянув из-за кровавых облаков, когда он заметил, как распускается роза Ворот, ум его пронзил нечеловечески острый, режущий крик Деда:
- Р-Р-РУБИ!!!
Впереди вздрогнуло, задрожало; вражеская турма развернулась и, секунду постояв на переминающихся резвых ногах, сплошным тяжелым валом двинулась на них.
Русинский левой рукой впился в гриву коня. В его деснице возник меч, пылающий и раскаленный, плавя темный воздух. Он сам пылал сильнее меча, словно подожженный лучом зари, все было ясно, и открыто, и неизбежно, все вело к славе, бессмертной, как Ничто, и в этот миг Русинский понял, что меч - это его мысль, и власть ее безгранична, отраженная согласием небес, и что орда перед ним - лишь тьма и зло и нету в ней ни правды, ни добра, а лишь насилие и злоба, и отведя назад легкую руку с мечом, налившись бешеной силой, он привстал на коленях и содрогнул пространство вертикальным кличем:
- УУРРРАААА!!!
Они врезались во вражеский строй. Засверкало оружие. Летели черные куски, мелькали темные лица, хлестала встречная черная слизь, и Русинский был мечом, а меч был Богом. Послушный приказам всадника, конь фыркал и протяжно ржал - его заливала чужая кровь, и гарцевал, вздымался на дыбы, бросаясь в пекло; вместе они проложили дорогу к ярому светлому диску впереди, но когда за спиной остались только смерть и паника, в последний миг, обернувшись, Русинский увидел несущуюся на него колесницу и перекошенное ненавистью лицо, гриву на шлеме и сведенные скулы и пронзительно кричащий рот, и с прочертившим полукруг ударом чудовищной палицы Русинский рухнул куда-то бесконечно вниз.
IX
24 марта 1986 года. 19:20 вечера.
- Вставайте, граф. Вас ждут великие тела.
Русинский с трудом разлепил веки. Свет люминисцентных ламп разливался в окружающем пространстве, границы которого он еще не мог поределить. Приподнявшись на локте, Русинский попытался встать. Тошнота откинула его обратно на спину, но справа и слева возникли двое похожих на статуи атлетов и, схватив его подмышки, вскинули в вертикальное положение. Русинский несколько раз хватанул ртом воздух. Тошнота понемногу отступила.
Он находился в большом бетонном гараже, где в ряд выстроились трофейный "Виллис", белая "Победа", красный "Мерседес" и четыре "ГАЗ-24" того траурно-черного цвета, что всегда оставлял в его сердце неизъяснимо тоскливую ненависть к властям, когда членовозы областного значения проносились по улицам Малкутска.
Пошатываясь, пытаясь унять дрожь во всем теле, Русинский исподлобья уставился на расплывчатую фигуру, стоявшую напротив. Когда мельтешение и молочные сгустки сошли с его глаз, он увидел, что перед ним - Гикат Даздрадемаевич, улыбающийся с веселой насмешливостью.
- Не был уверен, что вы подниметесь, - извинитильно произнес он. Признаться, мои орлы переборщили. Да и я попал вам, сударь, прямо по голове. Но черт побери! Крепка мистическая кость!
И он жизенрадостно, с чувством хлопнул себя по коленке. Затем энергично повернулся, что-то приказал на языке, показавшемся Русинскому знакомым, и скрылся в проеме стены с выступавшими ступенями лестницы.
...Путь по коридору, обитому дубовыми панелями и сверху обтянутому красным шелком, занял около пяти минут. Русинского провели в неярко освещенную комнату без окон. Вдоль стен висели канделябры с зажженными свечами. Пахло оплавленным воском, корицей и розовым маслом. Комнату наполняли какие-то люди; опустившись в жесткое кресло с широкой прямой спинкой, Русинский присмотрелся к окружающим.
Вскоре его глаза привыкли к освещению - и в его сознании все больше зрело чувство, что все это он уже когда-то видел, только вот где?.. Под потолком у южной - именно южной, он почему-то был уверен - стены проходила выложенная серебром надпись: ZAMA ZAMA OZZA RAHAMA OZAI ("Да-да, святые, дественные покровы Господа Бога моего", - подмал он.) В его голове происходило нечто вроде переворота; привычные связки мыслей с ощущениями распадались, бродили словно дрожжи, вновь соединяясь в непривычных и настораживающих сочетаниях. Русинский впился руками в подлокотники кресла. Он не мог понять, что происходит, но решил не беспокоиться до первой возможности сделать вывод.
Из лимонной полутьмы выступали семь фигур. На привольном резном диване сидели Агродор Моисеевич и водитель, подбросивший его до Николаевского централа. В глубоком белом кресле - не таком высоком, как у Русинского, зато гораздо более комфортном (такие он видел на картине "Ходоки у Ленина") вальяжно курила дама редкой, но определенно порочной красоты. Ее голову на сильной упрямой шее венчала златовласая корона с вплетенными в нее рубинами, но внешность дамы портили тонкие жестокие губы и лихорадочный блеск глаз. Галантно склонившись над ней, стоял длинный худой мужчина с эспаньолкой; в нем Русинский узнал врача из ординаторской, у которого он просил свою одежду. Время от времени он с шаловливой улыбкой что-то шептал даме, и та негромко смеялась, обнажая жемчуг зубов и, отставив длинный мундштук с дымящей сигаретой, бросала заинтересованные взгляды на Русинского.
Между креслом и диваном расхаживал, заложив руки за спину, целитель из психушки. Только сейчас Русинский заметил его невысокий рост - не больше метра шестидесяти. У глыбы секретера сидел на корточках высохший мужичок с серым морщинистым лицом, неряшливо обрамленном седыми пейсами и весь синий от патриотических наколок. В нем было что-то обезьянье - точнее, нечто от мумии обезьяны. Оживляло его лишь то, что время от времени он презрительно цыкал, сверкая платиной зубов.
По другую сторону секретера статуей возвышлась плоскогрудая женщина с короткой стрижкой и укоренившимся в чертах лица напряженным выражением. Она походила на крестьянку из белорусского фильма про войну, с той разницей, что ее худое тело от шеи до пят было покрыто не грязью и тряпками, а пурпурным балахоном; кроме того, ее шею отягощала массивная золотая цепь с крестом. Глаза и волосы были бесцветны. Независимо от направления взгляда, глаза ее смотрели с отвращением.
И, наконец, в дальнем углу комнаты, возле небольшого бассейна с мерцающими на поверхности воды фонариками, скрестив руки на высокой груди, склонив красивую голову, стояла та, кого он знал под именем Лана.
Замешательство длилось секунду и плавно перешло в печаль. Лана бросила на него взгляд, полный тихого презрения. Русинский вдруг понял, насколько он устал.
Как бывало с ним в тяжелых ситуациях, решение которых откладывалось по независящим от него причинам, Русинский не чувствовал ни страха, ни подавленности - только любопытство. Оглядев комнату еще раз, он заметил, что она отделана с большой, даже чрезмерной роскошью. Стены и потолки покрывали золотые узоры, но канделябры, ручки, портсигары и трутницы на столах были явно серебряные, из чего Русинский сделал вывод, господа ценят скорей серебро, чем золото, и, стало быть, поклоняются скорей Луне, чем Солнцу. Это могло означать многие и совершенно противоречивые вещи - цивилизация слишком далеко зашла в своих вольных трактовках древнего символизма, но почему-то он вспомнил - специально к нынешнему случаю - что чудовищные колдуны древнего материка, ныне сохранившегося только в легендах, Солнце считали женским, второстепенным и злобным светилом, отдавая свои молитвы Луне. Его догадку подкрепила небольшая статуя в центре комнаты: мохнатый мужик героических пропорций держал в руках точную копию Луны, представлявшую собой многократно увеличенную в размерах головку пениса. Все было из серебра.
- Вы увлекаетесь эротической карикатурой? - прокашлявшись, спросил он у Гиката.
Доктор остановился и всплеснул руками - впрочем, уже без той заполошности, что отличала его в стенах подшефного дурдома.
- Это скорее вы, огнелюбы, карикатурой увлекаетесь. И даже не эротической, к сожалению. А вообще, сударь, я чертовски рад, что вы очнулись. Знаете ли, это непросто - возращать живое существо к сознанию.
Женщина в кресле разразилась хриплым, но не лишенным приятности смехом. Передав мундштук своему кабальеро, она перикинукла ногу на ногу и внимательно воззрилась на гостя. Шелк ее черных чулок лоснился как намасленный. "Если я в дурдоме, то тут можно жить. Но только если я в дурдоме", - подумалось Русинскому.
- Признаться, мне здесь интересно, - сказал он, поднимая глаза на Гиката. - Только к чему это все?.. Не могу разобраться.
- Видите ли, сударь, - с кошачьей вкрадчивой готовностью ответстсвовал Гикат, - ваш друг Pierre был прав. Очень скоро наша дражайшая советская Отчизна - под руководством партийных своих кадров, конечно - покончит с позорной видимостью и разделится на бедных и богатых. Развод, так сказать, будет оформлен официально. Вам, смею спросить, что больше нравится? Какая категория граждан? Если можно, отвечайте со всей допутимой серьзностью.
- Если серьезно, то бедные взывают к жалости, а богатые безжалостны. Я не жалую ни ту, ни другую категорию.
- Браво! Это весьма изысканно. Однако вряд ли вы, monsineur, достигнете успеха. Впрочем... Кто знает? После большой перестрелки останутся только рабы, господа и философы. Первые две категории, в сущности, sunt ex eadem massa [созданы из одного вещества - лат.], то третьи всегда где-то сбоку... Я решительно против философистов, особенно оккультного толка. Вы все асоциальны, даже когда вы продажны, даже когда возносите фимиам публичным ценностям. Устои общества - позвольте мне сей экскурс - покоятся на том основании, что одни покупают других, и так снизу доверху, и по наследству. Разменной монетой часто служит просто идея, внедренная нами - чего греха таить? - в публичное сознание. Идея рая на Земле. Вероятно, вы не отрицаете действенность денег, ибо на деньги можно приобрести немного горизонтальной свободы; но в идею вы точно не верите. Вы хуже люмпенов, - он улыбнулся учтиво. - Вы продаетесь ровно насколько стоит ваша материально-психическая оболочка. И социальная, в том числе. Скорлупа, soit [вот именно - фр.]. Между тем общество нуждается в полной - вы слышите? - в полной самоотдаче; оно страдает от таких, как вы. Рим пал оттого, что в нем появился переизбыток нейтральности. "И слава Богу, что он пал", думаете вы, и в этом вся ваша природа. Однако, - он сделал паузу, - я не думаю, что вы относите себя к этим несчастным. Ведь смы предлагаем вам работу - вам, профессионалу - в нашей организации, что означает несомненно высокое положение в обществе и (надеюсь, вы понимаете) весьма обеспеченное бытие.
Русинский словно окаменел. Смысл речи проскальзывал сквозь него точно шелк через кольцо - он слушал его как слушают пение птиц. Все звуки, цвета, лица людей, свечи и кресла, - все слилось в один ослепительный круг и провалилось в прошлое, и он увидел себя - сидящим здесь, вцепившимся в подлокотники, но уже другим и смысл происходящего начал медленно приоткрываться.
И небольшого бассейна в углу послышался сочный всплеск. На глубокий ковер вышла пантера, с наслаждением отряхнулась и, проследовав в центр комнаты, задумчиво и преданно поглядела Русинскому в глаза.
- Шурочка, милая... - проворковала женщина в кресле и нагнулась вперед, поглаживая шею пантеры.
- Вы научили кошку плавать? - спросил Русинский.
- Все кошки умеют плавать, - на миг задумавшись и уже не в прежней вдохновенной интонации ответил Гикат. - А вообще-то вода - естественная начальная стихия... И мы сами на девяносто с чем-то процентов состоим из нее. Вы, кстати, никогда не задумывались над этимологией слова "замочить"? Или, к примеру, веревка. Учитывая метафизические склонности вашего ума, полагаю, что для вас этот способ тоже приемлем. Все повешенники - в чем-то Иисусы. Ведь что такое петля? Это круг и крест. Вам икогда не приходило в голову, что петля - это египетский крест, Анкх, ключ от небес, ныне, как ни странно, обозначающий женское начало и пространство - цари держали его в левой руке? Рекомендую задуматься. Ибо, несмотря на то, что вздернуться это гораздо богаче в метафизическом смысле, чем корчиться на кресте, в случае отказа вам остается одно - молить своих ментовских богов, как всякому, qui sibi collo suspendia praebet [кто дает себе повод для самоубийства через повешение - лат.]. Искренне полагаюсь на ваше благоразумие. Ибо та непосредственность, с которой вы...
Дама в кресле топнула каблучком.
- Барон, прекратите! - воскликнула она требовательно. - Граф давно уже среди нас.
Русинский от души расхохотался и захлопал в ладоши.
- Брависсимо! Брависсимо, барон! Вы превзошли самого себя. Нет, право же. Даже в Лионской ложе, даже на партийных собраниях вы не выдавали ничего лучшего. Такая, знаете ли, дубина интеллектуального гнева.
- Какая пошлость, - заметил Гикат, вытирая краешком белоснежного платка подбородок. - Нет бы сказать: "Магнум". Или, милости ради, "пээм". Ведь вы неплохо обучились, я прав? Но это пустое. Послушайте, граф. Мы не для того собрались сегодня, и не для того отпустили вас тридцать семь лет назад в это... гм... втуриутробное плавание - в новое воплощение, точнее сказать, как вы того желали, - чтобы выслушивать сейчас разнообразные контраверсы. Я, знаете ли, довольно прочно занял ваше место и никто не даст мне солгать, что ваши обязанности я выполнял не хуже вас, а то и лучше. Совесть надо иметь. Так вы пришли в себя, мой Сен-Жермен? Или вам память отшибло? Нет, определенно вы идиот, извините за вольность. Сначала вы польстились на животную натуральность бытия человеческого, и вас перестала устраивать ваша жизнь, теперь - вы заставляете меня разыгрывать перед вами выступление в палате лордов, и все только затем, чтобы спросить: вы по-прежнему с нами или - боже упаси - против? Кстати, этот дом - ваш.
Все присутствующие впились взглядом в Русинского (будем называть нашего героя так, ибо все привыкли к этому его имени гораздо лучше, нежели к прошлому, когда его звали граф Сен-Жермен, - не считая множества псевдонимов, которые он принимал сообразно политической ситуации и выполняемых им задач). Русинский улыбался. Он позволил себе расслабиться, хотя еще не понял, как выбраться из этой передряги.
Барон хлопнул в ладоши.
- Итак - начинайте, граф!
Русинский обвел спокойным взглядом присутсвующих. Разумеется, ни один из них не изменился, как за полный впечатлений и переживаний день не меняются домашние стулья; изменения претерпели только его дух и понимание, изменеия, начавшиеся в нем еще пятьдесят лет назад после одного особенно тяжелого допроса и расстрела, которыми он лично руководил в подвальном помещении одного дома на шумной центральной улице, и сейчас каждый выступал из полумрака в своем прискорбном и навязчивом постоянстве.
- Аббат Луи Констан, он же Элифас Леви. Покажись! - зычно произнес Русинский.
Врач-реаниматолог встрепенулся, подошел и поцеловал костяшку указательного пальца на правой руке Русинского, где находился мистический и скрытый от посторонних взглядов перстень Соломона.
- Жак де Молэ, командор мальтийский. Покажись!
Тот, с кем он беседовал под именем Агродора Моисеевича, повторил движения епископа.
- Ольга, княгиня Киревская. Покажись!
Дама в ажурных чулках поднялась со своего глубокого кресла и, насытив воображение Русинского долгим влажным взглядом, повторила приветственный ритуал.
- Иоанна, Папесса Римская. Покажись!
Высокая худая женщина повторила все необходимые действия, сохраняя презрительное выражение глаз. Когда она повернулась спиной, чтобы прошествовать на своем место, Русинский заметил круглый вырез ниже ее талии.
- Иоанн по кличке Богослов, король каторжников. Покажись!
Синекожий потушил в ладони сигарету без фильтра, с неохотой поднялся на ноги и танцующей походочкой приблизился к Русинскому. Глумливо сымитировав обряд, он по пути восвояси потрогал зад аббата и цыкнул в сторону пантеры. Животное испуганно прижалось задней частью корпуса к полу. Аббат вцепился руками в горло Иоанна, но одернул пальцы под взглядом председательствующего.
- Ревекка де Леон. Покажись.
Лана оторвалась от стены, прислонившись к которой стояла все это время, подошла, стала на колено и поцеловала его руку. В ее глазах Русинский заметил перемену: презрение исчезло, полностью уступив место покорности.
- Tres bien, mesdames et messineurs [Отлично, дамы и господа - фр.], всплеснув руками, произнес Фронтер. - Мы все убедились, что наш милый граф опять в своей тарелке. Итак, сударь: вы обещали помогать нам, едва организация ощутит в вас потребность. Этот миг настал. Наша акция по запасению ментальной энергии почти закончена - пора переходить в решительное наступление. Организация взыскует вас.
- Барон, я попросил бы избегать советских арготизмов.
- Как пожелаете, - бросил барон де ла Фронтер, ибо так его звали влоть до русской революции и последовавших его ипостасей от начальника областного управления НКВД (в тот недолгий период, когда граф еще руководил московским обкомом) до главврача больницы - должности, несомненно, самой скромной из всех ступеней его карьеры, но, как всегда, вызванной к жизни обстоятельствами. Следует заметить, что его неприметное и, в общем, малоподходящее для склонностей барона имя не было ни первым, ни последним из его имен; Фронтер уже много лет стремился к тихой жизни подвального душегуба, служа советником то у Нерона, то у Игнатия Лойолы, организовавшего орден иезуитов не без его подсказки; Фронтер не любил привлекать внимание, не без оснований полагая, что всадник важнее лошади.
Слушая его речь, Русинский вдруг подумал, что он сам был для барона чем-то вроде боевого слона. В его отсутствие Фронтер остался единственным вожаком всей шайки, и это положение, возможно, очень ему понравилось. Что же! - усмехнулся про себя Русинский. - Время портит даже бессмертное зло.
Однако это обстоятельство усложняло его, Русинского, задачу. Фронтер явно не расчитывал на действительное возращение графа к роли председателя ему всего лишь нужно было знать, где находится манускрипт Каббалы, подаренный графу одним раввином в Медиолане в 1201 году. Там содержался верный, не считая десятка подделок, логарифмический ключ к использованию канала ментальной энергии; ключ заключался в комплексе инструкций по изготовлению магическизх знаков и подготовительному этапу работ, и главное - в точной дате их применения. То была высшая оккультная математика; искусственно вычислить дату было невозможно, и Русинский убедился в этом. Если все необходимые корреллирующие действия будут совершены в идеальное для них время, не исключая правильной последовательности, то их сила умножится в сотни тысяч раз и станет необратимой, тотальной, и результат их навеки лишит это сообщество обманутых, хвастливо назвавших свой вид "человеком разумным", короткого - всего в тысячу лет - Звездного Всплеска, намеченного на третье тысячелетие христианской эры. Миллионы душ в этот период смогут перейти на более высокий уровень роста, покинув эту кровавую планетарную сферу, низшую среди других. Массы именуют ее Землей; раввин назвал ее словом Мalkuth.
Рукопись находится в доме. Русинский очень пожалел, что не уничтожил этот свиток в день, когда решил стать одним из смертных. Но было поздно жалеть. Он вполне осознвал, что в силах этой шайки вытащить любую информацию из его сознания - уже не словесными методами и даже не прибегая к грубому насилию, а лишь применив одну из гипнотических методик; против нее пасовала даже та линия обороны, которую Русинский укрепил за тысячи своих лет. Сейчас он с бешеным усилием воли пытался решить идиотский по сути вопрос: как заставить их поверить, что он в самом деле ничего не помнит, или колеблется с выдачей документа, или необратимо отупел за последние годы. Он решил тянуть время.
- Что же, как вам будет угодно, - продолжил Фронтер. - Пусть будет не организация. "Le сircle des poetes disparus" вас устроит? [Кружок мертвых поэтов - фр.]
- В конце концов, у нас тут не лингвистический диспут, - согласился Русинский.
- Так вы признаете?..
- Я бы рад, барон. Но все изменилось. Tempora mutantur, и мы мутируем вместе с ними. [Времена меняются - лат.]
- Ничего не меняется с людьми вроде вас. И вроде нас, конечно. Вашу рукопись "Евангелия от Иуды Искариота" мы уже нашли. А ту фальшивку, которую вы всучили господам Розенроту и Булгакову, пусть изучают книголюбы.
- Если говорить более предметно: что от меня требуется?
- Вот это уже деловой разговор! Видите ли, мы могли взять вас голыми руками, без этих путешествий в минувшее. Но - звание обязывает! Мы не большевики.
- Не забывайтесь, барон. Вы гораздо хуже.
Пропустив это замечание мимо ушей, барон сложил кончики пальцев и принялся расхаживать по комнате как школьный учитель перед классом.
- А что думает по этому поводу графиня? - спросил Русинский и посмотрел на Ревекку. Она вздрогнула и отвернула голову.
- Всего лишь дочь раввина, граф, - поправил его Фронтер.
- Я прожил с ней двенадцать лет, - парировал Русинский. - За такой срок любая женщина может требовать поблажек.
Барон махнул рукой. Ему досаждали браки.
В комнате повисла тишина. Свечи разом издали сухой треск и выпустили волнистые полосы дыма. Русинский почувствовал, что чувства становятся сильнее его.
- Можете меня убить, - сказал он. - Лишить сознания. Все равно. Барон, я говорю вполне серьезно. Вы не самостоятельны. Вы - марионетки с мозгами.
- Итой мен протиста Хаос генэт, - пожал плечами Фронтер. [Хаос был зарожден прежде всех вещей - греч., из поэмы Гесиода "Теогония", 1.166]. Все вышло их Хаоса, и все вернется в Хаос. Речь не об этом. Речь о том, что лучше буть марионеткой с мозгами, нежели без мозгов. Никто не самостоятелен. Кроме, конечно, Причины, породившей весь этот мир.
- Проще говоря: когда вы видите кукловода и ясно понимаете, что он прав, вы перестаете быть марионеткой, - добавил Жак де Молэ. - Это ведь ваша сентенция, граф. Еретическая, на мой взгляд.
- А вы, стало быть, считаете себя воплощением понимания? - спросил Русинский.
- Напрасно вы так агрессивны, сударь, - встрял Фронтер. - Даже самый умный человек, даже все умные люди планеты, если б они вдруг объединились одной идеей, не станут воплощением ума. Мы все - части часть, как сказал небезызвестный вам душка Гоэте. В каком-то смысле мы - батальон полка, а насчет командования дивизией невозможно помыслить. Вы понимаете?
- Еще бы граф не понимал, - заметил аббат. - Он тридцать шесть лет прожил в лагере социализма, при этом ничего не помня о своей роли в его создании.
- Подумайте, мой друг, - весьма проникновенно заговорил Фронтер, - я взываю не столько к вашему разуму, который слишком замусорен этим вашим воплощением, но к тому вечному, что тянется сквозь века. Ведь можно пройти по жизни точно бодхисатва, шаг за шагом, день за днем наблюдая смерть иллюзорного мира, смерть во веки веков. Но как-то раз - дело было при Людовике Красивом на пасхальной мессе - я окинул взором стоявших вокруг женщин, таких прекрасных, вызывающе прекрасных в нежности и похоти своей, я посмотрел на благородных кавалеров, равно готовых пролить слезу альковной и небесной благодати, и ни в одном человеке, сударь, я не заметил желания сжаться в духовную первооснову, и бросить все, что есть земная жизнь, такая лживая, но отнюдь не ложная; я подумал, что доктор Фауст был просто глупцом, ибо все, чего он так жаждал, было рядом с ним, и что Иисус Назарей не вынес взятой на себя тяжести, ведь жизнь - страстная жизнь, пусть даже осиянная светом истины - суть неизбывное бремя, и отказавшись от коррекций Сатаны, он выбрал только миг, иначе - сдался; но если мы забудем о покаянии и капитуляции, если врежемся в судьбу мира и будем последовательны, тогда все, абсолютно все будет работать на нас. Вы вспоминаете, граф?
- Вы всегда были скорее поэтом, барон, нежели философом. И скорее идиотом, нежели поэтом. Да, я произнес когда-то эти слова, но речь была о другом.
- Ну что же... Я польщен даже таким ответом. У вас ровно три часа на обдумывание. Затем мы приступим ко второй части нашего, простите за вольность, марлезонского балета.
Барон щелкнул пальцами. Двое амбалов отперли дверь снаружи, выпустили всех присутствующих и заперли вновь. Русинский остался один.
Подняв лицо к потолку, он зажмурился и беззвучно завыл.
...Через некоторое время - скорее всего, не минуло и часа - ему удалось подавить лихорадочную дрожь в пальцах. Откинувшись на диване, он вспоминал деталь за деталью. Затем встал, подошел к западной стене, нащупал серебряный герб Меровингов - один из десятка, покрывавших стены комнаты - нажал на него большим пальцем и даже не поверил, услышав заметное шипение.
Лихорадка снова хлынула сквозь все препоны разума и воли. Русинского затрясло. Это шипение издавал газ, включившийся в незаметных трубах в потолке. Он придумал эту штуковину 60 лет назад, когда строил особняк - на всякий случай, ибо люди, посещавшие его, весьма редко были дружелюбны. Бросив быстрый взгляд на свечи, он подскочил к дальнему краю северной стены, бухнулся в бассейн и захватив воздуху нырнул.
Нашарить нужную плиту оказалось непростой задачей. Он нырял уже в пятый раз, но ни одна не поддавалась, и когда уже зашумело в голове и он приготовился к смерти от угарного газа, вторая с правого края плита нехотя подалась нажатию ладони и отъехала в сторону.
Вода хлынула не так оглушительно, как он ожидал, но его сердце сжалось. Не дожидаясь, пока вытечет все, Русинский прыгнул в проем.
Пролетев два метра, он упал в воду - она доходила по пояс и хлестала как в пробоину. Его отбросило на высокую ступень сзади. Он ударился спиной удар пришелся на позвоночник, он едва не закричал от боли. Сердце бешено колотилось. Захлебываясь от потока хлеставшей сверху воды, он крутанул рукой герметизационный вентиль. Плита наверху медленно повернулась по горизонтали. Вода перестала.
Впереди был коридор высотой в полтора метра, прорытый под дном бассейна или, точнее, бассейн был поставлен крышей над ним. Русинский согнулся и быстро, как мог, побежал вперед и вверх, куда вел лаз.
Путь занял несколько минут. Русинский пнул ногой гипсовую фальшивую кладку. В ноздри ударила предутренняя свежесть. Задевая плечами гипс, он выбрался из северной стены дома, граничившей с маленькой лесной поляной.
Его окружили свежесть и тьма. Было нежарко, - особенно в мокрой насквозь одежде. Русинский взглянул на часы. 4:30 утра. Во тьме архипелаги снежных островков придавали поляне сходство с коровьей шкурой. Он вынул из правого кармана пачку "Родопи", на удивление оставшейся сухой, и двумя пальцами выудил сигарету. Зажигалка тоже не подвела - только пришлось поискать ее в глубоком кармане плаща. "Первая затяжка - лучшее, что может случится за день", - вспомнилась ему любимая пословица Ланы. Мягкий теплый поток вкрался в его настроение, отчего захотелось бросить все, сесть на землю и опустив руки завыть, и не скрывать слез. Уходя в сторону леса, Русинский обернулся. Ему представилась Лана, хмуро листающая пестрый журнал, медленно достающая сигару из серебряной коробочки. Вот щелкает замочек коробки, тонкая длинная сигара поднимается к нежным губам, умещается с левой стороны в аккуратном прикусе. С отчаянным шипением выспыхивает спичка...
Русинский так замерз, что не сразу осознал, откуда взялась эта красно-желтая вспышка. Она расширилась в долю секунды и рванула вверх и в стороны. Взрыв разорвал воздух. С дребезгом вылетели стекла, грохнула подпрыгнув крыша, дом разом утонул в огне, переливавшимся красными, черными, желтыми прожилками, горячая волна ударила в лицо, в уши, и все вдруг потонуло в грохоте вертолетных лопастей.
***
Звук запаздывает за светом, но Русинский сначала различил звук, а не свет. Звук был сильным и ровным - так шумели только лопасти вертолета. Затем он различил перед собой стекло, за которым в сплошной мгле тянулась едва уловимая выгнутая линия горизонта. Повернув голову - она гудела как с похмелья, но это "как" уже стало привычно за последние пару дней - слева он увидел серую громаду, спокойно и сосредоточенно державшую штурвал в огромных руках. Русинский попробовал оглянуться, но боль пронзила его спину. Наконец он собрался с силами и прокричал, надрывая пересохшее горло и какой-то злой нерв в районе диафрагмы:
- Откуда дровишки?
Дед не оглянулся, только растянул свою физиономию в улыбке и хлопнул ласково ладонью о штурвал.
- Некоторые вещи должны быть, - хрипло перекрыл он шум. - А что нельзя купить, то можно приобрести. Понял?
...Приземлились на опушке далеко за городом, возле блатного дачного поселка. Скорее всего, - мимоходом подумалось Русинскому, - эти тонущие в темном далеке дома принадлежали горкомовской элите: не такие помпезные, как у обкомовцев, но заметно добротнее алаяповатых бунгало завмагов. Он выпрыгнул на землю и вдохнул воздух, в котором уже чувствовался звериный запах весны. Размяв ноги и спину парой приседаний, он направился в сторону леса, где чернел гробовой силуэт "Волги" с тонированными стеклами.
Дед выбрался из машины тяжело и осторожно. Сделав несколько шагов, он опустился на землю и лег ничком. Русинский бросил взгяд через плечо и усмехнулся. Неспешно он приблизился к пятнистой титанической фигуре. Вопреки своим ожиданиям насчет молитвы подземным богам, он увидел, что Дед лежит молча и вовсе не подает признаков жизни. Только сейчас Русинский заметил, что левое плечо и рука Деда залиты кровью.
Он опустился на колено и перевернул Деда на спину. Тот открыл глаза.
- Бинт в правом кармане, спирт во фляге, - просипел он. - Не хотели отдавать, суки... Почему все офицеры - хохлы? Целый ящик "Посольской" им выставил...
Русинский быстро нашел бинт, разодрал рукав афганки, промыл рану спиртом и перевязал плечо. Пуля прошила мышцу навылет и не задела кость, но Дед потерял много крови. "Как же мы не грохнулись", - не без любопытства подумал Русинский, когда поил Деда из фляги.
- В больницу надо, - с сомнением сказал он.
Дед усмехнулся:
- В советсткую больницу - с огнестрельным?.. Нет, я по вашим кумам не соскучился...
Он усмехнулся еще шире (питье начало действовать, подумал Русинский) и оперевшись на своего напарника со стоном и замысловатым матерком вздернул свое тело на ноги. Русинский успел поддержать его, иначе бы Дед рухнул, но тот оттолкнул его руку и, пошатываясь и вздыхая, упрямо направился к машине.
Усевшись за руль, Дед откинулся на спину и закрыл глаза.
- Чья машина? - полюбопытствовал Русинский.
- А, - Дед шевельнул больной рукой и поморщился. - Найдут где бросили. А не найдут, так меньше по гостиницам сношаться будут. Комсомольцы гребаные...
Немного покопавшись в карманах, Дед вынул пачку табака и принялся сворачивать сигарету.
- Ну и что теперь делать? - спросил Русинский. - План есть? Какая диспозиция?
- Сам решай. Ты положительный герой, не я.
Русинский хмыкнул.
- Положительные герои обеспечивают семьи, покупают им жратву и телевизоры, и всякие хитрые телефоны, побеждают фашистов, решают проблемы, покрывают позором все, чего не понимают, а я просто хочу быть свободным.
- Тогда тебе туда, - сказал Дед и равнодушно кивнул прямо перед собой, в направлении, где в густой кедровый лес уходила узкая, едва различимая тропа. - Там твоя Тварь. А я там уже был. Мне она по фигу.
Русинский задумался на минуту, затем, преодолевая подступивший к горлу комок, сказал:
- Моисей... Тебе не жаль свою дочь?
Дед окаменел. Его взгляд, казалось, обернулся внутрь его существа. После долгой паузы он ответил:
- Все предрешено... Ревекка никогда не принадлежала мне. Знаешь, дети редко продолжают дело отцов. Они - другие люди, со своей судьбой. Она была просто в плену. И не могла вырваться. Не хотела вырваться, точнее, потому что они перекрыли ей весь ее разум... А может, понимала, что все слишком поздно. Не знаю... Ты спас ее. Да, ты ей помог. Но это не важно. Я не привязан к ней. Род - ничто. Народ - ничто. Все приходит и уходит, это даже не ветер - просто вакуум. Но то, чему мы служим, имеет смысл - пока мы служим. И ты, и я, мы все можем уйти Домой прямо сегодня. Но кто тогда будет утирать сопли этим несчастным?
- По-моему, они вовсе не желают, чтобы им утирали сопли. Болезнь - их нормальное состояние. Они гордятся болезнью. И стараются заляпать других.
- Может быть, поэтому?.. - кротко спросил Дед.
Русинский вздрогнул. Черт побери, подумал он. В другой ситуации этот разговор мог показаться просто шизофреническим. Или в лучшем случае фальшивым, бутафорским, цирковым.
- Они должны прийти в себя, - снова заговорил Дед. - Если твой долг поддерживать этот порядок, ты найдешь радость и смысл в том, чтобы его поддерживать. Земля должна вертеться.
- Но чтобы другие пришли в себя, чтобы голова не кружилась, надо остановить карусель. Или ее остановят? Но кто? Когда?
Дед ничего не ответил.
Русинский чувствовал свою правоту, но так, что лучше бы он ее не чувствовал. Его не покидало ощущение, что он стоит в двух шагах от какой-то истины, у ширмы, за которой скрывается нечто мешающее ему быть свободным, а не рабом, самой живой и, пожалуй, единственной мыслью которого всегда была мысль о побеге; впрочем, он с отвращением подумал о тех рабах, что смирились со всеми маразмами, тайно и явно управляющими их поведением, рабах, что со временем повысились до проповедников рабства и палачей для неугодных.
- Дед, подскажи мне... В чем я не прав?
- Да просто в том, что ты стремишься стать правее всех, - со спокойной раздумчивостью заметил Дед. - Не надо разочаровываться в людях. У нас всех общее начало, и все будем вместе в один день. Чего ты ждешь от них - здесь и сейчас? Все их действия, мысли, ошибки, взлеты, - все продиктовано судьбой. Общим Направлением. Они просто топают маленькими шажками по дороге, и не их вина, что мы раньше их вспомнили, куда ведет эта дорога, и что вокруг сплошные миражи. Их пугает смерть, они хотят быть уважаемы, а в конфликтах между добром и злом выбирают деньги. Ничего не жди от них, ни добра, ни зла. Не лезь к ним в душу. Ты к ним привязан. Они тебя задевают. Они в твоем сердце, а твое сердце полно страстей. Оно должно быть пустым и светлым... А потом исчезнуть. Вместе с тобой.
Русинский попытался представить пустое сердце, но смог только вспомнить цветное фото из какого-то медицинского журнала - сердце, из которого выкачали всю кровь во время операции. Вместе с тем он почувствовал, что его не бросает в дрожь это воспоминание, ставшее гораздо более реальным, чем в тот день, когда он смотрел на картинку, ведь это сердце стало его сердцем; просто это был мотор биологической машины, одной из тех вещей, которые он часто менял на протяжении миллиардов лет своего существования.
- Ладно, - отрезал Дед, запуская двигатель. - Тебе прямо, мне направо. Ты еще здесь?!
Чувствуя легкий звон в голове от событий последних дней, и в особенности от этого разговора, Русинский смотрел, как машина делает разворот и выправив движение на дорогу, исчезает в последней, отступающей в лес тьме.
X
25 марта 1986 года. 8:20 утра.
Из хвойной душной полутьмы выступила чугунная ограда. Высокие, проржавленные, но крепкие ворота были заперты наглухо. За ними виднелась каменная усадьба - не слишком большой дом с потекшими стенами, наводя на мысль о расстреле хозяина в 1917-м. В усадьбу за оградой вела маленькая калитка. Осторожно толкнув ее витиеватый узорный металл, Русинский вошел внутрь.
Прямо вела дорожка, вымощенная морской галькой. Оглянувшись по сторонам, Русинский направился к зияющему впереди меж двух дорических колонн проему, дверь которого была, по всей видимости, сорвана крестьянами в том далеком и вечно повторяющемся году. Голое пространство перед домом не представляло собой ничего интересного - разве что несколько богов на вросших в землю постаментах и очень ясное чувство узнавания.
Дом окаймляла терраса с колоннами. Русинскому слышалась музыка - вальс, и в цветущем июльском саду кружились танцующие пары, и вокруг царило такое сочное ожидание чего-то неизъяснимо прекрасного, что хотелось летать. Русинский охватил голову руками; видение исчезло.
К черному прямоугольнику двери вели по-прежнему крепкие ступени. В доме царил мрак. Русинский вдруг осознал, что совершенно забыл об этом доме. Ни малейшего воспоминания о том, что происходило внутри и как расположены комнаты. Сужающийся коридор со все более низко нависающим потолком увлекал вперед. Русинский прошел несколько метров, свернул, прошел прямо, опять свернул, сделал еще несколько поворотов и понял, что заблудился.
Он совершенно не ожидал такого исхода. Самым надежным решением было проделать обратный путь. Он так и поступил, но в итоге оказался у стены с нарисованной во всю ширину картиной, неразличимой во тьме. Развернувшись на сто восемьдесят градусов, он вновь направился вперед, и вновь было хитросплетение коридоров, повороты с ровными углами стен - и больше ничего, кроме неясных картин, углов и петляния.
Через час Русинский понял, что выбился из сил. Запаниковав, он пытался пробить стену ударом ноги, но ничего не вышло - стена явно была тонкой, бумажной, но крепости необычайной и пропитанной чем-то вязким и пахучим. Русинский опустился на корточки и вынул из кармана сигарету. Он вынул из кармана брюк свою Zippo, щелкнул крышкой, зажег и долго смотрел на свой потертый заслуженный лайтер. Кремень еще не вытерся, бензина хватало. В дрожащем круге света рассмотрел рисунок на стене. Все было выполнено в предельно реалистичной манере: он, Русинский, собственной персоной, произносил тост на двенадцатилетии своего сына. Отстегнув от ремня фляжку со спиртом он отвинтил крышку и сделал глоток. В нос ударил ядреный запах - и вдруг рискованая мысль вспыхнула в мозгу. Не раздумывая, Русинский хлебнул еще и вынес руку с воспламененной зажигалкой прямо напротив лица и с раздирающим воздух шумом выпустил спирт на волю.
Горизонтальный столб огня ударил в стену. Взвился пожар. Помещение загорелось как лужа бензина. Пламя в один миг прокатилось по стенам, пронзило насквозь, охватило пространство. Закрыв локтем голову, прижав к лицу полу плаща, Русинский вскочил на ноги и уже решил прорываться через красный раскаленный лес, но огонь стих также быстро, как взвился. В едком дыму он вскоре рассмотрел, что все без исключения стены исчезли, рассыпались пеплом, открыв пустую площадку размером со среднюю городскую площадь. Ее размер казался непомерно большим для такого скромного со стороны фасада дома. Дымное удушье понемногу ушло; просачиваясь сквозь последние впышки его миазмов, в ноздри поплыл запах крови или морской воды.
Русинский обнаружил себя в центре зала. Перед ним уверенно и даже с каким-то вызовом стоял крепкий стул с резной спинкой, увитой крестообразным орнаментом. За стулом расстилалась гладь бассейна.
Водоем занимал примерно половину площади. Слева и справа и в дальнем конце бассейн ограничивали бетонные стены. Стену напротив украшало изображение петли; конец свободной линии перечеркивала другая, образуя крест. На дне бассейна возникло мерное зеленоватое мерцание; оно постепенно усиливалось, становилось похоже на подсвеченный снизу гейзер, как если бы какой-то сумасшедший раджа кипятил в нем изумруды.
- Что за черт, - растерянно обронил Русинский.
Словно откликнувшись, вода забурлила с удвоенной силой. Сила кипения росла, распуская во все стороны играющий, точно шелк на солнце, свет. И когда лучи заполнили весь зал, и не осталось ничего, кроме света, вода отделилась от своего квадратного ложа и начала постепенный подъем, вставая от дальнего края ровной сверкающей стеной, надвигаясь на Русинского, который мог бы упасть, если б не укрепившее его силы ощущение чего-то очень загадочного и простого, чувство, к разгадке которого он шел по жизни с первых дней. Он совершенно не опасался, что стена воды рухнет на него. Блистающий квадрат, живой, дышащий, остановился, едва достиг угла в девяносто градусов. Его кипение стало бешеным, свет кружился в пространстве как юла, которую забыли остановить, а сама она не может, и она завивалась в спираль - и в этот миг масса начала сгущаться, плотнеть, сияние ушло в глубину, выпустив наружу ровный желтовато-белый оттенок и прияняла человеческую форму ростом с Русинского. Мелькавшие в ней краски словно разлились по формам и принялись переваривать черный цвет его плаща, серый цвет его свитера и синий - джинсов, затем полностью проявились в чертах его лица и напоследок сверкнули золотом его часов. Отшатнувшись, Русинский впился пальцами в спинку стула. Фигура в точности повторила его движение: с ней рядом даже возник стул, но что-то внутри нее продолжалось вращаться, сгущаясь все более и более, и вот Русинский увидел напротив самого себя.
Теряясь в догадках, но все же успокаиваясь, он закурил и отметил синхронность их движений. Затем поставил стул на самый край бассейна и неспешно приземлился. Он смотрел прямо перед собой и о чем-то размышлял. Это выглядело, в сущности, просто и в чем-то даже банально. Они были вещи в себе, будто сон и тот, кому он снится, вдруг смогли обменяться мнениями, и на самом деле стало ясно, что все являлось одним и тем же Я, способным принимать любые формы, но бывшее одним. Его тело - его или его отображения, сказать было трудно, ибо они стали совершенно симметричны даже своими мыслями - постепенно начало терять плотность, форму, цвет; впрочем, кто знает, чем могло это закончиться - ведь природа сна бесконечна и одинакова для всех, и ночь проходит, и день пройдет, а пока оставалось лишь это и летающий по снежному пространству пепел, осыпающий черным снегом богов во дворе, и прошлогодняя трава, и та, чье семя зрело в почве, и змеящийся ветер, и в который раз нисходящий рассвет.



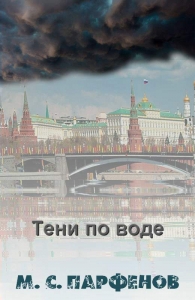
Комментарии к книге «Малкут», Глеб Тенин
Всего 0 комментариев