Адам Нэвилл ДОМ МАЛЫХ ТЕНЕЙ
Соединяя собственную сущность с сущностью своей прекрасной комнатыища с нею взаимодействия, он, быть может,
взращивал свое собственное привидение — и даже не мог уразуметь, что подобная метаморфоза уже могла иметь место в прошлом..
Оливер Онионс. «Манящая своею красотой»[1]Глава 1
Кэтрин явилась в Красный Дом словно во сне. Она оставила машину на пыльной дороге — живая изгородь полностью перекрывала проезд — и отправилась пешком через узкий проход между кустами боярышника и лещины туда, где виднелась островерхая крыша с красными кирпичными трубами и цветочными орнаментами на остром коньке.
Не по сезону теплый ветер прилетал с близлежащих лугов и стелился у ее ног по рассохшейся земле, принося с собой благоуханные ароматы неведомых цветов. Сонная, едва ощущая гудение, исходящее от желтых луговых цветов и полевых летних трав, высоких и буйных, Кэтрин к тосковала по времени, в котором, может быть, жила и не она, а кто-то другой, и представила себе, что переносится в другую эпоху.
Когда она, пройдя вдоль кирпичных стен английской кладки[2], окружавших сад и поросших плющом по всей ширине, вышла к черным воротам, прилив романтических чувств настолько сразил ее, что у нее закружилась голова. Но вот перед Кэтрин открылся вид на дом и полностью овладел ее вниманием.
Ей сразу же показалось, что дом в ярости от того, что его побеспокоили: он словно встал на дыбы, увидев незнакомку между стойками ворот. Трубы-близнецы — по одной на каждое крыло — походили на руки, воздетые к небу и царапающие воздух. Крыши, выложенные валлийской шиферной плиткой и увенчанные железными гребнями, ощетинились, точно шерсть на собачьем загривке.
Все линии дома устремлялись в небеса. Два крутых фронтона и арка каждого окна взывали к небу, громадное здание словно было маленьким собором, возмущенным своим изгнанием в хирфордширское захолустье. И, хотя оно более ста лет прозябало в глуши посреди невозделанных полей, его стены из аккрингтонского кирпича[3] сохранили свой гневно-красный цвет.
Но если приглядеться и представить себе, что многочисленные окна — от высоких порталов первых трех этажей до узких слуховых окошек чердака — это ряды глаз, то казалось, дом смотрит куда-то мимо нее.
Будто не замечая Кэтрин, множество глаз глядели на что-то, находящееся позади нее. Впечатление взора, устремленного вдаль, создавалось многоцветными каменными архитравами над окнами. Но то неведомое, на что они так долго и со страхом взирали, ввергало еще в больший трепет, чем само здание. И, может быть, та безмолвная ярость, которую Кэтрин усмотрела в облике Красного Дома, была на самом деле испугом.
Особняк выглядел явным чужаком в здешних краях. При его строительстве почти не использовались местные материалы. Этот дом возводил кто-то очень богатый, способный оплатить и привозные материалы, и профессионального архитектора ради того, чтобы воплотить в камне некое видение, вероятнее всего, задуманное по образу и подобию какой-нибудь усадьбы, восхитившей владельца в Европе, возможно во Фландрии. Почти наверняка здание относилось к так называемому «готическому Возрождению» времен долгого царствования королевы Виктории.
Красный Дом и ближайшую деревню под названием Магбар-Вуд разделяли две мили — холмы с редкими вкраплениями лугов, из чего Кэтрин сделала вывод, что поместье когда-то принадлежало крупному землевладельцу, заметно расширившему свои владения благодаря законам об огораживании[4] и явно любившему уединение.
До Красного Дома Кэтрин добиралась через Магбар-Вуд и теперь задалась вопросом: а возможно ли, что в приземистых деревенских домах некогда жили арендаторы хозяина этого необычного особняка? Но то, что деревня не расширилась до границ территории поместья, а близлежащие поля стояли заброшенными, было необычно. Когда ей доводилось выезжать по своим оценочно-аукционным делам в загородные особняки, настоящие луга ей почти не попадались. А вот Магбар-Вуд и Дом опоясывали, подобно крепостному рву, две квадратные мили дикой природы.
Труднее было признать то, что прежде она вообще не знала об этом месте. Она чувствовала себя как бывалый турист, внезапно обнаруживший новую гору в Озерном Крае[5]. Этот дом представлял собой настолько уникальное зрелище, что дорогу к нему следовало бы оснастить соответствующими указателями — или хотя бы нормальный подъезд сделать.
Кэтрин внимательно посмотрела себе под ноги. Это и дорогой-то назвать нельзя, так, полоска глины и щебня. Казалось, Красный Дом и семейство Мэйсонов хотели, чтобы никто их не обнаружил.
Приусадебная территория тоже знавала лучшие времена. Перед фасадом особняка был когда-то разбит палисадник, но теперь в нем хозяйничали крапива, плевел и колючие луговые цветы, и густые заросли кустарника теснились в тени здания и садовых стен.
Вокруг Кэтрин вилась стайка жирных черных мух, норовя усесться на неприкрытые руки, и она поспешила к крыльцу. Но вскоре, судорожно вдохнув, замерла; пройдя полпути по останкам центральной дорожки, она увидела в прямоугольном, с крестообразным переплетом окне второго этажа лицо: оно прижалось к стеклу в нижнем углу слева от вертикальной стойки. Маленькая ручка то ли помахала ей, то ли изготовилась постучать. А может быть, человечек в окне ухватился за вертикальную фрамугу, стараясь подтянуться повыше.
Она решила помахать в ответ, но не успела поднять руку, как человечек исчез.
Кэтрин не знала, что в доме живут дети. Согласно полученным указаниям, здесь проживали только Эдит Мэйсон, единственная оставшаяся в живых наследница М. Г. Мэйсона, и домоправительница, которая и должна была встретить Кэтрин. Но маленькое личико и ручка, сделавшая короткий взмах, определенно принадлежали ребенку — бледному, с чем-то вроде шляпы на голове.
Она не могла сказать, девочка это или мальчик, но краем глаза успела уловить на мелькнувшем лице широкую веселую ухмылку, словно ребенку было приятно наблюдать, как она пробирается сквозь заросли в палисаднике.
Ожидая услышать топот маленьких детских ножек, бегущих по входной лестнице ей навстречу, Кэтрин внимательно посмотрела на пустое окно, а потом — на дверь. Но ничто не шевельнулось за темным стеклом, и никто не спустился, чтобы встретить ее.
Она продолжила путь ко входу, более уместному для церкви, нежели для жилого дома, пока мрачная тень от старого дуба не накрыла ее подобно громадному капюшону.
Одна створка громадных передних дверей, сделанных из шести панелей — четыре дубовых, две верхних из витражных стекол, — была открыта, словно провоцируя Кэтрин войти без приглашения. Через щель она увидела неосвещенный холл с бордовыми стенами. Погруженный в полумрак, он напоминал глотку, уходящую в бесконечность.
Кэтрин оглянулась на заросшие лужайки, и ей почудилось, будто стебли золотарника и кукушкиных слезок повернули свои маленькие дрожащие головки и безмолвно крикнули, предупреждая об опасности. Она сдвинула темные очки повыше, к волосам, и на мгновение подумала, не вернуться ли к машине.
— Дорожка, по которой вы прошли, была здесь задолго до того, как построили этот дом, — послышался надтреснутый голос из глубины холла. Женщина заговорила тише, словно обращаясь сама к себе, и Кэтрин послышалось, — никто не знал, что придет сюда по этой дорожке…
Глава 2
Неделей ранее
Все крохотные лица были обращены к дверям комнаты, когда она вошла.
Все бусинки стеклянных глаз уставились на нее.
Бог ты мой.
Кэтрин изумило даже не количество кукол и продуманная композиция, а то странное чувство предвосхищения, что как будто переполняло их. Ей показалось, что куклы долго ждали ее в темноте, словно гости на празднике-сюрпризе, устроенном для какого-то ребенка сто лет назад.
Оставаясь единственным живым существом в этой комнате, она замерла, словно манекен, и на пристальные взгляды со всех сторон отвечала таким же стеклянным взглядом. Если бы что-то здесь шевельнулось, она, скорее всего, вскрикнула бы, испугавшись своего голоса.
Но вот сиюминутное оцепенение прошло, и она поняла, что более ценной коллекции антикварных игрушек ей не доводилось видеть за годы работы оценщицей, продюсером телевизионных передач об антиквариате и даже хранителем-стажером в Музее детства.
— Эм… Мистер Дор? Это Кэтрин. Кэтрин Говард.
Никто не ответил. А ей хотелось, чтобы ответили. Уже одно то, что она вошла в комнату без разрешения, было весьма неловко.
— Сэр? Это Кэтрин из аукционного дома Осборна. — Она сделала еще шаг. — Сэр? — она повторила совсем тихо, поскольку уже поняла, что больше никого здесь нет.
Дверь ванной была открыта. Там, в тесной желтой каморке, было пусто. В сильно поцарапанном шкафу из орехового дерева остались только вешалки. Стопка пожелтевшей бумаги и на скорую руку приготовленный холостяцкий завтрак занимали край журнального столика.
Жилое пространство комнаты, похоже, никто, кроме кукол, не занимал. Многие из них были выложены на кровать с медным каркасом, старую, как и все в этом доме, на первозданную белизну пухового одеяла ручной работы. Над изголовьем висела гравюра в рамке, изображавшая старинную церковь с ухоженным двориком.
Помимо кукол, единственным предметом, принадлежащим законному опекуну коллекции, был, надо полагать, чемодан. Кроме того, между кроватью и окном стоял большой кожаый сундук. На его крышке рядком восседали еще куклы, свесив ножки с бортика. Сундук был старый, добротный, филигранной выделки. Вычурные, давно уж потерявшие цвет тюлевые занавески на единственном окне приглушали тусклый дневной свет и создавали должный фон для кукольных фигурок, словно все это было лишь старой фотографией. Даже в мягком кресле по соседству со столом сидела кукла, самая роскошная из всех.
Кэтрин не стала закрывать дверь на случай, если вернется мистер Дор, адвокат семьи Мэйсонов, уполномоченный обсудить с ней проведение аукциона их «активов в виде антиквариата». В письме Эдит Мэйсон больше ничего не упоминалось.
Кэтрин решила, что мистер Дор куда-то ненадолго вышел, но что-то его задержало, хотя в Грин-Уиллоу она не заметила ни паба, ни какого-либо другого общественного заведения. Даже отыскать Грин-Уиллоу оказалось делом весьма и весьма непростым. Не считая крошечной гостиницы «Флинтшир», деревня состояла-то из группы каменных домов, закрытого почтового отделения да автобусной остановки, поросшей сорняком. Ни одной машины Кэтрин здесь не увидела. Она вновь посмотрела на часы — и тут из крошечного закутка внизу послышался голос мужчины, бывшего здесь за администратора; он велел ей идти наверх. Не отрывая глаз от каких-то записей, передал ей ключ. Вид у этого тощего старика был такой, словно он слишком устал от привычных ему толп гостей, что имеют наглость ломиться в его крохотное заведение на самом краешке границы между Монмутширом и Хирфордширом. Кэтрин, знакомая с любопытством местных старожилов по поводу ее разъездов по глухим уголкам, задержалась у миниатюрной стойки и спросила:
— Мистер Дор там, наверху?
Старый администратор за стойкой ничего не ответил, лишь раздраженно фыркнул и качнул облезлой головой, не отрываясь от чтения.
— Тогда я поднимусь.
Встреча с потенциальным клиентом в номере отеля была также первой в ее практике, но после непродолжительного опыта работы в качестве оценгцика у Леонарда Осборна она обнаружила, что все чудаки и потомки чудаков от Шропшира до Хирфордшира, валлийской границы, Вустершира и Пюстершира, которые пользуются услугами фирмы для продажи на аукционах содержимого своих домов и чердаков, давно запечатанных от современного мира, стали для нее явлением не столь уж необычными. В списках у Леонарда было много публики с причудами. Она уже стала думать, что других у него и нет.
Ее начальство, похоже, притягивало к себе все странное. Или же о нем существовала какая-то давняя молва. С этим Кэтрин еще предстояло разобраться, потому что за год работы в его фирме Леонард ни разу не рекламировал их услуги. Офис занимал всего две комнаты здания в Литтл-Малверне. Узнать об их конторе можно было только по одной-единственной латунной табличке перед входом. Этот офис Леонард занимал с 60-х годов, и лишь благодаря Кэтрин в нем появились компьютер и интернет (тут снова следовало удивиться: откуда же Леонард получал так много заказов?). В любом случае семья Мэйсона и их поверенный, мистер Дор, похоже, намеревались сохранить эту тайну.
Усевшись в кресло перед столом, Кэтрин бережно прижала к себе куклу, место которой заняла. От соломенной шляпки исходил женский цветочный аромат не то духов, не то антимоли — смесь розы, жасмина и лаванды. С первого взгляда она предположила, что кукла — оригинал от Пьеротти, династии модельеров по воску, и находится в почти идеальном состоянии, хотя и была сделана примерно в 1870-м. Чудесным образом голова и конечности сохранили персиковый телесный оттенок. Кудрявые волосы в манере Тйциана и брови над грустными глазами были сделаны из мохера. Под платьем, сшитым — она точно знала! — для настоящего младенца, Кэтрин усердно проверила другие признаки подлинности. Туловище было из ситца, набитого конским волосом, плечевая планка вшита в туловище, бедра соединялись швом. Кукла была подлинной.
Кэтрин еще пять минут подождала мистера Дора. В номере не было телефона, чтобы связаться с портье, и она подумала, не стоит ли спуститься по узкой лестнице и осведомиться, куда мог пропасть адвокат. В конце концов, не мог же профессионал своего дела оставить состояние в добрых триста тысяч фунтов стерлингов на попечение какой-то незнакомки!
Кэтрин усадила куклу обратно в кресло. Она знала двух коллекционеров и один музей, которые сразу достанут чековую книжку, как только увидят ее фотографию куклы Пьеротти. В ногах появилось такое ощущение, будто они и вправду дрожат от волнения. Но радость от находки омрачалась легким замешательством.
На просмотре настояла женщина по имени Эдит Мэйсон, потенциальный клиент. Кэтрин никогда о ней не слышала, но Леонард явно имел с ней дело в прошлом. А вот насчет М. Г. Мэйсона, дяди Эдит, Кэтрин была очень даже в курсе. Этот человек считался величайшим таксидермистом в Англии. Леонард утверждал, что Мэйсон был также искусным кукольником, однако Кэтрин, занимаясь антиквариатом, знала только о чучелах. Воочию она не видела ни одной из его легендарных работ, но фотографии того немногого, что пережило чистки 60-х, мимо нее не прошли. Примечательно, что в то же десятилетие оборвалась и долгая жизнь самого Мэйсона — он покончил с собой. И больше Кэтрин почти ничего не знала.
На этом просмотре она ожидала увидеть несколько полевых мышей, возможно горностая, вмонтированного в авторскую диораму М. Г. Мэйсона, но никак не куклу Пьеротти в идеальном состоянии и в окружении множества столь же безупречных старинных кукол. Кэтрин предположила, что они, должно быть, собственность племянницы и наследницы, которой сейчас уже под сто.
Кэтрин стала рассматривать четырех кукол на столе, похожих на кукол Брю с их фирменными большими стеклянными глазами и младенческими личиками. На раскрашенных бисквитных головках — никаких царапин, стеклянные глазищи в рабочем состоянии, а мохеровые парички идеально ухожены. У кукол были крошечные выпуклости сосков и суставы с боковой фальцовкой, позволяющие двигаться пухленьким набивным ножкам. Все одеты в костюмы своей эпохи, а тела под костюмами были замшевые. Так что, вне всяких сомнений, — детки Брю. Предплечья и ладошки изысканной формы, без повреждений и сколов на суставах. Комплект тянул на 50 тысяч, не меньше.
— Ну нет. Это уж слишком!
Затем она бережно осмотрела элегантную «мануэлиту» из серии мадам Жеслянд и пять французских кукол Жимо фасона 1870-х, сидящих на кровати. Немецкий фарфор их тщательно сконструированных головок был в первозданном состоянии. На сундуке рядком сидели «девчушки Готье» с вращающимися головками, в шелковых халатах и кожаных ботиночках с настоящими застежками, с сияющими стеклянными глазами, изготовленные немецкими мастерами, давно унесшими в мир иной секреты своего ремесла.
Чтобы успокоиться, Кэтрин отпила из своей бутылочки с водой. Леонард просто в обморок упадет, когда она покажет ему фотографии того, что само приплыло к ним в руки. А если верить письму Эдит Мэйсон, это все — лишь «образцы», «малая часть коллекции».
Вспышки камеры Кэтрин наполнили комнату ослепительно белым светом, мрачный гостевой домик будто поразила молния. Забыв о минутах и часах, она фотографировала каждую куклу во всевозможных ракурсах.
Мистер Дор по-прежнему блистал своим отсутствием.
Убедившись, что она ничего не упустила, Кэтрин собрала свои заметки и камеру, выключила свет и заперла на ключ дверь в это царство кукол. Внизу Кэтрин долго звонила в колокольчик в тщетных попытках вызвать старика, который, вероятно, и был владельцем гостевого дома. Пришлось оставить ключ на стойке. Уже на крыльце она увидела на входной двери табличку «ЗАКРЫТО». Старый хозяин, должно быть, забыл про свою гостью и Бог знает куда ушел.
Кэтрин задалась вопросом — есть ли у Эдит Мэйсон страховка, покрывающая стоимость коллекции старинных кукол (полмиллиона фунтов по оценке самой Кэтрин), оставленных без присмотра в номере жалкой лачуги, которую и в интернете-то не найти?
Глава 3
Прежде чем вернуться в Литтл-Малверн и рассказать Леонарду об уникальной находке, Кэтрин сделала крюк до места, когда-то хорошо ей знакомого — Эллил-Филдс, или Пекла, деревни между Грин-Уиллоу и Хирфордом, где она промучилась первые шесть лет своей жизни. С тех пор она там больше не появлялась — и всячески старалась забыть это место. В те годы в деревне похитили, возможно даже убили, ребенка, которого она хорошо знала. Это было лишь частью того мира, который она закрыла для себя на тридцать два года. Ей становилось дурно при одной мысли о возвращении туда. Когда выпадали рабочие визиты в Хирфордшир, она специально не замечала эту часть страницы в дорожном атласе.
Ей снова предстояло встретиться с давними переживаниями, о которых знали только ее психотерапевты и родители. Сегодня утром, просто проезжая вблизи Пекла на пути в Грин-Уиллоу, Кэтрин почувствовала, что попадает в ловушку или даже в капкан, уготовленный самой судьбой, который ей до сей поры удавалось миновать. Психотерапевты же внушали ей, что, вернувшись на место давних событий, она убедится, что ничего страшного там нет, как нет и почвы для ее детских страхов, мучительных и чересчур затянувшихся.
Один терапевт, величавший себя когнитивным бихевиористом, учил ее бороться со вспышками паранойи. В этот раз она могла опробовать его метод на практике. За совпадением редко скрывается заговор, так ведь? Кэтрин знала, что ее отношение к «родной земле» излишне подвластно сиюминутным чувствам. И еще одна деталь — теперь Пекло, затаившееся в дальнем уголке памяти, разгоралось в сознании лишь тогда, когда в новостях всплывали очередные трагические сюжеты о пропавших детях и жестоких издевательствах над ними.
Но сегодня, вопреки наставлениям, своим и чужим, впервые с тех пор, как она начала работать на Леонарда Осборна, ей захотелось, чтобы ее босс не был прикован к инвалидной коляске. Ведь тогда он смог бы лично осмотреть коллекцию Мэйсонов, а она — удержать Пекло на расстоянии.
К тому же Леонард был крайне воодушевлен перспективами новой сделки — таким она его прежде не видела.
— Какая же яркая звезда нам светит, — бормотал он. — Если у Эдит остались работы ее дяди, о нас даже в газетах напишут. И не в местных, заметь! Помнишь, я тебе славу сулил? В Лондоне бы ты такого не получила.
Бегство редко приносит радость или хотя бы удовлетворение, и, вспоминая свой отъезд из Лондона, Кэтрин все еще сгорала от стыда, а то и тряслась в паническом ознобе. Она вновь и вновь переживала в памяти тот инцидент, который разрушил ее профессиональную карьеру в столице, и эти воспоминания истощали ее душевные силы. И лишь полтора года назад, добравшись до родительского дома в Вустере, за восемнадцать месяцев до этого, она почувствовала, что ни лондонские недруги, ни прискорбная репутация, от которой она сбежала, ее больше не настигнут. Но день в Грин-Уиллоу и ее теперешняя поездка в Эллил-Филдс вынудили признать, что, покинув Лондон и вернувшись домой, она вновь приблизилась к местам, где прошел самый несчастный период ее жизни — детство. Как будто ее тянул сюда один из тех неосознанных порывов, которые психотерапевты столь мудро обозвали одним из базовых элементов ее жизни.
Кэтрин пыталась сосредоточиться на дороге, но вновь и вновь задавалась вопросом, было ли несчастное детство причиной того, что она отправилась учиться в Шотландию, а после окончания университета работала еще в трех отдаленных городах. Что она провела всю свою взрослую жизнь, спасаясь бегством из Пекла.
Но в нем-то ты в итоге и оказалась, девочка.
Она свернула на Трассу А1, ведущую в Эллил-Филдс, и тут же ее сознание, словно дымом, заполнилось неряшливым коллажем из воспоминаний, реальных и тех, что остались от фотографий в семейных альбомах. Из этого беспокойного водоворота вдруг всплыл страх такой силы, что у нее перехватило дыхание.
Но в то же время Кэтрин не могла отрицать, что в возвращении туда была и толика приятного волнения, совершенно безрассудного. В душе теплилось смутное желание вновь соприкоснуться с чем-то странным, но спасительным, что хоть немного облегчало ее жизнь в детские годы.
Глава 4
Кэтрин стояла на краю заправочной площадки, которой во времена ее детства не было. Она узнала только горбатый мостик через мелкий ручей с темной водой. Когда она была маленькой, это называлось рекой. С тех пор мост перестроили, сделав более пологим и широким, и теперь здесь часто проносились грузовики, дребезжа и поднимая клубы пыли.
Магазинчика, где бабуля покупала ей десятипенсовый набор конфет в белом бумажном пакетике, больше не было. Исчез и пластмассовый мальчик с коробкой для пожертвований в руках, стоявший перед магазином со своим не менее пластмассовым спаниелем. В любую погоду он был на своем посту рядом с тусклым рекламным щитом фруктового мороженого «Уолл», от которого у крохи Кэтрин слюнки текли. Иногда ей разрешали положить в эту коробку монетку в полпенни.
Кэтрин задумалась о том, что же сделалось со всеми теми игрушечными сборщиками подати, стоявшими со своими побитыми непогодой пластиковыми собаками у кондитерских. На месте магазинчика теперь была стоянка заправочной станции.
Рядом с газетным киоском раньше находились аптека и магазин одежды. Желтый целлофан за их витринами напоминал ей о шоколадных конфетах «Кволити-стрит», появлявшихся на Рождество. В аптеке она обзавелась своими первыми круглыми очками в черной оправе — малоимущие получали эту модель бесплатно по программе министерства здравоохранения. До того как такие очки начнут считаться стильными, оставалось три десятилетия. А вот когда ей действительно пришлось носить их, мода была не на ее стороне.
А в магазине одежды ей купили первую пару школьных ботинок. При одном воспоминании о них у нее дыхание сперло. Уже не в первый раз Кэтрин была в шоке от того, что хранилось в ее памяти.
Сандалии такого фасона носили немногие, а не нравились почти никому. Они были коричневые, работы фирмы Кларкс. Теперь, как и очки, такая обувь сделалась популярной. Уверенность взрослых в магазине, что сандалии — правильная покупка, придала ей такую же уверенность в момент приобретения. Но, притащив домой коробку с этими страхолюдинами, утопающими в оберточной бумаге, Кэтрин подумала о предстоящем учебном годе и о том, что ждет ее в школе, и от этих мыслей в желудке возникла давящая, холодная, гулкая пустота, и никакая еда не могла ее заполнить.
Предчувствия по поводу сандалий оказались правильными, в итоге она возненавидела их. Кэтрин пробовала разрезать их ножницами, но в итоге только явилась в школу в испорченной обуви. По выходным она гуляла в тех же сандалиях, и новость о том, что кое-кто, не стесняясь, носит школьную обувь по субботам, быстро облетела весь двор. Дети решили, что девочка ходит в таком виде, потому что она — приемная.
Где твои родители? Они отказались от тебя, потому что ты уродина?
В этом мрачном бетонно-гудронном коробе, где томилось в заточении ее детство, ей постоянно мерещились язвительные крики детворы, один за другим
Нищая! Оборва! Нищая! Оборва!
Какое из прозвищ больше жгло стыдом и унижением, Кэтрин так и не решила, но эхо тех слов ранило до сих пор.
Редкое сочувствие, которое Кэтрин порой встречала у своих сверстников, вряд ли могло помочь ей. Например, однажды девочка на детской площадке по имени Алиса Гэлловэй спросила у Кэтрин: «Каково это, не иметь настоящих мамы и папы? Я бы такого врагу не пожелала». Алиса носила на одной ноге большой коричневый сапог для исправления ее странной развинченной походки. Этот сапог и пустая глазница, прикрытая марлевым тампоном, спасали Алису от физического насилия, но не от оскорблений. Возможно, поэтому девочка увидела в маленькой Кэтрин человека, с которым она может поговорить.
Кэтрин вспомнила, как во время семейного отпуска в Илфракуме, бросая монетки в фонтан и потом задувая свечи на именинном торте-мороженом, она загадала стать такой же инвалидкой, как Алиса. Ее приемная мать даже расплакалась, когда Кэтрин со всей искренностью поведала ей о таком желании на свой день рождения. А бедный отец и вовсе заперся в гараже на весь день. Так что Кэтрин больше никогда не говорила ничего подобного. Самое худшее, с чем Алисе пришлось столкнуться, — собачий кал, упакованный в фольгу и обертку от «Милки-Уэй» и врученный ей под видом шоколадки группой девчонок из соседней школы.
Бог ты мой. Кэтрин опустила голову, глядя на унылую дорогу. Проезжую часть расширили, но Кэтрин казалось, что все острые камни ее детства так и валяются, никем не убранные, вдоль обочин. Кто в те времена считал детскую травлю чем-то серьезным? Возможно, бабуля, которая убедила ее приемных родителей ради Кэтрин уехать из Эллил-Филдс после исчезновения Алисы Гэлловэй. Из-за переезда в Вустер Кэтрин пришлось расстаться с бабулей. Этот шаг разбил сердца обеим.
Эх, бабуля… Возле забитой транспортом дороги глаза Кэтрин защипало от слез. Она шмыгнула носом и огляделась, не смотрит ли на нее кто-нибудь в авторемонтной мастерской. Потом вернулась к своей машине на площадку заправочной станции.
За заправкой «Шелл» начинался новый жилой массив красного кирпича: он занял собой все пространство, которое прежде называлось Лощиной, простой пустырь, поросший кустарником. Там было много мусора и колючей ежевики, взрослые не столько выгуливали там собак, сколько отпускали побегать, из-за чего Лощина всегда была порядком изгажена, но местные дети все равно в охотку гоняли по узким тропкам на своих велосипедах и сиживали на двух виниловых автомобильных креслах, выброшенных кем-то через забор.
Сохранив в памяти этот мост как ориентир, она проехала через местность, где раньше была Лощина и маленькая молочная ферма за ней. Пока Кэтрин не было, на месте фермы тоже выросли новые жилые дома; вскоре она уже ехала по низине, где раньше был бесконечный заливной луг. Только самые отчаянные дети забирались туда — из-за огромных коров и страшилок про детишек, насаженных на бычьи рога. Однажды во время Серебряного юбилея луг даже сделали доступным для местного населения. Она видела фотографии самой себя — младенец в сидячей коляске, украшенной британскими флагами.
Новый жилой массив на месте Лощины и прилегающего к ней луга состоял из одинаковых четырехкомнатных домиков с тремя спальнями, расположенных «кармашками». Теперь возле них не играли дети. Слишком много окон в каждом доме смотрели на соседний дом. Когда Кэтрин съехала с дороги и остановилась на пустом тротуаре, окна по обеим сторонам дороги заста пор временами испытывала стыд. И эту сцену так и не забыла и до сих пор не простила себе.
К тому же она давно уже сама не верила, что действительно видела Алису после ее исчезновения. А в детстве верила — как и в то, что подруга в тот день пришла за ней. И почти все оставшееся детство Кэтрин даже жалела, что не воспользовалась возможностью уйти с ней, отправиться куда-то, где всяко лучше.
На берегу, противоположном от их «берлоги», раньше стоял забор с колючей проволокой, огораживающий территорию спецшколы. Школа специального образования Магнис-Берроу пустовала, когда Кэтрин жила в Эллил-Филдс тридцать лет назад, поэтому для нее не стало неожиданностью то, что здание вместе с пристройками снесли подчистую.
Прежде холмики, поросшие травой и усыпанные лютиками и одуванчиками, образовывали пологий склон, на котором стоял ряд домов из красного кирпича с окнами, забитыми фанерными досками. А теперь даже эти крошечные холмики сровняли с землей, чтобы проложить дорогу для акведука и еще одного шоссе. Всякий раз, когда маленькая Кэтрин спрашивала о пустой школе рядом с полем фермера, родители и бабуля отвечали ей по-разному, причем бабуля явно испытывала неловкость от этих ответов.
Там раньше был дом для детей-инвалидов. Даунов. Знаешь, это такие дети, которые сами стареют, а лица остаются детскими.
Те дети, что родились уродами из-за того, что их матери принимали талидомид. Их век очень короток, сама знаешь.
Дети в инвалидных колясках или ортопедических скобах.
Как тот пластиковый мальчик у кондитерской, который собирал монетки? Как Алиса? — спросила она тогда. А имела в виду как я?
Мамы родили их слишком поздно.
У них с головой немного не в порядке.
Кто-то из них пропал без вести, так что не ходи туда, сама чего доброго сгинешь.
Ныне воспоминания об этих словах поднимали в душе волну отвращения. Но, помимо веры в неожиданное возвращение Алисы в «берлогу», через три месяца после исчезновения маленькая Кэтрин считала, что и некоторых из особенных детей оставили в заброшенной школе.
Она часто видела их в покинутых зданиях и верила, что они реальны… Хотя в то же время немножечко не реальны, как, впрочем, и многое в ту пору. Когда Кэтрин была уже подростком, психологи и врачи убедили ее согласиться, что эти «галлюцинации» — всего лишь одно из проявлений несчастного, проблемного, детства.
Годы спустя она смирилась с тем, что дети были видениями, воображаемыми друзьями или хранителями. Почти так же образы и люди находят дорогу в наши сны откуда-то извне. Никто лучше Кэтрин не знал, насколько важно воображение для ребенка, особенно униженного и одинокого. Если твой единственный настоящий друг пропал без вести, ты просто придумываешь себе еще одного, нереального.
Ей, скорее всего, было шесть, когда она попыталась рассказать бабуле и родителям об особенных детях, брошенных в старой школе.
— Эти, кого ты видела, — просто шпана из Филд-Гроув, — сказал отец. — Окна они уже расколотили. Не надо тебе туда ходить. Держись оттуда подальше.
Дети из Филд-Гроув никогда не ходили пешком. Они разъезжали на велосипедах, а когда спешивались, как можно громче роняли их наземь. У них были сиплые голоса, рубашки навыпуск, красные рожи и недобрые глаза. Но к спецшколе можно было попасть только по периметру поля или же по длинному проходу до ворот, забранных колючей проволокой, причем ворота эти были всегда закрыты. Главный вход в заброшенную школу находился на шоссе, куда никаких детей на велосипедах не пускали.
Кэтрин ни разу не видела где-либо поблизости от спецшколы детей из Филд-Гроув, да и вообще кого-либо. Спецшкола и ее дети — это было только для нее и для Алисы. К тому же люди, которых она видела в покинутых зданиях, очень отличались от шпаны из Филд-Гроув. Откуда взялись дети в заброшенной школе, было одной из величайших загадок ее детства, но они, в отличие от большинства одноклассников, были добры к ней и Алисе.
Кэтрин сидела в машине, и память о той секции в школьном заборе, закрепленной между бетонными стойками, вернулась в сознание так ярко, что она физически ощутила, как сжимала пальцы в кулаки, наблюдая за тем, как Алиса карабкается по поросшему травой берегу к старым домам. Это был тот самый день, когда Алиса пропала.
Кэтрин сменила позу. Не поднимаясь с кресла, открыла окошко, стараясь ослабить неприятное ощущение; на девять десятых психологическую, на одну десятую — реальную сердечную боль. Старая рана, зажить которой не суждено.
Только когда Кэтрин сидела в «берлоге» одна, она была уверена, что видит детей по ту сторону проволочной ограды. Кэтрин смотрела сквозь нее, устроившись на скользком пне в окружении трех старых банок из-под краски, напоминающих барабаны, россыпи сухих цветов на опавшей листве (из них она собиралась сплести ковер) и пластмассового чайного сервиза, позеленевшего от слишком долгого пребывания на свежем воздухе. И только тогда, когда она переполнялась страданием настолько, что оно ощущалось физически, словно паротит, появлялись дети. Странно одетые дети, которых выпускали поиграть, когда стемнеет.
Она обычно чувствовала себя так в воскресенье днем, когда небо было серым, в воздухе висела морось и она промокала до костей. Затем шла домой на чай и тосты с бобами, которые не лезли в горло при мысли о том, что завтра в школу.
После бесед с полицией она больше не заговаривала об этих детях, кроме как в кабинете психотерапевта.
Но чем дольше она смотрела сквозь ветровое стекло на шоссе, на садовые заборы на границе жилого массива, на бетонную канаву, по которой теперь текла речка, и размышляла о преследовавших ее воспоминаниях, тем глупее и незначительней они выглядели. Она подумала: может быть, приезд сюда наконец-то избавил ее от их гнета? И, странное дело, казалось, что этот визит был и впрямь ей необходим.
Ее мысли перенеслись на сегодняшний вечер и на Майка, ее парня; перед глазами возник милый образ его чарующей улыбки. Хотя последние несколько недель с ним творилось что-то не то, она считала, что он и в самом деле с нетерпением ждет встречи с ней. И подумала о старом добром Леонарде за его громадным столом, о том, как он привык во всем полагаться на нее, считал чуть ли не любимой племянницей. Месяц назад за обедом, где было многовато спиртного, он даже пустил слезу и принялся втолковывать ей, насколько она важна для его дела и как он хотел бы, чтобы она «продолжила его работу» после того, как его самого «выкатят в небо с этого большого аукциона».
Кэтрин подумала о своей квартирке в Вустере, такой бело-кремовой, такой спокойной… О месте, где она всегда чувствовала себя в безопасности, И нет больше никакого Лондона, где надо выживать, стиснув зубы. К тому же теперь у нее роскошная стрижка, которую нельзя недооценивать. Она была счастлива. Наконец-то. Вот такое оно, счастье, и теперь — это ее жизнь. Карьера, бойфренд, собственное жилье, здоровье. Лучше не бывает. А то, что случилось столько лет назад, — прошло. Ну и выкинуть из головы! Прошлое исчезло даже физически, залито битумом, заложено кирпичом и бетоном. Оно ушло и больше не вернется.
Кэтрин провела кисточкой вокруг глаз, проверила макияж в зеркало заднего вида. Шмыгнув, улыбнулась и решительно повернула в замке ключ зажигания.
Глава 5
— Ну, похоже, им не терпится поработать с тобой, ибо ты любезно приглашена не куда-нибудь, а в дом Мэйсонов, он же Красный Дом. В пятницу, обсудить проведение оценки. Это недалеко от Магбар-Вуд. Сможешь?
Леонард разворачивал письмо, настраивал настольную лампу, вынимал из футляра другие очки и делал это медленно и методично. Впрочем, таковы были все его административные телодвижения за рабочим столом. Та часть Кэтрин, которая по-прежнему функционировала по глубоко укоренившемуся лондонскому времени, и что-то намертво застрявшее в груди замерли и напряглись, поскольку эти долгие подготовительные ритуалы предшествовали простейшим задачам.
Но его тщательные ритуалы также вселяли уверенность. Потому что в конторе Леонарда Осборна в Литтл-Малверн жизнь текла без гонки, интриг и конкуренции. Никто тебя не подсиживает, никто не ходит в фаворитах. Перед встречами ей никогда не бывало дурно, а после них не случалось мучиться бессонницей, кипя от ярости. До того как она уехала из Лондона, она окрепла в убеждении, что сама человеческая природа не позволяет существовать таким местам, как фирма Леонарда Осборна. Ближайшим аналогом выговора у Леонарда были кроткие увещевания вроде «Не баламуть воду» или «Эй, там, попридержи коней». Самые острые суждения о чудаках, с которым им приходилось иметь дело, он высказывал тепло и незлобиво. Леонард был добр по-настоящему, а это свойство она никогда не стала бы принимать как нечто само собой разумеющееся. В иные дни они с Леонардом только ели бисквиты, пили чай и болтали о том о сем.
Кэтрин повесила пальто на спину стула.
— Конечно могу. Чутье мне подсказывает, что это наш счастливый шанс, Лео.
Леонард улыбнулся через стол.
— Такой аукцион случается раз в жизни — тут ты, душа моя, права. Вот поживешь с мое, а все равно будешь потом доставать своего помощника этой историей. — Он провел рукой по волосам, а Кэтрин постаралась не таращиться в открытую на эту бессмысленную попытку пригладить непокорную прядь волос. Единственное, что не нравилось ей в боссе — вот эта вот жуткая седая накладка. Хотя и к ней она привыкла. На это ушло примерно полгода — чертов парик так сильно выбивался из образа мужчины, следующего безупречному стилю!
* * *
Сидел он преотвратно — между тощим лицом Леонарда и передней кромкой фальшивой шевелюры виднелся зазор. Сегодня он опять напялил парик неправильно, будто специально выставлял себя на посмешище. Когда она пришла к Леонарду на собеседование, ей потребовалось несколько минут, чтобы собрать волю в кулак и перестать пялиться на его лже-волосы во время разговора.
— Знаешь, кукол даже приблизительно в таком состоянии я не видела со времен работы в Музее Детства. О, кстати, я должна им позвонить. Прощупать почву. У меня еще остались связи в Бетнал-Грин[6], возможно, они возьмут несколько штук. А в той комнате их было так много. У Мэйсонов есть даже Пьеротти в идеальной сохранности!
— Всему свое время. — Леонард пристально взглянул на нее: его водянистые глаза были обрамлены роговой оправой очков и густыми кустистыми бровями, на вид жесткими, что ерш для чистки бутылок, и мало сочетающимися с париком. — Мы еще не подписали контракт. В семидесятых я продал кое-какие работы ее дяди, и должен сказать, Эдит Мэйсон устроила мне тогда веселую жизнь. Причем еще до того, как я смог увидеть то, что она хотела продать. Одну из диорам М. Г. Мэйсона: крысы, все в белом, играют в крикет. Никогда ничего подобного не видел. Судьями были полевые мыши, а смотрителем поля — горностай. А видела бы ты павильон! Абсолютное великолепие. Хотя, насколько я понял со слов Эдит Мэйсон, ее дядя так и не оправился после войны. Ты знаешь, что он покончил с собой?
Кэтрин кивнула:
— Читала где-то.
— Перерезал себе горло опасной бритвой.
— Господи.
Леонард вздохнул и покачал головой:
— Да, ужасные дела. Из его наследия почти ничего не выставлялось на торги, так что я очень заинтригован, что еще, помимо кукол, Эдит припрятала в тех завалах, где она обитает. Хотя после странного отсутствия мистера Дора на просмотре рискну предположить, что Эдит Мэйсон ни на йоту не изменила тактику со времени нашей мимолетной сделки. Я удивлен, что она вообще помнит меня.
— В той комнате было полно всего интересного.
— Думаешь, ей стоит предложить нам еще что-нибудь?
— То, что я видела, попадет на телевидение, Леонард. Там на выставку хватит. И если к этому мы сможем заполучить работы Мэйсона, то… Наследство Поттера ушло за миллион.
— А Поттер Мэйсону в подметки не годился. Но мы справимся, Китти. Наша фирма как-то продала с молотка содержимое целого замка.
Кэтрин рассмеялась. Леонард тоже начал улыбаться и хихикать.
— А чайку не заваришь ли? Мне, видишь ли, сидеть больше нравится. — Леонард постучал по подлокотникам коляски.
— Прекрати! — ей не хотелось смеяться, когда он шутил на тему своей инвалидности, а когда она все же смеялась, потом чувствовала себя виноватой.
— Вот, — Леонард показал письмо от Эдит Мэйсон.
— Хорошая бумага.
— Я знаю. Она вообще-то могла бы выбрать писчебумажные принадлежности попроще. А эти передать нам для продажи. Это крейнов-ская бумага с высоким содержанием льняного волокна. Ей восемьдесят лет как минимум. Я знаю одного коллекционера в Австрии, который взял бы ее только так. — Леонард щелкнул длинными пальцами у лба, рядом со своим ужасным париком. — А вот почерк у нее уже не тот. Смахивает, должно быть, на письма Ее Величества. Да и умом уж наверняка тронулась, как тот Шляпник. Но я уверен, ты с ней справишься. Тебе это под силу, Китти.
— По-моему, я обожаю свою работу.
Леонард одобрительно хрюкнул, потом нахмурился.
— Вообще Магбар-Вуд — весьма странный уголок мира сего. Я бывал там пару раз. — Он прошелся взглядом по стенам офиса. — Само собой, еще до того, как оказался здесь. Даже тогда это было Богом забытое место. Была там? Ты же, вроде бы, куда-то там заезжала?
— Только в Пекло. То есть, в Эллил-Филдс. Местечко из скорбного детства. — Кэтрин подумала об автозаправке и пустых серых шоссе. — Я съездила туда, где жила когда-то. После просмотра в Грин-Уиллоу. Там все очень изменилось. Все, что я помню, исчезло. С концами кануло. Откуда гы узнал, что я оттуда?
— Ты как-то об этом упомянула.
— Разве?
— Ну да. У этого места печальная история. Из тамошней школы пропали дети. Кажется, еще до твоего рождения.
Не совсем так. Кэтрин занялась чаем, чтобы Леонард не видел ее лица. Маргарет Рид, Анджела Прескотт и Хелен Тйм — она даже имена помнит. В семидесятых всем в Эллил-Филдс были знакомы эти маленькие улыбающиеся лица с черно-белых фотографий. Для старшего поколения жителей Эллил-Филдс эти фото были почти как иконы. Хотя когда Кэтрин сравнялась возрастом с пропавшими девочками, эти иконы — фотографии на газетной бумаге — уже изрядно пожухли. Когда бабуля рассказала ей историю о пропавших девочках, которых так и не нашли, возможно, в качестве предупреждения о контактах с незнакомцами, она показала Кэтрин пожелтевшие вырезки, хранимые в жестяной коробке от печенья. К тому времени в Эллил-Филдс только старики и переживали об этом ужасном событии. Остальные, похоже, просто не хотели вспоминать дурное. И когда Кэтрин принесла домой свое любопытство по поводу трех пропавших девочек пополам с жуткой черной угрозой, которую она углядела за их зернистыми изображениями, отец дико разозлился на бабулю за то, что та «забивает ребенку голову всякими ужасами». Когда пропала Алиса Гэлловэй, Кэтрин уже не в первый раз подивилась великой мудрости бабули.
— Я почти ничего не помню. Мы переехали, когда мне было шесть. Я понятия не имела, что Грин-Уиллоу рядом с Эллил-Филдс. Я узнала об этом, когда посмотрела на карту в поисках того гостевого дома. И в Магбар-Вуд я прежде не была. Я вообще сомневаюсь, что когда-либо удалялась от дома больше чем на милю, не считая семейных каникул на побережье. Мы были без гроша за душой. Мама с папой никогда не говорят об этом периоде в их жизни. Не сомневаюсь, они тоже никогда не возвращались туда.
— Эллил-Филдс как раз между этими двумя местами. Они до сих пор зовутся Старым Городом, хотя новостройщики там всю округу испохабили, во всех смыслах. И этим они занимались еще до того, как ты на свет появилась, Китти. Знаешь, как только я взглянул на тебя, сразу понял — вот девчонка с валлийской границы.
— Да ну тебя.
— Эти огненные волосы, зеленые глаза, умопомрачительные веснушки. Даже после того как на карту всунули Монмут, в долинах всегда было полным-полно красоток вроде тебя. Так что хочешь или нет, ты — классический образец добуннской девы.
— Какой-какой девы?
— Я имею в виду племя, что жило в тех местах до римлян. Ох, и давали же они жару!
— Tы такой старый, что и об этом знаешь? А я-то думала, тебе семьдесят пять и ни днем больше.
— Думать-то думай, а то я вот как сейчас доберусь до тебя! К обеду уж точно доберусь, помяни мое слово, голубушка.
Смеясь, Кэтрин вышла из кухни с чайным подносом, чувствуя, как настроение поднимается прямо на ходу. Леонард умел видеть странную красоту в предметах старины, которые они оценивали и продавали, и точно так же он примечал что-то в ней — что-то, что сама она не могла углядеть за извечной оградой уничижительной самокритики. При нем она как-то само собой начинала чувствовать себя умницей-красавицей, чего никогда не случалось рядом с ее кавалерами. И не то чтобы Леонард был завзятым ловеласом, отнюдь. Она понимала, что он действительно восхищается ею и гордится. Даже пытается защитить ее. После случившегося в Лондоне его деликатное наставничество и доброта помогли ей гораздо больше, чем курс антидепрессантов или новый психотерапевт.
— Что ж, с нетерпением жду встречи с ужасной Эдит Мэйсон в пятницу.
— Если прорвешься через домоправительницу. В письме говорится, что она есть. — Леонард улыбнулся. — Не стоит недооценивать домоправительниц, Китти.
Глава 6
Кэтрин почувствовала, как та, чей голос она услышала из глубины Красного Дома, придирчиво изучает ее взглядом. Ей стало не по себе, и сдавленным голоском застенчивого ребенка она пролепетала:
— Здравствуйте…
Не прикасаясь к двери, она осмотрелась и пару раз зажмурилась, чтобы глаза привыкли к темноте. Ее взгляду явилась узкая, оклеенная бордовыми обоями с угловатым узором кишка коридора с высокими потолками.
— Кто-нибудь есть?
Все внутренние двери, которые она сумела разглядеть, были закрыты, — одна слева от нее, другая справа. Скорей всего, гардероб и кладовка для обуви. Верхние панели ближайших дверей были сделаны из красного витражного стекла, как и абажур над головой Кэтрин. Воистину — Красный Дом.
По стенам возле дверей висели картины в рамах, но она не могла разглядеть ничего, кроме бликов на защитных стеклах. Не успела она восхититься красно-черной напольной плиткой из обожженной керамики, старинной, но без трещин, как наверху, где-то внутри дома, что-то заскрипело — будто старое несмазанное колесо.
Покосившись в ту сторону, Кэтрин увидела, что в конце узкого вестибюля есть выход в более просторное помещение. Грохоча каблуками по плиткам, она вошла в Красный Дом, пересекла вестибюль и заглянула в холл, но не вошла туда. Она оглядела четыре стены, забранные в старинные панели темного дерева. Наконец ее блуждающий взгляд остановился на резной стойке крутой лестницы с левой стороны холла, чья восходящая балюстрада напоминала ребра.
Кости внутри багровых каверн тела.
— Меня… меня зовут Кэтрин! Кэтрин Говард. Я от Осборна. — В протянувшемся змеей коридоре ее голос звучал блекло, слабо, бессильно.
В бледно-алом отражении невидимого здесь дневного света Кэтрин разглядела темный силуэт на фоне еще одной двери, словно окутанный багряной аурой и восседавший на чем-то, напоминающем садовую тачку. Насколько Кэтрин смогла разглядеть, верхняя половина тощего тела и голова на длинной шее были наклонены вперед, разглядывая ее. Остальное было скрыто деревянными перилами.
— Если бы вы удосужились позвонить в дверной колокольчик, Мод бы вас встретила. Она где-то внизу. — Иссушенный старостью голос прозвучал настолько язвительно, что Кэтрин даже немного оробела. Неожиданный звон ручного колокольчика, донесшийся оттуда же, откуда и голос, заставил ее вздрогнуть.
— Ах, вот оно что. — Она старалась говорить как можно меньше: абсурдный голосок в голове велел ей не вдыхать чересчур много здешней среды. Воздух в Красном Доме ощутимо провонял какой-то химией, перекрывавшей соперничающие с ней ароматы мастики, лакового дерева и плесени. Вся эта палитра маскирующих запахов живо напомнила ей дышащие на ладан антикварные лавочки и провинциальные музеи, в которых ей доводилось бывать, а вот доминирующий резкий дух был ей незнаком.
Ее замешательство и накатывающая сонливость, вызванная жарой и цветочной пыльцой снаружи, лишь усилились в этом душном, темном помещении, мешаясь, сбивая с толку. Она протянула руку и дотронулась до стены.
Неясная фигура наверху рассматривала ее в молчании, наливавшемся напряжением и тяжестью, которые так угнетали Кэтрин, что она представила себя ребенком, трепещущим перед суровым учителем в каком-нибудь допотопном частном лицее для девиц.
— Мод сопроводит вас в гостиную. — Сказав это, женщина чуть отодвинулась от перил. Кэтрин сумела разглядеть пятно, слишком белое для лица, поверх той самой садовой тачки, скорей всего, на самом деле инвалидным креслом. Что же у нее такое было на голове? Неужто шляпка?
Фигура откатилась назад с пугающей внезапностью. Заскрипели колеса и половицы.
Кэтрин осталась одна в устье коридора — сбитая с толку, не понимающая, что чувствует: обычную свою неловкость в общении с незнакомцами или же страх, порождающий острое нежелание сделать еще хоть один шаг в глубь Красного Дома, который со всех сторон взирал на нее мрачно и пристально и… с плохо скрываемой враждебностью.
На резкий звон колокольчика что-то откликнулось — там, в глубине багрового тоннеля, начинавшегося у входной двери, пересекавшего обшитый деревом холл и уходящего куда-то в дальние залы просторного дома. Из далекой тьмы надвигались приглушенные шаги. Шаркающая походка наводила на мысль, что к ней сейчас шествовал кто-то старый, с трудом передвигающийся под гнетом лет. К уже полученным неприятным ощущениям добавилось острое нежелание оказаться лицом к лицу с этим кем-то. Надо полагать, это будет Мод. Домоправительница.
Через проем входной двери, а может быть, через световой люк над лестницей пробивалось немного дневного света, облаченного в багровую дымку. На этом размытом фоне вскоре проступил белый силуэт и принялся надвигаться на Кэтрин из коридора внизу. Силуэт этот, казалось, парил над полом, не имея конечностей, и продвигался к холлу толчками, словно медуза в воде.
Не успело замешательство Кэтрин перерасти в страх, как перед ней материализовалась дородная женщина в белоснежном фартуке — именно ее в полумгле она на мгновение приняла за привидение. Женщина с трудом ворочала свое грузное тело, ее белые кудряшки, похожие на чепец, болтались из стороны в сторону при каждом шаге. Домоправительница неотвратимо близилась, и, когда на нее упало чуть больше света, Кэтрин, не сводившая с нее глаз, невольно приоткрыла рот.
На круглом, изборожденном морщинами лице, явившемся пред ее очи, не осталось ни следа женственности. Кэтрин никогда еще, насколько могла припомнить, не видела столь мрачного лица, разве что на военных черно-белых фотографиях узников за колючей проволокой. Волосы женщины, белые, как шерсть ягненка, выглядели так, словно она сама обрезала их тупыми ножницами по кромке надетого на голову горшка. Под фартуком дыбились необъятные бедра, живот и грудь. Из-под накрахмаленного подола выглядывали мужские ботинки на шнуровке. Сверху одеяние домоправительницы дополнялось стоячим воротничком, едва заметным за массивным двойным подбородком. Не говоря ни слова, она сверлила Кэтрин тусклым взором выцветших глаз из-под косматых бровей. Выражение ее было совершенно мрачным, в нем явственно читалось раздражение и нечто вроде осуждения.
Кэтрин улыбнулась, откашлялась и, выступив вперед на шажок, протянула руку:
— Я Кэтрин. Кэтрин Говард
Странное существо повернулось, заковыляло к лестнице и принялось подниматься, не ответив на предложенное рукопожатие и вовсе не сказав ни слова.
Кэтрин смотрела, как женщина, пыхтя, поднимается. Сзади то, что она приняла за фартук, на деле оказалось юбкой с высокой талией, доходящей до толстых лодыжек. Строгая одноцветная блузка, пересеченная лямками фартука, отделялась от юбки толстым кожаным поясом. И юбка, и блузка были сшиты из грубой серой ткани вроде парусины; манжеты на мешковатых рукавах были перепачканы. Так одевались фабричные работницы веке эдак в девятнадцатом, и Кэтрин подумала, что эксцентричность, издавна культивируемая в сельской глуши (а Красный Дом стоял в самом глухом уголке, который можно отыскать на границе с Уэльсом), в наши дни определенно утратила свой шарм. Картины упадка она видела много раз, но чтобы до такой степени… От немой домоправительницы тянуло тем едким запахом, который Кэтрин почувствовала в прихожей.
На полпути ко второму этажу домоправительница обратила к Кэтрин свой бледный лик и молча уставилась на нее, ожидая, когда та последует за ней. Кэтрин неуверенно ступила в деревянный колодец лестничного пролета и словно оказалась внутри необычной церковной башни с древними, обшитыми дубом стенами. В нем было два этажа, и, задрав голову, она увидела закругленные кромки перил. Огромное слуховое окно гневно взирало на лестничный колодец своим багровым оком.
— Вы Мод? — на всякий случай уточнила Кэтрин. Женщина не ответила и продолжила восхождение к высотам Красного Дома.
Они дошли до нижнего угла Г-образного коридора второго этажа, столь же тускло освещенного. Все внутренние двери были закрыты, отчего свет в коридор не поступал, а дом хранил молчание и словно застыл в напряжении, изрядно давившим на Кэтрин.
Сквозь дурман полированной древесины и неизбежной затхлости старой мебели как-то пробивались нотки жасмина, розы и лаванды — флер хозяйки дома, которую, видимо, только что провезли на каталке по этому коридору. Возможно, в одну из этих комнат ее провез тот ребенок, которого она увидела в окне. Кэтрин вспомнилась кукла, сидевшая у нее на коленях в гостевом домике во Флинтшире. Тот же аромат.
Стены второго этажа были деревянными, как и в холле внизу, что лишь добавляло тусклости, а все двери, которые она могла видеть, имели по шесть панелей, причем две верхних — всегда из красного стекла. Мод пошла к двери в углу коридора, прислушалась на мгновение и лишь потом постучала.
— Войдите, — откликнулся далекий голос.
С выражением угрюмого недовольства на морщинистом лице служанка отворила дверь перед Кэтрин. Следуя за габаритной домоправительницей, Кэтрин сумела разглядеть некоторые мелочи в комнате, освещенной куда лучше, чем холл, лестница и коридор. Вдоль стен и на стенах расположилась уйма всяческой интересности. Кэтрин не успела сделать и несколько шагов, как замерла в полном изумлении.
Ей показалось, что она попала в другой мир — на какую-нибудь лужайку зачарованного и жуткого искусственного викторианского леса. Такого, в котором на нее отовсюду смотрели десятки маленьких ярких глаз.
Глава 7
Лишившись дара речи, она стала озираться по сторонам. Рыжие белки во фраках застыли на крышке рояля — их лапки держали орешки в миллиметре от крошечных ртов. А в другой стороне ей ухмылялась лиса, крадущаяся прямо по журнальному столику. На каминной полке замер на задних лапках парадный строй крыс в военных нарядах. В стороне — за стеклянными дверьми высокого шкафчика — ей на глаза попалось семейство милых кошечек в красочных платьицах. Кто-то пил чай, кто-то застыл в застенчивом книксене.
Гостиная была забита животными. Все они замерли в молчании, словно застигнутые врасплох ее вторжением… и лихорадочно теперь раздумывающие, что предпринять дальше. От них в гостиной было яблоку негде упасть.
У огромного мраморного камина одиноко восседала в старинном инвалидном кресле Эдит Мэйсон. Похоже, реакция гостьи ей пришлась по душе. Рядом с хозяйкой растянулся длинный красный сеттер. Собака наблюдала за Кэтрин одним влажным коричневым глазом, приподняв бровь, рубиновая ее шерсть мерцала в солнечном свете, падавшем через арочные окна. Ну хотя бы собака явно настоящая.
— Даже теперь чудеса, сотворенные дядей, не утратили способности иной раз изумить меня, а я-то вижу их каждый день. Но вы, полагаю, совсем язык проглотили от изумления.
Женщина улыбнулась — сквозь узкую полоску губ блеснули маленькие желтые зубы.
— Садитесь, пожалуйста. Мод подаст нам чай. — Эдит Мэйсон говорила так, будто не замечала присутствия домоправительницы, чей уход из гостиной ознаменовался сердитым стуком захлопнутой двери.
Даже безупречно сохранившаяся викторианская гостиная, набитая чучелами, не могла затмить Эдит Мэйсон во плоти. На ее древнее костлявое лицо налипло так много пудры, что туго натянутая кожа походила на вымоченную в хлорке заготовку из папье-маше. Красные каемки век придавали ее крошечным глазам отталкивающий вид. Губы были настолько бесцветными, что практически отсутствовали, а переносица — настолько тонкой, что походила на лезвие: падавшие сбоку лучи солнца будто бы преспокойно проходили сквозь прозрачный хрящ, не встречая ни малейшего сопротивления среды. От такого лица трудно было не отвести взгляд с содроганием, но Кэтрин как-то совладала с собой. Участливым взором она принялась изучать замысловатую прическу, венчавшую сморщенную голову хозяйки этаким праздничным тортом. В седые пряди старухи было вплетено множество серебристых накладок. Внутри этой конструкции было явно не меньше килограмма ватина. Такой стиль Кэтрин видела только в исторических драмах или на женских фотографиях начала 1900-х годов. Ей захотелось думать, что хозяйка приняла такое обличье из-за нее, устроила своеобразный показ мод ради оценки специалиста. Она не знала, как реагировать, что делать, что говорить. Она просто смотрела не отрываясь.
— Мне девяносто три, дорогуша. И за все эти долгих девяносто три года ни разу у меня не возникало соблазна размалевать губы этой вашей кошмарной помадой. — Строгий взор Эдит Мэйсон впился в губы Кэтрин. — Трудно поверить, но были славные времена, когда помада считалась пошлостью. Меткой шлюхи. — Последнее слово разнеслось по комнате с такой силой, что Кэтрин моргнула. Наверное, это такая месть, подумала она, за то, что с таким явным ужасом пялюсь на этот взрыв на кондитерском заводе, что случился у нее на голове.
Отсюда надо уходить, пришло в голову следом. Несмотря на несметные богатства, явившиеся ее изумленному взору в одной-единственной комнате, безошибочный инстинкт подсказал Кэтрин, что если она останется, произойдет что-то очень нехорошее. По своему профессиональному опыту она знала, что величайшие сокровища очень часто охраняют самые хитрые и кровожадные драконы.
— Но что вы, девушки, можете поделать? Живете по чужим правилам. Да и мы, бабушки, тоже никогда ничего в этом мире особо не решали. — Старуха улыбнулась, но на этот раз и глазами тоже. Кэтрин пришлось улыбнуться в ответ. — Прошу. — Эдит Мэйсон взмахнула костлявой рукой. На черном шелке платья с высоким воротом пальцы были так мертвенно-бледны, что Кэтрин, как завороженная, проследила все движение руки до конца. Когда она поняла, что руку облегает перчатка, у нее отлегло от сердца. — Смотрите. Не сомневаюсь, вам не терпится поглазеть на наши вещички. Бьюсь об заклад, вы так и рветесь подобраться к ним. Назначить им цену.
— Я никуда не тороплюсь.
— Не нужно ложной скромности. Не люблю я ее. Давайте-ка сразу проясним: мы никого сюда не приглашали, чтобы расстаться с нашей собственностью. С вещами, которые сейчас ни одна душа в мире не способна создать, не говоря уже о том, чтобы понять их истинное значение и ценность. Нам нужен кто-то, способный уразуметь, что именно создавалось здесь когда-то. Да, раньше мы сотрудничали с вашей фирмой ко взаимному удовлетворению, но на аукцион дадим добро только тогда, когда сыщем человека, наделенного в должной мере проницательностью и тонкостью восприятия. Так что считайте это еще и собеседованием. — Старуха поморщилась — похоже, слово «аукцион» далось ей с большой болью. Если Кэтрин не привиделось, в глазах Эдит сверкнули слезы, прежде чем она отвернулась к окнам.
— Ваш дом… — Кэтрин не знала, что сказать, но чувствовала, что что-то сказать должна. — Он просто невероятный.
Выражение лица старухи мгновенно изменилось, и Кэтрин едва сдержалась, чтобы не отшатнуться с отвращением. Эдит Мэйсон улыбнулась еще шире, продемонстрировав еще больше зубов и ошметков десен, из которых они выпирали.
— Знали бы вы, до какой степени. Впрочем, может, и узнаете, — улыбка превратилась в хищный оскал, — если мы решим нанять вашу фирму.
— Мы очень рады такой возможности. Получить от вас приглашение и…
— Да, да. Замечательно, дорогуша. Вы начинаете мне нравиться. С того момента, как я увидела вас на той дорожке, я поняла, что в вас есть смирение. И что оно подлинное. Анам здесь нравятся хорошие манеры, мисс Говард. Нам нравится тишина. Нам нравится, когда никто не лезет в наши дела… А вот что нам не нравится, так это… — Мысль повисла в воздухе незавершенной, и Эдит вновь устремила взгляд в другой конец комнаты, словно там был кто-то невидимый, с чьим мнением тоже следовало считаться. Кусочек сажи стукнулся о решетку камина изнутри, и обе женщины вздрогнули. Эдит с опаской посмотрела в сторону камина, затем вновь обратила свой жуткий взгляд на Кэтрин.
— Что вам известно о моем дяде?
Кэтрин уставилась в пол, чтобы избежать этого пристального, невыносимого взгляда, и увидела палас ручной работы, местами прикрытый восточными ковриками. Она постаралась собраться с мыслями, но мысли тому противились и куда-то разбегались. Средневековый геометрический рисунок бордово-зеленого паласа мозолил глаза. Маленькие стекляшки таращились на Кэтрин из каждого утла, упиваясь ее затруднительным положением. Одна только собака вроде бы сочувствовала ей.
Она сомневалась, что здесь ей дадут много говорить, да и вряд ли что-нибудь из сказанного ею будет старухе интересно. Она решила, что если все же заговорит, каждое ее слово будет лишь поводом для отповедей и возражений. А к такому отношению она так и не привыкла, несмотря на практику длиною в жизнь.
Она заставила себя сосредоточиться.
— Мы знаем…
— Кто «мы»? Вы здесь одна.
— Я… Я, конечно, знаю о его непревзойденном гении таксидермиста. — Она подумала о каталоге, который мысленно составила на предыдущей неделе. — Судя по тому немногому, что когда-либо выставлялось, он был величайшим в своем деле. А мой коллега сказал мне, что ваш дядя был еще и легендарным кукольником.
Эдит на лесть не поддалась.
— Они не продаются. Они были ему как дети, и они — не для чужих рук.
— Само собой. Но того, что я вижу в одной этой комнате, вполне хватит на выставку.
Старуха обвела взглядом гостиную.
— Они мои. Он сделал их для меня, когда я была ребенком. И они, дорогуша, меня в гроб сопроводят. Так что советую не строить на них планы.
Ну и зачем я здесь тогда, назрел вопрос у Кэтрин.
— Они составляют мне компанию — здесь, в моей комнате. Помогают скоротать время. А его здесь проведено очень много. Больше, чем вы можете себе представить. — Теперь голос хозяйки звучал грустно — Не так ли, милый мой? — Эдит Мэйсон протянула руку, похожую на птичью лапку, и дотронулась до головы собаки. Но, похоже, красного сеттера больше интересовала гостья — он продолжал поглядывать на Кэтрин с почти что человеческим участием, словно говоря: «Ну ты и влипла, подружка». Она ответила псу слабой благодарной улыбкой.
В ответ резкому неприятному смешку Эдит звякнули фарфор и хрусталь.
— Храбрец Горацио все так же морочит людям голову. Он был любимым псом моего дяди. Чемпион по ловле крыс. Но свою последнюю крысу бедный Горацио поймал в одна тысяча двадцать восьмом году, дай Бог памяти. Дядя вверил его моим заботам. А он все еще ждет возвращения хозяина. Днем и ночью. Как и все мы, правда, милый мой храбрец?
Кэтрин в полном изумлении смотрела на собаку. Пес — тоже чучело? Не может такого быть! Выражение морды, поза, глянцевый отлив шерсти, влажный нос, влажные глаза… Как? Она встала и подошла к белкам, глазевшим на нее с крышки рояля, бросила на них быстрый взгляд эксперта. Она не удивилась бы, если бы одна из них дернула носом, а другая метнулась бы рыжей пушистой молнией к занавескам и повисла на ламбрекене.
Белки эти не входили в то скорбное число обшарпанных и потрепанных уродцев из ста-рьевщицких лавок, не были подобны ужасным чучелам, что коротают свой век во тьме чердаков и видят свет лишь во время генеральных уборок. Мэйсон сотворил не менее пятидесяти волшебных подарков для своей маленькой племянницы — и это только в одной комнате. В детстве Эдит, должно быть, спала в спальне, полной мертвых котят в платьицах из тафты, шифона и муслина. Неудивительно, что она сошла с ума.
Но что еще, идеально сохраненное великим мастером, скакало, сидело, таилось в засаде, гарцевало в бесчисленных комнатах этого громадного особняка? Последняя оригинальная диорама Мэйсона была продана за восемьдесят тысяч фунтов на аукционе Бонэм в две тысячи седьмом — ныне же любой предмет такого качества, которое ее окружало, обошелся бы раз в десять дороже. Мэйсон был лучшим чучельником, а с семидесятых годов, когда на чучела было мало покупателей, рынок изголодался по новым работам. Она хорошо знала, что менее пяти процентов викторианских чучел дожило до следующего столетия, остальные развалились или были уничтожены. Но не здесь. Не в Красном Доме.
Что она вообще здесь делает? Если гостиная была лишь скромной демонстрационной витриной для того изобилия, что хранилось здесь, следовало уведомить одну из крупных лондонских фирм. Это была бы работа для ребят из «Сотбис», а не для мелких сошек вроде Кэтрин Говард из фирмы «Леонард Осборн, оценщик и аукционист». Она старалась скрыть волнение — показать его было бы ошибкой. Американские музеи хорошо платили за птиц, тех самых, которых викторианцы тут же изводили на чучела, едва открыв места их обитания.
— А птиц у вас тут нет?
Голова Эдит затряслась, как у паралитика, в коротком приступе ярости.
— Птиц? Мой дядя не был плюмажистом! Ему было не до перьев! Вот это, — она повела тонкой белой рукой в воздухе, — это все пустячки. В основном он работал с крысами. Животными, схожими с нами. Прозрение пришло к нему во время Первой мировой войны, на фронте. Помню, однажды он сказал моей матери, его любимой сестре, что все мы — не более чем паразиты под звездами.
— Хм, ясно. — Кэтрин вновь осмотрелась. — Он так много сделал, я и понятия не имела.
— Мой дядя брался за заказы лишь тогда, когда этого требовал дом. Кое-какие работы вы могли видеть, занимаясь своим нечистым промыслом. Это все, что когда-либо выходило за пределы дома. Его, в отличие от остальных, не интересовали эти ваши слава, конкуренция, выставки. Когда спрос на его работы иссяк, он продал землю, чтобы Красный Дом выстоял. Мы были бережливы, но надо же было держаться на плаву.
— Он создал все это… из любви к искусству?
Эдит улыбнулась.
— Кажется, вы начинаете кое-что понимать. Он создавал нечто великое только тогда, когда интерес к его ремеслу пропал. Таксидермия, дорогуша, была в немилости большую часть его профессиональной жизни. Мой дядя не был ученым и природу не боготворил. Он был художником. Волшебником! А теперь… теперь в наш дом валом валят письма. Люди желают знать, не осталось ли еще животных? Бог ты мой, неужто они такие ценные?
Кэтрин сдержала улыбку.
— Для коллекционеров — очень даже может быть. Это я и пришла узнать.
Со щелчком открылась дверь, и, шаркая, вошла Мод с подносом, заставленным посудой поистине антикварного вида.
— Вы узнаете, быть может. Всему свое время. Я покамест решила, что вы мне достаточно симпатичны, чтобы показать вам кое-что еще. Вы с уважением относитесь к его работам. Вижу это по вашим красивым глазкам. Но сначала надо выпить чаю. Выпечка домашняя. Не разольете ли? Руки у меня уже не те.
— Конечно, не вопрос. — Кэтрин, внезапно счастливая оттого, что все-таки не сбежала отсюда, улыбнулась собаке и как бы между прочим ввернула — Надо сказать, старик Горацио прекрасно воспитан. Даже носом не повел на кексы.
С лица Эдит тут же ушел хоть какой-то намек на теплоту, и оно застыло в недовольной гримасе:
— Если вы шутить изволите, то совершенно напрасно. Над творениями моего дяди смеяться недопустимо. Никогда и ни при каких обстоятельствах. Я ясно выразилась?
Глава 8
— Ну же. Входите поскорее!
— Но…
— Внутрь. — Настойчивость Эдит явно граничила с гневом.
— А как же свет?
— Их надобно держать в темноте. Темнота не вредит им.
— Как же вы их видите тогда?
— А вы зайдите и все узнаете! Чего тут-то топтаться?
Застыв в дверях, Кэтрин стала всматриваться в непроницаемый мрак. Подножки инвалидной коляски Эдит Мэйсон попирали ее лодыжки сзади. Старуха, которую она сама сюда и прикатила, будто подталкивала ее, хотела насильно впихнуть внутрь.
— Верхний свет уже много лет как не работает. Придется раздернуть шторы. Или хотите, чтоб я сама это сделала, вот этими вот руками? — Эдит захихикала. — Вы что, дорогуша, темноты боитесь?
Кэтрин сделала маленький шажок внутрь — будто вступала на залитый льдом каток — бочком, расставив руки. Воздух в хранилище был спертый, влажный, пропитанный запахом полироли и еще какой-то химии. Она шла дальше и дальше в темноту, а запах становился сильнее, резче, от него даже пощипывало в глазах.
— Держитесь левее. Левее! — вела ее Эдит. Деланно строгий тон не скрывал веселья (если не злорадства) по поводу неудобного положения Кэтрин.
Низкие каблуки ее сандалий стучали и скребли по половицам, звук гулко разносился по помещению — чувствовалось, что оно довольно большое. И тут совершенно точно не было ничего мягкого, что могло бы приглушить звук или защитить Кэтрин от падения.
Кэтрин взглянула на бесформенно-уродливый силуэт Эдит Мэйсон, проступающий в слабом багровом свете из коридора. Старуха сидела неподвижно, выпрямив спину и высоко задрав голову, торчащую над иссохшими плечами.
Ей внезапно подумалось, что все эти хождения во мраке тайной комнаты в зловещем доме — своего рода испытание, нечто среднее между детским пари «на слабо» и жутким розыгрышем. Кэтрин принимала правила этой неравной игры единственно ради контракта — и ненавидела себя за это. Собственные действия вдруг стали казаться преступно абсурдными. Она позволяла старухе помыкать ею, она стала предметом манипуляций и издевательств ради каких-то эфемерных перспектив успешной карьеры. Разве отчасти не в попытке сбежать от такого обращения она уехала из Лондона? Она и час здесь не провела, а уже стоит испуганная в темноте, и Эдит Мэйсон ей всячески помыкает. Она состроила недовольную гримасу в сторону силуэта старухи, презирая себя за такую мелочность.
— Не дуйтесь, милая моя.
Кэтрин вздрогнула. Как она могла это увидеть?
— Вы хотели их посмотреть. Потому и приехали сюда. Свой хлеб нужно уметь зарабатывать.
Кэтрин вдруг захотелось расхохотаться — настолько абсурдной была ситуация. Как такое вообще возможно? Еще совсем недавно она сидела за рулем машины, проезжая через узнаваемый мир. Расскажи она о том, что здесь происходит — никто ей не поверит. Сюрреализм какой-то, безумие. Звучит заманчиво, но ничего заманчивого на деле в таких испытаниях не было. Равно как и в зловонии, переполнявшем здешний мрак.
Так, а это еще что?
— Это что, розыгрыш какой-то? — Кэтрин обернулась и посмотрела на черную пустоту напротив двери, через которую только что прокралась. До нее донесся какой-то звук — один-един-ственный раз она услышала его, где-то справа от себя, видимо, в дальней части комнаты. Шелест ткани по дереву. На уровне пола. Или кто-то соскользнул со стула? Ребенок.
— Прошу прощения? — бросила Эдит от дверей, почти не пряча недовольство в голосе.
— Здесь кто-то есть. Вы меня разыгрываете? Мне это все смешным не кажется.
— Вы там одни. — Теперь в голосе Эдит слышалась жестокая игривость. — Больше там ничего живого нет, хотя может показаться, что есть. — Если старуха хотела успокоить ее, то это ей не удалось. А вдруг ей сейчас вздумается взять и захлопнуть дверь? Тогда я угожу в западню.
Продвигаясь к зашторенному окну, Кэтрин кляла себя на все лады. И зачем она только осталась здесь? Каким местом думала? Лицо в окне, одурачившее ее чучело пса, ужасные наряды, оскорбительное молчание Мод, еще и шлюхой за глаза назвали. Вывод из этого всего один, и напрашивается он прямо-таки сам собой. Ее жестоко и изощренно разыграли, словно простолюдинку, явившуюся сюда потрогать грязными ручонками семейное серебро.
Она принялась загребать руками пустоту в поисках опоры и кое-как, наощупь, добралась до шторы. Та была сработана из плотной, многослойной ткани, чего-то вроде очень плотного бархата, который никак не желал расходиться. Она шагнула в сторону, задыхаясь от тревоги.
— Ну вот. Вы почти на месте. Я слышу, где вы шуршите.
Кэтрин вновь взглянула на дверной проем и поняла, что силуэт Эдит больше не смотрит в ее направлении, но в ту часть неосвещенной комнаты, что расположена напротив двери. Откуда в этот момент донесся звук. Очень слабый звук металла, скребущего по каменной кладке. А потом — шорох ткани. Кэтрин завизжала бы, но воздух застыл в ее окаменевших легких.
Она вновь принялась трепать шторы, пока пальцы не нащупали место в центре, где они расходились. Но даже когда она раздернула завесы, свет не появился. Она была по-прежнему запечатана в темноте. Пальцы нашли еще один слой ткани, чуть тоньше. Она потянула за нее.
— Поаккуратней с моими занавесками!
Потихоньку закипая, Кэтрин обнаружила, что ее ладони по самые запястья запутались в мотках тюля. Где-то позади всех этих наслоений ткани ее ногти царапнули по дереву. На одно ужасное мгновение ее буквально парализовало — она поняла, что это и в самом деле ловушка. Ее направили к ложному окну. Сейчас дверь в комнату захлопнется, ключ повернется в большом латунном замке, которым она еще восхищалась, как последняя дура. Ей казалось, что она намертво застряла внутри сна, начавшегося в тот момент, когда она вышла из машины. Она моргнула невидящими глазами, и ей захотелось поглубже, до крови, всадить ногти в запястья. Разинув рот, Кэтрин глотнула темноты и крепко сжала зубы.
— Ставни раздвижные, — донесся до нее голос Эдит, теперь звучавший ровно — она не глумилась и не гневалась, просто отдавала распоряжения. — Посередине есть шпингалет. Отоприте его. Но будьте осторожны! Эти ставни защищают окно уже добрых полтора века. Раздвиньте их в стороны, да поскорее — чего мы тут время теряем?
Кэтрин нащупала маленький засов и отомкнула деревянные ставни. Поскрипывая, как старая парусная шлюпка, они разъехались по сторонам без особого сопротивления.
Кэтрин застыла, ошеломленная и опустошенная. Лицо ее было опалено белым светом, изливавшимся прямо с небес, из обители спасения.
Она обернулась к безобидной старушке в инвалидной коляске. Оковы напряжения спали с нее, пульс унял свой бег… А потом она увидела, что хранилось в темной комнате под замком.
Глава 9
Под люстрой, подвешенной на черной цепи, свисающей с алебастровой потолочной розетки, располагался громадный выставочный стол примерно шесть метров в длину, четыре в ширину и метр в ширину.
Стены вокруг композиции были обклеены теми же обоями со средневековым узором, что и во всем Красном Доме в тех местах, где не было деревянных панелей, — густого бордового цвета, поглощающего естественный свет. Периметр комнаты был забран высоким деревянным плинтусом снизу и длинным карнизом сверху. И никакой мебели, никакого декора — ничто не должно было отвлекать внимание зрителя, препятствовать восторгу, смешанному с ужасом при виде того, что создал и выставил в своем доме М. Г. Мейсон.
Кэтрин на время потеряла дар речи — пауза была достаточной, чтобы Эдит успела очевидно насладиться ее вытаращенными глазами и открытым ртом. Возможно, именно поэтому Мод не произнесла ни слова, а Эдит провела всю жизнь в безмолвной и невольной компании грызунов и лесного зверья. Все прочие персоны были не более чем помехами.
— Часто на завершение одной композиции у дяди уходили годы. Над этой он работал десять лет, плюс год планирования, прежде чем он освежевал первую крысу. — Кэтрин все еще не могла ответить. — Всего под стеклом шестьсот двадцать три объекта. Их всех поймали собаки, специально обученные не калечить добычу. И несколько десятков лет в Красном Доме нет крыс. Может быть, они еще помнят, — Эдит усмехнулась собственной шутке. — Дядя так наловчился, что мог полностью обработать крысу за шестнадцать часов. Но прежде чем сделать первый надрез, он планировал позу каждой из них до мельчайших подробностей. У крыс ужасно тонкие лапы, лапам животного вообще сложнее всего придать правильное положение, но дядя стал настоящим специалистом в этом деле. А моя мама снимала мерку с каждой из них для пошива униформы.
Кэтрин покатила кресло с Эдит вдоль выставочного стола. От нескольких беглых взглядов на композицию у нее закружилась голова, но она еще не могла воспринять всей сложности диорамы.
Через стекло открывался вид в ад.
— Не понимаю… Почему никто этого не видел?
Колеса кресла скрипнули, пол издал стон, и в этом пространстве звуки показались Кэтрин столь же нежелательными, как и ее собственный голос. Они как будто нарушали сон комнаты.
Эдит улыбнулась.
— О, видели… однажды. Но вам повезло, мисс Говард. Вы первая, не считая членов семьи, кто увидел «Славу» за последние семьдесят лет. Хотя стремились многие: услыхав о ней от тех немногих, которые действительно видели ее. Это было до того, как дядя осознал, что в качестве предупреждения его работа бесполезна. До Второй мировой войны она один раз выставлялась в Вустере, но ненадолго. Он-то надеялся, что она устрашит людей и тем самым остережет от еще одной великой бойни. Но он был недоволен реакцией на его работу. В газетах его порицали за жестокость и отсутствие патриотизма. Кто-то даже назвал его безумцем, милочка. Школьники были в восторге от «Славы», но совсем не за то, за что следовало бы. И дядя вернул ее домой. Она делится на десять секций. Согласно указаниям дяди, когда коллекция перешла в мое управление, я отказывала в любой просьбе взглянуть на эту работу, пока о ней не забыли. Теперь у меня нет выбора. Но дядя понимает…
— Он… — Но Кэтрин вскоре упустила направление мысли, к тому же так и не сумела спросить Эдит, кто же все-таки нарушил тишину в комнате, в которой она только что блуждала в темноте. С того момента как она открыла шторы, этот вопрос преследовал ее. Но стоя перед «Славой», ни о чем другом думать было нельзя.
— Вы должны понимать — дядя вернулся с фронта другим человеком. То, что он пережил в Великой Войне, опустошило его. И хотя он был добровольцем-некомбатантом, он отправился на передовую, чтобы быть рядом с солдатами. И дать им хотя бы малое утешение посреди ужасов, которые мы не в состоянии вообразить. Он видел такое… такие вещи. Он потерял веру. И не только в Бога. Но и в людей. В общество. В человечество. Его потеря веры была колоссальной. Можно сказать, полной. Какая тяжкая ноша для капеллана!
— Капеллана? Он был…
— Да, служителем Господа. Когда-то эта деревня была его приходом. Он стал капелланом в 38-м Валлийском батальоне. Частная инициатива. Тогда таких было много. Он пошел добровольцем в 1915-м, вслед за двумя младшими братьями. Он их очень любил и думал, что сумеет о них позаботиться.
Эдит вздохнула и подняла брови, аккуратно нарисованные на ее алебастровом лбу.
— Гарольд, самый младший, пал в Мамецком лесу. В 1916-м. Вскоре после прибытия. Это было одно из сражений на Сомме. Потом их батальон участвовал в третьей битве на Ипре, и Льюис погиб при Пилкеме через год после Гарольда. Бедняжку Льюиса отравили газами.
И эти крысы в грязи были исцелением Мейсона — или скрупулезным продолжением кошмара. Кэтрин вновь уставилась на то, что она поначалу приняла за маленьких человечков, настолько правдоподобны были их позы на задних лапах, настолько одушевленными и человеческими были гримасы ужаса, боли, страха и отчаяния, так убедительны их военные формы, оружие и страдания на земле, что в течение нескольких секунд она не сомневалась, что смотрит на толпу крохотных людей, завязших в одном из внутренних кругов ада.
Черный пейзаж сам по себе был настолько убедителен — сырой, вздыбленный и бесцветный, — что Кэтрин казалось, будто она чувствует его запах сквозь стекло. Стенки диорамы были окрашены с фотографической точностью, продолжая словно уходящую в бесконечность во всех направлениях картину окопов, рваной проволоки, взрывов снарядов, воронок от мин, густого дыма и разнесенных в щепки деревьев.
И еще — она не видела Эдит такой воодушевленной. Маска колючей враждебности, которую она донесла до порога этой комнаты, казалось, растворилась, как только появилась возможность порассуждать о ее дяде — человеке, нежно лелеемом ее долгой памятью.
— После того как убили Льюиса, дядю списали по инвалидности из-за брюшного тифа и дизентерии. Какое-то время он страдал от обоих недугов одновременно. Мама говорила, что в первый раз домой его привел не тиф, а разбитое сердце. И он мог бы пересидеть войну дома, но вернулся в свою роту и на передовую, едва немного оправился. Чтобы продолжить службу. Когда я достаточно выросла и смогла понять, мама сказала мне, что он был преисполнен решимости погибнуть на фронте, чтобы вновь оказаться рядом с братьями.
— Но, милочка, судьбе было угодно оставить его в живых. В 1918-м он опять вернулся домой, на сей раз с раной. В битве при Камбре. Когда его батальон захватил Вийер-Утре, дядя получил тяжелейшее ранение в голову шрапнелью. Рана изуродовала его. Но, возможно, спасла жизнь.
— Я не знала. — Кэтрин сглотнула комок эмоций, подкативший к горлу. — Это… — она не знала, что сказать. — Это страшная и печальная история. — Она чувствовала себя странно: здесь, в Красном Доме, рассказ Эдит воспринимался как свежие новости. — Мне так жаль.
— Разве такое можно забыть? Дядя считал, что нельзя. Он себе этого позволить не мог. После войны он жил здесь затворником со своей сестрой Виолеттой, моей матерью. Она вернула его в мир. Потому что им предстояла работа. Они все делали вместе. Я полагаю, вам нужно составить перечень всего этого?
— Да.
— Разделять диораму нельзя. Таково наше единственное условие. Она должна остаться целостной.
— Разумеется. Да и кто бы мог помыслить о таком?
Но Кэтрин знала, что многие вполне могли бы. Если не найдется покупателя, который сможет дать настоящую цену за всю работу, каждую из десяти секций придется продавать по отдельности. А то и более мелкими частями. Диорама была великолепна, но в то же время ужасна, и Кэтрин не могла представить себе кого-то, кто захотел бы подолгу любоваться ею. Возможно, заинтересуется какой-нибудь музей, а лучше бы — художественная галерея. Потому что это было именно искусство, настоящее искусство. Эдит права — М. Г. Мейсон был художником. И великим, он потряс ее до глубины души. Ей казалось, что она могла бы простоять в этой комнате весь день и все равно не разглядеть и половины деталей под стеклянным колпаком.
— Пора посмотреть еще одну. И на сегодня будет достаточно.
— А есть еще одна?
— Еще четыре.
Глава 10
«Нельзя это продавать! — захотелось крикнуть Кэтрин. — Это надо выставить на всеобщее обозрение». В противном случае, аукционный каталог останется единственным свидетельством существования полного собрания М. Г. Мейсона, а его работы могут расползтись по всему миру, так что никто и никогда не сможет собрать их снова. И это после того, как они более полувека простояли, никем не потревоженные, в Красном Доме.
— Я… Просто не верится.
В следующей комнате ее ждала газовая атака. Казалось, создатель диорамы вложил весь свой гнев, горе и терзания, связанные со смертью молодого Льюиса, в сотню крыс, одетых в перепачканное хаки. Крысы катались, задыхались, лягались, истекали кровью в соединительной траншее, а повсюду вокруг их позиции воздух, пропитанный зловонными парами, сверкал разрывами снарядов.
Пейзаж повторял предыдущий — тусклый, мрачный, бесконечный, взбаламученный мощными брызгами взрывов; недвижный и болотистый в омерзительных ямках и словно взболтанный в других местах, где с черных небес волнами падала грязь. А умирающие крысы с налитыми кровью глазами вязли, тонули, поглощались трясиной. Кэтрин пришлось отвернуться от двух слепых несчастных существ, вцепившихся друг в друга и задравших мохнатые шеи в надежде вдохнуть свежего воздуха среди рощицы побитых, голых деревьев. Выражения их морд были непостижимым образом абсолютно человеческими.
— Трудно поверить, что это не кусочек Западного фронта, перенесенного домой в коробке. Хотя это так и есть, в определенном смысле. В сознании дяди. Но декорации изготовила мама. Грязь, жидкая и сухая, — это гипс и мешковина. Для полноты иллюзии все натянуто на проволочный каркас и покрашено.
— Они были здесь. Все это время… — «В темноте», хотела добавить Кэтрин.
— С кончины дяди ничего в этом доме не менялось. Даже его кисточка для бритья, расческа и очки находятся на том же месте, где они были в его последний день. — Кэтрин с ужасом посмотрела на Эдит, та удовлетворенно кивнула. — И его бритва лежит там, где упала.
— Но вы…
— Следовали его указаниям? До последней буковки, милочка. Вас это удивляет. Сомневаюсь, что вы встречали такое чувство долга и преданность где-то там. — Эдит подняла руку, словно отмахиваясь от всего мира. — Но в Красном Доме такие качества ценят. Я хранитель его наследия, милочка. Это последняя миссия, которую он на меня возложил. Всю жизнь служить его гению — огромная честь для меня. Сомневаюсь, что вы способны это понять. Хотя я вас за это не виню.
— И, в соответствии с его распоряжениями, композиции должны находиться в жилых комнатах первого этажа. Если не считать служебных помещений, здесь в каждой комнате хранятся его ранние работы. Предстоит так много осмотреть. Составить опись. Надеюсь, у вас есть время, мисс Говард.
— Ранние работы?
— Он, милочка, переключился на другие темы. А эти работы стал считать пустяками. Полагаю, только мамина сила убеждения не дала ему уничтожить их все, когда Англия объявила войну Германии в 1939 году.
Кэтрин смотрела в потолок и вновь представляла себе несметные сокровища, таящиеся в каждой комнате, где сам воздух был пропитан нетронутой, идеально сохранной стариной.
— Неизменность, — пробормотала она. — Во всем доме ничего не изменилось.
— Ас какой стати мы стали бы что-то менять? К тому же это запрещено.
— Запрещено?
Эдит не стала отвечать.
— Отвезите меня к лифту, пожалуйста. Мне пора отдыхать. Мод проводит вас к выходу.
— Да, конечно. Могу ли я… Могу ли я снова побывать здесь? Пожалуйста…
— Не знаю. — Выдержав дразнящую паузу, Эдит добавила — Возможно, с вами свяжутся.
— Хорошо. Я буду ждать. И спасибо вам. В смысле, за то, что показали. — Кэтрин никак не могла собраться с мыслями. Они вспыхивали в голове и тут же сходили на нет, исчезали, и она вновь смотрела на крысиную морду в грязи, с пастью, разинутой в крике. Но если Эдит говорит правду, весь дом — безупречно сохранившийся особняк в стиле готического возрождения времен середины царствования королевы Виктории, аутентичный до последнего винтика. Возможно, лучший образец такого дома во всей Англии. К тому же, он полон предметами старины в идеальном состоянии и творениями самого Мейсона ценой в миллион фунтов.
Она не могла себе представить, чтобы «Слава» ушла с молотка меньше чем за двести тысяч фунтов. Плюс сотня за «Газовую атаку». А на первом этаже дома заперты еще две диорамы, посвященные Великой войне. А еще были куклы. Куклы работы самого Мейсона, про которые она слышала. Да, они не продавались, но неплохо было бы хоть взглянуть на них и убедить Эдит устроить выставку — если, конечно, искусство ее дяди в их изготовлении могло хоть приблизительно сравниться с тем, что он проделывал с крысами.
Кэтрин вновь задалась вопросом: а почему, собственно, она здесь — словно произошла какая-то ошибка, и ее приняли за кого-то другого, и пока не поздно, ей нужно признаться, что она самозванка. Ее трясло, она не ощущала собственного веса то ли от возбуждения, то ли от нервной встряски, непонятно. Одежда липла к телу — такая жалкая, такая дешевая. Все в ней было здесь неуместным. Она была здесь не в своей стихии. Она не из шустрых девиц, не умеет цепляться за возможности… Кэтрин прикусила губу и прекратила самобичевание.
— Мисс Мейсон? — внезапно решилась спросить она, когда катила кресло по темному коридору к красноватому отсвету далекого холла. — А ребенок — это кто?
Эдит некоторое время молчала, будто не расслышала.
— Ребенок?
— Да. Возле окна. Я кого-то видела, прежде чем войти в дом.
— Что? — огромная напудренная голова повернулась. — Никакого ребенка нет, — добавила Эдит, словно Кэтрин сказала что-то донельзя глупое человеку пожилому и раздражительному, что, собственно, вполне могло быть именно так. Особенно если у окна была Эдит. «Но это же невозможно».
— Кажется, этот кто-то карабкался…
— Карабкался? Да о чем вы? Здесь только я. И Мод. И, как вы можете убедиться… — она разжала хрупкие, обтянутые перчатками ладони, словно указывая на кресло-каталку.
— Ав комнате…
— О чем вы говорите? В какой комнате?
Они добрались до холла.
— В комнате со «Славой». Там был шум. Звук. И я подумала…
— Птица? У нас птицы во всех дымоходах. Никак их выгнать не можем. — Эдит подняла свой маленький колокольчик и принялась им слабенько трясти.
Кэтрин наклонилась, желая помочь ей.
— Оставьте!
Где-то в глубине Красного Дома открылась дверь, и Кэтрин узнала шарканье старых, усталых ног Мод.
После того как Мод пристроила Эдит с ее креслом в лифт, что сопровождалось множеством замечаний и указаний, совершенно излишних, по мнению Кэтрин, и когда Эдит и ее кресло начали неспешный, но шумный подъем, хозяйка в последний раз взглянула на Кэтрин маленькими глазками в обводах красных век.
— Напомню вам, чтобы вы ни словом не обмолвились о том, что видели внутри этого дома. Это частная собственность, вещи пока еще принадлежат нам. Посетители нам не нужны.
Кэтрин не терпелось добраться домой и рассказать все Майку.
— Конечно. Визит сугубо конфиденциален.
Эдит продолжала смотреть на нее с неприятной напряженностью. Кэтрин перевела взгляд на Мод, но та смотрела сквозь гостью — взор экономки был направлен на вестибюль перед входной дверью.
— До свидания, — воззвала Кэтрин к удаляющейся фигуре Эдит Мейсон, трясущейся на дребезжащем подъемнике. Ответа не последовало. — И еще раз спасибо.
Мод молча проводила Кэтрин до выхода. Большую часть времени, что она провела в этом доме, ей хотелось бежать отсюда, теперь же прорезалось отчаянное желание остаться и увидеть больше. Да, здесь над ней поиздевались, но и раздразнили любопытство.
На пороге Красного Дома экономка бросила быстрый взгляд через плечо в сторону вестибюля, откуда доносились скрипучие звуки подъемника. И, не глядя на Кэтрин, Мод схватила ее руку и вдавила свои крепкие мужские пальцы в ладонь Кэтрин, оставив там клочок бумаги.
— Нет-нет, вовсе не обязательно… — обратилась Кэтрин к захлопывающейся двери, решив, что экономка подала ей на чай, как коммивояжеру. Она не удивилась бы, узнав, что два таких чудака, живущих вне общества и времени, по-прежнему блюдут такой обычай, но когда она наклонилась и подобрала бумажку, выпавшую из руки на плитку крыльца, она увидела, что это не деньги, а скомканный обрывок оберточной бумаги.
Из-за массивной двери донеслось приглушенное, но истеричное дребезжание колокольчика.
Кэтрин подняла бумажку, покрытую жирными пятнами, расправила, перевернула. Там корявыми большими буквами были нацарапаны три слова:
НИ ВЗДУМАЙ ВИРНУТСЯ.
Глава 11
Она дважды влетала колесами в колдобины, будто заснула за рулем. Даже вечер не наступил, а ее поездка домой напоминала езду в темноте по знакомому маршруту. Ее сознание было переполнено тем, что она увидела в этом уникальном доме. Да и свое место в мире она осознавала как-то смутно, как будто возвращалась в прежние места, где ее больше не помнили.
Мир за пределами лугов Красного Дома предлагал ее воображению только пресное и временное. Город, в который она возвращалась, казался предсказуемым и не оправдывающим ожиданий. Аналогичные чувства вызывал когда-то Британский Музей, когда она проводила там воскресные дни, чтобы не торчать в убогих комнатушках, которые она снимала в Лондоне.
Чтобы приспособиться к виду автострад, заправочных станций и садоводческих магазинчиков возле Вустера, ей потребовалось сознательное усилие. Надо было срочно перестать воспринимать эту местность как нечто чужое и незнакомое — а то, что она увидела и пережила в Красном Доме, этому отнюдь не помогало.
Воздействие странного дома и ощущение собственной неуместности в его стенах самым неприятным образом смешивалось с воспоминаниями о ее детской отчужденности в Эллил-Филдс. Чувства, которые она не хотела пробуждать, снова терзали ее сердце. Приближаясь к Херефорду, она даже подумала вовсе не возвращаться в Магбар-Вуд и расположенный по соседству Красный Дом. Пыталась придумать, что скажет Леонарду в свое оправдание. В приступе тошнотворной паники, вызванной защитным инстинктом, подавлять который ее научили психотерапевты, она на мгновение подумала: а не убежать ли куда-нибудь в совсем новое место и не возвращаться. Но остались ли такие места?
Она припарковалась возле своей квартиры в Вустере, вышла из машины — все это напоминало пробуждение от глубокого сна, в котором осталась часть ее существа. Ей пришлось буквально собрать себя заново, прежде чем просто вылезти из машины. А оказавшись в квартире, она с большим трудом преодолела отвращение к собственной мебели и вещам.
На протяжении всего визита в дом Мейсонов ей было не по себе, она теряла дар речи то от ужаса, то от восхищения. Но уходила она преисполненная желания вернуться и увидеть больше. Пока Мод не передала ей записку. Записка запустила реакцию.
Кэтрин оставила ее в сумочке. Ей не хотелось вновь видеть этот почерк. Это был почерк шпаны. Корявый, грубый, призванный огорчить, вывести из себя, застрять в сознании надолго, когда виновные давно уже сбежали с места преступления. Она покажет записку Эдит. Или не надо?
Возможно, записка не означает ничего, кроме злобной неприязни к чужаку, вторгшемуся на заповедную территорию? Не исключено, что Кэтрин восприняли как некий вопиющий и кошмарный сигнал из «там, снаружи», как тварь, прокравшуюся в дом, чтобы одурачить старую даму. Или записка служила предупреждением об опасности? Но какой? Исходящей от девяностотрехлетней женщины?
«Некогда сейчас этим заниматься».
Умом Кэтрин понимала, откуда берется это навязчивое, саднящее ощущение воображаемой травли. Бывают дни, когда все что угодно становится спусковым крючком для паранойи. Она выскочила из иррационального потока мыслей, прежде чем он успел подхватить ее рассудок и потащить по камням и порогам со скоростью горной реки. Предстоял аукцион, чреватый напряжением сил, ожиданиями и необходимостью продемонстрировать такой высокий класс, до которого она может и не дотянуть. А еще придется вести дела с очень сложным персонажем. Этого не избежать. Записка Мод задачу явно не облегчала, да и посещение Красного Дома трудно назвать рядовым событием. Так что неудивительно, что она сама не своя, сбита с толку. «Только и всего. Расслабься. Не накручивай себя».
Майку тоже не нравились эти ее настроения. Он считал, что она ему «нервы мотает». Упражнения, рекомендованные последним терапевтом, помогали, однако требовалось приложить усилия. Но именно радостное волнение от предстоящей встречи с Майком помогло ей наконец акклиматизироваться в мире, из которого она полностью выпала, шагнув на дорожку перед единственным и неповторимым домом М. Г. Мейсона.
Джоан Баез на стерео, бокал охлажденного шардоне на туалетном столике. Юбка-дудочка и атласная блузка от Карен Миллен, новые чулки с шовчиком от «Ажан-Провокатер» — подарок Майка на день рождения. Стиль ретро, почти винтаж. И Кэтрин вдруг поняла, что, нарядившись таким образом, она, похоже, старается уцепиться за ту ниточку, что тянется за ней от Красного Дома.
Хотя загадочности и элегантности в доме было в избытке, он отнюдь не грел душу. А вот профессиональные перспективы, которые открывал аукцион, грели. Очень даже грели. Если все время держать эту мысль в голове, у нее все получится. И она со злорадством представила себе возмущенные лица бывших коллег, этих стерв из Сохо с канала «Не кантовать». Если Эдит наймет ее, об аукционе напишут в нескольких воскресных приложениях, в модных журналах, покажут на национальных новостных каналах. «Не кантовать» в полном составе приползет к ней на коленях, будут умолять сделать документальный фильм о сокровищах Мейсонов. Кэтрин Говард, отщепенка, которую шустрые девицы выжили с работы и из города, будет улыбаться им с разворотов глянцевых страниц и с экранов телевизоров, блистая на ток-шоу местных каналов. «Пропавшие сокровища М. Г. Мейсона, героя войны, выдающегося таксидермиста и кукольника, представляет оценщик и аукционист Кэтрин Говард из фирмы Осборна. Красный Дом. Сокровища…»
Для каталога она организует правильное освещение комнат Красного Дома, чтобы запечатлеть их наилучшим образом. Фотографировать мог бы Майк. Бог свидетель, работа ему нужна, да и взбодриться не помешало бы. Надо подумать об оформлении каталога, но первым делом — пресс-релиз. В субботу она встанет пораньше и приступит. Нет, сначала она составит проект контракта. Если получится это провернуть, в будущем ее ждет новая машина, и она сможет купить собственную квартиру в жилом комплексе для молодых специалистов, с видом на реку, а может быть, и домик в Хэллоу.
«Попридержи коней».
Она посмотрела на себя в ростовое зеркало у изножья кровати. Выглядела она хорошо. «Эта мушка — не перебор ли?» Эдит пришла бы в ужас при виде ее алой помады серии «Kiss mе», а Мод скривила бы физиономию на яркую крем-пудру поверх бледной кожи. «Фик-фок и сбоку бантик», — так дразнили девчонок с макияжем в ее средней школе в Вустере. Зато помада красная! Кэтрин распустила волосы — и сама себе напомнила куклу.
Глава 12
— Ты не поверишь. Если она даст нам разрешение все сфотографировать, комнату за комнатой, у тебя может получиться выставка. И книга, о которой ты всегда мечтал. А котята! Я тебе про котят говорила?
«Он вообще слушает?»
Майк был бледен, да и причесаться не удосужился, но она приказала себе молчать на эту тему. Даже пребывая в хорошем настроении, он не переносил критики в свой адрес. Возможно, он думал об их утрате. Возможно, пришла его очередь сидеть надутым и отрешенным. Безучастным ко всему, и ничто не могло сейчас высечь из него хоть искорку интереса. Теперь, когда она пробудилась к жизни, может быть, настала его очередь впасть в спячку.
— Милый, да что с тобой?
Он нашел ее глазами, потом отвел взгляд, уставившись на стол, в свою пивную кружку, которая на фоне ее наряда смотрелась весьма неэлегантно. А наряд он заметил сразу, как она вошла, и отчего-то внезапно напрягся. Впрочем, тут же отключил внимание.
Майк ждал ее, явившись раньше положенного, что было ему несвойственно, и от него несло пивом. Начал пить без нее.
— Устал, — проговорил он еле слышно.
Он выдохнул, нервно переплетая пальцы, потом спрятал их под столом. «Усталость» его тянулась больше месяца.
Ее глаза смотрели ему в лицо с немым вопросом. Он не глядел на нее. Что-то происходило. И она увидела его в первый раз за всю неделю. Он был «занят», но чем? Он же сидел без работы. Лишь выпалив на одном дыхании свой монолог о Красном Доме, прерываемый лишь судорожными глотками вина, она обратила внимание на выражение его лица. Ее начало заносить, и нужно было притормозить.
А выражение его лица было ей незнакомо. Вороватое какое-то. Он постоянно прикусывал нижнюю губу, отчего та покраснела. Он полуприкрыл веки, словно защищая ее от безумного напряжения, таившегося под ними. Она испытала легкое потрясение, когда осознала, что не видела Майка таким уже очень давно. Должно быть, опять весь день курил коноплю в своей задрипанной комнатенке. Но разве он не клялся ей, что прекратил, чтобы повысить шансы вновь зачать ребенка?
Официантка принесла горячее. Майк даже не взглянул на свою тарелку. Кэтрин была голодна как волк, но сдержалась.
— Что? В чем дело? — она потянулась через стол, стремясь коснуться его руки, которую он достал из-под стола, чтобы взять свою пинту, и увидела, что второй рукой, под столом, он вертит мобильный телефон. И когда она вошла, он отправлял сообщение. Кому? — Непросто все… — проговорил он и сглотнул.
— Что?
— Так, ничего.
— Черный перец? — спросила официантка с неловкой полуулыбкой, вызванной подозрением, что за столиком, который она обслуживает, имеет место размолвка влюбленной парочки.
Но между ней и Майком никаких проблем не было. Их связь была сильна как никогда, даже после того, что случилось прошлой зимой. Они обрели друг друга после семнадцатилетней разлуки, словно их воссоединение было предначертано судьбой. Когда-то они были парочкой робких старшеклассников, которые и поговорить друг с другом отважились лишь за три месяца до окончания школы, зато следующие два года любили друг друга со всепоглощающей, переменчивой страстью, будучи нежеланными и неприкаянными чужаками в своих университетах. Пока в один непрекрасный день он не порвал с ней и едва не разрушил ее жизнь. Но два года назад они воссоединились благодаря Фейсбуку, поскольку ту связь, что существовала между ними, не в силах ослабить даже время.
«Я часто думаю о тебе». Он оставил ей сообщение, как только решил разыскать ее и нашел. За первый вечер повторного обретения друг друга они обменялись пятьюдесятью тремя посланиями. Прочтя первое, она тут же снова влюбилась в него. Ключевую роль в этом сыграло слово «часто». Очень скоро Майк стал еще одной причиной уехать из Лондона — причем ключевой.
От предложенной перечницы Кэтрин отказалась, качнув головой. Из-за напряженной улыбки у нее свело мышцы. Официантка бесшумно удалилась в своих черных балетках.
— Что-то не так. Дело в?..
Он посмотрел на нее. Покачал головой.
— Нет. Не в этом. Не всегда дело в этом. — Потом Майк огляделся, как будто в первый раз видел этот ресторан при пабе и не понимал, как это он очутился здесь.
Его защитная реакция покоробила ее. Выкидыш стал горем для них обоих, хотя она подозревала, что он так и не смог выразить свое разочарование вслух, чтобы не расстроить ее. Но оно в конце концов выплеснулось наружу. «Потому что такое всегда становится явным». Ей тридцать восемь, а он хочет стать отцом. Должно быть, раздражение читалось на ее лице.
— Прости. Я не хотел быть жестоким. — Тон Майка не убедил ее в искренности извинений. — Слушай, зря мы сюда пришли. Давай отчалим.
— Но…
— Извини. — Он покачал головой. — Не могу я сейчас это есть. Нет аппетита.
«А интересно, смогу ли я когда-нибудь что-то съесть после того, как он скажет то, что должен сказать?» Она тут же изгнала эту мысль, красной молнией вспыхнувшую в голове. «Стоит раз запретить себе терзаться вопросами, как это войдет в привычку. На самом деле ничего сложного».
— Тогда… — но больше она не смогла произнести ничего. Сдавило горло. Внезапно ей стало плохо.
— Я не спал всю ночь. — В его улыбке не было ни крупицы тепла. — Я даже, блин, плакал. Не хотел, чтобы…
— М-м?
— Слушай, пойдем, а? Ко мне, побудем вдвоем.
Она следила за каждым его словом, будто видела, как они вылетают изо рта. Кровь в жилах остановилась.
Но это было совсем не то, чего она так боялась услышать. Сейчас они поедут к нему, и он выкурит косячок, и закончится все постелью. Он будет злиться на нее из-за застежек и каблуков. А утром… Утром он разделит все ее восторги по поводу Красного Дома.
— Это неподходящее место.
— Для чего? — вопрос вылетел у нее изо рта, прежде чем она успела запихнуть его обратно. Этими двумя словами она его попросту спровоцировала. Теперь ему будет проще высказаться начистоту.
Так и вышло.
— Я все думал… Ну, об этом… Ох, бля, тяжело… — Он неуверенно улыбнулся, словно ждал от нее поддержки и сочувствия в том, что намеревался сделать. — Ты сегодня роскошно выглядишь, но… Пора с этим кончать. Прости меня. Прости, прости. Меньше всего я хотел огорчить тебя после… Ну, ты знаешь. Но я так больше не могу. Мне так, блин, херово. Ну, нет у меня больше сил. Я про нас. Прости, если можешь.
А потом он встал и, опустив голову, быстрым шагом направился к выходу из зала. На мгновение он остановился, пропуская кого-то в заведение, а потом почти выпал наружу, стараясь побыстрее оказаться как можно дальше от нее.
Глава 13
Пока Майк говорил, Кэтрин казалось, что весь зал умолк, но теперь она слышала звон столовых приборов, да и музыкальный автомат наигрывал что-то знакомое — правда, она никак не могла понять, что именно. Кто-то вдалеке произнес: давайте-ка еще по кругу, но для нее это прозвучало будто бы над самым ухом.
Кэтрин задержала дыхание. Ей казалось, что ее вот-вот вырвет себе же на колени, на чулки с умопомрачительным узором.
— Да плюнь ты на него, найдешь кого получше, — произнес кто-то за соседним столиком, но лицо этого случайного доброхота расплывалось перед глазами, было каким-то нечетким и смазанным.
Зал раскачивался, подобно палубе корабля в шторм, но вскоре мир вокруг нее снова обрел устойчивость. Правда, выглядел он теперь иначе. Теперь ресторан был освещен до тошноты ярко, как какая-нибудь операционная. Кэтрин не могла и рукой пошевелить — все тело сковал паралич. На миг ей почудилось, что она сидит вплотную к дальней стене, вперив взор в ее оштукатуренную белизну. Потом точка обзора как-то резко сосредоточилась на том кресле, в котором она сидела. В горле стоял ком, челюсть отвисла.
Внутри нее бушевал шторм, от начала и до конца состоящий из паники, пока еще слабой, но грозившей затмить ее рассудок целиком и полностью. Изнутри по стенкам черепа будто лупили лапки белесых тараканов. Она услышала собственный всхлип и отстраненно подумала, что вот-вот сползет на пол.
Кэтрин лихорадочно вцепилась в стол. Она вспомнила, как у нее перехватило дыхание, когда Майк позвонил ей после стольких лет молчания. Вспомнила, как озарилась ее жизнь, когда Майк приехал в Лондон, чтобы повидать ее — ничто во всем мире более не имело значения. Перед ней чередой застывших кадров пронеслись те выходные, что они провели в Барселоне, как они напились на майнхедском пляже, как вырядились жокеем и цыганкой на рождественскую вечеринку, как занимались любовью в палатке, разбитой в Озерном краю, как побывали на «Просторе»[7], как, задержав дыхание, смотрели на полоски, проявляющиеся на тесте на беременность. А вот они сидят рядом на верхушке Вустерского маяка и принимают решение все же рискнуть. Вся ее совместная жизнь с Майком пронеслась перед глазами — и исчезла навсегда. И она поняла, сейчас, в тот самый миг, когда он ушел от нее, что любит его больше, чем когда-либо. Любит безоглядно. Он ушел от нее на самом пике ее чувств — даже если бы эта сцена произошла после десятка лет совместной жизни, рана, которую он только что ей нанес, была бы менее болезненной.
А эта уже никогда не заживет.
Официантка шепталась с молодым барменом. Они смотрели на нее. Все смотрели на нее. Она неловко размяла одеревеневшие пальцы. Слезы текли по подбородку, падали ей на руки. Больше сюда ни ногой. Накатывали и уходили какие-то дурацкие мысли, а ком все так же стоял поперек горла. Ее закупорило, как бутылку, — она застряла в самой себе и никак не могла выйти из ступора. Боль острым льдом полоснула по нутру. Удивительно, но жалость к себе на краткий миг вознесла ее над всем этим кошмаром, даруя мимолетную эйфорию.
Кэтрин бросила на стол две мятые двадцатки. Хорошо хоть, что наличные с собой. Одна мысль о расплате картой чуть не повергла ее в панический смех. Ага, конечно. Вот этими вот дрожащими руками — и давить на кнопочки на терминале? Увольте.
Она понимала, что не сможет пройти через зал к дверям на своих высоких каблуках. Как будто мало было унижений за столом. Вселенная хочет, чтобы она встала на четвереньки и рыдала. Какие-то любопытные незнакомцы ухмылялись, глядя на нее.
За что?
Потому что он нашел себе кого-то еще. Tы напрягаешь, ты утомляешь, ты пессимистка, ты вгоняешь его в депрессию, ты странная, никто не хочет с тобой водиться, стоит им узнать тебя поближе. Он встретил другую. Он последнее время был какой-то отрешенный. Надо было доверять инстинктам. А ты их подавляла, как болезненную паранойю, и к чему все пришло? Он встретил другую, чтобы завести с ней детей.
Потому что у тебя был выкидыш.
Она шла домой, прижимаясь к холодным кирпичным твердям города, растянувшегося, казалось, на тысячу миль, и смотрела на смутный, размытый мир, но ничего толком не видела.
Глава 14
Кое-как доковыляв до спальни, вцепившись в бутылку с мешаниной из лимонада и водки, Кэтрин рывком задернула шторы. Прямо под ее окном по улице прошла компашка из ржущих мужиков.
Она выпуталась из идиотской юбки — с самого ведь начала было ясно, что в этом невозможно ходить! — стянула с ног чулки, потом рухнула на кровать. Повернулась на бок, чувствуя, как рыдания сдавливают горло.
Внезапный порыв заставил ее взяться за телефон, и она стала прокручивать меню в яростном желании стереть ту папку, где хранились все его сообщения. Надо удалить их здесь и сейчас, чтобы потом не копаться месяцами, а то и годами, выискивая какую-нибудь воображаемую зацепку. Но она не могла справиться с этой чертовой сенсорной клавиатурой — пальцы не слушались. Одно неловкое движение, и телефон упал на пол.
За что он так с ней? У него что, появилась другая? Но кто? Не может такого быть! И так — до сводящей с ума головной боли, до тех пор, пока теории и домыслы попросту не иссякли.
Кэтрин провалялась в кровати дотемна, цедя водку из горла. Когда телефон свистнул, оповестив о новом сообщении, она безо всякой грациозности сползла на пол по куче верхней одежды и белья и подцепила его. Сообщение было от какой-то компании, призывающей ее затребовать компенсацию за неправильно оформленную страховку. Она послала компании в ответ короткое ПШЕЛНАХ, потом снова стиснула зубы, сама не своя от желания написать Майку.
Скажи ему, что снова беременна. Ага, двадцать раз. Молчи. Покажи, что тебе на него плевать.
Она стерла три строчки набранного текста. Даже пребывая в дикой тоске, ощутила отвращение к самой себе, перечитав этот жалкий сварливый бред. Отчаяние сдавило ее сердце — полновесное, тяжкое, беспощадное.
Суньте меня в ящик с котятами. Не хочу, чтоб было больно. Нарядите меня в красивое платьице и откройте мои большие милые глазки, а еще сделайте так, чтобы я никогда-никогда больше не вышла наружу. Во мне уже живой клеточки не осталось. Больше боли я не снесу, я просто исчезну.
Она попыталась встать и побежать на кухню — к ножницам с оранжевыми ручками из пластика. Но ноги ее не слушались, Кэтрин чуть не упала.
— Уродина жирная, — сказала она себе. Вот так вот, ее опять поставили на место. А место ее известно где. Пришла пора обкорнать себя до самой сути. По крайней мере он поймет, почему она так поступила с собой.
В следующий миг она осознала, что стоит босиком на холодном полу кухни и сжимает в руке ножницы, так и прыгнувшие из ящика у раковины. Острия коснулись кожи на животе. Она с ужасом уставилась на них. Ну нет, снова на это она не пойдет… Но отчаянное, мерзкое желание наказать себя было столь велико, что сомкнутые лезвия заходили ходуном вверх-вниз. Она вообразила, как металл входит в нее, глубоко-глубоко, а потом она проворачивает его внутри себя, рассекая все жизненно важные каналы и обрывая мучения собственной бесполезной туши. Желание становилось жгучим, почти что непреодолимым, рука дрожала. Но вторая рука изо всех сил, до белизны костяшек, старалась отвести ножницы в сторону. Инстинкт самосохранения нежданно-негаданно дал о себе знать, и Кэтрин чуть ли не зааплодировала самой себе: ну и ну, подруга, какие-то мозги у тебя еще остались. Она отшвырнула ножницы, и те глухо клацнули о микроволновую печь. В принципе достать их еще можно. Какое-то ужасное, разрушительное начало, живущее в ней, все еще желало самого плохого исхода. Пэтси Клайн, вруби на всю катушку Пэтси Клайн, стрельни в мозги из пушки ради Пэтси Клайн. Ой, да никто ни в кого стрелять не будет, у тебя даже пушки нет, дурочка. Рано сдаваться, надо стараться. Се ля ви — такова жизнь!
Она рассмеялась жутким смехом, потом сползла на пол и стала давиться рыданиями.
Часы на DVD-плеере показывали 6:49. Утро субботы. Она поднялась с пола и улеглась на софу, где и пролежала до вечера воскресенья.
Медленно, постепенно шок отступил, как тенистый прилив, оставив после себя островки грязного ила. Над ними висел серый горизонт. Буря в мозгу сменилась штилем. Было медленно, тошно, монотонно, как обычно бывает, когда принимаешь неизбежное и при этом не можешь заснуть: принимаешь, вымотавшись до предела. Но в принятии есть некоторое облегчение. С ним ты быстрее погружаешься на дно. А достигнув дна, начинаешь вдруг видеть все отчетливо таким, какое оно есть на самом деле.
В воскресенье утром она открыла свой внутренний сейф и извлекла каждую папочку для тщательного изучения. К утру понедельника дошла до последней. Вот сколько времени потребовалось для повторного расследования всех обстоятельств. С удивительной ясностью, в подробностях, достойных эксперта-криминалиста, память вернулась к ней — цветным, профессионально озвученным фильмом. Из отсмотренного Кэтрин сделала выводы и авансом отыграла полугодовой курс психотерапии, недавно оплаченный родителями.
Сначала она вернулась в лондонские годы, на вращающийся стул в кассе Музея детства, в прижившуюся тоску, которая стала физической болью, пока ее не сделали помощником куратора. Потом появилась квартира в Волтом-стоу с маниакально жизнерадостными девицами, трусившими в полшестого утра, потряхивая блондинистыми хвостиками (а по выходным — блондинистыми гривами до плеча) на пилатес и тренажеры. Знакомство с ними дальше вежливого обмена банальностями не зашло.
Она смотрела, как стерва из издательства, специализирующегося на антиквариате, поставила крест на ее надеждах, украв идеи для двух книг. Она вновь увидела жирного, похожего на грушу коллегу, который дважды безуспешно подкатывал к ней, пока она не ушла на должность младшего партнера в аукционный дом, сняв комнату в Килберне за пятьсот фунтов и решив во что бы то ни стало прожить на оставшиеся от зарплаты три сотни.
Потом были два пропащих года в аукционном доме и тяжелый разрыв с мужчиной значительно старше ее. Она не смогла полюбить его, а он попытался задушить ее, когда она порвала с ним.
Далее последовали два года на частном телеканале «Сокровища старины» и год в условиях изоляции и злобы, исходящей от сплоченной своры шустрых девок, одетых как фанатки Кейт Мосс. Она и сейчас желала им всем сдохнуть в муках.
Когда ее воспоминания дошли до инцидента с одной из них, предводительницей этой своры, она включила быструю перемотку, минуя последовавший за инцидентом кризис, из-за которого родителям пришлось приехать и забрать ее, хотя они были в отпуске в Португалии, и полго-да на антидепрессантах в своей же детской комнате, прямо тут, в добром старом Вустере. Не поручилось сладить с собой, пришлось родителям забратъ тебя домой, в тридцатъ-то шесть лет.
Зато был Майк. Когда она вернулась домой н Вустер, он был там, словно ждал именно ее. Он удержал ее, оттащил от края пропасти, к которому она шла семимильными шагами.
Она потихоньку мирилась с перспективой стать риэлтором, но тут случайно встретила Леонарда, специалиста по игрушкам, и обрела работу мечты, став оценщиком в Литтл-Малверн. К тому времени ей стукнуло тридцать семь, и дела, казалось, пошли на лад. Она нашла себе квартиру, у нее хватало сил там жить. Она никогда не была так счастлива. Никогда.
Выкидыш. Быструю перемотку, ради всего святого.
Она прижала руки к лицу и стала медленно, ритмично стонать. Тушь двухдневной давности окрашивала ее щеки черным.
Снова одинока. Бездетна.
Она вернулась в спальню и не выходила оттуда до утра среды. Время от времени она засыпала, но каждый раз просыпалась с отвращением. К полудню она снова решила умереть, но намерение быстро стухло.
После того как она сказалась больной, пришло восемь сообщений от Леонарда. При звуках его доброго голоса она разрыдалась пуще прежнего. Старик в инвалидном кресле, с плохо сидящим париком, был ее единственным утешением… Пусть и очень слабым.
В среду днем с ней произошел случай из тех, что в последний раз имели место еще на первом курсе университета: она впала в транс. В то состояние, что начало находить на нее со дня, как исчезла Алиса Гэлловэй.
Выйдя из транса, Кэтрин поняла, что лежит на софе — в той же позе, в какой, насколько она помнила, находилась, когда была в сознании. Рот и подбородок были липкими от крови.
На противоположной стене комнаты четко проступили экран телевизора и постер «Марионетки Ренессанса» из музея Виктории и Альберта. Солнце больше не светило сквозь тюлевые занавески. Снаружи сгустились сумерки, окрасившие ее неосвещенное жилище в сине-серые тона. Звуки машины, давшей задний ход, и дальний звон тележки с мороженым сменились тишиной.
Ее кожа, натертая о ткань софы, горела, трусы на бедрах были мятыми и влажными. Кэтрин лежала без движения, пока не утихли приступы тошноты. Если она сейчас попробует встать, как пить дать упадет.
Черное небо над лугом. Пластиковый сборщик милостыни перед кондитерской лавкой. Дети, рядком стоящие на холме, над ними быстро летящие облака. Мальчик с раскрашенным деревянным лицом. Ярко-красные розы в мерцающем золотистом воздухе.
Некоторые образы меркли, когда она силилась вспомнить последние фрагменты транса. Другие сияли так, словно прошлое было вчера, они восстали из укромнейших уголков ее памяти, из тех ее схронов, где то, что она считала воспоминаниями, превращалось в сны, а то, что считала снами, — в воспоминания.
Транс случился с ней в последний раз воскресным вечером в родительской оранжерее. 15 тот день она вернулась в реальность с поникшей головой и подбородком, мокрым от крови и слюней. Тогда были летние каникулы перед вторым курсом. Ей было девятнадцать, вроде как. Так что у нее был первый транс за девятнадцать лет.
Кэтрин сидела в полном шоке, парализованная самой мыслью о том, что не просто дремала и видела сон, а была насильно втянута в его омут. Все вернулось. Снова.
Глава 15
Проволока, обтянутая темно-зеленым пластиком. Забор высокий, не перемахнешь. Проволока натянута ромбами, и она просовывает в них пальцы. Можно и руку целиком — правда, когда будешь тянуть назад, большого пальца не досчитаешься. Однажды рука застряла, она изо всех сил тянула ее на себя и в итоге содрала кожу.
Она не заметила, как в поле зрения появились дети. Они, скорей всего, просто уже были там, в заброшенной школе, над их с Алисой берлогой. Затылком она запоздало ощутила, что за ней следят, и посмотрела на то место между двумя зданиями, где трава и сорняки были ей по колено.
Некоторые из детей были меньше нее, другим было по восемь-девять лет. Постарше. Стояли группой, впереди всех — мальчишка-оборванец, а рядом с ним девочка в старой шляпе. Такая шляпа была у одной из ее кукол, у Элли, и бабуля называла ее «капор». Шляпа была похожа на тоннель вокруг тряпичного личика Элли.
Вокруг детей из спецшколы — и выше, на травянистом склоне, — воздух шел легкими волнами, как это бывает в сильную жару, когда приходится весь день сидеть в тени.
Она не запомнила их облика. В памяти остались лишь самые примечательные детали — грязные волосы мальчишки, заплаты на его костюме, ортопедические скобы на ногах; платье и причудливая шляпка девочки.
Дети из спецшколы взирали на нее с опаской, и она не менее настороженно смотрела на их темные и неровные силуэты. Если бы это была шпана из Филд-Гроув, она, даже несмотря на защищающий ее забор, со всех ног бросилась бы домой, не дожидаясь, когда ей в голову со свистом полетят камни. Но те, другие, дети, никогда не бросали камней.
Только оборванный мальчишка подошел к забору. К той его части, где зеленая проволока провисала, а у одного бетонного столба и вовсе размоталась. Точнее, где она расплела ее, звено за звеном, своими маленькими ручками, от проржавевшего низа и доверху.
А Алиса сидела и смотрела, как Кэтрин расплетает проволоку. Лучше не надо, Киффи. У нас будут, неприятности. Нам нельзя. Но еще Алиса спросила, когда снова появятся дети из спецшколы.
Как только подруга услышала о детях из спецшколы, она поверила рассказам Кэтрин. Алиса не нуждалась в доказательствах, она желала того же: бежать отсюда. У них не было других отрад, кроме совместных приключений.
Кэтрин, видя, как разматывается проволока, решила не останавливаться, — и в конце концов ее стараниями в заборе появилась дыра, в которую вполне мог протиснуться ребенок.
После исчезновения Алисы она только один раз сходила к «берлоге». В самом конце летних каникул, прежде чем ее семья переехала. Их убежище было разрушено, а забор у реки отремонтирован. И в тот день она прибежала домой в слезах и сказала, что видела Алису, чем довела маму до слез, и Кэтрин выпороли, хоть она клялась и божилась, что видела Алису на холме, что это не выдумка.
И ведь так и было. Алиса была на холме, и она сказала: «Идешь в большой дом, Киффи? С нами, Киффи? Они зовут».
Она так и не узнала, что так сильно расстроило маму, рассказ об Алисе, или то, что она снова пошла в «берлогу». Пришла полиция и мама Алисы, и Кэтрин повторила свой рассказ, и мама Алисы расстроилась даже больше, чем ее собственная. Кухня была полна плачущих женщин, а одна даже не могла встать.
И еще она не заметила, как дети оставили пластиковый мешок. Как-то раз, когда она пошла в «берлогу» одна, мешок с монетками просто лежал там. Это было незадолго до исчезновения Алисы. Кэтрин тогда испытывала радостное облегчение — наконец-то закончился школьный день! — но была еще бледной и усталой от мучений этого дня.
Полуфунтовые и десятипенсовые монетки она оставила себе, но остальные были либо слишком старые, либо иностранные. Их забрал отец, когда обнаружил в своем сарае, где она спрятала монетки. Когда ее спросили о них, она соврала. Но, ведь найденные монетки были реальными — ведь папа их тоже видел.
С самого детства ни одной такой не видел. Папа внимательно рассмотрел монетки, которые, как она точно знала, не приняли бы в киоске.
В своем трансе она четко ощущала запахи сарая — скошенная трава, смазанный металл, свежая древесина, креозот. А отец снова разговаривал с ней, как если бы она действительно перенеслась туда, в 1981-й.
А потом она оставила печенье на пластиковом подносе от своего чайного сервиза для детей из спецшколы — по их сторону забора. Поднос и печенье они забрали, но оставили металлические ложки, на вид еще более старинные, чем те, что бабуля хранила в буфете рядом с графином хереса. Кэтрин завернула старые ложки в носовой платок.
Вонючка Кэти Говард, вонючка Кэти Говард. Где твои родители? Они умерли?
И это она тоже услышала в своем трансе. И увидела трех девчонок из начальной школы, что учились классом старше. Каждый день на протяжении трех недель они поджидали ее за школьными воротами, пока мама не пришла в школу и не поговорила с учительницей про клок волос, вырванный из головы дочери.
Оборванный мальчишка подошел к забору лишь через день после того, как она случайно услышала разговор родителей о переводе ее в новую школу. Из-за издевательств. Она видела размытые силуэты приемных родителей через матовое стекло прихожей. Мама плакала.
В воскресенье она просидела в «берлоге» весь день. Холодина была такая, что она перестала чувствовать стужу. Она дрожала, смотрела через забор на пустые кирпичные домики и молила, чтобы дети вернулись. В тот день она была одна, потому что Алиса поправлялась после операции на ноге.
Отчаявшись дождаться детей, она уставилась в землю между ботинок, раздумывая, как бы вообще не ходить ни в какую школу. Она подняла взгляд, лишь когда почувствовала, что больше не одна.
Их шаги по длинной мокрой траве по ту сторону забора были совершенно бесшумными, и даже краем глаза она не уловила никакого движения. Но она посмотрела вверх и увидела, что оборванный мальчишка стоит в траве ближе к забору, чем к зданиям спецшколы. В отдалении, выстроившись ломаной линией, застыли другие дети.
Прежде она не видела никого из них так близко. Лицо мальчишки было круглым и нарисованным — или он носил маску? Его маленькое тощее тело было облачено в темный неряшливый костюм, наподобие тех, что она видела в книжке детских стишков. Все лицо — как одна сплошная улыбка. Он махал ей тонкой белой ручкой, торчащей из тесного рукава.
Белая рука, белые зубы, белая рука, белые зубы, белые глаза… В такой близости от мальчишки V нее закружилась голова. Его волосы были как густая черная швабра, как девчоночий парик. Кэтрин встала. Вдалеке девочка в странной шляпе подняла обе тонкие ручки в идущий волнами воздух.
Воспоминания вернулись за ней, захлестнули волной. Она даже смогла почувствовать запах стоячей воды из речной ложбины. Как такое вообще возможно?
В первой половине жизни ей говорили, что она всегда возвращалась из транса в реальность с открытым ртом. При этом отмечали отсутствующее выражение лица и потерянный взгляд. Все это родители рассказывали врачам, а она в это время сидела на пластиковых стульях в поликлиниках, больницах, приемных. Тогда она впервые услышала описания своих эпизодов.
Учителя в новой школе только добавляли подробностей в то, как она выглядит, когда полностью отрешается от мира. Дети в новой школе подкрадывались к ней и стояли кружком под деревом в нижней части школьного поля, дожидаясь, тогда она проснется. Она очнулась, вся в листьях, ветках и мусоре, которыми они осыпали ее голову и тело. А однажды она проснулась с мертвой улиткой за резинкой трусов.
Соседи по квартире и друзья по университету не были столь жестокими. Они думали, что она эпилептичка и подавляли желание дразнить ее — она угадывала это искушение за их полуулыбками. Она сгорала от стыда, когда они рассказывали ей, как она выглядит во время отключки.
В таком состоянии она могла просидеть на школьном собрании, кинофильме, в междугородней поездке и не помнить, что происходило, пока она гостила у фей.
Иногда у нее шла носом кровь, и люди пытались ее добудиться. Однажды вызвали скорую, и она пришла в себя возле автобуса, на носилках, завернутая в красное одеяло. В средней школе учителя все время отправляли ее домой.
Врачи пытались дать какое-то точное определение ее болезни. Врачи, которым ее показывали девочкой, утверждали, что тут всего намешано, к такому же мнению склонялись и два специалиста, к которым врачи ее направили. По их мнению, она страдала нарколепсией, кататонией и гипнотическими состояниями одновременно. Она проходила томографии, врачи с пахнущими мылом руками просвечивали ее глазное дно фонариками.
Никто даже не спросил, что, собственно, она видит, когда в отключке. Казалось, другим было куда важнее, как она выглядит.
Отключиться по команде она не могла, хотя в детстве очень хотела. После плохого дня в школе она охотно вернулась бы в любое место, куда попадала в трансе. Если бы у нее был выбор! В своих трансах она испытывала такую сильную радость, что кровь шла из носа, а тело становилось легким, опустошенным.
Трансы случались, когда она уставала, — напоминали сон с открытыми глазами. Иногда они происходили, когда она глубоко задумывалась, но только в состоянии покоя. А всего покойнее она себя чувствовала, уносясь глубоко в себя, прочь от мира.
Ближе к двадцати годам эпизоды почти прекратились. Тогда она погрязла в быту, и никакого убежища у нее не было. Беспокойство, напряжение, отчаяние — этого в изобилии, но очень мало покоя. Отчасти ее радовало, что она либо исцелилась от трансов, либо просто выросла из них. Где бы она ни оказывалась, ей было достаточно сложно вписаться и без обмороков и слюней из открытого рта. Но часть ее существа втайне сожалела, что трансы прекратились. Это было последнее, что связывало ее с Алисой. В вечном белом шуме лондонской суеты эпизоды ни разу не приходили ей на помощь. Помогало лишь одно — напиться до состояния, когда все по барабану.
Но теперь они вернулись.
Кэтрин вытерла кровь с верхней губы тыльной стороной ладони. Скоро вместе с тошнотой ушло и головокружение. Память лишь ненадолго притупила резкие приступы боли в желудке, которые ей оставил Майк. Должно быть, Майк спровоцировал рецидив, еще в такой-то близости от места, где все началось.
В четверг кто-то доставил в ее квартиру письмо не через почту. Пока она возилась со щеколдой на входной двери, этот кто-то ушел, и она безрезультатно всматривалась в улицу, на которую не выходила с прошлой пятницы. Письмо было адресовано ей, через фирму Осборна. Должно быть, его переслал ей Леонард.
На конверте из плотной льняной бумаги красовалась красная восковая печать, словно на судебной повестке XIX века.
Чувствуя свинцовую тяжесть и тупую боль, как если бы, проплакав неделю, она растянула все мышцы живота, Кэтрин открыла конверт на кухонной стойке.
Письмо было от Эдит Мэйсон. Неряшливо написанное от руки на старинной писчей бумаге, оно скорее напоминало резкое требование, нежели приглашение приступить к оценке содержимого Красного Дома завтра же, то есть в пятницу.
Ее не было в Красном Доме всего неделю, а жизнь ее порвалась в лоскуты. Она сомневалась, что даже М. Г. Мэйсон, гроза крысиного племени, сможет сшить ее заново.
Глава 16
Леонард держал ее за руки и внимательно слушал. Кэтрин ощущала его ладони, сухие ладони старика, как что-то очень легкое, почти невесомое, и ей самой становилось легче. Когда она наконец прекратила плакать и подняла взгляд на Леонарда, его серые глаза, наблюдавшие за ней, гоже были влажными.
— Вот негодяй! Нет, каков гусь. Сказал бы я ему в лицо пару ласковых! Не будь у меня этой дрянной каталки, не только бы сказал.
Кэтрин представила, как этот тощий старик в инвалидной коляске вершит ради нее некий акт благородной мести — это было бы нелепо. Она даже тихонько усмехнулась, но от собственного смеха ей стало стыдно.
— Взгляни на меня — на кого я похожа? Просто ходячее недоразумение. И еще тебя этим донимаю. Прости, Лео.
За окном офиса темнело. Кэтрин не было здесь утром, она пришла на работу позже, и за все это время рассказывала Леонарду о случившемся.
— Чушь. Не за что тебе извиняться. Я польщен и очень рад, что ты мне доверилась. Хотя я не понимаю. Он что, слепой? Врожденный идиот? Я в смысле — отвергнуть тебя? Он круглый дурак, и я хотел бы видеть, как он получит по заслугам. И я бы с превеликой радостью в этом поучаствовал! Так где он живет, говоришь, в Вустере?
— Леонард, прошу тебя. Даже не думай. Я не могу сказать, как много для меня значит, что ты просто готов выслушать меня. Я полное убожество. Но, пожалуйста, не вмешивайся в это.
— Ты не убожество. И мы не можем это так оставить. Он просто наглец! Как он повел себя? Просто омерзительно. И после этого от него ни слова?
Когда Кэтрин говорила о случившимся, Леонард не сказал ни слова, только хмурился и вздыхал. Он был на самом деле расстроен, словно так обошлись с его родной дочерью. Кэтрин видела это и очень ценила.
— Он не знает, чего хочет. А думает, что знает. Или знал. Он такой бесцельный, вялый, но при этом злится на всех. Словно все ему должны. Ведет себя как ребенок. А я влюбилась в него, как последняя дура.
— Тебе будет лучше без него, поверь мне. А он без тебя совсем загнется. Кого бы он себе не нашел, для него это дорога в никуда. Я поражаюсь твоему усердию, как ты старалась вытащить его из этой трясины. Ты сильная, а он слабый человек. И наверняка нашел себе такую же, как он, безвольную. Ты ее знаешь?
— Нет, даже не видела.
— Уверен, там не на что смотреть. Она с тобой не сравнится. Ему будет мучительно больно от того, что он сделал, но будет уже поздно.
Кэтрин кивнула.
— Похоже, я побуждаю это в людях…
Она вздрогнула. Сокровенные мысли, высказаные вслух, обернулись подлинным стыдом.
— Возможно, это и должно было произойти.
— Не говори ерунды. Ты красивая и одаренная молодая женщина. Успешная. Знаешь, за долгие годы своей практики я безошибочно научился отличать по-настоящему ценное от дешевки. В тебе есть качества, которые редко сыщешь, просто некоторым до тебя очень далеко.
Кэтрин посмотрела на него. Взгляд Леонарда затуманился, он смотрел мимо нее, куда-то вдаль.
— Мы оба этого натерпелись. Обиды, издевательства… С такими, как мы, это было и будет во все времена. — Леонард прокашлялся.
Теперь Кэтрин чувствовала себя не только дурой, но еще и эгоисткой. Ведь перед ней человек в инвалидном кресле, он прикован к нему с рождения. При этом он добился успехов, конечно, ему не могло быть легко. Возможно, именно поэтому он работает в сегменте «не для всех», среди чудаков и изгоев, порой неприятных, но все же чем-то близких ему. И… знал ли он когда-нибудь любовь?
— Единственное, что может нам помочь, — тихо, почти шепотом проговорил он, — это найти других. Тех, кто отличается от обычных людей. Ведь мы с тобой не от мира сего, правда же? Поэтому нам нужны другие. — Он повернулся к ней с улыбкой. — Такие же, как мы, девочка моя. Хочешь не хочешь, но мы прикованы друг другу. И никуда нам друг от друга не деться.
— Парочка фриков.
— Пусть так. Ну и ладно. Давай лучше поговорим об ужине, который я тебе задолжал.
— О чем ты, Лео? Я угощаю. Это меньшее, чем я могу отплатить за твое терпение.
— Да брось ты. И еще я думаю, что лучше отложить твою поездку в Красный Дом. Я не уверен, что общение с Эдит пойдет тебе на пользу после всего, что случилось.
— Нет. Я хочу поехать. Ради нас. Ради нашего дела. Это уникальный шанс. Я не позволю ему сделать меня слабой.
Глава 17
— Вы выглядите очень бледной. На вас лица I ют. Что с вами произошло? — спокойно и властно спрашивала Эдит. Кэтрин медленно катила кресло по служебному коридору. Сегодня хозяйка дома выглядела эффектнее, чем в прошлый раз, на ней были твидовая юбка и жакет, отделанный кожей. Сама по себе одежда выглядела удивительно стильно, но на пожилой даме производила впечатление запущенного секонд-хенда. Тощие руки Эдит сегодня были сокрыты в пушистой муфте.
— Все в порядке, не стоит…
— Если ваши проблемы не имеют отношения к Красному Дому, держите их при себе, проявите уважение к этому месту. Вы сами хотели сюда вернуться, я только проявляю гостеприимство, не более. Если бы вы в прошлый раз покинули это место в таком же настроении, в каком пребываете сегодня, я бы начала сомневаться насчет вас.
Кэтрин поняла, что лучше молча проглотить это. Да и что она могла сказать этой женщине, столь непреклонной и самолюбивой? Рядом с ней Кэтрин чувствовала себя ребенком, который уже успел провиниться и теперь эгоистично пользуется расположением этой пожилой дамы. Такую гостью можно приглашать, тут же оскорблять и, наверное, выгонять. И не дай Бог она попробует заявить о себе.
Зачем я сюда пришла? Сегодня утром, чтобы просто привести себя в порядок и покинуть свой дом, Кэтрин потребовались огромные усилия, и ради чего? Она задавалась этим вопросом снова и снова. Чтобы доказать Майку, что он не способен выбить ее из колеи? А может, ей просто некуда больше идти? Она знает свои должностные обязанности и выполняет их, она все та же прежняя Кэтрин.
Почему бы просто не сидеть на каминной полке тихо и спокойно, стать как это чучело крысы?
Кэтрин старалась взять себя в руки — все эти дурацкие мысли придавали ее лицу, и без того горестному, то самое выражение. Она прекрасно понимала, что Эдит не нужно видеть ее такой. А еще в этом доме нельзя носить макияж, но Кэтрин про это не забыла.
— Остановитесь здесь. — Эдит повернулась в коляске и посмотрела на стену холла. — Это было сделано в саду.
Кэтрин пришлось встать на цыпочки и внимательно приглядеться, свет здесь был приглушен. Она увидела старинную фотографию жен-щины в длинном платье.
— Семья, мисс Говард. Семья — это самое главное. Никакая карьера не сможет заменить <<•, никто в мире не даст вам больше, чем родные. Я уверена, что вы понимаете, о чем я.
— Простите?
— Моя мать, Виолетта Мэйсон, она свое-го рода гений. Знаете почему? Могу пояснить. У нее хватило дальновидности и веры в свою семью, чтобы отдать ей все свои силы и помочь брату воплотить его видения. Виолетта Мэйсон создала все фоны и передние планы его диорамам. Она также была его швеей, костюмером и декоратором. И так было на протяжении всей жизни ее брата. Знайте, мисс Говард, что не может быть ничего постыдного в беззаветном служении чему-то великому. Это честь для человека, который сам по себе не способен на такие свершения.
Женщина на фотографии выглядела не слишком привлекательно, это бросалось в глаза даже в полумраке холла. Ее лицо, прикрытое узорной вуалью и широкими полями шляпки Ватто, выражало какие-то затаенные недоверие и неприязнь. Шляпка, украшенная темными розами, и прическа в стиле «помпадур» акцентировали внимание на мрачном лице Виолетты Мэйсон; трудно было представить, как эта женщина могла улыбаться. Тонкие губы и глубоко посаженные глаза не делали ее некрасивой, но добавляли какой-то мрачной непривлекательности. Смореть на женщину было неприятно, даже при таком плохом освещении. Блуза с высоким вырезом словно окаймляла это очень характерное и выразительное лицо, казалось, оно было отмечено печатью тьмы. На заднем плане виднелись густая листва деревьев и далекое поле, но все это было несущественно рядом с Виолеттой Мэйсон.
— Фамильное сходство, без всякого сомнения, мисс Мэйсон.
— Взгляните еще, здесь она с моим дядей.
Кэтрин повела коляску вперед. Матовый эффект для проявки фотографий и мрачные тона постановочного официального портрета не смогли скрыть чудовищной травмы головы М. Г. Мэйсона, полученной на фронте. Лицо было обращено от объектива, но этим не удалось утаить отсутствие целого участка лба. Не было ничего удивительного, что этот человек старался скрыться ото всех. Другая половина его лица осталась целой и позволяла представить, как выглядел М. Г. Мэйсон до того, как получил это страшное увечье. Это был, без сомнения, красивый человек, он имел лицо настоящего хозяина, гордое, с густыми бровями и усами.
На фотографии он восседал на внушительном деревянном кресле с высокой спинкой и декоративно отделанными подлокотниками. Рядом с ним стояла его сестра. На ней снова были пятнистая вуаль и немного вычурная широкополая шляпка. Взгляд ее, который на прошлой фотографии смотрелся неодобрительно, сейчас казался просто злобным. И причиной такого вида не могли быть естественная мрачность фотографии и освещения. Кэтрин подумала, что вуаль была своего рода защитой от того, что мог увидеть человек, взглянув в глаза Виолетты Мэйсон напрямую. Талия этой женщины, очевидно стянутая корсетом, поражала тонкостью. Складки белого атласа образовывали корсаж блузки и заканчивались на талии, стянутой поясом. Длинная юбка с расшитым подолом доходила до крошечных ступней, обутых в остроносые туфли. Интересно, что брат и сестра были в белых лайковых перчатках.
Рисованный фон за двумя фигурами клубился, как грозовые облака, и казалось, что все материальное и осязаемое растворилось в этом бурлении. Кэтрин никогда не видела ничего подобного на фотографиях периода 1920-х или даже 1930-х годов, хотя здесь присутствовали элементы поздне-викторианского стиля. Как правило, семейные портреты того времени, которые ей встречались, были сделаны на фоне писанных английских садов или итальянских пейзажей. Чем можно было объяснить выбор фона на этой фотографии, Кэтрин не знала и не хотела думать об этом. Но она заметила, что на заднике есть крошечные яркие точки, похожие на звезды. А может быть, это просто пятна на фотобумаге.
Перед тем как проследовать в неосвещенный коридор первого этажа, ведущий в комнаты с диорамами Мэйсона, они прошли мимо других фотографий. Эдит не стала привлекать к ним внимание. Но Кэтрин успела мельком взглянуть на них. На одной из них она приметила две высокие фигуры в черном на светлом фоне, окруженные… Группой детей?
— Остановитесь здесь! — скомандовала Эдит со своего кресла в едва освещенном проходе. — По-моему, нам сюда. Да, именно сюда, я абсолютно уверена. Теперь, будьте любезны. Не заперто.
Глава 18
Тонкая чайная чашка постукивала о блюдце, которое Кэтрин оставила прямо на коленях. Они пили чай в гостиной, и Эдит со своего кресла то ни с гордостью, то ли с удовольствием наблюдала за тем, как нервничает Кэтрин — ее руки дрожали.
— Скажите мне, мисс Говард, вы ведь специалист, какой смысл может быть в искусстве, если оно не трогает и не тревожит зрителя? — спросила Эдит, неприятно улыбаясь.
Верный старик Горацио, как и раньше, смотрел на Кэтрин влажным, сочувствующим взглядом. Другие обитатели этого могильно тихого зверинца бесстрастно ждали на своих местах, что скажет гостья обо всем этом.
— Это… это нечто фантастическое.
Эдит медленно кивнула.
— Все так.
И, безусловно, это слово точно описывало то, что Кэтрин наблюдала сейчас в двух комнатах на первом этаже, отведенных для хранения ранних работ М. Г. Мэйсона. Кэтрин полагала, что она сейчас увидела по меньшей мере тысячу «очеловеченных» набитых крыс, наделенных людскими чертами и одеждой вплоть до мельчайших деталей военной формы, мимики и поз. Одна из диорам представляла собой настоящий триумф смерти. Ничья земля, усеянная кратерами взрывов, разрушенными траншеями, почерневшими пнями и крысами. «Дважды» мертвыми крысами, умерщвленными, а затем погибшими на этом поле боя. Зверьки были так похожи на маленьких мертвых людей в грязном хаки, что Кэтрин наклонилась над самым стеклом витрины, чтобы убедиться, что это и в самом деле крысы. Хвостов у них не было. Некоторые представляли собой лишь кости, покрытые безволосой серой кожей.
Вторая диорама настолько сильно впечатлила Кэтрин, что ей на мгновение показалось, будто она слышит треск винтовок, грохот артиллерии и приглушенные шлепки снарядов, взрывающихся в мокрой грязи. Здесь зритель видел длинную шеренгу усталых людей — да нет же, крыс! — уходящих из траншеи в пятнистый горизонт, окутанный белым дымом. Она называлась «Десять солдат, вставших по сигналу побудки». Эдит дала всего один комментарий, сказав, что ее дядя видел, как менее чем за шесть минут из трехсот солдат в строю осталось десять живых.
Кэтрин едва могла пить чай, она терзалась вопросом: а хватит ли у нее сил часами сидеть одной в этих темных комнатах, описывая содержимое каждого квадратного дюйма в каждой витрине и при этом не сойти с ума. Неудивительно, что их прячут в темноте.
В то утро еще до прихода Кэтрин двери в нужные комнаты на первом этаже были отперты, а ставни на окнах открыты. Должно быть, Мод побеспокоилась. А ведь с самого приезда Кэтрин Мод лишь раз взглянула на нее, и в этом взгляде не было ни проблеска тревоги или удивления при виде возвращения нежеланной гостьи. Несмотря на записку, домоправительница осталась такой же молчаливой и недружелюбной, как всегда. Потому что она сумасшедшая. И Эдит сумасшедшая. Мэйсон и его жуткая сестра тоже были сумасшедшими. Они все психи. Живут с тысячами мертвых крыс.
Кажется, Мод травмировала ногу. Надо думать, это случилось уже после первого визита Кэтрин. Теперь она носила только один ботинок, и ее хромота стала еще заметнее, поскольку вторая нога была вся замотана эластичным бинтом. Не стоит ей много работать по дому в таком состоянии. Естественно, спрашивать саму Мод о случившемся не стоило, кто знает, как забота и человеческое участие воспринимаются в Красном Доме. Эдит, казалось, вообще не заметила, что Мод повредила ногу, и повелевала домоправительницей, как рабыней.
— Вам необходимо понимать, мисс Говард, что мои мать и дядя были приверженцами Викторианских традиций. Они верили, что у животных есть души, а это значит, что звери могут быть добрыми и злыми. Викторианцы были очень увлечены изучением истинной природы животных. Именно поэтому они старались изображать животных за человеческими занятиями, подверженными человеческим радостям, горестям и страстям. — Эдит посмотрела на рыжих белок, замерших в веселой игре на крышке рояля, и улыбнулась.
А ведь крысы очень похожи на людей. Такие же вредители, разносчики заразы. Они готовы на все, чтобы выжить в любых условиях, они будут прогрызать свой путь и съедать сородичей, если придется.
— Думаю, вы все понимаете правильно, мисс Говард. Так, как бы мне хотелось. — Эдит улыбнулась, как будто соглашаясь с мыслями Кэтрин, прозвучавшими столь же реально, как колокольчик в руках старухи. — Но сейчас мне пора отдыхать. А значит, и прощаться с вами. Когда будете покидать свой дом в понедельник, не берите слишком много вещей. В этом доме не должно быть много чужих вещей, все здесь обустроено в особом порядке. Просто возьмите гигиенические принадлежности. Все прочее, что может вам пригодиться, у нас имеется.
— Прошу прощения?
— Пока вы трудитесь, готовясь явить миру наши сокровища, вы будете жить наверху, со мной.
У Кэтрин перехватило дыхание и она едва не вскрикнула от ужаса при мысли, что ей придется провести здесь ночь. Все трудности общения, которые она испытывает в Красном Доме, возрастут до невыносимых размеров, если она останется здесь надолго, и кто знает, к чему это может привести.
— Это слишком большая честь для меня…
— Чушь! — Эдит еще не выражалась так резко, и Кэтрин вздрогнула от неожиданности. Ее чай немного пролился на юбку.
— Глупо тратить время на дорогу. Это не предложение. Мод подготовила вам комнату.
Кэтрин прокашлялась.
— Что ж, я могу только поблагодарить…
— Но и вам следует проявить к нам снисхождение. Мы, знаете ли, мисс Говард, совсем не привыкли к гостям.
Перспектива пробыть в Красном Доме дольше нескольких часов повергла Кэтрин в шок. Она никак не могла собраться с мыслями, в голове стоял настоящий гул ужаса. Кэтрин почувствовала себя куклой, полностью зависимой от жестокой и капризной воли гадкой маленькой девчонки.
Глава 19
Кэтрин пришлось три часа прождать в отцовской машине, чтобы увидеть их вместе.
Майк открыл низкие железные ворота, за которыми начиналась дорожка к частному дому. Он снимал его вместе с двумя вустерскими учителями-стажерами. Майк остановился и окинул взглядом улицу, украдкой, чтобы женщина, стоящая рядом с ним, не заметила этого. Он боится хоть немного встревожить ее. Так заботится о ней, о той, на которую он меня променял. Как будто Майк предчувствовал, что Кэтрин будет шпионить за ним, хоть это и нелепо. Конечно, он ожидал от нее такого, ведь он знал, до чего Кэтрин могла быть упорна. И даже фанатична.
Кэтрин припарковалась вплотную к обочине, но подальше от дома, чтобы Майк не смог увидеть ее, возвращаясь домой, или же, напротив, выходя. Вообще он обычно подходил к дому со стороны магазинов на Сент-Джонс-Вуд. На ее памяти он делал так всегда, поэтому Кэтрин не боялась, что Майк ее заметит, когда вернется домой. Если он не останется ночевать у нее. Для лучшей конспирации она даже взяла на время машину у отца. Ведь ее красный «Мини» Майк заметил бы издалека и сразу бы понял, в каком жалком и постыдном состоянии оказалась перед ним его бывшая.
Да, она здесь и шпионит за ним. Почему? Катрин не давало покоя только одно — с самого момента их публичного разрыва отношений в ресторане, Майк так и не попытался связаться с ней. Ни одним из доступных способов. Это могло быть простое сообщение на телефон или длинное проникновенное письмо на электронную почту, а может, и бумажное в конверте. Были бы там неискренние извинения или какая-то оскорбительная банальность в виде объяснения причин или пожелания «остаться друзьями», а может, только пару слов ни о чем — не важно. Важно, что ничего, призванного хоть как-то облегчить страдания, Кэтрин не получила.
Сама-то она легко могла бы придумать множество причин, почему ее бросили. Даже слишком легко. А ведь Майк был с ней довольно долго, и за это время между ними было нечто по-настоящему прекрасное и романтическое. Неужели воспоминания об этом ничего не стоят, раз он так жестоко обходится с ней? А может, никогда не случалось в их отношениях ничего волшебного и Кэтрин всегда была невыносима? Прежде чем уехать на несколько дней в Красный Дом, она должна была точно узнать правду, истинную причину, по которой он ее бросил. И вот Кэтрин увидела ее.
Она поняла, почему Майк ушел именно так, ничего не раскрыв и не вдаваясь в объяснения. Причина была, но, назвав ее, пришлось бы объяснить, как он встретил эту женщину, а главное, чем она лучше Кэтрин. Но вряд ли его молчание можно счесть за благородство.
Скорее Майк просто испугался этих объяснений, струсил и убежал, подобрав хвост. Теперь Кэтрин осознала это. Он боялся ее как чумы. И, конечно же, он в такой момент хотел увидеть именно ту, другую, женщину, он ощущал настоящую потребность в ней.
Кэтрин никогда бы не подумала, что Майк способен на такую жестокость. Но оказалось, что способен.
Кэтрин сразу же вспомнила об инциденте на телевидении. Между прочим, это событие было одним из очень немногих в ее профессиональной жизни, которые дали ей реальное удовлетворение. Хотя то, что она сделала, противоречило ее природе, ведь она всегда направляла агрессию на саму себя, а не на других. Но у каждого есть свой предел.
События, чувства и мысли, которые привели ее к инциденту, она снова и снова обсуждала в течение полугодового курса психотерапии. Это событие являлось первым актом насилия, совершенным Кэтрин по отношению к другому человеку. Она не раз признавала, что сразу после инцидента испытала глубочайшее спокойствие. Пусть лишь на несколько часов, но она смогла вырваться из бесконечной череды страхов и озлобленности. Ей просто стало на нес плевать. Тогда прошлое, будущее, возможные последствия ее поступка, и то, как она сейчас выглядит в глазах окружающих, больше не имели для Кэтрин никакого значения. Когда ина в тот момент впервые в жизни пролила чужую кровь и спустя некоторое время отошла от шока, то почувствовала огромное облегчение. Кэтрин благодарила судьбу, что нет пути назад, она совершила что-то настолько необратимое и из ряда вон выходящее, что этим подвела черту целого этапа своей жизни в Лондоне, ведь теперь и сам город был закрыт для нее навсегда. Кэтрин обрела свободу.
Ей никогда не хотелось повторить то, что она сделала с ней. Дело было не в том, что она нашла новый способ бороться со своими тревогами, ничего подобного. Кэтрин определила для себя, что самой главной причиной инцидент стало ее воспитание, а именно убеждение в том, что справедливость должна быть главным руководящим принципом для нее и для всех. И в тот момент она ощутила, что справедливость восторжествовала, пусть и совсем ненадолго. Вероятно, это чувство и стало причиной ее душевного удовлетворения.
Единственный человек, которому она призналась в этом, был ее последний психотерапевт. Она спрашивала его: как часто в жизни кто-то из нас может испытать счастье, но не мгновенное, а длительное, которое было бы явным, как убеждение в чем-то или вера во что-то?
Она и сейчас не испытывала ни раскаянья, ни чувства вины по поводу произошедшего. Единственное, что по-прежнему беспокоило Кэтрин — иногда в ее сердце закрадывалось сожаление, что она не смогла довести дело до конца и убить ее. Это пугало Кэтрин, ведь рассудком она понимала, насколько это неправильно.
Ее. У этой женщины было имя. Имя, которое Кэтрин не произносила вслух, хотя оно часто звучало в ее голове, причиняя боль. Поэтому Кэтрин и ее психотерапевт договорились, что будут использовать местоимение. Но в реальности она была женщиной по имени Тара Вудвард.
Оказалось, что Кэтрин недооценила Тару.
Кэтрин всегда считала, что Тара не стала выдвигать обвинения, поскольку не хотела, чтобы ее имя связывали с такими неизящными вещами, как полицейские протоколы, явки в суд и позиция потерпевшей. Все это могло бы сильно повлиять на ее статус и репутацию в обществе, но не так, как ей бы хотелось. Она просто дискредитировала бы себя этим.
Допустим, Тара потащила бы Кэтрин в суд. В таком случае Кэтрин имела бы право на свою защиту и на рассмотрение ее действий в качестве самообороны. А это значит, что суд присяжных начал бы подробно изучать поведение Тары на работе с учетом мнений ее коллег и подчиненных. И все это перед лицом ее работодателей, семьи и прессы. Безусловно, инцидент попал бы в заголовки: безгрешная сотрудница, ранее не судимая, была вынуждена прибегнуть к насилию, чтобы защититься от злобствующей начальницы. Угнетательница является исполительным продюсером телеканала «Сокровища старины».
Если бы суд признал Кэтрин виновной (так, вероятно, и случилось бы), то в жизни самой Тары все равно необратимо появилась бы черная метка. И в ее характеристиках от работодателей читалось бы некоторое сомнение, некоторое «но». Косые взгляды и подозрения начали бы приследовать Тару на всех ступеньках ее карьерной лестницы. Тихие слухи ползли бы по офисам, лестничным клеткам и медиа-пабам всякий раз, когда Тара пробовала бы заявить о себе, учитывая, что она славилась своевольностью и даже наглостью. Эта черта присуща всем людям ее типа, какую бы должность они ни занимали.
Судя по всему, у Тары просто не было выбора. Стремление добиться своего, даже если придется наступить кому-то на горло, унизить, оскорбить — все это характеризовало Тару в той же степени, как и облегающие джинсы в сочетании с туфлями на шпильках, асимметричный пошив дизайнерских костюмов, «Мальборо-лайт», деланый манерный голосок «девушки из высшего общества» и длинная челка, из-под которой выглядывали маленькие глаза. И эти холодные голубые глазки все время выискивали слабость, сомнения, нерешительность главных своих жертв. Это стремление было присуще Таре задолго до того, как ей попалась Кэтрин. Возможно, оно сформировалось в частной школе или еще раньше. Таре всегда нужна была подходящая жертва, и однажды ею стала Кэтрин.
Уже через несколько минут после инцидента Кэтрин уволили и силой выдворили из помещения, где располагалась телестудия, а Тара взяла на себя все проекты, которые вела Кэтрин, а заодно ее контакты и идеи. Точнее, те, которые не присвоила раньше. В общем, стратегия Тары в конечном итоге принесла желанные плоды, хоть и несколько неожиданным для нее образом.
После их столкновения в женском туалете Тара умудрилась минимизировать ущерб почти моментально. Для любой другой женщины оправиться от подобного было бы нелегко, как мегаполису от смертоносного наводнения. Тара откинула мокрые волосы и вытерла со лба кровь вперемешку с мыльной водой. Кровь была точь в точь как цвет ее ногтей. Она секунду посмотрела на свои руки, затем на плещущийся в воде освежитель, слетевший с ободка. Видимо, в тот момент она осознала, что, помимо всего прочего, Кэтрин хорошенько смыла ей макияж. Нетрудно представить, что чувствовала Тара, когда воздух начал снова поступать в ее легкие. Кровь била в виски, грудь мощно вздымалась, но она оставалась сконцентрированной, и в ее рептильном мозгу шла бешеная работа: как надо реагировать, точнее, как извлечь из инцидента максимальную выгоду.
Мокрая, как мышь, от пота и воды, она сидела на полу возле унитаза в одной туфле — вторая слетела с ее длинной ноги — и звонила боссу со своего айфона. Его кабинет располагался всего в двадцати футах от офисных туалетов. И тогда Тара негромко, почти интимно проговорила: Джереми, тебе надо подойти к женскому туалету НЕМЕДЛЕННО, произошел ИНЦИДЕНТ.
Кэтрин следовало бы понимать, что Тара еще появится в ее жизни. Никакой полиции не было. Бывшей сотруднице просто сунули в разбитую руку полиэтиленовый пакет с ее офисными пожитками, когда та уже стояла перед дверями «Сокровищ старины». Кэтрин не поняла в тот момент и даже позже, что то, что ее не арестовали, было знаком. Сигналом, что это дело стало по-настоящему личным для Тары Вудвард, и их отношения вышли на новый уровень. На тот, который Кэтрин увидела сейчас.
И вот старая знакомая вернулась в ее жизнь. Без малого два года Тара ждала этой возможности. Какое колоссальное терпение. Должно быть, Тара отследила ее, когда Кэтрин вернулась и антикварный бизнес.
Но как она узнала про Майка? Как? Фейсбук! Кэтрин Говард «встречается» с Майком Тернером. Тара, должно быть, втерлась к ней в друзья под псевдонимом или подружилась с Майком, или Фейсбук, как всегда, не сохранил настройки конфиденциальности, и тогда Тара нашла Майка. Или Тара знала кого-то в Вустере и распустила щупальца. В общем, как бы то ни было, Тара нашла способ встретиться с Майком и соблазнить его. Высокая, уверенная в себе, горячая цыпа из Западного Лондона — такая разит наповал. Майк был легкой мишенью.
Кэтрин стало совсем холодно, отчасти от страха и изумления. Ты думала, что сошла с ума, но по сравнению с этой сучкой…
И Тара не боялась Кэтрин. Она пошла по этой узкой тропинке и буквально вторглась в жизнь Майка. Она была готова забраться в провинциальную трущобу к неудачнику, несостоявшемуся фотографу, ради утоления жажды мести. Пара недель в Вустере и Патни-Бридж, а потом Тара навсегда исчезнет для Майка. И Кэтрин тоже, потому что такой обман не прощают. Майк не имел значения, он был лишь пешкой, которую сшибает в мстительном ходе жестокая королева.
Теперь пришел черед Кэтрин сидеть на полу туалета с разбитой и вымоченной физиономией. В метафорическом смысле, конечно.
Взволнованный Майк, с едой навынос, вином и DVD-плеером в руках прошмыгнул за ней в дом, как крыса, учуявшая падаль. Домашняя вечеринка на двоих.
Глава 20
Вонючка Кэти Говард! Уродина! Tы нашла своих маму и папу?
Дети в новой школе, видимо, могли читать ее мысли. Так они узнали, как дразнили Кэтрин в прежней школе.
В тот день на игровой площадке от непрекращающегося унижения ей затуманило глаза. Она отвернулась, пряча лицо от толпы, но дети лезли к ней отовсюду, куда бы она ни посмотрела. У детей были красные дикие глаза. И у всех открыты рты. Такими бешеными она их никогда не видела.
Но тут же она увидела вдалеке кое-что еще. За раскрашенным металлическим забором, огораживающим площадку, стоял тот самый мальчик-инвалид в оборванной одежде. Когда маленькая Кэтрин заметила его, он поднял руку в волнистый воздух над головой.
Скакалка хлестнула ей по ляжкам, и от жгучей боли у маленькой Кэтрин искры из глаз посыпались. Скакалка обвилась вокруг ног и ударила под коленку. Она вскрикнула и упала на шершавый асфальт. Ей казалось, что натужный смех детей высосал весь воздух, и она больше не сможет дышать.
Воспаленными, полными слез глазами она видела размытые силуэты нападавших на нее девочек. Одна из них подняла руку, словно собиралась огреть хлыстом лошадь. Кэтрин испугалась деревянной ручки скакалки, прикрыла руками голову и плотно закрыла глаза. Но удара она не почувствовала.
Вдруг на площадке наступила полная тишина. Оставаясь в темноте своих ладоней, Кэтрин не слышала ни голосов, ни топота маленьких ног. Замолкли птицы, а ведь они были далеко отсюда, в лесополосе за бетонными оградами, куда Кэтрин однажды выгнали дети — она чуть не потеряла сознание от ужаса.
Когда она открыла глаза, то увидела спины детей, стоящих рядом с ней, их мятые синие пиджачки и клетчатые платья. Все они — даже те, кто стояли дальше, смотрели перед собой, не шелохнувшись, словно сама директриса только что вошла на площадку. Кэтрин вдруг увидела, что у многих детей пошла кровь из носа, но они не замечали этого.
Вдали, возле окон учительской, единственная среди общего остолбенения двигалась мисс Кван. Но шла она так странно, Кэтрин не могла понять, почему никто из детей даже не взглянет на учительницу, когда она дергает головой вверх-вниз, хватает воздух, как рыба, и выдирает заколки из волос костлявыми пальцами. Железный колокольчик, возвещающий конец обеденного перерыва, прерывисто бренчал в ее дерганой руке.
Вдруг Кэтрин услышала музыку. Это, без сомнения, были «Зеленые рукава»[8]. Звуки доносились из фургончика с мороженым, ржавый динамик приглушал мелодию, делая ее более низкой. Вместе с музыкой, едва касаясь детских ног, закружилась палая листва.
Никто из детей не обратил внимания ни на неблагозвучную мелодию, ни на этот фургончик, который припарковался прямо за главными воротами. Кэтрин поднялась с грязного асфальта и осмотрелась. За забором уже не было ни мальчика, ни фургона — как будто она все пропустила. Но, присмотревшись, она увидела, что ребенок теперь стоит прямо здесь, на площадке, на отчерченном мелом поле для игры в классики.
Теперь все дети уставились на оборванца. Он стоял слишком близко к ним, слышно было, как ветер треплет лохмотья его одежды. Широко раскрыв молочно-белые глаза, он скалился на них своими маленькими серыми зубами, за которыми чернел угольный рот. У него было ненастоящее лицо — просто нарисованное на круглой деревянной голове. Эту голову накрывал неряшливый черный парик, съехавший набок.
Вокруг поднялась настоящая паника. Перед глазами Кэтрин бешено мелькали белые носки, серые шорты, пиджачки, плиссированные юбки, коричневые ботинки. Она не чувствовала страха, но от громких детских воплей она зажала уши и зажмурилась. Когда Кэтрин все-таки открыла глаза, кукольный мальчишка уже исчез. В воздухе носились листья и пыль, детские крики слились в единый звон ужаса.
Переполох прекратился также внезапно, как начался. Прекратился в тот момент, когда Кэтрин снова поднялась на ноги. Она ощущала, что вся промокла насквозь, до трусиков, и очень замерзла. Ноги ее все еще горели от хлестких ударов скакалки.
Она увидела детей вдалеке, они бежали на другую площадку. Кэтрин не понимала, почему они убегают, ведь мальчишка и фургончик уже исчезли. Дети кричали, как стая голодных чаек, их тоненькие визгливые голоса эхом отражались от кирпича и бетона. Возможно, кукольный мальчик был среди них. Кэтрин представила, как он бежит, перебирая тощими ножками в шерстяных брюках, слишком коротких для него, ножками, поддерживаемыми черными металлическими скобами, привинченными к высоким ботинкам. А может быть, он все еще пугал их, выпучив мутно-белые глаза, горящие каким-то злобным восторгом.
Из школы вышла группка учителей с сигаретами и кофейными кружками в руках. Две женщины опустились на колени возле мисс Кван, лежавшей на боку. Другие учителя смотрели через площадку на Кэтрин, но тут одна из них взяла колокольчик и принялась звонить, быстро и громко, при этом направляясь к Кэтрин.
Когда Кэтрин очнулась от транса, она увидела, что лежит на полу в собственной гостиной. Рядом с ней валялась бутылка водки с лимонадом, пролившаяся на ковер. Кэтрин почувствовала, что ее лицо приклеилось к ламинату на пошедшую носом кровь. Ее вот-вот могло стошнить, она со страхом понимала, что до ванны может просто не дойти. Глаза опухли от сухости и саднили, словно в них залили морской воды. Щеки были перемазаны слюной, во рту горело. Она вся вспотела, даже белье было мокрым.
Привстав на четвереньки, она ждала, когда сфокусируется зрение. С ужасом пришло воспоминание о том, что она видела Майка с Тарой ранним вечером, до того, как транс поглотил ее. А ведь еще ей предстоит погостить в Красном Доме. От мыслей об этом Кэтрин почувствовала себя полностью раздавленной.
На улице уже стемнело, шторы в гостиной были раздернуты. Кэтрин не слышала шелеста машин по асфальту, только где-то открылась металлическая дверь грузовика. А еще собака простучала когтями мимо ее окна и звякнула цепочка поводка. Вдали прокатилась и тут же стихла мелодия фургончика с мороженым.
Глава 21
Уже минут двадцать прошло с того, как Мод закрыла дверь спальни и ее шаги в коридоре стихли, а Кэтрин все еще не могла отойти от изумления. Комната, в которую она попала, ничуть не изменилась с самого начала XX века, и здесь было на что посмотреть.
Ее кровать, односпальная, с латунным каркасом, была застелена кружевным покрывалом и декоративными подушками, явно сделанными вручную, притом лет сто назад. В нише рядом с окном и туалетным столиком стоял огромный умывальник, украшенный сложным орнаментом. Там же находились расшитое полотенце, мыльница и кувшин с водой. Что-то похожее Кэтрин доводилось видеть только в старых каталогах изделий художественной ковки, которые она листала в музейных архивах.
Помимо этого, в комнате был узкий гардероб красного дерева с декоративными перламутровыми вставками по обе стороны длинного вертикального зеркала. Письменный стол и стул, выполненные очень элегантно, располагались справа от туалетного столика. Каминная решетка вычищена, пыли или следов грязи Кэтрин не смогла обнаружить. Лакированный пол почти полностью был закрыт красно-зелеными коврами ручной работы. Под каймой стеганого покрывала обнаружился настоящий ночной горшок, что заставило Кэтрин засомневаться, есть ли в этом доме привычные для современного человека туалеты. Все это даже показалось ей немного смешным. Красный Дом — золотая жила.
Она сделала несколько фотографий на телефон, и ей ужасно захотелось отправить их Леонарду. Но уровень сигнала на телефоне отображался красным крестиком — связь пропала еще на подъезде к Магбар-Вуд. А значит, в Интернет отсюда не выйти. Ощутив себя отрезанной от мира, Кэтрин начала испытывать тревогу, ведь именно сейчас ей как никогда необходима была возможность позвонить близким людям в случае чего. Она словно вышла в открытое море на маленькой озерной яхте — а небо пророчит ей бурю.
Ее комната находилась на третьем этаже в задней части дома. Это полностью соответствовало известным ей порядкам, принятым у зажиточных викторианцев. Хозяева и гости спали на третьем этаже Красного Дома, второй предназначался для всяческих увеселений, а первый использовался для хозяйственных нужд.
Такое следование традициям старины ничуть не показалось Кэтрин очаровательным. Ведь оно означает, что в доме существует система строгих правил, с которыми она вполне может попасть впросак. Возможно, что любая ситуация, которая возникнет между Кэтрин и хозяевами, будет опутана бесконечно сложной паутиной процедур, традиций и норм поведения. Повсюду, словно капканы, таились прегрешения и унизительные оплошности. Несоблюдение малейших нюансов неписаных — и неведомых Кэтрин — правил поведения гостя было чревато вспышками гнева или долгим молчанием. И где-то там, на этом же этаже, в длинных, темных коридорах, среди обшитых деревом стен, бордовых штор и запертых дубовых дверей находилась комната Эдит Мэйсон. Сама мысль о том, что хозяйка дома так близко, вынуждала Кэтрин чувствовать себя под пристальным наблюдением. Теперь, когда она оказалась в своей комнате, не было ни малейшего желания выходить наружу.
Чтобы отвлечься от этих мыслей, она начала разбирать дорожную сумку, установила на столе цифровую камеру и ноутбук. Начать опись и составление каталога можно было прямо здесь, атмосфера этого места располагает к такой работе. В какой-то момент ей нужно будет пригласить профессионального фотографа, чтобы тот смог представить дом во всей красе. Пусть люди будут ошарашены тем, что увидят в аукционном буклете. Комнаты, не тронутые с момента смерти М. Г. Мэйсона, их обстановка и мебель, изысканные детали того времени, экспонаты… Это будет выглядеть как программа большой международной выставки. Красному Дому не нужен оценщик, ему нужен музейный хранитель. Как такое вообщe возможно? Как возможен такой дом?
А ведь еще были марионетки М. Г. Мэйсона, которые Эдит хотела показать ей во второй половине дня, или, как она выразилась, «представить им вас». Если Мэйсон сумел обмануть ее чучелом собаки, трудно представить, с каким мастерством он изготовил своих марионеток. По словам Эдит, в этих работах его видение обрело свое окончательное воплощение. Они создавались не для публики и, похоже, никогда не становились объектом наблюдения случайного зрителя. Ее внимания ждали так же и куклы — она успела увидеть только малую их часть.
Все дело в том, что Эдит была разорена. Потому Кэтрин и оказалась здесь. Может быть, Мод некоторое время не платили, и появление оценщика стало для нее неприятным напоминанием об их плачевном материальном положении. Это объясняло, почему с ними было так трудно, так что Кэтрин должна все время помнить, что сложившаяся ситуация очень некомфортна для хозяев Красного Дома. На их поведение нужно закрыть глаза и молча вытерпеть все выкрутасы.
Расставив вещи по местам, Кэтрин стала рассматривать искусно выполненные гравюры на стенах комнаты. Пять оригиналов в рамках на фоне темно-красных обоев. Она не распознала подпись художника, но навскидку отнесла их к середине восемнадцатого века.
Под потолком горела лампочка, но освещение было тусклым и красноватым, так что ей пришлось подойти поближе. Две гравюры над изголовьем кровати представляли собой сценки из стародавней сельской жизни. Возможно, сатирические, поскольку лица персонажей были карикатурно искажены — большие носы, выступающие подбородки. Эти лица излучали цинизм, даже жестокость. Персонажи вертелись возле тележки, на которую был водружен помост или сцена.
На третьей гравюре изображалась опять-таки сцена с занавешенными кулисами и задником, перед которым кривлялись разнообразные фигуры. Их поношенная одежда относилась к эпохе Тюдоров, но она не могла определить, были то бродячие артисты в масках или марионетки. На нечетких лицах резко выделялись лишь белые глаза и неприятные ухмылки. Зрители представали грубыми, неотесанными, звероподобными существами с огромными разинутыми ртами и дикими глазами.
На двух оставшихся гравюрах она увидела рыночную площадь со множеством детей. Это, без сомнения, были беспризорники, маленькие оборванцы. Тощие, как скелеты, с огромными глазами. Некоторые опирались на костыли. Одного из них тащила по ухабистой земле в деревянной тележке девочка постарше в замызганном платье. Театр, к которому тянулись дети, располагался на заднем плане, и что за действо там происходило, было не разобрать.
Кэтрин подошла к окну, намереваясь открыть его и пустить в комнату больше света, а заодно и посмотреть на сад, расположенный за домом. Как и на фасаде, окно было трехчастным, готическим, навешенным внутри створного переплета.
Снаружи несколько мух бились в витражные стекла. Мух она уже видела утром, когда шла в дом. А ведь близилась зима. Лето, конечно, подзадержалось, но обилие мух было столь же несезонным, как и теплая погода. Их рой буквально окружил дом.
От наблюдения за мухами Кэтрин отвлекло что-то белое, промелькнувшее внизу. Она оперлась о подоконник и выглянула.
В дальнем конце заросшего сада, между рядами неухоженных яблонь, она заметила движение. Фигура в белом двигалась туда-сюда по небольшому кусочку пространства, словно выполняя какую-то работу.
Кэтрин подумала, что это может быть Мод, но фигура была слишком худая и длинная. Может, садовник? Нет, этим садом явно никто не занимался много лет. Деревянная беседка практически развалилась, стены сада заросли ежевикой и плющом. Несколько предметов, по-видимому садовые украшения или мебель, превратились в заросшие холмы. Сквозь неподвижную сень ветвей проглядывал каменный краешек не то песочных часов, не то кормушки для птиц.
Снующая туда-сюда фигура была облачена в белые одежды. Она то исчезала на мгновение, то появлялась вновь среди густой зелени, поглотившей сад, но вот, похоже, зацепилась и принялась за что-то дергать, пытаясь высвободиться. Присмотревшись, Кэтрин убедилась, что это мужчина. Высокий мужчина.
На мгновение он появился в просвете густой листвы и повернулся в сторону дома. Он заметил Кэтрин в окне. Но она не видела ни его лица, ни даже головы: что-то скрывало его внешность.
Поняв, что этот странный убор — всего лишь сетчатая защитная маска пасечника, она расслабилась. Человек медленно поднял вверх обе руки. Большие ладони в защитных перчатках помахали ей. Или, может быть, поманили, приглашая спуститься к нему. Нет — потом человек показал в направлении луга и энергично повторил жест, словно указывая, что ей нужно уйти. Убраться отсюда.
Ее словно поймали за подглядыванием — Кэтрин отшатнулась от окна и вернулась в полумрак. Затем почувствовала, что нужен какой-то ответный знак внимания, надо по-дружески помахать рукой. В доме где-то внизу хлопнула дверь. А когда она снова выглянула в окно, мужчина в белом исчез. Исчезли и мухи.
Прошло минут десять, и, когда в ее дверь резко постучали, Кэтрин вздрогнула от неожиданности. Она обернулась, пригладила волосы, одернула юбку. Это, должно быть, Мод пришла проводить ее. Но ей не хотелось оказаться один на один с домоправительницей, которая еще и словом с ней не обмолвилась и не объяснилась насчет записки.
Предупреждения.
— Да? — пискнула она и прокашлялась. — Входите.
Раздался повторный стук. А потом — тишина.
Мод не стала входить, но было ясно, что Кэтрин вызывают.
В коридоре было темно. Слабый свет едва просачивался из арочного витражного окна в дальнем конце. Дальше по коридору, на некотором расстоянии от двери в свою комнату, Кэтрин увидела приземистый, громоздкий силуэт Мод, но не могла определить, куда он развернут и смотрит ли домоправительница на нее.
Определив, что Мод движется прочь от ее комнаты, Кэтрин последовала за ней, цокая каблуками по деревянным половицам. Этот цокот гулко отдавался от стенных панелей. Любые звуки, исходящие от Кэтрин, были здесь нежелательны и неуместны. Весь остальной Красный Дом молчал, словно в знак скорби по кончине некоего великого человека, тогда как она, бесцеремонная и нежеланная гостья, этот траур грубо нарушала. Движения Мод сопровождались лишь отчетливым шарканьем. Кэтрин зареклась поменять эту обувь на туфли с мягкой подошвой.
Снизу, с лестницы, овивавшей холл, донесся трезвон колокольчика Эдит.
Глава 22
На вторую встречу старуха явилась в твидовом костюме — практичном и совсем не похожем на вычурное черное шелковое платье, в котором Эдит щеголяла в первый день. Видимо, тогда она пускала пыль в глаза — одна из тактик, о которой Леонард предупреждал ее. Но прическа Эдит была снова сооружена из шиньонов и накладок, уложенных в конструкцию, казавшуюся слишком тяжелой для маленькой старушечьей головки. Лицо под огромным париком выглядело более изможденным, чем когда-либо, если такое вообще было возможно. Пронзительное напряжение во взгляде Эдит ослабло, будто бы ее накачали седативными средствами. Ее глаза были затуманены, рот приоткрыт, что придавало старухе туповатый вид. А зубы — или протезы оных, — остро нуждались в починке.
Эдит подобралась и сверкнула глазами, чем положила конец осмотру ее внешности.
— Надеюсь, комната вас устраивает?
— Да. Очень славная.
— Вот и славно, что славная. Прежде, когда особняк пребывал в более добром здравии, она пользовалась большой популярностью у гостей. Но те времена уж прошли. Кстати, а кто пользовался ею в последний раз? — она посмотрела на Кэтрин слезящимися глазами, словно ожидая от гостьи ответа, потом обратилась к Мод — Нам не пора, дорогая?
Взгляд домоправительницы прошил Кэтрин насквозь, как будто та была недостойна ее внимания или вообще не существовала. Мод покатила кресло Эдит в соседний коридор третьего этажа. Кэтрин предполагала, что театр марионеток располагается на первом этаже, рядом с диорамами.
— Вы же собирались показать мне марионеток вашего дяди, — робко окликнула она.
Ее не удостоили ответа.
Между двумя коридорами третьего этажа пролегало около дюжины комнат. Все они были закрыты и погружены во тьму, на их двери едва падал красный свет, просачивавшийся через арочные окна в дальних концах обоих проходов. Кэтрин подавила желание попросить включить свет, дивясь при этом, как глаза старух могут вообще что-то разглядеть в такой темнотище.
Мод остановила коляску у второй двери погруженного в полумрак коридора, рядом с комнатой Эдит и, не дожидаясь разрешения уйти, заковыляла прочь, даже не взглянув на дверь, у которой оставила хозяйку. Похоже, ее резкий уход был вызван какой-то внутренней обидой.
— У вас все комнаты меблированы? — спросила Кэтрин, все еще играя роль прилежной оценщицы.
— Разумеется. Все осталось на своем месте.
— Полагаю, вас удивит сумма, которую вы можете выручить за ваши… вещи.
— Разве недостаточно того, что мы вынуждены расстаться с шедеврами моего дяди? Вы хотите выдернуть из-под нас всю мебель до последней дощечки?
— Нет, я просто имела в виду… Я хотела сказать…
— Не стоит. Чем больше времени я провожу в вашем обществе, тем больше убеждаюсь, что ничего толкового вы сказать не можете.
Сначала Кэтрин застыла, сраженная этой эскападой, потом вспыхнула от гнева и сжала кулаки. Почему она должна мириться с этим? Что бы она ни сказала, какое бы мнение ни отважилась высказать — все получалось невовремя и некстати. Ей начало казаться, что все ее пребывание в Красном Доме подчинено какому-то тайному регламенту, все разыгрывается по сценарию, из которого она не знает ни строчки.
Она не знала, сколько еще сможет продержаться, зато понимала, что после разрыва с Майком и рецидива трансов визит в Красный Дом окажется ей не по силам. Стоило Кэтрин вспомнить о Майке и эпизодах, ей сделалось совсем тошно и паршиво. А ее надежды, что она сможет здесь как-то отвлечься, представлялись теперь совершенно несбыточными.
— Прошу прощения. Я не думаю, что…
— Тихо! Дверь. Вон там. Сюда, дорогуша.
Кэтрин взялась за латунную ручку в овальной металлической оправке.
— Не трогайте ручку! Если я не буду сопровождать вас, они вообще не поймут, кто вы и что вы.
— Простите, я не уверена, что правильно понима…
— Они совсем отвыкли от зрителей. От чужих. Надо проявлять такт и уважение. Всегда. Дядя объяснил мне их сущность.
Кэтрин не могла взять в толк, о ком или о чем толкует Эдит. Она застряла в бредовом сне. Реальность Красного Дома все время ускользала от понимания, постоянно оборачиваясь чем-то нереальным, гротескным даже.
Эдит понизила голос до благоговейного шепота:
— Они робкие и ранимые существа. Когда-то они давали представления. Но это было очень давно. Они хрупки, как люди, и невинны, как дети, и могут быть столь же жестоки. Они безгрешны и кажутся безучастными, когда спят, но это лишь видимость. Они ждут. Как ждали моего дядю. Как и все дети, дорогуша, они вырастают и идут своим путем.
Кэтрин закрыла глаза и пожалела, что не может закрыть и уши, чтобы не слышать чушь, которую несла Эдит. Визит, судя по всему, провален. Никакой нормальной описи сделать не выйдет, аукциона не будет — потому что Эдит Мэйсон сбрендила. Здесь вообще ничего не получится, сколько ни выворачивай мозги, сколько ни мучайся — ей все равно не пересилить того, что время и изоляция сделали с этими жалкими старушенциями.
Во взгляде Эдит сверкнул заговорщический огонек:
— Однажды они нас зачаровали, но они не игрушки. Они слишком могущественны, чтобы с ними играли. Как говорил мой дядя, познать их по-настоящему — значит познать страдание и подлинный ужас. Ибо они трагичны. Рядом с ними надлежит вести себя с осторожностью, страхом и почтительностью. — Эта околесица в устах Эдит звучала упреком. Или, по меньшей мере, предупреждением.
Кэтрин сочла нужным смолчать. После такой «вводной» ей как-то расхотелось смотреть на марионеток. Ее также не вдохновляла перспектива притворяться, будто она видит в марионетках живых существ, — а в присутствии Эдит это было обязательным, судя по всему, условием. Именно так старуха относилась к чучелам и, скорее всего, к куклам. Но пока она не закончит с описью имущества, придется играть по таким вот извращенным правилам. И, похоже, это маразматическое отношение к беличьим чучелам и старинным немецким куклам предстоит выказать всем участникам аукциона. М-да, та еще ситуация.
Возможно, все это было каким-то изощренным розыгрышем старухи. Эксцентричной шуточкой, о которой пыталась предупредить ее бессловесная прислуга.
Эдит смерила дверь взглядом уважающим, но каким-то испуганно-забитым, после чего чинно кивула, будто бы довольная собственной мини-репризой.
— А теперь, если вы готовы отнестись к ним так, как хотели бы, чтобы относились к вам, давайте зайдем, — сказала она.
Кэтрин повернула ручку. Внутри царил мрак. Скрип петель был единственным звуком.
— Включатель там, на стене. Во-о-от там, — прошептала Эдит отчего-то зловеще.
Из лампочки в тяжелом стеклянном абажуре брызнул неяркий желтый свет.
Комната оказалась довольно-таки просторной. Стены здесь не были красными, как во всем остальном доме, а белыми, с ручной росписью масляной краской. На пасторальных лугах не менее пасторального вида зверюшки занимались обычными человеческими делами: пили чай, играли в гольф — таков был непреходящий лейтмотив картин. Но Кэтрин не успела толком оценить декор — ее вниманием завладело скопище маленьких белых кроваток со стальными рамами, детских на вид… Да, собственно, это и была детская.
Ее чуть не пробило на смех. Дети-марионетки. Ну-ну.
— Пойдемте же к ним, — прошептала Эдит. Кэтрин закатила инвалидное кресло в комнату, приметив, что на каждой кровати — маленькая головка на подушечке. Хорошо хоть, что не лицом к двери.
— Так, остановитесь здесь. Достаточно. — Эдит подняла руку в перчатке.
Да мы ведь сюда заехали дай Бог на один полный оборот колес, хотела сказать Кэтрин, но выполнила просьбу старухи молча. Ей в общем-то не нужны были эти указания, чтобы остановиться — марионетки никогда ей не нравились. Их дерганные движения приводили ее в детстве в страх. Ей казалось, что шаткие-валкие деревянные ножки вот-вот переступят или экран, или авансцену, и шагнут к ней, в зал, в настоящий мир.
Однажды в доме бабули, увидев по телевизору куклу-чревовещателя, она забилась за диван. Движение тонких конечностей какого-то мохнатого зверя на ниточках, увиденное во младенчестве в давно забытой детской телепередаче, навсегда врезалось в ее воображение как нечто запредельно жуткое.
Да и порой во время работы ей становилось не по себе, когда приходилось иметь дело с большой человекообразной старинной куклой. Зачастую она недоумевала, как же так вышло, что ее настороженность по отношению к этим искусственным человечкам ужилась с теми нуждами, что накладывала на нее профессия. Не раз и не два она задавалась вопросом, не тянул ли ее к тому, чего она в детстве так боялась, некий внутренний магнетизм, ужасный и неосязаемый.
Ее тревога на пороге детской переросла в подозрение, что она здесь, в Красном Доме, вовсе не для того, чтобы произвести оценку, а чтобы погрузиться в мир бреда, больной выдумки и старческого слабоумия. Она была здесь гостьей, и ее предназначение покамест оставалось туманным. Она оказалась во власти безумной старухи, которая может обозлиться на нее и выгнать взашей, лишив шанса, что дастся раз в жизни. Потому что никогда в целом мире второго такого не будет.
Эдит коснулась руки Кэтрин. Кончики пальцев старухи были жесткими, словно под белыми а гласными перчатками скрывались наперстки.
— Не прикасайтесь к ним. Они этого не жалуют.
Кэтрин с радостью подчинилась, испытав облегчение оттого, что в этом тусклом свете может видеть лишь головы кукол. Судя по рельефным очертаниям маленьких тел под чистым постельным бельем, размером они были с маленьких детей — с поправкой на несоразмерно большие головы. Не слишком привлекательные пропорции. Она рассчитывала, что хрупкие фигурки марионеток, мастерски наряженных матерью Эдит вплоть до мельчайших деталей костюмов, будут висеть на пучках еле заметных нитей — но вот чтоб такое…
Из-за того, что большинство головок были прикрыты или полуприкрыты простынями и повернуты лицами к окну с закрытыми ставнями в дальнем конце комнаты, создавалось невольное впечатление, будто куклы подражают шалунам, притворяющимся спящими и тихо хихикающими в подушки. А еще комната напоминала морг, переполненный детскими трупиками, чьи лица были не очень тщательно прикрыты простынями.
Марионетка на ближайшей к ней кровати, насколько Кэтрин могла разглядеть по видимым из-под одеяла чертам, напоминала скорее животное, нежели человека. Затрепанная голова с густыми усами и открытым черным ртом, откуда торчали зубы цвета слоновой кости, смахивала на заячью.
Рядом с «зайцем» лежало существо в чепчике, похожее не то на видавшую виды лису, не то на поношенного барсука. Она с омерзением осознала, что марионетки, скорей всего, представляют собой еще одну разновидность мэйсоновской таксидермии и пошиты на основе останков животных.
Но более всего напрягала мысль, что Мэйсон соорудил для них кроватки и выделил отдельную комнату.
— Марионетки издревле играют роль посредников. Вы же знали, дорогуша? — выдала Эдит очередную порцию бреда, и Кэтрин очень захотелось, чтобы старуха умолкла. — Дядя говорил мне, что изначально они были сотворены народами древности как воплощения богов и духов… Может быть, даже ангелов, носителей сакрального знания. Кукловод передавал миру их волю. Он был священником, шаманом, мудрецом. Его труппа — это вестники иного мира. Вот почему всякий раз, когда на сцене вспыхивает свет и появляются они, в театре возникает особое напряжение. Мы не хотим признавать этого. Мы трепещем втайне. Ни одно из исполнительских искусств не сравнится с этой драмой. Согласны, дорогая моя?
Эдит повернула тощую голову, глаза ее излучали восторг, особенно неприятный для Кэтрин здесь, рядом с кроватками.
— Чем объяснить сокрытую в них жизнь? Вот каким вопросом вы бы задались, увидев представление дядиной труппы. Кто же режиссер? Кто ведет актеров? В итоге ни мой бедный дядя, ни мать так и не нашли ответа.
Ясен пень, что не нашли, подумала Кэтрин, да и тебе не дано.
— Можете смеяться над словами старухи, но все ваше неверие есть неверие слепого, бесчувственного мира, утратившего связь с незримым, неспособного принять волшебство и таинство. Большая часть этого дара была утрачена еще до дядиных времен. Но он обрел его, обрел заново в мире, настроенном на уничтожение этой невинности, этого чуда. Обрел, оживил и сохранил. Он сделал неведомое ведомым, незримое — зримым. Нет искусства более высокого! И вы должны вновь научиться детской доверчивости и открытости ребенка, или все это скроется от вас навсегда.
Взгляд Кэтрин метался от затылка грубо вытесанной головы, милосердно скрытой вздыбившейся подушкой, к чему-то, похожему на лохматый черный парик, распластавшийся по наволочке, словно паук-птицеед.
В дальнем от Кэтрин углу она увидела нечто, напоминавшее морду собачьего чучела, а рядом — и от этого у нее живот свело — голубенький, чуть запачканный оборчатый чепчик, из-под которого выбивались роскошные каштановые кудри. Казалось, что под клетчатым пледом спит живая девочка. И было в ней что-то до жути знакомое.
В том немногом, что она увидела, не было никакой невинности и никакого волшебства. Эта марионеточная труппа служила зримым проявлением безумия ее создателя — безумия, порожденного войной, утратами, жизнью в изоляции.
У подножия каждой кровати стояла пара крошечных башмачков или тапочек. Под закрытыми алыми шторами располагался большой кожаный сундук с рядами заклепок на гранях и стыках. Кэтрин не сомневалась, что перед ней тот самый сундук, который она видела в гостевом доме в Грин-Уиллоу. Если бы свет был лучше, при ближайшем рассмотрении она определенно увидела бы под железным замком нанесенные по трафарету инициалы М. Г. М.
— Позвольте их вам представить.
Ой, вот только вот этого не надо…
— Итак, вот это — Сумасбродка Молли-Крошка. Рядом с ней Увалень Джон. Вон там — Гнида, Рифмоплет, Плут Пиликала и Несносный Трепач. В дядиных спектаклях эта четверка всегда играла злодеев. По другую сторону — Клуша Гризель, Честная Искусительница и Прелестная Розамунда. А под дальним окном — Профессор Никто. Когда-то их было двенадцать, но бедняжки Джек Пудинг и Попелотта Пьянь давным-давно потерялись, да так и не нашлись. — Эдит понизила голос до чуть слышного шепота. — Для такой сплоченной труппы то была страшная трагедия. Мне не следовало бы даже произносить здесь их имена. Остальным это не понравится. Что ж, не будем больше тревожить их покой.
— Не будем, — выдавила из себя Кэтрин.
— Свет. Быстро!
Эдит не успела договорить, как рука Кэтрин уже была на выключателе.
— Вывезите меня. Мы и так успели им досадить.
Оглядываясь назад, чтобы убедиться, что ни одна головка не повернулась и не смотрит за их отступлением, Кэтрин недостаточно проворно выкатила коляску из комнаты. Пока она толкала Эдит в коридор, ее охватило странное чувство. Такое она прежде испытывала только во время паники на работе, перед лицом противника, но теперь у нее возникло стойкое ощущение, что обитатели комнаты слушали ее мысли. Что каким-то непонятным образом ее чувства усилились в этой комнате. А еще больше тревожила мысль, что ей придется спать на том же этаже, где располагалась детская.
Она попыталась говорить спокойно:
— Замок. То есть дверь. Ключ. Не нужно запереть комнату?
Эдит выглядела довольной.
— Нет, что вы. Эта дверь всегда открыта. Вы же не стали бы запирать ребенка в комнате?
Глава 23
И вот она вновь в комнате, в существование которой не поверила бы, не окажись в ней сама. Десяток детских деревянных стульчиков выстроился в два ровных ряда. Стульчики белые, расписаны животными, стоящими на задних лапах и одетыми совсем как люди.
Кэтрин сидела на одном из двух мягких стульев для взрослых, стоящих по обе стороны проектора, словно позаимствованного из музея кино. Должно быть, на них когда-то сидели мать и дядя Эдит в окружении своей неживой труппы и смотрели записи представлений, которые сама Эдит называла мистериями жестокости. Мод ждала, пока Кэтрин устроится в детской, чтобы начать показ.
Экраном служила белая простыня, заменившая задник идеально сохранившегося кукольного театра Мэйсонов — гигантской сборной конструкции, что занимала всю ширину комнаты и была сделана из разъемных блоков, чтобы можно было ее переносить из комнаты на задний двор и обратно. Каркас, плунжер и просцениум были сделаны из дерева и покрыты золотой и алой краской. Наличие темно-фиолетового раздвижного занавеса указывало на возможность менять декорации на сцене.
Театр сам по себе был произведением искусства, заслуживавшим отдельной выставки. Он был значительно больше немецких и итальянских передвижных подмостков — работая в Музее Детства в Бетнал-Грин, Кэтрин видела подобные штуки ежедневно.
Кэтрин задалась вопросом, существуют ли какие-то распоряжения касательно этой части наследия М. Г. Мэйсона — не будет же Эдит владеть этим всем вечно. Ни о каких наследниках речи не шло, а на продажу театр не выставлялся. Так что же станет с последним плодом странных фантазий дядюшки Эдит?
Прежде чем оставить Кэтрин наедине с театром, Эдит рассказала ей, что после войны Красный Дом посетили люди из «Би-Би-Си», чему дядя поначалу сильно обрадовался, но потом он столь же сильно огорчился. По словам Эдит, во время Второй Мировой войны М. Г. Мэйсон, посещая кинотеатр в Хирфорде, решил, что кино — отличный способ ознакомить широкую публику со своим мало кому известным творчеством. Да, его мольбы о мире, воплощенные в жутких образах крыс, дали результат, обратный желаемому, но впоследствии он перешел к задумкам еще более масштабным. Или так ему тогда казалось. Похоже, его племянница и хранительница наследия не вполне понимала эти его задумки. Но съемочная группа из «Би-Би-Си», приглашенная снимать его кукольные драмы, так и не вернулась после первого посещения и не стала транслировать те кадры, что были засняты в Красном Доме.
Рассказывая об этом, Эдит использовала несколько иные формулировки, но, исходя из фактов, Кэтрин предположила, что одного визита в Красный Дом было для «Би-Би-Си» более чем достаточно. И теперь, сидя перед экраном и чувствуя, как внутри нарастает неприятное напряжение, предвестник грядущих мерзопакостных ощущений, она вполне понимала такое решение съемочной группы.
Когда Мод выкатывала Эдит из комнаты, та бросила напоследок:
— У нас осталась единственная копия. Они сочли, что фильм будет слишком вредить детской психике. — Одно воспоминание об этом страшно рассердило старуху. — А дядя и не говорил, что это для детей! Они, как и все прочие идиоты, решили, что его театр — всего-навсего развлечение для младенцев. Сами они такие же недоумки, как и те, кому якобы адресованы дядины пьесы!
Слушая эту гневную тираду, Кэтрин подумала: вдруг в недрах «Би-Би-Си» сохранились исходники фильма? Одна копия осталась здесь, и в связи с прибытием бобины с пленкой в пятидесятых-незнамо-каких годах в Доме возник такой ажиотаж, что Мэйсон купил по сходной цене проектор. В ту пору обитатели Красного Дома еще не были так стеснены в средствах. Проектор по-прежнему работал.
Просмотр планировался сугубо приватный. Ни Эдит, ни Мод, исполнявшая обязанности киномеханика, остаться с ней не пожелали, быстренько покинув комнату. Может быть, фильм им надоел, ведь он служил одним из весьма немногих развлечений в Красном Доме, и его обитатели, возможно, уже насмотрелись до тошноты. Но раздумья Кэтрин о том, а знает ли вообще Эдит, что в мире существуют телевидение, радио, музыка, резко оборвались — ее вниманием всецело овладело происходящее на экране.
Если первый кадр представлял собой некое заявление о намерениях, то Кэтрин с удовольствием воздержалась бы от просмотра всего, что последует за этим вступительным изображением, заполнившим экран на всю длину и ширину — оскалом, намалеванном на черно-белом гипсовом лице.
Судя по участкам стершейся записи, мерцанию и плохому качеству пленки и отсутствию звука, кадры были сняты задолго до заявленных пятидесятых. По изначальному замыслу глаза на лице, заполнившем экран, должны были излучать восторг или радостный задор, но выражение их потускнело. Округлые младенческие черты, в том числе и нарумяненные щечки, покрывала паутина черных трещин. Нос отсутствовал. На его месте зияла уродливая дыра. В застывшей тусклой ухмылке читалось звериное наслаждение тем шоком, что испытывал зритель.
Прическа куклы походила на нелепый парик, современный клоунский атрибут, налакированный или смазанный бриолином по обе стороны от прямого пробора. Голова была старая, скорее всего, изготовленная еще в домэйсоновские времена. Однако Кэтрин уже видела нечто подобное в своих снах. Вид этой головы резко пробудил в памяти что-то из ее трансов, что-то касающееся детей из спецшколы. И не скрывалась ли эта марионетка в детской под одеялом сегодня утром вместе с другими? Кэтрин вздрогнула, вспомнив копну курчавых черных волос на подушке. Ну нет, никакой связи с ее личными проблемами кукла иметь не могла. Одно время у всех манекенов-чревовещателей и марионеток, изображавших мужчин, были похожие головы, да и подобные прически встречались нередко. Да, она видела чепчик в спальне, но куклы-девочки из 1880-х тоже носили чепчики. Однако она так и не могла понять, откуда такие образы могли возникнуть в ее детском воображении.
Камера отъехала, и на экране показалась вся фигура целиком. Кэтрин заерзала на стуле. Жабо на шее и потрепанный бархатный камзол указывали на эпоху Тюдоров, но ноги… ноги были сугубо мэйсоновские. Задние лапы большой собаки поддерживали верхнюю часть тела, существо принялось беззвучно хлопать своими щербатыми деревянными руками, удаляясь на край сцены. Движениями кукла, собственно, и напоминала цирковую псину, обученную ходить на задних лапах. Кэтрин показалось, что она увидела ниточки, но, возможно, эти яркие проблески были всего лишь дефектами поврежденной пленки.
Занавес раздвинулся, и Кэтрин увидела ту самую сцену, которую сейчас закрывал экран. Только в фильме на заднике сцены в мельчайших деталях были изображены подземелье со множеством влажных камней и одинокое зарешеченное окошко. Деревянные декорации опускались сверху.
Замызганная, безвольно висящая на цепях фигура пыталась поднять деревянную голову и посмотреть в камеру. Лицо было перепачкано темной жидкостью, отчего некоторые из черт стали неразличимы. Но на резном деревянном пнце отчетливо выделялась аккуратная бородка, характерная для мужчин елизаветинской поры. Лицо у марионетки было печальным, но благородным, даже царственным, что вызвало у Кэтрин ассоциации с Христом и Карлом Первым одновременно.
Печальный утонченный лик обрамляли темныe густые кудри, спадавшие на льняную запятнанную блузу; наряд довершали рваные лосины. Ступни ног были непропорционально крупны и покрыты белесым пушком.
Голова наклонилась и шевельнулась, произнося какие-то слова. Если бы фильм был звуковым, арестант, скорей всего, вещал бы о своих бедах. Кэтрин поймала себя на том, что испытывает облегчение из-за отсутствия звуковой дорожки.
Занавес закрылся. И открылся снова.
Во второй сцене арестант выглядел еще более скорбным и несчастным; он стоял возле деревянной скамьи в суде или каком-то обветшалом административном здании. В этой сцене по явился второй персонаж — жутковатый человек-заяц, яростно жестикулирующий тонкими передними лапками. На морде зайца ярко горели глаза — громадные и абсолютно белые. Вокруг распахнутого рта, черного и мелкозубого, посверкивали остатки усиков. Кэтрин совершенно точно видела эту мерзкую голову на одной из кроваток в детской.
Обвислое тело зайца торчало из деревянного ящика, служившего трибуной. Мех на его груди был потрепан и блистал проплешинами. Отчетливо проступали два ряда сосков. Заяц был облачен в черную мантию и шелковый парик и, должно быть, председательствовал в суде над человеком. Во всех последующих сценах он один имел отчетливо человеческий вид.
Когда занавес вновь открылся после сцены суда, действие пьесы перенеслось на убогую, заваленную мусором улицу. На мастерски прорисованном заднике проглядывали кучи грязи и скособоченные домишки. Теперь арестант был водружен на колесо, с обода которого свешивалось его измученное, но гордое деревянное лицо.
Декорации тоже поменяли. И хотя нарисованы они были отменно, новый задник придавал дерганым, но пугающе реалистичным движениям марионеток на сцене слегка умиротворяющий оттенок искусственности. Их перемещения по сцене были настолько аутентичны, что Кэтрин пришла к убеждению, что здесь имела место не просто съемка движущихся марионеток, а покадровая анимация. В конце концов, не стоит так уж полагаться на память Эдит.
Из-за кулис на сцену промаршировала разношерстная толпа обряженных в лохмотья фигур и с самым зловещим видом окружила колесо. Кэтрин разглядела дерюгу, керамические лица, деревянные зубы и уши, как у животных. У одних были собачьи лапы, у других — деревянные ножки, обутые в остроносые кожаные башмаки.
В воздух вздымались, потрясая дубинками, маленькие белые ручки, иногда между ними мелькала щетинистая лапа. Животным безумием толпы дирижировал заяц, который скакал и резвился на краю сцены. Он был председателем во второй сцене и, похоже, упивался этим положением.
Развернувшись замызганными спинами к зрителю, толпа окружила колесо и заслонила человека, привязанного к нему. Их тоненькие ручки с дубинками поднимались и опускались, поднимались и опускались, снова и снова обрушиваясь на арестанта.
Кэтрин прикрыла глаза руками и лишь иногда посматривала на экран сквозь пальцы, покуда бойня не закончилась. После минутной экзекуции утомленная толпа громил разбрелась.
Тонкие деревянные конечности жертвы были размозжены. Сквозь утлую одежонку торчали темные, влажные щепки.
Кэтрин предположила, что, скорее всего, именно во время этой сцены мэйсоновской мистерии жестокости режиссер с «Би-Би-Си» понял наконец, может и неохотно, что такое действо не годится не только для детей, но и вообще для кого-либо.
Несмотря на износ пленки, которая теперь то светлела, то темнела, словно будучи на грани сгорания прямо в проекторе, Кэтрин попыталась разглядеть, как толпа поднимает вверх изломанное тело жертвы. Злобная чернь барахталась под тяжестью громоздкого шеста, на котором крепилось колесо.
Занавес сошелся. Но ненадолго.
Искалеченная фигура арестанта вновь появилась, привязанная к колесу на вертикальном шесте. Но на сей раз шест располагался высоко, по центру сцены, на абсолютно черном фоне, идеально передающем состояние холодного небытия. И вновь Кэтрин показалось, что это несчастное деревянное лицо произносит сейчас неслышный из-за отсутствия аудиодорожки монолог на камеру, потому как, хоть его тело и было страшно изуродовано, стеклянные глаза на длинном лице были открыты.
Кэтрин всей душой надеялась, что это финал, но самое худшее было еще впереди.
В следующей сцене, вновь на фоне декорации города, человекообразная орда в лохмотьях вернулась, чтобы оказать внимание останкам своей жертвы, оставленной на ночь под безликим небом поразмышлять о своем разломанном естестве. Но на этот раз толпа подошла к колесу, демонстрируя почтение и благоговение. Они принялись щупать и изучать поломанного человека.
Первая фигура в капюшоне, выделившаяся из толпы оборванных крестьян, вытянула длинные, обросшие мехом руки, схватила и оторвала голову казненного арестанта. Затем вор прокрался на авансцену и принялся поглаживать длинные локоны похищенной головы своими черными руками. Но куда омерзительней толстокожих пальцев, нежно гладящих кудри, столь похожие на женские, была темная обезьяноподобная морда, ухмылявшаяся зрителям и скалившая зубы из-под капюшона. Будто бы живая. Слишком живая.
За спиной обезьяны-побирушки, прижавшей к себе оторванную от тела голову, прочие участники массовки принялись тянуть, трясти и дергать останки казненного, пока весь он не развалился на части в их руках, преимущественно деревянных. Исступленный акт осквернения тела подошел к концу. Завладев своим фунтом мяса, каждый счастливчик вцеплялся в него, прижимал к груди и, сгорбившись, поспешно уносил, явно пребывая в восторге от такой добычи. Одна за другой марионетки покидали сцену, пока на колесе и на оскверненной земле под ним не осталось ничего.
Улыбчивый получеловек-полупес, открывавший спектакль, вернулся в финале и быстро выбежал на задних ногах на центр сцены. Оказавшись там, он обратил внимание публики на коллекцию сосудов и ящичков, установленных на маленьких дорических пьедесталах вдоль задней части сцены. Они были раскрашены и походили на изысканно украшенные шкатулки или затейливые вазы. Один предмет напоминал раскрытую книгу, только вместо страниц там была крошечная скелетная рука. В позолоченной коробке со стеклянной крышкой лежала ступня. В маленьком сундучке, обитом шелком, хранилась челюстная кость. Похоже, то был реликварий для частей тела казненного человека.
Кэтрин было интересно, кто же этот человек — осужденный, казненный, расчлененный, а потом почитаемый как мученик, но любопытство пересиливала глубокая тревога по поводу безумца, создавшего столь отталкивающий кукольный спектакль. Хоть Мэйсон и перешел с крыс на марионеток, темы, похоже, остались прежними.
Изображение на экране окончательно выродилось в мерцающее ничто, и Кэтрин принялась наощупь искать выключатель. За ее спиной в продолжающей вращаться катушке колотился кончик пленки. Ослепительно ярко горел белый экран.
Глава 24
На какое-то время Кэтрин оставили одну. В ожидании она рассматривала маленькие белые стульчики и гадала, организовали ли съемку Мэйсон с сестрой, или детишкам здесь однажды взаправду явили все это безумие. Ни один из этих вариантов не облегчал ей душу, и желание поскорее убежать из этого обиталища чуть не воплотилось в реальный побег.
Она могла понять крыс. В диораму с крысами чувствительная душа творца вложила всю горечь потери младших братьев, весь ужас, пережитый на войне. Но явленное ей зрелище склонялось к некоему болезненному гротеску, преступному примитивизму, взывающему к кровожадному и бесчеловечному пониманию воздаяния, к чему-то из Средних Веков в духе Тюдора и династии Стюартов. Быть может, даже к чему-то еще более древнему и темному. Ее все никак не оставлял вопрос, каким же Мэйсон вернулся сюда с войны.
Сюжет постановки был прост и взывал скорее к чувствам зрителя. Вычурно-яркая история была рассчитана на невзыскательную публику и отличалась омерзительными актерами и животно-грубой подачей. К пятидесятым годам безумие Мэйсона, видимо, достигло пика. Но чего у зрелища было не отнять, так это производимого эффекта: даже записанное на некачественную пленку, лишенное звука и показанное на куске белой ткани, оно впечатляло.
Никакой свойственной фильмам тех лет дрожи изображения, никакого впечатления павильонной съемки. Эти фигуры на сцене не были похожи на двумерные картонки и не тряслись, как марионетки в кукольном театре. Кэтрин не была уверена, что они вообще крепились к нитям, которые непременно бы серебрились на затемненном фоне.
Сцена была достаточно большой для маленьких актеров, но фигуры на ней никак не могли быть детьми — у некоторых персонажей виднелись очевидно звериные лапы. Все их движения были естественными: «деревянные» части двигались рывками, «животные» — плавно. Судя по всему, спектакль либо был снят кадр за кадром с помощью фотокамер, либо дядюшка Эдит собрал для съемок команду профессиональных кукловодов. И актерами здесь явно выступали те самые куклы, что Кэтрин видела в детской, — их головы нельзя было спутать с другими. Несомненно, в этой постановке в полной мере обрел воплощение мрачный и отталкивающий талант Мэйсона… И она была первым за многие годы зрителем.
Экран был сделан из грубой холщи. Многослойные портьеры были разведены по бокам и прихвачены шелковыми «поясками» неизвестным декоратором. Над сценой не было ни мостика, ни платформы — никакой площадки, где могли бы разместиться кукловоды. Сцена упиралась в глухую стену. Если Мэйсон и его сестра выступали кукловодами, где же они прятались? Не за холщовым же экраном.
Приглядевшись получше, Кэтрин поняла, что подмостки перед ней — на деле настоящее произведение искусства. Они, судя по всему, были разборными, каждая деталь была подогнана друг к другу с филигранной точностью и усердием. Портьеры были сшиты по высшему разряду — такие могла сработать только очень искусная мастерица, коей, по-видимому, и была мать Эдит, Виолетта.
Похоже, эта комната цокольного этажа стала для театра последним пристанищем. Что было тому причиной? Видимо, зрители устали от кровавых мистерий. Или сам Мэйсон устал от жизни — стал слишком стар, чтобы выплясывать над марионетками. Интересно, а на какую публику он вообще рассчитывал? Что за цель стояла у него перед глазами, когда он работал над этим?
Снаружи донесся скрип колес инвалидного кресла Эдит, и Кэтрин отступила на шаг от подмостков. Если хозяйка застанет ее за несогласованным осмотром, добром это не кончится — почему-то так ей казалось.
К тому времени, как дверь с щелчком открылась, Кэтрин уже заняла свое место позади допотопного проектора.
— Что вы делаете? — с ходу возмутилась Эдит.
— Простите…
— Он же перегреется! — старуха кивнула на аппаратуру.
— О, извиняюсь. Я в любом случае не собиралась его трогать.
Мод поднялась со своего места и остановила бобину. Стараясь избежать осуждающего взгляда покрасневших глаз Эдит, Кэтрин прошла к окну, отдернула занавеску и приоткрыла ставню. Свежего воздуха ей и впрямь не хватало.
— Ну, так что думаете о фильме? — нетерпеливо осведомилась старуха.
— Ну…
— Что «ну»? Говорите, девушка.
— Ну, для своего времени это очень умно. Движение всех персонажей… Это же было снято покадрово?
— Вы о чем?
— Удивительный объем работы. Адский труд. Наверное, не один час ушел…
— Что за чепуху вы городите. То были живые актеры, они репетировали. Представление само по себе выглядело иначе. В ту пору, когда жил и работал мой дядя, репетициями почти никто не утруждался. Но, отрепетировав все тщательно, дядя мог не бояться за успех своего спектакля.
— Так Мэйсон работал не один? — спросила Кэтрин, окончательно сбитая с толку.
— Он доверял лишь моей матери, костюмеру и специалистке по реквизиту.
Убийственно серьезный тон, которым Эдит вещала о творчестве своего дяди, едва не поставил Кэтрин на грань истерического смеха. Неужели старушка хочет убедить ее в том, что представление с куклами реально? Да, от такой толку ждать нe приходилось.
— Остается лишь дивиться тому, как в игре столь маленьких актеров заключалась столь великая мощь, не правда ли?
— М… думаю, правда.
— Свидетельство величайшей победы гения моего дяди — то, что его работа оказывает впечатление даже вот так, через бледную пленочную копию более красочного оригинала.
— О да. — Возможно, следовало подыграть воодушевленным заблуждениям старухи. Тут логика была неприменима — чтобы уйти отсюда с победой, требовалось на время прикинуться побежденным этими безумными фантазиями.
— Сохранился лишь этот фильм. Самая первая мистерия жестокости, которую разучил мой дядя. Очень древний сюжет. Иногда мне кажется, сама судьба распорядилась так, чтобы именно этот фильм уцелел. Были и другие, но пленки пришли в негодность. «Лицо за окном» и «Мертвец-свидетель» погибли.
— Вы говорите — разучил?
— Да! Неужели вы совсем ничего не знаете о нашей великой истории театра? Барнаби Петтигрю и Уэсли Спеттил разыгрывали эту пьесу на ярмарках долгие-долгие годы — и на Сторбриджской, и на Ворчестерской она побывала. Даже Ковент-Гарден и Бартоломью-Фэйр без неё не обошлись. Всякий раз она производила фуpop. Только благодаря ей великий Генри Стрейдер не был предан забвению.
— Кто?
— Знаете, мой дядюшка верил, что голова Маэстро-Обличителя создана руками Билли Первиса, великого марионеточника и резчика по дереву. И Обличитель был всякий раз готов откликнуться на зов моего дяди и делать то, что предписано ему именем: обличать!
— Прошу прощения, но кто такой Генри Стрейдер?
Эдит воинственно раздула ноздри.
— Величайший из них! Первый из Мучеников, о коем слышал свет! Вас совсем ничему в школе не научили? Хоть сейчас-то слушайте! Вам ведь только что была явлена история его печальной кончины. Название этой постановки — «Бедолагу Генри Стрейдера вознесли на колесо»! За свои воззрения, за свое искусство он был убит в Смитфилде. Да-да, на этой земле, близ Лондона! Точную дату я, увы, забыла… Убит якобы за крамольничество, за то, что недалекие считали колдовством! Уличная толпа после растерзала его бренное тело… То был первый урок истории, услышанный мною от матери в этой самой комнате!
— Боюсь, нам о нем в школе не говорили.
— Какое же скудное образование вы получили. Хотите сказать, вы не знаете ничего о Великом Лондонском Шествии Стрейдера?
— Увы, я…
— Калеки следовали за ним, милая. С ним и его труппой они прошли от Сторбриджа до самого Лондона. Поговаривали, что это второй Крестовый поход детей, но власти предпочли назвать это восстанием. Он стал столь велик и могуч, столь неподвластен им, что они сочли необходимым уничтожить его! Убили его на глазах у собственной труппы — представьте себе только! Поэтому он и есть Первый из Мучеников Театра. Настоящая героическая личность! Он родился в этих краях. Фрагменты его тела были признаны священными, и кое-что даже было возвращено в эту часть света после его гибели. Вот что узнала я здесь.
Кто-то был слишком легковерным в детстве, чуть не сказала Кэтрин, раздраженная тем, что ей снова скормили какую-то сказку. Получается, Мэйсон стал продолжателем некой театральной традиции — но почему же она, некогда интересовавшаяся театром, ни разу не слышала обо всех этих Петтигрю, Первисах и Бог знает о ком еще? Нет, определенно она тут теряет время. Куклы не продавались — это были реликты, зачем-то сохраненные Эдит, любопытные, да, но не более того. Первый день ее визита был на исходе — а они и близко не подступили к тому, что было действительно важно.
— Мой дядя сохранил целую английскую традицию, дорогуша. В разное время разные дурни обвиняли подобных ему в схождениях с дьяволом, чертом… ха! Знаете ли вы, что и Тиберий, и Клавдий[9] в свое время наложили на них табу? О, эта труппа знавала опасные времена. Вся их история — летопись запретов, хроника беспрестанной цензуры. — Перейдя на шепот, Эдит округлила глаза словно бы в страхе. — Вы видели, что стало с бедным Генри Стрейдером в Смитфилде за то, что он дерзнул возродить традицию, за свой поход наперекор Церкви и Власти. Он был первым Мучеником, чье имя мой дядя смог сыскать в пыли веков. Но были ведь и другие. И до него, пусть их следы уже и не найти, пусть имена забыты… и после него, само собой.
Откинувшись на спинку инвалидного кресла, Эдит улыбнулась, обнажив желтые зубы. Багаж собственных знаний и необразованность собеседницы явно радовали ее.
— Знаете, одним летом, когда я была еще совсем девчонкой, дядя вынес театр и труппу на лужайку и явил несколько известных ему представлений. Мученик никогда ничего не предавал бумаге — слишком то было опасно. Многое было утрачено, но в свое время он был куда популярнее этого недоучки Шекспира. Еще до того, как мне исполнилось десять лет, я узрела и «Судьбу Ворожеи», и «Жертвенную красоту». Ну скажите мне, многие ли юные леди в наше время могут похвастаться тем же?
Глава 25
Преследуемая голосом откуда-то из-за спины и назойливым колокольчиком Эдит, Кэтрин миновала садовую калитку. Она старалась идти непринужденно, вот только попытки шагать как можно тише превратили ее походку в какое-то нервное гарцевание. Покидая дом без спроса, она чувствовала себя неуютно, но, в конце концов, разве должна она, взрослая женщина, отпрашиваться, чтобы позвонить?
После показа Эдит укатилась в свою комнату немного поспать перед обедом, а Мод отправилась этот самый обед готовить. Так как владения обоих дам располагались в глубинах дома, Кэтрин осознала, что лучшего шанса отлучиться, никому при этом не попавшись на глаза, не будет. На просьбу позволить ей начать опись, Мод, провожавшая ее до дверей комнаты, ответила одним только тягостным молчанием. Неужели придется прождать до самого вечера, пока не наступит ужин?
Ей нужно было поймать сигнал и поделиться всем с Леонардом. Испросить совета, узнать, как быть дальше. Но Кэтрин почему-то казалось, что если сейчас она сядет в машину и, никого не известив, укатит на полчаса, по возвращении ее ждут большие проблемы.
Уходя, она предпринимала безуспешные попытки не оглядываться на дом. Даже если кто-то и наблюдает за ней из окна, украдкой брошенный взгляд выдаст, что она неправа, ее провинность перед хозяйкой Красного Дома.
Холодок прополз по шее — тень дома будто вытянулась и коснулась ее самым-самым своим холодным краешком, стараясь нагнать на подъездной дорожке. Громада особняка давила на нее так, будто из каждого окна ей вслед бросали по осуждающему взгляду. Подавив непроизвольную дрожь, она все-таки не смогла удержаться от искушения — сначала ее глаза метнулись к дому украдкой раз, потом еще раз… А потом она все-таки сдалась и повернулась к Красному Дому лицом.
Ее удивило, насколько, оказывается, ошибочным было то ее впечатление о неких нежданных изменениях в облике особняка. Щупальца разросшегося сада не заползли еще на темный фасад, кирпичная кладка была все та же — потемневшая от времени и кое-где осыпавшаяся.
Наверное, в том, что ей привиделось, были повинны близко растущие деревья, бросавшие тень на первый этаж Дома. Маленькая ива у садовой ограды своей копной ветвей и вовсе рождала некую сумеречную зону, которая неизбежно попала в поле зрения Кэтрин и искажала все то, что было за нею, на свету. Но теперь дом был виден во всей изначальной красе — пусть и весьма специфической, жутковатой.
Добравшись до машины, Кэтрин поскорее села за руль. Заведя двигатель и стараясь вести себя ник можно тише и незаметнее, она едва ли не молилась на то, чтобы тарахтение мотора не донеслось до ушей Эдит и Мод.
Автомобиль миновал заросли боярышника, что устроились почти вплотную к дороге, — из-за них едва ли можно было разобрать, что там, впереди. Когда их гряда закончилась, яркое солнце ослепило Кэтрин, и она от неожиданности даже вдавила тормозную педаль. Она пошарила в бардачке, отыскав солнечные очки, и опустила затеняющую планку.
Башенки Красного Дома, отраженные в зеркале заднего вида, напоминали костистые пальцы, впившиеся в мягкое подбрюшье неба.
Осознание, что она сбежала, пусть ненадолго, от переменчивых капризов Эдит, позволило ей чуть расслабиться. Ни на дружбу, ни даже просто на непринужденное общение со старухой рассчитывать не приходилось; ожидать подобного — питать пустые надежды. Что ж, осталось пережить ужин, а там уж можно и поспать. Если все предметы на продажу будут сфотографированы завтра, Кэтрин, скорее всего, сможет даже уехать отсюда и закончить работу над каталогом дома.
Но что в таком случае предпринять дальше? Каталог потребует утверждения, на контракты нужно будет проставить все соответствующие подписи, для аукциона придется все тщательно согласовать — на это уйдет не один последующий месяц. В Красный Дом ей придется ходить снова и снова, беспредельно подставляясь под удар обитающего в его стенах сумасшествия.
Ее даже терзал смутный страх, что Эдит не даст ей уйти просто так, что в контракте одним из условий будет прописано ее неотлучное пребывание в Красном Доме неделями или даже месяцами. Так она и будет бродить из комнаты в комнату, смотреть на очередную фантасмагорию, а потом ее оттуда будут брыськать, как надоевшую кошку. Как будто бы это утро окончательно закрепило границы ее условной свободы и свело жизнь к одной лишь работе.
Но какими все же манящими оставались перспективы аукциона Красного Дома. Кэтрин так и не смогла задушить в себе этого восторженного чертика на задворках сознания, твердившего, что все тайны и секреты этой странной семейки должны быть разгаданы. Чертик внутри нее хотел распахнуть все двери, узнать про все и сразу. Но другое, менее любопытное и более осторожное начало, молило ее как можно скорее убраться отсюда.
Кэтрин сжала руль до боли под ногтями. Еще чуть-чуть — и зубы скрежетать начнут.
Когда Магбар-Вуд остался в двух милях позади, на экране телефона нарисовались две полоски приема сигнала. Отвернуть с узкой дороги было некуда, поэтому она остановила машину прямо посреди проезжей части и набрала номер Леонарда — стационарный, ибо, как она знала, он никогда не покидал контору раньше чем пробьет восемь.
— Здравствуйте, Леонард Осборн на проводе. Слушаю вас?
Голос старика принес ей такое облегчение, что она даже не сразу смогла заговорить.
— Леонард, это я.
— Китти! Как я рад тебя слышать. Ты в порядке? Как твой первый день?
— Сумасшествие в чистом виде.
— А как тебе наша очаровательная Эдит?
— Ну, как и все фанаты хороших манер, она грубовата. Но дело даже не в ней, а…
— В чем же?
— Мне просто нужно еще одно мнение. Сегодня я поняла, что они обе не в своем уме.
— Еще как не в своем. Чокнутые, как шляпницы. Я все знаю и понимаю, что работать с ними непросто. Да и в свете недавних событий с тобой… Словом, я рад, что ты позвонила, потому что места себе не нахожу.
— Я бы и раньше связалась, но в доме не ловит сигнал.
— Ну, зато теперь я весь внимание, Китти. Так что думаешь? Что говорит тебе сердце?
С чего же ей начать, как рассказать об этом дне? И, что не менее важно, как правильно передать свои чувства?
— Леонард, я даже не знаю, что сказать…
— Говори как есть.
— Хорошо. Эдит и Мод… Я не знаю, как к ним подобраться. Такое впечатление, что они не заинтересованы в продаже. Будто бы им просто хочется возродить всю эту атмосферу тайны, этот мистический ореол вокруг фигуры Мэйсона.
— А о контракте они не упоминали?
— Да где там! От любой попытки подойти к делу они увиливают, как только могут. По-моему, у них какие-то свои, темные, мотивы. Вполне возможно, они водят нас за нос.
— О да, Эдит как флюгер — то туда качнется, то сюда. Постоянно меняет мнение. Я знаю и об этом. Да, иметь с ней дела чертовски трудно. Но, думаю, со временем она опомнится. Даже не думаю — уверен.
— Даже если мы доберемся до дела, мне потребуется поддержка, Лео. Тебе точно стоит сюда приехать. С твоей помощью я со всем справлюсь.
— Конечно! Я и планировал приехать.
— Как я рада. В доме есть лестничный подъемник, так что перемещаться по нему тебе не составит труда.
— Думаю, послезавтра я прибуду. Но, чувствую, тебя что-то гложет.
— Да, ты прав. Что-то тут… Что-то не так. Эдит даже не говорит мне, что именно пойдет на торги. Именно поэтому я не уверена до конца, что она вообще намерена что-то продать. Мне не с чего начать инвентаризацию. Ничего такого, что тянуло бы на захудалый лот, мне не показали. Вместо этого я посмотрела какое-то жуткое кино и выслушала длинную лекцию по истории про какого-то кукольника, о котором слыхом не слыхивала; имя Генри Стрейдер тебе хоть о чем-нибудь говорит? А, да, и еще эти старые куклы Мэйсона. Она говорит о них так, будто это живые дети. Распихивает их по кроватям в комнате по соседству со своей. Кажется, будто ей просто нравится пугать меня или выводить из равновесия. По казни Стрейдера на колесе — того типа, которым восхищался ее дядя, — у нее есть заснятое представление. Ну, то самое жуткое кино, которое мне показали. Их якобы было больше, она называет их «мистериями жестокости» и божится, что их возраст больше сотни лет. Хуже, чем самый отпетый ужастик, скажу я тебе. Меня пригласили оценить диорамы и кукол, но в итоге они-то как будто ее и не интересуют. Будто это все совсем не важно. Поэтому я и сомневаюсь в том, что она подпишет контракт. Даже если мы подготовим бумаги, ей ничего не стоит взять и отказаться от собственных планов.
— Но к кому, в таком случае, перейдет наследие Мэйсона? Есть ли завещание, какие-нибудь живые родственники? — Леонард взял паузу, попыхивая трубкой. Кэтрин все слышала и могла даже представить себе то обеспокоенное выражение, с каким он обдумывает ее слова. — Возможно, она уже не в том умственном здравии, чтобы просто подписать контракт. Поэтому и устраивает тебе своеобразные испытания, грузит сторонней чепухой. А о Стрейдере я все-таки слышал — его судили за колдовство, насколько помню. Или за государственную измену, или за то и за то. Он был казнен по прибытии в Лондон — власти согласовали, чтобы за них грязную работу сделали местные банды. Его постановки носили богохульный характер, как позже свидетельствовали. Говорили, что он водил за собой целую армию бездомных калек — сирот, прокаженных, уродцев. Они почитали его за святого, за великого лекаря, чуть ли не за второе пришествие самого Спасителя.
— Да, вроде бы суть в этом.
— Стрейдер родился как раз в твоих местах — может быть, поэтому так заинтересовал Мэйсона, когда тому надоело травить мелкое зверье и наряжать чучела в платьица. Я поищу для тебя еще какую-нибудь информацию о Стрейдере, но не удивлюсь, если Эдит сама тебя ею снабдит, Китти. Скорее всего, она к тебе просто привязалась — обычная одинокая старуха, к которой никто не заходит. Само собой, она не торопится переходить к делу, изображает из себя, что это все ее возмущает, но, думаю, к этому рано или поздно придет. Зависимость от новой компании — страшная штука для добровольного отшельника. Возможно, Китти, за последние несколько десятилетий ты у них первый гость, вот она и трясет у тебя перед носом своими пыльными игрушками. У ее чудаковатых историй вдруг появился такой слушатель. Я уже видал на своем веку подобное, Китти. Не столь экстравагантные случаи мне попадались, быть может, но в общих чертах я все прекрасно представляю.
— Да, наверное. — Кэтрин почувствовала себя невольным участником пьесы, родившейся из десятилетий рутины, традиций и жесткой иерархии «слуга — хозяин», пьесы, что сохранилась лишь в стенах Красного Дома, где заточила себя Эдит. Но чем больше она думала о старухе — здесь, в нормальной реальности, не искаженной окостеневшей стариной, — тем больше та волновала и пугала ее.
— Никто так больше не одевается, Леонард. Эта ее прическа, белила… Чепуха какая-то. Я будто попала на костюмированное представление. Она прикидывается? А то, что Мод не говорит ни слова — это тоже такая часть игры? За все время, что я в доме, она ни словом не обмолвилась. Никаких объяснений по поводу той записки. Они либо обе выжили из ума в той степени, когда это уже опасно, либо это все какой-то безумный розыгрыш.
Чутье твердило Кэтрин, что самое ошеломляющее открытие еще впереди. Здесь, вдали от Красного Дома, трудно было отказаться от его доводов. Конечно, Леонард вполне мог быть прав: Мод и Эдит намеренно представали перед ней в таком странном свете единственно потому, что больше им было нечего ей предложить. Хотелось бы в это верить.
— В таких ситуациях, Китти, я предпочитаю ставить себя на место этих людей и прибегать к хладнокровию, ибо оно лишает их укусы ядовитости. Эдит стара как мир, одинока, живет в окружении напоминаний о мире и людях, коих давно уж нет. Конечно, все, что сделал ее дядя, для нее предмет поклонения. Уже то, что она много лет следует его безумным наставлениям, говорит о многом. Рассудок самого Мэйсона был явно помрачен, когда он покончил с собой, — и, скорее всего, эту осень патриарха она и застала во всей красе. Одному Богу известно, какой ужас она пережила. Ничего удивительного нет в ее полоумии. В том, что время для нее застыло в одной точке.
— Но тогда ей нужны врачи. Социальные работники. Я ей никак не помогу.
— Tы же сама понимаешь: ни врача, ни социального работника в этот дом никогда не пустят.
— Но что тогда в этом доме делаю я?
— Взгляни на ситуацию иначе. Из того, что ты мне рассказала, очевидно, что Мэйсон приковал Эдит к особняку. Даже сейчас, после смерти, его хватка не ослабевает. Представь, сколь многого лишило ее наследие Мэйсона: прав, свобод, возможностей, которые мы почитаем за данность. Для нее это все — темный лес. Но она наверняка большую часть жизни провела в раздумьях о том, каков же он, большой мир. Отвергала его, но в то же время и желала. Естественно, будет думать, что какая-то ее часть ненавидит дядюшкины работы, даже сквозь вынужденную заботу о них. Да, ей нужно продать весь этот хлам… Но ради чего она тогда жила? Я предвидел подобный исход, Китти. Некоторым людям под занавес жизни является мучительное озарение. И только мы сейчас можем поддержать ее, помочь пройти сквозь все это. Она проводит для тебя последнюю экскурсию по смыслу своей жизни, прежде чем распрощаться с ним навсегда.
Кэтрин не могла похвастаться тем, что хорошо разбирается в людях, но в словах Леонарда был смысл — причем обескураживающий и печальный. Осознание бесполезности — страшная вещь; она на своем опыте в этом убедилась.
— Да, похоже, ты снова прав во всем. Спасибо. Я поеду обратно и высплюсь. Хотя не уверена, что в этом кошмарном доме снятся хорошие сны.
— Если почувствуешь, что не справляешься — просто скажи. Я не буду думать о тебе хуже, гы прекрасный специалист. Мы попробуем уговорить ее составить тебе компанию. В любом случае твое благополучие для меня на первом месте. Я человек деловой, но не жестокий, и втягивать тебя в это дело насильно не по мне. Меня немного занесло, когда ты рассказала мне про все те мэйсоновы чудеса. Это был бы великолепный конец моей карьеры. Признаться, самолюбие взяло надо мной верх.
— Не вини себя. Последнее, чего я хочу — чтобы трудности на личном фронте как-то повлияли на мою работу. Ты ведь сам знаешь.
— Да, знаю. Но у каждого из нас есть свой предел.
— Мне до него еще далеко. Прошлая неделя меня, конечно, выбила из колеи, но случай Мэйсона слишком хорош, чтоб его упускать. Попробую продержаться еще день. Возможно, смогу сфотографировать все предметы на продажу и отбыть завтра ночью.
— Tы уверена?
— Еще как, Лео.
— Но все равно в следующий раз мы отправимся туда вместе.
— Как скажешь! Ну, мне пора — не опоздать бы к ужину. Боюсь, меня за такое отшлепают. — Услышав смех Леонарда в трубке, она, улыбнувшись сама, дала задний ход.
Глава 26
Опасения Кэтрин насчет церемонного ужина в Красном Доме оправдались целиком и полностью. Ей было вновь не по себе, она чувствовала себя хрупкой, как фарфоровая чашка в собственной руке. Кресло казалось ей жутко неудобным, и она сидела в нем напряженная, как струна. В этой гнетущей комнатушке я трапезничаю последний раз, поклялась Кэтрин себе. Слишком уж давит вся эта тишина, и никуда не скрыться от взгляда старухи. Ни Эдит, ни Мод еда будто бы не требовалась — в случае с Эдит было вообще сомнительно, что она сможет ложку поднести ко рту, не расплескав. Видимо, ужин тоже был своего рода представлением — ну сколько можно-то!
Горели настенные лампы, на столе горели свечи в подсвечниках в виде вставших на дыбы серебряных змей, но комната все равно казалась темной. Кэтрин желала завязать хоть какой-нибудь разговор, но давящая тишина и угрюмые лица Эдит и Мод нагнали на нее подспудную тоску и вселили опасение сказать что-нибудь не то, что-то сплошь неуместное и идиотское.
Судя по той малой части обстановки, что худо-бедно выступала из полумрака, комната была оформлена под вкус мужчины: перемежающиеся рубиново-красные и хвойно-зеленые полосы обоев, минимализм и сохранение общего лейтмотива дома правили здесь бал. Рельсы подъемника с лестницы заползали внутрь комнаты и тянулись вдоль стен. Латунные навесы держали рамы писанных маслом картин чуть ли не под самым потолком. Сюжетами этих потемневших от времени полотен неизменно были композиции из пшеницы, винограда, яблок и запеченных птичьих или рыбьих тушек; огромный натюрморт на несущей стене изображал вазу, ломящуюся от фруктов.
Что ж, по крайней мере, Кэтрин додумалась надеть парадное платье — одно из тех, что захватила с собой. Как она и подозревала, сама Эдит пышно вырядилась к ужину. Ее платье из шелка цвета слоновой кости, богато украшенное расшивкой, укрывало тело подобно тканному футляру. Казалось, только голова и торчала наружу — даже на руках старухи были перчатки.
— Ваш наряд прекрасно сохранился, миссис Мэйсон. Так необычно видеть, когда что-то подобное доживает до наших дней… И даже остается пригодным для выходов, — с того самого момента, как она вошла сюда, в комнате царила мертвецкая тишина, и она нарушила ее первой. Собственный голос звучал глупо, неуместно, гулко отдаваясь в здешних пустотах.
— Его носила еще моя мать. — Тень улыбки скользнула по бледным, неразличимым губам Эдит. Она выглядела человеком, медленно погружающимся в сон: затуманенный взор, вялые движения рук. Казалось, еще чуть-чуть, и она начнет клевать носом в свою тарелку с супом.
По крайней мере от старухи можно было отвлечься на еду. Суп домашней готовки был неподдельно вкусным. В лужице сырного соуса плавал отварной картофель за компанию с двумя тушками карликовых фазанов. На десерт Мод подала сливовый пудинг со свежими взбитыми сливками, а также по бокалу белого сладкого и красного бургундского вин.
Все это изобилие, похоже, уготовано было в первую очередь гостье, потому как Эдит зачерпнула от супа лишь пару ложек, да и в своем фазане ковырялась вилкой с видимой неохотой. Один раз Кэтрин даже показалось, что хозяйка зачем-то положила ломоть хлеба на язык, но так и не откусила ни кусочка. Тонкие руки Эдит едва справлялись с весом столовых приборов, и выглядело все так, будто она и вовсе забыла, как ими пользоваться. Видимо, при отсутствии посторонних глаз ее кормила с ложечки Мод.
Покончив с этим спектаклем, Эдит с демонстративным энтузиазмом обтерла губы салфеткой и закрыла глаза — будто бы отключилась. Она спала беззвучно, склонив голову, и Кэтрин настороженно наблюдала за ней, тщательно пережевывая еду и стараясь не задевать вилкой тарелку, дабы случайный звук не разбудил хозяйку.
Вид вычурно уложенного парика Эдит почему-то испортил Кэтрин аппетит еще до того, как пришла очередь десерта. Ей казалось, что от этих витков из серых волос исходит какой-то тошнотворно-цветочный аромат, оттененный прелью старой ткани, не один век пролежавшей где-нибудь на сыром чердаке. Интересно, не поэтому ли открыто окно — чтобы выгнать этот смутно-могильный дух, от которого в голову лезут мысли о распаде, о сырой земле? Хотя, погодите-ка… Все окна закрыты. Хорошо, что тогда может так пахнуть?
Ее взгляд остановился на огромных часах над камином из черного мрамора. Часы не пахли, но оглушительно, механически-бездушно тикали. Одного взгляда хватило Кэтрин, чтобы определить, что вещица сделана еще в начале девятнадцатого века. Часы окружали четыре статуи в греко-римском стиле. Одна — бюст мужчины неприятно-высокомерного вида, должно быть, какого-нибудь римского императора. Другая — фигурка мужчины с рельефной мускулатурой, обвитого змеей. Последние две — пара тоненьких статуэток девушек, что возлежали на каменных скамьях, лицами обращенных к обоим концам залы.
Мэйсон и Виолетта, быть может, завтракали, обедали и ужинали исключительно здесь — день за днем, год за годом. Сидели по разные стороны стола — совсем как Эдит сейчас напротив Кэтрин. Интересно, проходили ли эти трапезы в такой же тишине, когда всем участникам церемонии будто бы и нечего сказать друг другу?
Пока Кэтрин ела, Мод терпеливо ждала у тележки с подносами. Едва тарелки опустели, она, все так же не издавая ни звука, убрала со стола. Выражение сдерживаемой изо всех сил ярости, запечатленное в ее чертах, ясно говорило о том, что расспрашивать о содержании загадочной записки у нее всяко не стоит.
Быть может, Леонард прав, и манеры Эдит — просто способ привлечь к себе внимание? Этим вечером все выглядело так, будто присутствие Кэтрин старуха еле-еле переносит. Но, пожалуй, все дело лишь в том, что трудно быть строгой и всевидящей в столь поздний час, особенно если тебе от роду почти сотня лет.
Возвращаться сюда было ужасной ошибкой. Стоило просто уехать. Кэтрин были нужны дружелюбие, теплота, поддержка, а тут их днем с огнем не сыщешь. Она ухватилась за этот ужасный дом единственно из-за страха, что очередной последний шанс уйдет у нее из-под носа. Господи, надо хоть что-нибудь сказать, хоть чем-то разбавить эту давящую тишину — вдруг старухи выйдут из транса? Если ближайшие два дня пройдут в таком же духе, Кэтрин просто сойдет с ума.
— Миссис Мэйсон?
Эдит подняла взгляд не сразу.
— Мой дядя никогда не одобрял застольную болтовню. — Последнее слово она едва ли не выплюнула — ее потемневшие десны и источившиеся зубы на миг обнажились гримасой.
— Прошу прощения.
— Но раз уж вы сказали «А», надо сказать и «Б». В чем дело?
Кэтрин сглотнула слюну.
— Те куклы, что я видела в Грин-Уиллоу…
— Ну?
— Они, эм… Никогда не видела более впечатляющую частную коллекцию.
Некая искорка теплоты проскочила в покрасневших глазах Эдит.
— Благодарю. Они все — подарки моей матери и дяди. Они-то меня и испортили.
— Вас любили, баловали. Что в этом плохого?
— О, эти куклы не предназначались для игр. — В голосе Эдит вдруг прорезалась какая-то неземная тоска, и Кэтрин мигом простила старухе всю ершистость. В мгновение ока Кэтрин осознала, сколь тоскливым и исполненным страха протекало бытие хозяйки дома, одинокой и покинутой души. Ничто не могло возместить тот ущерб, что нанесли ей в детстве безумные мать и дядюшка, — Леонард был кругом прав. Стыд за собственную нетерпимость к старухе ударил по Кэтрин с неожиданной силой.
— У вас доброе сердце, мисс Говард.
— Просто Кэтрин.
— Я буду обращаться к вам так, как сочту нужным. Но вы все поняли верно. Я просто ждала — здесь, в одиночестве.
— Я… — неужто она озвучила свои мысли? Или из выражения ее лица эта непривычная к общению отшельница извлекла куда больше, чем из любых возможных слов?
— Но больше мне ждать не придется. — Эдит устремила взгляд на столешницу.
Стремление Кэтрин к дальнейшему разговору как-то сразу стушевалось.
— Вам следует делать скидку на мои года. На весь мой опыт и вклад. Мое время на этой земле подходит к концу. Мой вклад в этот дом был велик, но это все в прошлом. Забирайте их. Вряд ли что-то сильно изменится от того, что не я буду отныне чтить их сохранность. Настало время другим детям отходить ко сну под их чуткими взглядами. Лишь невинность может вдохнуть в них жизнь. Пожалуйста, проследите за тем, чтобы они попали в хорошие руки.
Кэтрин, краснея, кивнула, чувствуя, что разговор стоит побыстрее закруглить, пока помрачение Эдит не дало новых ростков. Речь старухи медленно уплывала в бессмыслицу, и понять ее Кэтрин даже не пыталась — без толку.
— Если вы насчет кукол, я думаю, музей или частный коллекционер был бы счастлив…
— Нет, в этом я не заинтересована. В других местах.
— Но я могу начать составление каталога с них? Куклы — моя специальность.
— Потому что для вас они тоже живые. Я это сразу поняла. Вы далеки от того идеала, что требует присутствие здесь, но, по крайней мере, вульгарность и жажда наживы, проявленные всеми вашими предшественниками, в вас по большей части отсутствуют.
Кэтрин почти смутилась, но оговорка Эдит — по большей части, — смазала впечатление.
— Так что берите все. Не знаю, чему я противлюсь. Сам дом, похоже, желает, чтобы все его содержимое перешло к вам.
Все содержимое. Эти слова загорелись красным в голове Кэтрин.
— Но прежде чем вы приступите, я хотела бы продемонстрировать вам мастерскую дяди. Это важно. Я решила отвести вас туда завтра. — Улыбка исчезла с лица старухи, на мгновение показавшегося мертвым в равномерном свечном сиянии. — Я знаю, вам самой не терпится гуда попасть. Я слишком стара и умудрена, чтобы что-то от меня прятать.
Кэтрин попыталась сменить тему:
— Я бы хотела узнать, что именно можно включить в каталог. Видит Бог, я принесла вам много хлопот и так, и поэтому, если вы настаиваете начать осмотр именно с той части дома…
— Не будьте столь нетерпеливы. Ничто так не раздражает меня, как нетерпение. Мы, мисс Говард, никуда не торопимся. И под этим «мы» я подразумеваю все, что находится в Красном Доме. Это прелюбопытнейшее жилище знавало не одну эпоху, не одну судьбу. Но все эти времена и жизни неразделимы, будучи неотъемлемо связанными воедино — здесь, под этими сводами. Вы должны осознать все в нужном контексте, и начать необходимо с тех мест, где дядя работал. Можно сказать, мы отправимся в самое сердце Красного Дома, что поддерживало в нем эту причудливую жизнь. Ничто не имеет цены, покуда не воспринято должным образом, верно?
— Верно, — бездумно ответила Кэтрин, не вполне понимая, о чем Эдит ее спрашивает. Она глянула на Мод, но тут же отвела глаза — столько звериной злобы, еле сдерживаемой, плескалось во взгляде домоправительницы, обращенном к старухе во главе стола. Похоже, отношения этих двоих — плод сокрытой туманом тайны, в которую Кэтрин предпочитали не посвящать. Меж Эдит и Мод не чувствовалось тепла. Они держались особняком друг от друга, как совершенные незнакомцы. Что же связывало их, что заставляло Мод продолжать нести абсурдную повинность перед прикованной к креслу инвалидкой? Тайна.
Но если завтра ей не разрешат начать работу над каталогом и увлекут в очередную экскурсию по гротескным увлечениям М. Г. Мэйсона, ей придется надавить на Эдит. А там — будь что будет. Она готова уйти отсюда с пустыми руками, зато с целым чемоданом историй, в которые никто во внешнем мире не поверит. И тогда пусть Леонард попробует одержать победу на этом поле. И да, никаких больше трапез — отговорки она приготовит заранее. Да, старостью вполне можно было оправдать поведение Эдит, но Кэтрин твердо знала — тот ужас, который опутал ее собственную душу, делал пребывание в среде Красного Дома занятием в высшей степени нездоровым.
— У вас будет время, дорогая моя. Вам предстоит многое понять. — Голос Эдит стал тише и мягче, обходительнее. Она даже улыбалась, будто на нее снизошел подлинный, но при том совершенно неочевидный Кэтрин триумф. — Теперь, когда вы с нами, вас ничто не отвлекает от нашего уникального предложения. Здесь, в стенах этого дома, есть нечто большее, то, что вы не сыщите там, по другую их сторону. Вы, как мне кажется, часто находили во внешнем мире лишь разочарование… — Эдит сделала аккуратный кивок в сторону окна.
Это что, получается, Эдит намекает на ее разрыв с Майком? Неужели Леонард что-то рассказал ей перед тем, как Кэтрин сюда приехала? Ну нет, он написал ей одно-единственное письмо, и то до того, как Майк ее бросил. Кроме Леонарда, она никому об этом не говорила — ну, еще родителям. Может, Эдит намекает на ее отлет из Лондона, на тот некрасивый случай, на обстоятельства ее детства, на… все. Сама идея поразила Кэтрин, погрузив в долгое молчание.
Ну нет, это уже форменная паранойя. Подробности ее частной жизни никак не могут быть известны Эдит.
— Вот как? — парировала она. — И почему вы так считаете?
— Мы производим впечатление замкнутых, но отнюдь не слепы. В ваших глазах — мука разбитого сердца.
Откуда она знает? Неужели это и впрямь ТАК уж видно?
— Я никогда не обращалась к этой стороне жизни. Моя мать — да, однажды. Иначе бы на свет не родилась я… Но мы не обсуждали с ней подробности. Я никогда не знала отца, но у меня был дядюшка. И он познакомил меня с миром куда более многообещающим. — Желтые зубы Эдит блеснули в свечном свете, когда она улыбнулась. — Не только мужчинам можно дарить любовь. Есть те, кто нуждаются в ней не меньше. Возможно, в несколько иной любви, но все равно — любви. Более длительной и надежной… Возможно, вечной.
Глаза Эдит снова закрылись. Мод убрала из-под ее носа тарелку.
— Спасибо тебе, Мод… Ужин был превосходный, — полусонно пробубнила старуха, но домоправительница на нее даже не взглянула.
— Сегодня, — подала голос Кэтрин, — этим утром, в саду… Я кого-то видела.
Мод бросила кухонную утварь на тележку. Перезвон, казалось, встряхнул ауру комнаты.
Эдит резко выпрямилась.
— Вы, наверное, ошиблись! — абсурдно-бодрым голосом выдала она.
— Нет, там был мужчина в белом костюме. Он точно был в саду, я не ошиблась.
Вот тут-то и случилось неожиданное: Мод и Эдит обменялись взглядами. Быстро, почти что украдкой, но от внимания Кэтрин этот ход не ускользнул. И был в этом взгляде скорее страх за некий секрет, чем удивление.
— Мне показалось, это был пасечник. Он хотел, чтобы я его увидела.
Мод отвернулась к тележке и завозилась с тарелками. Пришел черед Эдит разглядывать спину сожительницы с ненавистью.
— Да, у Мод есть друг, что возится с пчелами. Но ему запрещено ходить в сад.
Тележка заскрипела и покатилась через комнату прочь, увлекая Мод следом.
Эдит скривила горькую мину:
— Как же крутит живот. Этот суп, что она мне дает, непереносим. Определенно она что-то туда подсыпает. Вы не отвезете меня в комнату? Мод поможет мне раздеться.
— Конечно. — Кэтрин встала, втайне радуясь тому, что внимание хозяйки перешло на экономку. — Если вы не против, завтра я начну описывать кукол с утра пораньше.
Эдит проигнорировала ее выпад, откинув голову на спинку инвалидного кресла.
Только когда Эдит упокоилась среди подушек, все еще полностью одетая, Кэтрин смогла выдохнуть и расслабиться. Ее голова больше не тянулась вжаться в плечи. На то, чтобы докатить молчаливую хозяйку сквозь весь дом до спальни на втором этаже, ушли все ее силы и внимание. Возясь с подъемником, Кэтрин впервые обратила внимание на то, как мало в доме света — кресло как будто уходило в колодец из тьмы, где вполне могла таиться некая опасность. И только в тот момент, когда Кэтрин уже собралась развернуться и выйти из спальни (не забыв одарить рядок кукол в изголовье кровати долгим взглядом), Эдит вдруг заговорила.
Ее пальцы, неожиданно холодные — холод просачивался даже сквозь шелк перчатки, — обвили запястье Кэтрин. От неожиданности женщина вздрогнула и резко оглянулась. Рука Эдит в мгновение ока белым пауком заползла обратно под одеяло.
— Я могла бы отвести вас в библиотеку, в игровую залу. Но, боюсь, в этот вечер из меня будет плохая компаньонка… Наверное, лучше вам идти к себе.
— Конечно, я…
— Там и оставайтесь. — Эдит закрыла глаза, будто выключаясь, и погрузилась в тихий сон.
Глава 27
Ночь окутала Красный Дом.
Из-под его ставен не просачивался ни один лучик света, не горели ни фонари, ни окна домов по соседству. Пустота за распахнутыми ставнями ее комнаты была абсолютной, не дающей ни намека на просвет. Даже когда она потушила верхнюю лампу, ничто из того, что было видно днем — садовая ограда, деревья, луга вдалеке, — не проступило из тьмы. С неба на нее молча взирали звезды, и было их будто бы даже чересчур много. Она-то думала, что ее волнения и тревоги хуже уже не станут, но вот, пожалуйста, стали. Приобрели ту зловещую космическую перспективу, о существовании которой она успела позабыть.
Глядя в небо, она вспомнила, что прижата ужасной силой под названием «гравитация» к парящему в огромном Ничто каменному шару, к громадине, несущейся из ниоткуда в никуда посреди холодной Вселенной, которую никто не в силах понять. Внезапный испуг, прошитый золотистыми нитями восхищения, охватил Кэтрин. А потом темные ноты страха и золотые аккорды благоговения смешались в одно како фоническое прозрение — и она уже не отличала одно от другого. Где начало, где конец? А что есть начало? А что есть конец?
Она снова почувствовала себя ребенком. Интересно, а другие взрослые люди, пусть даже здесь, в этом городе, чувствуют нечто подобное, задумываются о том же, о чем она сейчас? Или такие мысли их вовсе не посещают? Неужели всякое слово и всякое дело дается им легко, и они не думают ни о чем, не взвешивают и не подбирают — или же напротив, страх неверного шага и их порой заставляет забиться в уголок?
Ее первый день здесь ни в коей мере не поспособствовал тому, чтобы забыть Майка — вечер в ресторане все еще давал о себе знать горечью и болью. Кэтрин требовалось нечто большее, несоразмерно большее, чем один удачный рабочий день, а этот удачным всяко не назовешь, в сухом остатке — одни лишь смущение, непонимание да конфуз. И еще ей жутко не хотелось продолжать завтра знакомство с детищами упаднической фантазии М. Г. Мэйсона. Вряд ли она выдержит очередной показ дольше минуты. Лицо Маэстро-Обличителя и десять кроваток в детской затмили все образы сокровищ Красного Дома.
Отойдя от окна, Кэтрин пошла на свет лампы на прикроватной тумбочке.
Полночь. Ее отправили сюда еще до того, как пробило девять. Последние три часа — без телефонного сигнала беспроводного интернета и безуспешных попыток сосредоточиться вопреки безумно скачущим мыслям на страницах книги — ощущались так, будто один час шел за три. Время увязало в здешнем мраке. Кэтрин словно бы угодила в музей, никем более не посещаемый — потому что мир за пределами музея прекратил свое скорбное существование.
Призрачное присутствие Эдит довлело над ней, как некий приговор. Повестка явиться в дом, где тишина служит свидетелем, а гротескные экспонаты — присяжными… Чем не суд? Кэтрин ощущала себя заложницей некого кафкианского романа, где все темно, безотрадно и ни сулит ничего, кроме непонимания и безумия.
Похоронные ароматы розовой воды, лаванды, полироли и чистящих средств — вот и вся ее гамма до остатка дней, быть может; гамма, вселяющая неуверенность и страх, ровно те же чувства, что внушал ей весь мир в детстве. Возвращаться в ту пору совсем не хотелось.
Рассудок снова расчудился. Инстинкт норного зверька твердил ей, что она угодила в западню, что здесь она совсем не по важному для карьеры делу. Уже даже Мод и Эдит предали забвению истинную цель ее визита. Она очутилась здесь просто потому, что звезды так сошлись — не самые счастливые притом. И Эдит впустила ее в Красный Дом как ребенка каких-нибудь дальних родственников, внезапно преставившихся — гостя нежеланного, но вынужденного. И все в этом доме теперь недоумевают, как же эту свалившуюся на них напасть развлекать, как терпеть ее странные выходки. Сам воздух дома негодующе трепетал в ее присутствии, и от этого молчаливого осуждения недолго и с ума сойти.
Окончательно и бесповоротно.
Кэтрин прижала руки к липу. Вот бы сейчас напиться в дым. И почему она только не захватила с собой водку? Ну да, потому что запрещено.
С закрытыми глазами она стала делать давно разученную дыхательную гимнастику. Ум должен быть чист. Этой подрагивающей красноты перед внутренним взором быть не должно. Нужно сосредоточиться на главном.
Завтра день «икс». Никаких больше страшненьких фильмов и кроваток с куколками-образинами. То, что планируется к продаже, должно быть отделено, занесено в каталог и сфотографировано. Придется побыть жесткой.
Но вся собранность и вся уверенность испарились, когда ее взгляд наткнулся на камеру на столе. Она боялась оставаться с ней наедине, чувствуя себя завязавшим курильщиком близ распечатанной пачки сигарет. Там были фотографии с Майком. Их поездка на Гавайи, Ворчестер, несколько недель в Малверне… Голова болезненно отяжелела. Она вспомнила, как просветлело лицо Майка, когда он открыл свою дверь и столкнулся с ней лицом к лицу. Слезы предательски выступили на глазах.
Как же? Как? Как все так быстро кончилось? Будь проклят Красный Дом!
Кэтрин привстала с подушки и, взяв камеру в руки, стала просматривать альбомы на карте памяти, так и не переброшенные на компьютер. Видимо, она желала этой душевной боли. Видимо, была мазохисткой. Когда камера стала слишком тяжелой, когда потребовались уже обе руки, чтобы закрыть слезящиеся глаза, она бросила ее обратно на столик.
Пошарила по простыням. Чистые. Сняла одежду и надела хлопковую ночнушку. На темном ковре ее бледные ступни с покрашенными ногтями смотрелись кощунственно. Она, Кэтрин, была всего-навсего целлулоидным пупсом среди фарфоровых модниц в изящных платьицах из богатой ткани. Дешевка, третий сорт, возможно, брак. Все, что происходило из двадцать первого века, тут смотрелось ущербно и неприемлемо. Как она только смеет класть свою тушу на кровать Красного Дома? Острая тоска по собственной квартирке и оставшимся там вещицам вонзилась иглой в податливый бархат ее сердца.
Когда лампа на тумбочке погасла, исчезло все — и кровать, и будто бы даже она сама. Закрыв глаза, Кэтрин попыталась заснуть — утро вечера мудренее. Но призраки всего, что она увидела сегодня, еще долго донимали ее во мраке, никак не давая уснуть. Тревожная неизвестность вокруг лишала ее покоя. Нашарив выключатель, она зажгла свет. Придется попробовать спать с ним.
Где-то в доме сначала тихо открылась, потом закрылась дверь. Мод тоже не спалось. Осознание того, что в Красном Доме она не одна, подарило Кэтрин малую долю уюта.
Повернувшись спиной к тусклой лампе, она еще раз пробежалась мыслями по планам на завтрашний день. Все было распределено буквально по часам. Сон пришел незаметно, принеся за собой образы солдат-крыс, умирающих на раскисших полях Фландрии.
А потом Красный Дом ожил, и она проснулась.
Глава 28
Она попыталась вспомнить, где находится. На секунду ей показалось, что и вовсе под землей: ноздри щекотали запахи стылых почв и отсыревшего дерева. Остатки сна все еще стояли перед глазами — в нем Белый Кролик носился взад-вперед по узкому темному туннелю и безумно, в неком нечестивом ликовании, тряс своей огромной головой. Белки в красных охотничьих костюмчиках обещали ей показать выход из этой подземной кишки, но вместо этого привели ее к чайному столику, за которым сидели красноглазые детишки, принявшиеся уверять ее на разные лады, что придется остаться здесь, с ними, потому что «в небе что-то есть». Больше Кэтрин ничего не запомнила.
И теперь она лежала без сна, вытянув руки вдоль тела и боясь шелохнуться. Ее волосы разметались по подушке. Откуда-то издалека доносился стук, и она принялась гадать, что же может производить его. «Быть может, Мод двигает мебель ночью», — пришла в голову шальная мыслишка, и Кэтрин чуть не хихикнула. А ведь вполне возможно, что уже наступило утро и плотные шторы просто не пропускают свет. Она глянула на телефон. Три часа ночи.
Просто звуки старого деревянного дома, ничего больше. Незнакомым звукам в местах равноценно незнакомых всегда находится рациональное объяснение. Но перестук вдруг обрел ритм — по двери будто стучали маленькие твердые костяшки. Не по ее двери, но по одной из дальних. И еще что-то будто бы двигалось в коридоре — по тому промежутку, что разделял ее дверь с той, в которую стучались. Что-то посвистывало и стукало, посвистывало и стукало. А вот и легкий топоток — вверх и вниз по далекой лестнице. Неужто Мод?
Шум разделился и вновь слился воедино. И вновь распался на два разных источника где-то вдалеке. Шаловливые детишки бегают по дому.
Но в этом доме нет никаких детишек.
Что-то прошелестело под самым порогом ее двери и замерло.
— Мод? — спросила Кэтрин, но звук собственного голоса показался неразличимым, слабым и сдавленным. Она громко прокашлялась и повернулась на другой бок, заставив кровать скрипнуть.
Шелест повторился. Будто бы какое-то животное замерло перед дверью, вслушиваясь.
Кэтрин села на кровати, гадая, что предпринять. Сбросив тяжелый ворох одеял с колен, она уставилась на дверь. Ключ торчал в замке. Она не стала его проворачивать — все-таки и эта комната, и весь дом были чужими. Но теперь о своей робости оставалось лишь жалеть.
Стараясь не производить скрипа, она опустила пятки на пол и на цыпочках прошла к двери. Приложила ухо к деревянной перегородке.
Постукивание, шорохи… и голоса? Низкие, тихие голоса. Все это удалялось, как если бы те, от кого шел шум, поднимались по лестнице. За ее дверью что-то застучало в том же направлении. По звуку казалось, что это нечто было маленьким, пребывало где-то у самого пола, как собака. Воображение подсунуло Кэтрин свинью в образе Эдит Мэйсон — бледной как смерть, с красными каемками век, желтыми зубами, — бегающей по дому на четвереньках. Все в порядке, дорогуша, я просто заблудилась и ищу свою комнату.
Кэтрин вернулась к кровати. Вздохнула. В доме только трое, больше никого.
Когда ей хватило духу вернуться к двери в спальню, она приоткрыла ее — вышло чуть громче, чем ей хотелось бы, — и выглянула в темноту. Прохода к лестнице, идущей вниз, и к угловой лестничной клетке не было видно, и она рискнула выступить в коридор. Откуда-то снизу шел слабый свет. Будто где-то там, куда ее взгляд не доставал, была чуть приоткрыта дверь — быть может, в том же коридоре, к которому примыкала спальня Эдит.
Старики плохо спят ночью, верно? Может, Эдит позвала Мод, и та потом стучалась к ней. Шаги экономки по лестнице и разбудили ее. Но что тогда было прямо за дверью? Кошка, собака, крыса… В принципе, любое животное могло попасть в дом через оставленное чуть приоткрытым окно. Одному Богу известно, что завелось на неухоженных лугах и в заросшем саду. Все-таки сельская местность. Животным в доме, даже непрошенным, было бы неразумно удивляться.
По бледному ореолу света, вычерчивающему из темноты призрак коридора и перил лестницы, что-то метнулось, какая-то тень. И правда, будто бы животное. Размером где-то со среднюю собаку. На четвереньках… или нет? Сложно было сказать — все произошло в мгновение ока.
Помнишь то лицо, что ты увидела в окне в самый первый день?
Неужели тут живет ребенок, сам факт существования которого от нее зачем-то скрыли? Неужели этот гипотетический ребенок зачем-то подполз к ее двери? Жуть-то какая. Нет, все-таки это просто какой-то зверь, забравшийся в дом.
Кэтрин включила в комнате верхний свет, поглотивший вязкое сияние лампы на тумбочке. Темные деревянные панели и красные драпировки делали освещение каким-то тускловатым, но важнее было то, что свет просачивался в коридор — куда она и вышла, дрожа от холода.
По пути у нее в голове родилась очередная догадка похуже первых двух. Никада болше не возвращайся сюда. Может, Мод пытается напутать ее с помощью марионеток — тех, что распиханы по кроваткам в детской? Ну да, ведь Кэтрин пришла разграбить единственное обиталище, которое у нее было. Она представила, как Эдит произносит своим скрипучим старушечьим голосом: «Мои мама и дядюшка часто выгуливали труппу по ночам, дабы меня развлечь… Скажите мне, многие ли юные леди в наше время могут похвастаться тем же?»
Ну конечно же, Красный Дом навряд ли оскудеет на традиции, церемонии или обычаи, передаваемые от психопатов умалишенным, лишь бы ужаснуть незваного гостя. Леонард же сказал ей об этом. Страх, росший внутри нее, вдруг сменился злостью. Кэтрин ненавидела все эти гнусные сюрпризы. В детстве ее накормили подобной дрянью сполна. Все эти розыгрыши и подставы, и тех, кому они нравятся, — как же она их ненавидела.
Главное — не растеряться. Не подпрыгнуть и не завизжать, когда что-то будет двигаться в темноте. Кэтрин спустилась по лестнице, замирая и морщась от древесных поскрипываний. Прошла мимо одной двери — ее она помнила, — и попыталась нашарить выключатели. Кое-как нащупала дверную ручку — все-таки заперто.
Но здесь, на лестничной клетке, источник беловатого сияния стал очевиден — как она и предполагала, он шел из коридора, где была комната Эдит.
Перегнувшись через перила и застыв на краю темного колодца лестничного пролета, Кэтрин вся обратилась в слух. Если бы над самым ее ухом вдруг раздался чей-нибудь голос, ее сердце бы точно остановилось и она полетела бы головой вниз, отдав Богу душу еще где-то межу этажами. Голос не раздался, но ощущение, что внизу, где-то в цоколе, что-то все-таки движется, насторожило ее. Что это могло быть? Звук распространялся будто бы во всех направлениях. Ей представился целый круг детишек, собирающихся там, внизу, и вот они разом задирают свои бледные, кукольные личики… Таращатся на нее во все бельма глаз.
Тряхнув головой, Кэтрин боязливо отступила от перил. Опять воображение буянит.
Крысы. Самая обыденная живность, какую можно встретить в старых домах.
Держась спиной к стене, она прошлась по лестничной клетке и выглянула в проход. Дверь, источавшая свет, была не на виду. Скорее всего, приоткрыта лишь немного, на дюйм-другой. Спальня Эдит была ближе всех к лестнице — и заперта. А вот следующей за ней шла детская, и именно из-за ее косяка исходил свет.
Развернувшись, Кэтрин шмыгнула назад, хватая воздух ртом, как рыба. У самой стены, шаря, как слепая, по недружелюбному мраку, она снова услышала разбегающийся по сторонам перестук — двумя этажами ниже. Только тогда ей вспомнились последние слова, сказанные Эдит этим вечером: «Лучше вам будет пойти к себе… Там и оставайтесь».
Глава 29
— Этот запах… — Тот странный дурман, учуянный ею еще в первый визит и все это время неотступно напоминавший о себе, волнами исходил от прохода в мастерскую Мэйсона.
— Я к нему привыкла. Почти не замечаю, пока не спущусь сюда. — Эдит улыбнулась. — Вам, наверное, сложно в это поверить, но мне он дарует покой.
Вонь навалилась на Кэтрин подобно жаре после кондиционеров. Глаза сами собой стали слезиться. Она прокашлялась.
— Это… химикаты?
— Мыло и дробленый мел в растворе мышьяка. Формалин. Остатки дядиных формул.
Да тут не остатки, тут кое-что похуже, захотелось сказать Кэтрин. Если комната уже много лет не используется как лаборатория и так пахнет, скорее всего, сам воздух в ней смертельно ядовит.
— Методы моего дядюшки по сей день держатся в строжайшем секрете. Нашлось бы много таких, кто щедро заплатил бы за то, чтобы понять, как ему удавалось достичь таких потрясающих результатов. Именно здесь он провел большую часть своей жизни. Эта комната ничуть не изменилась — все так, как он сам оставил. Не терпится показать ее вам!
Эдит не обманула: комната сохранилась так же хорошо, как и увековеченные Мэйсоном животные. Кэтрин вспомнила, как читала статью таксидермиста из Музея Естественной Истории, восхищавшегося тем, как был законсервирован тургор пригубных тканей и усов в одной из доставшихся ему на экспертизу мэйсоновых работ.
— Мне можно?.. — Кэтрин приподняла камеру.
Эдит взглянула на технику с осуждением, но в итоге кивнула.
Кэтрин указала на плиточный пол с вделанным водостоком:
— Это ведь когда-то была посудомойная?
— Да, ее переделали. Все оборудование нашей прежней домоправительницы переехало в прачечную комнату. Та поменьше будет.
Мелкая раковина марки «Белфаст» родом из 1800-х и гончарная утварь были одними из немногих предметов обстановки Красного Дома, что несли на себе отпечаток старения. На всем прочем не лежало ни пылинки. Видимо, Мод заранее тут все протерла. Медный бак с горячей водой и ручная помпа с холодной были размещены позади раковины. Маленькое окошко над баком выглядело и пахло так, будто его недавно протерли с уксусом. Кустарник жался к самому стеклу.
— Этот дом целую вечность простоит. По меньшей мере, я так думала в детстве. Хотя, по сути, мое детство так и не кончилось. — Эдит окинула взглядом стальные сушилки, нависшие над верстаком. — Моему дяде нужно было много места. Для всякой нечистоплотной работы. Как видите, он распорядился всем по высшему разряду. — И снова эта ее улыбочка, как если бы дискомфорт Кэтрин был для нее усладой.
Кэтрин выдавила улыбку в ответ и нацелила объектив камеры на длиннющий ряд сосудов, керамических и стеклянных, на полке над верстаком. Фотографии послужат хорошими иллюстрациями для каталога, хотя, конечно, для той версии, что уйдет в итоге в печать, потребуется рука профессионала. Эти же снимки она готовила для Леонарда. Вряд ли где-то еще сохранился столь обстоятельный кабинет таксидермиста начала двадцатого столетия. За право побывать здесь многие историки сразились бы друг с другом на мечах. Возможно, «Инглиш Эритейдж»[10] в итоге заинтересуется снимками.
— Будьте осторожны, ничего не трогайте. Арсенит натрия смертельно ядовит. Мой дядя использовал и буру, но предпочитал все-таки мышьяк.
Кэтрин фотографировала склянки одну за другой, не забывая делать приближение. Тут были уксусная кислота, ализин, квасцы, асбест, воск, борная кислота, хлороформ, тальк. Мэйсон держал все в идеальном порядке — каждая склянка была подписана, все ингредиенты были выстроены в алфавитной последовательности.
— Некоторых животных он усыплял хлороформом. Взгляните прямо перед собой.
— Откуда он их брал?
— У соседей. Фермерские псы ловили крыс не хуже дядиных мышеловок. А еще когда-то были времена, когда в живых оставляли лишь одного котенка из помета. Остальных наши дорогие соседи сносили дяде. Белки попадались в силки. Лис, барсуков и горностаев дядя стрелял, ставил на них капканы.
Кэтрин отвернулась от Эдит, дабы та не видела осуждения на ее лице. Сама мысль об уйме маленьких милых животных, которых убивали буквально-таки в производственных масштабах, была ей противна. Похоже, скоро ей тут станет дурно. Значит, с фотографиями надо побыстрее закончить.
Эфир, формальдегид, глицерин. Пытаясь сосредоточиться на склянках и ярлыках, Кэтрин никак не могла отстраниться от жизнерадостного голоса старухи. Когда она навела фокус на емкость с серной кислотой, Эдит произнесла с гордостью:
— Одна из составляющих его успеха — здесь. Он часто разрешал мне заходить сюда и смотреть за работой, но всегда предупреждал остерегаться этой склянки. «Никогда не трогай ее, Эди, иначе сильно-сильно обожжешься!», — так он мне говорил. А вон в той банке, что рядом, — пакля. Для набивки. Все крысы в диорамах набиты паклей. Их шеи и хвосты очень тоненькие, очень непросто с ними работать. А их лапки! Всегда самая трудная часть. Дядя…
Может, виной всему было самовнушение, но Кэтрин стало казаться, что она чует не то гниль, не то мочевину. Возможно, она уже успела надышаться чем-то гадким, опасным для ее здоровья. И снова Эдит продемонстрировала отталкивающую способность потакать самым нежеланным ее мыслям:
— Только представьте себе былые времена, Кэтрин! Как здесь пахло! Ведь некоторые туши попадали в руки дяде далеко не свежими. Он был привычен к запахам смерти. И я в итоге привыкла к ним.
Кэтрин кашлянула. Во рту стало кисло.
— Где его инструменты?
— О, другой такой коллекции вы во всей стране не сыщите.
«Да что там в стране, в мире», — подумалось Кэтрин, когда старуха подвела ее к столу. Надо думать, такая оговорка даже не требовалась, достаточно было взгляда. Рукоятки из розового дерева, начищенная до блеска сталь, ни единого пятнышка ржавчины. Подняв нетвердой рукой камеру и сфотографировав это изобилие, напоминавшее арсенал маньяка, помешанного на пытках, Кэтрин уже поняла, что выяснить их назначение у нее не хватит духу.
— Мой дядя сначала все измерял и делал гипсовые слепки — до того, как животных свежевали. Крумциркули использовались для снятия микроскопических мерок для слепков. Расстояние между глазницами было очень важно для создания желаемого выражения.
Завтрак, который Кэтрин была вынуждена утром съесть, встал дыбом в желудке.
— О, как интересно.
— И не говорите! — Эдит выглядела по-настоящему взбудораженной. — Посмотрите наверх. Там, прямо над вами. Справа. Это резаки, дорогуша! Сначала он делал головы из бальзы и гипсовых форм. Но настоящие черепа гораздо лучше. Он счищал с них плоть, вываривал. Вон там вот — ложки для выскабливания мозговых тканей. Не там, дорогуша — чуть в стороне, видите? Мышечный каркас головы он заменял паклей и хлопком. Не всякий гений-скульптор смог бы вложить так много в передачу экспрессии и мимики, сколько мог мой дядюшка!
Комната, казалось, потемнела — ужасный запах заполнил сначала носоглотку, а затем и всю голову Кэтрин сверху донизу. Она с тоской бросила взгляд за окно. Вот бы оно было открытым. Вот бы глотнуть нормального свежего воздуха. Кэтрин приметила мух — толстые черные тушки бились о стекла. Их была как минимум дюжина. Две приземлились на раме и стали ползать по ней взад-вперед — видимо, в поисках щелей и прорех; их жуткие манёвры прямо-таки говорили о стремлении попасть внутрь.
— Извините, я…
— Вон тот нож был его любимым. Он всегда носил его с собой. Тесак для резки костей.
Кэтрин задержала дыхание. Голова кружилась, силы были на исходе, она едва ли не дрожала.
— Сад. Можно выйти? В какую сторону…
— Но вы еще не посмотрели остальные ножи и набор шил! Диагональные резаки были сделаны по его чертежам, спецзаказом в Бирмингеме. Они были приспособлены для самых маленьких костей. Как еще, по-вашему, ему удалось бы сделать так много крыс?
Тонкое и бледное лицо Эдит пылало в поистине эйфорическом порыве. Зрение Кэтрин поплыло, перед глазами стали вспыхивать маленькие точечки. Она попыталась обойти инвалидное кресло хозяйки, но оно преграждало путь, заполонив весь дверной проем. Какая-то тень мелькнула в маленьком окне, будто кто-то снаружи наклонился и заглянул внутрь. Возможно, просто галлюцинация. Предобморочная. Вонь забирала у нее дыхание.
— В другой раз, Эдит, — просипела Кэтрин.
Голос старухи доносился будто бы с большого расстояния, а потом вдруг бил прямо по ушам, как если бы на Кэтрин вдруг надели мощные наушники.
— Смотрите, смотрите же. Вот это — уховертки. Похожи на кусачки ювелира, но разница в том, что раскрываются они в другую сторону. С их помощью он работал над крысиными ушами. Представляете, сколько терпения требовалось, дорогуша? А, вы же еще иголок не видели! Разве вам не нужно их сфотографировать? Трехгранные для тонких шкур, а для тех, что потолще — хирургические. И еще вот эти, изогнутые… Дорогуша, да вы ведь даже не смотрите!
— Мне… плохо. Прошу вас. — Ноги Кэтрин подломились, она споткнулась о большую оцинкованную стальную ванну и схватилась обеими руками за ее борт, чтобы не свалиться.
— Осторожнее! Не наваливайтесь на нее!
Закрытое окно, цепи, свисающие с дубильных стеллажей, желтые зубы Эдит за вялыми червяками ее губ, ложки для выскабливания мозгов — все это плыло перед ее меркнущим взглядом. Кэтрин наклонила голову над ванной.
— В ней были галлоны этанола, дорогая. Она и сейчас ядовита. Там дядя мариновал…
Остальное она не услышала — слова Эдит заглушил плеск полупереваренной овсянки и копченой рыбы, поданных Мод за завтраком, о тонкий листовой металл.
Где-то там, за пределами ее слепоты и сдавленного дыхания, далеко за гранью паники, отчаяния и отвращения к самой себе, отвратительно зазвенел колокольчик Эдит — дьявольски близко к ее страдающим ушам. И Кэтрин искренне взмолилась Богу, прося, чтобы этот ужасный звук смолк, смолк, смолк.
Глава 30
Иссиня-черные небеса давили на землю гневным грузом, как будто грядущая ночь прильнула к полотну дневного летнего неба и местами уже прорывалась наружу. Вот оно, истинное затишье перед бурей. В случайных просветах в живой изгороди Кэтрин мельком видела луга и мерцавшее над их розовато-желтым цветением густое марево.
Но чем дальше от нее оставался Красный Дом, тем сильнее прояснялись ее рассудок и чувства. Измождение и тошнота, что переполняли ее в мастерской Мэйсона, рассеялись. Она вобрала в себя ароматный воздух и поняла, что хочет пить.
Красному «мини» она обрадовалась, как родному, после долгих лет жизни в среде враждебно настроенных чужаков. Через окошко автомобиля она углядела на приборной доске карту, солнцезащитные очки, жевательную резинку и ключ в замке зажигания. Какое все было современное и милое сердцу! Кэтрин еле-еле сдержала порыв запрыгнуть в машину и вернуться в привычный ей мир.
Ужасная химическая вонь напомнила о себе. Запах гнили запутался в волосах, осел на ее коже, забился в складки одежды. Даже здесь, на улице, Кэтрин воняла Красным Домом и его безумием. Мысль о том, что этот запах никогда больше не покинет ее, повергла ее в панику. Вот бы ветер унес эту мерзость прочь. Но нет же, как назло воздух здесь едва двигался — она почти всегда заставала здесь полнейшее безветрие. Тяжелый, вовлеченный в вечный сон Красного Дома ветерок будто ждал, когда навек оставившие его силы вернутся вновь, прозябая вяло и безнадежно.
Чем дольше она вглядывалась в необъятное индиго небес и луговой простор трав, что доставали ей до самого пояса, тем сильнее чувствовала себя слишком заметной, притом столь незначительной, чуждой и беззащитной, что хотелось плакать. Физическая свобода от Красного Дома заставила ее вновь задуматься о том, стоит ли возвращаться под его мрачные своды. Там ею попросту манипулировали. Совали под нос какие-то ужасы и богохульства. За пределами этого скопления острых шпилей и нагромождения убийственно-красных стен вся великая наука Мэйсона и его полубезумной старухи-хранительницы не имела ни смысла, ни толка, ни применения.
Кэтрин вдруг воспылала ненавистью к старухам. Они ведь стращали ее совершенно умышленно! Все, что она пережила, было умным образом подстроено, сомневаться тут не в чем. Даже Эдит, извечно-чопорная и неуживчивая, отреагировала предельно спокойно — ну разве это не выдает обманщицу с головой? Как можно быть настолько подлыми в таких-то почтенных летах?
Опорожняя завтрак в цинковую ванну в той ужасной комнатке с окном, облепленным мухами, она думала о том, сколь несчастлива ее судьба. Старые обиды и разочарования шли к ней огромной чередой, но за что ей все это? Все происходящее с ней задевало ее на личном уровне и выглядело предписанным, если не неизбежным. Либо мир был жесток, либо она как-то навлекла на себя его гнев. В том, какой из двух этих вариантов верен, Кэтрин никогда не была уверена.
А может быть, Мод и Эдит попросту утратили способность вести себя как-то иначе и тем самым насылали на нее без умысла паранойю и беспокойство. Трудно было сказать что-то наверняка. Здесь безумец погонял безумца.
Эдит не хотела отпускать ее наружу. Просила, чтобы Кэтрин осталась в доме и, как она выразилась, «сопровождала» ее в душную гостиную, забитую резвящимися чучелами. Эдит просто-напросто хотела запечатать ее внутри, как еще одну куклу, угодившую в коллекцию. Нам нужно сделать примерку, дорогая моя. Нет времени для прогулок. О чем это она вообще говорила — «сделать примерку»? Борясь с дурнотой, Кэтрин так и не удосужилась спросить.
Да и смотр грядет! Вы должны быть готовы к нему. Смотр лишь один раз в году.
Спеша выбраться на свежий воздух, Кэтрин не спросила и об этом. Ей просто хотелось побыстрее избавиться от этих идеологических силков Эдит и Красного Дома, в которых все ее мысли надлежало извратить, а все порывы — раздавить. Отвергнутая настоящим, Кэтрин и в мире старья места не находила — рак-отшельник в своей ракушке, и только. Невинная скупка антиквариата обернулась чем-то совершенно незапланированным, и ныне ей казалось, что неведомая сила оттягивает ее назад, к чему-то, что она не могла никак назвать, к чему-то, что следовало бы увидеть, прежде чем дать ему завладеть тобой.
Хватит думать об этом. Хватит! Хватит.
Кэтрин прижала пальцы к вискам. Мысли кое-как замедлились. Увы, она была сверх всякой меры чувствительна к таким вещам. Представляла собой образец параноика — и с этим надо было как-то жить. Нужно было возобновлять все эти ритуалы, называемые психологами когнитивно-поведенческой терапией, чтобы выполоть из мозгов семена, что выросли в вымученно-запутанные теории заговора, обвившие ее сознание. Нужно было как-то идти вперед, как-то выживать. Предательство Майка подкосило ее, даже жуткие трансы вернулись. Вот и вся причина ее нынешних бед. Нельзя, чтобы еще и работа донимала ее. В случае проигрыша ни она, ни Леонард ничего не получат.
Ее сумка и ноутбук остались в доме, да и камеру она бросила в мастерской. Экспонаты, мебель, грандиозный интерьер, каталог, пресс-релиз, неподписанный контракт, репортажи в новостях, немедленное повышение репутации ее фирмы, Леонард, так много сделавший для нее, столь добрый с ней… Все эти обстоятельства давили.
Она не могла просто так уйти. Кэтрин бежала от неприятностей всю свою жизнь, и эта гонка будет вечной, если сейчас она сдастся. Да и куда податься, если она сегодня уедет? Запереться в своей квартире, иногда выползая на оценку дряхлеющего жилого фонда с рассованным по углам фамильным серебром, неполными обеденными сервизами и изредка попадающимися картинами со скаковыми лошадями? По сравнению с сокровищницей Мэйсона все это просто убого и смешно. Можно ненадолго и забыть о своих проблемах.
Но все-таки Красный Дом был стар. Его история пестрила странностями, его жильцы являли собой неуравновешенных беженцев из прошлого. Элегантные тряпки на допотопных костях… Мало кто мог составить этим двоим адекватную компанию. Но она должна быть готова. Она повидала кишащие мышами особняки двух скупердяев-миллионеров — один был в Ладлоу, другой в Монмуте. Их хозяева не просто умерли, но мумифицировались в своих кроватях, усохли заживо в комнатках с заколоченными ставнями, загроможденных хламом настолько, что свет солнца десятки лет не касался их. Конечно же, наслушалась она и всяких страшилок о своем ремесле — о Тернерах, Констеблях и Бэконах, найденных на своих чердаках мертвыми. Ее это все не пугает, причуды — обычная составляющая ее работы. И если она сладит с Красным Домом, настанет ее звездный час. Больше не надо будет никуда и ни от кого бежать.
Стоит успокоиться. Пережить сегодняшний и, возможно, завтрашний день. Но она совершенно точно поедет домой этим вечером — очередного званого ужина (которому куда больше подошло бы определение «званый ужас») она не потерпит. Она вернется и извинится за то, что ее вывернуло в этаноловую ванну Мэйсона, а затем приедет завтра утром вместе с Леонардом и начнет фактическую опись. Никаких «примерок», никаких «смотров» — Эдит давно пора понять. Леонард должен быть тверд с ней. Кэтрин вернется, пробудет здесь так долго, как потребуется, но — только вместе с начальством.
Как же хочется пить! Где-то в деревне должен быть продуктовый магазин. А вообще неплохо было бы пообедать с бокалом белого вина в пабе, чтобы нервы немного улеглись. Посидеть, взять передышку от напряжения, что вселяли в нее зловещая тишина, лишь по ночам нарушаемая какими-то шорохами, и вонь смертоносных химических соединений.
До деревни было рукой подать — каких-то две мили, может, чуть больше. Кэтрин решила, что вполне сможет дойти туда пешком, по свежему воздуху. Заодно и освежится.
Глава 31
В деревне, как выяснилось, негде было даже глотком воды разжиться, не говоря уже о всяческих белых винах и накрытых обедах. Все было предельно заброшенным. Магбар-Вуд на поверку оказался всего-навсего двумя улочками старых, похожих на заброшенные домов с террасами, выстроившихся по обе стороны от узкой прогулочной дороги.
Кэтрин до этого раза четыре проезжала по главной улице, но никогда особо не обращала внимания на обстановку вокруг. Раньше она даже не замечала одинокий проулок, ведущий к маленькой церкви. Видя огромные запущенные поля вокруг, она боялась заблудиться, к тому же постоянно смотрела на телефон, ожидая, когда появится сигнал, а потому у нее просто не хватило сил разглядывать окрестности.
Кэтрин шла по улице, а из домов не доносилось ни звука. За главной улицей маячили одни только неухоженные луга и поля, подпертые где-то у самого горизонта холмами с черной порослью деревьев. Кэтрин будто бы угодила в двухмерную ловушку какого-то старого пейзажа на пасторальную тему, изображавшего вымерший городок.
Так, хватит.
Она развернулась и прошла между многоквартирными домиками, сделанными из мутно-красного кирпича. Шифер крыш был стерт, водостоки проржавели до дыр. Все окна, выходящие на улицу, были темными и пыльными. Может, конечно, во всем было повинно слепящее солнце в зените.
Первый магазин, на который упал взгляд Кэтрин, некогда был бутиком одежды. В окнах желтели целлофановые завесы, защищающие «предметы высокой уличной моды для мужчин, женщин, мальчиков и девочек», как гласили растяжки. Из-за занавесей витрины казались чем-то вроде стеклышек в дешевых солнечных очках, что раздают на детских праздниках. Кэтрин прижала лицо и руки к стеклу, но сразу отшатнулась. В глубине зала стояли какие-то одетые фигуры.
Они не двигались. Кэтрин облегченно вздохнула, почувствовав себя глупо. Манекены. Она снова подошла к окну и присмотрелась внимательнее. Старые манекены с нейлоновыми париками и раскрашенными пластиковыми лицами. Мужчина, одетый в нечто похожее на шорты и рубашку хаки, одинаковые носки подтянуты аж до колен. Женская фигура была обнажена. Внутри оказалось слишком тускло, было непонятно, во что одели мальчика и девочку, их то ли прислонили к пустым полкам, то ли они упали. Судя по позам, дети держались за руки. За манекенами все пространство магазина скрывала тьма.
Вышагивая вдоль улицы, Кэтрин набрела на еще один магазин — небольшой и точно так же закрытый. Вроде бы даже не такой уж и старый. Витрины были проложены искусственной травой, на подстилке валялись опустевшие белые лотки — когда-то, видимо, там лежало мясо. Полдюжины ленивых синих мух ползали внутри, видимо выказывая дань уважения старым привычкам.
Выцветшая наклейка на панорамном окне обещала СВЕЖИЙ ХЛЕБ — ЕЖЕДНЕВНО. Под ней были приклеены на стекло вырезки из местных газет, о которых Кэтрин никогда не слышала, и выцветшая на солнце реклама мороженого. Ну и ну! Это изображение она помнила еще по детским годам — мальчик и девочка на плакате сидели спиной к спине на фоне эскимо с ванилью размером с небоскреб. В помещении за окном свет ожидаемо не горел, но можно было углядеть вращающийся стенд с открытками, холодильник и у стены — стеллаж с консервами.
Отвернувшись, она собралась уже идти дальше — и вдруг замерла. Аккуратно присела у входной двери. Из-под нижней ее половины, лицом к изобилию стекольных наклеек, одиноко выглядывала пластиковая фигура маленького мальчика в шортах, с ногами, закованными в опорки. В руках у него был ящик для сбора пожертвований с узкой прорезью на крышке. Погода, от превратностей которой он ныне был защищен, стерла большую часть его лица вместе с названием благотворительной организации. Рядом с одной из ног в массивном коричневом ботинке примостился побитый дождем щенок спаниеля и взирал снизу вверх чересчур большими умоляющими глазами.
Подобных «сборщиков» она не видела с детства. Столько лет о них не думала — и вот, уже второй попался за каких-то несколько недель. Совпадение нагнало на Кэтрин легкую печаль, чуть подкрашенную тревогой. Само наличие здесь пластикового мальчика и запустение магазинов говорили о том, что в деревне жизнь прекратилась в восьмидесятые, если даже не раньше… И было в этом что-то очень неправильное. Даже отдаленный звук автомобиля вернул бы сейчас Кэтрин уверенность — она отчаянно нуждалась в каких-нибудь признаках жизни.
Перед одним из коттеджей она встала на цыпочки и посмотрела через одиночное окно, прорезанное прямо рядом с грязной входной дверью. Чистые занавески пожелтели, словно глазурь на старом рождественском торте. Разрыв в сетке над подоконником позволил ей прижаться носом к стеклу, и она прищурилась, разглядывая мрак.
Комната напоминала старинную фотографию, сделанную при плохом освещении, — загромождена тяжелой мебелью, с голыми стенами и высоким светлым потолком. Ни намека нa дверь в поле зрения — сама мысль о том, что может существовать такая комната, из которой выхода попросту нет, напрягла ее. А хуже этой идеи было только подспудное легкое ощущение, что там, в комнате, все-таки кто-то есть. Кто-то брошенный посреди беспорядка, замурованный, но все еще живой и ждущий. Кто-то, смотрящий на нее.
Кэтрин продолжила свой путь по наклонной тропке. Обочины здесь были крутые — надо думать, деревенька была привычна к переполохам, которые устраивают ливни и паводки. Ее взгляд вдруг привлекло какое-то мельтешение, там, в конце дороги. А еще Кэтрин показалось — впрочем, полной уверенности у нее не было, — что желтая занавеска в окне коттеджа, от которого она успела отойти, только что отодвинулась в сторону.
Она быстро подняла глаза прямо перед собой, и ей пришлось схватиться за стену, чтобы удержать равновесие. Возможно, она снова ошиблась, но за край ее глаза что-то зацепилось — некий темный контур позади занавески — в глубине окна, в темноте спальни.
Кажется, деревня была не так пуста, как показалось на первый взгляд. В спешке повернув за угол, Кэтрин обнаружила глухой тупик.
Ее присутствие пробудило некую тайную деятельность — теперь Кэтрин была на все сто уверена, что видела еще одно лицо, бледное пятно в окне коттеджа в считаных футах от себя. Незнакомец не производил впечатления наблюдателя — скорее, ждал, когда она пройдет мимо его жилища, ждал ее приближения. А это было еще хуже, чем простое любопытство.
Отвернувшись, Кэтрин сделала вид, что роется в сумочке, сама исподтишка бросая взгляды на окно. На этом сетки не было. Дома в тупичке были еще более убогими и заброшенными, чем те, что окружали главную площадь.
Да, кто-то там, в той комнате за окном, определенно был. Человек стоял близко к раме, но спиной к улице. Какая-то маленькая женщина, подумалось Кэтрин, одетая во что-то вроде длинного темного платья. Не то смотрит в невидимый с позиций Кэтрин телевизор, не то просто таращится в стену. Волосы определенно черные, но кажутся неухоженными — этакое гнездо на голове. Что-то еще разглядеть было трудно — а задерживаясь, Кэтрин рисковала привлечь к себе нежелательное внимание. Но зачем эта женщина просто стоит, не двигаясь, в запыленном квадрате оконного света, опустив руку на спинку стула? Рука была настолько бледной, что иначе чем надетой перчаткой такой цвет объяснить было сложно. Кэтрин быстро-быстро зашагала дальше.
Дойдя до конца улицы, упиравшейся во владения церквушки, она нашла еще один магазин и перешла через дорогу, чтобы заглянуть внутрь. И этот пуст. На окне ни завеси, ни защитной гофры. Чем магазин когда-то торговал, догадаться не выходило. Деревянный навес был окрашен густой коричневой эмульсией цвета креозота. Забавно, но табличка на двери возвещала, что магазин открыт — даром что свет был выключен и витрины пустовали. В углу широкого деревянного лотка в окне трепыхалась крупная моль, за стойкой у стены Кэтрин разглядела архаичную швейную машину и несколько отрезов ткани. Часть стойки была отгорожена панелью из матового стекла — мутные контуры конторской меблировки так и манили подойти и убедиться, что движение где-то в глубине магазина — лишь иллюзия. Вот только стоило Кэтрин отвернуться от пыльной витрины, как это самое движение стало вполне очевидным.
Кэтрин пригнулась, опустилась на корточки в дорожную грязь. Кто-то вставал, видимо, с кресла, но так медленно, что это выглядело очень странно. Человек за стойкой не то не собирался, не то не мог распрямиться до конца. Его фигура так и замерла где-то там, в полутьме конторки, со склоненной головой, укрытой метелкой нездоровых тонких волос. И что он там делает? Разглядывает пол — или ее?
По шее Кэтрин пробежал холодок. Она оглянулась и окинула улицу взглядом, ища тех, кто мог бы сейчас подглядывать за ней. Лица в окнах.
Никого. Обветшалые фасады, окна со старыми москитными сетками или занавесками, иные даже без них. И все.
Кэтрин снова перевела взгляд на магазин. Кого бы она там, внутри, не потревожила, тот уже явно куда-то скрылся. Почему-то не желая сталкиваться с этим странным человеком нос к носу, она поспешила к церкви. Та была маленькой, исконно англосаксонской. Когда-то в ее стенах проповедовал Мэйсон. Все окна в церквушке были заколочены разбухшими от влаги досками, да и кладбище при ней заросло высокими сорняками. Главные высокие двери кто-то и вовсе перегородил крест-накрест, доска с расписанием церковных служб над резной скамеечкой была девственно чиста. Как и сам городок, здешняя конгрегация вымерла. Кэтрин подумала о том, не потеряли ли деревенские веру как раз тогда, когда М. Г. Мэйсон отвернулся от Бога.
Позади церкви, занимая последний островок ухоженной земли перед низкой каменной оградой кладбища, стояло единственное свидетельство того, что люди вообще имели какой-то интерес оставаться в Магбар-Вуд — вытянутое дощатое бунгало с проржавевшей до цвета рябины крышей. На двойных дверях висела цепь с замком, трепещущая на ветру растяжка над ними сообщала: П ДСТА ЕНИЯ.
У самого входа стояло нечто вроде будки билетера, к коей на расползшуюся в хлопья ржавчины кнопку был пришпилен пожелтевший лист бумаги — афиша «представлений», что бы они собой не являли. Правда, никаких дат и указаний на то, в каком году было дело, афиша не предоставляла. Одни названия, никаких уточнений.
ОБЕЗДОЛЕННЫЕ СЛЕПЦЫ ИЗ БЕТНАЛ-ГРИН.
ОТПРЫСКИ ДЕРЕВА.
ФАУСТ.
РОЖДЕНИЕ АРЛЕКИНА.
ЗЕЛЕНЫЙ ЗМИЙ.
Когда первая холодная дождевая капля ударила ее по щеке, Кэтрин решила вернуться в Красный Дом. Черт с ним, лучше уж там, чем здесь. И еще надо обогнуть тот жуткий коттедж с комнатой без дверей. Пробегая мимо, она увидела, что дверь дома открыта — и, более того, оттуда доносится чей-то голос. Старческий, ослабленный годами, но все еще густовато-грубый, отмеченный печатью местного диалекта:
— Ты фидель йо? Пршу прщения. Фиделя?
Кэтрин сбавила шаг против своего желания пройти мимо — голос явно не сулил продуктивной беседы, на которую она рассчитывала бы. В какой-то миг, все еще немного сбитая с толку и напуганная этим внезапным явлением, она сначала подумала, что ее по какой-то причине перепутали с Фиделем Кастро. Только потом до нее дошло, что у нее спрашивают, видела ли она кого-то, а загадочное «йо» — на самом деле «ее».
Она осторожно подошла к двери, готовая в любой момент рвануть назад.
— Извините, вы ко мне обращаетесь?
— Ти их рашбудила, ти иди ушпакаивай. Рано ишшо.
— Простите?..
Из темной щелки между дверью и косяком доносился какой-то приглушенный шум. Дверь скребли ногтями с той стороны. Казалось, что странный обитатель дома не то напуган присутствием Кэтрин, не то, судя по тихому смешку, напротив, радуется — что было бы, конечно же, хуже. Она решила не подходить ближе.
— Вам нужна помощь… — Она почти сказала «миссис», но потом осеклась, поняв, что по голосу было не определить пол говорящего. Видимо, та самая старушка в белых перчатках, увиденная ею через окно — значит, все-таки «миссис»?
Запах грязного лежалого тряпья распространялся от дома, доползая до самой дорожки. Наверняка внутри одна плесень; света нет, и как там только кто-то живет?
— Tи була фдоме? Фиделя йо, она ушла фдом?
— Кто? Простите, я не вполне понимаю…
— Фсе нитак прошто, а? Как думаиш. Фремя штарухи ишшо не вышло?
Как по сломанному телефону говорить. Впрочем, чему удивляться — сама деревенька была сломана, вот и единственный житель ей под стать. Но некая уверенность, некая жуткая серьезность старушечьего голоса не давали Кэтрин просто развернуться и уйти. Ей казалось, что собеседница воспринимала ее как человека полностью осведомленного о каком-то событии, вокруг которого она и хотела выстроить разговор. Удалиться, не разобравшись, было бы грубо.
— Простите, я не понимаю. Если вы объясните, в чем дело, я попробую помочь вам.
— Фот, фот. Фошьми это. Шхади в махасин и принеши мне пол фунту. — За край двери высунулась тонкая рука. Чуть повыше торчал пучок седых волос, отмечая голову, почти целиком скрытую. Какой маленькой, должно быть, была старушка — еле-еле доставала Кэтрин до плеча, а ведь стоило учитывать еще и то, что порог был чуть поднят над уровнем земли.
Кэтрин отстранилась немного. Торчащая из темного пыльного рукава ладонь была без перчатки. Ни кровинки — кожа напоминала чуть ли не просвечивающую бумагу, ногти желтые, неухоженные. Старуха, скорее всего, выжила из ума — вот и спутала ее с кем-то из глубин распадающейся памяти. Ладонь была пуста — вопреки предположению Кэтрин о том, что ее просят что-то купить.
— Магазин закрыт. Я вам скажу, что вся деревня опустела.
— Полфунту! И немношко бишквитов.
Неужели тут нет соседей, родственников, совсем никого, кто присмотрел бы за ней?
— Простите. Говорю же, магазин закрыт. Тут все закрыто. Я могу вам помочь? Может, позвать кого-нибудь?
— Не фиделя ее штой шамой поры, как она фдом ушла. А нат крышей-то там щерным-щер-но, да, аха? Фще еще префращается. Шышел-мышел, обратно не фышел.
Не говоря ни слова, Кэтрин пошла прочь. Дверь за ее спиной так и не закрылась, и укоряющая тишина пугала ее. Из окна пустой лавки через дорогу ей кто-то будто бы помахал — слишком тонкой рукой, — но то, должно быть, была лишь игра тусклого света, да и то, что шла она довольно-таки быстро, наверняка сказалось…
Но все-таки — просто на всякий случай, — Кэтрин ускорила шаг.
Глава 32
Даже когда впереди замаячили башенки Красного Дома, Кэтрин так и не отделалась от упадочного духа деревеньки, окрашивающего все ее мысли в цвета старой фотографии, пожелтевшей от времени, испещренной пятнами.
Кто знает, может быть, именно этот огромный особняк, этот мавзолей, чтивший утрату и безумие, вытянул все жизненные соки из деревни. Возможно, вся ее энергия утекла в эту вампирскую постройку. Возможно, дом работал подобно машине времени, возвращая эту землю с лугами, полями и вересковыми пустошами уже даже не в минувший век, а в те времена, когда здесь вообще не было никаких оград, никаких лачуг, никаких стен вообще. Мир вокруг Красного Дома запустел и одичал, в то время как сам Дом старость не тронула ни капельки.
Кэтрин оправила подол платья, вымокшего и липнущего теперь к телу. Дождь прошел быстро, но она все равно умудрилась вымокнуть до нитки. Миновав заросли боярышника, она снопа попала в солнечное пятно — может, хоть что-nо да успеет высохнуть.
Дверь в дом была открыта точно так, как она ее оставила. Крутом царила тишина, и лишь лужицы дождевой воды посверкивали, впитываясь в землю. Кэтрин глянула на часы. Эдит, надо думать, спит. Мод моет посуду после ланча, который Кэтрин, слава Богу, пропустила.
Но перед тем как войти, она решила осмотреть сад и найти хотя бы следы того загадочного пасечника, невесть что вытворявшего под ее окном. Ей жутко хотелось, чтобы хоть что-то из происходящего вокруг обрело смысл. Хотелось поддаться диковатому порыву и хорошенько засветить самой себе кулаком в глаз, чтобы смысл вернулся и больше никуда не уходил.
Даже у гостей, в конце концов, есть права. Кэтрин устала блуждать во мраке, устала поддаваться на провокации и манипуляции. Майк, Тара, Эдит, Мод — все только и делают, что что-то от нее скрывают. Даже не будучи с ней в прямом контакте, все они хорошенько потоптались в ее душе, и эти следы остались с ней. Может, в выходках старух и не было ничего, кроме желания подшутить над выскочкой из двадцать первого века, вот только волю ее притеснять не следует. Она попробовала ослабить хватку, съездив в деревню, но и там на нее набросили хомут из запустения и чужого сумасшествия.
Какие все-таки абсурдные мысли. И почему она только позволяет людям влиять на нее так сильно?
Прямо за перилами ей открылась выложенная камнями тропка, овивавшая фундамент дома. Кэтрин пошла по ней, то и дело останавливаясь и обметая подол от налипших колючек и веточек — в узкой прорехе между стенами дома и разросшимся садом от них было некуда деться. Когда на пути встали розовые кусты, чьи вьюнки забились в выемки в кладке дома, словно некие растительные вены, продвигаться стало еще труднее. Кэтрин оцарапала коленки, накололась ладонью на шип. Ранки сразу же вспухли, кожа невыносимо зудела.
Обогнув-таки угол дома, она вступила в заросли кустистой луговой травы и увидела заброшенный фруктовый сад. Мухи уже ждали ее: большие, ленивые, одуревшие от легкой поживы — гниющих на земле плодов. Впрочем, этот фасад был обманчив — стоило Кэтрин заступить на их территорию, как они сразу принялись сердито и громко жужжать и биться о самый ее лоб. Отмахиваясь, она подумала было поискать дверь черного хода, но ее остановил страх столкнуться там с Мод. Мысль о том, что домоправительница будет ждать ее, следить за ней своими жуткими бесцветными глазами, заставила ее отступить к дому, высящемуся за ней подобно молчаливому монстру размером с гору, устремившему на нее взгляд множества подернутых поволокой пыли окошек.
Понимая, что одета не для подобных выходок, Кэтрин сделала огромный зигзаг через сад. Ноги приходилось высоко задирать, протаптывая себе дорожку через буйный цвет самых разных сорняков, собранных здесь будто со всего света.
К тому времени, как она обогнула рассыпающуюся в труху беседку и поравнялась с кишащими личинками деревьями, ее платье превратилось и безвозвратно лишенную лоска тряпку. За деревьями тянулись многие акры высокой трапы, земля под которой после дождя сделалась настолько скользкой, что Кэтрин не рискнула углубляться дальше.
Две каменные статуи, запутавшиеся в мертвых ежевичных кустах и увитые вполне себе живым плющом, явились пред ее взор двумя неусыпными стражниками. Черты одной из них было не разобрать из-за нагромождений садовой листвы, другая, судя по всему, некогда изображала гримасничающего фавна. Что же они когда-то охраняли здесь? Теплицу, скорее всего. И верно — раздвинув заросли, Кэтрин различила постройку. Стеклянные панели цвета морской волны были пробиты во многих местах жесткими ветвями, напоминавшими лапы гигантского паука. Большая часть крыши была выдавлена изнутри, и кроны обратили свои круглые головы к небу. Жизнь все-таки нашла дорогу к свету.
В стороне от развалин беседки четыре прямоугольных ящика гудели, как электрические трансформаторные будки. Ульи. Когда-то они были выкрашены белой краской, но сейчас их цвет был преимущественно грязно-зеленым. Кроме того, все они покосились.
За ульями виднелись резные воротца в увитой плющом стене. Они вели к лугам. К воротцам подходила неухоженная дорожка, огибавшая ульи по дальнему краю сада.
Кэтрин почесала саднящую ногу. Может, Эдит не солгала, и кто-нибудь из местных хаживал к запущенным ульям. Может, у Мод был тайный друг — сложно было представить угрюмую домоправительницу, располагающую чем-то большим. Возможно, Эдит, явно считавшая себя в праве указывать другим, как жить, запретила Мод вступать в отношения. Образцовая зависимость подчиненной от хозяйки. НИКАДА ВОЛШЕ НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ СЮДА. Возможно, таким образом Мод пыталась предупредить Кэтрин о том, насколько на самом деле жестока Эдит?
Кажется, ее присутствие здесь учуяли — гул внутри ульев обрел рассерженные, даже слегка угрожающие нотки. В панике Кэтрин отступила к протоптанной в траве дорожке. Если рассерженные пчелы все-таки покажутся снаружи, она сможет быстренько убежать обратно к дому.
Но Кэтрин остановилась, учуяв тяжелый дурман разложения. Видимо, где-то в зарослях травы что-то гнило. Какое-то животное, должно быть, приползло сюда с лугов и умерло здесь.
Задержав дыхание, Кэтрин быстро, как только могла, миновала несколько каких-то невидимых из-за травы препятствий — не то кочек, не то торчащих из земли камней — и, ойкая всякий раз, когда очередной сорняк хлестал по ногам, проковыляла к ульям. От них и шла вся вонь — не от зарослей травы. И никаких пчел внутри не было. Одни только мухи.
Всполошенные ею, они взмыли в воздух черной тучей — разом изо всех щелей в дощатых ящиках — и полетели куда-то по направлению к Красному Дому.
Кэтрин пробежала по тропке через фруктовый сад к дому, краем глаза заметив простую деревянную дверь черного хода рядом с маленьким окошком мастерской Мэйсона. Наверное, через нее Мод выносила помои с кухни и сваливала в ульи. Она совершенно точно заметила перо фазана, торчащее в одной из щербин. Вот только зачем устраивать свалку с мушиным гнездом прямо у себя под окнами? И кто был тот человек в белом? Что он делал с ульями — очищал от мусора? Кэтрин представила себе, что творится там, внутри, и в горле у нее встал ком. Похоже, длительный контакт с прогнившими во всех смыслах нравами Красного Дома несколько огрубил ее — блевать уже не тянуло. Нет, отсюда определенно надо сматываться. Тихо, быстро собирать вещи — и бежать.
Все здесь было нездоровым, отравленным. Полным болезней и отклонений от нормы. Красный Дом был плохим местом. Гиблым. Есть такие места, которые иначе просто и не назовешь; она всегда подозревала это, и вот — явное тому подтверждение. Красный Дом, сгнив изнутри сам, еще и деревню уволок за собой в могилу. Всему здесь пришел свой последний срок, все это нужно было сравнять с землей и похоронить, но нет же — словно злой паразит, Дом цеплялся за существование. И теперь уже тянул соки из нее, из Кэтрин.
Мысли метались, жужжали почище растревоженных мух над ее головой, шлейфом стелившихся за ней, пока она бежала через сад. Внезапно острое ощущение чужого взгляда остановило ее, заставило остановиться и поднять глаза, будто повинуясь бессловесному приказу.
Лицо, маленькое белое лицо. Вон в том окне.
Эдит в черном парике? Ну нет, оно будто бы принадлежало ребенку.
Лицо быстро исчезло — либо неизвестный наблюдатель отбежал сам, либо его кто-то оттащил от окна. Но Кэтрин разобрала кое-что. На лице том была не то маска, не то тканевая повязка. Мягкие, прижатые к стеклу черты выглядели плоскими; черный провал рта был изумленно раззявлен. Темные кудри выбивались из-под шляпки на подвязках, что делало фигуру похожей на ребенка, на девочку. Так это была кукла? Окно второго этажа, рядом с большим панорамным, что тянулось по коридору… Значит, это та самая комната, которую она, Кэтрин, сейчас занимает. Кто-то был в ее комнате и держал куклу у окна, пока она бродила по саду.
Мод? Но к чему такие выходки?
Мод видела, как она расхаживала тут. Значит, теперь она знает, что Кэтрин видела мух и то место, куда сваливают отходы с кухни. Может быть…
Постоянный страх уже начал выматывать ее. Похоже, тут ее пытаются просто-напросто свести с ума. Сделать такой же полоумной, как они сами. В действиях старух не было смысла — какая все-таки зловещая, насквозь неуравновешенная парочка! Леонард предупреждал… Но мог ли он предположить такое?
Черный ход оказался не заперт. Она сбросила с ног хлюпающие кроссовки и прошла по коридорчику с тканевым покрытием на полу. Рубиновый свет холла уже маячил впереди, все остальное пространство между ним и мастерской было погружено во мрак.
Первая дверь по правую руку от нее открылась в мастерскую Мэйсона. Возможно, где-то там все еще лежит ее камера. Она заберет ее, потом ноутбук и свою сумку из комнаты наверху и уйдет истинно по-английски, не попрощавшись. А там — дом, милый дом. Место, где она будет в безопасности и покое.
Смрад химикатов окутал ее. В голове сразу зажужжали назойливые мухи, рот заполнил кисловатый привкус. Призраки с перепутанными волосами взяли ее в кольцо — наступая изо всех углов, таращась на нее из пыльных окон…
Все, хватит с меня призраков. Пора и честь знать.
Ведущая из мастерской дверь была распахнута — возможно, комнату проветривали после того, как Кэтрин стошнило. Она исполненным злости взглядом окинула склянки с ядами, омерзительные мэйсоновы скребки, ножи и крючки, верстак и чертову жестяную ванну. Камера была точно там, где она ее оставила. Все было точно таким, каким запомнила она по своему утреннему визиту сюда… кроме одной вещицы. Этого раньше здесь не было.
Кэтрин подошла поближе, борясь с отвращением и силясь понять, что видят ее глаза.
Перед ней был вырезанный из бальзы женский торс в натуральную величину. Грубый бюст, зауженная талия. Ноги ниже середины бедер отсутствовали, упираясь в подставку из чугуна с тремя подпорками. Руки, сделанные из набитых паклей «рукавов», крепились к заготовке металлическими стяжками, на плечи фигуры было наброшено что-то вроде сбруи. «Рукава» венчались тяжелыми керамическими кистями с безвольно обвисшими пальцами на шарнирах. Подумав о том, какой звук эти штуки издают в действии, Кэтрин содрогнулась.
И зачем это поставили здесь? Очередная бестактная попытка напугать ее? Заготовка для злого розыгрыша? Отвернувшись от уродливой фигуры, Кэтрин схватила свою камеру.
В коридоре тоненько заскрипели колеса инвалидного кресла. Она вздрогнула и резко обернулась к проему, в котором уже маячила Эдит.
Пальцы старухи до белизны впились в подлокотники — не то от злости, не то в попытке удержать хозяйку в кресле. Выглядела она ужасно изможденной и растрепанной. Дождевик был накинут на плечики платья из тяжелого твида, сидящего на костях хозяйки, словно чехол. Нечто подобное носили женщины-мотористки еще до Первой мировой.
Бледное лицо старухи казалось маленьким из-за ужасающе дурновкусного парика в стиле «помпадур». Над ним маячила до омерзения обезьяноподобная морда Мод — сходство лишь усиливалось благодаря короткой «мальчишеской» прическе.
Затуманенный и обвиняющий взгляд Эдит, словно перст, ткнулся в Кэтрин.
— Вы, надеюсь, увидели все, что хотели?
— Я пришла забрать камеру.
— О чем вы только думали? Мы вас уже обыскались.
— Зря. Мне просто нужно было прогуляться. — Образ двух ужасных старух — одна, Мод, толкает вперед кресло с другой, с Эдит, — рыщущих по окрестностям посреди непогоды в поисках ее, встал перед глазами, и Кэтрин захотелось попросту завопить.
— Не стоило вам покидать дом вот так вот, без подготовки. Мод подготовит вам ванну, а потом мы перейдем к примерке. Ваше платье в плачевном состоянии — пришла пора вам облачиться в нечто более достойное и уместное. Смотр — самый важный день месяца в нашем традиционном календаре, и ни один гость Красного Дома не должен встречать его в таком виде. Следуйте за мной.
Это был приказ — самый настоящий. Ослушаться женщину с таким волевым, на грани ярости, голосом значило сильно навредить себе. Кэтрин снова угодила в ловушку. Сила чужой воли принуждала ее, и она была не в силах сопротивляться — ей просто нечего было противопоставить старухе. Ужасный бледный лик Эдит стоял перед ее глазами, властный голос звенел в ушах. Сопротивление — бесполезная затея.
— И все же…
— Мод подготовит ванну на втором этаже.
— Мне нужно вернуться.
— Вернуться! И куда же? — красные глаза Эдит метнулись к ней, и в горле, как обычно, пересохло.
— Мне нужно… Я хочу вернуться домой.
Эдит издевательски ухмыльнулась. Жалкие попытки Кэтрин ее явно забавляли.
— Вы заболеете и умрете, дорогуша. Посмотрите на себя — вы вся дрожите!
— Я в порядке, что за глупости. Я…
— Никаких «я». У нас и так мало времени на вашу подготовку. Я слишком стара, чтобы с вами препираться, и времени на преодоление вашего упрямства у меня нет. Вы представьте себе, как всех расстроит ваше непочтение к традициям!
— Всех? Я была в деревне — она пустует!
— Пустует? — Эдит обратила свой пасмурный взор к Мод. — Что это значит?
Мод уставилась на Кэтрин неодобрительно, но в то же время с жалостью.
— Подготовка к нашему традиционному смотру занимает много времени. И вы у нас желанная гостья, вы заранее приглашены. Как же это эгоистично и бессердечно с вашей стороны — так расстраивать нас! Подумайте, сударыня!
— Я вас умоляю! Я тут уже два дня и все никак не могу начать опись. У меня дела…
— Вашему делу будет время. После нашей потехи. Ну же, дорогая моя, пойдемте. Я не привыкла приглашать дважды…
Глава 33
— Послушайте, вот эта вот обмерка головы… Так уж ли это нужно?
Кэтрин зевнула еще раз. Сонливость одолевала ее. Жесткие руки Мод поддерживали ее все время в вертикальном положении, но Кэтрин чувствовала, что неумолимо клонится то вперед, то назад. Она уже даже не извинялась — бесконечные «извините» и «простите» утомили ее; она только покачивалась да прикрывала рот, чтобы задушить очередной зевок.
Усталость от четырехмильной пешей прогулки, деревенский воздух, горячая ванна и тарелка бараньего бульона вместе с порцией домашнего хлеба сделали свое дело. Голова, да и все тело отяжелели, отчаянно хотелось спать. Может, дело было еще и в той настойке, что дала ей Мод с ложечки: сначала вкус был горьким, но потом но всему ее существу разлилось приятное тепло. Мысли куда-то уплывали, Кэтрин вымоталась и ни на что сейчас не годилась, но сама мысль о вопиющем пропуске ужина и раннем отходе ко сну грозила определенными рисками.
— Мне очень жаль, но… Я так устала. Мне нужно…
— Не сейчас, дорогая. — Эдит повернулась к Мод, суетившейся за спиной у Кэтрин, и, хмуря брови, жестом повелела ей поторопиться. — Потом мы уложим вас спать. Вам нужно будет отдохнуть после этой глупой утренней выходки. — Голос Эдит смягчился, чуть ли не умиротворился, будто вид Кэтрин, стоящей перед высоким овальным зеркалом и обряженной в нечто свадебно-белое, одарил покоем ее дряхлую душу.
Кэтрин была почти готова поблагодарить хозяйку за оказанное великодушие. Значит, ей все-таки дадут нормально поспать. Поспит она, а потом продолжит… То есть начнет опись… Нет, все-таки надо отсюда уехать уже сегодня, сегодня ночью… Мысли расплывались и куда-то пропадали без следа.
Сначала ее проводили из столовой в персональную ванную комнату на втором этаже, затем снова помогли одеться и спустили вниз. Она чувствовала себя пациентом какой-нибудь старой больницы. Так много лестниц, так много незапертых дверей, ведущих в комнаты-палаты, посвистывают длинные юбки с фартуками, поскрипывают колеса инвалидного кресла…
Платье, что было сейчас на ней, было снято с деревянной заготовки, что стояла в «швейной мастерской» Виолетты Мэйсон. Находилась та неподалеку от таксидермического кабинета Мэйсона. Плетеные корзины со сложенными в стопки костюмами выстроились у дальней стены мастерской, под полками, уставленными красками и швейной утварью. Похоже, плотницкие работы тоже были не чужды Виолетте — небычно для женщины ее времени, но тот факт, что одна из скамеек перед столиком со старинными инструментами была завалена шпагатом и деревянными брусками помимо привычных пуговиц и обрезов тканей, однозначно указывал на то, что ради причуд своего братца она освоила и это дело.
Перед глазами Кэтрин все опять поплыло, и она решила сосредоточиться на платье. Она склонила голову и оглядела себя. Фасон годов эдак двадцатых прошлого века, рукава по локоть, без талии.
— Ничто другое вам не пойдет, — заявила Эдит. — Моя мать была маленькой женщиной. Вот это платье она носила, будучи беременной мной.
Кэтрин чувствовала себя слишком усталой, чтобы обижаться, хотя шпилька старухи немного оживила ее и помогла распознать идущий от ткани запах: старые тяжелые духи и затхлость деревянного шкафа, где одежда хранилась века напролет. Никаких бирок на платье, само собой, не было. У самых швов и по кружевным краям ткань приобрела желтоватый оттенок.
То, что Кэтрин видела в зеркале, ей не нравилось. Платье как-то неприятно преобразило ее. В пятне тусклого медного света от лампы над зеркалом стояла босая женщина со взъерошенными волосами, высохшими без укладки, обряженная в какой-то белый балахон, она столь мало напоминала ту Кэтрин, что обычно отражалась в зеркалах. Эта Кэтрин существовала будто бы на старой-престарой фотографии, что обычно хранятся в коробках на чердаке по соседству со снимками усатых мужчин в костюмах и маленьких девочек в рюшах, подъюбниках и шляпках на ленточках. Ей подобное столкновение с прошлым почему-то всегда внушало чувство собственной ничтожности — столько людей жило и столько умерло до нее, кто она в этом огромном потоке времени?
За ее отражением в зеркале парило призрачно-бесцветное лицо Эдит, будто бы отдельно от тела, ибо хозяйка была облачена в платье с высоким горлом из черного шелка. Должно быть, Мод переодела ее, пока Кэтрин нежилась в чугунной ванне, наполненной дымящейся зеленоватой водой и ароматной солью, окутывавшей ее запахом каких-то трав, но каких именно, Кэтрин определить не могла. Лежать в ванной после тарелки теплого супа было самым настоящим блаженством. Вот бы можно было прямо там, в пряно пахнущей воде, и заснуть…
Глаза Кэтрин снова закрылись сами собой. Она попыталась вспомнить интерьер. Ванна была сделана не позднее 1880-х годов. У нее были львиные «ножки». За ней стоял массивный титан с водой, из бока титана торчали два огромных вентиля, поверх которых был наброшен душевой шланг с насадкой старого образца. Ничего подобного Кэтрин раньше не видела. По стенам были развешаны резные шкафчики красного дерева. Плитка была расписана вручную узором из полевых цветов… В которые, наверное, так приятно упасть…
Мод чуть встряхнула ее.
— Извините.
Стало ломить спину, да и кожа вдруг стала какой-то чересчур чувствительной. Кажется, она попала в тепло слишком поздно — ее колотил озноб. Кэтрин вечно простывала под дождем. Постоянные стрессы и жизнь в Лондоне окончательно подорвали её иммунитет. Может быть, свою лепту внесли и ужасная вонь мастерской и ульев. Может, она надышалась трупных газов. Но температуры будто бы не было. Желудок тоже не давал о себе знать. Хотя почему-то было трудно глотать. Ее горло было сухим, как пустыня, и таким же горячим.
Нужно вернуться домой. Лечь в свою постель, предварительно закинувшись аспирином. Ей до зубовного скрежета хотелось позвонить матери. Интересно, получится повести машину? Выспавшись, отдохнув несколько часов, она сможет оставить записку и тихо ускользнуть. А там уже — дом, милый дом.
Бежать, пока еще не поздно.
Откуда пришла эта мысль? Она не должна позволять себе так думать. Ей так сказали. Она знала, что делать, когда у нее начинались подобные мысли.
Платье сняли через голову. На плечи набросили стеганый халат.
Мод помогла ей вернуться в комнату, как если бы Кэтрин была старухой, требующей ухода. И как только Кэтрин уселась в постели, она заметила, что глаза Мод мокры от слез. Это было последнее, что она увидела перед тем, как веки ее снова смежились и ее разум перевернулся и скользнул назад, в бездонное и непреодолимое бессознательное.
Глава 34
Tы пойдешь с нами в большой дом, Киффи?
Кэтрин стояла посреди отсыревшей «берлоги» и плакала.
Там, на пригорке перед спецшколой, мальчик с раскрашенным деревянным лицом держал за руку ее лучшую подругу Алису, что пропала без вести три месяца назад. Одна линза очков Алисы засияла сероватым отраженным светом позднего вечера.
Кэтрин было запрещено приходить сюда. Она вернулась, чтобы вспомнить Алису.
В последний раз, когда она была в «берлоге», в то далекое, светлое время, когда каждый солнечный день возвещал, что близится конец ненавистного учебного года, Алиса прошла через отверстие, сделанное Кэтрин в зеленом заборе в июле. Теперь сентябрь, еще целых четыре месяца до Рождества.
Алиса пошла по склону к новой ограде, которую поставил городской совет.
Они зовут нас, Киффи, ты слышишь?
Именно это сказала ей Алиса, когда Кэтрин разливала невидимый чай по зеленым пластиковым чашкам в начале лета, в тот самый день исчезновения. Это именно то, что Кэтрин передала родителям, когда вернулась домой, вся мокрая и рыдающая. Именно эти слова она сказала матери Алисы, полицейским и бабушке.
Тогда Кэтрин тоже слышала этот зов, так же хорошо, как и сейчас:
Я наряжал тебя в атлас От головы до ног твоих, Купил сверкающий алмаз Для каждой из серег твоих!Песенка неслась от далекого-предалекого фургона мороженщика. Того, что появлялся со стороны домов из красного кирпича, с окнами, заколоченными фанерой.
Тогда Алиса сказала: мне пора, Киффи. Ты идешь со мной?
Только это, больше ничего.
Потом она перебежала мелкий ручеек и стала карабкаться вверх по берегу реки к дыре в заборе — Кэтрин не успела остановить ее. Маленькая фигурка поднялась вверх по заросшему травой склону на четвереньках, а Кэтрин стояла неподвижно, испуганная, по другую сторону проволочного забора. Шепотом она воззвала:
— Нет, Алиса, не надо, вернись. Мы не должны. Нам нельзя. Тебе нельзя.
Но Алиса продолжала подниматься по травянистому берегу к зданию школы, где воздух волнообразно поднимался вверх и струился по мерным крышам, потому что детки из той школы тоже поднимались на другую сторону холма, к зданиям. Алиса не видела рваных фигур, которые должны были встретиться с ней на вершине. И Алиса ни разу не обернулась и, казалось, не слышала Кэтрин, которая осталась позади и вцепилась пальцами в сетку ограды.
Когда Алиса исчезла из виду среди зданий, до которых добрались другие дети, и спряталась где-то внутри, Кэтрин описалась от испуга. Это был последний раз, когда она видела подругу.
Кэтрин бежала и бежала прочь, оскальзываясь и падая всю дорогу до дома. Уже там она заперлась у себя в комнате и сидела безвылазно до тех пор, пока не пришла мама Алисы.
Но сегодня Алиса вернулась. Сегодня она подошла гораздо ближе к зеленому забору, пока мальчик с лицом из дерева, расписанным яркими красками, стоял на холме и наблюдал за ней издали. Это взаправду была Алиса — извечно спутанные непослушные кудряшки, привычные очки на бледном личике. Вот только теперь Алиса была счастлива.
Там, наверху, очень славные дети, Киффи. Маргарет, Энни и все остальные. Милые ребята. Вроде нас с тобой. Пошли, Киффи, давай вместе. У них много вкусняшек. Там дамы в красивых платьях собирают цветы, там крысы-солдаты дерутся, задрав хвосты. Там кошечки играют принцесс, встав на задние лапы, а чинные лисы носят шляпы. Там всегда много кукол, и они играют сами, там солнечно, Киффи, так что пойдем с нами. Там кролик и мартышка умеют говорить, там гораздо лучше, чем ты можешь себе вообразить.
Кэтрин вскрикнула и проснулась.
…Издевательства во второй школе были хуже, чем в первой, главным образом потому, что жи-водерский навык детей недостаточно хорошо развит в младших классах. Она помнила, что каждое утро в течение почти что двух лет чувствовала себя настолько больной нервами, что едва могла есть, и проводила большую часть своих игр и обеденных перерывов, прячась в разных закоулках маленькой школы.
В детстве она молилась, желала и молилась, пока у нее не начинались головные боли, чтобы дети из специальной школы вернулись и забрали ее, как Алису. У нее был шанс, когда Алиса вернулась за ней в тот день в сентябре, и она пережила это во сне так же ясно, как в тот день, когда это произошло. Она даже запомнила все слова.
Она спала, или это был очередной транс? Сознание ушло так далеко вглубь, внешний мир все еще был размытым.
Это не воспоминания, напомнила себе Кэтрин. Это детские фантазии, созданные, чтобы объяснить похищение Алисы. Ее подруга никогда ничего не говорила о Красном Доме в тот день, когда она представляла, что Алиса вернулась за ней. Или говорила? Кэтрин не могла сказать наверняка.
Да и все те другие события — когда мальчик с деревянным лицом явился прямо на детскую площадку, чтобы спасти ее, когда все дети вдруг резко прекратили издеваться над ней, когда даже учителя почему-то стали относиться к ней настороженно, — она наверняка придумала. Все это фантазия.
Ее мутило. Подвешенный во мраке комнаты мозг утратил все ориентиры, она боялась, что упадет в обморок и снова очутится в самом сердце видения, где Алиса и ее спутник с деревянным лицом уже поджидают ее. На подбородке снова кровь. Еще один транс.
Попытавшись сесть, она зажмурилась от боли в шее. Центр тяжести ее тела резко ушел куда-то назад. Может, конечно, вся беда в том, что сама комната наклонилась, и кровать поехала по полу. Сложно было судить — в темноте нe было видно ни зги.
Старая ткань ночнушки неприятно терла кожу, но Кэтрин устала сопротивляться всем этим неудобствам Красного Дома. Все равно ее пот худо-бедно смягчил это рубище. Простыни тоже вымокли и похолодели. Горькое меловое послевкусие микстуры, что дала ей Мод, свербело нa языке. Кэтрин сглотнула — воспаленное горло горело. Воздух в комнате был спертым, терпко воняло мокрое дерево.
Она нащупала прикроватную тумбочку, кончиками пальцев коснулась стеклянного края стакана с водой, оставленного для нее Мод. Залпом выпив воду, которая тоже оказалась не то пыльной, не то несвежей, Кэтрин стала искать выключатель лампы. Во время поисков ее телефон упал с тумбочки и стукнулся о коврик на полу. Маленький прямоугольник экранчика вспыхнул, распространив ореол бледно-зеленого свечения над кроватью.
Слабый свет омыл крепко сбитую черную фигуру у подножия ее кровати. Та застыла прямо, будто бы слегка подавшись вперед. Кажется, она тянулась к Кэтрин, но оказия с телефоном застала ее посреди этого действия врасплох.
Экран быстро погас, погрузив комнату во тьму — еще большую, чем раньше. Кэтрин, ошарашенная, уронила стакан на покрывало.
Она не могла дышать от испуга. Руки и ноги одеревенели. Сердце набатом стучало в ушах. Все мысли ушли, уступив место одной-единственной, панической: господи, пока я спала, ЭТО сидело в дюймах от моих ног, сидело и ЧТО ОНО ТУТ ДЕЛАЛО?
Выпутавшись рывком из простыни — стакан скатился с матраса на коврик, застучал по деревянным половицам, — Кэтрин в панике потянулась к лампе. Пальцы казались набитыми ватой — никак не могли нашарить кнопку. Она была уверена, что ночной гость суетливо лезет из своего укрытия прямо на кровать и хватает своими холодными волосатыми лапами ее за ноги. Когда кнопка все же нашлась, у нее ушли последние силы на то, чтобы вдавить ее. Голова закружилась от ужаса, и Кэтрин подумала, что вот-вот грохнется в обморок.
Стены кроваво-красного цвета вспыхнули со всех сторон. Еле-еле сдерживая крик, Кэтрин повернулась к изножью кровати, готовая к чему угодно.
И облегченно выдохнула — так, что заныли ребра. Взгляд затуманился от слез.
Фигура все еще была там — неподвижная, безликая, выжидающая.
Портняжный манекен. Посадка плеч такая, будто отсутствующая голова была гордо поднята. На нем висело то самое платье, что Эдит выбрала для нее на смотр.
Ее облегчение было временным — вернулась тупая боль в переносице, возобновилось с удвоенной силой жжение в горле. Кэтрин тошнило. Что за дрянь они дали ей выпить? Могла ли эта настойка быть такой старой, что стала непригодной? Может, это отвар опиума? Но опиум вроде бы не горчит. Хотя Кэтрин не удивилась бы, узнав, что старушки припрятали где-то в доме опиаты. Она представила себе старые, хрупкие руки Эдит, разводящие тертый белый порошок спиртом. Но если подумать, Кэтрин стало клонить в сон задолго до того, как ей дали микстуру. Тогда что-то подмешали в еду? Не в этом ли Эдит однажды упрекнула Мод при ней?
Она потрогала свое лицо. Лоб и щеки — холодные, никакой температуры, никакого озноба. Состояние сродни тому, что испытываешь утром после похмелья. Но пробуждение не развеяло всех тревог. Безмолвная экономка, должно быть, внесла наряженный манекен в комнату, пока Кэтрин спала, но она не слышала, как кто-то входил в комнату, и не помнила, чтобы кто-то включал свет. Как это было возможно? И зачем нужно приносить сюда ужасное платье для беременных, что носила мать Эдит почти век назад, именно сейчас?
Кэтрин чувствовала себя слишком одурманенной и слабой, чтобы определиться, был ли это еще один странный ритуал Красного Дома или очередной уродский розыгрыш. Она откинулась на подушки, перекатившись на чуть менее влажную и смятую часть кровати. Подтянув ноги к груди и обхватив их руками, она стала думать, как же быть дальше, и сама не заметила, как думы перетекли в смутное подобие дремы.
Пробудил ее звук собственного голоса. Она не открыла глаза — они и так были чуть ли не вытаращены в темноту.
Кэтрин вскочила с постели уже во второй раз за ночь. Еще один транс? Вот такого раньше точно не было. Они происходили только тогда, когда она была рассеяна, но бодрствовала. Уже второй невыносимо яркий сон отступил — пусть и не так быстро, чтобы его детали не вернулись напоследок трепещущими неприятными вспышками.
Группа маленьких фигурок у подножия ее кровати. Или это дети в масках? Двое из них точно улыбались, держась за керамические ладони портняжного манекена. Девушка в шляпке и куклоподобный мальчик. Настоящие волосы были плотно вшиты в бесцветный фарфор его головы. Старомодный костюмчик плотно сидел на тщедушном тельце, будто мальчик перерос его или напялил вещи младшего брата. Поля шляпки бросали на лицо девушки тень, и ничего, кроме худого подбородка и одеревеневшей улыбки, разобрать было нельзя.
А еще в этом кошмаре на плечах у манекена была голова — бледное лицо с темными слезящимися глазами было частично скрыто вуалью, прикрепленной к широкополой шляпе. Шляпа была украшена темными цветами, совсем как старинный свадебный торт.
За фигурами мальчика и девочки маячило нечто кожисто-морщинистое, темное, бельма его жутких глаз нетерпеливо вращались. Маленький рот на смоляно-черном лице был открыт, жизнерадостно демонстрируя желтые зубы. Та самая мартышка из заснятого представления Мэйсона, убежавшая прочь с головой Генри Стрейдера?
Еще одна маленькая фигура, похоже, пострадала в результате недостаточно бережного обращения — ее керамическое лицо потрескалось, то тут, то там были видны не то сколы, не то шрамы. Неужто сам Маэстро-Обличитель собственной персоной?
Она приметила и кустистые усы, топорщившиеся из-под поношенной личины большого зайца. Должно быть, под нею скрывалось что-то куда более неприглядное. Лицо под заячьей маской смотрело на нее сквозь глазные прорези нарисованными на дереве очами-льдинками.
И за всем этим собранием — щупальца какого-то овеществленного мрака, трепещущие с нетерпением, чуть ли не с восторгом…
Кэтрин дрожала. Ее глаза обшаривали каждый обозримый дюйм комнаты, пока сон не растворился до конца. Теперь она даже могла уверить себя, что находится в комнате одна.
Ей приснились куклы в спальне Эдит, и ее состояние объединило их образы с теми, что были засняты на пленку. Пожалуйста, пусть будет так. Если она и могла положиться на что-то в своей жизни, то точно не на воображение, что поворачивалось против нее в наихудших обстоятельствах.
Теперь ее тело казалось высохшим, как одно из сохранившихся творений Мэйсона. Лекарство, что ей дали, — но для чего? — взяло губы и язык сухим налетом. Этот вкус Кэтрин попыталась смыть водой, но ничего не получилось. Теперь стакан лежал пустым на полу.
Каждый шаг к огромному умывальнику отдавался резкой болью в голове. Потрогав лицо, казавшееся горячим и сухим (на самом же деле — холодное и липкое), она обхватила себя за плечи дрожащими руками. И ночнушка, и все, что под ней — хоть выжимай. Подняв с пола халат, Кэтрин завернулась в него.
Воды не было — ни в умывальнике, ни в кувшине под чашей. Никакие краны его не питали. Ей вдруг захотелось разрыдаться. Ей нужно было обезболивающее от непрекращающихся спазмов в голове, а не какой-то древний сироп, состряпанный из давным-давно испортившихся ингредиентов.
Тошнота привела ее обратно в постель, где Кэтрин засела, буравя глазами дверь. Ей придется найти ближайшую ванную комнату, воду и аптечку. Который час? Ее телефон утверждал, что 2:30 ночи. Кэтрин закрыла глаза, силясь понять, сколько уже длятся ее муки. Если старухи отравили ее, надо насильно вывернуться наизнанку.
Они накачали ее наркотиками, чтобы забрать из ее жизни, из мира. Платье на манекене было ее новой кожей, новой личностью. Они переделывали ее, чтобы она стала такой же.
Прекрати!
У тебя простуда, вирус. Новые места, новые бактерии.
Вот и все.
Стресс только усугубил ситуацию. Вот и все.
Вот и все!
За пределами комнаты она снова не смогла найти выключатели на стенах между дверями в длинный коридор. В устье коридора у лестничной клетки был один — она уверена в этом, но днем ранее ориентировалась на окно с видом нa сад в конце прохода. Окно теперь не помогало, поэтому только свечение двери ее спальни и экрана телефона вело Кэтрин сквозь густой мрак, переполнявший изнутри Красный Дом. Что-тоздесь изменилось с приходом ночи — она заметила раньше.
В доме стало холоднее, будто все его окна ныне были распахнуты навстречу стылым ветрам. Она чувствовала запах сырых деревянных плит и драпировки, ощущала пряный дух черной плесени в размягчившейся от влаги штукатурке. Гниение сада будто просочилось и сюда, внутрь. Даже незримый пол казался сырым под ее голыми пятками. Все так сильно изменилось, что жалкий ореол зеленоватого света, шедший от экрана ее телефона, не давал уверенности в том, что Красный Дом остался таким, каким она его запомнила, — один раз Кэтрин даже подошла вплотную к стене и стала придирчиво ее разглядывать, пытаясь понять, красная она или нет.
Когда она добрела до ванной, внутри оказалось как в холодильнике. Рьяно подавшись вперед, будто ее жизнь зависела от этой стылой, рождающей боль в зубах воды, Кэтрин наклонилась, чтобы отпить из хлынувшей из крана над раковиной струи.
За стеной трубы задрожали.
Чувствуя себя слишком неважно для того, чтобы заботиться о производимом шуме, она вышла из ванной, оставив дверь открытой. Не закрывала она и дверь в спальню — так, чтобы хотя бы часть света падала в проход меж двух освещенных комнат. Так хотя бы было меньше риска споткнуться в темноте и растянуться в полный рост на полу.
И как старухи только выдерживали все это — мрак, сырость? Возможно, такая среда для них стала естественной, как для парочки вымахавших в человеческий рост мокриц. Ну а что, если подумать, неправильного — люди лишь букашки-мокрицы, звезды — просто сгустки вечно горящего мусора, ждущие часа энтропии… Если подумать, в этом всем нет никакого смысла,
Так, хватит!
К тому времени, как она достигла лестничной площадки, дверь внизу щелкнула, открылась, а затем закрылась. На короткое время внизу полнился тусклый, но такой успокоительный свет. Кэтрин умолкла, прислушиваясь. Вторая дверь где-то в глубине огромного здания открывалась медленнее.
Мод.
Хотела бы она успокоиться мыслью о том, что домоправительница вполне может встать в этот час, но даже если так — чем Мод поможет ей? Очередной порцией отравы?
Так, все-таки здесь живут старухи. Наверняка с больными суставами — Мод хромала, Эдит раскатывала в инвалидном кресле. Где-то в доме у них должно быть нормальное современное обезболивающее. И, прежде чем поехать домой, Кэтрин нужно запастись им в достаточном количестве. Когда блуждаешь в старых темных домах, всегда нужна какая-то цель, и она сделала это своей целью, и теперь с твердым намерением спускалась по первому пролету лестницы. Если понадобится, она обыщет все ванные комнаты и кухонные шкафы.
По дороге на первый этаж Кэтрин ухватилась за перила. От одного только признака движения впереди у нее перехватило дыхание и закружилась голова.
Там, за перилами, какой-то тонкий луч света отражался от полированного дерева залы. Свет шел из смежного общего коридора, где были мастерские и комната Мод.
На первом этаже царил мрак, но на несколько футов вперед Кэтрин вполне могла видеть благодаря экрану телефона. По меньшей мере, удавалось видеть на шаг вперед себя. До самого верха второй лестницы ей на глаза не попадалось ничего, кроме латунных дверных ручек, слабо поблескивающих в телефонном сиянии, — ничего подозрительного.
А потом что-то зашевелилось позади нее.
Резко обернувшись, она увидела маленькую тень в пятне размытого света. Шуршание ткани сопровождало это перемещение. Инстинкт твердил Кэтрин, что заявлять сейчас о своем присутствии — плохая идея.
Что-то шарахнулось следом за первой фигурой — видимо, еще одна такая же, где-то у самого пола. Какое-то маленькое животное.
Кошки? Да ну нет.
Кэтрин прижала руки ко рту. Красный Дом по ночам, похоже, кишел крысами. Разве не их она слышала прошлой ночью? Так они мстили за ущерб, нанесенный их крысиному роду-племени Мэйсоном. А она тут сейчас стоит и понапрасну пугается.
Экран телефона мигнул. Так он делал всегда, ради сохранения батареи, если она долго держала подсветку включенной. И, как раз перед тем как он вспыхнул с прежней силой, она услышала отчетливые шажки откуда-то снизу. Кто-то поднимался по лестнице следом за ней.
Крутанувшись на месте, как юла, Кэтрин потеряла равновесие и села прямо на одну из ступенек, свободной рукой отчаянно хватаясь за воздух вместо перил. Прежде чем телефон выскользнул у нее из руки, экран осветил силуэт маленькой головы и две руки по обе его стороны, протянутые ей навстречу.
Как ЭТО успело подобраться ко мне так близко?
Хныкая, она бросилась вслед за телефоном. Схватив его, она в страхе выставила руку с ним перед собой, ожидая атаки откуда угодно. Ряд деревянных ступеней, рельсы подъемника вдоль перил — больше ничего не было и быть не могло. Кэтрин подняла руку повыше — ее собственная тень выросла и распласталась по пустой лестнице.
Разум, странным образом опьяненный гнетущей темнотой, мог нарисовать ее глазам все что угодно. Но, сколько Кэтрин себе об этом не напоминала, ей трудно было прогнать мимолетный образ — маленькая голова существа, пытливо наблюдающего за ней из темноты.
Она тихо возвратилась с лестницы. До нее донесся слабый запах улицы, принесенный будто бы на чьей-то одежде. Глянув за перила, Кэтрин, как и ожидалось, никого и ничего не услышала. Грызуны ведь боятся людей, так? Подняв телефон над головой, подобно некоему светочу, внушающему единственную надежду на спасение, она прошла вниз.
Застыв посреди коридора, она поискала глазами лестницу. Хоть глаз выколи — крутом мрак. Ей вдруг представилась какая-то страшная птица, появляющаяся из этой первозданной темноты, не имеющей ни конца ни края, и рывком уносящая ее куда-то ввысь, ввысь и ввысь… незнамо куда. Когда этот жуткий образ растаял, на смену ему пришел другой — черная огромная рука, ныряющая в коридор, сжимающая ее до хруста костей и утаскивающая во тьму.
Прильнув к стене, Кэтрин стала искать выключатель. Что-то это уже вошло у нее в привычку. Их здесь должно было быть по меньшей мере три. Она замечала их ранее меж фотографий в рамках на стенах. Экран телефона осветил один такой снимок — монохромный, сделанный Мэйсонами в собственном саду. На нем они выглядели старше и тоньше, чем ранее, но одеты были по-прежнему строго. Солнечный свет играл на линзах их очков.
У Виолетты Мэйсон была белая шляпка в тон платью и зонтик. Ее брат носил черный костюм. За их прямыми фигурами застыли, слегка смазанные, будто на ветру, контуры кустов и деревьев. То, что творилось в кукольном театре, установленном между ними, тоже было размыто, неуловимое для фотокамеры — надо думать, в силу скорости. Какая-то фигурка на заднем плане — ребенок? — перемещалась странно, боком, удаляясь от черных рук и, вроде бы, головы, нависающих над слегка засвеченным краем снимка.
Покачав головой, Кэтрин вытянула руки и наощупь двинулась во владения Мод. Там, впереди, маячила приоткрытая дверь с левой стороны, манившая прямоугольником света от какого-то, надо полагать, очень маленького светильника.
Чем ближе Кэтрин подбиралась к цели, тем сильнее ощущала поток холодного воздуха, гуляющий по рукам и лицу. Похоже, черный ход в сад был открыт и атмосфера стылой ночи проникала в дом. Поток был слишком сильным, чтобы иметь источник где-то здесь, в доме.
Снова налетел порыв ветра, и Кэтрин содрогнулась от мысли, что задувает не через дверь и не через окно; что ветер врывается сюда из какого-нибудь огромного портала, раскрывшегося где-то впереди, в темноте. Движение воздуха либо не рождало никаких звуков вовсе, либо ее собственное хриплое дыхание звучало соль громко, что заглушало посвист сквозняков.
По этому продуваемому тоннелю, пахнущему прелью, она и шла, думая, не покинула ли уже пределы Красного Дома. Почему-то возможность оказаться не в нем, а где-то вблизи его стен вселяла в нее куда больше опасений, чем пребывание внутри, под сводами. Один лишь прямоугольник света впереди, мало-помалу приближающийся, уверял Кэтрин в том, что она все еще в особняке.
— Мод? Мод! — позвала она голосом чуть выше шепота. Но ради чего? Она что, искала компанию? Или звала на помощь? Ей хотелось сесть прямо на пол, посреди непрошибаемой тишины, и закричать во всю мощь легких, а там будь что будет. И зачем только она вообще сюда пришла? Надо было лежать себе смиренно в постели.
Держа телефон перед собой, Кэтрин почти сорвалась на бег. Кому-то надо было заявить о себе. То была единственная цель переставлять ноги, да еще и с такой завидной прытью.
В нескольких шагах от двери она затормозила — в ноздри ударил острый химический парфюм. Так вот куда она пришла — к мастерской Мэйсона! С какой стати она стоит открытая — в такое время? Свет, бросаемый в коридор, вполне могли производить, скажем, тлеющие угли. Или очень уж слабая лампочка под малиновым абажуром.
Закрыв ладонью нос и рот, Кэтрин заглянула внутрь.
И сразу же отвернулась.
Господи.
Но увиденное раз манило снова взглянуть — и снова ее глазам явились позвонки хребта, изогнутого будто бы самым безнадежным сколиозом, столь ярко выраженные под мертвенно-бледной кожей, что их края, казалось, могли прорваться сквозь бескровную плоть маленькой фигуры, сгорбившейся внутри оцинкованной ванны. Ванны Мэйсона для этанола, в которой Эдит сидела спиной к двери.
Без лоскутного парика она оказалась почти совсем лысой. Плечи были настолько узки, а лопатки — защемлены столь радикальным образом, что Кэтрин не была уверена, что при подобной худобе и костной конфигурации можно вообще жить. По спине старухи тянулся старый хирургический шрам — от середины тощей шеи до самой кромки черной воды, куда была погружена нижняя половина тела Эдит, спасая Кэтрин он ужаса и отвращения.
В комнате был кто-то еще. Кто-то, кого не было видно, но слышны были сдавленные, тихие рыдания. Неужто Мод?
Не раздумывая, Кэтрин побежала через забытый подсобный коридор к входной двери дома. Образ этого истощенного тела, дрожащего в черной воде, преследовал ее. И она знала, что лучше рискнет замерзнуть на улице, чем проведет ночь под одной крышей с этими мрачными существами, которые проводили такие ужасные ритуалы рано утром, в доме, кишащем крысами, живыми и мертвыми.
Впервые за все время совместной работы с Леонардом в ней проснулась злость к нему.
Две массивные створки входных дверей Красного Дома были заперты. И тот, кто их запер, не оставил ключа.
Глава 35
Когда она проснулась, спальня все еще была освещена маленькой лампой.
Кэтрин медленно села и сжала голову руками. Мироощущение мало-помалу пришло в порядок. Голова резко заболела, мурашки побежали по ее чувствительной коже. Похоже, во сне горло опять пересохло — хотелось выпить добрый литр холодной воды, причем одним махом.
Воспоминания о ее гонках по дому к кровати померкли, будто бы отделенные прошедшими временами и преодоленными пространствами. Прошлая ночь стала всего лишь фантомом. Ум Кэтрин был как никогда ясен, но она все еще силилась отличить явь от безумной грезы. Бедная Эдит, лысая и испещренная шрамами — это было по-настоящему. Впрочем, было ли? А дети в костюмчиках — это, надо думать, сон? А манекен с головой?.. Нет, не может этого быть. Просто кусок кошмара.
Болезнь, усугубленная тем, что мерзкие старухи подсунули ей под видом настойки, должно быть, пробудила какую-то скрытую способность подсознания. Та его часть, что была активна только во время сна, заработала на полную катушку, когда Кэтрин была еще вполне в сознании. Трансы подтверждали, что ко всему этому она восприимчива. И все, что она знала — что иногда с ней такое случается. Пока она не избавится от вредоносного влияния Красного Дома и не попадет домой, иначе весь этот опыт рассматривать нельзя — от этого вплотную зависит ее здравомыслие.
Она раздернула тяжелые шторы и взглянула в темень небес. Лучи света пробивались из-за туч — последние, закатные. Кэтрин глянула на экран телефона. Восемь вечера? Абсурд. Наверняка восемь утра, а закат она сейчас путает с рассветом. Она ведь роняла телефон на лестнице накануне вечером — вот настройка и сбилась, поэтому время неправильное.
Пошатываясь и спотыкаясь, она прошла к ноутбуку, лежавшему на письменном столе, и запустила его. Как и телефон, компьютер показывал красный уровень заряда батареи. Но она ведь подзаряжала их — она помнила, как это делала!
Кэтрин подключила оба зарядника к розеткам. Несмотря на то что здесь никогда не было сигнала, мысль о том, что и телефон, и ноутбук разряжены, внезапно показалась совсем уж непереносимой. Я и так окружена мертвечиной и древностью, оставьте мне хоть что-нибудь.
Как только заставка ноутбука прогрузилась, Кэтрин во все глаза уставилась на время и дату. Уму непостижимо — она проспала весь день после бессонной ночи.
Восемь часов вечера.
Желудок саднило и крутило от голода. Вот почему она была такой неуклюжей и слабой, вот почему ее мысли изо всех сил бродили в тумане недоумения, лишь изредка обретая ясность. Она была в отключке двадцать четыре часа, с небольшим количеством воды и совсем без еды.
Дверь в ее комнату была заперта изнутри. При мысли о том, чтобы остаться здесь снова после наступления темноты, она яростно вывернула ключ в замке и распахнула ее. Ее глазам тут же предстал старинный серебряный поднос со столовыми приборами, тарелками, двумя серебряными супницами. Между чайником и блюдцем с маслом лежал конверт. Рядом с подносом стояла красная шляпная коробка и пара узких белых туфелек.
Кэтрин осторожно занесла поднос в комнату и поставила на письменный стол. Супницы были холодные. Да и потом, она скорее старую шляпу съест, чем еще раз попробует что-то из стряпни Мод. Где они вообще все берут? Наличие еды в доме виделось труднообъяснимым. Все, вообще все здесь было каким-то бессмысленным. Три дня стресса из-за омерзительного спектакля, постоянное чувство страха, мухи, выходки безумных старух… Эдит в стальной ванне из-под этанола. Вонь. Лестница.
Так, хватит. Хватит-хватит-хватит.
Она явилась сюда простой оценщицей антиквариата, но теперь эта ее обязанность казалась настолько далекой, что не имела ровным счетом никакого значения. Она так и не оценила здесь ни один предмет, зато ее все еще продолжали всячески оценивать. Но чего ради?
Ее подозрения насчет слабоумия Эдит переросли в страх перед чем-то куда более темным. Она будто не глядя подписала согласие на что-то, о чем ей то ли не рассказали до конца, то ли совершенно намеренно не собирались рассказывать вовсе.
От портняжного манекена шел цветочный запах духов, пропитавший все старинное кружево платья. Открыв коробку, Кэтрин помяла пальцами пожелтевший хлопок шляпы — шелковые цветы по ее краям казались хрупкими, чуть ли не рассыпающимися от старости. На дне коробки оказалась вышитая шаль — вот этой штуке точно было сто лет в обед, от одного прикосновения к ней Кэтрин чуть дернулась, как если бы то был толстый слой паутины. Туфельки оказались такими маленькими и жесткими, что она сразу поняла, что внутрь них не заправит и три пальца своей ноги.
Разорвав конверт, Кэтрин извлекла на свет божий лист желтой бумаги с водяными знаками в виде инициалов Мэйсона. Такую же прислали в контору Леонарда, такая же была доставлена ей домой.
Дрожащий и вихляющий почерк Эдит поддавался дешифровке с трудом, но когда Кэтрин закончила читать, то упала на кровать и уставилась за темное окно.
Моя дорогая Кэтрин!
Мы не хотим мешать Вашему отдыху, но в свете сегодняшних событий полагаем нужным заранее оповестить Вас. Мод приготовила Вам ужин. Прохладительные напитки будут поданы после представления о Мучениках-Кукловодах в более современном прочтении каролинской[11] эпохи. Мы убеждены, что теперь Вы достаточно здоровы и сможете к нам присоединиться. Наш кукольный театр — впечатляющая местная традиция, истоки коей совпадают по времени с первыми шагами римлян по британской земле, хотя точную дату я назвать не смогу. Мой дядюшка полагал, что вычислил ее, и даже назвал когда-то мне, но я уже все забыла.
Ваше платье мы заменили. Шляпу и шаль вы найдете в коробке. Прошу Вас, будьте бережны к вещам моей матери — найти замену им будет нелегко. Начнем мы с первой звездой.
С уважением, Ваша преданная и нежная подруга
Эдит Мэйсон.P.S. Сегодня к нам приходил некий джентльмен, назвавшийся Майком. Он был очень взволнован и настойчив — утверждал, что хочет поговорить с Вами. Мы сообщили ему, что Вам нездоровится, и поэтому Вы отдыхаете. Он привел с собой какую-то женщину, на мой взгляд, чересчур болтливую. Я не запомнила ее имени, хотя оно, поверьте, значения не имеет. Мы отправили их на смотр, чтобы они дождались там Вас. В будущем, прошу Вас, сообщайте мне заранее о возможных гостях! Я полагала, что достаточно ясно выразилась о нашем желании уединиться.
Так он действительно был здесь? Майк приходил за ней? Сама мысль о том, что он рядом, заставляла Кэтрин почувствовать себя еще хуже. Нет, он пришел не для того, чтобы спасти ее, потому что с ним была «болтливая женщина». Майк привел Тару с собой. Такой акт беспомощной жестокости внезапно подсказал ей, что она никогда не знала его на самом деле, и, возможно, была лишь жертвой собственных желаний все время их отношений. Как она могла так ошибиться? На каком уровне и каким образом его действия были хоть отдаленно приемлемы?
И почему он был здесь? Как он ее нашел? Леонард! Леонард, возможно, столкнулся с ним и позволил себе проболтаться. Или даже сказал ему, что ей нужна помощь, поддержка, кто-то знакомый, что-то вроде этого, — после того ее эмоционального звонка в контору в конце первого дня. Сама идея вмешательства Леонарда взбесила ее. Это означало бы, что Леонард проигнорировал ее просьбу и решил, что знает, как для нее лучше. Если он все еще горел желанием продать безумное барахло Мэйсона после всего того, через что она прошла, она бы могла отвези его сюда — пусть оценивает все сам. Самое время ему вступить в игру, потому что она умывает руки.
Ну и ну. Теперь Тара — в пределах досягаемости Красного Дома, вблизи его древних сокровищ. Быть может, Леонард тут не при делах — Майк вполне мог рассказать Таре о том, что Кэтрин оценивает оригинальные работы Мэйсона. А Тара вполне могла настоять на том, чтобы явиться сюда. Вот же сука. За сто миль учуяла наживу.
Увела у нее Майка, но даже этого показалось мало. Завтра утром она будет здесь. И с ней приедут телевизионщики — снимать документальный фильм об очередной английской древности. Как раз в тот момент, когда Кэтрин страдает от паранойи и прессинга со стороны старух, сучка Тара явилась, чтобы испортить все и лично Кэтрин, и эксклюзивной находке Лео Осборна.
Кэтрин вдруг почувствовала себя ни много ни мало осужденной — ее преследование набирало сумасшедшие обороты. Ее прошлое, ее трансы, ее враги — все будто бы собралось здесь в какую-то ужасную критическую массу специально для того, чтобы размазать остатки ее здравомыслия в кашицу. За ее жизнью будто бы стоял мощный контролирующий аппарат — вдумчиво, шаг за шагом планирующий ее падение. Может быть, он всегда был там, как она часто подозревала, и она была несчастной марионеткой в жестокой пьесе, которая началась в тот день, когда она родилась, когда ее родная мать отказалась от нее.
Господи, какой кошмар.
Земля уходила из-под ног.
Одежда, сумка, камера, ноутбук, телефон. Соберись, девочка, и просто уходи отсюда.
Но постойте-ка — дорога отсюда на машине пролегала через чертову заброшенную деревню и идущее там празднество. Но другого выхода не было.
Они все хотели, чтобы она попала на «смотр». Понятное дело, любой ярмарке нужен свой шут. Отдушина для пинков, затычек и насмешек.
Но кто там вообще может быть? Идея провести смотр в этом месте отдавала явной нелепостью. Еще одно заблуждение двух сбрендивших старух, которые не то опоили ее, не то отравили чем-то, чтобы ухудшить ее состояние и всеми правдами и неправдами удержать здесь. Согласно тому, что она видела, жители деревни не были пригодны для участия в чем-либо, кроме собственных похорон.
Она поспешно упаковала вещи, а затем повернулась к комоду, чтобы забрать свою одежду.
Ящик был пуст. Ее одежда пропала. Ее забрали. Ее грязное белье было внутри сумки, как и однодневная сменная одежда. Кэтрин посмотрела на отвратительное белое платье на манекене, и рыдания встали у нее в горле. Упав на кровать рядом с вещами, она спрятала лицо в ладонях.
Что ж, нужно быть сильной. Один неверный шаг — и конец всему. Когда ты болен, когда тебе не на кого положиться, нельзя давать слабину — разве не этому научила ее жизнь?
Ну, держись, Красный Дом.
Глава 36
Сегодня она преобразилась в Женщину-в-Белом. В привидение родом из другой эры, в актрису в бессмысленном драматическом спектакле — здесь, в Красном Доме, самые простые действия так или иначе превращались в драму.
Она была желанным гостем на смотре, но против своего желания. Поэтому ей ничего не стоит пронестись через заброшенную деревню хоть на полной скорости и оставить весь этот ужас позади, оставить все и всех — даже, если потребуется, Леонарда, что впутал ее в это дельце и сызнова превратил ее жизнь в копошение в клубке ядовитых змей. Если будет нужно, она пропадет со всех радаров. В подростковые годы она часто фантазировала о том, как исчезнет, растворится в неизвестности — такие отчаянные меры виделись ей ключом к спасительным переменам, отнюдь не какой-нибудь там трагедией отрыва от корней. Пришло время импровизировать. Порвать уготованный ей мерзкий сценарий в мелкие кусочки.
Но она не уйдет, покуда не исследует этот проклятый старый дом, покуда не поймет его и не сдернет завесу тайны. Может, в речах Эдит и была доля правды, но Кэтрин нужно было убедиться самой. Только поняв, что подпитывает сумасшествие живущих в этом доме, она смогла бы сама не сойти с ума, не оставить рассудок навсегда под этими сводами.
Да и потом, Кэтрин, вне сомнения, все еще манила загадка дома — то, сколь вопиюще он нарушал правила существования в современном мире. Ей необходимо было выяснить, как вышло так, что Красный Дом был вообще возможен. Каким бы небывалым он не казался, он все-таки был. И Эдит с Мод тоже были — эти два человеческих фасада для чего-то большего, чего-то потаенного.
Чего?
Кэтрин пообещала себе, что зайдет в каждую незапертую дверь, что встретится на ее пути.
Шагая по Красному Дому, она зажигала весь свет. Я ничего здесь не боюсь, твердила она себе. Я такая же последовательная, как мои враги, я всегда начеку. Пришло время все расставить по своим местам. Обозначить все позиции.
Голова все еще болела, ноги все так же подкашивались, холодный пот все так же прошибал ее, но она не сдавалась. Зловещий красный свет бликами играл на дубовых стенных панелях и паркете, но больше не путал ее.
Во втором, примыкающем к лестнице, коридоре она нашла три незапертые спальни без всяких следов пребывания кого бы то ни было, уставленные диковинами, коих не касалась рука со дня смерти М. Г. Мэйсона. В бледном свете эти комнаты ждали гостей, которым никогда не суждено было явиться.
Без промедлений и страха Кэтрин вошла в спальню Эдит. Та тоже оказалась не заперта. Возможно, это было в порядке вещей — так Мод было легче заходить к своей больной хозяйке.
Кэтрин сфотографировала огромный стеллаж с куклами — настоящую стену из кукольных лиц с распахнутыми безжизненными глазами, взиравшими на Эдит Мэйсон с раннего детства до самой глубокой старости.
Заглянув в два вместительных шкафа, Кэтрин убедилась, что весь гардероб Эдит состоял из пережитков времен войны. Уж не носила ли она материнские вещи еще в ту пору, когда Виолетта была жива? Неужели Эдит в самом деле так долго пробыла в одном месте, ни капли не интересуясь тем, что представлял из себя огромный и необъятный мир за пределами особняка? Похоже, что да.
Кэтрин сфотографировала содержимое шкафов, старые пыльные платья. Снимки смогут доказать и ей, и любому другому, что она не свихнулась. Вот оно — все здесь, перед ней.
Включив свет в другой незапертой комнате, она вздрогнула. Та ужасная детская.
Десять маленьких кроваток выстроились в два ряда у стен, расписанных вручную сценками из быта зверюшек в человеческих одеждах. Звери пили чай, плавали на маленьких лодках по реке, запускали воздушных змеев и возмущенными группками, вытаращив белые глаза и растопырив когти, преследовали крыс.
Все кроватки теперь были пусты. Вот и вся разница с прошлым визитом. Убранство кроваток явно указывало на то, что какое-то время их ничто не занимало. Ящик для кукол, обитый кожей, отсутствовал. Как и маленькие кожаные ботиночки и шелковые тапочки, что стояли в изножье каждой игрушечной кроватки.
Отсутствие омерзительных детишек Мэйсона обнадеживало, но лишь по первому зову сердца — потому как Кэтрин живо припомнила, что накануне вечером по лестнице следом за ней спускались маленькие фигурки, населявшие светлые помещения внизу.
Нет! Марионетки были убраны отсюда людской рукой, чтобы стать актерами нового отвратительного спектакля, гвоздя программы на смотре. Кэтрин сказала себе это, когда застыла в дверях комнаты. А потом она сказала себе то же самое снова, для верности.
Сделав снимок, она закрыла дверь детской и направилась в дальний конец прохода, где у арочного окна с видом на сад был виден альков. Внутри ниши четыре узких ступеньки поднимались к двери из розового дерева с железной ручкой в форме кольца. Не будь дверь заперта, привела бы Кэтрин на чердак под остроконечными крышами с тонкими арочными оконными ставенками, которые она много раз видела снаружи. Приложив к ней ухо, Кэтрин прислушалась.
Там, с другой стороны, взаправду что-то постукивает? Быть может. Да, слабый-слабый перестук — дерево по дереву, стук ритмичный. Либо ветер раскачивал что-то, либо там работал какой-то заводной механизм. По сути, это могло быть что угодно. Она отстранилась от двери, подумав об облупленных деревянных ладошках Маэстро-Обличителя.
Спустившись на первый этаж, Кэтрин растеряла уверенность. В гостиную Эдит она так и не смогла заставить себя войти — из-за иррационального страха, что набивные животные наябедничают хозяйке, что она наведалась в их обитель без разрешения.
Поэтому ноги сами повели ее к игровой комнате. Там оказались биллиардный стол, явно давно не в ходу, и закрытый чугунной решеткой камин. Та часть Кэтрин, что раньше оценивала дома и их содержимое, хоть и была ныне задвинута на задворки, встрепенулась, когда перед ней открылись двери библиотеки.
В книжных шкафах в стиле истлейк[12] хранились книги Мэйсона, и Кэтрин была уверена, что за каждую из них можно было выручить от пятисот до тысячи фунтов. А томов здесь было не меньше тысячи — то есть, по факту, миллионное состояние.
Она провела пальцем вдоль нескольких самых ближних корешков. «Создание научных образцов млекопитающих в полевых условиях», 1931 год издания, издательство Музея зоологии Мичиганского университета. «Способы сохранения научных образцов крупных млекопитающих», 1911-й, издано в Беркли. Уже раритеты.
Следующая после библиотечной дверь явила комнату, обставленную как рабочий кабинет — с большим столом, над которым нависла пара настольных ламп, укрепленных на обоих его краях. Час от часу не легче — то самое место, где Мэйсон принял смерть от своей же руки.
Кэтрин отчасти ожидала увидеть, как кто-нибудь встанет со стула перед столом или отвернется от книжных шкафов, под завязку набитых томами в кожаных обложках и пачками бумаги, перевязанными бечевой. Перед единственным окном стоял мольберт — так, чтобы на него падал естественный свет.
Кэтрин принюхалась. Пахло залежавшимся трубочным табаком — примерно так же, как у Леонарда в конторе. Но как эта комната умудрилась вобрать в себя и сохранить запахи дыма из трубки самого Мэйсона? Здесь буквально ощущался дух этого человека — безумного, целеустремленного и бескомпромиссного. Такого, что не потерпел бы никаких вмешательств в свою странную, на грани научной, работу, нацеленную на нечто уму непостижимое — ту работу, что в конце концов убила его.
Чего бы Мэйсон ни достиг в этом доме, Кэтрин были явлены лишь остатки. Старый, поврежденный, гротескный фильм, плохо освещенные фотоснимки в тусклых коридорах, комната, населенная чучелами зверей, ульи, забитые падалью, выводок марионеток с вековой, согласно нелепым утверждениям Эдит, историей… Его наследие было куда больше, чем все это. Кэтрин чувствовала это интуитивно. Все речи племянницы гения-таксидермиста упирались в недомолвки, иносказания и сбивающий с толку туман. Половина из сказанного ею наверняка являла собой выдумку. Конечная цель Мэйсона лежала не в области логики, и поэтому ее было так трудно выразить.
Ее иррациональное чутье подсказывало, что в недавних кошмарах обрести желаемое знание куда проще. Быть может, особняк — не более чем гигантский кукольный дом? И она здесь в качестве куклы. Ее даже переодели под стать. А может, все, что происходит здесь, само по себе сродни кукольному спектаклю в огромном театре, где актеры призваны играть бессмысленно-абстрактные сцены из драм, придуманных некогда сошедшим с ума гением?
Наверное, именно так безумцы воспринимают мир. Хватит.
Эдит утверждала, что в комнатах дома ничто не менялось с тех пор, как умер ее дядя. Если так, то и трубка, и открытая глиняная емкость для табака, и аккуратно разложенные близ толстых учетных тетрадей карандаши на огромной столешнице пролежали так пятьдесят добрых лет. Как и граненый стакан, содержимое которого испарилось, оставив коричневатые разводы на и дне. Возможно, лишь тряпка в руке Мод вступала и контакт с чем-либо в этой хронокапсуле, неизменной с того момента, как ее хозяин покончил c cобой.
— Ах вы чокнутые старухи. — Самое большое опасение Кэтрин подтвердилось, когда она заметила темное въевшееся пятно на краю стола. Вот, где пролилась его кровь… И мать Эдит просто позволила ей там засохнуть. Кэтрин сделала снимок и отвернулась.
Кураторскую честность Эдит компрометировала одна-единственная деталь — бритвы здесь нe было. Ей полагалось лежать на столе или рядом со стулом — там, где она выпала из пальцев самоубийцы. Возможно, оставлять ее лежать у всех на виду было слишком даже для Виолетты Мэйсон. И для меня это было бы слишком.
Семья — собственная семья! — воспитала в Мэйсоне исполненное бредовых откровений помешательство. И когда его не стало, они сохранили его наследие, но зачем? Вымирающая деревенька организовывала в его честь «смотры», но почему, за какие заслуги? Невероятно все это, отдает абсурдом. Если преданность наследию таксидермиста не была вдохновлена неким харизматическим очарованием, если не зиждилась на попытке самого Мэйсона скрыть нечто извращенное и неправомерное, если лояльность деревенских жителей не была куплена им за деньги — то какое же влияние имел безумный военный экс-капеллан, раз повелевал целой округой и даже из могилы манипулировал действиями единственной наследницы?
Кэтрин робко подошла к одной из картотек. Мысль о том, что она будет ворошить бумаги в кабинете Мэйсона, привела ее в ребяческий азарт. Подобные картотеки держались в старых университетских библиотеках. Ящики были лишены отметок, но в верхнем хранилась добрая сотня писем — да и в трех нижних, как оказалось, тоже. Кэтрин провела пальцем по стопке древних бумаг. Наугад достала несколько конвертов.
Многие письма были адресованы Мэйсону неким Феликсом Гессеном — имя, ровным счетом ничего ей не сказавшее. Некий Элиот Колдуэлл также оказался в числе популярных отправителей. Эпистолы Колдуэлла почему-то сохранились лучше — он писал Мэйсону еще в начале шестидесятых годов. Письма были разложены по алфавиту, и Гессен с Колдуэллом занимали большую часть двух верхних ящиков. Не меньше посланий — от человека по имени Сэмюэл Мэзерс: в каталоге рядом с его именем значилась пометка S.R.I.A.[13] Некогда Мэйсон вел обширнейшую переписку с ограниченным кругом лиц, но кто все эти люди — Кэтрин не имела понятия.
Смежный с картотекой шкаф был доверху забит фотокарточками в защитных конвертах с прозрачными окошками, подшитых в пухлые альбомы. Подняв одну такую подшивку, она стана листать ее. Снимки фиксировали строительство кукольного театра на лужайке за домом Мэйсона — тогда у нее явно были лучшие временa. Одетая по-рабочему Виолетта Мэйсон ни на одной карточке не глядела в камеру. Постройка проходила по всем правилам — на траве были разложены материалы и развертки чертежей.
Другая подшивка запечатлевала проходившие на подмостках спектакли. Мэйсон с Виолеттой отсутствовали на потемневших кадрах хроники — должно быть, их скрывало закулисье, эта своеобразная марионеточная «диспетчерская». Все снимки были сделаны чуть ли не вплотную к сцене — возможно, при помощи таймера: и все равно перемещения кукол по сцене, будто бы слишком быстрые для заданной выдержки, оставались на кадрах неясными и какими-то призрачными.
Еще одна пачка снимков демонстрировала с разных ракурсов церковь, виденную ею в заброшенной деревне. Огромное количество фотокарточек было нащелкано с незнамо какой целью — стены, надгробия, неразборчивые надписи на них. Особое внимание было уделено одному темному и плохо освещенному углу кладбища.
В очередной подшивке — добрая сотня фотографий каких-то раскопок на склоне малого холма, окруженного первозданной грунтовой средой. Само место Кэтрин не узнала — никаких пометок на снимках не было, кроме каких-то кодов, напоминавших буквы и цифры эпохи Древнего Рима. Судя по всему, из-под земли извлекали что-то ценное. Некую ископаемую реликвию. Что-то, напоминавшее мелкие косточки и лоскутки ткани, было сфотографировано рядом с раскрытой рулеткой.
И наконец в последнем наборе — какие-то не то норы, не то просто канавки в земле на открытой сельской местности. На некоторых кадрах вдали маячил холм — от него к норам в земле были проведены чернильные стрелки, видимо отмечавшие какую-то связь.
Отчаявшись найти мало-мальски разумное объяснение, Кэтрин обратилась к ящику в самом низу шкафа. В нем оказались папки со снимками ночного неба и Луны в разных фазах, как если бы на каком-то этапе жизни астрономия пополнила ряд странных увлечений М. Г. Мэйсона, где уже числились искусство управления марионетками и геноцид мелкого зверья. Подход тут, как и прежде, отмечался дотошный, близкий к научному, но цели все так же плавали где-то в тумане, который почему-то жуть как хотелось развеять.
Кэтрин задвинула «астрономический» ящик и посмотрела на второй шкафчик. Видимо, все основные ответы на вопросы содержались там — иначе где им еще быть?
И вскоре, уже после беглого осмотра, она пожалела, что связалась со всем этим. То и дело Кэтрин отстранялась от снимков и прижимала ладонь ко рту. Увидев такое раз, думала она, не забудешь до конца дней.
Вскрытие, извлечение внутренних органов, всевозможные способы препарирования маленьких млекопитающих — вот что составляло фотоотчеты верхнего ящика второго шкафчика. Буквально шесть фотографий: четыре крысы, белка, освежеванный барсук — заставили ее почувствовать себя плохо. Хуже всего сказалась седьмая. Поначалу Кэтрин подумала, что Мэйсон препарировал темнокожее дитя, но при тщательном, чуть менее замутненном ужасом взгляде оказалось, что на снимке была обезьяна с длинным разрезом на спине. Лоскуты обволошенной кожи свисали с плеч и рук животного противоестественными пародиями на длинные вечерние перчатки. На обратной стороне карточки Мэйсон написал: «От Феликса Гессена, гиббон из Регентского зоопарка». Возможно, чучело было заказано тем самым господином Гессеном. Но мимолетный ужас от мысли, что Мэйсон вполне мог взять и превратить в чучело ребенка, заставил Кэтрин с треском захлопнуть альбом.
Подборка во втором ящике оказалась не менее отталкивающей — на старательно пронумерованных фотографиях были видны неподвижно сочлененные кости останков животных, дополненные линейными рисунками деревянных конечностей, воспроизводящими истинную динамику движения суставов. Несколько больших альбомов содержали снимки отдельных частей кукол, выложенных на черную ткань — не каких-нибудь кукол, а дорогих моделей от Джея Ди Кестнера, Саймона и Хельбига. Разломанные вдоль шарниров ручки и ножки, парички из мохера, бисерные головки кукол-девочек и тельца, отлитые из фарфора были представлены здесь в изобилии. Небесно-голубые стеклышки глаз и маленькие рты с тщательно детализированными зубками указывали на немецкое происхождение прелестниц. Распотрошив тысячу животных, Мэйсон решил, что этого ему недостаточно, и взялся за неодушевленные, искусственные, но при этом все так же сложно сработанные тела.
Папки с фотографиями, идущие после хроники препарирования кукол, сорвали с губ Кэтрин тихий возглас боже всемилостивый, повисший в вялой духоте комнаты, пронизанной запахами несвежего табака, лежалой бумаги и полированного дерева.
Снимки людей с ампутированными конечностями — времен англо-бурской войны, Первой мировой и даже Гражданской войны в США — соседствовали там с рисунками, схемами и фотографиями оловянных и деревянных протезов, шнурованных и кожаных шлеек, сложных гидравлических систем, имитирующих человеческие суставы. Среди старых вырезок из пособий по медицине затесались каталоги столетней давности с самыми на тот момент совершенными протезами конечностей работы Густава Герма и Джулиано Вангетти.
Похоже, Мэйсон освоил таксидермию до уровня, непревзойденного в его эпоху — и встал на ступеньку повыше. Его интерес затронул реальную хирургию, травматологию и косметическое наложение швов на человеческую плоть. Инвалидность, уродство, калечные девы и превратившиеся в живые огрызки солдаты; стежки на бескровной коже и лицевые травмы самого Мэйсона, инвалидные кресла, подпорки и костыли — все это кружилось перед глазами Кэтрин зловещим калейдоскопом, вызывая еще большую, чем прежде, тошноту. Творец в бывшем капеллане был столь значимо подкошен войной и личными потерями, что попросту сошел с ума и этом доме — если не вернулся с фронта уже будучи безнадежным безумцем. Здесь его болезнь вызревала, культивировала упадочно-замысловатый взгляд на вещи. Мэйсон обращался в этих стенах — но во что?
Материалы из предпоследнего ящика лишь подтвердили теорию Кэтрин, демонстрируя доказательства экспериментов гораздо более интимного характера. Разглядывая их, она раз и навсегда решила для себя — в этот дом она никогда больше не вернется.
От изобильного собрания викторианских фотографий в стиле «мементо», с траурными семействами, восседавшими в лучших своих воскресных нарядах вокруг нарядно одетых и загримированных трупов недавно умерших младенцев, бесовская одержимость Мэйсона вдруг обратилась к его собственной сестре.
На протяжении сороковых годов, согласно датам на оборотах карточек, таксидермист фотографировал ее в различных корсетах, подпорках и подтяжках. Несмотря на суровое выражение грубоватого лица Виолетты, присутствовал в этих снимках некий потаенный и неуютный эротизм, пусть даже композиция и стиль фотографий указывали в исключительно художественную сторону их создания. Причем тело Виолетты не обнажалось — от шеи до пят она была будто бы зашита во вторую кожу, сделанную из коричневой ткани, используемой при набивке кукол. Плотная мешковина была пристрочена послойно, плотно связана у талии веревкой — таким образом фигура сестры Мэйсона не теряла форм, плотно зафиксированная в этом странном одеянии. Ноги ее были заключены в железные подпорки и облегающие сапоги из кожи, как если бы она страдала некой формой инвалидности. Что-то в этом было от наказания… И не им ли, в конечном счете, являлось? Эдит, скорее всего, родилась вне брака — не такова ли была реакция Мэйсона на то, что сестра завела любовника? Один снимок являл на ней кожаный предмет одежды, назначение коего нельзя было объяснить никак иначе — то был примитивный, сработанный из плотно подогнанной кожи и заклепок пояс верности. На нем не было молний, пряжек, ремней — казалось, единственным способом избавиться от чего-то подобного было распороть нагромождения швов ножницами. Кэтрин молилась про себя, чтобы ее предположение было ошибочным.
То, что Мэйсон изобрел для головы сестры, выглядело не менее странным и жутким. По другим фотоснимкам Кэтрин запомнила, что волосы Виолетты были темными и тонкими. Гротескный же «помпадур», который тщательно воспроизводила на себе Эдит, не мог быть чем-то кроме парика, на костлявом лице кукольницы смотревшегося совершенно чужеродно.
По мере углубления в фотоархив лицо Виолетты становилось все более закрытым — его отгораживали от мира вуали, одна за другой крепившиеся к широкополой шляпе в стиле Жана Антуана Ватто[14]. По ту сторону тканевых завес эксперимент Мэйсона продолжился и перенесся на сочетания марли с театральным гримом; лицо Виолетты было столь плотно перебинтовано, что миру являлись лишь узкие надутые губы, сложенные в маленькое кукольное «О».
Все чаще на снимках ее глаза под вуалью были нарисованными на сомкнутых веках чересчур глазами, в обрамлении накладных ресниц, все чаще она носила фарфоровые расписные маски… Или даже настоящие кукольные лица, выполненные в натуральную величину, все так же сокрытые полупрозрачной тканью.
Как будто М. Г. Мэйсон фетишизировал свою сестру как куклу. Или возводил ее тело в некую степень совершенства, о конечном виде которой Кэтрин даже думать не хотелось.
Потянувшись к последнему ящику, она всерьез задалась вопросом, выдержит ли еще.
Вздохнула, опустилась на колени и выдвинула секцию, надеясь, что там окажутся какие-нибудь безвредные выкройки для одежды.
Ожидания не оправдались. Кэтрин ухватилась за шкаф, дабы не плюхнуться на пол. Ее пробрала дрожь. Она узнала все эти здания, захваченные давным-давно в черно-белую фотографическую плоскость, моментально. Мэйсон снимал спецшколу Магнис-Берроу. То самое печально известное пристанище особенных детей на полях Эллил-Филдс.
Когда-то при этом знакомом ей учреждении были аккуратные подстриженные газоны и даже парковка для автомобилей. И почему же, интересно, школа интересовала нелюдимого хозяина Красного Дома, хотя находилась она в нескольких сотнях ярдов отсюда? Кэтрин стала листать фото, пытаясь найти подсказку. Одна тысяча девятьсот пятьдесят первый год, пятьдесят второй, пятьдесят седьмой, какие-то пометки римскими цифрами. Задолго до того, как судьба самой Кэтрин оказалась невольно связана со школой. Хоть какое-то облегчение, пусть и небольшое.
С одного из снимков на нее взглянула девчушка с невинной улыбкой и незрячими глазами — это лицо она знала с детства, и эти глаза всегда вселяли в душу Кэтрин страх. То была малютка Анджела Прескотт. Слепая девочка, о которой рассказывала бабуля. Девочка, которую похитили из Магнис-Берроу еще до того, как Кэтрин появилась на свет. Та, о коей большая часть жителей Эллил-Филдс безуспешно пыталась забыть.
Фото Анджелы было вырезано из газеты. Не только ее — были тут и Маргарет Рид, и Хелен Тим, ее сестры по несчастью. Вырезки были помещены в прозрачный конверт. А вот бабуля хранила подобные в жестяной банке из-под печенья.
Возможная связь Мэйсона с похищениями повергла Кэтрин в стылое замешательство, подкрепленное еще более стылым ужасом — таким, от которого впору дрожать и дрожать. Шок перешел в тошноту, выродился в страх за собственную жизнь, заставил волосы на голове встать дыбом. Закрыв глаза, она сделала глубокий вдох, пытаясь взять себя в руки.
Мэйсон был уже стар, когда пропали девочки. Ему тогда оставалось уже совсем недолго пребывать на земле. Он покончил с собой в начале шестидесятых — перерезал горло опасной бритвой… Но почему? Из-за того, что сделал с малютками? От животных к куклам, от кукол — к детям.
Ей вспомнились миленькие котятки в платьицах. Безумный, но гротескно красивый мир чучел животных и кукол, созданный Мэйсоном в собственном доме. Его причастность к пропажам девочек вдруг показалась до жути правдоподобной, логичной. Мог ли кто-то подумать что-то плохое о священнике, пусть даже и бывшем, фотографирующем школьные угодья тогда, в пятидесятые? Он ведь мог быть просто архивариусом, самопровозглашенным хроникером местности. Такая фигура не привлекла бы лишнего внимания.
Здесь больше не было ничего такого, что обличило бы в Мэйсоне похитителя и убийцу. Только вырезки и десятки фотографий школы и пришкольных территорий.
Кэтрин понимала, что в эту комнату ее никто не приглашал — но все же ей страстно захотелось спросить о снимках Эдит.
Ее ужас перешел в замешательство, когда она стала смотреть следующую стопку. Все снимки в ней были помещены в рельефные бумажные рамки, и на каждом присутствовал некий ребенок, которого она не знала. Судя по качеству бумаги и оттенку фотографий, все это было отснято еще в сороковых годах. Даты на оборотах подтвердили догадку.
На первом снимке мальчик сидел в инвалидном кресле у каменного коттеджа. У него иссохли ноги. Тот же мальчик появился на двух других снимках, сделанных на прекрасной лужайке большого ухоженного сада. На первом он был один, улыбался в камеру, на втором — сидел, наблюдая за размытой деятельностью на сцене кукольного театра. Последние два снимка, должно быть, были сделаны в саду Красного Дома. Примерно во время Второй Мировой войны в особняке жил ребенок-инвалид.
Кэтрин прищурила глаза и всмотрелась в размытое неистовство на подмостках театра. Все, что она смогла разобрать — древний капор вокруг чьего-то личика и что-то вроде двух тонких рук-тростинок, воздетых в идущий волнами воздух над головой фигурки в капоре.
Столько вопросов, и ни одного ответа на горизонте. Мальчик — сын Эдит? Возможно, та последовала примеру своей матери и нагуляла ребенка. Ничто в доме не указывало на то, что отец Эдит некогда присутствовал в Красном Доме, а задать вопрос напрямую — невежливо.
Если Эдит была его матерью, у мальчика могло быть то же врожденное уродство, что и у старухи. Но раз сама Эдит разменяла девятый десяток, где же теперь ребенок?
Вот мальчик сидит между Виолеттой и ее маленькой копией — почти одинаково строгие лица, Почти идентичные черные платья от-горла-в-пол. Эдит с матерью были похожи как две капли воды. На снимке улыбался лишь неизвестный ребенок, держа будущую наследницу за худую бледную руку. А вот рядом с ним уже сам М. Г. Мэйсон, патриарх семейства, сидящий в садовом кресле. На Мэйсоне — белый льняной костюм и шляпа, не способная полностью скрыть изуродованную половину лица; даже какой-то особый, напряженный уклон головы дела не спасает. Позади кресла мальчика — Эдит в наряде очевидно траурного толка: стоит прямо, без подпорок. Значит, в юности она не была инвалидкой. Уже тогда она выглядела рано постаревшей, будто ее теперешнее и тогдашнее состояния не связывала вереница долгих лет. Видимо, в этот раз фотографом выступала Виолетта.
Следующее фото повергло Кэтрин в панику. Мальчик-инвалид присутствовал и на нем, а вот Мэйсонов уже не было в кадре. На их место пришла, судя по всему, марионетка из первоначальной труппы.
— О, боже, нет. — Кэтрин закрыла глаза, пытаясь стереть облик фигуры, восседающей у мальчишки на коленях. — Нет, нет, нет, не может этого быть.
Кукла была почти одного роста с ребенком, с такими же длинными и тонкими ножками на шарнирах. Обтягивающий костюмчик, деревянное лицо с нарисованными на нем чертами, черные волосы.
Кэтрин уже видела эту странную и неряшливую штуку раньше. В трансах, мучивших ее в детстве, в школе на детской площадке, за пределами «берлоги», по ту сторону зеленого забора, через который перелезла Алиса… Значит, то, что она видела в трансах, на самом деле было воспоминаниями? Пусть подавленными, но все же — правдивыми?
Кэтрин поникла и глубоко вздохнула, пытаясь остановить завладевший ею страх.
Когда она была ребенком, Мэйсон уже давно лежал в земле. Виолетта — либо тоже, либо пребывала в глубочайшем старчестве. Выходит, Эдит с Мод и какими-то неназванными пособниками вывозили труппу в заброшенную школу Магнис-Берроу и подспудно вошли в ее жизнь еще тогда, когда ей было всего шесть лет?
Если некто с деревянным лицом и мозолистыми ногами, увиденный Кэтрин в детстве, не был галлюцинацией, не мог он быть и марионеткой, потому как никакого кукловода она близ него не замечала. Видимо, то был настоящий, живой ребенок в маске, одетый как одна из кукол Мэйсона. Правда, с какой целью? Кто это мог быть? Кто вообще тогда мог знать о труппе? Не эту ли куклу видела Кэтрин во время показа детской? Была же там голова со смутно похожим париком: черные кудри на виду, но лица не разобрать. А в спектакле о Генри Стрейдере фигурировал такой персонаж — скажем, где-нибудь в массовке? Тоже сложно сказать, ведь все куклы были наряжены в обноски, соответствующие описываемому дикому времени, что делало их едва ли отличимыми друг от друга… Да и смотрела-то Кэтрин вполглаза.
— Вы все — безнадежно больные ублюдки, — провозгласила она на всю комнату. Ее мозг не справлялся с таким обилием отталкивающих образов и пугающих предположений. Могли ли члены семьи Мэйсон быть в ответе за хищения детей-калек из спецшколы в пятидесятых и шестидесятых годах? Помогал ли им некий ребенок-сообщник в образе этакого отверженного Арлекина? Возможно, используя кого-то, кто одевался как любимая труппа мэйсоновых кукол, они хотели сдружить детей с «волшебными спасителями», друзьями беззащитных и уязвимых — ребенку, особенно отчаявшемуся, проще простого впарить подобный бред. Мальчишка-инвалид в кресле вполне мог быть заложником дома. Одним из тех, кого увели еще в сороковых годах.
А Кэтрин-то думала, что странные дети из Магнис-Берроу — лишь образы, всего лишь спасительные проекции затравленного ума! Все это время она не была какой-то там больной, ничего не выдумывала — вот они, доказательства! Вот почему ее прибытие в этот особняк (воссоединение с ним?!) так сказалось — память заработала с прежней силой. Между ней и Красным Домом с детских лет существовала связь.
Два поколения Мэйсонов на протяжении десятилетий шпионили за спецшколой. Они забрали Алису. Вполне могли бы забрать Кэтрин — ведь она сама этого хотела.
Но кем тогда были дети в костюмах марионеток? Другими похищенными? Униженных и оскорбленных калек привлекали, вербовали, а потом заставляли играть роли в чокнутых сценках на заднем дворе… годы напролет? Заманивать других на этот дьявольский утренник в Красном Доме, как заманили Алису?
Алиса…
Если все эти подозрения были правдой, вопрос, почему Мэйсоны до сих пор прячутся oт мира, снимался сам собой. Оставался другой — взаправду ли Эдит разорилась и хотела распродать наследие дяди, или приглашение Кэтрин в этот дом служило извращенным способом покаяния? Или чем-то гораздо более плохим? Теперь, когда девочка, избежавшая некогда цепких лап похитителей, выросла и стала женщиной, не чаяла ли Эдит завершить начатое любой ценой? Вполне возможно.
— Боже, Боже, — пролепетала Кэтрин. Эти две жуткие старухи — неужто они связались с ней единственно ради того, чтобы пополнить жуткую коллекцию, начатую Мэйсоном задолго до ее рождения? И тот ребенок в окне Красного Дома, причудившийся ей в самый первый приезд сюда — что, если он тоже реален? Что, если это никакая не кукла?
Здесь же есть запертый чердак! И подвал! Детские кроватки — кому они служат на самом деле? По ночам кто-то маленький бегает по дому… Крохотная фигурка в конце темного коридора… Она думала, что это животное… Или дурацкий розыгрыш.
Кэтрин прижала руки к лицу. Слабость и головокружение вознеслись до нестерпимого уровня. Хотелось просто встать и заблевать весь этот рассадник заразы. М. Г. Мэйсон был не гением, а монстром. Кэтрин уже не знала, что и думать. Может быть, на самом деле здесь она одна сошла с ума. Пала жертвой собственной паранойи и отчаянно пыталась хоть как-то рационализировать свое нахождение в этих стенах, отыскать несуществующую связь с помешательством детских лет. Ведь самое плохое в сумасшествии — не осознавать до самого конца, что ты сходишь с ума.
Улики. Нужно больше улик.
Те несколько свитков пергамента, которые она еще могла вынести из ящиков в кабинете, были написаны на древнегреческом языке. Как и переплетенные тома черных тетрадей Мэйсона, заполнившие маленький книжный шкаф. Как и четыре гроссбуха на столе, записи в коих хозяин дома вел до самой смерти. Аккуратный, но непонятный текст лишь изредка разбавляли химические уравнения и что-то, смахивающее на тригонометрические расчеты.
Наследию М. Г. Мэйсона не требовался оценщик или аукцион, ему подходил психиатр и архив в частной больнице, где мания, которую Эдит ошибочно приняла за гениальность, могла бы быть подробно изучена теми, кто привык к изощренным способам самовыражения тяжелобольных.
Кэтрин побежала в свою комнату и схватила сумки. Затем спустилась на первый этаж с зажатыми в зубах ключами от машины.
Глава 37
Прежде чем Кэтрин отошла от своей машины, она попыталась определить источник тускло-медного уличного освещения в деревне Магбар-Вуд. Свет, казалось, исходил изнутри домов, теперь больше напоминающих силуэты и стоящих на двух улицах, из которых и состоял поселок — будто где-то там, за ситцевыми занавесками и пыльными стеклами, горели тусклые лампы. Собравшиеся на смотр превратились в собрание теней, метавшихся туда-сюда в суматохе, но не было слышно ни шума толпы, ни просто даже отдельных голосов. И откуда они здесь только взялись? Не могли же то быть здешние — все дома в деревне стояли заброшенными! Если нашлись те, кто приехал сегодня откуда-то еще единственно с целью почтить память М. Г. Мэйсона, то это самые настоящие безумцы, посвященные якобы в тайную традицию фанатики.
Узкую дорогу, ведущую в деревню, преградил полосатый металлический столб. Дальше на машине было не проехать — Кэтрин здесь будто бы ждали. Чему, впрочем, удивляться — даже туфли у нее украли. Ни Мод, ни Эдит не настроены были отпускать ее просто так.
Острые камешки впивались в босые пятки и заставляли ее то и дело оступаться. Теперь Кэтрин понимала, что шансов добраться до ближайшей трассы практически нет — она едва ли видела собственные ноги, не говоря уже о каких-либо дорожных знаках.
Безоблачная темная подложка небес была испещрена серебристой шрапнелью звезд, и, взглянув вверх, Кэтрин на миг почувствовала себя повисшей в какой-то пустоте — быть может, высоко в горах, на вершине, открытой всем ветрам. Похожее небо она когда-то видела на севере Испании. Незнакомое и безграничное настолько, что немного страшно. И еще — напоминающее о собственной ничтожности и беспомощности. Ведь наверху одни только вакуум, мрак и неизвестность на многие-многие парсеки.
Как и в ту первую ночь в спальне Красного Дома, Кэтрин отвела взгляд от небес, от греха подальше. Она уселась подле машины, нервно наблюдая издалека за деревней. Ледяные щупальца ветра забирались ей под тонкое белое платье. Лихорадочно пытаясь придумать план побега, она то и дело содрогалась. Именно это ей оставалось — побег. Иначе начавшийся в гостевом доме в Грин-Уиллоу кукольный кошмар никогда не закончится.
Не имея другой альтернативы, Кэтрин обогнула столб и пошла в деревню.
Вскоре впереди замаячили большие шляпы на головах неизвестных. Людей было не так уж много. Гости застывали на некоторое время в квадратах света от окон домов — и затем возобновляли движение. Было в их движениях нечто жеманно-танцевальное — и, быть может, всему виной были лишь ночная тьма и нервное напряжение, но Кэтрин казалось, что рост идущих как-то подозрительно мал для взрослых. Неужели — дети? Шаловливые ребятишки, выбежавшие из домов поиграть на свежем воздухе…
Кэтрин шла, проклиная свое слишком выделяющееся белое одеяние. Замирая у окон, гости явно рассматривали ее. Где Эдит, Мод, Майк, Тара — все те, кого можно считать уже изведанной напастью? Желание выбраться отсюда было сильным, но Майка все-таки нужно было найти и предупредить, на случай, если все жуткие подозрения о наследии Мэйсонов и похищении детей не беспочвенны. А вот Тара пусть горит в аду.
Интересно, сможет ли она преодолеть боль и гнев при встрече с ним? Придется. Майк ведь прибыл сюда на машине. На машине Тары, так как у него прав не было. Чтобы отсюда выбраться, ей придется найти Майка и ту тварь, что приволоклась за ним. Машина Тары наверняка припаркована на той дороге, что подпирала Магбар-Вуд с другого конца главной деревенской улицы.
Кэтрин напомнила себе, что физической угрозы от Мод и Эдит никакой — коварные старухи подпоили ее, но на большее способны явно не были. Но кто знает, вдруг у них были союзники?
Знать бы наверняка. Ей вспомнился худощавый пчеловод, помахавший рукой из сада, когда она стояла у окна. Вдруг чьи-то дети до сих пор прислуживают им?
Да, кстати… Что случилось с детьми, жившими в Красном Доме ранее, когда все они выросли?
Следовало отъехать отсюда на порядочное расстояние, поймать сносный телефонный сигнал и позвонить в полицию. И пусть ей поначалу не поверят, пусть история ее будет казаться такой же абсурдной, каковым казался ей весь Красный Дом. Что бы ни случилось в особняке в прошлом, теперь дело за властями.
Минуя очередную группку людей, идущих на смотр, Кэтрин нервно улыбнулась двум пожилым — в этом она была уверена — людям. Конечно, дети не шатались бы здесь безо всякого присмотра в столь поздний час. Гости казались ей маленькими, но они были дряхлыми и иссушенными временем стариками… Хотя две словно подпрыгивающие фигуры, шедшие мимо горящего по левую руку от Кэтрин окна в ногу с ней, внушали некое беспокойство. Что-то в их повадках было звериное, эти особенности не в силах был скрыть даже сумрак. Улыбка, обращенная к ним, вышла неискренней, вымученной — так улыбаешься, заслышав неудачный каламбур.
На перекрестке Кэтрин взглянула на силуэты церкви и пристройки. Дома дальней гряды она не различала — да и те, что были ближе к ней, заявляли о себе лишь проблесками грязно-белой кладки да медовым свечением из-за покрывшихся известью сеток на окнах. В дверных проемах царила темнота.
Две женщины, пошатываясь, прошли мимо нее — их лица были сокрыты не то вуалями, не то масками. Может, грим? Кожа не могла быть настолько бледной без каких-либо прикрас.
Сама того не осознав, Кэтрин очутилась в центре толпы — и почувствовала себя зверем, над которым кружатся прекрасно осведомленные о его серьезной ране стервятники. Конечно, от этих сутулых стариков большого вреда не жди… Но все-таки, что их сюда привлекло? Чем был вызван тот призрак ажиотажа, что прошел по их безмолвным рядам? Ведь никаких типичных атрибутов карнавала — палаток с сувенирами, угощений на вынос — здесь не было. Как и Майка, которого она продолжала безутешно высматривать впереди. Стальные острия тросточек постукивали по земле, толпа ускорялась, будто не желая пропустить что-то впереди, некое зрелище или уличное действо. Когда она остановилась, потрясенно озираясь, трое гостей за ее спиной тоже встали — и, вне всяких сомнений, о чем-то зашептались. Поняв, что ждать ее придется, возможно, долго, они попросту обогнули Кэтрин, сверкнув в сиянии окна высокими воротниками и плиссированными юбками в пол, итонскими фраками с «ласточкиными хвостами»[15] и короткими вязаными накидками… Нарядами, что вышли из моды сто лет назад.
Их узорчатые вуали скрывали не лица, а маски, или белые пятна сценического грима. Их окутывал густой запах лаванды — запах, не способный перебить камфору и затхлый дух одежды, вечность провалявшейся в сыром подвале.
— Эй! — окликнула Кэтрин идущих. — Постойте! Я ищу…
Ее проигнорировали. Кто-то позади тихо хихикнул.
Вы еще смеетесь? В зеркало бы глянули! Над собой смеяться надо!
В конце улицы замаячил еще один полосатый столб, блокирующий подходы к деревне. Кэтрин захотелось закричать во всю мощь легких. За этой наспех устроенной оградой царила тьма, не прореженная ни деревьями, ни живой изгородью, ни видом посеребренных луной полей. Мир будто уперся в великое Ничто, достиг самого края. Если там, за столбом, и была машина, привезшая Майка и Тару в Магбар-Вуд, ее попросту не было видно.
Ее внимание переключилось на скопище безмолвных фигур, прижавшихся друг к другу в относительно ярких лучах света из самого последнего окна на улице. Их было не так уж и много. Пожилой мужчина в самом центре группы выплясывал на узкой полоске тротуара — его руки периодически взмывали над кромками шляп зрителей. Танец, исполняемый им, либо давным-давно вышел из моды, либо и вовсе был придуман где-то здесь, в округе, да так ее никогда и не покинул. На голове старика болтался из стороны в сторону черный парик. В прорехе между смоляными кудрями лицо было белым-бело — штукатурка так и осыпалась хлопьями со лба и щек. Накладные ресницы придавали облику старца что-то от потасканного и побитого временем трансвестита — избыточно пышные и напрочь неестественные. На шее танцора красовалось жабо, а глаза — нарисованные, не настоящие — жизнерадостно взирали с закрытых дряблых век. Напомаженная улыбка довершала фарс. Лакированные туфли выстукивали дробный чечеточный ритм на тротуаре.
Увидев больше, чем хотелось бы, Кэтрин решила вернуться к машине. Она засядет там и станет сигналить — Майк ее точно услышит, а если звук возмутит чокнутых, что стоят за этим безумным парадом, — что ж, так даже лучше, пусть убирают свои чертовы ограждения, если хотят спокойного праздника. Да и в салоне она будет чувствовать себя в безопасности.
Ее смелый порыв был загублен внезапным электрическим треском и шипением из соседнего переулка. Помехи сопровождались медным стоном, похожим на скрежет, с каковым железный корпус корабля мог бы тереться о скалистую мель.
Кэтрин сжала уши. Музыка, записанная, надо думать, в ту эпоху, когда само понятие звукозаписи было в новинку, грянула на фальшивых оборотах сквозь допотопные динамики. Диссонирующий металлический звон фанфар выдал в мелодии «Зеленые рукава» музыку для фургончика старинного мороженщика.
Толпа кругом замерла, как ей показалось, н благоговейном страхе, прежде чем вновь двинуться через перекресток. Музыка явно служила для собравшихся на смотр неким знаком, сигналом к чему-то… Вот только к чему?
— Кто-нибудь может объяснить мне, что происходит? — почти плача окликнула Кэтрин человека, спешащего мимо нее на целых двух тросточках. Ей показалось, что за сеткой-вуалью, ниспадавшей с передка шляпной тульи, промелькнула улыбка… Одна лишь улыбка. Слов ее не удостоили. Парочка миниатюрных мужчин, прижатых чуть ли не к самой земле грузом лет, тоже проковыляла мимо.
— Сэр! Постойте. Можете… — Кэтрин протянула руку и схватила одного из них за плечо. И быстро отпустила. Не только потому, что рука оказалась тонюсенькой, как деревянная флейта под драпировкой из черной ткани, но и из-за того, что человечек вскрикнул и упал.
— Простите! — выпалила Кэтрин, краснея. — Я не рассчитала. Позвольте…
Старичок поднялся на ноги — ему помог мужчина в сюртуке с тремя пуговицами и еще кто-то неопределенного пола, укутанный в твид с головы до пят. Руки в перчатках выловили упавшего из мрака неосвещенной дороги, в коем он почти что целиком потонул.
— Мне так жаль, — пробормотала Кэтрин, отступая назад, к толпе. То ли ей это показалось, то ли свет окон тускнел, стирая ориентиры, ведущие назад, к автомобилю. А ведь пройти было всего ничего! Возможно, остаточный эффект той дряни, что подсунула ей под видом настойки Мод, все еще сказывался — потому как несколько кошмарных мгновений Кэтрин была абсолютно уверена, что шагает в самом сердце небытия. Ночь не имела ни конца ни края, и ей хотелось просто упасть, прильнуть к земле, да так и лежать — покуда шелест старых одежд, волнами окутывающий ее со всех сторон, не прекратится. Только когда остатки разношерстной орды поредели и даже самые немощные обогнули шатко-валко то препятствие, что Кэтрин для них представляла, откуда-то пролился новый свет цвета виски, и она снова смогла двигаться без страха провалиться в эту неизбывную пустоту.
И вновь мир вокруг нее стал несущественным, нереальным. Микстура Мод каким-то образом хорошо сочеталась с холодом, с темнотой, с ее нервами, антиквариатом и чучелами. Все это слагалось в один большой адский механизм, предназначенный дезориентировать ее. И когда же, интересно, она сможет увидеть вещи такими, какие они на самом деле?
Нужно успокоиться. Устоять на ногах. Держаться подальше от ковыляющих мимо лилипутов. Покинуть Магбар-Вуд, пока не началась истерика.
Добравшись до места, где сливались воедино две полосы, она увидела, что двери заброшенной церкви были открыты. Густой хрип ярмарочной шарманки бился о каменные стены часовни и вырывался наружу вместе с тусклым красным светом.
Перед закрытыми воротами церковного двора к свечению присоединился румяный свет от дверей пристройки — как будто ныне то было сердце действа. Кэтрин направилась к своей машине.
Чья-то рука вцепилась ей в локоть.
— Такое по телевизору не увидишь, правда?
Кэтрин взвизгнула.
Майк.
— Какого хрена ты здесь делаешь? — она сказала это, не успев даже обернуться. Майк! Ей захотелось зарыдать и упасть ему на руки.
Он отпустил ее и отошел на шажок. Улыбка стерлась с его губ, ушла из глаз. Он упер взгляд куда-то себе под ноги, явно смущенный.
— Леонард позвонил мне. Сказал, что ты будешь здесь и что тебе нужна помощь. Я увезу гебя отсюда.
— Леонард?
— Прости, Кэт. Мне очень жаль. Tы даже не представляешь насколько. Слушай… Давай просто забудем о том, что было. Нам нужно отсюда убираться. Здесь неподалеку машина Тары… Господи, у тебя из носа кровь идет!
— Да наплевать! Машина Тары, значит? Как ты мог? Как ты можешь быть с этой…
— Прости меня! Мне очень жаль!
— Да иди ты в жопу!
— Послушай, когда ты рассказала мне о той девушке, с которой поссорилась в Лондоне, я ответил на ее сообщения только потому, что… Ну, хотел с ней поговорить. О том, что между вами произошло. Пока мы не… углубились. Она начала первая.
— Это что, оправдание такое?
— Мне жаль, Кэт. Tы была права. Она плохой человек. Использовала меня! Теперь я и сам вижу. Я тот еще дурак, неисправимый. Не знаю, о чем я только думал.
— Я прекрасно знаю о чем!
— Между нами не было ничего хорошего, Кэт. Я не знал, что делать… черт! — что было в его глазах — боль из-за предательства Тары или раскаяние о разрыве с Кэтрин?
— Ты спал с этой мразью! С этой… кобылой!
— Послушай, я…
Второй раз в жизни она ударила кого-то по лицу. В этот раз — не кулаком, а раскрытой ладонью.
Кэтрин отвернулась к церкви, будто та могла дать хоть какую-то надежду на спасение. Перед глазами плыло, но ей казалось, что прибывающие гости остановились посреди дороги и молча наблюдали за ее конфронтацией с бывшим на самой границе деревни.
— Кэт, здесь что-то не так. Я серьезно.
Она резко развернулась на каблуках — так, что он вздрогнул:
— Разумеется, здесь что-то не так, идиот! Thi даже половины всего того дерьма, что тут творится, не знаешь!
— Кэт, ты вправе меня ненавидеть. Я не жду, что ты простишь меня, что захочешь о чем-то со мной говорить даже. Но прошу тебя — пойдем со мной, хорошо?
— Где машина этой твари?
— В переулке, за тем столбом. Но я не могу ее саму найти. Она пропала.
— Пропала? Это как?
— Мы с ней разделились. У той церкви. Она зашла внутрь. А я… я не захотел. И сейчас не хочу. Что-то не нравится мне все это. Она так и не вернулась, и я не знаю, где она сейчас. Ключи от машины у нее. Придется ее разыскать и потом убраться отсюда.
— Она все еще там?
— Я не знаю. Да, наверное, но… Не знаю. Там, у церкви, я увидел кое-что очень странное. Ужасное. Что это за место? Леонард дал мне карту…
— И все равно ты приволок ее сюда. Сначала бросил меня ради этой суки, потом — привел сюда! Tы что, думал о ее карьере? Она-то наверняка думала!
— Что мне оставалось? Знаю, мне не стоило ничего говорить о том особняке. Черт, да все я прекрасно понимаю! Но я сказал ей раньше, чем узнал, на что она рассчитывает. Было уже слишком поздно. Она захотела увидеть дом, антиквариат и все остальное. Тот тип, Мэйсон — она знала о его чучелах.
— Ты глупый ублюдок.
Майк схватил ее за руку:
— Она бы все равно пришла сюда! Она уже искала этот дом, с тех пор как я рассказал ей про чучела животных. Но она не могла найти деревню. Я до сих пор понятия не имею, как сегодня нам удалось сюда попасть. Все это вышло как-то случайно! Но мне нужно было, чтобы она отвезла меня.
Когда Леонард сказал, что у тебя проблемы, у меня не осталось выбора. У меня нет денег на такси из Вустера. Я сказал ей, что хочу найти тебя, сказал, что ты мне действительно небезразлична.
— Лжец!
— Все очень сложно, Кэт!
— Таре было все равно! Она просто хотела попасть сюда и увидеть дом. Она какая-то чокнутая! Даже после всего того, что она с нами сделала, ее не волновала возможность снова столкнуться с тобой — ей просто хотелось увидеть дом! — Майк сжал кулаки, будто собираясь стукнуть себя самого. — Вот черт! Черт, черт, черт!
Кэтрин глянула на церковь. «Зеленые рукава» становились все громче. Сами звезды на небе кружились в такт адской мелодии, или так ее измученному рассудку казалось.
— Эта дрянь там? — она содрогнулась, грудь будто пронзило холодное копье. Эта ночь подводила черту под тем, что началось еще в школе. Ну конечно! Вот вам и финальное шоу. К черту терапию. Что может противопоставить самой Судьбе какой-то там психолог? Она с самого начала была права. Знала ведь. Несмотря на все заверения в обратном, она знала, что по трагической спирали жизни ее влечет неведомая сила, противиться которой тщетно. Все, что она могла — терпеть и страдать. Ну и по возможности мстить врагам, чтобы собственное падение не выглядело в конце абсолютно лишенным справедливости актом.
Голос Майка вывел ее из дум:
— …там идет какая-то служба. Они поют. Собрались вокруг стеклянного гроба, или чего-го вроде гроба, не знаю. Чертовски зловеще. Я ушел, но Тара осталась ждать ту старуху, которую мы встретили в доме, божий одуванчик в инвалидном кресле. Ей хотелось осмотреть особняк.
— Хозяйку зовут Эдит.
— Да, Эдит. Тара хотела договориться с ней о съемках фильма. Эдит сказала, что будет здесь, с тобой. Но мы так и не нашли ее, и Тара до сих пор не вышла из церкви. Это все так неправильно. Господи, что за жуткое место. Давай просто уйдем.
— А как же ключи? Ключи от машины! Нужно ее найти!
— Не ходи туда. Я… я не смогу. Там похороны… женщина в гробу…
— Какая женщина, что ты несешь?
— Не знаю, она была в том гробу из стекла! Там везде какой-то красный свет! Я смотрел из-за двери. Потом все погасло и двери закрылись. Тара осталась внутри. Какого черта они делают в темноте?
— О, Боже. — Кэтрин зашагала к церкви. Она достанет ключи, если надо — с мертвого тела снимет. Что до всяких женщин в стеклянных гробах — почти наверняка очередной фетиш Мэйсона. Этим ее уже не смутишь и не удивишь.
— Не уходи!
— А как же ключи от машины, придурок!
Майк закусил губу. Она никогда не видела в его глазах настолько дикий страх.
— Черт с ними, ключами! Пойдем к трассе! Я не собираюсь туда возвращаться. Пойдем!
— У меня даже обуви нет! Как я пойду пешком?
— Черт! Слушай, если мы разделимся, я буду ждать тебя. У машины, хорошо? Она стоит в том переулке, у столба. Я не оставлю тебя здесь. Здесь все неправильно. Я буду ждать, хорошо? Кэт! Кэт!
— Ты мой герой!
— Мне все равно, что ты обо мне думаешь. Но тебя я здесь не брошу. Если вы вдвоем вернетесь к тому дому, я поднимусь за вами, хорошо?
Кэтрин и тут не ошиблась. Тара знала обо всем. Ее месть была тщательно продумана. Сначала — увести Майка и разорвать лучшие в жизни Кэтрин отношения. Потом — объявиться в Красном Доме и заработать доверие Эдит. Сорвать оценку и аукцион обещаниями прибыльного контракта с телевидением, дополненного ложью о том, как Кэтрин напортачила в «Сокровищах старины». Эдит была бы в восторге от подобного. Ее одинокое, безумное бытие озарилось бы публичным унижением Кэтрин и перспективами еще больших денег от руководства Тары.
— Я убью ее, — процедила Кэтрин, чувствуя, что вот-вот разрыдается.
Но, странное дело, секунду спустя хватка горечи на ее сердце ослабла.
Пусть Тара нянчится с Эдит. Пусть тратит свое время впустую. Пускай.
Даже если где-то в закромах Красного Дома были припрятаны несметные богатства «Титаника», Кэтрин понимала — она скорее умрет, чем еще раз ступит под своды поместья Мэйсона. Пусть туда идет Тара, пусть связывается с чокнутой старухой — милости просим. Скоро нее содержимое особняка станет уликой в грандиозном полицейском расследовании. Вскоре тут все обнесут желтыми лентами — осталось лишь поймать сигнал и сообщить кому следует.
— Кэт, постой! Подожди! — кричал Майк ей вослед.
Кэтрин зажала нос, чтобы остановить усилившееся кровотечение, и ступила на крыльцо церкви. У самого порога она вспомнила про влажные салфетки в сумке, достала одну и вытерла лицо. Зияющий алый проем был прямо перед ней. Шарманка неожиданно умолкла. Никаких тебе больше «Зеленых рукавов».
В нежданно наступившей тишине скрипнула, затворяясь, дверь где-то дальше, по улице.
Кэтрин обернулась. Видимо, Майк, этот жалкий трусливый червяк, решил спрятаться.
Кровавый свет из церкви и пристройки ослабевал, стекая по узкой улочке. Майк уже не стоял там, где она оставила его всего несколько мгновений назад. Никого позади нее не было — ни в переулке, ни где-то еще.
Но мысли о бывшем мигом утратили силу при виде гроба и лежащего внутри тела, величественно дрейфовавшего в клубившемся мареве церковной ризницы на руках толпы в старинных одеждах, бормочущей некую почтительную речь.
Гроб нырнул вниз, дабы пройти под аркой, но снова вознесся, как будто носильщики вдруг встали во весь рост. Он был сделан из стеклянных панелей, скрепленных железными скобами. Майк не соврал ей.
Внутри лежало нечто, напоминающее манекен. Маленькая кукла-женщина в роскошном черном платье. За черной вуалью — лишь белый овал, ничего более не разобрать.
Кэтрин стало дурно при виде этой реликвии, этой святыни местечкового значения. Вот какая судьба постигла Виолетту — и из нее, в итоге, сделали чучело. Но раз она умерла позже Мэйсона, кто так над ней поработал? Да и тело казалось слишком маленьким — вряд ли это она. Неужели что-то еще способно было напутать Кэтрин, повергнуть в столь сильную дрожь страха и возмущения? Она отчаянно пыталась убедить себя, что «мумия» была сделана из папье-маше и обряжена в траурное одеяние. Или это очередной ряженый ребенок?
Некто в черных шелках выскользнул из церкви и замкнул процессию с ужасным грузом. Толпа взволнованно бормотала — слишком низкими голосами, ни слова не разобрать. Все гости смотра слились в одну темную колонну перед входом в пристройку.
Кэтрин бросила взгляд в переулок. Майк сбежал после увиденного. И теперь она его почти что не винила. Понимала, по меньшей мере.
Она отступила от пристройки на шажок-другой. Толпа носильщиков развернулась вместе с гробом, перегораживая переулок по всей ширине, и пошла прямо на нее. Кэтрин снова очутилась в ловушке.
Отбежав прочь по тропинке, она нырнула и пристройку. Больше идти было некуда. И ничто не могло заставить ее остаться снаружи и смотреть на стеклянный саркофаг. Не двигайся она столь проворно, пришлось бы лицезреть покоящееся под прозрачной крышкой тело лицом к лицу.
В пристройке несколькими рядами стояли складные деревянные стулья почтенного возраста, будто бы даже старше мебели в Красном Доме. Одним-единственным источником света здесь выступала тусклая сценическая иллюминация. Помутневшие цветные фонарики освещали занавешенные подмостки в дальнем конце помещения.
Кэтрин двинулась вдоль заднего ряда сидений и уселась на крохотный неудобный стульчик — самый дальний и от прохода, и от маленькой деревянной сцены, скрытой от глаз бархатным драпом. Прикусив губу, она обтерла влажной салфеткой свежую кровь под носом. Должно быть, со стороны она выглядит испуганной, сломленной, жалкой — босая, в белом платье, окровавленная. Под стать этому жуткому месту.
Тара должна быть где-то неподалеку. Среди выходящих из церкви Кэтрин ее не увидела, но вполне могла проглядеть самый конец процессии. Может, Тара ушла вместе с Эдит. В любом случае, как только стерва окажется здесь, в пристройке, Кэт отберет у нее ключи — в случае чего, драться им уже не впервой, — найдет машину и уедет.
Поняв, что руки дрожат, Кэтрин сдавила пальцами колени. Неужто она боится еще одной стычки с Тарой? После всего того, что уже пережила? Нельзя быть такой слабой!
Времени на страхи не осталось — зрители стали заполнять зал.
Они ковыляли и пошатывались, в спешке занимали места и поправляли свои старые-престарые шляпы, одергивали ситцевые подолы и смахивали пыль с твидовых пиджаков. Их взгляды из-под обилия всевозможных сеток, вуалей, масок были устремлены на сцену. Они явно чувствовали чужеродное присутствие Кэтрин, но им не было до нее никакого дела. Их фигуры прямо-таки лучились дряхлостью — вряд ли тут кому-то было меньше восьмидесяти, — но почему же движения их были столь быстры, пусть и в чем-то неуклюжи? Ни Тары, ни, раз уж на то пошло, Эдит или Мод среди них не было.
Запах затхлого тряпья стал оседать крутом нее, как будто одежда гостей совсем недавно была извлечена из влажных, непроветриваемых закромов. Из неотапливаемых кладовок. Она посетила немало старых домов и знала этот запах. Древняя, заспиртованная парфюмерия, так похожая на духи Эдит, не могла скрыть вонь старости и химические миазмы Красного Дома. Желудок Кэтрин стал потихоньку заворачиваться узлом, как тогда, в мастерской Мэйсона.
Она порылась в сумке, выискивая душистые влажные салфетки. Прижать пару-тройку к носу — и, возможно, она стерпит. Было слишком поздно вставать и выходить. Перелезая через нагромождение стульчиков, Кэтрин неизбежно привлекла бы к себе лишнее внимание. Так что придется терпеть вонь. В зале и так было мало воздуха, окна — наглухо законопаченные. Если дверь в пристройку закроют, она как пить дать потеряет тут сознание.
Где же быть Таре, если не здесь? Куда пропал Майк? Он ведь был там, у нее за спиной, на улице, а потом скрипнула дверь, и… Разве мог он так быстро забежать куда-то? Может, Тара ушла из церкви, они встретились, и… уехали без нее? Плач застрял в горле.
Ее соседкой была миниатюрная женщина, закрывшая лицо веером — над самой кромкой горела пара любопытных глаз. Случайно брошенный на ноги гостьи взгляд заставил Кэтрин примерзнуть к сиденью. Из высоких сапог женщины торчали шерстяные гетры на двух пуговичных застежках. Гетры шли до колен — выше бледнела голая кожа. Как будто поняв, что привлекла взгляд Кэтрин, гостья убрала ноги в сторону, но недостаточно быстро — Кэтрин разглядела блеск металлических прутьев и ременных пряжек, образующих сложную поддерживающую конструкцию, вделанную в жесткие каркасы цвета слоновой кости.
Сматывайся.
Кэтрин заставила себя встать и выйти. Но двери оказались заперты.
Их перегородили стеклянным саркофагом — покойница, похоже, тоже была в списке приглашенных на спектакль. Внутри прозрачного футляра стоял деревянный трон, украшенный терновником и цветами, оплетающими ножки. На нем неподвижно сидела маленькая фигура, с лицом, скрытым саваном. Прежде чем свет убавили еще больше, Кэтрин увидела крошечную ручку на подлокотнике. Белую, как кость.
К горлу подкатил пронзительный крик.
Кругом гости шептались, шаркали подошвы, поскрипывали стулья. Зал поглотил мрак. Теперь была видна только сцена.
Чувство границ — стен, потолка, пола — ускользнуло от нее вместе со светом. Все здесь было отрезано от мира, и незримая публика зависла в океане мрака перед подмостками. Где не мрак, и не свет, и где времени нет, вспомнила Кэтрин, хватаясь за последнюю связь с миром — твердь под ногами, — как за соломинку.
Заскрежетали железные кольца, с которых свисал занавес, — сцена была готова.
Глава 38
Шум аплодисментов стих во мраке.
Кэтрин была уверена, что какое-то время назад зрители топали ногами по дощатому полу. Но все эти звуки были какими-то полумертвыми, и она даже не чувствовала вибрации. Значит, это все — просто звуковое сопровождение. Деревянные руки и ноги не могут ни аплодировать, ни бить по полу, если ими никто не понукает. Никто живой. Такую идею ее паранойя приняла с радостью.
Теперь, когда представление завершилось, огни рампы стали неспешно алеть. Когда опустился занавес, она почувствовала облегчение. Представление вымотало ее. Попробовать подняться — так ноги не удержат.
Реальность, изношенная и ветхая, вернулась к ней, но ее утратившие последний шарм развалины ничто не могли противопоставить насыщенным краскам спектакля. Он длился намеренно коротко — потому что большего зрители бы просто не вынесли. А ей было много даже того, что она различила сквозь щелочки меж пальцев. Чтобы не слышать запись голосов М. Г. Мэйсона и его сестры Виолетты, она заткнула уши влажными салфетками.
На чем было основано явленное ей действо, она даже догадываться не хотела. То немногое от речей рассказчиков, что она разобрала, в совокупности с выходками марионеток рисовало картину несомненно необычную, но в той же мере совершенно безумную, не менее безумную, чем все наследие Мэйсона, запертое в его кабинете.
Казнь Мученика Барнаби Петтигрю на виселице, сожжение Мученика Уэсли Спеттила — от увиденного ей было едва ли не дурно. Зрители рыдали и стонали, будто плакальщики на похоронах.
На протяжении всех расправ большая часть марионеток изображала детей. Оборванных, трясущихся от ужаса детишек, на глазах у которых их учителей посылали на смерть то суд, то толпа. Жуткие обвинения в некромантии и колдовстве зачитывались хрипящим голосом рассказчика откуда-то из-за сцены — нечто подобное могло выйти из под пера драматурга-якобинца с чрезвычайно воспаленным воображением, склонным к смакованию жутких подробностей.
Перед началом каждой новой сценки Маэстро-Обличитель выступал на своих собачьих ногах в самый центр сцены, расплывался в жуткой безносой сардонической гримасе и что-то втолковывал зрителям на неразборчивом английском с кучей идиом тюдоровской эпохи. Ей однажды довелось послушать запись стихотворных чтений самого Теннисона, сделанную на нескольких чудом уцелевших восковых валиках[16]. Качество здесь было примерно таким же — сплошь трески и хрипы. Кэтрин претила сама идея того, что пьеска могла быть куда древнee безумных измышлений Мэйсона, что он добыл ее откуда-то из прошлого. И ничего не было удивительного в том, что люди из «Би-Би-Си» собрались и быстренько смылись отсюда в пятидесятых.
Основой постановки выступала история в духе «их нравы». Кукла-заяц и девушка в чепце с длинными каштановыми волосами председательствовали на вынесении приговоров Петтигрю и Спеттилу в суде. Те же роли они исполняли в истории о колесовании Генри Стрейдера на «би-би-сишной» записи.
Но в ответ на приговоры кукловодам, обвиняемым в колдовстве, актеры-марионетки вломились в дома судей ночью, уволокли их из уютных постелей в какие-то нарисованные на задниках чащи — и принялись судить уже их.
Что было самым тревожным в бессистемных фрагментах драмы, которую она видела, так это эпизоды, в которых судьи отрывались от сцены и возносились в темноту, беспомощно дрыгая ножками. Звуковым сопровождением этому действу служили явно звериные вопли и свист торжествующих марионеток. Тонкий визг судей, постепенно затихающий, указывал на то, что наверху ждала их не смерть, а участь похуже. Возможно, некие пытки, выступавшие платой за расправу над Мучениками.
В конце спектакля куклы предстали в образах калек и нищих, один за другим канувших в отверстия в матерчатых боках сцены. Напрягая глаза изо всех сил, Кэтрин так и не смогла разглядеть кукольные струны. Деревянного мальчика с фотографий Мэйсона, проследовавшего ее детские трансы, тоже вроде бы не было. Все марионетки носили разные костюмы в каждой новой сцене, но когда выступала массовка, какой-то сухопарый призрак с черными кудрями нет-нет да и проглядывал то тут, то там — призрак, явно не намеренный являть свое лицо зрителям. Та крайняя отметка, на коей застыл градус нынешней паранойи Кэтрин, вполне допускала, что незримые кукловоды были осведомлены о ее присутствии в зале и намеренно скрывали деревянного мальчишку от ее глаз.
Когда представление наконец завершилось, Кэтрин поняла, что сидит одна и тяжело дышит, закрыв лицо руками. Выход из пристройки был свободен — запечатанную в стекло мумию унесли. Толпа, утомленно рокоча, покинула зал. Почти все гости уже нашли в полумраке путь наружу, а она все еще ждала в окаменелой тишине чего-то, ждала и молилась, чтобы никто не потребовал выступления на бис.
Марионетки сыграли свою роль. Теперь — антракт. Антракт на целый год.
И ради этого какие-то престарелые чудаки вычурно наряжались и собирались здесь?
Кэтрин встала и быстро зашагала к дверям, боязливо косясь на занавес и надеясь, что он не раздернется вдруг с металлическим скрежетом. Минуя последний ряд, она отшвырнула с пути два деревянных стульчика. Пора домой. Найти дорогу из Магбар-Вуд — и все, хватит с нее кукол. Ее наверняка ждет Майк — он не позволит этой сучке Таре уехать без нее. Несмотря на его предательство, ей хотелось сейчас держаться за пего. Как за тростинку. Как за последнюю… ниточку, что привязана к марионетке.
Глупый вопрос вдруг встал перед Кэтрин — отправлять ли антикварное платье Виолетты обратно, чтобы Эдит не имела к ней никаких претензий? Следом за ним еще один: а есть ли у Красного Дома почтовый адрес вообще? Надо полагать, да — письма в кабинете Мэйсона на то прямо указывали. Откуда-то в особняк доставлялась еда, значит, Магбар-Вуд и Красный Дом на самом деле существовали — вопреки ее худшим предположениям о заточении в сверх меры хорошо проработанной галлюцинации.
Нырнув в холод ночи, Кэтрин повела плечами. Переулок на всем своем протяжении вниз от церкви казался заброшенным, как и раньше. Свет не горел. Двери были закрыты.
Но толпа гостей-театралов никуда не делась. Старички кучковались вдалеке, где-то на соседней улице, которую надо было перейти, чтобы добраться до перегораживающего проезд столба и дороги из деревни. Народ толпился вокруг своей святыни. Стеклянный гроб был подсвечен чем-то снизу.
Когда она приблизилась, толпа поредела, но те, кто остались, явно ждали ее… Как когда-то подружки за воротами школы. Их взгляды украдкой сходились на ней. Холодок обвил шею и сполз по спине.
Тебе ничего не угрожает, стала увещевать себя Кэтрин. Просто старички, сельская глухопердь, заложники дурацкой традиции, которым давно уж ставят прогулы в дурдоме. А ты — просто дурочка, которую опоила одна безумная старуха и обокрала другая.
И, вполне возможно, это еще не все. Вполне возможно, финал еще только намечается.
Глотая слезы, Кэтрин сорвалась на бег.
На перекрестке три маленькие фигурки просто шагнули под своды одного из домов — и исчезли в какой-то прорехе в реальности, а не просто вошли в неосвещенный дверной проем.
Небо перестало быть небом. Низкое, давившее чуть ли не на затылок, оно являло собой просто фон, задник, обитый черной тканью.
Запоздалые театралы смотрели на нее во все глаза, пока она шла мимо, и бормотали — и она готова была поклясться, что все эти обрывки фраз были адресованы ей, что, общаясь меж собой, эти странные люди просто поддерживали иллюзию случайного разговора:
— Скоро кое-кого порешат-распотрошат…
— О да, пусть фарфор сольется с кожей. Хладный, теплая — похожи.
— Шагай, шагай… на деревянных колодках…
— … на маленьких башмачках…
— Шов клади! Чтоб наверняка…
— Иголке без работы скучно…
— За шею ухвати и холодной иглой выколи глаза…
— Шкуру просолить, личинок не пустить. Опилкой сухой набить…
— ДА ЗАТКНИТЕСЬ ВЫ УЖЕ! — прорычала она, так и не дойдя до конца улицы, и рванула в темноту, туда, где по памяти стоял полосатый столб, отмечающий границу Магбар-Вуд.
— Слушайтесь ее! — выкрикнул кто-то и захихикал.
По ту сторону барьера ничего не было. Ее руки полоскали пустоту.
Как будто сам мир, сама материя за пределами Магбар-Вуд перестали существовать. Опустив взгляд, Кэтрин не увидела собственных ног па щербатом дорожном покрытии.
И где же я? Я потерялась.
Я в каком-то другом мире, потерянная и ослепшая, под чужими звездами.
Где машина Тары? Где сам столб, на худой конец? Переулок казался теперь куда шире, чем это было попросту возможно.
Пройдя несколько метров, Кэтрин ничего не нашла. Она не видела саму себя — что уж говорить о припаркованной машине. Ей даже не узнать было наверняка, не прошла ли она мимо. Может, и не было там никакой машины. Фары или лампочка в салоне хоть немного, но развеяли бы тьму. Видимо, Майк и Тара уехали, бросив ее здесь на произвол судьбы.
Возможно, кто-то убрал оба автомобиля, потому что здесь, в заповеднике былого, им не было места, здесь они были возмутительны. Мэйсон каким-то противоестественным образом остановил время в деревне сто лет назад, если даже не раньше. И люди здесь были — что крысы в диораме. Год за годом жители деревни — не в парадных костюмах, а в той одежде, что для них по-прежнему оставалась повседневной, — покидали свои жилища и повторяли одно и то же действо. Год за годом. Заложники самой большой в мире заводной игрушки.
Паника вытянула еще один кирпичик из пошатывающейся хибарки ее здравомыслия; чудо, что оного хватило, чтобы приволочь ее к тому месту, где раньше стоял столб.
— Господи! Господи! — взмолилась она, тяжело дыша. — За что ты со мной так жесток?
Нельзя было плакать, плач отнимал силы. Тело и так казалось сухим и бесполезным, как будто всю кровь из него слили.
На то, чтобы преодолеть несколько миль во мраке, уйдет вся ночь. Кэтрин уже натерла босые ноги о щебенку до крови, каждый шаг отзывался болью во всем теле. Даже тусклое янтарное свечение деревенских зданий казалось обнадеживающим по сравнению с черной как смоль неизвестностью впереди.
Чтобы привести мысли в порядок, она отвесила себе вялую пощечину. Майк. Майк же сказал, что вернется за ней к Красному Дому, если она так и не объявится у машины. Майк не оставил бы ее здесь одну. Может, он пошел загодя, пока она торчала на дурацком спектакле. Не будь она такой глупой и своенравной, они бы сейчас были вместе — и, возможно, нашли бы отсюда выход. Слабое, конечно, но утешение. А теперь ей все равно придется тащиться в Красный Дом. Оставаясь здесь, она рискует околеть. Деревня казалась сплошь враждебной. Красный Дом был, по меньшей мере, знаком. И освещен получше, чем окрестности Магбар-Вуд.
Кэтрин развернулась и стала нашаривать путь обратно в деревню.
Только очутившись на другой ее стороне, на отвороте, что восходил к имению Мэйсона, где прощупывались по обе стороны от нее непослушные ветви живой изгороди, она перешла с осторожного ковыляющего шага на чуть более уверенный.
Она сразу поняла, что машины нет там, где она ее оставила.
Что ж, кажется, ее обокрали во второй раз. Когда только успели, да и зачем? Она не слышала, чтобы в окрестностях деревни заводился мотор. Да и не походило как-то местное старичье на крутых автоугонщиков.
Машина Тары, значит, тоже канула без вести? Никто не уйдет отсюда просто так.
Хватит!
Праздник еще не закончен.
Только бы они убрали это стремное чучело в стеклянном ящике, думала она, пробегая через деревню, стараясь не глядеть ни по сторонам, ни вверх. Только бы и сами разошлись куда-нибудь от греха подальше. Но толпа гостей будто бы перегруппировалась. Возможно, готовился новый номер смотра. В пользу этого говорило скопище на главной площади — процессия с подсвеченным гробом и не думала останавливать свой ход.
Застыв в страхе, Кэтрин уставилась на саркофаг, окруженный дрожащими огоньками свечей, в самом центре перекрестка двух дорог — в каких-то двадцати метрах от того места, где она стояла.
Из-под вуали на нее беспристрастно взирали глаза мумии. Живые.
Никогда в жизни она не бежала так отчаянно, на пределе сил.
Чем дальше оставался Магбар-Вуд, тем ближе подступал Красный Дом — сердце этого жуткого парада. Какофонический хор рожков, исполнявший «Зеленые рукава», пронзал фальшивыми нотами и диссонансами воздух за ее спиной.
Глава 39
Вырезки из газет, заправленные в пластиковые кармашки альбома, все либо пожелтели, либо истрепались. Кожный жир с его пальцев и крошки с его стола всякий раз приводили бумагу в еще более плачевное состояние всякий раз, когда он доставал их полюбоваться.
Леонард отодвинул железный колпак настольной лампы подальше от альбома. Будучи экспертом по сбережению и хранению антиквариата, он всякий раз раздумывал над своей беспечностью в обращении с вырезками. Быть может, тут играло роль осознание того, что стоит полиции какой-нибудь окольной тропой выйти на него, и ему по весьма конкретным причинам придется избавиться от своей коллекции.
Быть может, оригиналы статей пылились в каком-нибудь архиве. Или — как там сказала Кэтрин — были оцифрованы. Впрочем, «оцифрованы» ли? Он не мог вспомнить. Все равно, возможно, когда-нибудь он сможет подновить свои вырезки, пусть даже выказанный им интерес к материалам тоже отчасти грозил риском.
Леонард бросил быстрый взгляд на задернутые шторы. Мир за пределами его конторы пребывал в тишине. Уже минут двадцать как он не слышал ни одной проезжающей машины.
Несмотря на то, что любимые цитаты из каждой статьи были заучены наизусть, он все равно продолжил чтение. Открыл альбом в самом начале — там, где были первые странные истории о Крысолове и смутные слухи о «зеленом фургоне». Слухи эти зародились в 1959-м и курсировали до 1965-го.
Леонард невольно смахнул слезу с глаз, увидев фотографии Маргарет Райд и Анджелы Прескотт. Девочки улыбались ему. Снимки были сделаны в детском доме, где они обе жили до самого отбытия в 1959-м и 1962-м. Вечность назад их лица были знакомы читателям каждой выходящей в стране газеты.
У Маргарет имелся порок развития позвоночника — spirta bifida, незаращение дужки позвонка. Бедняжка Анджела была слепа от рождения. Семьи отказались от них довольно-таки рано. Спецшкола Магнис-Берроу заменяла им дом. Именно там они смогли найти дружбу, что проложила себе дорогу в вечность, именно в ее стенах обрели последнее спасение.
По подозрению в похищении Маргарет Райд так никого и не арестовали. Но двое мужчин — сотрудников школы, оказавшихся тайными любовниками, были допрошены после исчезновения Анджелы Прескотт и позже освобождены.
К тому времени зеленый фургон обрел вполне конкретное описание — «Моррис Минор» без номерной пластинки. Вскоре после этого в некоторых сводках новостей его уже описывали как ларек на колесах по продаже мороженого.
Леонард перелистнул страницу и прочитал передовицу из давным-давно прекратившей свое существование газетенки, посвященную специальной школе Магнис-Берроу — точнее, ее закрытию в 1965-м. Потом перешел к новостям о Хелен Тим, девочке с синдромом Дауна, жившей в Эллил-Филдс, пропавшей из снова открытой и существенно переоборудованной спецшколы в 1973-м.
На развороте, посвященном делу Хелен, Леопард задержался, любовно изучая каждый снимок несчастного Кеннета Уайта, любимчика тогдашних воскресных таблоидов. Его уж давно подозревали в домогательствах, потом попытались привязать ему похищение и убийство маленькой Хелен. Статьи отстраненно описывали то, как его сначала отпустили, потом снова арестовали, потом снова отпустили, и кончилось все тем, что он покончил с собой в своей «остин-принцессе»[17], задохнувшись парами бензина. Дело было в 1975-м.
Кеннет Уайт был волонтером разных спецшкол, и особенно его почему-то интересовали именно девочки с синдромом Дауна. Именно поэтому он и попал под подозрение, когда с Хелен Тим приключилась беда. Вот только в Магнис-Берроу он никогда не работал, даже с тамошним руководством ни разу не контактировал. Впрочем, на сей факт как-то закрыли глаза.
Какая-то листовка даже попыталась связать Уайта с историями о Крысолове родом из шестидесятых. Леонарду оставалось лишь изумиться глупости прессы. Крысолов ведь уводил вполне здоровых детей, не каких-то там сирых и убогих. Полнейшая противоположность.
Истории с исчезновениями в Магнис-Берроу не сыскали особого внимания со стороны, если не считать американского журналиста Ирвина Левина, написавшего серию статей для проекта «Новости со всего света» за время своей работы в Англии, совпавшее с шумихой по поводу пропажи Хелен Тим. Левин был парень дотошный, и именно поэтому ему первому удалось связать дело Хелен с двумя позабытыми случаями, с Маргарет Райд и Анджелой Прескотт. Три похищения из одной спецшколы на протяжении двух ее воплощений — ну чем не связь!
Леонард вспоминал о том лете как об эпохе личных волнений. Но, похоже, в то время пресса не питала особого интереса к истории об исчезновении девочки-калеки. Казалось бы, выйдя на интересный след, Левин быстро забросил расследование ради написания какой-то прославившей его книги о чем-то совсем другом. Дело было позабыто.
Как и в случае с Маргарет и Анджелой, Хелен Тим не нашли. Спецшколу снова закрыли в 1975-м.
Когда Алиса Гэлловэй пропала во время прогулки по пустующим территориям школы Магнис-Берроу в 1981-м — попала она туда, пролезши через дыру в заборе, — история неделю гремела на всю страну, а в местной прессе продержалась целых три месяца. ГДЕ ЖЕ АЛИСА, НЕ В СТРАНЕ ЖЕ ЧУДЕС? — вопрошали заголовки.
Полиция тогда опросила великое множество людей, но никого так и не арестовали. Леонард читал о том, как надежды разбивались о суровую реальность, о том, как родители девочки выступали за то, чтобы полиция приложила больше сил к поиску их канувшей дочери.
В следующий раз школа Магнис-Берроу всплыла в листовке Леонарда, изъятой из какой-то местной газеты в 1988-м году. Все здания, некогда принадлежавшие ей, было решено снести, равно как и большую часть расположенного неподалеку «социального» жилья в Эллил-Филдс.
Последняя вырезка в альбоме была посвящена обнаружению человеческих останков во время сноса школы (местность планировали укатать под двухполосную дорогу). Улыбчивые лица Маргарет Райд, Анджелы Прескотт, Хелен Тим и Алисы Гэлловэй выстроились в ряд, и в такой вот связке и мелькали целую неделю. Их загадочного убийцу снова окрестили Крысоловом, но ни фургон мороженщика, ни просто зеленый фургон в этот раз упомянуты не были. Когда же экспертиза установила, что обнаруженные кости были опущены в землю почти за столетие до исчезновения Маргарет и Анджелы, к истории потеряли интерес. Археологи и полиция сошлись во мнении, что хозяева приюта когда-то хоронили умерших воспитанников в безымянных могилах. Никто не стал копать глубже.
Чувство, переполнившее Леонарда после прочтения всех этих выдержанных временем свидетельств, было сродни тому, что испытывает человек, напившись на поминках.
Он извлек из пластикового кармашка пять фотографий. Их он всегда оставлял на десерт. На самом верху лежал единственный сохранившийся снимок, выцветший до состояния сепии, где он был запечатлен еще мальчишкой. Впрочем, ему не требовалось особой четкости — он и так узнавал себя в этом бледном, тонком подростке в древнем инвалидном кресле. Его бесполезные ноги были укрыты пледом, коричневые ботинки покоились на подпорке для пяток. Снимок был сделан снаружи маленького каменного дома в Магбар-Вуд, в месте, где он родился.
На остальных четырех были другие дети. Три снимка могли похвастаться цветопередачей. На одном из них, бледном и выцветшем, маленькая веснушчатая девочка в школьной форме смотрела в объектив через громоздкие очки с толстыми линзами, сконструированные для нее по специальному заказу. На другом снимке она была еще меньше — в колыбельке, укрытая одеяльцем с узором в виде британского флага. На третьей фотографии девочка, наряженная в платье-сарафан, улыбалась незримому фотографу. В руке у нее было мороженое в форме разноцветной ракеты.
Самая последняя фотография в подборке была черно-белой, и на ней девочка была совсем-совсем младенцем. На ней она была со своей молодой матерью. Комната, в которой они пребывали, была темной, маленькой и угрюмой, будто бы келья еще одной бедной женщины, что рожала дома в каком-то другом мире, столетия назад. Женщинa прижимала новорожденную к груди, лелея ее последние минуты перед тем, как девочку заберут у нее.
Плечи Леонарда содрогались. Некоторое время он беззвучно рыдал, слезы катились по его морщинистому лицу.
— Тебя отдали, — прошептал он, прижимая ладонь к глазам. — От тебя отказались, потому что ты была особенная. Но те, кто бережно взрастил тебя, не забыли о тебе. — Леонард одарил поцелуем фотографию девочки с мороженым в руке. — Пришла пора вернуться домой, котенок.
Леонард развернул кресло к окну и обратился к миру за его пределами, будто обвиняя. Его голос дрожал от переполнявших эмоций, готовый сорваться, но гнев поддерживал его.
— Никто не должен забывать об очаровании и ужасе детства. Для кого-то те раны будут болеть всегда. Путь таких людей чрезвычайно близок нашему пути. Все, что вы отвергаете, мы нежно любим.
Леонард вернул фотографии обратно. Закрыв глаза, он весь так и подобрался, после чего захлопнул альбом и уставился на открытый сейф.
Из верхнего ящика стола он извлек пару белых шелковых перчаток и оправил свои худощавые пальцы в них. Следом достал неподписанную аудиокассету. Откатив кресло от стола к стене, он поставил его на тормоза, уперся руками в подлокотники — и поднялся на ноги. Распрямил спину и воздел руки в белых перчатках к потолку. Его мертвые колени щелкнули.
Нетвердо ступая, он прошагал к маленькой стереосистеме. По ней он слушал прогнозы по годы всякий раз, когда Кэтрин уходила из конторы. Однажды она попыталась скормить eй CD-диск, но оказалось, что CD-проигрыватель был сломан. А кассет у нее не было.
Леонард открыл отделение магнитофона и пристроил неподписанную кассету внутрь Закрыл крышечку. Дрожь прошла по его указательному пальцу. Со всей силы он вдавил кнопку PLAY.
Из шороха помех, из глубины времен — величественный голос Мэйсона, Последнего из Мучеников, он восстал и завел речь:
— Оставьте одного котенка, избавьтесь от остальных…
Леонард на миг наполовину прикрыл глаза, наслаждаясь голосом Мученика, затем встал в самом углу огромного ковра, занимавшего про странство меж двух столов. Опустившись на колени, он свернул ковер к дальней стене — поблекшая роза ветров на полу явила себя миру.
— Утопление — лучший метод… Возьмите за задние лапы, быстро ударьте по затылку…
Леонард скинул туфли и ступил на обнаженные доски пола. Вынул ремень из брюк, позволил им упасть. Избавился от свитера, галстука, рубашки, носков, трусов. Аккуратно сложил всю свою одежду и водрузил стопкой на стол. С величайшей осторожностью стянул с головы парик — от клейкой пленки на коже головы осталось странное ощущение, впрочем, не причинявшее ему никакого дискомфорта. Уложив копну седых полос на стопку одежды, он двумя резкими рывками сдернул накладные брови и вернулся к нарисованному на полу кругу.
— Дайте высушенной коже восстановить эластичность. Промойте теплой водой, затем аммиаком, затем сульфированным маслом животного происхождения. Поместите образец во влажную емкость на одну ночь, затем отделите кожу… промойте кожу…
Единственный свет в кабинете дарила настольная лампа, но Леонард без труда находил свои шрамы и бережно ощупывал их. Прошелся пальцами по бороздам, оставшимся на боках. Погладил длинный брюшной разрез, сбегающий вниз, к безволосому лобку, и содрогнулся, закатив глаза. Аккуратно надавив на мучнистую, тонкую плоть брюшины, он зажмурился от наслаждения и извлек из пупка шарик скатавшейся одежной пыли.
— Просоленная, свежая кожа крупного млекопитающего может быть вымыта мылом марки «Айвори», подвергнута троекратному ополаскиванию, обезжирена бензином…
Эйфория была столь сильна, что по внутренней стороне его бедер стек крохотный ручеек мочи из розоватого отверстия в гладком паху.
— Заполните отверстия хлопком, присыпьте крахмалом, смойте всю кровь…
Человек, которого порой величали Леонардом, со свистом вобрал в себя воздух. Его ноги дрожали. Те части его безволосых рук, что все еще были подвержены искушению ощущений, были вознаграждены выступившими мурашками, не имевшими никакого отношения к его наготе.
Отвлекшись ненадолго от записи, он сосредоточил взгляд на сейфе. Слишком просто — сникнуть наземь и утонуть в этом золотистом мельтешении сущностей, дать ему пройти себя насквозь…
— Отмойте череп мылом и водой, смешанной с аммиаком и сульфатом натрия…
Из ниши в стене он извлек деревянный сундук, препорученный ему когда-то самим Последним из Мучеников. Подробности его правопреемства сразу же всплыли в памяти, но он изгнал их, ибо память и поныне причиняла ему великую боль. То время, когда Маэстро не смог более нести бремя Великого Искусства и требований своей труппы, тонуло в серости и безысходности. Мэйсон, нашедший его еще мальчишкой, явил ему чудеса чудес. Мэйсон сделал его преемником и служителем великой традиции.
Леонард поставил сундук на стол Кэтрин — на алтарь, перед которым она заседала вот уже двенадцать месяцев, купаясь в лучах его искреннего обожания, — и откинул крышку.
— Лицевая форма, отлитая из воска, должна быть соединена с манекеном на данном этапе! — воззвал громогласно Последний из Мучеников, и исступление Леонарда достигло той точки, когда он больше уже ничего не слышал, попросту не мог слышать. Едва он извлек крохотную золотистую отливку в виде руки из выложенного бархатом отделения сундука, слезы брызнули из его глаз, укутав реальность пеленой.
Священная Длань Генри Стрейдера, первого из известных Мучеников! Мощные пальцы святыни, отполированные до блеска, нависли над ладонью, как будто рука эта была обращена к толпе обожателей в величественном жесте.
Собственные руки Леонарда, обтянутые белыми перчатками, дрожали, из пальцев, соприкасавшихся с золотистым футляром, будто изъяли все кости. Он рыдал.
— Священный учитель, — взмолился он сквозь всхлипы, — протяни же руку сему миру сквозь мой бренный сосуд. — Ему хотелось вскричать во всю мощь легких, но он сдерживался, боясь, что счетовод в соседнем кабинете завозился допоздна, что кто-нибудь пройдет по улице под самыми окнами и услышит его. — Открой сей путь и возвысь то знание, что служит нам истинным крестом. — Леонард шмыгнул носом и мотнул головой, избавляясь от стоящих в глазах горючих слез.
Столь малая часть была спасена после того, как разобщенные останки Генри Стрейдера были обнаружены нищими на той грязной улице тем хмурым утром шестого июня 1649 года.
Мощь откровения, не поблекшая с годами, обрушилась на него — он в самом деле держал в собственных презренных руках одну из немногих уцелевших частей Первого Мученика. Истинный перст Стрейдера, вернувшийся на родину после убийства своего обладателя. Лишь думая об этом, Леонард всякий раз впадал в благоговейный транс.
— И да благословят сии высшие блага паломничество твоего хранителя. — Леонард поцеловал золото руки. — И да будут другие ущербные спасены, как я был спасен.
Он разомкнул футляр и извлек на свет божий маленький конверт. Бережно освободил его от защитного материала — ткань была жесткая, коричневая: обрывок платья короля, что не сносил своей главы. И вот наконец перед Леонардом предстал средний палец правой руки Стрейдера — черный, как солодковый корень, и почти невесомый.
Когда Леонардовы пальцы сомкнулись на мощах, все его тело сотряс сильнейший спазм. Прежде чем благодать сошла на него пополам с беспамятством, он судорожно расстелил коричневую тряпицу на столе Кэтрин и опустил на нее перст Мученика.
… Вновь обретя дыхание, Леонард оттер пот со лба и переносицы рукой в перчатке. Осторожно, держа древнюю кожаную маску за подбородок, он извлек Смитфилдскую Святыню из сундука. Запах древней мирры и застарелого пота защекотал его ноздри.
Длинные пряди смоляных волос ниспадали с реликвии, мягко щекоча его колени. Он с трупом стоял на ногах, созерцая крапчатую кость Генри Стрейдера — фрагмент черепа с чудом сохранившимся, обесцветившимся обрывком скальпа. Столь опустошающим разум было чувство приобщения к святыне, что он побоялся очередного приступа энуреза.
Задержав дыхание, ощущая, как сухожилия трепещут, словно туго натянутые струны, он водрузил Смитфилдскую Святыню на собственную старую безволосую голову. Когда осколок черепа упокоился на его коже, он пал ниц, опершись на руки, и зашептал из-под своей безликой кожаной маски, плотно прильнувшей к разгоряченному лицу:
— Живи во мне, о Творец, дабы я продолжил твои деяния, и да воскресни вновь. Пока ты оберегаешь и направляешь их, мы так же да будем направлены и спасены.
Глава 40
— Его религия не понимала. Его наука не давала объяснений. Но мой дядя нашел кое-что. И оно проделало столь долгий путь к нему, что ты даже не можешь себе представить. Разумеется, был некий ориентир… путеводная звезда… Как и у тебя, дитя мое.
Пока Кэтрин бежала, оскальзываясь, по отполированному полу коридора, голос Эдит, сухой и властный, снисходил к ней откуда-то сверху, из этого склепного пространства над лестницей, заглушая ее отчаянные, лишенные последнего дыхания призывы к Майку.
Хозяйка дома вещала со своего инвалидного кресла, закрепленного в подъемнике на балюстраде первого этажа, — кресла, что, казалось, вбирает в себя без остатка старушечье чахлое тело. Вот только теперь оно, это тело, выглядело чем-то большим, чем просто скелетик, закутанный в черную ночнушку. Маленькое бледное лицо Эдит, подсвеченное снизу красными сполохами отраженного от коридорных стен света, обрело поистине дьявольские черты.
Майк не был снаружи Красного Дома, этого великого и ставшего уже нестерпимым монолита о множестве башен, крыш, дымоходов и флеронов, царствующего в безграничной и непостижимой ночи. Кэтрин звала его, кричала, мчась по улице, стылой и неосвещенной, к черным воротам. Ответа ей не было.
Главная дверь дома была распахнута, изнутри сочился неуютный красноватый свет. В эту ночь все арочные проходы дома распахнулись, будто бы в надежде завлечь не одного гостя, а целую группу любопытных посетителей.
Откуда-то издалека все еще несся усиленный динамиками хрип «Зеленых рукавов», словно возвещая прибытие кошмарного маньяка, который в час полночный раскатывает на фургоне мороженщика и ловит легковерных детишек. Надтреснутый звук наконец-то ворвался и дом сквозь распахнутые двери, загоняя в барабанные перепонки Кэт иглы.
Был ли там Майк? Если да, то дела еще хуже, чем показалось сначала. И о чем таком говорила Эдит? Внезапный звук ее голоса, донесшийся сверху, заставил сердце уйти в пятки. И, как всегда, смысл слов, сказанных старухой, был запрятан куда-то в туман.
— Что вы такое говорите? — крикнула Кэтрин, задрав лицо к маленькой фигурке наверху. — О чем вы вообще? Нет у меня никакой путеводной звезды!
Эдит сделала вид, что не слышит ее. Судя по наклону ее головы, она разглядывала небо.
— Мой дядя нашел те места, где они обретаются. Где они похоронены вместе с тем, что осталось от прочих убитых мастеров. В потаенных уголках схоронились они, там и ждали. Ждали новых выступлений. Вы знаете, что стало с Генри Стрейдером. Теперь вам известна судьба остальных Мучеников, чьи имена на слуху. Благой Спеттил. Благой Петтигрю. Они тоже слышали тот могильный зов.
— Мне до этого нет никакого дела! Где моя чертова машина? Вы не имеете права!..
Эдит, игнорируя ее мольбы, продолжала говорить, как если бы ее истинная аудитория пребывала где-то там, в вышине.
— Мой дядя провел годы в поисках того, что осталось от них. Того, что возвратилось в землю после того, как Последний Мученик пал. Но в итоге это они нашли его. Он стал избранным. Возможно, в иные эпохи так было и с прочими Мучениками. Кто теперь скажет наверняка?
— Эдит, с меня довольно. Я не хочу…
— Но что воззвало к Мученикам… То было жизнью наиболее ценной и священной. Той жизнью, что не всякий опознает, в какую не всякий уверует, если только он не юн. Эта жизнь наполняет собою определенные вещи, моя дорогая, в определенных местах. Эти вещи всегда можно починить. И было пришествие — новое, священное рождение для них и для тех, кто уверовал в них.
— Хватит! Майк. Мой друг, Майк. Он здесь? Моя машина пропала! Моя сумка…
— Умолкни, прошу! Ты в истерике. Я не стану общаться с тобой через лестницу. Это в конце концов некрасиво. Поднимись.
Кресло Эдит откатилось назад, за пределы досягаемости винно-красного освещения. Но как она двигалась, что именно вращало колеса, Кэтрин не могла понять. Поскрипывание удалилось куда-то в направлении залы — как и в тот, самый первый, визит, который ныне восприни-i.iлея как какой-нибудь давний, причудливый сон. Сон, о котором хотелось забыть.
Или она здесь окончательно сошла с ума, или ей нужно как можно скорее выйти из зоны влияния Красного Дома, дабы вновь обрести контроль над своим рассудком, памятью, снами и воображением. Сама эта постройка, сам этот ядовитый яоздух, зажатый между стен, действовали на нее как сильный психотропный наркотик, сбивающий с толку и делающий из мыслей хаос.
Кэтрин поднялась по лестнице. Испарина, выступившая под тонким платьем, быстро остыла и теперь повергала ее в дрожь. Обе ноги были разбиты в кровь.
Никогда еще она не чувствовала себя настолько больной, больной именно душевно, не физически. Конечно, если ухватить Эдит за цыплячью шею и как следует потрясти, какие-нибудь ответы на свои вопросы она да получит. Старуха не столько пригласила ее на это безумное представление, сколько намеренно подослала сюда. Эдит в нем никак не могла быть замешана — Кэтрин своими глазами видела. Как та вкатилась в полуразрушенный холл. Но кто же тогда управлял марионетками? Мод?
Пожалуйста, Господи, пусть это будет Мод.
Когда Кэтрин застыла в проходе в гостиную, сотни стеклянных глаз заблестели в окружавшем Эдит тусклом свете. Старуха, чье лицо было укрыто невесомой вуалью, ухмыльнулась. Будто старый экспонат, возвращенный на причитающееся ему место, ее инвалидное кресло встало, как раньше, у камина, и Горацио свернулся у самых подставок под ноги, сделанных из нержавеющей стали.
— Я просто хочу вернуть свою машину, свои вещи… И я уеду, обещаю.
— Уедешь? Куда, дорогая моя? Туда, откуда пришла? Какие глупости. Кому в голову придет возвращаться туда? Уверяю тебя, это та еще задачка — просто даже терпеть то место снова после жизни где-то еще.
Кэтрин решительно шагнула навстречу старухе.
— Вот именно, у меня есть своя жизнь…
— Своя жизнь? Ох, как интересно!
— Семья…
— Не твоя настоящая семья, дорогуша.
Кэтрин занесла руку… и остановилась. Ее мысли вконец перепутались. Она угодила в самую настоящую сеть интриг, в какой-то жестокий, бессмысленный заговор. Или она спит и это все — дурной сон, в котором ловушки снова и сновна поджидают ее на каждом шагу?
— Что вы знаете обо мне?
Эдит улыбнулась. Ее голос стал помягче — таким тоном обычно разговаривают со сбитыми с толку детьми.
— Тебя отдали, дорогая моя. Потом снова забрали. Очень щедрый жест. Но ты не смогла уйти далеко, потому что была рождена в Магбар-Вуд. Последнее дитя, выросшее, без преувеличений, в тени гробницы Первого из Мучеников. Потому-то ты нигде не могла найти себе место| — разве я не права? Ни у кого из наших людей не получается. На многое, конечно, тут рассчитывать нечего, зато остаются те, для кого ты всегда была особенной. И с тех пор как волшебство, благодаря стараниям моего дяди, возвратилось в наш укромный уголок, открылись некие возможности, изначально доступные немногим. От некоторых шансов отказываться глупо — ты согласная со мной, милая? Твоя маленькая подружка Алиса познала много чудес с той поры, как присоединилась к нам.
Кэтрин опустилась на колени. Ей хотелось быть как можно ближе к полу — чтобы падать было не так высоко. Она смертельно устала, ее дыхание стало сбивчивым и хриплым, ноги дрожали. Как только она соберется с силами, она сможет убраться отсюда — не важно, с Майком ли, без него. Сквозь садовую калитку — и прочь, через поля. Когда-нибудь она непременно выбредет на дорогу, а там поймает попутку. За рулем будет какой-нибудь обычный-преобычный человек — кто-то из мира, который ей знаком и понятен. Она вдруг поняла, что уже довольно долго разглядывает подол длинного, старомодного платья Эдит.
— Попробуй понять, милая. Все, что хотел мой дядя — пробудить нас. Открыть нам глаза на те чудеса, что ждут впереди жизни. После жизни. Мы все стали частью того, что избрало нас в качестве наблюдателей. Нашему взору доступны явления, что не наблюдались в этой части мира вот уже много лет.
— Прошу вас, я не хочу об этом слышать. Вы спятили! Ваш дядя был безумцем…
— Да, возможно, в конце концов он сбился с пути. Его нервы сдали, милая. Он был старым и уставшим. Но не забывай — когда-то он был служителем Бога. И нет в том ничего непредвиденного, что его старая вера вернулась к нему, когда было уже слишком поздно. Ты должна понять — мы все это со временем поняли — то, что было пробуждено ото сна в этих холмах и приглашено в святилище, не так-то просто погрузить в сон снова. Слишком поздно.
— Я вас совершенно не понимаю, Эдит! Моя машина… Мой друг Майк…
Взгляд Эдит устремлялся куда-то вдаль.
— Когда дядюшка наложил на себя руки, его связь со всем этим лишь усилилась. Можно сказать, его смерть окончательно утвердила наш союз. Он был первым спасенным. Потом спаслась моя мать. Я даже не помню, когда это произошло. И вот приходит мой черед. — Эдит растянула в улыбке пожелтевшие губы. — И мы потратили много сил на то, чтобы пригласить и тебя. Но теперь мы устали. Теперь задержка на этом свете, пусть даже кратковременная, сулит нам одни страдания.
— Прошу вас… Что тут произошло?
— Многим ли маленьким девочкам достался подобный дар? Имей это в виду…
Кэтрин вцепилась в ободки инвалидного кресла, будто близость к старухе могла придать вес ее словам:
— Дар? Я тут страдаю, Эдит. Пожалуйста. Помогите мне.
— Ты не страдала бы, хвати у тебя ума уйти вместе с Алисой. Но ты не была готова. Ты все еще хотела найти себе место где-то еще, за пределами города, в мире, который презирал и отвергал тебя. Всего этого можно было бы избежать, не будь ты такой упрямой! Они всегда готовы принять в свои объятия убогих и позабытых. Конечно, все это будет казаться тебе странным поначачалу. Все мы через это прошли. Юным душам проще принять все как есть.
Кэтрин плакала, и за завесой слез фигура Эдит расплывалась, сливалась с темной каминной полкой и самим камином. Колеса инвалидного кресла поскрипывали. Что-то щелкнуло прямо у нее над макушкой. Ей мигом пришли на ум вязальные спицы, зажатые в маленьких пальчиках, фарфорово-холодных, ныряющих в копну ее спутанных волос и касающихся кожи головы.
— Я хочу уйти. Где Майк?
— Тихо. — Голос Эдит упал до шепота. — Однажды я попыталась уйти. Когда мне было двенадцать лет, я сбежала. Но далеко убежать не вышло. Как и у моего бедного отца — как все-таки жаль, что у меня никогда не было шанса узнать его. Когда мать догнала меня, она заметила, что я пошла по его стопам — к лугу, у которого никогда не сыщешь конца. А потом она на целый день заперла меня в одной комнате с Клушей Гризель, и больше я не сбегала, уж поверь мне.
Кэтрин подняла на старуху глаза. Уголки ее глаз щипало от слез. Кое-как она встала на ноги, стараясь проглотить сухостой, забивший горло и лишивший ее дара речи.
— Что вы… Что вы хотите сделать со мной?
— Хватит моих старческих сказок. Твой джентльмен, твой избранник — он ждет тебя.
— Майк?
— Он явился с той девушкой, что была слишком самоуверенной. Когда-то и Мод была такой же. В отличие от твоего друга, я бы сказала, Мод легко отделалась, но не думаю, что она сама согласится с подобным суждением. — Эдит хихикнула.
Голосу Кэтрин придавал силу скорее дух, чем звук:
— Майк здесь? А Тара?
— Посторонних здесь никогда не жаловали. Они ведь совсем нас не понимают, Кэтрин! Но мы, повторю, приложили много усилий к тому, чтобы ты явилась сюда, и с пониманием отнеслись к твоим нуждам.
— Нуждам? Я не…
— Всем должно знать, что за всякое желаемое следует заплатить свою цену.
До боли в пальцах сжав кулаки, Кэтрин отступила на шаг от инвалидного кресла с примостившейся в нем безумной женщиной:
— Хватит! Достаточно! Не хочу больше слушать эту околесицу!
— Изучая комнату моего дядюшки, неужели ты не пришла к лучшему пониманию нашей истории? Мы надеялись, что придешь. Именно поэтому мы пустили тебя туда, чтобы ты своими глазами увидела, как проходил процесс его обучения Великому Искусству.
— Девочки. Те девочки из Эллил-Филдс. Что он с ними сделал?
Эдит все так же продолжала разглагольствовать о своих воспоминаниях, будто Кэтрин рядом с ней не было. Ничего не изменилось.
— К моему дяде они вернулись… Несколько другими. Сильно изменившимися. Они были уже не так добры, как раньше. Нет, дорогая моя. Понимаешь, с начала времен труппа старалась скрыться с любопытных глаз, пока кровожадная натура этого мира пестовала саму себя. Они навидались всякого — и несправедливости людской, и расправ над теми, кто был им дорог и теми, кому были дороги они. Степень их трагедии ты представить себе не сможешь. Вот почему они чтут мистерии жестокости — дабы помнили о тех, кто был неправедно лишен жизни. Да, к моему дяде они пришли, будучи непоправимо уязвленными. Как дети, выросшие в жестокости и равнодушии. Когда мы нежны и невинны, невзгоды бьют по нам особо остро. Страх, жестокосердие — такие вещи меняют нас, дорогая моя. Они нас формируют.
Эдит растопырила тонкие белые пальцы. Заправила их в тесные шелковые перчатки — чему Кэтрин была только рада: коже головы касания старухи казались каплями ледяного дождя. Она даже не знала, с кем Эдит разговаривает, но та продолжала говорить. Надломленный голос заполнил голову Кэтрин. Представив себя пленницей Красного Дома, вынужденной вечно внимать речам старухи, Кэтрин захотела закричать.
— Они почувствовали страдания моего дяди, ибо были те сродни их собственным. И он собрал труппу этих маленьких созданий снова, как это делали другие, до него. Благодаря его покровительству традиция воскресла вновь. И под твоим крылом им не терпится продолжить с того, на чем они остановились много лет назад. Правда, для них… и для Алисы, дорогая моя… прошел не такой уж и долгий срок.
— Прекратите! Прекратите немедленно! Вы… Вы меня совсем не знаете. Не знаете, кто я, через что я прошла. Вы меня просто путаете! Насмехаетесь надо мной! Все, что мне нужно — вернуться домой. — Она обратилась к окну. Аккорды «Зеленых рукавов» стегали по воздуху все ближе и ближе. — Вы больная. И ваш дядя был болен. Этот дом просто омерзителен. Вы похитили всех тех девушек. И Алису… Алису тоже.
— Я больная? Какая же ты глупая. Разве мир, презиравший таких, как Алиса, не был болен? Мир, который сжигал, вешал, казнил на колесе тех, кто давал убогим надежду, — не болен ли? Они просто хотели спасти тебя. Спасти, как спасали других бедняжек, брошенных на обочине жизни. Они всегда покровительствовали тем, кто был так же сломлен, как они.
Эдит, похоже, потеряла к ней интерес. Она с любовью рассматривала котят в шкафу, за стеклом. Широко раскрытые глаза, реверансы, их крошечные пушистые мордочки, скрытые крохотными веерами, — все это теперь выглядело невыносимо жутко.
Кэтрин явилась сюда, отчаявшись, — больше ей некуда было идти; и к чему это привело? Поразмыслив, она пожалела, что не ковыляет во мраке по идущей из деревни дороги, не карабкается через канавы, не бежит по неосвещенным полям. Даже если бы те жуткие старцы, гости смотра, пошли бы за ней и неотступно следовали бы по пятам, перешептываясь в звонкой пустоте, это было бы гораздо лучше, чем то, с чем она здесь столкнулась.
Кэтрин попятилась к двери, борясь с желанием выкинуть какой-нибудь дикий фортель. С порывами, что были так же безумны, как и Мэйсоны, и весь этот дом, до краев наполненный смятением и ужасом.
У самых дверей она прикинула свои шансы. Перспектива бежать через черный ход по диким запустелым лугам в полной темноте, в одиночку уже не так манила, как мгновение назад.
— Родители будут меня искать. Вы ведь понимете, не гак ли? Мой босс, Леонард, он с ними снижется.
— Ты уверена?
— Да, черт возьми! Сюда нагрянет полиция!
— Они потратят впустую много времени, потому что не найдут нас. Дом дяди — один из тех, где требуется приглашение, чтобы попасть внутрь.
— Да хватит уже! Где Майк? Вы сказали, что он пришел сюда. Он-то не был приглашен!
— Tы наверняка знаешь, кто был приглашен, а кто нет? Они не отпускают тех, кого любят. Только не теперь. Да и раньше, думаю, такого не было. Мы — всего лишь экспонаты для этих маленьких тиранов. Ты не мой гость, а их. Так — с любым человеком в этом доме.
— Скажите мне, где он. Скажите же!
— И они переделывают тех, кто хранит их, по своему образу и подобию. Так поступают истинные ангелы. Всегда.
— Заткнись, ты, карга!
Эдит отвернулась от Кэтрин, явно пытаясь скрыть гнев.
— Ругаться последними словами на тех, кто приютил тебя — это все, на что ты способна в час явления истинного чуда? Так ты только разочаруешь своих будущих хозяев, Кэтрин.
— Где он?
— Твоего кавалера пригласили внутрь, чтобы он ждал тебя, и он ждет. Ты найдешь его в мастерской дяди. Вместе с разлучницей. О тех, кто перешел тебе дорогу, да позаботятся те, кто истинно любят тебя. Так произошло и с твоей матерью — распутной девкой, не нашедшей в себе мужества воспитать тебя.
— Моя мать…
— Познала великие муки за свой проступок. Они ведь знали о твоем отчаянии. Чуяли боль, что укоренилась в твоем милом маленьком сердечке. Теперь ты здесь — и материнским страданиям, равно как и твоим, придет конец.
— Что вы такое говорите?
Эдит усмехнулась.
— Здесь все ждали тебя. Здесь тебя любят.
— Я не хочу, чтобы меня здесь любили!
— Но ты уже знаешь, что это так. Здесь — все, о чем ты когда-то мечтала. Боль обожгла твое сердце в нужном месте, в нужное время. Они явились к тебе, как явились к моему дяде. Пришли, чтобы вернуть тебя домой. Где чудесам нет конца. Где ты важна.
Махнув на безумную старуху рукой, Кэтрин нашла в себе силы выбежать из гостиной в тускло освещенный проход, ведущий за ее пределы. Именно там, у самой лестницы, она услышала последние слова Эдит:
— Именно они здесь вершат правосудие, дорогая моя, и их справедливость может быть ужасна… Что они сделали с твоей бедной матерью…
Когда она поднялась с цокольного на первый этаж и застыла в коридоре, новый голос обратился к ней. Впрочем, к ней ли? Кэтрин не могла сказать наверняка. Распевный, едва ли не стенающий тон голоса был ей знаком — то был мужчина, читавший от лица Автора в пьесе, что была показана на смотре в деревне, чья речь тонула в шорохе и скрипении, словно бы пробивалась сквозь сильные радиопомехи… или тьму пролетевших столетий. Еще одна старая запись — потому как ни один современный дикторский голос не был способен на столь торжественную, суровую интонацию, на столь велеречивый даже с учетом всех искажений тембр.
Оставьте одного котенка, избавьтесь от остальных…
Большую часть речи она не улавливала, слова переходили в белый шум и искажались. От того, что она услышала, хотелось заткнуть уши.
Утопление — лучший метод… Возьмите за задние лапы, быстро ударьте по затылку…
Кэтрин пробежала по коридору.
Свяжите паклю хлопковой нитью… Протяните струны через оболочку… Уложите мягкую набивку вокруг струн…
Входные двери были распахнуты. «Зеленые рукава» стихли. Кэтрин не видела снаружи ничего, кроме окрашенных в кроваво-красный цвет огнями Дома зарослей сорных трав и длинной вереницы свечных огоньков.
Добыча более крупных млекопитающих в полевых условиях… зависит от ряда условий. Ловушки… размещаются в особых погодных условиях, при температуре… прежде чем вы занесете тушу в помещение… не перерезайте горло…
— Майк! — крикнула Кэтрин и побежала в неосвещенный проход, что вел в заднюю часть дома. В дальнем конце «рабочей» зоны здания была открыта одна дверь, и ее мутный свет служил маяком. — Майк!
Голос, шедший откуда-то сверху, заполнял все каверны и утолки особняка, подталкивал ее в спину, преследовал по всему коридору.
Вентральный разрез через брюшную полость или спинальный… возможно, также через грузину… клещи для расщепления суставов конечностей… отделите кожу до уровня пальцев I юг… поперечные разрезы на стопе…
Без света — руки так и не смогли найти выключатель — она сразу же стала неуклюжей и неуверенной. Налетев на что-то, Кэтрин ненадолго притормозила. Но останавливаться было никак нельзя.
Что-то там, в непроглядной темноте у ее ног… двигалось? Что-то быстро пробежало по деревянным половицам? Мод. Мод была убийцей детей? Воображение Кэтрин нарисовало жуткую картину — немая домоправительница со всклокоченными седыми волосами стоит где-то здесь, на расстоянии удара, и ждет ее. Ждет с одним из наточенных инструментов М. Г. Мэйсона в старой безжалостной руке. Должно быть, это ловушка. Эдит солгала о Майке, чтобы привести Кэтрин сюда. Они обокрали ее, угнали машину, всячески поизмывались над ней. Вот как здесь принято обращаться с гостями, значит?
Как они узнали, что ее удочерили? Они убили ее настоящую мать — за то, что та от нее отказалась? Разве не это сказала Эдит? Нет, она сказала, что страдания ее матери закончатся, когда она будет здесь, а это значит, что ее мать жива. Но где же ее держат?
Ложь. Полуправда и манипуляция — вот все, чем ее потчевали в этом доме. Но Эдит и про Алису знала. Откуда-то.
Проходи, Алиса. Проходи. Иди первой. Все в порядке… Не надо! Алиса, Алиса, вернись. Там опасно, Алиса. Пожалуйста. Нам нельзя. Вернись.
Она закрыла уши ладонями, чтобы прогнать звуки своих собственных воспоминаний и гул мужского голоса, который заставлял ее нервные окончания дрожать. Разъеденный статикой речитатив воцарился у нее в голове. Дезориентация ее была столь велика, что она думала — стоит раз упасть в темноте, и подняться она уже не сможет. Кэтрин взмахнула руками, чтобы отогнать от себя кого-то, кто вполне мог быть наступающей Мод.
Обрежьте вплотную к черепу. Вокруг глазниц отделите веки. Удалите глаза. Веки должны быть изучены под увеличительным стеклом. Малейшее микробное поражение ведет к порче и дает эффект паники, ужаса…
ХВАТИТ. ПОЖАЛУЙСТА.
Она побежала к открытой двери мастерской, на тусклый, грязный свет. Здесь не было другого освещения. Здесь только и оставалось, что щуриться, уклоняться, проползать под чем-то, что задеть было бы смерти подобно…
Подрежьте ухо у основания, отделите кожу от хряща… затем выверните ушную раковину наизнанку… проведите свежевание черепа…
— Майк! Майк, где ты? — крикнула она в зияющий проем мастерской Мэйсона.
Отделите мясо от кожи… Обезжирьте кожу. Прополощите в проточной воде…
Кэтрин заглянула в мастерскую лишь на мгновение. Но то мгновение было — как век.
После она прильнула спиной к стене и медленно-медленно села. Стена удерживала вес ее тела, с коим ноги более не справлялись.
Обезжиренная кожа может мариноваться месяцами без риска повреждений…
Глава 41
Плоть влюбленных была бледна.
Кожа Майка тускло поблескивала. Его спину украшал длинный продольный шрам, напоминающий огромный дополнительный рот.
Перед ним сидела женщина, чье лицо Кэтрин не нужно было даже видеть, чтобы узнать. То, что это именно женщина, она поняла, увидев в проеме между локтем и ребрами Майка большую обвисшую грудь, белую, как рыбье брюхо, с соском, напоминающим по цвету синяк.
Их головы с влажными волосами были склонены друг к другу, лоб ко лбу, как будто они шептались о чем-то, как парень и девушка, обменивающиеся секретиками в полной до краев душистой ванне. От темной жидкости, в которой они оба плавали, исходил пар.
Кэтрин, застыв, созерцала их некоторое время, ощущая бессмысленный стыд — будто бы вторглась, будучи непрошенной, в некое глубоко интимное действо. Холодный гнев от измены Майка мешался в ее душе с отвращением к смерти. Ужасно простой факт был осознан ею в полной мере: можно быть живым, пойти куда-то, куда не следует, и там с жизнью расстаться, распрощаться на веки вечные.
Прошло некоторое время, прежде чем она поняла, что незнакомый звук в комнате — ее собственное сипло-ритмичное дыхание. Такой чужой, насквозь неуместный звук.
Оставив влюбленных в покое, Кэтрин прошествовала к задней двери дома. Собственное дыхание, слышимое и ощутимое, дарило абсурдную надежду на то, что она все еще жива, на то, что все происходящее — реально.
Задняя дверь была заперта. Само собой, ничего удивительного. Сквозь стеклянную панель в верхней половине двери она узрела звезды. Впрочем, звезды ли то были — или вот так вот искажался волнистым стеклом свет? Какой, собственно, свет? Мысль о том, что там, снаружи, уже совсем ничего нет: ни земли, ни деревьев, ни неба — не очень-то и удивляла. В самом деле, Кэтрин ничегошеньки не знала об этом месте. Уверена она была лишь в одном — вся эта беготня утомила ее. Ни к чему ее крысиная возня не привела. Она чувствовала себя так, будто одним махом переплыла Ла-Манш, не сняв одежды. Силы подошли к концу. Дело шло к тому, что она сама подходила к концу. Окончательно иссякала как личность. А место-то какое подходящее…
В правой руке Кэтрин крепко сжимала палисандровую ручку скальпеля, взятого со стола в мастерской. Если кто-то нападет на нее или просто помешает уйти из дома — она не станет медлить. Или, может быть, стоило порезать себя, чтобы припугнуть старух. Так ведь намного проще. Она швыряла очки в стенку или била себя по голове, когда училась в школе, чтобы учитель явился побыстрее. Одна из тихих девчушек в белых гольфах, что так и не стала ее подругой, всегда бежала за учительницей, когда Кэтрин выкидывала нечто такое вот, безумное. В самом нежном возрасте Кэтрин уже знала, что безумие — хороший способ добиться от окружающих равнодушия. Желанного одиночества. Красный Дом, если подумать, разыгрывал ту же карту.
Откуда-то сверху донесся сухой треск. Старая запись. Великий М. Г. Мэйсон, ради чудес коего она прибыла в это проклятое место, продолжал вещать в своем личном изящном аду, пахнущем тленом и смертью. Для потомков он записал свое апокрифическое безумие. Надо же как-то вдохновлять других.
Их безжизненность — иллюзия, уловка.
Голос периодически прорезался сквозь помехи, лишь обрывки слов доходили до нее.
Они обладают большой силой. Их история неясна и туманна…
Никто не пытался воспрепятствовать Кэтрин, пока она вышагивала по коридору. Она последовательно подергала за ручки всех дверей — там, в комнатах, были большие окна на улицу, можно было бы разбить какое-нибудь и улизнуть. Даже если снаружи — одно большое Ничто, это всяко лучше. Всяко приятнее.
Все двери оказались заперты. Коридор звал ее обратно в мастерскую.
Черный ход тоже не поддался. «Зеленые рукава» стихли, процессия со свечами больше не грозила ей. Все выходы и входы были закрыты, все ключи — удалены из замочных скважин в лагунных оправах. Значит, кто-то об этом позаботился? Кто-то, видящий в темноте, кто-то, у кого на Кэтрин были свои особые планы. О, Мод, бессловесная ты тварь. Развернувшись, Кэтрин направилась к лестнице.
Я нахожу присутствие недвижимых крыс гораздо более уместным и утешительным, чем компанию особей собственного вида…
Нет, нельзя, нельзя было терять голову. Пусть из-за испуга и растерянности Кэтрин подрастеряла все свои мысли, полу-мысли и догадки, всему происходящему было разумное, простое объяснение.
Эдит не могла быть убийцей. Слишком уж немощна. Мод? Возможно. То, что начали брат и сестра Мэйсоны, старухи продолжили.
Думай. Думай. Думай.
Эдит и Мод, должно быть, украли Алису много лет назад. С чьей-то помощью, само собой. Похищения Алисы и других детей-калек, о которых рассказывала ей бабуля, из Магнис-Берроу, были результатом совместных усилий. Мэйсон и Виолетта начали дурную традицию, другие подхватили. Разве не на такой сценарий намекала в своих речах Эдит?
Здесь, в Доме, потомки М. Г. Мэйсона продолжали разыгрывать свои фантазии, свои психопатические бредни о каком-то бессмысленном, но отвратительном наследии театра марионеток, и о ней тоже — намеченной жертве, ускользнувшей от них в 1981 году.
Эдит теперь пыталась заставить ее принять сюрреалистические обряды своей семьи, пытаясь вставить их в ее мысли как какую-то альтернативную реальность, нечто вполне себе естественное. Нелепая теория, трудно поддающаяся проверке, но ничего лучше на ум не шло.
Собирались ли старухи убить ее? Грозила ли ей здесь и сейчас смертельная опасность?
Она признала реальности своих невзгод, и это одарило ее утешительной горечью. Нельзя было идти на поводу у бреда, втюхиваемого Красным Домом и его обитателями. Стоит ей клюнуть на эту приманку — и все, прощай, рассудок.
Крохотные нарядные чучела зверьков окружали ее. Когда ее взгляд упал на пустующее инвалидное кресло, Горацио уставился на Кэтрин в ответ своим извечно слезящимся фальшивым глазом. Племянница Мэйсона, его верная жрица, пропала из гостиной.
Отсутствие Эдит смешалось с недавними воспоминаниями, которых Кэтрин больше не желала, — о стариках, бредущих на смотр, бормочущих о чем-то перед вратами церкви. Весь этот груз раздавил скорлупу ее эмоционального ступора. Она снова тяжело дышала, снова дрожала, как осиновый лист. Чтобы побороть приступы тошноты, обвившие ее простывшее горло, Кэтрин села на ковер.
Небольшая лавина пыли в камине заставила ее вскрикнуть. Она села на пятки и уставилась и самый центр комнаты. Еще одна струйка упала и поддон за черными прутьями отполированной решетки. На этот раз она просто вздрогнула. Она ничего не слышала, кроме гудения записи, которое, казалось, тоже исходило из камина.
Выйдя в прилестничный коридор, Кэтрин похлопала руками по деревянным панелям, ища выключатели света, сливающиеся со стенами. Наконец тусклый рубиновый свет осветил лестницу. У них есть электричество, они должны оплачивать счета, кто-то должен знать, что они живут здесь.
Два смежных коридора первого этажа остались в темноте. Ступить добровольно в эту раззявленную пасть и зажечь свет еще и там было выше ее сил.
Они хотели, чтобы она поднялась.
Все божьи дети должны танцевать для кого-то…
Может, идея порезать себя не была такой уж плохой.
Может, ей стоило начать претворять ее в жизнь прямо сейчас.
Глава 42
Пускай оба они были не в состоянии делать что-либо, кроме как болтаться из стороны в сторону, подобно манекенам, на своих местах, Кэтрин решила — если хоть кто-нибудь из обитателей чердака начнет двигаться, она упадет в обморок.
Она будто очутилась в мансарде кукольного домика с двумя жильцами, заполненной шумом плохо настроенного радио. Под крышей шорох статики и металлический голос обрели такую мощь, что она даже подняла глаза, дабы убедиться, что где-то там, над ней, не нависла огромная одышливая пасть с микрофоном, приставленным к губам.
Кэтрин вцепилась покрепче в скальпель — рука дрожала. Вторую, свободную длань она прижала ко рту, чтобы подавить рвущиеся наружу жуткие всхлипы.
Раскрашенные стены. Старые деревянные сундуки. Чайный сервиз, комплект стульев под чехлами, деревянная лошадка. Все эти вещи промелькнули у нее перед глазами, пока она осматривала чердак в поисках кого-нибудь живого. Но живых здесь не было, а к мертвым она, как выяснилось, не была готова.
Выводимые страшным голосом раскатистые питании смешивались со стрекотом вроде того, что могла бы производить заводная игрушка. Оказалось, стрекотало устройство, всем своим видом напоминавшее френофон в идеальном состоянии. Однажды она видела похожий в музее, но тот, музейный, не был таким блестящим и новеньким на вид, как этот, установленный на маленьком складном столике. Устройство выглядело как граммофон, но не проигрывало пластинки. Оно было разработано, чтобы улавливать слабые радиосигналы. И еще оно запускалось вручную — сбоку деревянного корпуса торчала черная ручка.
Но кто ее повернул?
Она осторожно взглянула на парочку мумий. Конечно, сухая фигура, ссутулившаяся на придвинутом к столику табурете, не могла включить френофон. С головы до пят сокрытая белизной защитного костюма, в перчатках и фартуке, мумия подозрительно напоминала того странного пасечника, что орудовал в заросшем саду.
Выставив скальпель перед собой, Кэтрин подошла поближе, готовая, если фигура дернется, нанести удар. Сквозь прозрачный колпак просматривались очертания головы мумии, довольно-таки расплывчатые.
Сдернув маску, Кэтрин уставилась на то, что осталось от пожелтевшего, сухого, как пергамент, лица, частично изуродованного старой военной травмой. Безжизненно отвисшая челюсть демонстрировала всему миру сухой язык и желтые зубы. В пустые глазницы были вставлены два стеклянных протеза. Ошметки горловых сухожилий были аккуратно сведены вместе и сшиты грубой нитью. Перед ней был М. Г. Мэйсон собственной персоной.
Защитный костюм плотно сидел на старых мощах. Не похоже было, что его когда-либо снимали. Кэтрин видела, как некто в этом костюме расхаживал по саду. Как такое возможно? Вспомнив белый призрак пасечника, сновавший меж деревьев у подножия сада, Кэтрин быстро-быстро отошла от столика.
Она напомнила себе, что человек, увиденный в саду, всяко был живым — не какой-то там ожившей мумией, вышедшей прогуляться по саду и проверить такие же тухлые, как и она сама, ульи. Бред Эдит — всего лишь бред, и Кэтрин не должна принимать его на веру.
Таким образом, в Красный Дом вхож кто-то еще. Он и щеголял в дурацком прикиде пчеловода в тот первый день. Мод, Эдит, кто же еще? Возможно, этот третий был убийцей Майка, Тары и малютки Алисы. Наверное, тот самый ребенок-инвалид со старых фотографий в кабинете Мэйсона. Каким-то образом этого человека поставили на ноги. Возможно, то был сын Эдит. Тоже уже, наверное, старая калоша, лет за семьдесят.
Под чутким руководством матери он создал чучела бабушки и двоюродного дедушки. Быт Красного Дома на поверку оказался столь безумным, что теперь все казалось возможным. С той же вероятностью повинным во всех смертях мог оказаться какой-то другой здешний житель. Тот самый, чью возню она слышала по ночам. Некто, выползающий с наступлением темноты из своей комнаты.
Кэтрин воззрилась на вторую чердачную мумию, этакую пародию на Мадонну. Ее-то и таскали в стеклянном гробу во время смотра. Вне всяких сомнений, перед ней была Виолетта Мэйсон, мать Эдит. Женщина, почитаемая местными пережитками за святую.
При ближайшем рассмотрении кожа лица Виолетты Мэйсон оказалась морщинистой, как влажная хлопчатобумажная простыня, нездорового личиночного оттенка. Голова под большой черной шляпой, отгороженная от мира узорчатой вуалью, столь сильно усохла, что напоминала голову ребенка… или куклы. Глаза мумии были распахнуты — яркие и тоже почти наверняка стеклянные. Платье из тонко вышитого черного шелка оставляло на виду одни только кисти — бесцветные, как шпаклевка, с тонкими, как карандаши, пальцами без следов окостенения. Венки в ногах Виолетты выглядели новыми, будто их сплели из цветов, собранных сегодня же с окрестных лугов.
Кто-то сделал из Виолетты чучело и поставил здесь, рядом с братом. Ужасно, конечно, но Кэтрин понимала: нужно придерживаться разумных доводов, иначе ей здесь крышка. Перед ней — забальзамированные трупы. Не живые люди.
Но как тело Виолетты столь незаметно пронесли сюда? Труп мелькал то в деревне, то на дороге. Как, как, как же так?
Пока она, пришибленная, бродила по мастерской, последователи Эдит, должно быть, подняли стеклянный гроб сюда. Разумное объяснение все еще можно сыскать без труда.
К мумии Виолетты был обращен античного вида телескоп из латуни, возвышавшийся на деревянном штативе. Объектив был нацелен на арочное окно. Кэтрин видела то окно с улицы не раз. Ей вспомнились звездные карты и фотографии фаз Луны из архива Мэйсона. Наверное, именно здесь, на чердаке, чокнутый гений таксидермии обращал свой взор к звездам и молил их о новом прозрении для собственного ограниченного мирка.
Именно здесь он, надо думать, сошел с ума.
Кэтрин обратила взгляд на обитый кожей сундук с монограммой, не забывая посматривать на тени, ниспадающие от крытых брезентом чердачных закромов — хотя, с чего бы им двигаться? Определенно, этот самый сундук она видела в свободном номере отеля в Грин-Уиллоу после первой беседы с Эдит. И в детской тоже.
Медные застежки были повернуты кверху. То есть сундук стоял открытым.
Затаив дыхание, Кэтрин свободной рукой подняла увесистую крышку. Та со скрипом завалилась назад и хлопнула по задкам сундука.
Кэтрин отступила, присела на корточки, руку со скальпелем протянула вперед.
Плесневелое нутро сундука было выложено клеенкой. Если что-то и лежало внутри, то где-то на самом дне — с ее позиции никакого содержимого не просматривалось.
Она наклонилась вперед и заглянула внутрь.
Когда скрежет френофона вдруг стих, краткий миг тишины, воцарившейся на чердаке, был тут же нарушен ее истошным криком.
Кэтрин не могла унять дрожь в теле. Потребовалось некоторое время, чтобы понять, что вдобавок ко всему она зачем-то переступает с ноги на ногу, будто застигнутая дождем в попытках высушиться и согреться. Используя то немногое, что осталось от ее логического мышления, Кэтрин сообразила, что впадает в состояние шока.
В сундуке лежала Эдит — безжизненное тело, срезанная с ниток кукла с открытым ртом. Гааза закатились под свод миниатюрного черепа, являя миру одни только белки. Одного взгляда хватила Кэтрин, чтобы понять, что старуха мертва. Казалось, ее поместили сюда совсем недавно. Видимо, роль, отведенная наследнице Мэйсона, подошла к своему логическому концу.
Из-под неряшливого подола торчали тоненькие ноги старухи, закованные в уродливые железные подпорки поверх застегивающихся сбоку ботильонов. Верхняя часть конструкции терялась где-то под множеством юбок и подъюбником, придававшим черному платью пышность.
Кэтрин не знала, куда идти дальше. Ноги сами повели ее к лестнице, ведущей сюда, на чердак. Она смогла сосредоточиться лишь на желании покинуть этот пыльный мавзолей под самой крышей. Осторожно, шаг за шагом.
Спускаясь, она поняла, что внизу горит насыщенно-красный свет. Коридор второго этажа, который вел на чердак, был освещен теперь гораздо лучше — Кэтрин даже и не подозревала, что хоть что-то в этом доме может давать такую яркость.
Светильники, развешанные по стенам, работали в полную мощь, изгнав ставшие уже привычными янтарные полутона. Отклик, проснувшийся в Кэтрин при их виде, был столь необычным, что ей потребовалось несколько минут, чтобы определиться и дать ему имя. То была уверенность.
Должно быть, очередной трюк Красного Дома. Выходка Мод. Или убийцы. Или всех разом — что там еще обитало в этом здании, незаметное, чертовски скрытное…
Перестань.
Прежде чем двинуться дальше, Кэтрин постояла у стены. Ее вели куда-то. К чему-то, о чем оставалось лишь догадываться.
Значит, надо немного подыграть — и разузнать, что там мне уготовано.
Образы, наводнившие память, заставили ее застонать. Безжизненные мощи Эдит. Шрам на спине Майка — страшный черный разрез. Бескровная грудь над мутной поверхностью жидкости, заполнившей ванну. Морщинистое лицо матери Эдит, сделанные будто бы из каучука тонкие пальцы. Надо избавиться от всего этого, пока не пришла паника.
Абсурдную и отвратительную природу того, с чем она столкнулась в мастерской и на чердаке, Кэтрин не то чтобы отказывалась исследовать, скорее она просто не могла ее осмыслить. А если бы и попыталась, то рассыпалась бы на куски и никогда бы не собрала бы себя вновь.
Кэтрин принюхалась. Коридор наполнял аромат роз. Да и воздух здесь был достаточно теплый — кровь приливала к коже. Либо еще одна уловка, либо запоздалый теплый прием — в любом случае она не должна на это вестись. Но абсурдная благодарность за тепло, свет и аромат, перебивающий едкий смрад химии, все равно поселилась в ее душе.
Красный Дом был тих.
Держа скальпель наготове, Кэтрин прошла мимо закрытых дверей в коридоре, чутко за ними следя и чувствуя, как напрягается спина, когда проемы оставались позади. Ее чувства к Красному Дому были сродни тем, что испытываешь к хитрому хулигану: дружелюбному, улыбчивому… но лишь до поры.
На лестнице она оглянулась через плечо. Коридор пустовал. Свет не погас.
Цветочный запах стал еще сильнее у лестницы, возносясь к самым сводам особняка. Деревянные полы и стены соседнего прохода также были освещены ярким малиновым сиянием настенных светильников, которые ранее излучали только нечто мутное, медное.
Кэтрин глянула через перила. Пол в коридоре выглядел так, будто его недавно вымыли и нанесли полироль. Она подошла к арочному окну на лестничной площадке, напротив прохода, в котором находились комната Эдит и детская. Отдернула тяжелые занавески, обнажая деревянные ставни. Открыла ставни и выглянула наружу.
В отражении Кэтрин не увидела ничего, кроме собственного бледного и изможденного лица. Стекло было таким чистым, а мир за окном — таким черным, что окно служило ей зеркалом. Позади нее просматривался коридор второго этажа Красного Дома, тянущийся вдаль.
Положив скальпель на обитый бархатом подоконник, Кэтрин повернула защелку на створках окна и осторожно толкнула их от себя. Снаружи повеяло холодом. Ночь была тихой, лишенной и света, и звука, — впереди словно бы простерлась абсолютная пустота. Окна первого этажа, похоже, тоже были занавешены и закрыты ставнями — ни проблеска снизу.
Куда делись люди со свечами? Все расползлись по своим гробам, как Эдит и пасечник-муховод Мэйсон? Плохая мысль. Руки Кэтрин снова мелко задрожали.
Она села на подоконник и, сдвинув лодыжки и сунув руки между коленей, стала раскачиваться взад и вперед. Она делала это по привычке в моменты сильного беспокойства — а тут, видит Бог, беспокоиться было о чем.
Что делать?
Двери в самые нижние комнаты были заперты, окна в комнатах не подходят для побега. Да и потом, она никогда не смогла бы заставить себя выпрыгнуть из окна первого этажа, не видя земли, если только за спиной не бушевало бы пламя.
Неужели там, снаружи, мир действительно исчез?
Ну хватит! Хватит! Хватит!
Где была Мод? Она, должно быть, включила свет и заперла переднюю и заднюю двери. Кэтрин встала. В глазах у нее стояли слезы.
— Мод! Мод!
Никто не ответил.
Стиснув зубы, она схватила скальпель, возвращая себе сумасбродную храбрость, а затем побежала обратно в проход, где были спальня Эдит и детская. Она повернула ручку двери детской. Заперто. Следующая? Тоже заперто. И следующая за ней — тоже.
Ей захотелось закричать… Уже в который раз. Просто сделать хоть что-нибудь, что отвлекло бы от вопросов, на которых не стоило зацикливаться ее и без того пострадавшему уму.
Вернувшись туда, где начались ее поиски, Кэтрин встала у дверей спальни Эдит. Без особой надежды, вполсилы, толкнула ручку. С щелчком дверь распахнулась.
Войдя, она затворила за собой дверь и заперла ее. В эту комнату ей разрешили войти. Ей разрешили осмотреть чердак, разрешили посетить мастерскую. Что-то бессловесное, не имеющее даже языка, рассказывало ей свою историю. Кэтрин будто прогуливалась по кадрам комикса-ужастика с красными страницами, надушенными цветами. На этой странице спальня Эдит оказалась доступной для визита.
Десятки кукол — безупречные, бесстрастные — глядели на нее крошечными стеклянными глазками, отражающими алый свет. Прикроватные лампы, торшер и потолочное освещение горели ярко. Шторы были задернуты, не допуская сюда давящую заоконную пустоту.
Отдернув тяжелое покрывало, Кэтрин заглянула под кровать, не вполне понимая, что ей надо тут найти. Пусто, одна только ночная ваза. Сунулась во все шкафы, грозя незримому врагу скальпелем — одежда и ничего кроме. Открыла ящики, подняла кружевные скатерти, пошарила за большим зеркалом у туалетного столика — ничего. Камин тоже оказался пуст, и она заткнула его запасным постельным набором, прежде чем вернуть на место решетку из кованного чугуна.
Сев посреди кровати, Кэтрин уставилась на дверь. Заведя руку со скальпелем за бедро, она стала ждать.
Глава 43
Когда Кэтрин вздрогнула и очнулась, оказалось, что она все еще сидит на кровати, откинувшись на сложенную за спиной стопку подушечек. Она чувствовала себя больной, застывшей, глаза щипало. Все мышцы в ногах нестерпимо пыли. Похоже, утомление сделало свое черное дело, и она отключилась. Пробудило же ее некое внутреннее чутье.
Свет горел с непреходящей яркостью, дом по-прежнему пах розами. Но в комнате что-то изменилось. Что-то в самом воздухе, потому как размеры и обустройство спальни были точно такие же, как и до того, как Кэтрин провалилась в сон.
Изменение, возможно, прошло бы незаметным, не будь ситуация столь отчаянной, но она сразу обратила внимание на метаморфозу в атмосфере спальни. Духота в ней больше не ощущалась, воздух стал мягче, холоднее. Возможно, виновато было воображение, но Кэтрин, несмотря на все физические неудобства, больше не чувствовала себя будто бы за ногу к гире привязанной. Вернулась некая легкость.
Кэтрин слезла с кровати и подошла к двери. Глянула на кукол — и сразу отвернулась: их крохотные гримаски казались теперь куда счастливее. Под дверью, у самого порога, залегла полоса дневного света. Стараясь производить как можно меньше шума, Кэтрин повернула ключ в замке и приоткрыла дверь. По глазам сразу ударило солнце, и она обескураженно заморгала.
На лестничной площадке и в конце коридора были открыты и занавески, и ставни, коридор был затоплен ослепительным не по сезону солнечным светом.
На первом этаже у нее создалось впечатление, что тяжелые входные двери распахнули настежь, пока она спала, что каждое арочное окно на первом этаже открыли, приветствуя свет солнца, свежий теплый ветерок и гонимые им ароматы — букет свежескошенной травы, сладковатую пыльцу расцветающих клумб.
Алый блеск витража сменился розоватым флером, казавшимся Кэтрин чарующим. Она не чувствовала себя так, будто проспала долго, но при этом, похоже, проспала до самого дня.
Особняк, огромный и благоухающий, был словно рад ее пробуждению… И, более того, стремился щегольнуть перед ней роскошью и уютом. Оказать тот самый прием, на который Кэтрин надеялась в самом начале, явить мирное великолепие, хранящее красоту и мастерство ушедшей эпохи, которую она изучала, которой восхищалась всю сознательную жизнь, Дом перестал быть пристанищем кукольных теней и мрака. Зловоние смерти оставило его. Теперь отсюда взаправду не хотелось уходить. Теперь в Красный Дом хотелось возвращаться.
Она представила себе пыльную дорогу, ведущую к свободе. Сдерживая порыв, твердо диктующий ей рвануться со всех ног к парадным дверям, Кэтрин медленно спустилась по лестнице, оглядываясь по сторонам в поисках незваных маленьких визитеров. Ни одного кукольного личика. Да и Мод, страшная седовласая карга, не поджидала ее за углом с чем-нибудь острым и смертоносным в скрюченной руке.
Она остановилась в коридоре — нервы не позволяли ей больше медлить — и поспешила к парадным дверям, чтобы выскользнуть отсюда, прежде чем они захлопнутся и запрутся сами собой… Ну или кто-нибудь ее здесь запрет, как накануне.
Свет снаружи Красного Дома слепил. Первый ясный безоблачный день — солнце сияло так, как никогда на ее памяти, и его лучи оживляли ее, дарили позабытые чувства надежды и красоты. Неотразимый денек… Детский азарт переполнял каждую клеточку ее тела. Чувство чего-то близкого, некого расплывчатого откровения, заставляло ее сердце биться чаще. Ее ум сопротивлялся тому, что маячило будто бы прямо перед самым носом, но лишь из-за того, что Кэтрин желала сначала понять, а уж потом принять.
Прикрыв глаза, она сделала несколько шагов ко выходу. Сквозь слепящий ореол ей явился ухоженный палисадник. За садовой стеной простирался огромный океан таволги до самых далеких холмов, чьи очертания подрагивали в жарком мареве.
Ты можешь топать вечно в этом направлении, но ноги все равно приведут тебя сюда.
Она остановилась на пороге. Мир снаружи был освещен большим белым солнцем, как-то расширявшим перспективу и превращающим все вокруг в сочный и живой фотокадр с мягким наложением фильтров. Как будто Кэтрин была в том же здании, что и вчера, но при этом где-то еще. Как будто, вздумай она пойти вниз по переулку, она наткнулась бы на другие, неузнаваемые, деревню и церковь, а уж о том, что простиралось дальше, оставалось бы лишь гадать. Она чувствовала, что так и будет — при этом не понимала, откуда берется сама уверенность.
Кэтрин глянула через плечо. Красный Дом просматривался насквозь, от коридора до самого черного хода, где двери тоже были распахнуты. Сквозь дальний проем в недра дома прорывался еще более яркий свет. Чей-то силуэт проскользнул на его фоне, где-то легонько звякнул фарфор. Поверх аромата цветов угадывались другие — запах свежеиспеченного хлеба и печенья, пар, что вьется над чашками сладкого чая, освежающая цедра прохладных летних вин. Рот Кэтрин наполнился слюной. Она глубоко вдохнула, ощущая освежающее дыхание бриза на своем лице, словно бы погружаясь в прозрачную морскую воду в разгар душного дня.
Из ее глаз катились слезы.
Она пересекла холл и направилась к задней двери. Там ее ждали ответы на все вопросы. Комок в ее горле был самой ощутимой и плотной частью ее невесомого тела, дрейфующего налегке к этому квадрату света.
Кэтрин быстро преодолела это расстояние меж розоватых стен. Горделивые дверные тверди скрывали от нее какие-то чудеса, что наверняка сокрушили бы ее разум, войди она в любую из скрытых за ними комнат. Она без страха приблизилась к сияющему саду и вошла в безотказно манящий портал.
Сад был столь зелен, столь богат на слепящие блики. Кэтрин ни разу в жизни не видела столь плодородной земли. Насыщенно-изумрудная листва и трава, апельсины, лютики и фиалки — от красоты, торжествующей пред ее взором, захватывало дух.
К блистающим стеклам оранжереи льнули матовые, словно покрытые тонким слоем воска, листья тропических растений. Белизна садовой мебели оттеняла темные дощатые подмостки кукольного театра, акварель декораций которого была вполне достойна кисти самого Клода Моне. За деревьями, что росли у дальней границы сада, Кэтрин различила огромный английский луг, над которым переливалось марево зноя.
Пасечник поднял руку в перчатке и помахал ей из-за решетки, увитой стеблями роз с красными, белыми, розовыми бутонами. За сеткой его капюшона Кэтрин не видела лица — слишком уж далеко он стоял. Но та деликатная, свойственная престарелым домоводам легкость его передвижений среди окутанных марью ульев заставила поблекнуть в ее памяти весь тот ужас, что связан был с недавно увиденным человеком в том же наряде.
За белым столиком для пикника, ярким до одури, в тени дерева восседали две женщины в черных платьях в пол. Вуали, ниспадающие с широких полей их шляп, скрывали бледные лица, обращенные к Кэтрин. В своих выбеленных руках они держали фарфоровые чашечки. Третий стул, незанятый, был чуть отодвинут от стола.
В позах пребывавшей в саду троицы не было ни удивления, ни напряжения. Они все просто спокойно ждали, когда она соизволит присоединиться к ним.
Но не только там, впереди, был кто-то. Кэтрин обернулась к Красному Дому, осязая еще одно присутствие, иное. Чувства не подводили — в проходе застыли еще три фигуры. Трудно было с кем-то перепутать коренастую и неотесанную Мод, которую даже прекрасный летний день не спасал от написанной на лице горечи, вызванной, видимо, утомленностью от тягот прислуживания. Куда больший интерес представляли два маленьких спутника экономки. Они стояли по обе стороны от нее, держа старуху за руки.
Древоликий мальчик-инвалид в черном парике был одет в тот же костюм, коим щеголял в последний раз, когда Кэтрин видела его столь явно. Его ноги-жерди были все так же закованы в подпорки. Он поднял свободную руку, как и в ту пору, когда Кэтрин была всего лишь ребенком, глядевшим сквозь проволочный забор на заброшенное и разоренное здание школы для особых детей. Пальцы были сжаты в крохотный кулачок — судя по всему, такими их делала изначальная отливка или вырезка. Намалеванный на маленькой деревянной голове лик явил ей грустную улыбку из-под завесы непослушных волос.
По другую сторону от Мод стояла девочка. Свет играл на линзах ее очков в оправе из дешевого пластика. Даже на расстоянии, что разделяло их с Кэтрин, было очевидно, что у нее что-то неладное с одним глазом. Ну конечно, глазницу заполняла марля. А на стеклах все еще угадывались следы клея — как и в последний раз, когда Кэтрин виделась с подругой своего детства. Тогда Алисе было всего шесть лет — судя по всему, столько же поныне и осталось.
Единственной чертой, что насторожила и поразила ее, заставив ощущения тепла и уюта отхлынуть, были черные зубы Алисы. Кэтрин хотелось верить, что то была просто дружеская улыбка, а не хищный оскал.
Глава 44
Кэтрин вскочила на кровати в комнате Эдит — и проснулась. Подушки за ее спиной все еще хранили следы метаний во сне.
Только когда жжение в глазах дало о себе знать, Кэтрин поняла, что не закрывала их вообще. Подбородок оказался мокрым, язык высох. И как долго она провалялась так? Свет дня больше не выбивался из-под двери. Снова мрак ночи.
Дверь в комнату все еще была заперта. Скальпель лежал на простынях — там, где она его уронила.
Снова в трансе. Такого еще не было. Кэтрин схватилась за лицо и чуть не заплакала при мысли о том, что была выброшена из довольно-таки сносного видения в ловушку реальности.
Но то, что она только что увидела, было слишком ярким, чтобы быть порожденным трансом. Запахи, тепло — все было чересчур реальным. Она покинула бы забытье полностью счастливой, если бы не тот последний, немного пугающий образ.
Да, то был Красный Дом. Да, там была Алиса и деревянный мальчик из детства. Похоже было, что особняк — или нечто, заточенное в его стенах, — пытается раскрыть свою связь с ее детством, невидимую нить, что всегда их соединяла. Ее чутье указывало именно на это — и эта мысль не пугала ее так сильно, как раньше, как раз-таки из-за Алисы и странного мальца с деревянным лицом. Ведь когда-то она считала его настоящим… Даже спасителем. Его возвращение словно окрасило атмосферу Красного Дома в иные тона.
В ее видении царил разгар дня: яркое солнце, красота природы, спасительный манящий свет. Свет ее детских трансов. Снова и снова она ощущала радость ухода от самой себя, от того мира, что только мучил ее.
На нее больше не охотились во сне, она больше не испытывала страха. По ту сторону сознания Кэтрин оказали радушный прием. Мэйсоны были там — живые и вполне реальные, посреди великолепия сада, который в реальности был преисполнен мух, сорняков и распада. Она пробудилась, чувствуя, что сон одарил ее столь желанной надеждой на освобождение.
Поскольку отход от транса часто сподвигал ее к этому, Кэтрин попыталась снова вступить в контакт с физическим миром — тем единственным, пусть и непривлекательным, что у нее был. После прибытия сюда много связующих с ним мостов сгорело. Спотыкаясь, Кэтрин побрела к двери. Оказалось, что смелости повернуть ручку ей не хватало. Медля, дрожа и переступая с ноги на ногу, она отчаянно старалась не расплакаться.
Где во всем происходящем логика? Зачем Мод и кому-то еще, кто, несомненно, живет в доме, но себя не кажет, убивать Эдит и прятать труп старухи в сундуке на чердаке, запускать френофон, чтобы напугать Кэтрин? Или старуха умерла сама? Или попросту разыграла собственную смерть в угоду извращенной затянувшейся шутке? А эти игры со светом, что делался то ярче, то снова, как сейчас, тусклее — надо думать, где-то на распределительном щитке установлен реостат?
Запах? Аромат роз мог быть создан каким-то настоем.
Майк и Тара? Как их-то сюда приплести? Возможно, они стали жертвами деревенского клана — людей темных и недалеких, всерьез считающих, что у Эдит и Мод были какие-то страшные секреты, требующие ревностного охранения. Если Эдит узнала о возвращении Кэтрин в Вустер, разыскала ее и пригласила сюда, то Майк и Тара легко могли оказаться случайно втянутыми в некий ритуал, имеющий смысл лишь для парочки отрешенных от мира невменяемых пожилых женщин и для всех тех, кто служил им.
В сухом остатке Кэтрин ничего не знала. Ничегошеньки. Ей хотелось знать, она желала, чтобы все как-то просто и понятно объяснилось. Она отдала бы все за то, чтобы у кошмара, в котором она очутилась, была логика — и наплевать, насколько мерзкой окажется правда.
Отчаянные объяснения Кэтрин все еще казались несущественными, как будто она выдавала желаемое за действительное, чтобы поверить в то, что, как она знала, было ложью.
Эдит нелепо утверждала, что она и ее биологическая мать родом из деревни. Она ничего не знала о своих истинных родителях — только то, что родная мать была бедна и не могла справиться с ее содержанием.
Неужели она взаправду родом из Магбар-Вуд? Из деревни, над которой довлело жуткое влияние Мэйсонов? Судя по возрасту и состоянию закрытых лавочек, рождение ее совпало с той порой, когда поселок перестал нормально функционировать. Может быть, мать пыталась спасти ее от ужасов Магбар-Вуд, отдав на удочерение?
Если в любом из ее предположений была доля правды, то все, что случилось с ней с тех пор, как она впервые поехала в Грин-Уиллоу, казалось неизбежным, своего рода судьбой; даже частью чего-то мистического. М. Г. Мэйсон пожелал вернуть ее сюда. Разве не это Эдит пыталась преподнести Кэтрин в качестве правды?
Нет. Слухи о том, что Мэйсон что-то там нашел на раскопках в холмах и принес в этот дом — полная чушь. Древние куклы-чудовища, преобразившие Мэйсонов, завладевшие жизнью и семьи, и жителей целой окрестной деревни? Безумие. Небывальщина в последней инстанции. Абсурд, мистификация, легенда.
Но что все они — Эдит, Мод, кто бы здесь еще ни был, — по-настоящему хотели от нее? В чем пытались убедить? В том, что Красный Дом был своего рода живым существом? Или истинная высшая жизнь оставалась где-то там, во тьме, за окнами, а особняк был лишь кукольным домиком, дурившим своих живых обитателей? Эдит говорила что-то о больших усилиях, прилагаемых к тому, чтобы остаться здесь, — что она имела в виду?
Кэтрин попыталась упорядочить то, что уже известно. Мэйсон всю жизнь вмешивался в некие дела, предшествовавшие еще римлянам. И особняк, и земля, на которой он стоял, что-то значили для бывшего капеллана. Похоже, это место отравляло ее, Кэтрин, так же, как и Мэйсона когда-то. Видимо, зараза пережила своего бывшего носителя. Зараза укрепилась и распространилась, породив иные ипостаси, найдя дорогу к иным местам. Зараза забрала у нее Алису…
Прекрати!
Мод накачала ее наркотиками, как пить дать. Вот почему она стала так восприимчива ко всему вокруг. И что же ей подкинули — ЛСД, что-то позабористее? В этом месте люди гибли. Их здесь убивали. Или же нет?
В любом случае ей следовало выбраться отсюда.
Прежде чем покинуть спальню, Кэтрин прислушалась, до боли в пальцах стискивая скальпель. Она прижала ухо к двери — ни единого звука. Напрягшись, она повернула ручку и шагнула назад, когда дверь распахнулась.
Проход не был освещен, дверь напротив едва просматривалась. Кэтрин встала в проеме. Попыталась уловить в непроглядном коридоре какой-нибудь звук — скрип половиц, шаги, дыхание.
Тишина.
Она глянула направо. За ореолом света из спальни — ничего, футы и футы мрака. Слева виднелась лестница — где-то там, между пролетами, горел светильник, но и только. Все здесь было точно таким же, как и раньше, когда она спустилась с чердака, заперлась в комнате Эдит и погрузилась в транс. Вот оно — истинное лицо особняка.
Она дрожала. Еще бы: одета в одно только тонкое вечернее платье, а стоит на сквозняке — где-то явно было открыто окно. Откуда-то извне, откуда-то снаружи шел холодный воздух.
Да, должно быть, окно было открыто в одной из этих запертых комнат, и воздух пах мокрой листвой, скользкой и коричневеющей, прелой опалью и древесной гнилью… Просто холодный воздух в пасмурный день, с намеком на дым костра… Быть того не могло, но все чувства указывали на то, что снаружи зима.
Пахучий сквозняк задувал в коридор из окна в самом его конце. Если то было открыто, она смогла бы как-нибудь сообразить путь вниз и сбежать отсюда к чертовой матери.
Кэтрин миновала тьму, рассекая пространство перед собой скальпелем, ориентируясь на дуновения ветерка, как археолог, вдруг обнаруживший выход на поверхность в древних погребальных катакомбах. Лезвием она выводила на тьме перед собой размашистые дуги. Если кто-то стоял у нее на пути, хирургическая сталь нашла бы врага раньше, чем враг нашел бы ее саму.
И если Кэтрин не ошибалась, вокруг занавесок распространялась аура сероватого света — все более отчетливая по мере ее приближения. Оно должно было быть открытым. Возможно, таким его оставили специально для нее.
Наверное, уже рассвет. Долгожданное утро нового дня.
Но то, что царило снаружи, больше напоминало сумерки. Похоже, она пробыла в трансе так долго, что снова провалялась целый день. Но… не может же сейчас быть зима!
И она, должно быть, так и не пришла в себя — иначе как объяснить их?
Она полоснула скальпелем по руке. Боль заставила ее вздрогнуть. На ладони выступила тонкая красная линия. Не сон. Не транс. Кэтрин всхлипнула. Да, она устала, да, ее вымотало до предела, но нет, она не спит.
Ведь есть иные ипостаси, иные места.
Кэтрин зажмурилась до боли, чувствуя, как стекает по руке кровь. Снова открыла глаза. Они были там. Они не исчезли. Детишки-оборванцы с головами странных форм, они все еще стояли там — и смотрели на нее, как и много лет назад.
Их звериные уши. Плохо подогнанные парики. Деревянный мальчик махал ей рукой, самая высокая девочка, в чепце, держала за руку ребенка в склеенных на скорую руку очках, держала за руку ничуть не изменившуюся за столько минувших лет Алису.
Откуда-то нашлись силы оторвать свинцовые ноги от пола — и побежать обратно в спальню Эдит, закрыв лицо руками. Все это было бредом. Кэтрин как-то умудрилась обрести ясность сознания внутри транса. Или ее попросту опоили. Мощной дрянью. Перед глазами у нее встали безжизненные губы Эдит, желтая полоска зубов. Одна из формул моего дядюшки.
Упав на кровать, Кэтрин стала кричать, желая проснуться. Но крик лишь насторожил обитателей дома. Она ясно слышала топот их маленьких ножек — внизу, на лестнице, а потом и в коридоре за дверью. Их было много, и все они бежали к ней.
Глава 45
Когда она проснулась, ее пальцы оказались чуть ли не вплетенными в холодный металл по обе стороны от ее бедер. Старые пружины стенали в унисон с ней самой.
— Господи…
Солнечный свет пробивался через щели в досках, прибитых поперек оконной рамы. Сквозняк доносил до нее терпкие ароматы земли и росы.
Кэтрин вспомнилось, как она стояла перед окном и смотрела на детей в саду. А потом она вернулась в спальню Эдит и упала на кровать, где, должно быть, потеряла сознание… Вот только не на эту кровать.
То, что произошло после ее возвращения в комнату, было расплывчато или частично забылось, и на все попытки выудить картину событий из мутного омута память отвечала отказом. Может, оно и к лучшему. Потому как творилось что-то неладное. Мелкие ножки, перестукивая на бегу, спешили к двери ее комнаты, кто-то врывался и плясал перед ней, у самого лица, кто-то, воняющий старой одеждой, запустением, свежей землей, зимними стужами… Кэтрин помнила звуки, помнила запахи. Но видела ли она чье-то деревянное лицо, льнущее к ее собственному чуть ли не вплотную? А еще…
Ничего.
Еще один плохой сон-во-сне. Ей, наверное, привиделись те странные дети в саду и как она смотрела на них из коридорного окна. До этого была еще одна греза — о Красном Доме, залитом солнечным светом, наполненном благоуханием цветов. В саду ее ждали…
Все это должно быть частью транса. Игрой воображения. Получается, трансов было два. Или три? Или один, но настолько глубокий, что казалось, будто их несколько? Она не знала — переход из одного места в другое, а теперь еще и сюда, менее всего напоминал пробуждение от глубокого сна, исполненного ярких, живых образов, и более всего — перемещение в новый день с поспешно теряющими четкость воспоминаниями о последних часах в сознании.
Все это нереально. На сей счет не стоит обманывать себя…
Испуг сделал Кэтрин похожей на куклу, не способную чувствовать что-либо. Замерзши, будто она пробыла всю ночь или даже дольше на холоде, она почему-то не ощущала какого-либо дискомфорта. Шок лишил ее дара речи.
Она не понимала — то ли это бессонница вдруг затянулась на недели, то ли, наоборот, она проспала неделю и лишь наполовину проснулась.
Кэтрин ущипнула себя за запястье. Даже этот простой, казалось бы, жест дался с трудом — руки онемели, отяжелели, пальцы ощущались пришитыми. Но она была в сознании. Мир вокруг нее был реален. Тонкий порез на ее руке саднил.
Где же скальпель? Где постельное белье наконец? Ничего этого не было, даже матраса — она лежала на голой кроватной сетке. В хмуром свете, просачивающемся сквозь забитое досками окно, Кэтрин различила, что ее переодели во что-то, выглядевшее и ощущавшееся как платье. Ее горло перехватывал воротник, жесткий и тугой. Платье доходило до лодыжек, сдавливало бедра. Оно было старым. Когда-то, возможно, белое, ныне же — цвета грязи.
Свет был тусклым, но его хватало, чтобы уверить ее в том, что на дальней стене больше не было стеллажа с куклами. Мебель из спальни также исчезла. Ее окружали голые стены, порядочно загрязненные.
Выходит, ее с самого начала ловко дурманили, чтобы она принимала развалюху за шикарный старый особняк? Нет, в это она не могла поверить. Ее воспоминания о Красном Доме и обо всем, что произошло, были слишком яркими, слишком живыми.
Пока она была без сознания, ее кто-то переодел и оттащил сюда, на непокрытую старую кровать. В какое-то другое место, в другой дом, или, быть может, в ту часть особняка, где она еще не бывала. Ну или же реальность снова преобразилась — радикальнее, чем прежде.
Мысль о том, что она все еще в Красном Доме, в спальне Эдит Мэйсон, и лежит на той же самой кровати, повергала Кэтрин в недоумение и подталкивала к ужасному принятию невозможного. Если ей еще требовались подтверждения — возле кровати стояло огромное черное кресло, опрокинутое боком на голый деревянный пол.
Ее глаза мало-помалу приспособились к темноте. В жидких полосах света на стенах плесень ютилась. Кэтрин и так чувствовала ее запах. Она вспомнила, что замечала эту вонь и раньше, когда ютилась в темноте в выделенной ей комнате, когда вышагивала по темным коридорам. Порой душок проступал и в столовой.
Клочья обоев устилали пол вперемешку со щебнем и листвой. Часть потолка обвалилась — виднелись деревянные балки. Проводка была выдрана из стен. Матрас был брошен где-то там, где раньше, если верить воспоминаниям, стояло зеркало. Он был весь покрыт черными пятнами, настоящими континентами пятен. Часть набивки лежала неподалеку мокрыми комьями.
Кэтрин сжала лицо руками — такими холодными и тяжелыми, что казалось, они принадлежат кому-то другому. Или, по меньшей мере, почти парализованы. Кожа ее лица была скользкой от какого-то крема или мази. Она взглянула на свой грязно-белый рукав и принюхалась — от него несло какими-то тяжелыми незнакомыми духами. Кэтрин осторожно коснулась головы — волосы были собраны в тугой пучок.
На полу рядом с кроватью лежали осколки зеркального стекла, выбитого из рамы много лет назад — теперь, рядом с остальным мусором, они казались жемчужинами. Подавшись вперед неуклюже, Кэтрин потерла пальцем участок потускневшего крапчатого стекла. Повернула его к себе. Ее глазам предстало нечто настолько бледное, что едва ли не голубоватое. Ее кожу будто отбелили хлоркой.
Снаружи донесся звук, который, как Кэтрин думала, ей больше никогда не доведется услышать — рокот автомобильного двигателя и шорох шин по неровной дороге. Вспугнутые шумом, птицы вторили машине скупыми, печальными трелями.
Привстав с кровати, Кэтрин напряглась. На миг ей почудилось, что ее привязали. Но стоило ей подняться и встать на свои неуклюжие ноги, двигаться стало намного легче. Теперь, стоя прямо, она чувствовала себя ловкой и проворной.
Миновав неосвещенную комнату, Кэтрин встала у забитого досками окна. Ей стоило некоторых усилий найти подходящую щель и выглянуть наружу.
В поле ее зрения попал автомобиль. Зеленый фургон — модель старая, винтажная даже. Ехал фургон не спеша, словно водитель осторожничал. Подкатив к границе запущенного палисадника, машина остановилась. Прилегающие к особняку земли теперь окружала ограда из проволоки — раньше ничего подобного тут не было. Большая часть кирпичной стены — той, что прекрасно запомнилась Кэтрин, — куда-то пропала.
При виде человека, вышедшего из машины, у нее закружилась голова. Накатившее на миг облегчение почти сразу же сменилось испуганным ступором.
Леонард Осборн встал у открытой водительской двери. Инвалидное кресло ему совсем не требовалось — он стоял прямо, не пошатываясь даже. Обогнув капот машины, которую Кэтрин ни разу доселе не видела, он застыл перед оградой. Что-то было у него в руках — что-то черное и лохматое. С осторожностью водрузив это незнамо-что на крышу фургона, ее босс повернулся лицом к дому. Он медленно снял куртку, спустил брюки с тонких ног, расстегнул рубашку, двигаясь с нарочитой тщательностью, как если бы его действия были многажды отрепетированы, как будто то была прелюдия к некому особому акту. Когда он стащил с небритых ног трусы, Кэтрин закрыла глаза — успев увидеть, что торс Леонарда, бледный и иссохший, являл собой лоскутное одеяло из толстых линий блекло-фиолетового цвета.
Шрамы.
Рискнув снова открыть глаза, Кэтрин увидела, что лицо босса сокрыла маска из темной кожи без каких-либо черт. Впрочем, так было даже лучше. Так было легче воспринимать шрамированного голого дикаря, в которого за считанные минуты преобразился ее друг и покровитель, такой знакомый, добрый, интеллигентный старичок.
По внешней стороне маски, до самых костлявых плеч, сбегал каскад пышных черных волос. Локоны, абсурдно-женственные, укрыли торчащие ребра Леонарда.
Дикарь в маске отпер воротца в ограде и пошел по тропинке к дому, прижимая к груди серый мешок. Вскоре жуткая фигура исчезла из виду.
Жжение в груди напомнило Кэтрин о том, что все это время она почти не дышала. В панике она принялась наугад шарить по скользким, осыпающимся стенам, ища дорогу к двери в полумраке. Новый наряд стеснял ее движения. Ручки у двери не было — на ее месте зияла дыра.
Шагнув в проем, Кэтрин замерла. Ее глазам предстали настоящие руины. Дверь за спиной со скрипом возвратилась на место.
Красный Дом был заброшен. По коридору гулял холодный ветер. Света здесь было вполне достаточно — видимо, большое окно в крыше, сделанное из малинового стекла, прекратило свое существование.
Никаких ковров, никаких светильников. Терпкая вонь влажного дерева мешалась с чем-то еще более мерзким, напоминающим запах мочи.
Лестничный пролет не досчитался доброй части перил. Концы двух коридоров терялись в темноте. Половицы местами были разбиты, местами просто отсутствовали, являя миру черные провалы. У стен собрались целые горы прелой листвы, придавленные упавшими кусками штукатурки.
Но внизу кто-то двигался. Такие звуки ей уже приходилось слышать раньше. Двумя этажами ниже кто-то шагал во мраке. Характерная поступь грузной женщины с легкой хромотой — несомненно, то была Мод. Откуда-то из недр особняка домоправительница шла к коридору прямо под лестницей — так же, как когда встречала Кэтрин и забирала ее вещи.
Звякнула цепочка, заскрипели ржавые петли, застонало недовольно дерево. Большие передние двери распахнулись, впуская свет. Мгновение спустя их снова закрыли и заперли. Все внизу померкло. Две пары ног потоптались недолго на месте — и двинулись по остаткам половиц. Домоправительница и гость не обмолвились ни приветствием, ни просто словом — что было еще хуже, чем шум их восхождения вверх по лестнице.
Осторожно переступая по неровному, в сонме мест проломленному полу, Кэтрин вернулась обратно в коридор, встала в проеме двери в спальню и вся подобралась. Прильнув щекой к влажной, крошащейся штукатурке стены, она напряженно смотрела на лестничную клетку.
Вот показался Леонард, двигаясь с гротескной беспечностью, с легкостью и выправкой, совершенно нехарактерными для мужчины его возраста, покачивая головой в обезличенной кожаной маске с пришитыми к скальпу локонами. Следом за ним, погруженная в свое обычное суровое безразличие, тяжело ступала Мод — шаг за шагом, шаг за шагом.
Кэтрин не хотела, чтобы черная кожаная личина обернулась в ее сторону, и потому беззвучно скользнула назад, когда ее похитители очутились на втором этаже. Ее разум искал решения — куда бежать, если эти двое пришли за ней?
Страх сменился облегчением, когда она услышала, как их шаги удаляются в соседний кори дор, где находилась комната, которую выделила ей Эдит.
Позади нее, близ покинутой хозяйкой спальни, виднелись неясные очертания дверного проема детской. Дверь была открыта. Поравнявшись с проемом, Кэтрин заглянула внутрь. В детской ничего и никого не было — просто пустая темная комната, еле-еле подсвеченная снаружи. Стены облепил ковер из плесени и струпьев. Как и везде в Доме, в этом странном и окончательно сбившем с толку особняке, в одной из комнат которого она, хотелось верить, окончательно пробудилась ото сна, смущенная и напуганная.
Вернувшись на лестничную площадку, Кэтрин прислушалась. Из соседнего прохода до нее доносились приглушенные звуки — как будто что-то волокли по полу к одной из дальних комнат.
Пробежав лестничную площадку, она начала спускаться по лестнице. Одним-единственным утешением ей сейчас служило неожиданно открывшееся умение тихо и быстро перемещаться между этажами.
На первом ее встретили прогнившие деревянные стены, почерневшие и источенные насекомыми. Из проема, ведущего в гостиную Эдит, тянуло смрадом общественного туалета. Каким-то образом карниз над заколоченным окном уцелел — все прочее лежало в упадке. Она поспешила на цокольный этаж.
То тут, то там половицы в главном зале отсутствовали, обнажая заполненные мусором ниши и крошащийся цемент меж перекладин. Большие ржавые гвозди торчали подобно иглам ежа, и Кэтрин приходилось ступать осторожно, дабы ненароком не напороться.
Входные двери были закрыты. Тусклый блеск железной цепи, намотанной на ручки, указывал на то, что их наглухо заперли. Развернувшись, Кэтрин выбежала в ведущий к черному ходу коридорчик. Нужно было дать деру, пока Мод и Леонард возились наверху. Их шаги снова были слышны — наверное, они искали ее и собирались обыскать спальню Эдит. Такая мысль заставила ее ускорить шаг.
Потребуется много времени, чтобы осознать весь опыт пребывания здесь. Итак, ее тут держали в плену, вдобавок ко всему — не то потчевали наркотиками, не то гипнотизировали, словом, делали что-то такое, что внушало ей образ давным-давно заброшенного Красного Дома во всем былом великолепии. Что-то, что поддерживало и питало иллюзию, рожденную ее собственным воображением.
Мэйсон все же смыслил кое-что в магии. Ее тут околдовали.
Но как такое возможно…
Перестань! У тебя будет время подумать обо всем. Хоть до конца жизни думай, но позже. А сейчас, Бога ради, просто возьми и выйди на улицу.
В коридоре черного хода было темно, и ей не всегда было видно, куда ступают ее босые пятки. Но через иные зияющие дверные проемы нет-нет да и пробивались лучики дневного света, робко касавшиеся дощатых щитов, прибитых ко всем здешним окнам.
Кэтрин быстро заглядывала во все комнаты на своем пути. Везде ее встречала пустота. Пропала мебель, канули куда-то масштабные застекленные диорамы. В одной особо убогой комнатушке ей на глаза попался сгнивший спальный мешок, покоившийся в груде бутылок, сваленных у дальней крашеной стены.
Попались ей и пережитки старой кухни. Несколько картонных коробок и пластиковых пакетов было разбросано по деревянным полкам, почему-то не свинченным с пятнистых от плесени стен. Пачки, банки и продуктовые сумки были новыми, с современной маркировкой. Видимо, кто-то здесь готовил пищу. Мод? Господи Иисусе. И чем же она здесь кормилась? Явно не фазаньей грудкой.
Кэтрин сбавила темп у мастерской Мэйсона — не только из-за воспоминаний обо всем увиденном в этой проклятой комнате, но и потому, что дверь туда уцелела и даже была закрыта на висячий замок. Правда, ставили ее явно позже, да и была это просто дешевка из ДСП, какие обычно навешивают на бараки рабочих на стройплощадках.
А вот с дверьми черного хода ситуация оказалась не ахти. Они были не просто заперты, а заперты на мощный засов с цепью — две непрошибаемые дубовые панели, установленные, опять же, не так давно. Сей факт делался очевидным из-за разительного контраста состояния дома и этих дверей. Едкий душок новой древесины, успевшей прозябнуть во влажной среде, язвительно щекотал ноздри.
Кэтрин забарабанила по дверям, рыдая в отчаянии. Единственным ответом ей служили какие-то звуки из мастерской. Что-то шарило там, за фанерной преградой — или все же кто-то? Шарканье и бессвязное ворчание наводили нa мысль, что в комнате либо животное, либо напившийся до чертиков человек.
Попятившись, Кэтрин отступила по коридору к проходу в смрадную кухню.
Некто в мастерской сначала застонал, а затем залаял, как собака, у которой что-то застряло в горле. Царапанье пальцев сменилось сердитым стуком. Кэтрин поняла, что боится не столько существа по ту сторону двери, сколько причины, ио которой оное там заперли.
Похоже, они содержали здесь пленников. Накачивали наркотиками, потом учиняли жестокую расправу. И Леонард — господи, Леопард! — был в этом деле замешан. Он оказался сообщником Мэйсонов. Он подставил ее. Оценка имущества, манящий контракт — все это оказалось лишь прелюдией к чистой воды кошмару. Мод была его союзницей. Наверное, план шел своим чередом годами — с поры ее бытности ребенком-изгоем в Эллил-Филдс. Кэтрин снова подумала об Алисе, карабкающейся по склону к дыре в зеленом проволочном заборе, о черно-белых снимках девочек-инвалидов в кабинете Мэйсона. Маргарет Рид, Анджела Прескотт, Хелен Тим. Должно быть, всех их когда-то содержали здесь.
Как же они выкрали первых трех девочек? С помощью детей, вроде тех, что Кэтрин видела в спецшколе, одетых как марионетки Мэйсона? И что получается, даже сейчас, когда Мэйсон мертв, они все еще занимаются подобным?
Леонард и его сообщники, похоже, ждали Кэтрин все эти годы. Целые десятилетия напролет. И все из-за чего? Потому что она была свидетелем похищения Алисы?
Как так вышло, что Алиса ничуть не постарела? Очередная галлюцинация?
Кем или чем была на самом деле Эдит Мэйсон? Где она сейчас?
Красный Дом… не мог же он измениться настолько сильно! Не существовало такого наркотика, что заставил бы ее увидеть эту развалюху в свете пусть мрачноватом, но все же — торжественно-великолепном, с печатью Возрождения. Сама идея выглядела абсурдно. Она будто попала в авангардный фильм ужасов — все объяснения казались жалкими и бредовыми.
Доводы против безумия тают… С шорохом их одеянья спадают.
На другом конце коридора заскрипели половицы, Кэтрин нырнула в кухню и прижалась спиной к прогнившей стене. Ее напряженное бдение не продлилось долго — шаги удалялись прочь от лестницы, а потом, где-то вдалеке зазвенела снимаемая с дверных ручек цепь.
То есть Мод и Леонард открывали парадный вход? И… уходили?
Кэтрин подкралась к дверям кухни и заметила небольшую раскладушку, прислоненную к стене со стороны комнаты напротив окна. Пестрая подушка без наволочки, продавленная в середине, покоилась поверх клетчатого шотландского пледа. Выходит, кто-то здесь ночевал — не Мод ли снова?
Да, она ночевала здесь и ждала новую жертву. Которую можно пытать. И под конец убить.
Кэтрин засунула пальцы в рот, дабы сдержать рвущиеся наружу всхлипы. Ее взгляд метнулся к коридору черного хода.
Там, в другой части дома, Мод тащила кожаный сундук М. Г. Мэйсона к распахнутым парадным дверям. Леонард нес следом сложенные постельные принадлежности — не те ли самые, на которых Кэтрин еще недавно спала? Если да, то, получается, они забирали отсюда доказательства ее визита в заброшенный особняк, чтобы избавиться от них? Возможно, именно поэтому они навестили ее спальню — чтобы изъять последние улики, потом убить ее и закончить наконец этот сумасшедший ритуал, начатый с приглашения оценить антикварное имущество.
О Боже. О Боже. О Боже!
Кем были эти люди? Покоилось ли тело Эдит в сундуке, который они, надо думать, спустили с чердака? И если да — одно ли тело пребывало сейчас внутри?
Жестокий абсурд ситуации сводил Кэтрин с ума. Водоворот путаницы и ужаса все быстрее закручивался окрест нее. Красный Дом не снисходил до того, чтобы дать ей хоть какую-то передышку.
Шаги приближались — кто-то шел ей навстречу. Кэтрин, спрятавшись на кухне, стянула из кишащего муравьями серванта нож, оперлась спиной о стену у окна и стала ждать. Она не издавала ни звука — лишь тряслась, когда две пары ног зашаркали в непосредственной от нее близости.
На кухню никто не заглянул, но Кэтрин не верила в то, что ее присутствие осталось для них незамеченным. Она услышала, как Леонард и Мод открывают дверь мастерской.
Тот, кого они на пару выволокли из комнаты, не сопротивлялся. Он стонал, кашлял и будто бы даже охотно следовал за своими молчаливыми похитителями в сторону главного коридора.
Затаившись в дурно пахнущем темном пристенке, Кэтрин ждала и вслушивалась до тех пор, пока окончательно не убедилась в том, что слышит поступь троих человек. Уверившись, что все трое идут к парадным дверям, она осторожно выглянула в проход и увидела их спины, преграждающие путь бьющему снаружи свету. Едва они шагнули в солнечное пятно под разбитым окном в крыше, непреходящий ужас в душе Кэтрин смешался с еще большим непониманием. Между тощей обнаженной фигурой Леонарда и приземистой Мод шла худая женщина в длинном сером платье и белом фартуке. Точно такую же униформу носила сама Мод. Голова конвоируемой женщины была покрыта капюшоном. Ноги нетвердо держали незнакомку; когда ее подталкивали, она то жалобно стонала, то отрывисто вскрикивала. Едва Леонард и Мод отпустили пленницу, та развела бледные руки, будто стараясь поймать равновесие на льду.
Кэтрин схватилась за уши, пытаясь остановить безумную круговерть в голове. Все ее существо молило об одном — просто побежать следом за этими странными людьми, привлечь их внимание оглушительным криком и покончить со всем наконец. Попросить их опустить занавес над этой хитроумной мистерией жестокости, куда ее вовлекли на правах дурочки, несведущей и бессильной повлиять на ход событий персонажа.
Ведь это она была в центре их внимания. Всему произошедшему была причиной она одна. Очнувшись в заброшенном здании, Кэтрин ступила на последнюю ступень отчуждения. Казалось бы, укладывая проблему в привычные слова, можно было бы отыскать правильный способ ее решить, но вместо этого зловещее таинство Дома подталкивало ее к той точке, где смерть казалась чем-то вроде благодати. Она ведь думала, что уже бывала здесь раньше — ив школе, в детстве, и в Лондоне, и когда Майк бросил ее, и даже очутившись в этих стенах по приглашению. Но все эти думы никак не могли подготовить ее к событиям сегодняшнего утра.
Продолжая созерцать гротескную сцену в полуразрушенном зале, Кэтрин была начеку — напряжение распространяло волны болезненной дрожи по всему ее телу. Оторвав взгляд от высокой фигуры в капюшоне, кряхтящей и водящей руками перед скрытым лицом, Кэтрин с ужасом обнаружила, что Леонард обратил лицо в маске в ее сторону. Затаившись на кухне, она поняла — стоит ей услышать направляющиеся к ней шаги, как ее сердце тут же попросту перестанет биться.
Но первыми звуками, услышанными ею после сего неутешительного осознания, были лишь скрип дверей и звяканье цепочки — уже за пределами здания.
Выглянув из укрытия, Кэтрин увидела худую фигуру в капюшоне, обряженную в форму домоправительницы. Женщина одиноко стояла в круге светящего сверху запыленного солнца. Пошаркав ногами, она издала протяжный, жуткий скулеж, будто от острой боли, и слепо обернулась куда-то за спину.
Леонарда и Мод больше не было в главном коридоре. Они ушли, покинули особняк. Двери Красного Дома были вновь закрыты. Почему? Почему они оставили пленницу в капюшоне в зале, как будто специально для того, чтобы ее нашли?
Покинув кухню, Кэтрин нерешительно поравнялась с фигурой. То была высокая худая женщина, напоминавшая кого-то, только что угодившего в аварию — вся ее поза и те звуки, что доносились из-под капюшона, выдавали шок и потерянность.
Оглядев коридор, Кэтрин поднялась на этаж выше. Никого. Мод и Леонард взаправду ушли, нe тронув ее, они лишь привели сюда эту беспомощную незнакомку в старинной форме домработницы.
На голове высокой женщины был мешок, а не капюшон. Грязный старый мешок, чьи края доставали до ее ключиц.
Кэтрин кашлянула:
— Не бойтесь меня.
Женщина издала какой-то обескураженный полувсхлип. Взметнув руки, она помахала ими, будто пытаясь отогнать Кэтрин — или же, наоборот, дотянуться до нее.
— Не двигайся! Пол здесь вот-вот провалится. Они уже ушли? Tы слышишь меня?
Женщина, пошатываясь, пошла на голос Кэтрин. Повернулась вокруг оси — и чуть не упала. Кэтрин, подойдя к ней, придержала ее за локоть. Свободной рукой стащила мешок с головы пленницы.
Даже в этом доисторическом платье с передником, даже производя звуки, мало похожие на нормальную человеческую речь, даже подвергшаяся каким-то совершенно изощренным пыткам, Тара Вудвард все еще была Тарой Вудвард. Стеклянные глаза не помещались в алые воспаленные глазницы, в широко раскрытом рту отсутствовал язык — но даже эти уродства не смогли сделать жуткое существо неузнаваемым.
Снова потеряв равновесие, Тара вырвалась из хватки Кэтрин и сползла по грязной стене к разбитым плинтусам. Обескровленные руки она прижала к щекам. Из горла у нее не шло ничего, кроме хрипов, — она будто делала последние вдохи. Пожалуй, смерть для нее сейчас была бы не самым плохим исходом.
— Господи, — услышала Кэтрин собственный голос. — Что они с тобой сделали?
Мысль о том, что надругательство над Тарой было произведено от ее имени, заставила кровь застынуть в жилах. Тара, превращенная в беспомощную инвалидку, — подарок Кэтрин. Она вспомнила слова Эдит и затряслась. Именно они здесь вершат правосудие, дорогая моя, и их справедливость может быть ужасна…
Но Тара же была убита вместе с Майком. Их обескровили. Она видела шрамы на их спинах. Их уложили в ту же ванну, где лысая Эдит некогда восседала, содрогаясь подобно мокрому жеребенку, извлеченному из какой-то омерзительной утробы. Но если Тара была все еще жива, что стало с Майком? Где он и что с ним сделали?
Оставьте одного котенка, избавьтесь от остальных.
Кэтрин подумала о забитых падалью ульях, где пировали тучные мухи, и захныкала.
Бросив Тару, она по разломанным половицам добежала до лестницы. Не дыша, прыгая через ступени и проклиная тесную груботканную юбку, взлетела на второй этаж и пронеслась по коридору — к комнате, где проснулась не так давно. К спальне Эдит. Усыпальнице кукол.
Войдя внутрь, она не нашла сил двигаться дальше, замерев на середине.
— Кто ты? Кто ты? — закричала она на фигуру, привалившуюся к стене, застывшую на ржаной раме кровати посреди плесени и упадка. — Кто ты, мать твою, такая? — она рухнула на колени. — Пожалуйста. Скажи мне. Молю тебя, прошу тебя, скажи!
У женщины на кровати было ее лицо. Тот же самый бледный лик, что Кэтрин видела в осколках зеркала.
— Ты — не настоящая я. Ты не я. Ты не настоящая! Ты просто сраная подделка!
Подойдя поближе к кровати, она увидела, что рот сидящей женщины был открыт. Весь подбородок был залит пурпурной кровью. Передние зубы были сломаны — как будто что-то вылезло изнутри нее, оттянув сопротивляющуюся челюсть вниз.
Со стороны тело казалось совершенно лишенным жизни. Руки покоились на ржавом железном каркасе запястьями вверх, одно из которых рассекал надвое карминный на мраморе плоти вертикальный разрез, оставленный скальпелем.
Внезапно некая мощная сила столкнула Кэтрин с места у подножия кровати, где она стояла, и потащила головой вперед к страшной фигуре, почти заставляя лишиться чувств. Она не смогла бы воспротивиться, если бы не какое-то новое, нежеланное чутье, твердившее, что стоит ей лечь на кровать — и она вступит в некий неестественный союз с безжизненным телом, единственно для того, чтобы снова отделиться от него.
Перед глазами замелькали образы — пасечник в защитной маске в заросшем саду, некто за прилавком заброшенного деревенского магазина, гости деревенского смотра…
Кэтрин отшатнулась от кровати и обессиленно рухнула на пол. Она вспомнила топот маленьких ножек, пронесшихся через весь дом к двери ее комнаты, мельтешение вокруг лица… И вот она здесь, в пришедшем в упадок особняке. В единственно реальной его версии.
Так где же она была все то время, когда Красный Дом выглядел совсем другим?
Неужели он существовал где-то еще? В ином месте… или даже местах?
И если на кровати — ее настоящее тело…
Жизнь наполняет собою определенные вещи, моя дорогая, в определенных местах, зазвучал у нее в голове голос Эдит. Эти вещи всегда можно починить. И было пришествие — новое, священное рождение для них и для тех, кто уверовал в них… Старуха говорила что-то, что тех, кто хранит их, они переделывают по образу и подобию своему… Ведь так всегда поступают истинные ангелы, кто делятся священным знанием.
Великий Боже, какую же нечисть вы привели в этот дом?
Ну нет. Тело на кровати не принадлежало ей. Она все еще спит. Это — транс. Транс стал естественным состоянием ее сознания.
В чувство Кэтрин привел звук заводимого двигателя где-то на подъездной дорожке. Она подползла к окну и прислонилась к стене. Вдарила ладонями по доскам. Она была реальной. Не призраком, не бестелесной сущностью. Тело нa кровати — подстава. Звук, с которым ее руки соприкасались с деревом, был отчетливо слышен. Они сделали похожую на нее куклу и бросили сюда. Потому что она до сих пор могла думать, чувствовать, двигаться. И Эдит могла двигаться и разговаривать. И Кэтрин все еще могла двигаться так быстро… Она почти что скользила вверх и вниз по лестнице… Над сломанными половицами и ржавыми гвоздями… Не царапаясь о них, не ощущая холода…
— Хватит! Хватит! Стоп! — Кэтрин вцепилась в волосы.
Снаружи, между забором и кирпичными стенами Красного Дома, стояла, не обращая внимания па ее крики, Мод. Кэтрин видела ее профиль с высоко вздернутым подбородком — никаких эмоций, кроме привычного горького неодобрения на многострадальном лице. Она воздела руки, будто настала ее очередь примерять новое платье.
Одетый в одну лишь маску Леонард стоял перед Мод. В одной худой, тонкопалой руке он сжимал раскрытую опасную бритву. Персты другой сжались на горле экономки.
Лезвие блеснуло в гнусном свете заката этого ужасного дня. Кожаная маска обращена была к той самой прорехе в досках, откуда Кэтрин наблюдала за ними, и глаза в прорезях совершенно точно таращились на ее окно. Потому что этот монстр хотел, чтобы она все видела. Он ждал того момента, когда она сможет засвидетельствовать грядущий акт.
Испещренные шрамами мускулы вздулись. Одним быстрым рывком Леонард вспорол живот Мод и одним ударом загнал руку по локоть внутрь. Там, внутри обмякшего тела экономки, он словно бы пытался нащупать что-то.
Торчащее из разреза лезвие он тянул и тянул вверх, под аккомпанемент расходящейся плоти и рвущейся ткани, пока рукоятка бритвы не застыла в ложбине между тяжелых грудей Мод. Хорошенько встряхнув тело, Леонард принялся буквально опустошать его в заросли сорной травы.
Даже сдавленный кашель Кэтрин, прорывавшийся сквозь прижатые ко рту пальцы, не мог заглушить те тяжелые шлепки, с которыми внутренности Мод падали наземь.
Приземистая фигура экономки сдулась и стала свисать с руки палача подобно мешку с мусором, прорвавшемуся сбоку. Безжалостные пальцы Леонарда рвали и тащили из нее то тряпки, то натянутую леску, то опилки, то твердые коричневые комки чего-то непонятного. Голова Мод плюхнулась ему на плечо и стала подпрыгивать, как неплотно надутый мяч.
Последним ударом Леонард сорвал с головы домоправительницы белый парик, обнажив голый скальп, весь изборожденный стежками, как мокасин. Голова Мод больше не выпрямлялась, будто из поддерживающей ее шеи вырвали позвонки. Бесформенное нечто — груду одежды и безвольно болтающиеся конечности — Леонард грубо запихнул в серый почтовый мешок, дожидавшийся своего часа на мокрой траве.
На глазах у Кэтрин он выволок мешок за ворота и швырнул в фургон.
Кэтрин не дрожала, не издала ни звука — столь всеобъемлющ был ее страх. Ее саму как будто бы опустошили, вывернули наизнанку, не («ставив ни единого чувства. Наконец-то мозаика, являвшая истину, складывалась. Ей припомнились безумные слова, срывавшиеся с уст Эдит Мэйсон о ее матери. Настоящей матери. Той, что страдала. Что познала наказание за отказ от нее, от Кэтрин. Но всяким страданиям нужно когда-нибудь закончиться…
О тех, кто перешел тебе дорогу, да позаботятся те, кто истинно любят тебя. Так произошло с твоей матерью — распутной девкой, не нашедшей в себе мужества воспитать тебя…
Мод.
НИКАДА БОЛШЕ НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ СЮДА
Слезы, стоявшие в глазах домоправительницы, когда та укладывала Кэтрин в кровать — Кэтрин, внезапно почувствовавшую себя плохо. Всхлипы — когда она стояла в затененной мастерской, рядом с возлежащей в ванной для этанола Эдит…
Мод всегда знала, что здесь происходит. Знала, но не в силах была остановить. Потому что в этой пьесе ей выпала роль ведомой, марионетки, лишенной собственной воли. Уже не живой, но еще не до конца мертвой. Но жизнь и смерть здесь были такими относительными…
Мод.
Мама.
Захлопнув двери фургона, пожилой мужчина, обладавший нечеловеческой мощью, живой милостью таких сил, о которых оставалось лишь гадать, застыл в одиночестве на подъездной дорожке, обратив скрытое кожаной маской лицо к Красному Дому — будто бы восхищаясь им. Его тонкие, изрезанные руки взметнулись вверх в немом салюте — или, быть может, в приказе, который Кэтрин не слышала… И даже услышав — не поняла бы его. И лишь на несколько секунд ей показалось — но она не стала бы клясться в этом, — что воздух над главой мужчины в черном парике задрожал, подобно знойному мареву над летним лугом.
Глава 46
Зеленый фургон давно уж умчался прочь, и Кэтрин наконец-то поднялась с пола, с того места, где ноги подвели ее. Пройдя мимо собственного тела, покоящегося на кровати, она вышла в коридор и спустилась вниз по главной лестнице Красного Дома.
В коридоре Тара все еще торчала у стены, нервно подергивая грязной босой ногой. Под платьем все тело экономки ходило ходуном. Кэтрин знала — стоит развернуть свою старую противницу лицом к стене и сорвать эту тряпку, как откроется длинный уродливый шрам через всю спину.
Руки новой домработницы взмыли в воздух. Никакого смысла в этом жесте не было. Что ж, по крайней мере, Тара смолкла — не смирившись со своей участью, но, быть может, войдя в некую стадию, что предшествовала смирению.
Когда Кэтрин прошла мимо Тары, бывшую продюсершу тряхнуло, как от удара током.
Кэтрин уже не интересовалась тем, что будет дальше. Что-то подсказывало, что самое худшее: шок, неверие, испуг, отрицание — уже позади. Снова ей стало интересно — то был очень отстраненный, лишенный эмоциональной основы интерес, — что произойдет, если она ляжет на кровать поверх своего старого «я». Она осознавала, что покамест так поступать не следует, и что ей будет трудно снова встать с кровати… Но когда она все-таки соберется с силами, ей привезут инвалидное кресло. И к ней всегда будет приставлен некто, кому велено катать ее в нем по дому.
Экспонатам наверху требуется уход. Взглянув на Тару, подумав о Мод, Эдит, старике-пасечнике Мэйсоне и Виолетте, обо всех жителях Магбар-Вуд разом, Кэтрин осознала эту простую истину в полной мере. Горечь обретенного знания напоминала о том, что увиденное на чердаке, равно как и возлежащее на кровати в спальне тело, было оставлено ей в качестве объяснения того, что нельзя было объяснить никакими существующими словами.
И Кэтрин не следовало задерживаться надолго. Не в здешнем доме, разумеется, а в том, другом, месте. В других местах и других, уже виденных ею, формах. Теперь она перестала кричать, рыдать и колотить по влажным доскам, и это знание снизошло на нее с той же легкостью, с коей ожил вдруг груз ее долгой-долгой памяти. Старый дом взывал к ней, и ей предстояло выслушать всю историю от начала до конца. Когда осознание прорвалось к ней сквозь шок, страх, предубеждения, сожаление и ту одурь, в которую ее вогнали события последнего времени, она решительно спустилась по лестнице.
Наверное, Таре суждено было навсегда остаться в этом огромном имении и играть отведенную ей роль. О да, Тара останется здесь и будет служить своей новой хозяйке, пока не пробьет час и человек в маске не опорожнит ее милостиво в растущую снаружи траву и не сложит в мешок. Возможно, эта новая домоправительница сможет когда-нибудь облегчить страдания самой Кэтрин. Да, так все и будет. Пусть она не знает сейчас наверняка — вскоре ей обо всем расскажут наиподробнейшим образом.
Звук открывающейся задней двери, внезапное тепло и яркость пролившегося света заставили Кэтрин и ее немую спутницу повернуться к дверям черного хода. Одна женщина повернулась на звук, другая — на свободно проходящий сквозь нее свет, легший на красные половицы, отполированные временем.
Снаружи, из прекрасного маленького сада, послышались голоса. Высокие, радостные, игривые детские голоса, подобные беззаботному щебету птичек.
Дом-мертвец начал исчезать в стремительном потоке преобразующего все и вся света, и каждый его кирпичик обновился в ином, ярком, мире — мире, что был гораздо старше того, который Кэтрин собиралась покинуть навсегда.
Новое солнце нового мира засияло в проходе, и навстречу дому двинулись новые гости — их маленькие тени легли на все более реальные стены внутри особняка. Благословенный свет омыл коридор до самого конца — свет, что Кэтрин помнила еще с детства, свет комфорта и принятия, любящий, не сулящий никаких бед. Тот сокровенный свет, что исчезал из ее жизни всякий раз, когда она выходила из транса.
Гости, похоже, хотели пройти вперед Алисы и трех ее маленьких подружек, медленно и неуклюже вышагивающих ей навстречу — им не терпелось поприветствовать новую, ими же избранную хозяйку и прислугу, которую они ей предоставили.
В полном составе древняя труппа оставила волшебный сад, чтобы побыть с ней. Чтобы остаться с ней — пусть лишь на некоторое время.
И Кэтрин, опустившись на колени, раскрыла им свои объятия.
Благодарности
Описаниями отделки и меблировки Красного Дома я всецело обязан монументальному труду «Викторианские особняки от А до Я» за авторством Тревора Йорка, а так же «Энциклопедии викторианского стиля» Линды Осбенд (под редакцией Пола Оттербери). Факты биографии М. Г. Мэйсона я почерпнул из книг «Застывший образ: история таксидермии» Мелиссы Милгрэм, «Уолтер Поттер и его музей чучельных диковин» П.А. Морриса, «Аннотированная библиография для подготовки таксидермиста-птичника» Роджерса, Шмидта и Потбира, «Пошаговая таксидермия» У. Ф. Макфолла, «Капеллан в Галлиполи: дневники Кеннета Беста о Великой Войне» под редакцией Гэвина Ройнона.
Экстравагантные образы обитателей стали еще краше благодаря следующим книгам: «Иллюстрированная история кукольного театра» Понтера Бемера, «Английская кукольная традиция» Джорджа Спайта, «Энциклопедия марионеточного искусства» Джорджа Летшоу, «Справочник по английским костюмам двадцатого столетия» Алана Мэнсфилда и Филлис Каннингтон, «Книга кукол» Кэролайн Гудфеллоу, «Райские сокровища: святые и блаженные в средневековой Европе» (редакторы Баньоли, Кляйн, Манн, Робинсон). И, перво-наперво, не будь я столь преданным фанатом творчества Томаса Лиготти, я, возможно, никогда бы не написал эту книгу. Из рассказа Реджи Оливера «Дети Монте-Розы» я узнал о самом факте существования огромных диорам с чучелами животных — и также он вдохновил меня на то, чтобы обратиться к этим причудливым штуковинам в своем литературном творчестве.
Рискуя показаться тем еще впечатлительным малым, я признаю влияние на этот роман старых кукольных телешоу вроде «Пипкинов» (гвоздем программы, разумеется, лично для меня всегда был Заяц-Добряец) и «Приключений медвежонка Руперта». Более того, скажу, что первая треть «Трилогии Ужаса» (1975) и эпизод с четвертым Доктором Кто «Когти Венг-Чанга» — пожалуй, два самых страшных зрелища первой половины моей жизни. Когда-то давным-давно именно «кукольная» составляющая этих фильмов привлекала и вместе с тем пугала меня. И вот подвернулся случай оживить впечатления, смахнуть пыль с сундуков памяти. Уверен, не будь «Дома малых теней», я все равно рано или поздно обратился бы к этой теме.
Охапка благодарностей моим читателям — Хью Симмонсу, Клайву Невиллу, Энн Перри, покойному Джеймсу Мариотту, моим редакторам Белле Пэгэн, Джулии Крисп, Луизе Бакли и Софии Портес, а также, само собой, моему литературному агенту Джону Джерролду.
Было бы чрезвычайно грубо не поблагодарить писателей и критиков, а также статьи и вебсайты, что поддерживали меня и мои книги самыми теплыми словами, о которых практикующий литератор только может помыслить. Так что салютую своими костлявыми ручонками Гэри Макмэхону, Элинор Виксен, Саймону Бествику, Рэмси Кэмпбеллу, Марку Моррису, Тиму Леббону, Стивену Волку, Джонни Мэйнсу, Саре Пинборо, Реджи Оливеру, Джозефу Д`Лэйси, Мэтту Райли, Биллу Хасси, Стивену Дизу, Питеру Марку Мэю, Шону Гамильтону, Майклу Уилсону, Саймону Маршаллу Джонсу, проектам «Ginger Nuts of Horror» и «Black Abyss», Джонатану Оливеру, профессору Дэниелу Олсону, «Rue Morgue», «SFX», «Wormwood», «Black Static», Эрику Брауну из «Guardian», «Forbidden Planet London and Birmingham», «Альтернативе» и Британской Ассоциации Фэнтези. А еще спасибо «Фэйсбуку» за создание среды для взаимодействия писателей и читателей, а также фанатов хоррора по всему миру. Никогда еще самые дальние уголки нашей планеты не были столь доступны — ведь теперь, чтобы связаться с ними, даже из дома выходить не нужно.
Ну и наконец, мои дорогие читатели, благодарю вас за уделенное мне время и за поддержку.
Примечания
1
Английский писатель. Уроженец Йоркшира, окончил художественное училище, работал книжным дизайнером и иллюстратором. Автор около сорока детективных, исторических и мистических произведений, из которых наиболее известна повесть «Манящая свой красотой» (1911), считающаяся едва ли не самой лучшей англоязычной «историей о привидениях».
(обратно)2
Вид кирпичной кладки, при котором на лицевой поверхности каждые два тычковых ряда разделяются двумя или более ложковыми.
(обратно)3
Имеется в виду красный твердый кирпич из аккрингтонской глины, содержащий окись железа.
(обратно)4
«Законами об огораживании» называют издававшиеся в Англии в конце XV–XVI вв. законы, направленные против бедняков и малоимущих крестьян. Согласно им, земли последних могли быть отчуждены в пользу богатого землевладельца, а самих крестьян определяли в «рабочие дома», где те становились фактически рабами, работающими за паек.
(обратно)5
Имеется в виду озерный заповедник в Северно-Западной Англии, основанный в 1951 году.
(обратно)6
Музей Детства Бетнал-Грин, филиал Музея Виктории и Альберта в Лондоне.
(обратно)7
«Простор» — ежегодный музыкальный фестиваль, проходящий в английском Гингем-Парке.
(обратно)8
Зеленые рукава — английская фольклорная песня, первые упоминания о которой в английской истории датируются XVI веком. На русском известна в несколько вольном переводе С.Маршака. Впрочем, у него все переводы такие
(обратно)9
Имеются в виду соответственно второй и пятый императоры Римского принципата из династии Юлиев-Клавдиев.
(обратно)10
Популярный исторический журнал, издающийся в Англии с 2006 года.
(обратно)11
Каролинской называют эпоху в английской и шотландской истории в период Стюарта (1603–1714), которая совпала по временным рамкам с царствованием Карла I (1625–1642) от лат. Carolus (Карл).
(обратно)12
Стиль истлейк — название, данное реформаторскому движению в архитиектурном и бытовом дизайне в Америке девятнадцатого века, начатому архитектором и писателем Чарльзом Истлейком (1836–1906). Стиль, как правило, относят к поздневикторианскому периоду с точки зрения общих обозначений антикварной мебели.
(обратно)13
S.R.I.A. - аббревиатура Societas Rosicruciana in Anglia, Английского общества розенкрейцеров, масонского эзотерического ордена христианской направленности, основанного в 1865–1866 гг. Сэмюел Мэзерс (1854–1918) — реальная историческая личность, британский оккультист, один из основателей Общества Золотой Зари.
(обратно)14
Ж. А. Ватто (1684–1721) — французский живописец первой трети XVIII века, чье творчество послужило предтечей общеевропейского стиля рококо.
(обратно)15
Имеются в виду две узкие длинные фалды сзади фрака — декоративный элемент дизайна.
(обратно)16
Такой способ звукозаписи был предложен для фонографа Эдисона Чарльзом Тейнтером в 1876 году. По сути, восковые валики — старейшие аудионосители в истории человечества.
(обратно)17
«Остин-принцесса» — крупногабаритная машина класса люкс, популярная в 1947–1968 годах.
(обратно)



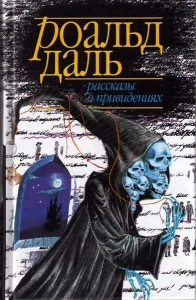
Комментарии к книге «Дом малых теней», Адам Нэвилл
Всего 0 комментариев