Говард ЛАВКРАФТ Избранные произведения в одном томе
ХРЕБТЫ БЕЗУМИЯ
Глава 1
Против своей воли начинаю я этот рассказ, меня вынуждает явное нежелание ученого мира прислушаться к моим советам, они жаждут доказательств. Не хотелось бы раскрывать причины, заставляющие меня сопротивляться грядущему покорению Антарктики — попыткам растопить вечные льды и повсеместному бурению в поисках полезных ископаемых. Впрочем, советы мои и на этот раз могут оказаться ненужными.
Понимаю, что рассказ мой поселит в души многих сомнения в его правдивости, но скрой я самые экстравагантные и невероятные события, что останется от него? В мою пользу, однако, свидетельствуют неизвестные дотоле фотографии, в том числе и сделанные с воздуха, — очень четкие и красноречивые. Хотя, конечно, и здесь найдутся сомневающиеся — ведь некоторые ловкачи научились великолепно подделывать фото. Что касается зарисовок, то их-то уж наверняка сочтут мистификацией, хотя, думаю, искусствоведы основательно поломают голову над техникой загадочных рисунков.
Мне приходится надеяться лишь на понимание и поддержку тех немногих гениев науки, которые, с одной стороны, обладают большой независимостью мысли и способны оценить ужасающую убедительность предъявленных доказательств, сопоставив их с некоторыми таинственными первобытными мифами; а с другой — имеют достаточный вес в научном мире, чтобы приостановить разработку всевозможных грандиозных программ освоения «хребтов безумия». Жаль, что ни я, ни мои коллеги, скромные труженики науки из провинциальных университетов, не можем считаться достаточными авторитетами в столь сложных и абсолютно фантастических областях бытия.
В строгом смысле слова мы и специалистами-то в них не являемся. Меня, например, Мискатоникский университет направил в Антарктику как геолога: с помощью замечательной буровой установки, сконструированной профессором нашего же университета Фрэнком Х. Пибоди, мы должны были добыть с большой глубины образцы почвы и пород. Не стремясь прослыть пионером в других областях науки, я тем не менее надеялся, что это новое механическое устройство поможет мне многое разведать и увидеть в ином свете.
Как читатель, несомненно, знает из наших сообщений, установка Пибоди принципиально нова и пока не имеет себе равных. Ее незначительный вес, портативность и сочетание принципа артезианского действия бура с принципом вращающегося перфоратора дают возможность работать с породами разной твердости. Стальная бурильная коронка, складной хвостовик бура, бензиновый двигатель, разборная деревянная буровая вышка, принадлежности для взрывных работ, тросы, специальное устройство для удаления разрушенной породы, несколько секций бурильных труб — шириной по пять дюймов, а длиной, в собранном виде, до тысячи футов, — все это необходимое для работы снаряжение могло разместиться всего на трех санях, в каждые из которых впрягалось по семь собак. Ведь большинство металлических частей изготовлялись из легких алюминиевых сплавов. Четыре огромных самолета, сконструированных фирмой Дорнье для полетов на большой высоте в арктических условиях и снабженных специальными устройствами для подогрева горючего, а также для скорейшего запуска двигателя (последнее — также изобретение Пибоди), могли доставить нашу экспедицию в полном составе из базы на краю ледникового барьера в любую нужную нам точку. А там можно передвигаться уже и на собаках.
Мы планировали исследовать за один антарктический сезон — немного задержавшись, если потребуется, — как можно больший район, сосредоточившись в основном у горных хребтов и на плато к югу от моря Росса. До нас в этих местах побывали Шеклтон, Амундсен, Скотт и Бэрд. Имея возможность часто менять стоянку и перелетать на большие расстояния, мы надеялись получить самый разнородный геологический материал. Особенно интересовал нас докембрийский период — образцы антарктических пород этого времени малоизвестны научному миру. Хотелось также привезти с собой и куски отложений из верхних пластов, содержащих органические остатки, — ведь знание ранней истории этого сурового, пустынного царства холода и смерти необычайно важно для науки о прошлом Земли. Известно, что в давние времена климат на антарктическом материке был теплым и даже тропическим, а растительный и животный мир — богатым и разнообразным; теперь же из всего этого изобилия сохранились лишь лишайники, морская фауна, паукообразные и пингвины. Мы очень надеялись пополнить и уточнить информацию о былых формах жизни. В тех случаях, когда бурение покажет, что здесь находятся остатки фауны и флоры, мы взрывом увеличим отверстие и добудем образцы нужного размера и кондиции.
Из-за того, что внизу, на равнине, толща ледяного покрова равнялась миле, а то и двум, нам приходилось бурить скважины разной глубины на горных склонах. Мы не могли позволить себе терять время и бурить лед даже значительно меньшей толщины, хотя Пибоди и придумал, как растапливать его с помощью вмонтированных в перфоратор медных электродов, работающих от динамо-машины. После нескольких экспериментов мы отказались от такой затеи, а теперь именно этот отвергнутый нами метод собирается использовать, несмотря на все наши предостережения, будущая экспедиция Старкуэтера-Мура.
Об экспедиции Мискатоникского университета широкая общественность знала из наших телеграфных отчетов, публиковавшихся в «Аркхемской газете» и материалах «Ассошиэйтед Пресс», а позднее — из статей Пибоди и моих. Среди ее членов были четыре представителя университета: Пибоди, биолог Лейк, физик Этвуд, он же метеоролог, и я, геолог и номинальный глава группы, а также шестнадцать помощников: семеро студентов последнего курса и девять опытных механиков. Двенадцать из шестнадцати могли управлять самолетом, и все, кроме двоих, были умелыми радистами. Восемь разбирались в навигации, умели пользоваться компасом и секстантом, в том числе Пибоди, Этвуд и я. Кроме того, на двух наших кораблях — допотопных деревянных китобойцах, предназначенных для работы в арктических широтах и имеющих дополнительные паровые двигатели, — были полностью укомплектованные команды.
Финансировали нашу экспедицию Фонд Натаниэля Дерби Пикмена, а также еще несколько спонсоров; сборы проходили очень тщательно, хотя особой рекламы не было. Собаки, сани, палатка с необходимым снаряжением, сборные части самолетов — все перевозилось в Бостон и там грузилось на пароходы. Великолепной оснащенностью экспедиции мы во многом обязаны бесценному опыту наших недавних блестящих предшественников: мы придерживались их рекомендаций во всем, что касалось продовольствия, транспорта, разбивки лагеря и режима работы. Многочисленность таких предшественников и их заслуженная слава стали причиной того, что наша экспедиция, несмотря на ее значительные успехи, не привлекла особого внимания общественности.
Как упоминалось в газетах, мы отплыли из Бостона 2 сентября 1930 года и шли вначале вдоль североамериканского побережья. Пройдя Панамский канал, взяли курс на острова Самоа, сделав остановку там, а затем в Хобарте, административном центре Тасмании, где в последний раз пополнили запасы продовольствия. Никто из нас прежде не был в полярных широтах, и потому мы целиком полагались на опыт наших капитанов, старых морских волков, не один год ловивших китов в южных морях, — Дж. Б. Дугласа, командовавшего бригом «Аркхем» и осуществлявшего также общее руководство кораблями, и Георга Торфинсена, возглавлявшего экипаж барка «Мискатоник».
По мере удаления от цивилизованного мира солнце все позже заходило за горизонт — день увеличивался. Около 62° южной широты мы заметили первые айсберги — плоские, похожие на огромные столы глыбы с вертикальными стенками, и еще до пересечения Южного полярного круга, кое событие было отпраздновано нами 20 октября с традиционной эксцентричностью, стали постоянно натыкаться на ледяные заторы. После долгого пребывания в тропиках резкий спад температуры особенно мучил меня, но я постарался взять себя в руки в ожидании более суровых испытаний. Меня часто приводили в восторг удивительные атмосферные явления, в том числе впервые увиденный мною поразительно четкий мираж: отдаленные айсберги вдруг ясно представились зубчатыми стенами грандиозных и фантастичных замков.
Пробившись сквозь льды, которые, к счастью, имели в себе открытые разломы, мы вновь вышли в свободные воды в районе 67° южной широты и 175° восточной долготы. Утром двадцать шестого октября на юге появилась ослепительно блиставшая белая полоска, а к полудню всех нас охватил восторг: перед нашими взорами простиралась огромная заснеженная горная цепь, казалось, не имевшая конца. Словно часовой на посту, высилась она на краю великого и неведомого материка, охраняя таинственный мир застывшей Смерти. Несомненно, то были открытые Россом Горы Адмиралтейства, и, следовательно, нам предстояло, обогнув мыс Адэр, плыть вдоль восточного берега земли Виктории до места будущей базы на побережье залива Мак-Мердо, у подножья вулкана Эребус на 77° 9’ южной широты. Заключительный этап нашего пути был особенно впечатляющим и будоражил воображение. Величественные, полные тайны хребты скрывали от нас материк, а слабые лучи солнца, невысоко поднимавшегося над горизонтом даже в полдень, не говоря уж о полуночи, бросали розовый отблеск на белый снег, голубоватый лед, разводья между льдинами и на темные, торчащие из-под снега гранитные выступы скал. Вдали, среди одиноких вершин, буйствовал свирепый антарктический ветер; лишь ненадолго усмирял он свои бешеные порывы; завывания его вызывали смутное представление о диковатых звуках свирели; они разносились далеко и в силу неких подсознательных мнемонических причин беспокоили и даже вселяли ужас. Все вокруг напоминало странные и тревожные азиатские пейзажи Николая Рериха, а также еще более невероятные и нарушающие душевный покой описания зловещего плоскогорья Ленг, которые дает безумный араб Абдула Альхазред в мрачном «Некрономиконе». Впоследствии я не раз пожалел, что, будучи студентом колледжа, заглядывал в эту чудовищную книгу.
7 ноября горная цепь на западе временно исчезла из поля нашего зрения; мы миновали остров Франклина, а на следующий день вдали, на фоне длинной цепи гор Перри, замаячили конусы вулканов Эребус и Террор на острове Росса[1]. На востоке же белесой полосой протянулся огромный ледяной барьер толщиной не менее двухсот футов. Резко обрываясь, подобно отвесным скалам у берегов Квебека, он ясно говорил, что кораблям идти дальше нельзя. В полдень мы вошли в залив Мак-Мердо и встали на якорь у курящегося вулкана Эребус. Четкие очертания этого гиганта высотой 12700 футов напомнили мне японскую гравюру священной Фудзиямы; сразу же за ним призрачно белел потухший вулкан Террор, высота которого равнялась 10900 футам.
Эребус равномерно выпускал из своего чрева дым, и один из наших ассистентов, одаренный студент по фамилии Денфорт, обратил наше внимание, что на заснеженном склоне темнеет нечто, напоминающее лаву. Он также прибавил, что, по-видимому, именно эта гора, открытая в 1840 году, послужила источником вдохновения для По, который спустя семь лет написал:
Было сердце мое горячее, Чем серы поток огневой, Чем лавы поток огневой, Бегущий с горы Эореи Под ветра полярного вой, Свергающийся с Эореи, Под бури арктической вой.[2]Денфорт, большой любитель такого рода странной, эксцентрической литературы, мог говорить о По часами. Меня самого интересовал этот писатель, сделавший Антарктиду местом действия своего самого длинного произведения — волнующей и загадочной «Повести о приключениях Артура Гордона Пима».
А на голом побережье и на ледяном барьере вдали с шумным гоготанием бродили, переваливаясь и хлопая ластами, толпы нелепейших созданий — пингвинов. В воде плавало множество жирных чаек, поверхность медленно дрейфующих льдин была также усеяна ими.
Девятого числа, сразу после полуночи, мы с превеликим трудом добрались на крошечных лодчонках до острова Росса, таща за собой канаты, соединяющие нас с обоими кораблями; снаряжение и продовольствие доставили позже на плотах. Ступив на антарктическую землю, мы пережили чувства острые и сложные, несмотря на то что до нас здесь уже побывали Скотт и Шеклтон. Палаточный лагерь, разбитый нами прямо у подножия вулкана, был всего лишь временным пристанищем, центр же управления экспедицией оставался на «Аркхеме». Мы перевезли на берег все бурильные установки, а также собак, сани, палатки, продовольствие, канистры с бензином, экспериментальную установку по растапливанию льда, фотоаппараты, аэрокамеры, разобранные самолеты и прочее снаряжение, в том числе три миниатюрных радиоприемника — помимо тех, что помещались в самолетах. В какой бы части ледяного континента мы ни оказались, они помогли бы нам не терять связь с «Аркхемом». А с помощью мощного радиопередатчика на «Аркхеме» осуществлялась связь с внешним миром; сообщения о ходе работ регулярно посылались в «Аркхемскую газету», имевшую свою радиостанцию в Кингспорт-Хеде (штат Массачусетс). Мы надеялись завершить дела к исходу антарктического лета, а в случае неудачи перезимовать на «Аркхеме», послав «Мискатоник» домой заблаговременно — до того, как станет лед, — за свежим запасом продовольствия.
Не хочется повторять то, о чем писали все газеты, и рассказывать еще раз о штурме Эребуса; об удачных пробах, взятых в разных частях острова; о неизменной, благодаря изобретению Пибоди, скорости бурения, которая не снижалась даже при работе с очень твердыми породами; об удачных испытаниях устройства по растапливанию льда; об опаснейшем подъеме на ледяной барьер с санями и снаряжением и о сборке пяти самолетов в лагере на ледяной круче. Все члены нашей экспедиции — двадцать мужчин и пятьдесят пять ездовых собак — чувствовали себя превосходно, правда, до сих пор мы еще не испытывали лютого холода или ураганного ветра. Ртуть в термометре держалась на отметках 4–7° ниже нуля — морозы, к которым мы привыкли у себя в Новой Англии, где зимы бывают довольно суровыми. Лагерь на ледяном барьере был также промежуточным, там предполагалось хранить бензин, провизию, динамит и еще некоторые необходимые вещи.
Экспедиция могла рассчитывать только на четыре самолета, пятый оставался на базе под присмотром летчика и еще двух подручных и в случае пропажи остальных самолетов должен был доставить нас на «Аркхем». Позже, когда какой-нибудь самолет или даже два были свободны от перевозки аппаратуры, мы использовали их для связи: помимо этой основной базы у нас имелось еще одно временное пристанище на расстоянии шестисот-семисот миль — в южной части огромного плоскогорья, рядом с ледником Бирдмора. Несмотря на метели и жесточайшие ветры, постоянно дующие с плоскогорья, мы в целях экономии и эффективности работ отказались от промежуточных баз.
В радиосводках от 21 ноября сообщалось о нашем захватывающем беспосадочном полете в течение четырех часов над бескрайней ледяной равниной, окаймленной на западе горной грядой. Рев мотора разрывал вековое безмолвие; ветер не мешал полету, а попав в туман, мы продолжили путь по радиокомпасу.
Когда между 83 и 84° южной широты впереди замаячил некий массив, мы поняли, что достигли ледника Бирдмора, самого большого шельфового ледника в мире; ледяной покров моря сменяла здесь суша, горбатившаяся хребтами. Теперь мы окончательно вступали в сверкающее белизной мертвое безмолвие крайнего юга. Не успели мы это осознать, как вдали, на востоке, показалась гора Нансена, высота которой равняется почти 15000 футов. Удачная разбивка лагеря за ледником на 86° 7’ южной широты и 174° 23’ восточной долготы и невероятно быстрые успехи в бурильных и взрывных работах, проводившихся в нескольких местах, куда мы добирались на собаках или на самолетах, — все это успело стать достоянием истории, так же как и триумфальное восхождение Пибоди с двумя студентами, Гедни и Кэрролом, на гору Нансена, которое они совершили 13–15 декабря. Находясь на высоте 8500 футов над уровнем моря, мы путем пробного бурения обнаружили твердую почву уже на глубине двадцати футов и, прибегнув к установке Пибоди, растапливающей снег и лед, смогли добыть образцы пород там, где до нас не помыслил бы это сделать ни один исследователь. Полученные таким образом докембрийские граниты и песчаники подтвердили наше предположение, что у плато и большей, простирающейся к западу части континента одно происхождение, чего нельзя было сказать о районах, лежащих к юго-востоку от Южной Америки; они, по нашему разумению, составляли другой, меньший континент, отделенный от основного воображаемой линией, соединяющей моря Росса и Уэдделла. Впрочем, Бэрд никогда не соглашался с нашей теорией.
В некоторых образцах песчаников, которые после бурения и взрывных работ обрабатывались уже долотом, мы обнаружили крайне любопытные вкрапления органических остатков — окаменевшие папоротники, морские водоросли, трилобиты, кринойды и некоторых моллюсков — лингвелл и гастроподов, что представляло исключительный интерес для изучения первобытной истории континента. Встречались там и странного вида треугольные полосатые отпечатки, около фута в основании, которые Лейк собирал по частям из сланца, добытого на большой глубине в самой западной точке бурения, недалеко от гор Королевы Александры. Биолог Лейк посчитал полосатые вкрапления фактом необычным и наводящим на размышления; я же как геолог не нашел здесь ничего удивительного — такой эффект часто встречается в осадочных породах. Сланцы сами по себе — метаморфизированные образования, в них всегда есть спрессованные осадочные породы; под давлением они могут принимать самые невероятные формы — так что особых причин для недоумения я тут не видел.
6 января 1931 года Лейк, Пибоди, Дэниэлс, все шестеро студентов, четыре механика и я вылетели на двух самолетах в направлении Южного полюса, однако разыгравшийся не на шутку ветер, который, к счастью, не перерос в частый здесь свирепый ураган, заставил нас пойти на вынужденную посадку. Как писали газеты, это был один из наших разведывательных полетов, когда мы наносили на карту топографические особенности местности, где еще не побывал ни один исследователь Антарктиды. Предыдущие полеты оказались в этом отношении неудачными, хотя мы вдоволь налюбовались тогда призрачно-обманчивыми полярными миражами, о которых во время морского путешествия получили лишь слабое представление. Далекие горные хребты парили в воздухе как сказочные города, а белая пустыня под волшебными лучами низкого полночного солнца часто обретала золотые, серебряные и алые краски страны грез, суля смельчаку невероятные приключения. В пасмурные дни полеты становились почти невозможны: земля и небо сливались в одно таинственное целое и разглядеть линию горизонта в этой снежной хмари было очень трудно.
Наконец мы приступили к выполнению нашего первоначального плана, готовясь перелететь на пятьсот миль к западу и разбить там еще один лагерь, который, как мы ошибочно полагали, будет находиться на другом малом континенте. Было интересно сравнить геологические образцы обоих районов. Наше физическое состояние оставалось превосходным — сок лайма разнообразил наше питание, состоявшее из консервов и солонины, а умеренный холод позволял пока не кутаться. Лето было в самом разгаре, и, поспешив, мы могли закончить работу к марту и тем избежать долгой тяжкой зимовки в период антарктической ночи. На нас уже обрушилось несколько жестоких ураганов с запада, но урона мы не понесли благодаря изобретательности Этвуда, поставившего элементарные защитные устройства вокруг наших самолетов и укрепившего палатки. Нам фантастически везло.
В мире знали о нашей программе, а также об упрямой настойчивости, с которой Лейк требовал до переселения на новую базу совершить вылазку в западном, а точнее, в северо-западном направлении. Он много думал об этих странных треугольных вкраплениях, мысль о них не давала ему покоя; в результате ученый пришел к выводу, что их присутствие в сланцах противоречит природе вещей и не отвечает соответствующему геологическому периоду. Любопытство его было до крайности возбуждено, ему отчаянно хотелось возобновить буровые и взрывные работы в западном районе, где отыскались эти треугольники. Он почему-то уверовал в то, что мы встретились со следами крупного, неизвестного науке организма, основательно продвинувшегося на пути эволюции, однако почему-то выпадающего из классификации. Странно, но горная порода, сохранившая их, относилась к глубокой древности — кембрийскому, а может, и докембрийскому периоду, что исключало возможность существования не только высокоразвитой, но и прочей жизни, кроме разве одноклеточных и трилобитов. Сланцам, в которых отыскались странные следы, было от пятисот до тысячи миллионов лет.
Глава 2
Полагаю, читатели с неослабевающим вниманием следили за нашими сообщениями о продвижении группы Лейка на северо-запад, в края, куда не только не ступала нога человека, но о которых и помыслить-то раньше было невозможно. А какой бы поднялся переполох, упомяни мы о его надеждах на пересмотр целых разделов биологии и геологии! Его предварительная вылазка совместно с Пибоди и еще пятью членами экспедиции, длившаяся с 11 по 18 января, омрачилась гибелью двух собак при столкновении саней с оледеневшими каменными выступами. Однако бурение принесло Лейку дополнительные образцы архейских сланцев, и тут даже я заинтересовался явными и многочисленными свидетельствами присутствия органических остатков в этих древнейших пластах. Впрочем, то были следы крайне примитивных организмов — революции в науке подобное открытие не сделало бы, оно говорило лишь в пользу того, что низшие формы жизни существовали на Земле еще в докембрии. Поэтому я по-прежнему не видел смысла в требовании Лейка изменить наш первоначальный план, внеся в него экспедицию на северо-запад, что потребовало бы участия всех четырех самолетов, большого количества людей и всех машин. И все же я не запретил эту экспедицию, хотя сам решил не участвовать в ней, несмотря на все уговоры Лейка. После отлета группы на базе остались только мы с Пибоди и еще пять человек; я тут же засел за подробную разработку маршрута восточной экспедиции. Еще раньше пришлось приостановить полеты самолета, начавшего перевозить бензин из лагеря у пролива Мак-Мердо. На базе остались только одни сани и девять собак: совсем без транспорта находиться в этом безлюдном крае вечной Смерти было неразумно.
Как известно, Лейк на своем пути в неведомое посылал с самолета коротковолновые сообщения, они принимались как нами, в южном лагере, так и на «Аркхеме», стоявшем на якоре в заливе Мак-Мердо, откуда передавались дальше всему миру — на волне около пятидесяти метров. Экспедиция стартовала в четыре часа утра 22 января, а первое послание мы получили уже два часа спустя. В нем Лейк извещал нас, что они приземлились в трехстах милях от базы и тотчас приступают к бурению. Через шесть часов поступило второе, очень взволнованное сообщение: после напряженной работы им удалось пробурить узкую скважину и подорвать породу; наградой стали куски сланцев — на них обнаружились те же отпечатки, из-за которых и заварился весь этот сыр-бор.
Через три часа мы получили очередную краткую сводку: экспедиция возобновила полет в условиях сильного ветра. На мой приказ не рисковать Лейк резко возразил, что новые находки оправдают любой риск. Я понимал, что он потерял голову и взбунтовался — дальнейшая судьба всей экспедиции находилась теперь под угрозой. Оставалось только ждать, и я со страхом представлял себе, как мои товарищи стремительно движутся в глубь коварного и зловещего белого безмолвия, готового обрушить на них свирепые ураганы, озадачить непостижимыми тайнами и простирающегося на полторы тысячи миль — вплоть до малоизученного побережья Земли Королевы Мери и Берега Нокса.
Затем часа через полтора поступило еще одно, крайне эмоциональное послание прямо с самолета, оно почти изменило мое отношение к экспедиции Лейка и заставило пожалеть о своем неучастии:
«22.05. С борта самолета. После снежной бури впереди показались горы необычайной величины. Возможно, не уступают Гималаям, особенно если принять во внимание высоту самого плато. Наши координаты: примерно 76° 15’ южной широты и 113° 10’ восточной долготы. Горы застилают весь горизонт. Кажется, вижу два курящихся конуса. Вершины все черные — снега на них нет. Резкий ветер осложняет полет».
После этого сообщения все мы, затаив дыхание, застыли у радиоприемника. При мысли о гигантских горных хребтах, возвышающихся неприступной крепостью в семистах милях от нашего лагеря, у нас перехватило дыхание. В нас проснулся дух первопроходцев, и мы от души радовались, что наши товарищи, пусть без нас, совершили такое важное открытие. Через полчаса Лейк снова вышел на связь:
«Самолет Мултона совершил вынужденную посадку у подножия гор. Никто не пострадал, думаем сами устранить повреждения. Все необходимое перенесем на остальные три самолета — независимо от того, полетим дальше или вернемся на базу. Теперь нет нужды путешествовать с грузом. Невозможно представить себе величие этих гор. Сейчас налегке полечу на разведку в самолете Кэррола.
Вам трудно вообразить себе здешний пейзаж. Самые высокие вершины вздымаются ввысь более чем на тридцать пять тысяч футов. У Эвереста нет никаких шансов. Этвуд остается на земле — будет определять с помощью теодолита высоту местности, а мы с Кэрролом немного полетаем. Возможно, я ошибся относительно конусов, потому что формация выглядит слоистой. Должно быть, докембрийские сланцы с вкраплением других пластов. На фоне неба прочерчены странные конфигурации — на самых высоких вершинах как бы лепятся правильные секции каких-то кубов. В золотисто-алых лучах заходящего солнца все это выглядит очень впечатляюще — будто приоткрылась дверь в сказочный, чудесный мир. Или — ты дремлешь, и тебе снится таинственная, диковинная страна. Жаль, что вас здесь нет — хотелось бы услышать ваше мнение».
Хотя была глубокая ночь, ни один из нас не подумал идти спать. Должно быть, то же самое происходило на базе в заливе и на «Аркхеме», где также приняли это сообщение. Капитан Дуглас сам вышел в эфир, поздравив всех с важным открытием, к нему присоединился Шерман, радист с базы. Мы, конечно, сожалели о поломке самолета, но надеялись, что ее легко устранить. И вот в двадцать три часа мы опять услышали Лейка:
«Летим с Кэрролом над горами. Погода не позволяет штурмовать самые высокие вершины, но это можно будет сделать позже. Трудно и страшно подниматься на такую высоту, но игра стоит свеч. Горная цепь тянется сплошным массивом — никакого проблеска с другой стороны. Некоторые вершины превосходят самые высокие пики Гималаев и выглядят очень необычно. Хребты состоят из докембрийских сланцевых пород, но в них явно угадываются пласты другого происхождения. Насчет вулканов я ошибся. Конца этим горам не видно. Выше двадцати одной тысячи футов снега нет».
«На склоне высоких гор странные образования. Массивные, низкие глыбы с отвесными боковыми стенками; четкие прямые углы делают их похожими на стены крепостного вала. Невольно вспоминаешь картины Рериха, где древние азиатские дворцы лепятся по склонам гор. Издали это смотрится потрясающе. Когда мы подлетели ближе, Кэрролу показалось, что глыбы состоят из более мелких частей, но, видимо, это оптическая иллюзия — просто края искрошились и обточились, и немудрено — сколько бурь и прочих превратностей климата пришлось им вынести за миллионы лет».
«Некоторые слои, особенно верхние, выглядят более светлыми, чем другие, и, следовательно, природа их кристаллическая. С близкого расстояния видно множество пещер или впадин, некоторые необычайно правильной формы — квадратные или полукруглые. Надо обязательно осмотреть их. На одном пике видел что-то наподобие арки. Высота его приблизительно от тридцати до тридцати пяти тысяч футов. Да я и сам нахожусь сейчас на высоте двадцати одной тысячи пятисот футов — здесь жуткий холод, продрог до костей. Ветер завывает и свищет вовсю, гуляет по пещерам, но для самолета реальной опасности не представляет».
Еще с полчаса Лейк разжигал наше любопытство своими рассказами, а потом поделился намерением покорить эти вершины. Я заверил его, что составлю ему компанию, пусть пришлет за мной самолет. Только прежде нам с Пибоди нужно решить, как лучше распорядиться бензином и где сосредоточить его основной запас в связи с изменением маршрута. Теперь, учитывая буровые работы Лейка и частую аэроразведку, большая масса горючего должна храниться на новой базе, он предполагал разбить ее у подножия гор. Полет же в восточном направлении откладывался — во всяком случае, до будущего года. Я вызвал по рации капитана Дугласа и попросил его переслать нам как можно больше бензина с той единственной упряжкой, которая оставалась в заливе. Нам предстояло пуститься в путь через неисследованные земли между базой в заливе Мак-Мердо и стоянкой Лейка.
Позднее на связь вышел Лейк и сообщил, что решил разбить лагерь на месте поломки самолета Мултона, где уже вовсю шел ремонт. Ледяной покров там очень тонкий, в некоторых местах даже чернеет грунт, так что Лейк сможет проводить буровые и взрывные работы, не совершая вылазки на санях и не карабкаясь в горы. Его окружает зрелище неописуемой красоты, продолжал он, но ему как-то не по себе у подножия этих гигантов, высящихся плотной стеной и вспарывающих пиками небо. По расчетам Этвуда, высота пяти главных вершин колеблется от тридцати до тридцати четырех тысяч футов. Лейка явно беспокоило, что местность не защищена от ветра: можно ожидать любой метели, от которых нас пока Бог миловал. Лагерь находился на расстоянии немногим более пяти миль от подножия высочайших гор. В пробившемся сквозь ледяную пустыню голосе Лейка я уловил подсознательное беспокойство, очень уж он призывал нас поторопиться и как можно скорее составить представление об этом таинственном уголке Антарктики. Сам он наконец собрался отдохнуть после этого безумного дня, беспримерного по нагрузкам и полученным результатам.
Утром Лейк, Дуглас и я провели одновременно переговоры с наших так далеко отстоящих друг от друга баз и договорились, что один из самолетов Лейка доставит к нему в лагерь Пибоди, меня и еще пятерых членов экспедиции, а также столько горючего, сколько сможет поднять. Вопрос об остальном топливе оставался открытым и зависел от того, какое мы примем решение относительно восточной экспедиции. Сошлись на том, чтобы подождать с этим несколько дней — у Лейка пока хватало горючего и на нужды лагеря, и на бурение. Хорошо было бы пополнить запасы и южной базы, хотя в том случае, если экспедиция на восток откладывалась, база будет пустовать до следующего лета. Лейку вменили в обязанность послать самолет с заданием проложить трассу от открытых им гор до залива Мак-Мердо.
Пибоди и я готовились к закрытию базы на более или менее длительный срок. Даже если будет принято решение зимовать в Антарктике, мы, возвращаясь на «Аркхем», сюда не завернем. Несколько палаток были уже укреплены кубами плотного снега, и теперь мы решили довершить начатое. У Лейка на новой базе палаток хватало — в чем-чем, а в этом недостатка не было, так что везти их с собой не представлялось разумным. Я послал радиограмму, что уже через сутки мы с Пибоди готовы вылететь на новое место.
Однако после четырех часов, когда мы получили взволнованное и неожиданное послание от Лейка, деятельность наша несколько затормозилась. Рабочий день его начался неудачно: обзорный полет показал, что в ближайших свободных от снега скалах полностью отсутствуют столь нужные ему древние архейские пласты, коих было великое множество на вершинах хребтов, манящих и дразнящих его воображение. Большинство скал состояло из юрских и команчских песчаников, а также из пермских и триасовых кристаллических сланцев, в которых поблескивала темная обнаженная порода — по виду каменный уголь. Это не могло не разочаровать Лейка, который надеялся напасть здесь на древнейшие — старше пятисот миллионов лет — породы. Он понимал, что архейские пласты, где ему впервые повстречались странные отпечатки, залегают на крутых склонах гигантских гор, к которым следовало еще добираться на санях.
Тем не менее Лейк решил в интересах дела начать буровые работы и, установив буровую машину, поручил пятерым членам экспедиции управляться с нею; остальные тем временем обустраивали лагерь и занимались ремонтом самолета. Для работ выбрали место в четверти мили от базы, где горная порода казалась не очень твердой. Песчаник здесь бурился отлично — почти обошлись без сопутствующих взрывных работ. Через три часа после первого основательного взрыва раздались возбужденные крики бурильщиков, и руководитель работ, молодой человек по фамилии Гедни, прибежал в лагерь с потрясающим известием.
Они наткнулись на пещеру. После начала бурения песчаник быстро сменился известняком, полным мельчайших органических отложений — цефалоподов, кораллов, морских ежей и спириферид; изредка попадалось нечто напоминающее губки и позвонки рыб — скорее всего, из отрядов телеостов, акул и ганоидов. Это была уже сама по себе важная находка: первый раз в наши руки попадали органические остатки позвоночных, но когда вскоре после этого буровая коронка, пройдя очередной пласт, вышла в пустоту, бурильщиков охватил двойной восторг. Заложили динамит, и последовавший взрыв приоткрыл завесу над подземной тайной: сквозь зияющее неровное отверстие — пять на пять футов — жадным взорам людей предстала впадина в известняке, размытом более пятидесяти миллионов лет назад медленно сочившимися грунтовыми водами этого некогда тропического мира.
Пещерка была не глубже семи-восьми футов, зато разветвлялась во всех направлениях и, судя по гулявшему в ней ветру, составляла лишь одно звено в целой подземной системе, верх и низ которой были густо усеяны крупными сталактитами и сталагмитами, некоторые — столбчатой структуры. Но что важнее всего, тут были россыпи раковин и костей, кое-где они просто забивали проходы. Это костное месиво, вынесенное потоком из неведомых зарослей мезозойских древесных папоротников и грибов, лесов третичной системы с веерными пальмами и примитивными цветковыми растениями, содержало в себе останки такого множества представителей животного мира — мелового, эоценового и прочих периодов, что даже величайшему палеонтологу потребовалось бы больше года на опись и классификацию этого богатства. Моллюски, ракообразные, рыбы, амфибии, рептилии, птицы и низшие млекопитающие — крупные и мелкие, известные и не известные науке. Немудрено, что Гедни бросился сломя голову к лагерю, после чего все, побросав работу, помчались, несмотря на лютый мороз, туда, где буровая вышка указывала на местонахождение только что найденной дверцы в тайны земного прошлого и канувших в вечность тысячелетий.
Слегка утолив свое любопытство ученого, Лейк нацарапал в блокноте короткую информацию о событиях и отправил молодого Мултона в лагерь с просьбой послать сообщение в эфир. Так я впервые услышал об этом удивительном открытии — о найденных раковинах, костях ганоидов и плакодерм, останках лабиринтодонтов и текодонтов, черепных костях и позвонках динозавра, кусках панциря броненосца, зубах и крыльях птеродактиля, останках археоптерикса, зубах миоценских акул, костях первобытных птиц, а также обнаруженных останках древнейших млекопитающих — палеотерий, ксифодонтов, эогиппусов, ореодонтов и титанофонеусов. Останки позднейших видов, вроде мастодонтов, слонов, верблюдов или быков, отсутствовали, и потому Лейк определил возраст пласта и содержащихся в нем окаменелостей довольно точно — не менее тридцати миллионов лет, причем самые последние отложения приходились на олигоцен.
С другой стороны, преобладание следов древнейших организмов просто поражало. Хотя известняковая формация по всем признакам, в том числе и вкрапленным органическим останкам, относилась к команчскому периоду и никак не к более раннему, в разбросанных по пещере костях узнавались останки организмов, обычно относимых к значительно более древнему времени, — рудиментарных рыб, моллюсков и кораллов, распространенных в силурийском и ордовикском периодах. Вывод напрашивался сам собой: в этой части Земли существовали организмы, жившие как триста, так и тридцать миллионов лет тому назад. Продолжалось ли это мирное сосуществование на антарктических землях и дальше — после того, как во времена олигоцена пещеру наглухо завалило? Это оставалось загадкой. Во всяком случае, начало материковых оледенений в период плейстоцена пятьсот тысяч лет назад — ничтожная цифра по сравнению с возрастом этой пещеры — наверняка убило все ранние формы жизни, которые каким-то чудом здесь удержались.
Лейк не успокоился, послав нам первую сводку, а тут же накатал еще одно донесение и отправил его в лагерь, не дождавшись возвращения Мултона. Тот так и остался сидеть в одном из самолетов у передатчика, диктуя мне — и разумеется, радисту «Аркхема», который держал связь с внешним миром, — серию посланий Лейка. Те из читателей, кто следил за газетными публикациями, несомненно, помнят, какой ажиотаж вызвали они в научном мире. Именно они побудили снарядить экспедицию Старкуэтера-Мура, которая вот-вот отправится в путь, если мне не удастся отговорить ее энтузиастов от безумного плана. Приведу эти послания дословно, как записал их наш радист Мактай, — так будет вернее.
«Во время бурения Фаулер обнаружил необычайно ценные свидетельства в песчаных и известняковых пластах — отчетливые треугольные отпечатки, подобные тем, что мы видели в архейском сланце. Значит, этот вид просуществовал шестьсот миллионов лет — вплоть до команчского периода, не претерпев значительных морфологических изменений и лишь слегка уменьшившись в объеме. Команчские отпечатки сохранились хуже древних. Прессе следует подчеркнуть исключительную важность открытия. Для биологии оно не менее ценно, чем для физики и математики — теории Эйнштейна. И полностью подкрепляет выводы, к которым я пришел за годы работы».
«Открытие доказывает, как я и подозревал, что на Земле сменилось несколько циклов органической жизни, помимо того, известного всем, что начался с археозойской клетки. Еще тысячу миллионов лет назад юная планета, считавшаяся непригодной для любых форм жизни и даже для обычной протоплазмы, была уже обитаема. Встает вопрос: когда и каким образом началась эволюция?»
«Некоторое время спустя. Разглядывая скелетные кости крупных наземных и морских ящеров и древних млекопитающих, нашел отдельные следы увечий, которые не могло нанести ни одно из известных науке хищных или плотоядных животных. Увечья эти двух типов: от колотых и резаных ран. В одном или даже двух случаях кости кажутся аккуратно отрубленными. Но в общем повреждено не так уж много экземпляров. Послал в лагерь за электрическими фонариками. Хочу расширить границы пещеры, обрубив часть сталактитов».
«Еще немного спустя. Нашел любопытный мыльный камень длиной около шести дюймов и шириной полтора. Очень отличается от местных пород — зеленоватый; непонятно, к какому периоду его отнести. Удивительно гладкий, правильной формы. Напоминает пятиконечную звезду с отломанными краями и с насечками во внутренних углах и в центре. Небольшое плавное углубление посередине. Интересно, каково его происхождение и как он приобрел столь удивительную форму? Возможно, действие воды. Кэррол надеется с помощью линзы уточнить его геологические особенности. На нем правильные узоры из крошечных точек. Все время, пока мы изучали камень, собаки непрерывно лаяли. Кажется, он им ненавистен. Нужно проверить, нет ли у него особого запаха. Следующее сообщение отправлю после прихода Миллза с фонарями, когда мы продвинемся по пещере дальше».
«22.15. Важное открытие. Оррендорф и Уоткинс, работая при свете фонарей под землей, наткнулись на устрашающего вида экземпляр — нечто бочкообразное, непонятного происхождения. Может, растительного? Разросшиеся морские водоросли? Ткань сохранилась, очевидно, под действием пропитавших ее минеральных солей. Прочная, как кожа, местами удивительно гибкая. По бокам и концам — следы разрывов. Длина находки — шесть футов, ширина — три с половиной; можно накинуть на каждый размер, учитывая потери, еще по футу. Похоже на бочонок, а в тех местах, где обычно клепки, — набухшие вертикальные складки. Боковые обрывы — видимо, более тонких стеблей — проходят как раз посередине. В бороздах между складками — любопытные отростки, что-то вроде гребешков или крыльев; они складываются и раскрываются, как веер. Все отростки в плохом состоянии, сильно попорчены, кроме одного, он равняется почти семи футам. Видом странная особь напоминает чудовищ из первобытной мифологии, в особенности легендарных Старцев из «Некрономикона»».
«Крылья этой твари перепончатые, остов их трубчатый. На концах каждой секции видны крошечные отверстия. Поверхность ссохлась, и потому непонятно, что находится внутри и что оторвалось. Нужно будет, вернувшись на базу, тут же вскрыть этот таинственный организм. Пока не могу решить — растение это или животное? Многое говорит в пользу того, что неизвестный организм относится к древнейшему времени. В это трудно поверить. Заставил всех обрубать сталактиты и искать другие экземпляры, подобные этому. Нашли еще несколько костей с глубокими зарубками, но с этим можно подождать. Не знаю, что делать с собаками. Они будто взбесились, остервенело лают на находку и наверняка разорвали бы ее на куски, не удерживай мы их на расстоянии силой».
«23.30. Всем, всем — Дайеру, Пибоди, Дугласу. Дело, можно сказать, чрезвычайной важности. Пусть «Аркхем» тут же свяжется с радиостанцией Кингспорта. Отпечатки в архейском сланце принадлежат именно этому бочкообразному «растению». Миллз, Будро и Фаулер нашли и других подобных особей — целых тринадцать штук — в сорока футах от скважины. Они лежали вперемешку с обломками тех гладких, причудливой формы мыльных камней: все камни — меньше предыдущих, тоже звездчатые, но без отбитых концов, разве только покрошились немного».
«Из этих органических особей восемь сохранились превосходно, целы все отростки. Все экземпляры извлекли из пещеры, предварительно отведя подальше собак. Те их просто не выносят, так и заливаются истошным лаем. Прослушайте внимательно точное описание нашей находки и для верности повторите. В газетах оно должно появиться предельно точным.
Длина каждого экземпляра — восемь футов. Само бочкообразное, пятискладочное тело равняется шести футам в длину и трем с половиной — в ширину. Ширина указывается в центральной части, диаметр же оснований — один фут. Все особи темно-серого цвета, хорошо гнутся и необычайно прочные. Семифутовые перепончатые «крылья» того же цвета, найденные сложенными, идут из борозд между складками. Они более светлого цвета, остов трубчатый, на концах имеются небольшие отверстия. В раскрытом состоянии — по краям зубчатые. В центре тела, на каждой из пяти вертикальных, похожих на клепки складок, — светло-серые гибкие лапы-щупальца. Обвернутые в настоящий момент вокруг тела, они способны в деятельном состоянии дотягиваться до предметов на расстоянии трех футов — как примитивная морская лилия с ветвящимися лучами. Отдельные щупальца у основания — трех дюймов в диаметре, через шесть дюймов они членятся на пять щупалец, каждое из которых еще через восемь дюймов разветвляется на столько же тонких, сужающихся к концу щупалец-усиков — так что на каждой «грозди» их оказывается по двадцать пять.
Венчает торс светло-серая, раздутая, как от жабр, «шея», на которой сидит желтая пятиконечная, похожая на морскую звезду «головка», поросшая жесткими разноцветными волосиками длиной в три дюйма.
Гибкие желтоватые трубочки длиной три дюйма свисают с каждого из пяти концов массивной (около двух футов в окружности) головки. В самом центре ее — узкая щель, возможно, начальная часть дыхательных путей. На конце каждой трубочки сферическое утолщение, затянутое желтой пленкой, под которой скрывается стекловидный шарик с радужной оболочкой красного цвета — очевидно, глаз.
Из внутренних углов головки тянутся еще пять красноватых трубочек, несколько длиннее первых, они заканчиваются своего рода мешочками, которые при нажиме раскрываются, и по краям круглых отверстий, диаметром два дюйма, хорошо видны острые выступы белого цвета, наподобие зубов. По-видимому, это рот. Все эти трубочки, волосики и пять концов головки аккуратно сложены и прижаты к раздутой шее и торсу. Гибкость тканей при такой прочности — удивительная.
В нижней части туловища находится грубая копия головки, но с другими функциями. На светло-серой раздутой лжешее отсутствует подобие жабр, она сразу переходит в зеленоватое пятиконечное утолщение, тоже напоминающее морскую звезду.
Внизу также находятся прочные мускулистые щупальца длиной около четырех футов. У самого туловища ширина их в диаметре составляет семь дюймов, но к концу они утончаются, достигая не более двух с половиной дюймов, и переходят в зеленоватую треугольную перепончатую «лапку» с пятью фалангами. Длина ее — восемь дюймов, ширина у «запястья» — шесть. Это лапа, плавник или нога — словом, то, что оставило свой след на камне от тысячи до пятидесяти-шестидесяти миллионов лет назад.
Из внутренних углов пятиконечного нижнего утолщения также тянутся двухфутовые красноватые трубочки, ширина которых колеблется от трех дюймов у основания до одного — на конце. Заканчиваются они отверстиями. Трубочки необычайно плотные и прочные и при этом удивительно гибкие.
Четырехфутовые щупальца с лапками, несомненно, служили для передвижения — по суше или в воде. Похоже, очень мускулистые. В настоящее время все эти отростки плотно обвиты вокруг лжешеи и низа туловища — точно так же, как и в верхней части.
Не совсем уверен, к растительному или животному миру отнести это существо, но скорее все же к животному. Может быть, это невероятно продвинутая на пути эволюции морская звезда, не утратившая, однако, и некоторых признаков примитивного организма. Свойства семейства иглокожих налицо, хотя кое-что явно не согласуется.
При том что морское происхождение в высшей степени вероятно, озадачивает наличие «крыла» (хотя оно могло помогать при передвижении в воде), а также симметричное расположение отдельных частей, более свойственное растениям с их вертикальной постановкой, в отличие от горизонтальной — у животных. Эта тварь находится у истоков эволюции, предшествуя даже простейшим архейским одноклеточным организмам; это сбивает с толку, когда задумываешься о происхождении таинственной находки.
Неповрежденные особи так напоминают некоторых существ из древней мифологии, что нельзя не предположить, что когда-то они обитали вне Антарктики. Дайер и Пибоди читали «Некрономикон», видели жуткие рисунки вдохновленного им Кларка Эштона Смита и потому понимают меня, когда я говорю о Старцах — тех, которые якобы породили жизнь на Земле не то шутки ради, не то по ошибке. Ученые всегда считали, что прообраз этих Старцев — древняя тропическая морская звезда, фантастически преображенная болезненным сознанием. Вроде чудовищ из доисторического фольклора, о которых писал Уилмарт. Вспоминается культ Ктулху…
Материал для изучения огромный. Судя по всему, геологические пласты относятся к позднему мелу или к раннему эоцену. Над ними нависают массивные сталактиты. Отколоть их стоит большого труда, но именно такая высокая прочность препятствовала разрушению. Удивительно, как хорошо все здесь сохранилось — очевидно, благодаря близости известняка. Других интересных находок пока нет — возобновим поиски позже. Главное теперь — переправить четырнадцать крупных экземпляров на базу и уберечь их от собак, которые уже хрипят от лая. Держать животных вблизи находок нельзя ни в коем случае.
Оставив трех человек стеречь собак, мы вдевятером без труда перевезем драгоценные экземпляры на трех санях, хотя ветер сильный. Нужно сразу же наладить воздушное сообщение с базой у залива и заняться транспортировкой находок на корабль. Перед сном препарирую одну из особей. Жаль, нет здесь настоящей лаборатории. Дайеру должно быть стыдно, что он возражал против экспедиции на запад. Сначала открыли высочайшие в мире горы, а теперь вот и это. Думаю, наши находки сделали бы честь любой экспедиции. Если это не так, значит, я ничего не смыслю. Сделан большой вклад в науку. Спасибо Пибоди за его устройство, оно нам очень помогло при бурении, иначе мы не проникли бы в пещеру. А теперь вы, на «Аркхеме», повторите дословно описание найденных особей».
Трудно передать наши с Пибоди чувства после получения этой радиограммы. Ликовали и все наши спутники. Мактай торопливо переводил на английский звуки, монотонно доносившиеся из принимающего устройства. Как только радист Лейка закончил диктовку, Мактай аккуратно переписал все донесение. Все мы понимали, что это открытие знаменует переворот в науке, и я сразу же после того, как радист с «Аркхема» повторил описание находок, поздравил Лейка. К этим поздравлениям присоединились Шерман, глава базы в заливе Мак-Мердо, и капитан Дуглас от имени команды «Аркхема». Позже я как научный руководитель экспедиции сказал несколько слов, комментируя это открытие. Радист «Аркхема» должен был донести мои слова до мировой общественности. О сне, естественно, никто и подумать не мог. Все находились в состоянии крайнего возбуждения, а моим единственным желанием было как можно скорее оказаться в лагере Лейка. Меня очень расстроило его известие, что ветер в горах усиливается, делая воздушное сообщение на какое-то время невозможным.
Но через полтора часа мое разочарование вновь сменилось жгучим интересом. Лейк в новых донесениях рассказывал, как все четырнадцать экземпляров благополучно доставили в лагерь. Путешествие оказалось нелегким — находки оказались на удивление тяжелы: девять человек едва справились с этим грузом. Для собак пришлось городить на безопасном от базы расстоянии укрытие из снега. Предполагалось, что там их будут держать и кормить. Все найденные экземпляры разложили на плотном снегу рядом с палатками, кроме того, который Лейк отобрал для предварительного вскрытия.
Препарирование оказалось делом не столь легким, как могло на первый взгляд показаться. Несмотря на жар, шедший от газолиновой горелки в наскоро оборудованной под лабораторию палатке, обманчиво гибкая ткань выбранной, хорошо сохранившейся и мускулистой особи нисколько не утратила своей удивительной плотности. Лейк ломал голову, как сделать необходимые надрезы и одновременно не нарушить внутренней целостности организма. Конечно, он располагал еще семью абсолютно не поврежденными особями, но ему не хотелось кромсать их без крайней надобности, не зная, обнаружатся ли в пещере другие. В конце концов Лейк решил не вскрывать этот экземпляр, а, убрав его, занялся тем, у которого хоть и сохранились звездчатые утолщения на концах, но были повреждения и разрывы вдоль одной из складок туловища.
Результаты, о которых тут же сообщили по радио, поражали и настораживали. Говорить об особой тщательности и аккуратности вскрытия не приходилось — инструменты с трудом резали необычную ткань, но даже то немногое, чего удалось достичь, приводило в недоумение и внушало благоговейный страх. Вся биология подлежала теперь пересмотру: эта ткань не имела клеточного строения. Однако организм принадлежал явно к органическому миру, и, несмотря на солидный возраст — около сорока миллионов лет, — его внутренние органы сохранились в идеальном виде. Одним из свойств этой неизвестной формы жизни была неразрушаемая временем, необычайно плотная кожа, созданная природой в процессе эволюции беспозвоночных на некоем неведомом нам этапе. Когда Лейк приступил к вскрытию, влага в организме отсутствовала, но постепенно, под влиянием тепла, у неповрежденной стороны тела собралось немного жидкости с резким, отталкивающим запахом. Густую темно-зеленую жижу трудно было назвать кровью, хотя она, очевидно, выполняла ее функции. К тому времени все тридцать семь собак уже находились в загоне — не обустроенном, однако, до конца, — но даже оттуда доносился их свирепый лай. С распространением едкого запаха он еще более усилился.
Словом, предварительное вскрытие не только не внесло ясности, но, напротив, напустило еще больше туману. Предположения о назначении внешних органов неизвестной особи оказались правильными, и, видимо, были все основания считать ее принадлежащей к животному миру, однако обследование внутренних органов дало много свидетельств близости к растениям, и Лейк окончательно растерялся. Таинственный организм имел системы пищеварения и кровообращения, а также выбрасывал продукты отходов через красноватые трубки у звездчатого основания. На первый взгляд органы дыхания потребляли кислород, а не углекислый газ; внутри обнаружились также специальные камеры, где задерживался воздух; вскоре стало понятно, что кислородный обмен осуществляли еще и жабры, а также поры кожи. Следовательно, Лейк имел дело с амфибией, которая могла прожить долгое время без поступления кислорода. Голосовые связки находились, видимо, в непосредственной связи с системой дыхания, но имели такие отклонения от нормы, что делать окончательные выводы не стоило. Отчетливая, артикулированная речь вряд ли была возможна, но издавать трубные звуки разной высоты эта тварь вполне могла. Мускулатура была развита даже чрезмерно.
Но особенно обескуражила Лейка невероятно сложная и высокоразвитая нервная система. Будучи в некоторых отношениях чрезвычайно примитивной и архаичной, эта тварь имела систему ганглиев и нервных волокон, свойственных высокоразвитому организму. Состоящий из пяти главных отделов мозг был удивительно развит, наличествовали и признаки органов чувств. К ним относились и жесткие волоски на головке, хотя полностью уяснить их функцию не удавалось — ничего похожего у других земных существ не имелось. Возможно, у твари было больше, чем пять чувств: Лейк с трудом представлял себе ее поведение и образ жизни, исходя из известных стереотипов. Он полагал, что встретился с высокочувствительным организмом, выполнявшим в первобытном мире специализированные функции, вроде наших муравьев и пчел.
Размножалась тварь как бессемянные растения — ближе всего к папоротникообразным: на кончиках крыльев у нее образовывались споры — происхождение ее явно прослеживалось от талломных растений и проталлиев.
Причислить ее куда-либо было невозможно. Хотя внешне тварь выглядела как морская звезда, но являлась несравненно более высоким организмом. Обладая признаками растения, она на три четверти принадлежала к животному миру. О ее морском происхождении говорили симметричные очертания и прочие признаки, однако далее она развивалась в других направлениях. В конце концов, у нее выросли крылья, значит, не исключено, что эволюция оторвала ее от земли. Когда успела она проделать весь этот сложный путь развития и оставить свои следы на архейских камнях, если Земля в те далекие годы была совсем молодой планетой? Это невозможно уразуметь. Замечтавшийся Лейк припомнил древние мифы о Старцах, прилетевших с далекой звезды и шутки ради, а то и по ошибке сотворивших здесь жизнь, припомнил он и фантастические рассказы друга-фольклориста из Мискатоникского университета о живущих в горах тварях родом из космоса.
Лейк, конечно, подумывал и о том, не могло ли на докембрийском камне оставить следы существо более примитивное, чем лежащая перед ним особь, но быстро отказался от такого легкого объяснения. Те следы говорили скорее о более высокой организации. Размеры лженоги у позднейшей особи уменьшились, да и вообще форма и строение как-то огрубели и упростились. Более того, нервные волокна и органы вскрываемого существа указывали на то, что имела место регрессия. Преобладали, к удивлению Лейка, атрофированные и рудиментарные органы. Во всяком случае, для окончательных выводов недоставало информации, и тогда Лейк вновь обратился к мифологии, назвав в шутку найденных тварей Старцами.
В половине третьего ночи, решив на время прекратить работу и немного отдохнуть, Лейк, накрыв рассеченную особь брезентом, вышел из палатки и с новым интересом стал изучать неповрежденные экземпляры. Под лучами незаходящего антарктического солнца они несколько обмякли, углы головок и две или три трубочки немного распрямились, но Лейк не увидел в этом никакой опасности, полагая, что процесс распада не может идти быстро при минусовой температуре. Однако он сдвинул цельные экземпляры ближе друг к другу и набросил на них свободную палатку, чтобы предохранить трофеи от прямых солнечных лучей. Это к тому же умеряло неприятный едкий запах, который необычайно возбуждал собак. Они чуяли его даже на значительном расстоянии: за ледяными стенами, которые росли все выше и выше, — над воздвижением этого снежного убежища теперь трудилось вдвое больше человек. Со стороны могучих гор подул сильный ветер, там, видимо, зарождалась буря, и Лейк для верности придавил углы палатки тяжелыми льдинами. Зная, насколько свирепыми бывают внезапные антарктические ураганы, все под руководством Этвуда продолжили начатую ранее работу по укреплению снегом палаток, загона для собак и сооруженных на скорую руку укрытий для самолетов. Лейка особенно тревожили недостаточно высокие снежные стены этих укрытий, возводившихся в свободную минуту, от случая к случаю, и он наконец бросил всю рабочую силу на решение этой важнейшей задачи.
После четырех часов Лейк дал радиоотбой, посоветовав нам отправляться спать; его группа, хорошо поработав, тоже немного отдохнет. Он перемолвился несколькими теплыми словами с Пибоди, еще раз поблагодарив того за удивительное изобретение, без которого им вряд ли удалось бы совершить открытие. Этвуд тоже дружески попрощался с нами. Я еще раз поздравил Лейка, признав, что он был прав, стремясь на запад. Мы договорились о новой встрече в эфире в десять утра. Если ветер утихнет, Лейк пошлет за нами самолет. Перед сном я отправил последнюю сводку на «Аркхем», попросив с большой осторожностью передавать в эфир информацию о сенсациях дня. Слишком все невероятно! Нам могли не поверить, нужны доказательства.
Глава 3
В ту ночь никто из нас не мог заснуть крепким сном, все мы поминутно просыпались. Возбуждение было слишком велико, а тут еще ветер бушевал с неимоверной силой. Его свирепые порывы заставляли нас задумываться, каково же там, на базе Лейка, у подножья бесконечных неведомых хребтов, в самой колыбели жестокого урагана. В десять часов Мактай был уже на ногах и попытался связаться по рации с Лейком, но помешали атмосферные условия. Однако нам удалось поговорить с «Аркхемом», и Дуглас сказал мне, что также не смог вызвать Лейка на связь. Об урагане он узнал от меня — в районе залива Мак-Мердо было тихо, хотя в это верилось с трудом.
Весь день мы провели у приемника, прислушиваясь к малейшему шуму и потрескиванию в эфире, и время от времени тщетно пытались связаться с базой. Около полудня с запада налетел шквал, порывы безумной силы испугали нас — не снесло бы лагерь. Постепенно ветер утих, лишь около двух часов возобновился на непродолжительное время. После трех он окончательно угомонился, и мы с удвоенной энергией стали искать Лейка в эфире. Зная, что у него в распоряжении четыре радиофицированных самолета, мы не допускали мысли, что все великолепные передатчики могут разом выйти из строя. Однако нам никто не отвечал, и, понимая, какой бешеной силы мог там достигать шквалистый ветер, мы строили самые ужасные догадки.
К шести часам вечера страх наш достиг апогея, и, посовещавшись по радио с Дугласом и Торфинсеном, я решил действовать. Пятый самолет, оставленный нами в заливе Мак-Мердо на попечение Шермана и двух матросов, находился в полной готовности, оснащенный для таких вот крайних ситуаций. По всему было видно, что момент наступил. Вызвав по радио Шермана, я приказал ему срочно вылететь ко мне, взяв обоих матросов: условия для полета стали к этому времени вполне благоприятными. Мы обговорили состав поисковой группы и решили в конце концов отправиться все вместе, захватив также сани и собак. Огромный самолет, сконструированный по нашему специальному заказу для перевозки тяжелого машинного оборудования, позволял это сделать. Готовясь к полету, я не прекращал попыток связаться с Лейком, но безуспешно.
Шерман вместе с матросами Гунарссоном и Ларсеном взлетели в половине восьмого и несколько раз за время полета информировали нас, как обстоят дела. Все шло хорошо. Они достигли нашей базы в полночь, и мы тут же приступили к совещанию, решая, как действовать дальше. Было довольно рискованно лететь всем в одном самолете над ледяным материком, не имея промежуточных баз, но никто не спасовал. Это был единственный выход. Загрузив часть необходимого в самолет, мы около двух часов ночи легли отдохнуть, но уже спустя четыре часа снова были на ногах, заканчивая паковать и укладывать вещи.
И вот 5 января в 7 часов 15 минут утра начался наш полет на север в самолете, который вел пилот Мактай. Кроме него в самолете находились еще десять человек, семь собак, сани, горючее, запас продовольствия, а также прочие необходимые вещи, в том числе и рация. Погода стояла безветренная, небо было чистым, температура для этих мест — не слишком низкой, так что особых трудностей не предвиделось. Мы были уверены, что с помощью указанных Лейком координат легко отыщем лагерь. Но дурные предчувствия нас не покидали: что обнаружим мы у цели? Ведь радио по-прежнему молчало, никто не отвечал на наши постоянные вызовы.
Каждый момент этого четырехчасового полета навсегда врезался в мою память: он изменил всю мою жизнь. Именно тогда, в 54-летнем возрасте, я навсегда утратил мир и покой, присущий человеку с нормальным рассудком и живущему в согласии с природой и ее законами. С этого времени мы — все десятеро, но особенно мы с Денфортом — неотрывно следили за фантомами, таящимися в глубинах этого чудовищного искаженного мира, и ничто не заставит нас позабыть его. Мы не стали бы рассказывать, будь это возможно, о наших переживаниях всему человечеству. Газеты напечатали бюллетени, посланные нами с борта самолета, в которых сообщалось о нашем беспосадочном перелете; о встрече в верхних слоях атмосферы с предательскими порывами ветра; об увиденной с высоты шахте, которую Лейк пробурил три дня назад на полпути к горам, а также о загадочных снежных цилиндрах, замеченных ранее Амундсеном и Бэрдом, — ветер гнал их по бескрайней ледяной равнине. Затем наступил момент, когда мы не могли адекватно передавать охватившие нас чувства, а потом пришел и такой, когда мы стали строго контролировать свои слова, введя своего рода цензуру.
Первым завидел впереди зубчатую линию таинственных кратеров и вершин матрос Ларсен. Он так завопил, что все бросились к иллюминаторам. Несмотря на значительную скорость самолета, горы, казалось, совсем не приближались; это говорило о том, что они бесконечно далеки и видны только из-за своей невероятной, непостижимой высоты. И все же постепенно они мрачно вырастали перед нами, застилая западную часть неба, и мы уже могли рассмотреть голые, лишенные растительности и не защищенные от ветра темные вершины. Нас пронизывало непередаваемое ощущение чуда, переживаемое при виде этих залитых розоватым антарктическим светом громад на фоне облаков ледяной пыли, переливающейся всеми цветами радуги.
Эта картина рождала чувство близости к некоей глубочайшей тайне, которая могла вдруг раскрыться перед нами. За безжизненными жуткими хребтами, казалось, таились пугающие пучины подсознательного, некие бездны, где смешались время, пространство и другие, неведомые человечеству измерения. Эти горы представлялись мне вместилищем зла — хребтами безумия, дальние склоны которых обрывались, уходя в пропасть, за которой ничего не было. Полупрозрачная дымка облаков, окутывающая вершины, как бы намекала на начинающиеся за ними бескрайние просторы, на затаенный и непостижимый мир вечной Смерти — далекий, пустынный и скорбный.
Юный Денфорт обратил наше внимание на любопытную закономерность в очертаниях горных вершин — казалось, к ним прилепились какие-то кубики; об этом упоминал и Лейк в своих донесениях, удачно сравнивая их с призрачными руинами первобытных храмов в горах Азии, которые так таинственно и странно смотрятся на полотнах Рериха. Действительно, в нездешнем виде этого континента с его загадочными горами было нечто рериховское. Впервые я почувствовал это в октябре, завидев издали Землю Виктории, теперь прежнее чувство ожило с новой силой. В сознании всплывали древние мифические образы, беспокоящие и будоражащие. Как напоминало это мертвое пространство зловещее плато Ленг, упоминаемое в старинных рукописях! Ученые посчитали, что оно находилось в Центральной Азии, но родовая память человечества или его предшественников уходит в глубины веков, и многие легенды, несомненно, зарождались в землях, горах и мрачных храмах, существовавших в те времена, когда не было еще самой Азии да и самого человека, каким мы его себе сейчас представляем. Некоторые особенно дерзкие мистики намекали, что дошедшие до нас отрывки Пнакотических рукописей созданы до плейстоцена, и предполагали, что последователи Цатогуа не являлись людьми, так же как и сам Цатогуа. Но где бы и в какое время ни существовал Ленг, это было не то место, куда бы я хотел попасть, не радовала меня и мысль о близости к земле, породившей странных, принадлежавших непонятно к какому миру чудовищ — тех, о которых упоминал Лейк. Как сожалел я в эти минуты, что некогда взял в руки отвратительный «Некрономикон» и подолгу беседовал в университете с фольклористом Уилмартом, большим эрудитом, но крайне неприятным человеком.
Это настроение не могло не усилить мое и без того неприязненное отношение к причудливым миражам, рожденным на наших глазах изменчивой игрой света, в то время как мы приближались к хребтам и уже различали холмистую местность предгорий. За прошедшие недели я видел не одну дюжину полярных миражей, и некоторые не уступали нынешнему в жутком ирреальном правдоподобии. Но в этом, последнем, было что-то новое, какая-то потаенная угроза, и я содрогался при виде поднимающегося навстречу бесконечного лабиринта из фантастических стен, башен и минаретов, сотканных из снежной пыли.
Казалось, перед нами раскинулся гигантский город, построенный по законам неведомой человечеству архитектуры, где пропорции темных как ночь конструкций говорили о чудовищном надругательстве над основами геометрии. Усеченные конусы с зазубренными краями увенчивались цилиндрическими колоннами, кое-где вздутыми и прикрытыми тончайшими зубчатыми дисками; с ними соседствовали странные плоские фигуры, как бы составленные из множества прямоугольных плит, или из круглых пластин, или пятиконечных звезд, перекрывавших друг друга. Там были также составные конусы и пирамиды, некоторые переходили в цилиндры, кубы или усеченные конусы и пирамиды, а иногда даже в остроконечные шпили, сбитые в отдельные группки — по пять в каждой. Все эти отдельные композиции, как бы порожденные бредом, соединялись воедино на головокружительной высоте трубчатыми мостиками. Зрелище подавляло и ужасало своими гигантскими размерами. Миражи такого типа не являлись чем-то совершенно новым: нечто подобное в 1820 году наблюдал и даже делал зарисовки полярный китобой Скорсби, но время и место усугубляли впечатление: глядя на неведомые горы, возвышавшиеся темной стеной впереди, мы не забывали, какие странные открытия совершили здесь наши друзья, а также не исключали, что с ними, то есть с большей частью нашей экспедиции, могло приключиться несчастье. Естественно, что в мираже нам чудились потаенные угроза и беспредельное зло.
Когда мираж начал расплываться, я не мог не почувствовать облегчения, хотя в процессе исчезновения все эти зловещие башенки и конусы принимали на какое-то время еще более отвратительные, неприемлемые для человека формы. Когда мираж растаял, превратившись в легкую дымку, мы снова обратили свой взор к земле и поняли, что наш полет близится к концу. Горы взмывали ввысь на головокружительную высоту, словно крепость неких гигантов, а их удивительная геометрическая правильность улавливалась теперь с поразительной четкостью простым, не вооруженным биноклем глазом. Мы летели над самым предгорьем и различали среди льда, снежных наносов и открытой земли два темных пятна — по-видимому, лагерь Лейка и место бурения. Еще один подъем начинался примерно через пять-шесть миль, образуя нижнюю гряду холмов, оттеняющих грозный вид пиков, превосходящих самые высокие вершины Гималаев. Наконец Роупс, студент, сменивший Мактая у штурвала самолета, начал снижение, направляя машину к левому большому «пятну», где, как мы считали, располагалась база. Мактай же тем временем послал в эфир последнее, еще не подвергшееся нашей цензуре послание миру.
Не сомневаюсь, что все читали краткие, скупые бюллетени о ходе наших поисковых работ. Через несколько часов после посадки мы в осторожных выражениях сообщили о гибели всей группы Лейка от пронесшегося здесь прошлым днем или ночью урагана. Были найдены трупы десяти человек, не могли отыскать лишь тело молодого Гедни. Нам простили отсутствие подробностей, объяснив его шоком от трагедии, и поверили, что все одиннадцать трупов невозможно перевезти на корабль из-за множества увечий, причиненных ураганным ветром. Я горжусь тем, что даже в самые страшные минуты, обескураженные и потрясенные, с перехваченным от жуткого зрелища дыханием, мы все же нашли в себе силы не сказать всей правды. Мы недоговаривали самого главного, я и теперь не стал бы ворошить прошлое, если бы не возникла необходимость предупредить смельчаков о предстоящих им кошмарных встречах.
Ураган действительно произвел бесчисленные разрушения. Трудно сказать, удалось бы людям выжить, не будь еще одного вмешательства в их судьбы. Вряд ли. На нашу экспедицию еще не обрушивался такой жестокий ураган, который бы в ярости швырял и крошил ледяные глыбы. Один ангар — все здесь не очень-то подготовили к подобным стихийным бедствиям — был просто стерт в порошок, а буровая вышка разнесена вдребезги. Открытые металлические части самолетов и буровой техники ледяной вихрь отполировал до ослепительного блеска, а две небольшие палатки, несмотря на высокие снежные укрепления, валялись, распластанные на снегу. С деревянного покрытия буровой установки полностью сошла вся краска, от ледяной крошки оно было сплошь выщерблено. К тому же ветер замел все следы. Мы также не нашли ни одного цельного экземпляра древнего организма — с собой увезти нам было нечего. В беспорядочной куче разных обломков нашлось несколько любопытных камней, среди них диковинные пятиконечные кусочки зеленого мыльного камня с еле заметными точечными узорами, ставшими предметом споров и разных толкований, а также некоторое количество органических остатков, в том числе и кости со странными повреждениями.
Ни одна собака не выжила; почти полностью разрушилось и спешно возведенное для них снежное убежище. Это можно было приписать действию урагана, хотя с подветренной стороны укрытия остались следы разлома, — возможно, обезумевшие от страха животные вырвались наружу сами. Все трое саней исчезли; мы объяснили пропажу тем, что бешеный вихрь унес их в неизвестном направлении. Буровая машина и устройство по растапливанию льда совсем вышли из строя, о починке не могло быть и речи, мы просто спихнули их в яму — «ворота в прошлое», как называл ее Лейк. Оставили мы в лагере и два самолета, больше других пострадавших при урагане, тем более что теперь у нас было только четыре пилота — Шерман, Денфорт, Мактай и Роупс, причем перед отлетом Денфорт пребывал в состоянии такого тяжелого нервного расстройства, что допускать его к пилотированию ни в коем случае не следовало. Все, что мы смогли отыскать — книги, приборы и прочее снаряжение, — тоже загрузили в самолет. Запасные палатки и меховые вещи либо пропали, либо находились в негодном состоянии.
Около четырех часов дня, совершив облет местности на небольшой высоте в надежде отыскать Гедни и убедившись, что он бесследно исчез, мы послали на «Аркхем» осторожное, обдуманное сообщение. Полагаю, благодаря нашим стараниям оно получилось спокойным и достаточно обтекаемым, поскольку все сошло как нельзя лучше. Подробнее всего мы рассказали о волнениях наших собак при приближении к загадочным находкам, чего и следовало ожидать после донесений бедняги Лейка. Однако, помнится, не упомянули, что они приходили в такое же возбуждение, обнюхивая странные зеленоватые камни и некоторые другие предметы среди всеобщего развала в лагере и на месте бурения: приборы, самолеты, машины были разворочены, отдельные детали сорваны яростным ветром — казалось, и ему не чуждо было любопытство.
О четырнадцати неведомых тварях мы высказались очень туманно. И это простительно. Сообщили, что на месте оказались только поврежденные экземпляры, но и их хватило, чтобы признать описание бедняги Лейка абсолютно точным. Было нелегко скрывать наши истинные эмоции по этому поводу, а также не называть точных цифр и не упоминать, где мы обнаружили вышеназванные экземпляры. Между собой мы уже договорились ни словом не намекать на охватившее, по-видимому, группу Лейка безумие. А чем еще, как не безумием, можно было объяснить захоронение шести поврежденных тварей — в стоячем положении, в снегу, под пятиугольными ледяными плитами с нанесенными на них точечными узорами, точь-в-точь повторяющими узоры на удивительных зеленоватых мыльных камнях, извлеченных из мезозойских или третичных пластов. А восемь цельных экземпляров, о которых упоминал Лейк, сгинули бесследно.
Мы с Денфортом постарались также не будоражить общественное мнение, сказав лишь несколько общих слов о жутком полете над горами, который предприняли на следующее утро. С самого начала было ясно, что одолеть эти высоченные горы сможет только почти пустой самолет, поэтому на разведку полетели лишь мы двое, что спасло других от немыслимых испытаний. Когда мы в час ночи вернулись на базу, Денфорт был на грани истерики, но кое-как держал себя в руках. Я легко убедил его никому не показывать наши записи и рисунки, а также прочие вещи, которые мы попрятали в карманы, и повторять всем только то, что мы решили сделать достоянием общественности. И еще — подальше упрятать пленки и проявить их позже, в полном уединении. Так что мой рассказ явится неожиданностью не только для мировой общественности, но и для бывших тогда вместе с нами участников экспедиции — Пибоди, Мактая, Роупса, Шермана и других. Денфорт оказался еще большим молчуном, чем я: он видел или думает, что видел, нечто такое, о чем не говорит даже мне.
Как известно, в своем отчете мы упоминали о трудном взлете; затем подтвердили предположение Лейка, что высочайшие вершины состоят из сланцевых и прочих древних пород и окончательно сформировались к середине команчского периода; еще раз упомянули о прилепившихся к склонам кубических фигурах необычно правильной формы, напоминающих крепостные стены; сообщили, что, судя по виду расщелин, здесь имеются и вкрапления известняка; предположили, что некоторые склоны и перешейки вполне преодолимы для альпинистов, если штурмовать их в подходящий сезон, и, наконец, объявили, что по другую сторону загадочных гор раскинулось поистине безграничное плато столь же древнего происхождения, как и сами горы, — высотой около двадцати тысяч футов над уровнем моря, с поверхностью, изрезанной скальными образованиями, проступающими под ледяной коркой, — оно плавно повышается, подходя к вертикально взмывающей, высочайшей в мире горной цепи.
Эта информация в точности соответствовала действительности и вполне удовлетворила всех на базе. Наше шестнадцатичасовое отсутствие — гораздо большее, чем того требовали полет, посадка, беглая разведка и сбор геологических образцов, — мы объяснили изрядно потрепавшим нас встречным ветром, честно признавшись, что совершили вынужденную посадку на дальнем плато. К счастью, рассказ наш выглядел вполне правдиво и достаточно прозаично: никому не пришло в голову последовать нашему примеру и совершить еще один разведывательный полет. Впрочем, всякий, кто надумал бы полететь, встретился бы с решительным сопротивлением с моей стороны, не говоря уж о Денфорте. Пока мы отсутствовали, Пибоди, Шерман, Роупс, Мактай и Уильямсон работали как каторжные, восстанавливая два лучших самолета Лейка, система управления которых была повреждена каким-то непостижимым образом.
Мы решили загрузить самолеты уже на следующее утро и немедленно вылететь на нашу прежнюю базу. Конечно, это был основательный крюк на пути к заливу Мак-Мердо, но прямой перелет через неведомые просторы мертвого континента мог быть чреват новыми неожиданностями. Продолжение исследований не представлялось возможным из-за трагической гибели наших товарищей и поломки буровой установки. Испытанный ужас и неразрешимые сомнения, которыми мы не делились с внешним миром, заставили нас покинуть этот унылый край, где, казалось, навеки воцарилось безумие.
Как известно, наше возвращение на родину прошло благополучно. Уже к вечеру следующего дня, а именно 27 января, мы, совершив быстрый беспосадочный перелет, оказались на базе, а 28-го переправились в лагерь у залива Мак-Мердо, сделав только одну кратковременную остановку из-за бешеного ветра, несколько сбившего нас с курса. А еще через пять дней «Аркхем» и «Мискатоник» с людьми и оборудованием на борту, разламывая ледяную корку, вышли в море Росса, оставив с западной стороны Землю Виктории и насмешливо ощерившиеся нам вослед громады гор на фоне темного грозового неба. Порывы и стоны ветра преображались в горах в странные трубные звуки, от которых у меня замирало сердце. Не прошло и двух недель, как мы окончательно вышли из полярных вод, вырвавшись наконец из плена этого проклятого, наводненного призраками царства, где жизнь и смерть, пространство и время вступили в дьявольский противоестественный союз задолго до того, как жизнь запульсировала на еще не остывшей земной коре.
Вернувшись, мы сделали все, дабы предотвратить дальнейшее изучение антарктического континента, дружно держа язык за зубами относительно побуждающих нас к тому причин и никого не посвящая в наши мучительные сомнения и догадки. Даже молодой Денфорт, перенесший тяжелый нервный срыв, молчал, ни слова не сказав своему лечащему врачу, а ведь, как я уже говорил, было нечто такое, что, по его разумению, только он один и видел. Со мной Денфорт тоже как воды в рот набрал, хотя тут уж, полагаю, откровенность пошла бы ему на пользу. Его признание могло бы многое объяснить, если, конечно, все это не было лишь галлюцинацией, последствием перенесенного шока. К такому выводу я пришел, слыша от него в редкие моменты, когда он терял над собой контроль, отдельные бессвязные вещи, которые он, обретая вновь равновесие, горячо отрицал.
Нам стоило большого труда сдерживать энтузиазм смельчаков, стремившихся увидеть воочию громадный белый континент, тем более что некоторые наши усилия, напротив, сыграли роль рекламы и принесли обратный результат. Мы забыли, что человеческое любопытство неистребимо: опубликованные отчеты о нашей экспедиции побуждали и других к поискам неведомого. Натуралисты и палеонтологи живо заинтересовались сообщениями Лейка об обнаруженных им древних существах, хотя мы проявили мудрость и нигде не демонстрировали ни привезенные с собой части захороненных особей, ни их фотографии. Утаили также и кости с наиболее впечатляющими глубокими рубцами, и зеленоватые мыльные камни, а мы с Денфортом скрывали от посторонних глаз фотографии и зарисовки, сделанные нами по другую сторону хребтов; оставаясь одни, мы разглаживали смятые бумаги, в страхе их рассматривали и вновь прятали подальше.
И вот теперь полным ходом идет подготовка к экспедиции Старкуэтера-Мура, и она, несомненно, будет гораздо оснащенней нашей. Если сейчас не отговорить энтузиастов, они проникнут в самое сердце Антарктики, будут растапливать лед и бурить почву до тех пор, пока не извлекут из глубин нечто такое, что, как мы поняли, может погубить человечество. Поэтому я снимаю с себя обет молчания и расскажу все, что знаю, — в том числе и об этой жуткой неведомой твари по другую сторону Хребтов Безумия.
Глава 4
Мне трудно вернуться даже мысленно в лагерь Лейка, я делаю это с большой неохотой, но надо наконец откровенно рассказать, что же мы в действительности увидели там, а потом и далее — за Хребтами Безумия. Ловлю себя на постоянном искушении — хочется опускать детали, не делать четких выводов, говорить не прямо, а намеками. Думаю, я и так уже многое сказал, теперь нужно только заполнить лакуны. Главное — ужас, который охватил нас в лагере. Я уже рассказывал о сокрушенных ветром скалах, развороченных укрытиях, приведенных в негодность машинах, странном беспокойстве собак, пропавших санях, смерти наших людей и собак, исчезновении Гедни, шести ненормально захороненных тварях, обладавших необычно плотным строением ткани, особенно если учесть, что они пролежали сорок миллионов лет в земле. Не помню, упоминал ли я о том, что мы недосчитались одного собачьего трупа. Скоро все позабыли об этом, кроме меня и Денфорта.
Основное, что я стремился утаить, касалось вида трупов и еще нескольких деликатных вещей, которые, возможно, могли приоткрыть ужасную завесу тайны и дать объяснение, казалось бы, бессвязным и непостижимым событиям. Сразу после трагедии я как мог старался отвлечь внимание своих товарищей от всех этих несоответствий — было проще, да и естественней, приписать все стихийной вспышке безумия в лагере Лейка. Эти чертовы горы могли хоть кого свести с ума, особенно здесь — в самом таинственном и пустынном месте на Земле.
Вид трупов, и человечьих и собачьих, приводил в недоумение. Казалось, они погибли в борьбе, защищаясь от дьявольски жестокого нападения неведомых врагов, искалечивших и искромсавших их тела. Насколько мы могли судить, все они были либо задушены, либо разорваны на куски. Началось все, очевидно, с собак, вырвавшихся из ненадежного загончика, который пришлось городить на некотором расстоянии от лагеря из-за патологической неприязни животных к загадочным древним организмам. Однако все предосторожности оказались тщетными. Оставшись одни, они при первых яростных порывах ураганного ветра разнесли это хилое убежище — то ли их испугал ветер, то ли растревожил источаемый кошмарными тварями едкий запах.
Но так или иначе, а зрелище было премерзким. Придется мне превозмочь отвращение и брезгливость и открыть наконец самое худшее, при этом заявив категорически, что сгинувший Гедни ни в коем случае не повинен в чудовищном злодеянии. Это наше с Денфортом глубокое убеждение, обоснованное на фактах и законах дедукции. Я уже говорил о том, что трупы были страшно изуродованы. Добавлю, что у некоторых вспороли животы и вытащили внутренности. В изощренной жестокости поступка было нечто нечеловеческое. Так обошлись не только с людьми, но и с собаками. С расчетливостью мясника у самых крупных и здоровых двуногих и четвероногих существ вырезали основательные куски плоти. Рассыпанная вокруг соль, похищенная из продуктовых запасов, хранившихся на самолетах, наводила на страшные подозрения. Весь этот кошмар мы обнаружили в одном из временных ангаров — самолет из него был, по-видимому, перед тем вытащен. Ни одно разумное объяснение этой трагедии не приходило на ум, тем более что пронесшийся ветер, возможно, уничтожил следы, которые могли бы пролить свет на загадку. Не вносили ясность и найденные клочки одежды, грубо сорванной с человеческих тел. Правда, в одном углу, менее других пострадавшем от урагана, мы увидели на снегу слабые отпечатки, но то были совсем не человеческие следы — скорее уж они напоминали те доисторические отпечатки, о которых так много говорил в последнее время бедняга Лейк. Впрочем, вблизи этих мрачных Хребтов Безумия всякое могло померещиться.
Как я уже говорил, вскоре выяснилось, что Гедни и одна из собак бесследно пропали. В убежище, где разыгралась жуткая трагедия, мы недосчитались двух человек и двух собак, но когда, осмотрев чудовищные могилы, перешли в чудом сохранившуюся палатку, где Лейк проводил вскрытие, кое-что прояснилось. Здесь мы обнаружили перемены: внутренности доисторической твари исчезли с импровизированного стола. Все сопоставив, мы пришли к выводу, что одной из столь ненормально погребенных шести тварей, той, от которой шел особенно невыносимый запах, была как раз препарированная Лейком особь. На лабораторном столе и вокруг него теперь лежало нечто иное, и нам не понадобилось много времени, чтобы понять: то были неумело рассеченные трупы — мужчины и собаки. Щадя чувства родственников, я не назову имя несчастного. Инструменты Лейка пропали, но остались следы того, что их пытались стерилизовать. Газолиновая горелка также исчезла, а рядом с местом, где она стояла, валялась куча обгоревших спичек. Мы захоронили нашего расчлененного товарища вместе с десятью другими трупами, а останки несчастной собаки — с тридцатью пятью погибшими животными. Что касается непонятных пятен на лабораторном столе и на валявшихся рядом иллюстрированных книгах, то здесь мы терялись в догадках, не зная, что и подумать.
Собственно, самое страшное я уже поведал, но настораживали и другие вещи. Мы не могли объяснить исчезновения Гедни, собаки, восьми цельных найденных Лейком организмов, трех саней, инструментов, многих иллюстрированных научных книг и книг по технике, записей и отчетов, электрических фонариков и батареек, пищи и горючего, нагревательных приборов, запасных палаток, меховых курток и прочих вещей. Приводили в недоумение и расплывшиеся пятна на книжных листах, и характер поломок в авиационной и бурильной технике — словно из-за неумелого обращения. Собаки, казалось, питали нескрываемое отвращение к этим испорченным машинам. В месте, где хранилась провизия, также царил полный беспорядок, некоторые продукты питания отсутствовали вовсе; неприятно поражало и множество сваленных в кучу консервных банок, вскрытых кое-как и совсем не в тех местах, которые для этого предназначались. Осталось загадкой и то, зачем понадобилось разбрасывать повсюду спички — использованные, поломанные, а то и совсем целые; приводили также в недоумение странные разрывы на двух или трех палатках и меховых куртках — будто их неумело приспосабливали для каких-то непонятных целей. Полное пренебрежение к трупам людей и собак, в то время как останки древних тварей были похоронены, хоть и весьма странным образом, тоже вписывалось в картину повального безумия. На всякий случай мы тщательно сфотографировали эти наглядные признаки охватившего лагерь помешательства и теперь обязательно предъявим их, чтобы предотвратить отправку экспедиции Старкуэтера-Мура.
Обнаружив в укрытии растерзанные тела людей, мы затем сфотографировали и разрыли ряд диковинных могил — пятиконечных снежных холмиков. Нам сразу же бросилось в глаза сходство странных композиций из точек, нанесенных на ледяные плиты поверх этих жутких могил, с узорами на чудных зеленых камнях, о которых говорил бедняга Лейк. Когда же мы выискали эти камни среди прочих минералов, то еще раз убедились, что он был прав. Тут нужно внести ясность: камни неприятнейшим образом напоминали звездчатые головы древних тварей, и мы все согласились, что это сходство могло сыграть роковую роль, подействовав на возбужденное воображение смертельно уставших людей Лейка.
Сумасшествие — вот единственное объяснение, которое приходило на ум, во всяком случае, единственное, которое произносилось вслух. Гедни находился под особым подозрением — ведь только он мог остаться в живых. Впрочем, я не настолько наивен, чтобы не предположить, что у каждого из нас были другие объяснения случившегося, но они казались нам слишком уж фантастическими, и здравый смысл удерживал нас от попыток четко их сформулировать. Днем Шерман, Пибоди и Мактай совершили продолжительный полет над окрестностями, тщетно пытаясь отыскать следы Гедни или что-нибудь из пропавших вещей. Вернувшись, они сообщили, что гигантские горы, похоже, тянутся бесконечно далеко и вправо, и влево, не снижаясь и сохраняя единую структуру. На некоторых пиках правильные кубы и нечто напоминавшее крепостные валы вырисовывались четче, чем на прочих, усиливая сходство с изображенными на картинах Рериха руинами в горах Азии. Что касается загадочных отверстий — возможных входов в пещеры, то они распределялись довольно равномерно на свободных от снега темных вершинах.
Несмотря на ниспосланные тяжелые испытания, в нас не угасала научная любознательность и томил один и тот же вопрос: что же таится там, за таинственными горными хребтами? В полночь, после кошмарного дня, полного неразрешимых загадок, мы сообщили по радио, избегая подробностей, что хотим наконец отдохнуть. На следующее утро было намечено совершить один или несколько разведывательных полетов через хребты — налегке, прихватив с собой только геологические инструменты и аэрокамеру. Первыми готовились лететь мы с Денфортом, поэтому в семь утра были уже на ногах, но из-за сильного ветра полет пришлось перенести на девять, о чем мы опять-таки поведали в краткой сводке по радио.
Я уже не раз повторял ту неопределенно-уклончивую информацию, которой, вернувшись спустя шестнадцать часов, мы поделились со своими оставшимися в лагере товарищами, а также с остальными, ждущими наших сообщений вдалеке. Теперь же должен выполнить свой тягостный долг и заполнить наконец оставленные мной из чувства человеколюбия лакуны, рассказав хотя бы часть того, что увидели мы в действительности по другую сторону адских хребтов и что привело Денфорта к последующему нервному срыву. Хотелось, чтобы и Денфорт чистосердечно поведал о том, что, по его убеждению, он видел (хотя не исключена возможность галлюцинации) и что, допускаю, и привело его к настоящему жалкому состоянию. Но он отказался наотрез. Могу лишь воспроизвести на бумаге его бессвязный лепет по поводу зрелища, из-за которого он непрерывно вопил в течение всего обратного полета, когда нас болтал разыгравшийся не на шутку ветер. Впрочем, и остального, увиденного нами вместе, хватило бы, чтобы свести кого угодно с ума. Об этом я сейчас и поведаю. Если рассказ о доживших до нашего времени жутких монстрах, на который я решился, чтобы удержать безумцев от путешествия в центральную часть Антарктики или хотя бы от желания проникнуть в недра этого бескрайнего материка, полного неразгаданных тайн и несущего печать векового проклятия пустынных просторов, в которых нет ничего человеческого, если этот рассказ не остановит их — ну что ж, тогда, по крайней мере, я не буду в ответе за чудовищные и непредсказуемые последствия.
Изучив записи, сделанные Пибоди во время его дневного полета, и сверив их с показаниями секстанта, мы с Денфортом вычислили, что самое подходящее место для перелета через горы находится правее лагеря, высота хребта там минимальная — двадцать три или двадцать четыре тысячи футов над уровнем моря. Все же мы полностью разгрузили самолет. Лагерь наш находился в предгорьях, достигавших и так приблизительно двенадцати тысяч футов, поэтому фактически нам нужно было подняться не на такую уж большую высоту. Тем не менее, взлетев, мы остро почувствовали нехватку воздуха и мучительный холод: из-за плохой видимости пришлось оставить иллюминаторы открытыми. Вряд ли стоит говорить о том, что мы натянули на себя из одежды все, что смогли.
Приближаясь к мрачным вершинам, грозно темневшим над снежной линией, отделявшей обнаженную породу от вечных льдов, мы замечали все большее количество прилепившихся к горным склонам геометрически правильных конструкций и в очередной раз вспоминали загадочные картины Николая Рериха из его азиатской серии. Вид выветрившихся древних пород полностью соответствовал описаниям Лейка: скорей всего, эти гиганты точно так же высились здесь и в исключительно давние времена — более пятидесяти миллионов лет назад. Гадать, насколько выше они были тогда, представлялось бессмысленным, хотя по всем приметам некие особые атмосферные условия в этом таинственном районе препятствовали переменам, сдерживая обычный процесс разрушения горных пород.
Волновали и дразнили наше воображение скорее уж все эти правильной формы кубы, пещеры и крепостные валы. Денфорт вел самолет, а я рассматривал их в бинокль, то и дело щелкая аэрокамерой и иногда замещая у руля своего товарища, чтобы дать и ему возможность полюбоваться в бинокль на все эти диковины. Впрочем, ненадолго, ибо мое искусство пилотирования оставляло желать лучшего. Мы уже поняли, что странные композиции состояли по большей части из легкого архейского кварцита, которого больше нигде вокруг не было, а удивительная равномерность их чередования пугала и настораживала нас, как и беднягу Лейка.
Все прочее, сказанное им, тоже оказалось правдой: края этих каменных фигур за долгие годы искрошились и закруглились, но исключительная прочность камня помогла ему выстоять. Нижние, примыкающие к склону части кубов казались схожими с породами хребтов. Все вместе это напоминало развалины Мачу-Пикчу[3] в Андах или крепостные стены Киша[4], обнаруженные археологической экспедицией Оксфордского музея под открытым небом. Нам с Денфортом несколько раз почудилось, что все эти конструкции состоят из отдельных гигантских глыб, то же самое померещилось и Кэрролу, сопровождавшему Лейка в полете. Какое объяснение можно дать этому, я не понимал и чувствовал себя как геолог посрамленным.
Вулканические породы часто принимают необычные формы, стоит вспомнить хотя бы знаменитую Дорогу Великанов в Ирландии, но здесь-то, несмотря на первоначальное предположение Лейка о наличии в горной цепи вулканов, было нечто другое.
Необычные пещеры, рядом с которыми группировались эти диковинные каменные образования, казались не меньшей загадкой — слишком уж правильной формы были отверстия. Чаще всего они представляли собой квадрат или полукруг (что соответствовало сообщению Лейка), как если бы чья-то волшебная рука придала этим естественным входам более законченную симметричную форму. Их насчитывалось на удивление много; видимо, весь известняковый слой был здесь пронизан подземными туннелями. Хотя недра пещер оставались недоступными для наших биноклей, но у самого их входа мы кое-что могли рассмотреть, но не заметили там ни сталактитов, ни сталагмитов. Горная поверхность вблизи пещер была необычно ровной и гладкой, а Денфорту чудилось, что небольшие трещины и углубления складывались в непонятный узор. Немудрено, что после пережитых в лагере потрясений узор этот смутно напомнил ему странный точечный рисунок на зеленоватых камнях, воспроизведенный безумцами на кошмарных ледяных надгробиях шести чудовищных тварей.
Мы медленно набирали высоту, готовясь перелететь через горы в том месте, которое казалось относительно ниже остального хребта. Время от времени поглядывая вниз, мы прикидывали, смогли бы покорить это ледовое пространство, если бы у нас было не новейшее снаряжение, а то, что применялось раньше. К нашему удивлению, подъем не отличался особой крутизной; встречались, конечно, расселины и прочие трудные места, но все же сани Скотта, Шеклтона или Амундсена, без сомнения, прошли бы здесь. Ледники подступали к открытым всем ветрам перевалам — оказавшись над нашим, мы убедились, что и он не был исключением.
Трудно описать волнение, с которым мы ожидали встречи с неведомым миром по другую сторону хребтов, хотя не было никаких оснований полагать, что он существенно отличается от остального континента. Но какая-то мрачная, гнетущая тайна чудилась в этих горах, в манящей переливчатой глубине неба между вершинами — это ощущение невозможно передать на бумаге, оно слишком неопределенно и зыбко. Дело здесь, видимо, заключалось в эстетических ассоциациях, в налете психологического символизма, вспоминались экзотическая поэзия и живопись, в подсознании всплывали древние миры из потаенных книг. Даже в завываниях ветра слышалась некая злобная воля; порой нам казалось, что этот вой сопровождается какой-то дикой музыкой — то ли свистом, то ли трубными звуками, — так случалось, когда ветер забирался в многочисленные гулкие пещеры. Звуки эти вызывали у нас какое-то неосознанное отвращение — сложное, необъяснимое чувство, которое возникает, когда сталкиваешься с чем-то порочным.
Мы немного снизили высоту и теперь летели, согласно показаниям анероида, на высоте 23570 футов — район вечных снегов остался внизу. Выше нас чернели только голые скалистые вершины, облепленные загадочными кубами и крепостными валами и продырявленные поющими пещерами, — все это создавало ощущение чего-то ненатурального, фантастического, иллюзорного; отсюда начинали свой путь и остроконечные ледники. Вглядываясь в высоченные пики, я, кажется, видел тот, упомянутый несчастным Лейком, на вершине которого ему померещился крепостной вал. Пик этот был почти полностью затянут особым антарктическим туманом — Лейк принял его за признаки вулканической активности. А перед нами лежал перевал, и ветер, завывая, проносился меж его неровных и мрачно насупленных каменных стен. Дальше простиралось небо, по нему, освещенному низким полярным солнцем, ползли кудрявые облачка. Внизу же находился тот неведомый мир, который еще не удавалось лицезреть смертному. Еще немного — и он откроется перед нами. Заглушая все вокруг, с яростным воем несся через перевал ветер, в его реве, усиливавшемся шумом мотора, можно было расслышать разве что крик, и потому мы с Денфортом обменялись лишь красноречивым взглядом. Но вот последние футы позади — и перед нами неожиданно как бы распахнулись двери в древний и абсолютно чужой мир, таящий множество нераскрытых секретов.
Глава 5
Думаю, в этот момент мы оба одновременно издали крик, в котором смешалось все — восторг, удивление, ужас и недоверие. Конечно, у нас имелись кое-какие познания, умерявшие наши чувства. Можно было, например, вспомнить причудливую природную форму камней Сада Богов в Колорадо или удивительную симметричность отполированных ветром скал Аризонской пустыни. Или принять открывшееся зрелище за мираж, вроде того, что созерцали прошлым утром, подлетая к Хребтам Безумия. Надо было непременно опереться на что-то известное, привычное, чтобы не лишиться рассудка при виде бескрайней ледяной пустыни, на которой сохранились следы разрушительных ураганов, и кажущегося так же бесконечным грандиозного, геометрически правильного каменного лабиринта со своей внутренней ритмикой, вздымающего свои вершины, испещренные трещинами и впадинами, над вечными снегами. Снежный покров здесь, кстати, был не более сорока-пятидесяти футов, а кое-где и того меньше.
Невозможно передать словами впечатление от кошмарного зрелища — ведь здесь, не иначе как по наущению дьявола, оказались порушенными все законы природы. На этом древнем плоскогорье, вознесенном на высоту двадцати тысяч футов над уровнем моря, с климатом, непригодным для всего живого еще за пятьсот тысяч лет до появления человека, на всем протяжении этой ледяной равнины высились — как бы ни хотелось, в целях сохранения рассудка, списать все на обман зрения — каменные джунгли явно искусственного происхождения. А ведь раньше мы даже и мысли не допускали, что все эти кубы и крепостные валы могут быть сотворены отнюдь не природой. Да и как допустить, если человек в те времена, когда материк сковал вечный холод, еще мало чем отличался от обезьяны?
Но теперь власть разума основательно поколебалась: гигантский лабиринт из квадратных, округлых и прямоугольных каменных глыб давал недвусмысленное представление о своей подлинной природе. Это был, несомненно, тот самый дьявольский город-мираж, только теперь он раскинулся перед нами как объективная, неотвратимая реальность. Выходит, проклятое наваждение имело под собой материальное основание: отражаясь в облаках ледяной пыли, этот доисторический каменный монстр посылал свой образ через горный хребет. Призрачный фантом, конечно, нес в себе некоторые преувеличения и искажения, отличаясь от первоисточника, и все же реальность показалась нам куда страшнее и опасней грезы.
Только колоссальная, нечеловеческая плотность массивных каменных башен и крепостных стен уберегла от гибели это жуткое творение, которое сотни тысяч — а может, и миллионов — лет дремало здесь, посередине ледяного безмолвия. «Corona Mundi — Крыша Мира…» С наших губ срывались фразы одна бессвязнее другой; наши головы кружило от невероятного зрелища, раскинувшегося внизу. Мне вновь пришли на ум таинственные древние мифы, которые так часто вспоминались в этом мертвом антарктическом крае: демоническое плато Ленг; Ми-Го, омерзительный снежный человек Гималаев; Пнакотические рукописи с содержащимися там намеками на их «нечеловеческое» происхождение; культ Ктулху, «Некрономикон»; гиперборейские легенды о бесформенном Цатогуа и звездных пришельцах, еще более аморфных.
Город тянулся бесконечно далеко в обе стороны, лишь изредка плотность застройки редела. Как бы пристально ни вглядывались мы в его правую от нас или левую части, протянувшиеся вдоль низких предгорий, мы не видели большого просвета — только с левой стороны от перевала, над которым мы пролетели, была небольшая прогалина. По чистой случайности мы наткнулись как бы на пригород — небольшую часть огромного мегаполиса. Предгорья заполняли фантастического вида каменные постройки, соединявшие зловещий город с уже знакомыми нам кубами и крепостными валами; последние, по всей видимости, являлись не чем иным, как оборонительными сооружениями. Здесь, на внутренней стороне хребтов, они были, на первый взгляд, столь же основательными, как и на внешнем склоне.
Неведомый каменный лабиринт состоял по большей части из стен, высота которых колебалась от десяти до ста пятидесяти футов (не считая скрытого подо льдом), а толщина — от пяти до десяти футов. Сложены они были из огромных глыб — темных протерозойских сланцев. Строения очень отличались друг от друга размерами. Некоторые соединялись на манер сот, и сплетения эти тянулись на огромные расстояния. Постройки поменьше стояли отдельно. Преобладали конические, пирамидальные и террасированные формы, хотя встречались сооружения в виде нормальных цилиндров, совершенных кубов или их скоплений, а также другие прямоугольные формы; кроме того, повсюду были разбросаны причудливые пятиугольные строения, немного напоминавшие современные фортификационные объекты. Строители постоянно и со знанием дела использовали принцип арки; возможно также, что в период расцвета город украшали купола.
Все эти каменные дебри изрядно повыветрились, а само ледяное поле, на котором возвышалась верхняя часть города, было засыпано обломками обрушившихся глыб, покоившихся здесь с незапамятных времен. Там, где лед был попрозрачнее, просматривались фундаменты и нижние этажи гигантских зданий, а также каменные мосты, соединявшие башни на разных уровнях. На открытом воздухе мосты не уцелели, но на стенах от них остались следы. Вглядевшись пристальнее, мы заметили изрядное количество довольно больших окон, кое-где закрытых ставнями — изготовленными изначально, видимо, из дерева, а со временем ставшими окаменелостью, — но в массе своей окна угрожающе зияли пустыми глазницами. Крыши в основном отсутствовали, а края стен были стерты и закруглены, но некоторые строения, преимущественно конической или пирамидальной формы, окруженные высокими ограждениями, стояли незыблемо наперекор времени и стихиям. В бинокль нам удалось даже разглядеть орнамент на карнизах — в нем присутствовали все те же странные группы точек, что и на древних камнях, но теперь это представлялось в совершенно новом свете. Многие сооружения разрушились, а лед раскололся по причинам чисто геологического свойства. Кое-где камень истерся вплоть до самого льда. Через весь город тянулся широкий, свободный от построек «проспект» — он шел к расщелине в горной низине, приблизительно в миле от перешейка. По нашим предположениям, это могло быть русло большой реки, которая протекала здесь миллионы лет назад, в третичный период, теряясь под землей и впадая в бездонную пропасть где-нибудь под огромными горами. Ведь район этот — со множеством пещер и коварных бездн — явно таил в себе недоступные людям подземные тайны.
Удивительно, как нам удалось сохранить равновесие духа при том изумлении, которое охватило нас от поразительного, невозможного зрелища — города, восставшего из предвечных глубин, задолго до появления на Земле человека. Что же все-таки происходило? Путаница с хронологией? Устарели научные теории? Нас подвело собственное сознание? Ответа мы не знали, но все же держали себя в руках, продолжая заниматься своим делом — вели самолет согласно курсу, наблюдали одновременно множество вещей и непрерывно фотографировали, надеясь, что это сослужит и нам, и всему человечеству хорошую службу. В моем случае работал укоренившийся навык ученого: любознательность одержала верх над понятной растерянностью и даже страхом — хотелось проникнуть в вековые тайны и узнать, что за существа жили здесь, возводя свои жилища на столь огромной территории, и как они соотносились с миром.
То, что мы увидели, нельзя было назвать обычным городом, нашим глазам открылась поразительная страница из древнейшей и невероятнейшей главы земной истории. Следы ее сохранились разве что в самых темных, искаженных легендах, ведь глубокие катаклизмы уничтожили все, что могло просочиться за эти гигантские стены. Страница, однако, подошла к концу задолго до того, как человечество потихоньку выбилось из обезьяньего царства. Перед нами простирался палеогенный мегаполис, в сравнении с которым легендарные Атлантида и Лемурия Коммория, Узулдарум и Олатоэ в земле Ломар относились даже не ко вчерашнему дню истории, а к сегодняшнему; этот мегаполис вставал в один ряд с такими дьявольскими порождениями, как Валусия, Р’лайх, Иб в земле Мнар и Безымянный город в Аравийской пустыне. Когда мы летели над бесконечными рядами безжизненных гигантских башен, воображение то и дело уносило меня в мир фантастических ассоциаций, и тогда протягивались незримые нити между этим затерянным краем и ужасом, пережитым мной в лагере и теперь бередившим мой разум неясными догадками.
Нам следовало соблюдать осторожность и не слишком затягивать полет: стремясь как можно больше уменьшить вес, мы залили неполные баки. И все же мы основательно продвинулись вперед, снизив высоту и тем самым ускользнув от ветра. Ни горным хребтам, ни подходившему к самым предгорьям ужасному городу не было, казалось, ни конца ни края. Пятьдесят миль полета вдоль хребтов не выявили ничего нового в этом неизменном каменном лабиринте. Вырываясь, подобно заживо погребенному, из ледяного плена, он однообразно простирался в бесконечность. Впрочем, некоторые неожиданные вещи все же встречались, вроде узоров, выбитых на скалах ущелья, где широкая река когда-то прокладывала себе дорогу через предгорья, прежде чем излиться в подземелье. Утесы по краям ущелья были дерзко превращены безвестными ваятелями в гигантские столбы, и что-то в их бочкообразной форме будило в Денфорте и во мне смутные, тревожные и неприятные воспоминания.
Нам также повстречались открытые пространства в виде пятиконечных звезд (по-видимому, площади), обратили мы внимание и на значительные неровности в поверхности. Там, где дыбились скалы, их обычно превращали в каменные здания, но мы заметили по меньшей мере два исключения. В одном случае камень слишком истерся, чтобы можно было понять его предназначение; в другом же из скалы был высечен грандиозный цилиндрической формы памятник, несколько напоминающий знаменитое Змеиное надгробие в древней долине Петры.
По мере облета местности нам становилось ясно, что в ширину город имел свои пределы — в то время как его протяженность вдоль хребтов казалась бесконечной. Через тридцать миль диковинные каменные здания стали попадаться реже, а еще через десять под нами оказалась голая ледяная пустыня — без всяких следов хитроумных сооружений. Широкое русло реки плавно простиралось вдаль, а поверхность земли, казалось, становилась все более неровной, отлого поднимаясь к западу и теряясь там в белесой дымке тумана.
До сих пор мы не делали попыток приземлиться, но разве можно было вернуться, не попробовав проникнуть в эти жуткие и величественные сооружения! Поэтому мы решили выбрать для посадки место поровнее — в предгорье, ближе к перешейку, и, оставив там свой самолет, совершить пешую вылазку. Снизившись, мы разглядели среди руин несколько довольно удобных для нашей цели мест. Выбрав то, что лежало ближе к перевалу — ведь нам предстояло возвращаться в лагерь тем же путем, — мы точно в 12:30 дня приземлились на ровный и плотный снежный наст, откуда ничто не могло помешать нам спустя некоторое время легко и быстро взлететь.
Мы не собирались надолго отлучаться, да и ветра особого не было, поэтому решили не насыпать вокруг самолета заслон из снега, а просто укрепить его лыжные шасси и по возможности утеплить двигатель. Мы сняли лишнюю меховую одежду, а из снаряжения захватили с собой в поход немногое: компас, фотоаппарат, немного еды, бумагу, толстые тетради, геологический молоток и долото, мешочки для образцов, моток веревки, мощные электрические фонарики и запасные батарейки. Всем этим мы запаслись еще перед отлетом, надеясь, что нам удастся-таки совершить посадку, сделать несколько снимков, зарисовок и топографических чертежей, а также взять несколько образцов обнаженных пород — со скал или в пещерах. К счастью, у нас был с собой основательный запас бумаги, которую мы порвали на клочки, сложили в свободный рюкзак, чтобы в случае необходимости, если попадем в подземные лабиринты, применить принцип игры в «зайцев — собак». Найди мы пещеры, где не гулял бы ветер, этот удобный метод позволил бы продвигаться вперед с большей скоростью, чем обычные при таких подземных экскурсиях опознавательные насечки на камнях.
Осторожно спускаясь вниз по плотному снежному насту в направлении необъятного каменного лабиринта, затянутого на западе призрачной дымкой, мы остро ощущали близость чуда; подобное состояние мы пережили четыре часа назад, когда подлетали к перевалу в этих таящих вековые тайны хребтах. Конечно, теперь мы уже кое-что знали о том, что прячут за своей мощной спиной горы, но одно дело глазеть на город с самолета, и совсем другое — ступить самому внутрь этих древних стен, понимая, что возраст их исчисляется миллионами лет и что они стояли здесь задолго до появления на Земле человека. Иначе чем благоговейным ужасом это состояние не назовешь, ведь к нему примешивалось ощущение некоей космической аномалии. Хотя на такой значительной высоте воздух был окончательно разрежен, что затрудняло движение, мы с Денфортом чувствовали себя неплохо, полагая в своем энтузиазме, что нам по плечу любая задача. Неподалеку от места посадки торчали вросшие в снег бесформенные руины, а немного дальше поднималась над ледяной корой — примерно футов на десять-одиннадцать — огромная крепость в виде пятиугольной звезды со снесенной крышей. К ней мы и направились, и когда наконец прикоснулись к этим источенным временем гигантским каменным глыбам, нас охватило чувство, что мы установили беспрецедентную и почти богохульственную связь с канувшими в пучину времени веками, до сих пор наглухо закрытыми от наших сородичей.
Эта крепость, расстояние между углами которой равнялось тремстам футам, была сложена из известняковых глыб юрского периода, каждая в среднем шириной в шесть, длиной в восемь футов. Вдоль всех пяти лучей, на четырехфутовой высоте над сверкающей ледяной поверхностью, тянулся ряд симметрично выдолбленных сводчатых окошек. Заглянув внутрь, мы обнаружили, что стены были не менее пяти футов толщиной, все перегородки внутри отсутствовали, зато сохранились следы резного орнамента и барельефных изображений — о чем мы догадывались и раньше, пролетая низко над подобными сооружениями. О том, как выглядит нижняя часть помещения, можно было только догадываться, ибо вся она была сокрыта под темной толщей снега и льда.
Мы осторожно передвигались от окна к окну, тщетно пытаясь разглядеть узоры на стенах, но не делая никаких попыток влезть внутрь и сойти на ледяной пол. Во время полета мы убедились, что некоторые здания менее других скованы льдом, и нас не оставляла надежда, что там, где сохранились крыши, можно ступить на свободную от снега землю. Прежде чем покинуть крепость, мы сфотографировали ее в нескольких ракурсах, а также внимательно осмотрели могучие стены, стараясь понять принцип их кладки. Как сожалели мы, что рядом нет Пибоди: его инженерные познания помогли бы нам понять, как в те безумно отдаленные от наших дней времена, когда создавался город, его строители управлялись с этими неподъемными глыбами.
Навсегда, до мельчайшей подробности, запечатлен в моем сознании наш путь длиной в полмили до настоящего города; высоко над нами, в горах, все это время буйствовал, свирепо рыча, ветер. Наконец перед нами раскинулось призрачное зрелище — такая фантасмагория прочим смертным могла привидеться только в страшном кошмаре. Чудовищные переплетения темных каменных башен на фоне белесого, словно бы вспученного тумана меняли облик с каждым нашим шагом. Это был мираж из камня, и если бы не сохранившиеся фотографии, я бы до сих пор сомневался, въяве ли все это видел. Принцип кладки оставался тот же, что и в крепости, но невозможно описать те причудливые формы, которые принимал камень в городских строениях.
Снимки запечатлели лишь пару наглядных примеров этого необузданного разнообразия, грандиозности и невероятной экзотики. Вряд ли Эвклид подобрал бы названия некоторым из встречающихся здесь геометрических фигур — усеченным конусам неправильной формы; вызывающе непропорциональным портикам; шпилям со странными выпуклостями; необычно сгруппированным разрушенным колоннам; всевозможным пятиугольным и пятиконечным сооружениям, непревзойденным в своей гротескной фантастичности. Находясь уже в окрестностях города, мы видели там, где лед был прозрачным, темневшие в ледяной толще трубы каменных перемычек, соединявших эти невероятные здания на разной высоте. Улиц в нашем понимании здесь не было — только там, где прежде протекала древняя река, простиралась открытая полоса, разделявшая город пополам.
В бинокли нам удалось разглядеть вытянутые по длине зданий полустершиеся барельефы и орнаменты из точек; так понемногу в нашем воображении начал складываться былой облик города, хотя теперь в нем отсутствовало большинство крыш, шпилей и куполов. Когда-то он был весь пронизан тесными проулками, похожими на глубокие ущелья, некоторые чуть ли не превращались в темные туннели из-за нависших над ними каменных выступов или арок мостов. А сейчас он раскинулся перед нами как порождение чьей-то мрачной фантазии, за ним клубился туман, в северной части которого пробивались розоватые лучи низкого антарктического солнца. Когда же на мгновение солнце скрылось совсем и все погрузилось в полумрак, мы отчетливо уловили некую смутную угрозу, характер которой мне трудно описать. Даже в отдаленном завывании не достигающего нас ветра, бушующего на просторе среди гигантских горных вершин, почудилась зловещая интонация. У самого города нам пришлось преодолеть исключительно крутой спуск, где обнаженная порода по краям равномерно чередующихся выступов заставила меня подумать, что, видимо, в далеком прошлом здесь существовала искусственная каменная лестница. Без сомнения, глубоко подо льдом обнаружились бы ступени или что-нибудь в этом роде.
Когда наконец мы вступили в город и стали продвигаться вперед, карабкаясь через рухнувшие обломки каменных глыб и чувствуя себя карликами рядом с выщербленными и потрескавшимися стенами-гигантами, нервы наши вновь напряглись до такой степени, что мы лишь чудом сохраняли самообладание. Денфорт поминутно вздрагивал и изводил меня совершенно неуместными и крайне неприятными предположениями относительно того, что на самом деле произошло в лагере. Мне они были просто отвратительны: ведь вид этого ужасного города-колосса, поднявшегося из темной пучины глубокой древности, и меня наталкивал на определенные выводы. У Денфорта не на шутку разыгралось воображение: он настаивал, что там, где засыпанный обломками проулок делает крутой поворот, видел удручившие его непонятные следы; он постоянно оглядывался, уверяя, что слышит еле различимую, неведомо откуда доносящуюся музыку — приглушенные трубные звуки, напоминающие завывание ветра. Наводили на тревожные мысли и навязчивое пятиконечие в архитектуре, и рисунок нескольких сохранившихся орнаментов; в нашем подсознании уже поселилась ужасная догадка, кем были первобытные создания, которые воздвигли этот богохульственный город и жили в нем.
В нас, однако, не совсем угас интерес первооткрывателей и ученых, и мы продолжали механически отбивать кусочки камней от разных глыб — пород, применявшихся в строительстве. Хотелось набрать их побольше, чтобы точнее определить возраст города. Громадные внешние стены были сложены из юрских и команчских камней, да и во всем городе не нашлось бы камешка моложе плиоцена. Несомненно, мы блуждали по городу, который был мертв по крайней мере пятьсот тысяч лет, а может, и больше.
Кружа по этому сумрачному каменному лабиринту, мы останавливались у каждого доступного нам отверстия, чтобы заглянуть внутрь и прикинуть, нельзя ли туда забраться. До некоторых окошек было невозможно дотянуться, в то время как другие открывали нашему взору вросшие в лед руины под открытым небом, вроде повстречавшейся нам первой крепости. Одно, достаточно просторное, так и манило воспользоваться им, но под ним разверзалась настоящая бездна, а никакого спуска мы не разглядели. Несколько раз нам попадались уцелевшие ставни; дерево, из которого их изготовили, давно окаменело, но строение его, отдельные прожилки еще различались, и эта ожившая перед нами древность кружила голову. Ставни вырезали из мезозойских голосеменных хвойных деревьев, а также из веерных пальм и покрытосеменных деревьев третичного периода. И здесь — ничего моложе плиоцена. Судя по расположению ставен, по краям которых сохранились метки от давно распавшихся петель странной формы, они крепились не только снаружи, но и внутри. Их, казалось, заклинило, и это помогло им сохраниться, пережив изъеденные ржавчиной металлические крепления и запоры.
Наконец мы напали на целый ряд окон — в венчавшем здание громадном пятиугольнике; сквозь них просматривалась просторная, хорошо сохранившаяся комната с каменным полом, однако спуститься туда без веревки не представлялось возможным. Веревка лежала у нас в рюкзаке, но не хотелось возиться без крайней необходимости с двадцатифутовой связкой, особенно в такой разреженной атмосфере, где сердечно-сосудистая система испытывала большие перегрузки. Огромная комната была, скорее всего, главным вестибюлем или залом, и наши электрические фонарики высветили четкие барельефы с поражавшими воображение резными портретами, идущими широкой полосой по стенам зала и отделенными друг от друга традиционным точечным орнаментом. Постаравшись получше запомнить это место, мы решили вернуться сюда в том случае, если не найдем ничего более доступного.
В результате мы отыскали проем в стене с арочным перекрытием, шириной шесть и длиной десять футов — прежде сюда подходил воздушный мостик, соединявший между собой здания. Не знаю, как раньше, но теперь бы он располагался всего в пяти футах над ледяным покровом. Эти сводчатые проходы соответствовали верхним этажам; сохранился здесь, к счастью, и пол. Фасадом это доступное для нас строение было обращено на запад, спускаясь ко льду террасами. Напротив него, там, где зиял другой арочный проем, возвышалась обшарпанная глухая постройка цилиндрической формы с венчающим ее округлым утолщением — футах в десяти над единственным отверстием.
Гора обломков облегчила нам вход в первый дом, но хотя мы ждали такого удобного случая и мечтали о нем, на какое-то время нас охватило сомнение. Мы не побоялись влиться в эту стародавнюю мистерию, это правда, но тут нам предстояло вновь собраться с духом и войти в уцелевшее здание баснословно древней эпохи, природа которой постепенно открывалась нам во всей своей чудовищной неповторимости. В конце концов мы почти заставили себя вскарабкаться по обледенелым камням к провалу в стене и спрыгнуть на выложенный сланцами пол — туда, где, как мы еще раньше разглядели, находился вестибюль с барельефными портретами по стенам.
Отсюда во все стороны расходились арочные коридоры, и, понимая, как легко заблудиться в этом сплетении коридоров и комнат, мы решили, что пора рвать бумагу. До сих пор мы ориентировались по компасу, а то и просто на глазок — по видимым отовсюду хребтам, лишь ненадолго заслоняемым шпилями башен, но теперь это было невозможно. Мы порвали всю лишнюю бумагу и запихнули клочки в рюкзак Денфорта, порешив тратить ее по возможности экономнее. Этот способ казался подходящим: в старинном сооружении не было сквозняков. А в случае, если ветер вдруг все же разгуляется или кончится бумага, мы сможем прибегнуть к более надежному, хотя и требующему больших усилий способу — начнем делать зарубки.
Трудно было понять, как далеко простирается этот лабиринт. Строения в городе так тесно соприкасались друг с другом, что можно было незаметно переходить из одного в другое по мостикам прямо подо льдом, если, конечно, не натолкнешься на последствия геологических катаклизмов. Обледеневших участков внутри встречалось не так уж много. Там же, где мы все-таки натыкались на ледяную толщу, повсюду сквозь прозрачную поверхность видели плотно закрытые ставни, как будто город специально подготовили к нашествию холода — как бы законсервировали на неопределенное время. Трудно было отделаться от впечатления, что город не бросили в спешке, застигнутые внезапной бедой, а покинули сознательно. И речи не могло идти о постепенном вымирании. Может, жители знали заранее о вторжении холода, может, ушли из города en masse[5], отправившись на поиски более надежного пристанища? Нельзя ответить с точностью, какие геофизические условия способствовали образованию ледяного покрова в районе города. Это не мог быть долгий, изнурительный процесс. Возможно, причина крылась в излишнем скоплении снега или в разливе реки, а может, прорвала заслоны снежная лавина, обрушившаяся на город с гигантских горных хребтов. В этом невероятном месте могли прийти на ум самые фантастические объяснения.
Глава 6
Вряд ли стоит описывать шаг за шагом наши скитания в этом древнем как мир лабиринте — переплетении отдельных помещений-ячеек, в этом чудовищном хранилище вековечных тайн, куда впервые за минувшие тысячелетия ступила нога человека. Какая драма выстроилась из настенной резьбы перед нашим внутренним взором, какие ужасные открытия захватили наш разум! Фотографии, сделанные нами, могут подтвердить достоверность моего рассказа, жаль только, что не хватило на все пленки. Впрочем, мы восполнили ее недостаток зарисовками.
Здание, куда мы проникли, было огромным и величественным — внушительный образец архитектуры неведомой геологической эпохи. Внутренние стены не отличались такой же массивностью, как внешние, но отлично сохранились на нижних этажах. Изощренная запутанность лабиринта усложнялась здесь постоянной сменой уровней, переходом с одного этажа на другой, и не прибегни мы к испытанному способу с клочками бумаги, которые разбрасывали по всему пути, то, несомненно, заблудились бы сразу. Сначала мы решили обследовать более ветхие помещения и потому взобрались футов на сто вверх, туда, где под полярным небом, открытые снегу и ветру, понемногу разрушались комнаты, находившиеся когда-то под самой крышей. Вместо лестниц тут применялись лежащие под небольшим углом каменные плиты с ребристой поверхностью. Помещения были самых разнообразных размеров и форм — от излюбленных звездчатых до треугольных и квадратных. Можно с уверенностью сказать, что площадь каждого из них в среднем равнялась 30 на 30 футов, а высота — футов двадцать, хотя попадались комнаты и побольше. Облазив весь верхний этаж и осмотрев ледяной покров, мы спустились в нижние помещения, где, собственно, и начинался настоящий лабиринт — комнаты и коридоры переходили одни в другие, сливаясь и расходясь снова, — все эти запутанные ходы тянулись бесконечно далеко, выходя за пределы дома. Каждый новый зал превосходил предыдущий размерами; скоро эта необъятность окружающего стала исподволь подавлять нас, тем более что в очертаниях, пропорциях, убранстве и неуловимых особенностях древней каменной кладки таилось нечто глубоко чуждое человеческой натуре. Довольно скоро мы поняли из резных настенных изображений, что этот противоестественный город выстроен много миллионов лет тому назад.
Нам оставался неясен инженерный принцип, в соответствии с которым все эти огромные глыбы удерживались в равновесии, плотно прилегая друг к другу; одно было понятно — в нем явно много значила арка. В комнатах отсутствовала какая-либо мебель, они были абсолютно пусты, что говорило в пользу того, что город покинули по заранее составленному плану. Единственным украшением являлась настенная скульптура, высеченная в камне горизонтальными полосами шириной три фута; барельефы чередовались с полосами орнамента той же ширины из геометрических фигур. Было несколько исключений, но, как говорится, они лишь подтверждали правило. Часто, впрочем, среди орнамента мелькали картуши из причудливо расположенных точек.
Приглядевшись, мы отметили высокий уровень техники резьбы, но исключительное мастерство не вызывало в нас теплого отклика — слишком уж чуждо оно было всем художественным традициям человечества. Однако в искусстве исполнения ничего более совершенного я не видел. Несмотря на масштабность и мощь резьбы, даже мельчайшие особенности жизни растительного и животного мира были переданы здесь с потрясающей убедительностью. Арабески говорили об основательном знании законов математики, представляя собой расположенные с неявной симметричностью кривые линии и углы; любимым числом древних строителей являлась, несомненно, пятерка. Барельефы были выполнены в сугубо формалистической традиции и в необычной перспективе; однако, несмотря на пропасть, отделяющую наше время от того, давно минувшего, мы не могли не почувствовать художественную мощь рисунка. В основе изобразительного метода лежал принцип сопоставления поперечного сечения объекта с его двумерным силуэтом — ни одну древнюю расу не занимала до такой степени аналитическая психология. Бесполезно даже сравнивать подобное искусство с тем, что можно увидеть в современных музеях. Специалист, разглядывая наши фотографии, возможно, сочтет, что по экстравагантности замысла эти изображения несколько напоминают работы наших самых дерзких футуристов.
Орнаментальный рисунок на хорошо сохранившихся стенах был выполнен в технике углубленного рельефа, уходя в толщу камня на один-два дюйма; когда же появлялись картуши со скоплениями точек — несомненно, древние письмена на неведомом первобытном языке с точечным алфавитом, — то «буквы» эти уходили еще на полдюйма глубже. Барельеф с предметным изображением выступал над плоскостью фона дюйма на два. Кое-где приметили мы следы еле различимого цвета, но в основном быстротечное время уничтожило все нанесенные краски. Чем больше мы всматривались в барельефы, тем больше изумлялись блестящей технике исполнения. Строгие эстетические каноны не скрывали зоркую наблюдательность и графическое мастерство художников, напротив, жесткое следование определенной традиции сильнее подчеркивало сущность изображаемого, его неповторимую уникальность. Кроме того, нас не покидало ощущение, что помимо бросающихся в глаза достоинств есть еще и другие, недоступные нашему восприятию. По некоторым приметам мы догадывались, что наш интеллектуальный и эмоциональный опыт, а также изначально другой сенсорный аппарат мешают нам понять смысл скрытых символов и аллюзий.
Древние скульпторы, несомненно, черпали свои темы из окружающей жизни, а главным предметом изображения была история. Эта озабоченность историей оказалась нам как нельзя более на руку: рельефы несли баснословное количество информации, поэтому львиную долю времени мы отдали фотографированию и зарисовкам. На стенах некоторых комнат были высечены громадные карты, астрономические таблицы и прочая научная информация: все это красноречиво и наглядно подтверждало то, что изображалось на рельефах. Приступая к рассказу, далеко не полному, с основательными купюрами, я горячо надеюсь, что здравый смысл поверивших мне читателей восторжествует над безрассудным любопытством и они внемлют моим предостережениям. Будет ужасно, если мое повествование породит в них желание отправиться в это мертвое царство кошмарных теней, то есть приведет к прямо противоположному результату.
Настенную резьбу разрывали высокие оконные и двенадцатифутовые дверные проемы; кое-где сохранились отдельные, аккуратно выпиленные и отполированные окаменевшие доски, бывшие когда-то частями ставен и дверей. Металлические крепления давно разрушились, но некоторые двери по-прежнему оставались на месте, и, проходя из комнаты в комнату, мы затрачивали немало усилий, чтобы открыть их. Кое-где уцелели оконные рамы с необычными прозрачными стеклами. Довольно часто на нашем пути попадались вырубленные в камне громадные ниши, по большей части пустые, хотя изредка там оказывались некие ни на что не похожие предметы, выточенные из зеленого мыльного камня; их, видимо, бросили за ненадобностью из-за трещин и прочих повреждений. Остальные углубления в стенах, несомненно, предназначались для существовавших в те стародавние времена удобств — отопления, освещения — и прочих непонятных для нас устройств, которые мы видели на барельефах. Потолки ничем особенным не выделялись, хотя иногда их покрывала облупившаяся мозаика из зеленого камня. На полах мозаика также изредка встречалась, но в основном в кладке преобладали простые грубые плиты.
Как я уже говорил, в помещениях не было никакой мебели, хотя из настенных рисунков становилось ясно, что в этих гулких, похожих на склепы комнатах ранее находились вполне определенные вещи, правда, непонятного для нас назначения. Многочисленные обломки, осколки и прочий хлам заполняли этажи выше ледового уровня, но ниже становилось все чище. Немного пыли с песком — вот все, что там можно было увидеть, да еще осевший на камнях многовековой налет. А некоторые комнаты вообще имели такой вид, будто там только что подмели. Встречались, конечно, трещины и проломы, а самые нижние этажи были замусорены не меньше верхних. Из центрального зала идущий сверху свет разливался по боковым помещениям, спасая их от полной темноты, так было и в других постройках, виденных нами с самолета. На верхних этажах мы редко пользовались электрическими фонариками, разве что разглядывая фрагменты барельефов. Ниже ледового уровня тьма сгущалась, а во многих комнатах-ячейках у самой земли почти ничего не было видно — хоть глаз выколи.
Чтобы иметь хоть какое-то представление о том, что пережили мы, оказавшись в этом давно опустевшем и хранящем гробовое молчание лабиринте, сложенном нечеловеческой рукой, нужно постараться воссоздать всю хаотичную, смертельно изматывающую череду разных настроений, впечатлений, воспоминаний. Одно кружащее голову сознание того, сколь древним был этот город и как далеко зашла в нем мерзость запустения, могло вывести из равновесия любого мало-мальски чувствительного человека, а ведь мы к тому же пережили недавно в лагере сильное потрясение, а потом — еще и эти откровения, сошедшие к нам прямо с покрытых резьбой стен. Стоило только бросить взгляд на хорошо сохранившиеся барельефы, и все сразу становилось ясно — недвусмысленные изображения выдавали страшную тайну. Наивно предполагать, что мы с Денфортом не догадывались о ней раньше, хотя тщательно скрывали друг от друга свои догадки. Не оставалось никаких сомнений в том, кем являлись существа, построившие этот город и жившие в нем миллионы лет назад, в те времена, когда по земле, в тропических степях Европы и Азии, бродили далекие предки людей — примитивные млекопитающие и громадные динозавры.
Раньше мы не теряли надежды и убеждали себя в том, что встречающийся повсеместно мотив пятиконечия — всего лишь знак культурного и религиозного почитания некоего древнего физического объекта, имевшего подобные признаки: минойская цивилизация на Крите использовала в качестве декоративного элемента священного быка, египетская — скарабея, римская — волчицу и орла, а дикие, первобытные племена — разных тотемных животных. Но теперь все иллюзии отпали, нам предстояло смириться с реальностью, от которой волосы вставали на голове. Думаю, читатель уже догадался, в чем дело; мне трудно вывести эти слова на бумаге.
Существа, которые в эпоху динозавров владели этими мрачными замками, сами динозаврами не являлись. Дело обстояло иначе. Динозавры не так давно появились на Земле, они были молодыми животными с неразвитым мозгом, а строители города — старыми и мудрыми. Камень запечатлел и сохранил следы их пребывания на Земле, уже тогда насчитывающего почти тысячу миллионов лет: они построили город задолго до того, как земная жизнь пошла в своем развитии дальше простых соединений клеток. Более того, они-то и являлись создателями и властителями этой жизни, послужив прототипами для самых жутких древних мифов — именно на них робко намекают Пнакотические рукописи и «Некрономикон». Они назывались Старцами и прилетели на Землю в ту пору, когда планета была еще молода. Плоть их сформировалась за годы эволюции на далекой планете: они обладали невероятной, безграничной мощью. Подумать только, ведь мы с Денфортом всего лишь сутки назад видели их члены, отделенные от тел, тысячелетия пролежавших во льду, а бедняга Лейк с товарищами, сами того не ведая, созерцали их подлинный облик…
Невозможно припомнить, в каком порядке собирали мы факты, относящиеся к этой невероятной главе из истории планеты до появления человека. Испытав глубокий шок, мы прервали осмотр, чтобы немного прийти в себя, а когда вновь приступили, занявшись теперь систематическим обследованием, было уже три часа. Судя по геологическим, биологическим и астрономическим признакам, скульптурные изображения в доме, где мы первоначально оказались, принадлежали к относительно позднему времени, им было не более двух миллионов лет и в сравнении с барельефами более древнего здания, куда мы перешли по мостику, выглядели просто декадентскими. Этому величественному, высеченному из цельного камня сооружению было никак не меньше сорока, а возможно, и пятидесяти миллионов лет, оно относилось к позднему эоцену или раннему мелу, и его барельефы превосходили в мастерстве исполнения все виденное нами, за одним исключением — с ним мы встретились позже — то была древнейшая в городе постройка.
Не будь необходимости прокомментировать снимки, которые скоро появятся в прессе, я бы из опасения прослыть сумасшедшим придержал язык и не стал распространяться о том, что именно увидел я на стенах и к каким выводам пришел. Конечно, можно было отнести к области мифотворчества барельефы, где изображалась жизнь звездоголовых существ в бесконечно отдаленные эпохи, когда они обитали на другой планете, в иной галактике или даже вселенной, однако некоторые высеченные на камне чертежи и диаграммы заставляли нас вспомнить о последних открытиях в математике и астрофизике, и тут уж я совсем растерялся. Вы меня поймете, когда сами увидите эти фотографии.
На каждом барельефе рассказывалась, естественно, только небольшая часть единой истории, и «читать» мы ее начали не с начала и не по порядку. Иногда на стенах нескольких комнат или коридоров разворачивалась подряд непрерывная хроника событий, но неожиданно туда вклинивались тематически обособленные залы. Лучшие карты и графики висели на стенах бездонной пропасти: эта каверна площадью двести квадратных футов и глубиной шестьдесят футов образовалась, видимо, на месте бывшего учебного центра или чего-то в этом роде. Некоторые темы, отдельные исторические события пользовались особой популярностью и у художников, и у самих обитателей города, барельефы с подобными сюжетами повторялись с раздражающей навязчивостью. Впрочем, иногда разные версии одного события проясняли нам его значение, заполняли лакуны.
Мне до сих пор непонятно, каким образом уяснили мы суть дела за такой небольшой срок. Впоследствии, рассматривая снимки и зарисовки, мы многое уточнили и заново переосмыслили, хотя и теперь кое-что остается загадкой. Нервный срыв Денфорта, возможно, объясняется именно этими позднейшими расшифровками, его впечатлительная натура не смогла вынести жутких воспоминаний, смутных, мучительных видений и вновь пережить тот ужас, который он испытал, увидев нечто такое, о чем не решился поведать даже мне.
И все же нам пришлось заново просмотреть все документальные свидетельства: нужно представить миру как можно более полную информацию, чтобы наше предостережение, такое актуальное, стало еще и убедительным. В неразгаданном мире Антарктики, мире смещенного времени и противоестественных законов, человек испытывает губительные для него влияния — словом, продолжение там исследований попросту невозможно.
Глава 7
Полный отчет о нашем походе появится сразу же после расшифровки всех записей в официальном бюллетене Мискатоникского университета. Здесь же я рассказываю обо всем лишь в общих чертах и потому прошу простить мне некоторую непоследовательность. Опираясь на мифотворчество или что-то другое, не знаю, безвестные ваятели разворачивали на камне историю появления на Земле, тогда еще молодой планете, звездоголовых пришельцев, а также прочих чужеземных существ — пионеров космоса. На своих огромных перепончатых крыльях они, по-видимому, могли преодолевать межзвездные пространства — так неожиданно подтвердились легенды жителей гор, пересказанные мне другом-фольклористом. В течение долгого времени они обитали под водой, строили там сказочные города и вели войны с неизвестными врагами, используя сложные механизмы, в основе которых лежал неведомый нам принцип получения энергии. Их научные и технические познания значительно превосходили наши, хотя они редко применяли их на практике — только в случае необходимости. Судя по барельефам, они исчерпали у себя на планете идею механистической цивилизации, сочтя ее последствия пагубными для эмоциональной сферы. Исключительная плотность тканей и неприхотливость позволяли им жить также в высокогорной местности, обходясь без всякого комфорта, даже без одежды, и заботясь только об укрытии на случай непогоды.
Именно под водой звездоголовые впервые создали земных существ — сначала для пищи, а потом и для других целей, — создали давно им известными способами из доступных и подходящих субстанций. Особенно плодотворный период экспериментов начался после поражения их многочисленных космических врагов. Прежде звездоголовые делали то же самое на других планетах, производя не только биологическую пищевую массу, но и многоклеточную протоплазму, способную под гипнозом образовывать нужные временные органы. Так они получали идеальных рабов для тяжелой работы. В своем наводящем ужас «Некрономиконе» Абдула Альхазред, говоря о шогготах, намекает именно на эту вязкую массу, хотя даже этот безумный араб считает, что они лишь грезились тем, кто жевал траву, содержащую алкалоид. После того как звездоголовые Старцы синтезировали достаточное количество простейших организмов для пищевых целей и развели сколько требовалось шогготов, они предоставили возможность прочим клеточным соединениям развиваться далее самим, превращаясь в растительные или животные организмы. Впрочем, виды, им чем-то не приглянувшиеся, безжалостно уничтожались.
С помощью шогготов, которые, увеличиваясь под гипнозом в объеме, могли поднимать громадные тяжести, небольшие подводные поселения стали разрастаться, превращаясь в протяженные и внушительные каменные лабиринты, вроде тех, которые позднее выросли на земле. Легко приспосабливаясь к любым условиям, Старцы до прилета на Землю подолгу жили на суше в самых разных уголках Вселенной и, видимо, не утратили навыка в возведении наземных конструкций. Внимательно рассматривая архитектуру древних городов, запечатленную на барельефах, а также того, по чьим пустынным лабиринтам бродили сейчас, мы были поражены одним любопытным совпадением, которое не смогли объяснить даже себе. На барельефах были хорошо видны кровли домов — в наше время проваленные и рассыпавшиеся, взмывали к небу тонкие шпили, конусы с изящными флеронами, топорщились крыши в форме пирамид, а также плоских зубчатых дисков, обычно завершающих цилиндрические постройки. Все это мы уже видели раньше, подлетая к лагерю Лейка, в зловещем, внушающем ужас мираже, отбрасываемом мертвым городом, хотя такого облика, который мы созерцали тогда нашими несведущими глазами, у реального каменного лабиринта, укрывшегося за недосягаемыми Хребтами Безумия, не было уже тысячи или даже десятки тысяч лет.
О жизни Старцев под водой и позже, когда часть из них перекочевала на сушу, можно говорить бесконечно много. Те, что обитали на мелководье, видели с помощью глаз, которыми заканчивались пять головных щупалец; они ваяли и могли писать — при естественном освещении — пером на водоотталкивающих вощеных таблицах. Те, что жили на дне океана, использовали для освещения любопытные фосфоресцирующие организмы, хотя при случае могли прибегать к специальному, дублирующему зрение органу чувств — призматическим ресничкам; благодаря им Старцы свободно ориентировались в темноте. Их скульптура и графика странно изменились под влиянием особой техники химического покрытия, рассчитанной на сохранение эффекта фосфоресценции. Но точно понять, в чем дело, мы не сумели. В воде эти существа перемещались двумя способами: плыли, перебирая боковыми конечностями, или, извиваясь, двигались толчками, помогая себе нижними щупальцами и лженожкой. Иногда же подключали две-три пары веерообразных складных крыльев и тогда стрелой устремлялись вперед. На суше они пользовались лженожкой, но часто, раскрыв крылья, воспаряли под небеса и летали на большие расстояния. Многочисленные щупальца, которыми заканчивались «руки», были изящными, гибкими, сильными и необычайно точными в мускульно-нервной координации, позволяя добиваться замечательного мастерства в изобразительном искусстве и других занятиях, требующих ручных операций.
Прочность их тканей была поистине изумительна. Даже громадное давление на дне глубочайших морей не могло причинить им вреда. Умирали немногие — и то лишь в результате несчастных случаев, так что места захоронений исчислялись единицами. То, что они погребали своих мертвецов в вертикальном положении и устанавливали на могилах пятиконечные надгробия с эпитафиями, а именно это уяснили мы с Денфортом, разглядев внимательно несколько барельефов, настолько потрясло нас, что потребовалось какое-то время, чтобы прийти в себя. Размножались эти существа спорами — как папоротникообразные, это предполагал и Лейк, — но так как из-за своей невероятной прочности они были практически вечными, размножение поощрялось лишь в периоды освоения новых территорий. Молодое поколение созревало быстро и получало великолепное образование, качество которого нам даже трудно вообразить. Высокоразвитая интеллектуальная и эстетическая сферы породили устойчивые традиции и учреждения, о которых я подробно расскажу в своей монографии. Была, конечно, некоторая разница в устоях у морских Старцев и их земных собратьев, но она не касалась основных принципов.
Эти твари могли, подобно растениям, получать питание из неорганических веществ, но предпочитали органическую пищу и особенно животную. Те, что жили под водой, употребляли все в сыром виде, но те, что населяли землю, умели готовить. Они охотились, а также разводили скот на мясо, закалывая животных каким-то острым оружием, оставлявшим на костях грубые отметины, — на них-то и обратили внимание наши коллеги. Старцы хорошо переносили любые изменения температуры и могли оставаться в воде вплоть до ее замерзания. Когда же в эпоху плейстоцена, около миллиона лет назад, началось резкое похолодание, обитавшим на Земле Старцам пришлось прибегнуть к решительным мерам, вроде создания установок искусственного обогрева, но потом жестокие холода все же вынудили их вновь вернуться в море. Старцы поглощали некие вещества, после чего могли долгое время обходиться без еды и кислорода, а также переносить любую жару и холод, но ко времени великого похолодания они уже утратили это свое умение. Попробуй они теперь впасть в подобное искусственное состояние, добром бы это не кончилось.
У Старцев отсутствовали биологические предпосылки к семейной жизни, подобные тем, какие наблюдаемы у млекопитающих: они не разбивались на пары и вообще имели много общего с растениями. Однако семьи они все же создавали, и даже весьма многочисленные, но только ради удобства и интеллектуального общения. Обживая свои дома, они размещали мебель в центре комнат, оставляя стены открытыми для декоративной отделки. Жившие на суше Старцы освещали свои жилища с помощью особого устройства, в основе которого, если мы правильно поняли, лежат электрохимические процессы. И под водой, и на суше им служили одинаково непривычные для наших глаз столы и стулья, а также постели-цилиндры, где они отдыхали и спали стоя, обмотавшись щупальцами; непременной частью интерьера являлись стеллажи, где хранились книги — прочно скрепленные пластины, испещренные точками.
Общественное устройство было у них скорее социалистического толка, хотя твердой уверенности у меня нет. Торговля процветала, в том числе и между городами, а деньгами служили небольшие плоские пятиугольные жетончики, усеянные точками. Видимо, маленький камушек из зеленых мыльных камней, найденных Лейком, как раз и был такой валютой. Хотя цивилизация Старцев была урбанистической, но сельское хозяйство и особенно животноводство тоже играли в ней важную роль. Добывалась руда, существовало какое-никакое производство. Старцы много путешествовали, но массовые переселения случались редко — только во время колонизации, когда раса завоевывала новые пространства. Транспортные средства не были им известны. Старцы сами могли развивать и в воде, и на суше, и в воздухе необыкновенную скорость. Грузы перевозились вьючными животными: под водой — шогготами, а на земле — любопытной разновидностью примитивных позвоночных, но это уже на довольно позднем этапе освоения суши.
Эти позвоночные так же, как и бесконечное множество прочих живых организмов — животных и растений, тех, кто обитает в море, на земле и в воздухе, — возникли в процессе неконтролируемой эволюции клеток, созданных Старцами, но со временем вышедших из-под их контроля. Они развивались себе понемногу, поскольку не мешали хозяевам планеты. Те, что вели себя беспокойнее, механически уничтожались. Любопытно, что в поздних, декадентских произведениях скульпторы изобразили примитивное млекопитающее с неуклюжей походкой, которое земные Старцы вывели не только из-за вкусного мяса, но и забавы ради — как домашнего зверька; в нем неуловимо просматривались черты будущих обезьяноподобных и человекообразных существ. В строительстве земных городов принимали участие огромные птеродактили, неизвестные доселе науке, — они поднимали на большую высоту камни для укладки башен.
В том, что Старцы сумели пережить самые разнообразные геологические катаклизмы и смещения земной коры, было мало удивительного. Хотя из первых городов, по-видимому, ни один не сохранился, эта цивилизация никогда не прерывала своего существования, о чем свидетельствовали и увиденные нами барельефы. Впервые Старцы приземлились на нашу планету в районе Антарктического океана, и, похоже, произошло это вскоре после того, как оторвалась часть материи, образовавшая Луну, а на то место сместился Тихий океан. На одном из барельефов мы увидели, что во времена прилета Старцев всю Землю покрывала вода. Шли века, и каменные города распространялись по планете, все дальше отходя от Антарктиды. Вырезанная на камне карта показывала, что вокруг Южного полюса образовалось широкое кольцо суши — Старцы построили на ней свои первые экспериментальные поселения, хотя подлинные центры оставались все же на морском дне. На позднейших картах было видно, как откалывались и перемещались огромные массы земли, оторвавшиеся части материка сносило к северу — что подтверждало теории Тейлора, Вегенера и Джоли.
Смещение пластов земли на юге Тихого океана привело к катастрофическим последствиям. Некоторые морские города были разрушены до основания, но худшее еще предстояло пережить. Из космоса прилетели новые пришельцы, напоминавшие формой осьминогов — их-то, возможно, и нарекли в древних мифах потомством Ктулху; они развязали жестокую войну, загнав Старцев надолго под воду. Это нанесло последним страшный урон — к тому времени число поселений на суше постоянно росло. В конце концов обе расы заключили мирный договор, по которому новые земли переходили к потомкам Ктулху, за Старцами же оставалось море и прежние владения. Стали возводиться новые города, и самые величественные из них — в Антарктике, ибо эта земля, место первых поселений, стала почитаться священной. И впредь Антарктика оставалась центром цивилизации Старцев, а города, которые успели там основать потомки Ктулху, стерлись с лица земли. Потом часть суши в районе Тихого океана вновь опустилась, и с ней ушел на дно зловещий Р’лайх, город из камня, и все космические осьминоги в придачу. Так Старцы вновь стали единственными хозяевами планеты; правда, существовало нечто, чего они боялись и о чем не любили говорить. Через некий весьма продолжительный отрезок времени Старцы заполонили всю планету: их города достаточно равномерно распределились и на суше, и на дне морском. В своей монографии я дам совет пытливому археологу пробурить машиной Пибоди несколько глубоких скважин в самых разных районах Земли и проанализировать полученные данные.
В течение веков шло закономерное переселение Старцев из глубин моря на сушу — этот процесс подстегивался рождением новых материков, хотя и океан никогда не пустовал. Второй причиной миграции стали трудности по выращиванию и удерживанию в повиновении шогготов, без которых жизнь под водой не могла продолжаться. С течением времени, как скорбно поведали нам сюжеты на древних барельефах, был утрачен секрет создания жизни из неорганической материи, и Старцам пришлось довольствоваться модификацией уже существующих форм. На суше у Старцев не было никаких проблем с громадными, но исключительно послушными рептилиями, а вот размножавшиеся делением шогготы, которые в результате случайного стечения обстоятельств нарастили до опасного предела интеллект, беспокоили их чрезвычайно.
Старцы всегда управляли шогготами с помощью гипноза, легко трансформируя эту внушаемую плотную плазму согласно потребностям и создавая на время нужные им члены и органы, теперь же у шогготов иногда появлялась способность самим преобразовывать свою плоть по воспоминаниям о старых приказах властителей. Казалось, у них развился мозг с неустойчивой системой связей, в котором иногда зарождался сильный волевой импульс, противоречивший воле хозяина. Изображения шогготов вызывали у нас с Денфортом глубочайшее отвращение, граничащее с ужасом.
Эти бесформенные в обычном состоянии существа состояли из желеподобной пузырчатой массы; если они обретали форму шара, диаметр их в среднем равнялся пятнадцати футам. Впрочем, очертания, равно как и объем, менялись у них постоянно: они то создавали себе, то, напротив, уничтожали органы слуха, зрения, речи, во всем подражая хозяевам, — иногда непроизвольно, а иногда выполняя команду.
Сто пятьдесят миллионов лет тому назад, где-то в середине перми, шогготы стали совершенно неуправляемыми, и тогда жившие на морском дне Старцы развязали против них настоящую войну, чтобы силой вернуть свою прежнюю власть. Многовековая пропасть отделяла нас от того времени, но и теперь мороз пробирал по коже, когда мы разглядывали картины той войны и особенно ужасное зрелище жертв, обезглавленных шогготами и выпачканных затем выделяемой ими слизью. В конце концов Старцы, прибегнув к мощному оружию, вызывавшему у врагов нарушения на молекулярном и атомарном уровнях, добились полной победы. Барельефы отразили тот период, когда сломленные шогготы стали совсем ручными и покорились воле Старцев, совсем как дикие мустанги Запада — американским ковбоям. Во время бунта шогготы доказали, что могут жить на суше, но новая способность никак не поощрялась — трудности их содержания на земле значительно превосходили возможную пользу.
В юрский период на Старцев обрушились новые напасти — из космоса прилетели полчища мерзких тварей; они соединяли в себе черты ракообразных, ибо были покрыты твердым панцирем, а также низших растений, а именно грибов. В мифологии горных народов северного полушария, особенно в Гималаях, они запечатлелись как Ми-Го, или Снежные люди. Чтобы одержать верх над пришельцами, Старцы впервые за всю свою земную историю решили вновь выйти в космос, однако, совершив все положенные приготовления, поняли, что не сумеют покинуть земную атмосферу. Секрет межзвездных полетов был полностью утрачен. В результате Ми-Го вытеснили Старцев с северных земель, и те понемногу вновь сбились в антарктическом регионе — своей земной колыбели. Все эти перемены не коснулись подводных владений Старцев, недоступных для завоевателей.
Даже на барельефах бросалось в глаза разительное отличие материальной субстанции Ми-Го или потомков Ктулху от плоти Старцев. Первые обладали способностью к структурным изменениям, умели перевоплощаться и вновь возвращать себе прежний облик. Все это было недоступно для Старцев, по-видимому, их враги прибыли из более отдаленной части Вселенной, чем они. Несмотря на удивительную плотность тканей и необычные жизненные свойства, Старцы являлись материальными существами и, следовательно, происходили из известного пространственно-временного континуума, в то время как о происхождении их врагов можно было, затаив дыхание, строить самые немыслимые догадки. Словом, нельзя отнести к чистому мифотворчеству разбросанные в легендах сведения об аномалии завоевателей и их внегалактическом происхождении. Хотя этот миф могли распространять и сами Старцы, чтобы списать на него свои военные неудачи: ведь исторический престиж был у них своего рода «пунктиком». Недаром в их каменных анналах не упоминались многие могущественные и высокоразвитые народы с неповторимыми культурами и величественными городами — народы, украсившие собой не одну легенду.
Чередование геологических эпох и связанные с ним перемены были с поразительной яркостью представлены на резных картах и барельефах. Кое в чем наши научные представления оказались ошибочными, но встречались и подтверждения некоторых смелых гипотез. Как я уже говорил, именно здесь, в этом невероятном месте, мы убедились в правоте Тейлора, Вегенера и Джоли, предположивших, что все континенты суть части бывшего единого антарктического материка, оторвавшиеся от него под действием мощных центробежных сил и дрейфовавшие в разные стороны по вязкой поверхности земной мантии. Это подтверждалось и очертаниями Африки и Южной Америки, а также направлениями главнейших горных цепей.
На картах, отобразивших Землю времен карбона, то есть сто миллионов или более лет тому назад, мы видели бездонные ущелья и трещины, которые впоследствии, углубившись, разделили Африку и обширный материк, включавший в себя Европу (легендарную Валусию), обе Америки и Антарктику. На более поздних картах материки были уже обособлены друг от друга, в том числе и на той, которую вычертили пятьдесят миллионов лет назад в связи с основанием ныне мертвого города, где мы сейчас пребывали. И наконец, на самой поздней, относящейся, видимо, к плиоцену карте очертания и расположения материков соответствовали нынешним — только Аляска была еще соединена с Сибирью, Северная Америка через Гренландию — с Европой, а Южная Америка через Землю Грейама — с Антарктидой. Карты времен карбона пестрели значками, говорившими, что каменные города Старцев покрывали весь земной шар — от дна морского до изрытых ущельями горных районов, однако на последующих картах ясно обозначился откат градостроительства к южным антарктическим районам. Во времена же плиоцена, как показывала последняя карта, города остались только в Антарктике да на оконечности Южной Америки — севернее пятидесятой параллели южной широты отсутствовали даже морские поселения. Интерес Старцев к северным территориям, по-видимому, угас, сократилась информация о них, лишь изредка совершали теперь Старцы разведывательные полеты на своих веерообразных перепончатых крыльях, изучая очертания береговых линий.
Потом наступило время грандиозных катаклизмов — образовывались новые горные цепи, создавались континенты, землю и дно океанов сотрясали конвульсии, и на месте разрушенных городов все реже возводились новые. Окружавший нас громадный мертвый мегаполис был, видимо, последней столицей звездоголовых; город построили в начале мела недалеко от того места, где рухнул в разверзшуюся пропасть его предшественник, превосходивший размерами даже своего юного двойника. Район этих двух городов почитали священным — ведь именно здесь впервые, тогда еще на морское дно, высадились их предки. Мы узнавали на барельефах некоторые характерные приметы города, в котором оказались. Как нам стало понятно, он тянулся вдоль хребтов на сотни миль в обе стороны, так что обозреть его даже с самолета не представлялось возможным. Считалось, что в нем сохранились священные камни из фундамента первого поселения на дне моря; по прошествии многих веков их выбросило при очередном катаклизме на сушу.
Глава 8
Мы с Денфортом с особым интересом и смешанным чувством благоговения и страха отыскивали на барельефах то, что относилось к месту нашего пребывания. Такого материала, естественно, было предостаточно; кроме того, скитаясь по наземным лабиринтам города, мы забрели, по счастливой случайности, в исключительно старое здание, на потрескавшихся стенах которого в декадентской манере последних скульпторов разворачивалась история города и его окрестностей после плиоцена — на нем обычно завершались все прочие скульптурные рассказы.
Этот дом мы облазили и изучили до последнего уголка, и то, что нам удалось здесь узнать, поставило перед нами новую цель.
Итак, нам суждено было попасть в самое таинственное, жуткое и зловещее место на Земле. И самое древнее. Мы почти поверили, что это мрачное нагорье и есть то самое легендарное плато Ленг, средоточие зла, о котором страшился упоминать даже безумный творец «Некрономикона». Грандиозная горная цепь была невероятно, умопомрачительно длинна, зарождаясь невысоким кряжем на земле у моря Уэдделла и пересекая весь континент. Наиболее высокий массив образовывал величественную арку между 82° южной широты, 60° восточной долготы и 70° южной широты, 115° восточной долготы, вогнутой стороной обращенную к нашему лагерю, а одним концом упиравшуюся в закованное льдом морское побережье. Уилкс и Маусон видели эти горы на широте Южного полярного круга.
Но нас ожидало еще более сокрушительное открытие. Как я уже говорил, хребты эти превышали Гималаи, но древние резчики по камню уверяли нас, что они уступали другим, еще более грандиозным. Тех великанов окутывала мрачная тайна, большинство скульпторов предпочитали не касаться этой темы, другие приступали к ней с очевидной неохотой и робостью. Похоже, та часть древней суши, что поднялась из моря первой после того, как оторвался кусок, образовавший Луну, и со своих далеких звезд прилетели Старцы, таила в себе, по мнению пришельцев, неведомое, но ощутимое зло. Возводимые там города преждевременно разрушались, их жители внезапно пропадали неведомо куда. Когда первые подземные толчки сотрясли эту зловещую местность, из качнувшейся, а затем разверзшейся земли неожиданно выросла пугающая громада хребтов с высоко взметнувшимися вершинами. Так, среди грохота и хаоса, Земля произвела свое самое жуткое творение.
Если система координат на барельефах соответствовала истине, то эти рождающие ужас и омерзение гиганты вздымались на высоту более сорока тысяч футов, значительно превосходя покоренные нами Хребты Безумия. Они тянулись от 77° южной широты, 70° восточной долготы до 70° южной широты, 100° восточной долготы и, следовательно, находились всего в трехстах милях от мертвого города, так что, не будь тумана, мы могли бы различить на западе их сумрачные вершины. А их северную оконечность можно видеть с широты Южного полярного круга на Земле Королевы Мери.
Во времена упадка некоторые Старцы возносили этим горам тайные молитвы, однако никто не осмеливался приблизиться к ним или хотя бы предположить, что находится за ними. Из людей также ни один человек не бросил взгляда на этих великанов, но, видя, какой страх источают эти древние изображения, я от души порадовался тому, что это и не могло случиться. Ведь за этими колоссами проходит еще одна цепь гор — Королевы Мери и Кайзера Вильгельма, заслоняющая гигантов со стороны побережья, и на эти горы, к счастью, никто не пробовал взбираться. Во мне уже нет былого скептицизма, и я не стану насмехаться над убежденностью древнего скульптора, что молния иногда задерживалась на гребне этих погруженных в тяжелое раздумье гор, и тогда ночь напролет мерцал там дивный таинственный свет. Возможно, в древних Пнакотических рукописях, где упоминается Кадат из Страны Холода, за таинственными темными словесами скрывается подлинная и ужасающая реальность.
Впрочем, городу хватало и своих загадок, пусть и не столь демонических. С его основанием ближние горы понемногу обрастали храмами; они стояли, как мы уразумели из барельефов, в тех местах, где теперь лепились друг к другу диковинные кубы и крепостные валы — все, что осталось от башен неизъяснимой красоты и причудливых, устремленных ввысь шпилей. Затем, с течением времени, появились пещеры, которые соответствующим образом оформлялись, становясь своеобразными придатками к храмам. Шли годы, подземные воды источили слой известняка, и пространство под хребтами, нагорьем и равниной превратилось в запутанный лабиринт из подземных ходов и пещер. Многие барельефы отразили осмотры Старцами бесчисленных подземелий, а также неожиданное открытие ими там моря, которое подобно Стиксу таилось в земном лоне, не зная ласки солнечных лучей.
Эта сумрачная пучина была, конечно же, порождением реки, текущей со стороны зловещих, не имеющих названия западных гор; у Хребтов Безумия она сворачивала в сторону и текла вдоль гор вплоть до своего впадения в Индийский океан между Землями Бадда и Тоттена на Побережье Уилкса. Понемногу река размывала известняк на повороте, пока не достигала грунтовых вод, а слившись с ними, с еще большей силой продолжала точить породу. В конце концов, сломив сопротивление камня, воды ее излились в глубь земли, а прежнее русло, ведущее к океану, постепенно высохло. Позже его покрыли постройки постоянно разраставшегося города. Поняв, что произошло с рекой, Старцы, повинуясь присущему им мощному эстетическому чувству, высекли на своих самых изысканных пилонах картины низвержения водного потока в царство вечной тьмы.
С самолета мы видели бывшее русло этой когда-то прекрасной реки, одетой в былые годы в благородное кружево каменных мостов. Положение, которое занимала река на барельефах, изображающих город, помогло нам лучше понять, как менялся мегаполис в бездонном колодце времени; мы даже наскоро набросали карту с основными достопримечательностями — площадями, главными зданиями и прочими приметами, чтобы лучше ориентироваться в дальнейшем. Скоро мы могли уже воссоздать в своем воображении живой облик этого поразительного города, каким он был миллион, десять миллионов или пятьдесят миллионов лет назад, — так искусно изобразили древние скульпторы здания, горы и площади, окраины и живописные пейзажи с буйной растительностью третичного периода. Все было пронизано несказанной мистической красотой, и, впитывая ее в себя, я забывал о гнетущем чувстве, порожденном непостижимым для человека возрастом города, его мертвым величием, укрытостью от мира и сумеречным сверканием льда. Однако, судя по барельефам, у обитателей города тоже частенько на душе кошки скребли и сердце сжималось от страха: нередко встречались изображения Старцев, отшатывающихся в ужасе от чего-то, чему на барельефе никогда не находилось места. Косвенно можно было догадаться, что предмет этот выловили в реке, которая принесла его с загадочных западных гор, поросших вечно шелестящими деревьями, увитыми диким виноградом.
Только в одном доме поздней постройки мы отчетливо прочли на декадентском барельефе предчувствие грядущей катастрофы и опустения города. Несомненно, были и другие свидетельства, несмотря на снижение творческой активности и художественных устремлений, характерное для скульпторов смутного времени, — вскоре мы в этом, хоть и не воочию, смогли убедиться. Но тот барельеф был первым и единственным в таком роде из всех, какие мы внимательно рассмотрели. Мы хотели продолжить осмотр, но, как я уже говорил, обстоятельства изменились и перед нами возникла новая цель. Впрочем, вскоре все настенные свидетельства и так исчерпали себя: надежда на долгое безоблачное будущее покинула Старцев, а с ней и желание украсить свой быт. Окончательный удар принесло повальное наступление холодов, они сковали почти всю планету, а с полюсов так никогда и не ушли. Именно эти жестокие холода уничтожили на противоположной стороне планеты легендарные земли Ломара и Гипербореи.
Трудно сказать, когда именно воцарились в Антарктике холода. Сейчас мы относим раннюю границу ледникового периода на пятьсот тысяч лет от нашего времени, но по полюсам этот бич Божий хлестнул еще раньше. Все цифры, конечно, условны, но весьма вероятно, что последние барельефы высечены менее миллиона лет назад, а город покинут полностью задолго до времени, которое принято считать началом плейстоцена, то есть раньше, чем пятьсот тысяч лет тому назад.
На поздних барельефах растительность выглядит более скудной, да и сама жизнь горожан далеко не бьет ключом. В домах появляются нагревательные приборы, путники зимой кутаются в теплую одежду. Картуши, которые все чаще разбивают каменную ленту поздних барельефов, вторгаясь со своей темой, отобразили отдельные элементы непрерывной миграции — часть жителей укрылась на дне моря, найдя прибежище в подводных поселениях у далеких берегов, другие опустились под землю и, проскитавшись по запутанным известняковым лабиринтам, вышли к пещерам на краю темных бездонных вод.
Так сложилось, что большинство обитателей города предпочли уйти под землю. До какой-то степени это объяснялось тем, что место здесь почиталось священным, но главным было, конечно же, то, что в этом случае оставалась возможность пользоваться храмами, возведенными на изрезанных подземными галереями хребтах, а также бывать в самом городе, оставленном в качестве летней резиденции и координационного пункта между отдельными поселениями. Провели кое-какие земляные работы, улучшили уже существующие подземные пути, а также проложили новые, напрямик соединившие древнюю столицу с темной пучиной. Тщательно все просчитав, мы нанесли входы в эти новые, прямые как стрела туннели на путеводитель, который понемногу рождался под нашими руками. По меньшей мере два туннеля начинались неподалеку от нас, ближе к хребтам — один всего в четверти мили, в направлении древнего русла реки, а другой — примерно вдвое дальше, в прямо противоположном направлении.
Новый город Старцы выстроили не на пологих берегах подземного моря, а на его дне — температура там была равномерно теплой. Огромная глубина этого тайного моря давала гарантию, что внутренний жар земли позволит новым поселенцам жить там сколько потребуется. Те же без труда приспособились проводить под водой большую часть времени, а позднее и вовсе перестали выходить на берег — они ведь никогда не позволяли жабрам окончательно отмереть. На отдельных барельефах мы видели картины посещения Старцами живущих под водой родственников, а также их продолжительных купаний на дне глубокой реки. Не смущала их и вечная тьма земных недр — сказалась привычка к долгим арктическим ночам.
Когда древние скульпторы рассказывали на своих барельефах о том, как на дне подземного моря закладывали новый город, их декадентская, упадническая манера преображалась, и в ней появлялись характерные эпические черты. Подойдя к проблеме научно, Старцы наладили в горных недрах добычу особо прочных камней и пригласили из ближайшего подводного селения опытных строителей, чтобы использовать в работе новейшие технологии. Специалисты захватили с собой все необходимое для успешной деятельности, а именно: клеточную массу для производства шогготов-чернорабочих, способных поднимать и перетаскивать камни, и протоплазму, с легкостью превращавшуюся в фосфоресцирующие организмы, освещавшие темноту.
И вот на дне мрачного моря вырос громадный город, архитектурой напоминавший прежнюю столицу, а мастерством исполнения даже превзошедший, ибо везде строительству предшествовал точный математический расчет. Новые шогготы достигли здесь исполинских размеров и значительного интеллекта, понимая и исполняя приказы с удивительной быстротой. Со Старцами они изъяснялись, подражая их голосам, мелодичными, трубными звуками, слышными, если правильно предположил бедняга Лейк, на большом расстоянии; теперь шогготы подчинялись не гипнотическому внушению, а простым командам и были идеально послушны. Фосфоресцирующие организмы полностью обеспечивали Старцев светом, компенсируя этим утрату полярных сияний — непременных спутников антарктических ночей.
Изобразительные искусства продолжали существовать, хотя упадок был очевиден. Старцы, по-видимому, и сами это понимали, потому что во многих случаях предвосхитили политику Константина Великого и перенесли в подводный город несколько глыб с великолепными образцами древней резьбы, подобно тому как вышеозначенный император в такое же гиблое для искусств время ограбил Грецию и Азию, вывезя оттуда лучшие произведения искусства, чтобы сделать свою новую столицу, Византию, еще более прекрасной. То, что Старцы не забрали из бывшей столицы все барельефы, объяснялось, несомненно, тем, что первое время город на суше не был еще полностью заброшен. Когда же он полностью обезлюдел — а это случилось еще до прихода на полюс самых жестоких холодов плейстоцена, — Старцев уже, видимо, вполне устраивало современное искусство, и они перестали замечать особое совершенство работы древних резчиков и ваятелей. Во всяком случае, вековечные руины вокруг нас во многом сохранили свои первоначальные красоты, хотя все, что было легко вывезти, особенно отдельно стоявшие прекрасные скульптуры, обрело новое пристанище на дне подземного моря.
Эта история, рассказанная на панелях и картушах, — последнее свидетельство об ушедшей эпохе, обнаруженное нами на ограниченной территории наших поисков. Выходило, что Старцы некоторое время жили как бы двойной жизнью, проводя зиму на дне подземного моря, а летом возвращаясь в свою бывшую столицу. Завязалась активная торговля с другими городами в относительном отдалении от антарктического побережья. К этому времени стала абсолютно ясна обреченность земного города, и резчики сумели показать на своих барельефах многочисленные признаки вторжения холода. Растительность гибла, и даже в разгар лета грозные приметы зимы полностью не исчезали. Пресмыкающиеся вымерли почти полностью, млекопитающие разделили их участь. Чтобы продолжать работу на суше, можно было приспособить к земным условиям жизни удивительно хорошо переносящих холод бесформенных шогготов, но этого-то Старцы совсем не хотели. Замерла жизнь на великой реке, опустело морское побережье, из его былых обитателей задержались только тюлени и киты. Птицы улетели, по берегу ковыляли одни крупные неуклюжие пингвины. Можно только предполагать, что произошло дальше. Как долго просуществовал подводный город? Может, этот каменный мертвец по-прежнему стоит там, в вечном мраке? Замерзли подземные воды или нет? И какова судьба других городов на дне океана? Выбрались ли из-под ледяного колпака Старцы? Может, мигрировали к северу? Но современная геология нигде не обнаружила следов их пребывания. Значит, злобные Ми-Го все еще создавали угрозу на севере? И кто знает, что таится сейчас в темной, неведомой морской пучине, затерявшейся в потаенных глубинах земли? Сами звездоголовые и их творения могли выдерживать колоссальное давление — а рыбаки иногда вылавливали в этих краях всякие диковины. И может, вовсе не кит-убийца повинен, как предполагали, в кровавой резне, оставившей на телах тюленей многочисленные ранения, на что обратил внимание поколение назад Борхгревинк?[6]
Экземпляры, найденные беднягой Лейком, обсуждению не подлежали: их засыпало в пещере в те времена, когда город был совсем юным. По всем признакам им было не меньше тридцати миллионов лет, а тогда, как мы понимали, подземный город в заполненной водами каверне еще не существовал, как, собственно, и сама каверна. Если бы они ожили, то помнили бы только те давние времена, когда повсюду буйно росла зелень — ведь шел третичный период, — в городе процветали искусства, могучая река несла свои воды на север, вдоль величественных гор к далекому тропическому океану.
И все же у нас не шли из головы эти твари, особенно восемь полноценных, которые таинственным образом исчезли из развороченного лагеря Лейка. Слишком многое не укладывалось в голове, и потому приходилось относить разные дикие вещи на счет внезапного помешательства кого-нибудь из членов экспедиции — и эти невероятные могилы, и множество пропавших вещей, и исчезновение Гедни; потрясла нас неземная плотность тканей древних чудищ и всякие странности их биологии, о которых поведали нам древние скульпторы, — словом, мы с Денфортом многое повидали за несколько последних часов, но были готовы к встрече с новыми пугающими и невероятными тайнами первобытной природы, о которых собирались хранить молчание.
Глава 9
Я уже упоминал, что во время осмотра упаднических барельефов у нас родилась новая цель. Она, конечно же, была связана с теми пробитыми в земле туннелями, которые вели в мрачный подземный мир и о существовании которых мы поначалу не имели понятия, зато теперь сгорали от любопытства и желания поскорее увидеть их и по возможности обследовать. Из высеченного на стене плана было ясно, что стоит нам пройти по одному из ближайших туннелей около мили, и мы окажемся на краю головокружительной бездны, там, куда никогда не заглядывает солнце; по краям этого неправдоподобного обрыва Старцы проложили тропинки, ведущие к скалистому берегу потаенного, погруженного в великую ночь океана. Возможность воочию созерцать легендарную пучину явилась соблазном, которому противиться было невозможно, но мы понимали, что нужно либо немедленно пускаться в путь, либо отложить визит под землю до другого раза.
Было уже восемь часов вечера, наши батарейки поиздержались, и мы не могли позволить себе совсем не выключать фонарики. Все пять часов, что мы находились в нижних этажах зданий, подо льдом, делая записки и зарисовки, фонарики не выключались, и потому в лучшем случае их могло хватить часа на четыре. Но, исхитрившись, можно было обойтись одним, зажигая второй только в особенно интересных или опасных местах. Так мы обезопасили бы себя, создав дополнительный резерв времени. Блуждать в гигантских катакомбах без света — верная погибель, следовательно, если мы хотим совершить путешествие на край бездны, нужно немедленно прекратить расшифровку настенной скульптуры. Про себя мы решили, что еще не раз вернемся сюда, возможно, даже посвятим целые недели изучению бесценных свидетельств прошлого и фотографированию — вот где можно сделать коллекцию «черных снимков», которые с руками оторвет любой журнал, специализирующийся на «ужасах», — но теперь поскорее в путь!
Мы уже израсходовали довольно много клочков бумаги, и хотя нам не хотелось рвать тетради или альбомы для рисования, все-таки пришлось пожертвовать еще одной толстой тетрадью. Если случится худшее, решили мы, начнем делать зарубки, тогда, даже если заблудимся, пойдем по одному из туннелей, пока не выйдем на свет — если, конечно, успеем к сроку. И вот мы, сгорая от нетерпения, направились в сторону ближайшего туннеля.
Согласно высеченной на камне карте, с которой мы перерисовали свою, нужный туннель начинался в четверти мили от места, где мы находились. Его окружали прочные, хорошо сохранившиеся дома, так что, похоже, это расстояние мы могли преодолеть под ледяным покрытием. Туннель шел из ближайшего к хребтам угла некой пятиконечной объемистой конструкции — явно места общественных сборищ, возможно, даже культового характера. Мы еще с самолета пытались разглядеть среди руин такие постройки. Однако сколько мы ни обращались к своей памяти, не могли припомнить, чтобы видели с высоты нечто подобное, и потому решили, что это объясняется скорее всего тем, что крыша здания сильно повреждена, а может, и совсем разрушена прошедшей по льду трещиной. Ее-то мы хорошо помнили. Но в таком случае вход в туннель мог быть завален, и тогда нам останется попытать счастья в другом туннеле, что начинался примерно в миле к северу. Русло реки отсекло от нас все южные туннели, и, окажись оба ближайших хода завалены, наше дальнейшее путешествие не состоится: не позволят батарейки — ведь до следующего, северного туннеля еще одна миля. Мы шли сумеречными лабиринтами, не выпуская из рук компас и карту, пересекали одну за другой комнаты и коридоры, находившиеся в разных стадиях обветшания, взбирались наверх, шагали по мостикам, опускались снова, упирались в заваленные проходы и груды мусора, зато на некоторых участках, поражавших по контрасту своей идеальной чистотой, почти бежали, наверстывая упущенное время. Иногда мы выбирали неверное направление, и тогда нам приходилось возвращаться, подбирая оставленные клочки бумаги, а несколько раз оказывались на дне открытой шахты, куда проникал, а точнее, как бы просачивался солнечный свет. И всюду нас мучительно притягивали к себе, дразня воображение, барельефы. Даже при беглом взгляде на них становилось ясно, что многие рассказывали о важнейших исторических событиях, и только уверенность в том, что мы еще не раз вернемся сюда, помогала нам преодолеть желание остановиться и получше их рассмотреть. Иногда мы все же замедляли шаги и зажигали второй фонарик. Будь у нас лишняя пленка, мы могли бы немного пощелкать фотоаппаратом, но о том, чтобы попытаться кое-что перерисовать, и речи не было.
Я приближаюсь к тому месту в своем рассказе, где мне хотелось бы — искушение очень велико — замолчать или хотя бы частично утаить правду. Но истина важнее всего: надо в корне пресечь всякие попытки вести в этих краях дальнейшие исследования. Итак, согласно расчетам, мы уже почти достигли входа в туннель, добравшись по мостику на втором этаже до угла этого пятиконечного здания, а затем спустившись в полуразрушенный коридор, в котором было особенно много по-декадентски утонченных поздних скульптур, явно обрядового назначения, когда около половины девятого Денфорт своим обостренным юношеским чутьем уловил непонятный запах. Будь с нами собака, она, почуяв недоброе, отреагировала бы еще раньше. Поначалу мы не могли понять, что случилось со свежайшим прежде воздухом, но вскоре память подсказала нам ответ. Трудно без дрожи выговорить это. Этот запах смутно, но безошибочно напоминал тот, от которого нас чуть не стошнило у раскрытой могилы одного из чудищ, рассеченных несчастным Лейком.
Мы, естественно, не сразу нашли ответ. Нас мучили сомнения, запаху находилось сразу несколько объяснений. А главное, нам не хотелось отступать — слишком уж мы приблизились к цели, чтобы поворачивать назад, не почувство явной угрозы. Кроме того, подозрения наши казались невероятными. В нормальной жизни такое не случается. Следуя некоему иррациональному инстинкту, мы несколько притушили фонарик, замедлили ход и, не реагируя более на мрачные декадентские скульптуры, угрожающе косившиеся на нас с обеих сторон, осторожно, на цыпочках двинулись дальше, почти ползком преодолевая кучи обломков и мусора, которых с каждым шагом становилось все больше.
Глаза у Денфорта тоже оказались острее моих, ведь именно он первым обратил внимание на некоторые странности. Мы уже успели миновать довольно много полузасыпанных арок, ведущих в покои и коридоры нижнего этажа, когда он заметил, что сор на полу не производит впечатления пролежавшего нетронутым тысячелетия. Прибавив свет в фонарике, мы увидели нечто вроде слабой колеи, словно здесь что-то недавно тащили. Разносортность мусора препятствовала образованию четких следов, но там, где он был мельче и однороднее, следы различались явственнее — видимо, тащили какие-то тяжелые предметы. Раз нам даже померещились параллельные линии, вроде как следы полозьев. Это заставило нас вновь остановиться.
Тогда-то мы и почувствовали еще один запах. Парадоксально, но он испугал нас одновременно и больше и меньше предыдущего: сам по себе он был вполне зауряден, но с учетом места и обстоятельств — невозможен, а потому заставил нас похолодеть от страха. Ведь пахло не чем иным, как бензином. Единственное, что приходило на ум, — не связано ли это как-то с Гедни.
Наше дальнейшее поведение пусть объясняют психологи. Мы понимали, что на это темное как ночь кладбище канувших в вечность времен прокралось нечто, подобное монстрам с базы Лейка, и потому не сомневались: впереди нас ждет встреча с неведомым. И все же продолжили путь — то ли из чистого любопытства, то ли из-за сумятицы в головах или под влиянием самогипноза, а может, нас влекло вперед беспокойство за судьбу Гедни. Денфорт напомнил мне шепотом о подозрительных следах на улице города и прибавил, что он также слышал слабые трубные звуки — очень важное свидетельство в свете оставленного Лейком отчета о вскрытии неизвестных тварей. Эти звуки, впрочем, могли сойти за эхо, гулко разносившееся по пещерам, изрешетившим горные вершины; похожие звуки доносились и откуда-то снизу, из таинственных недр. Я тоже прошептал ему на ухо свою версию, напомнив, в каком страшном виде предстал перед нашими взорами лагерь Лейка и сколько всего там исчезло: одинокий безумец мог совершить невозможное — перевалить через эти гигантские хребты и, подобно нам, войти в каменный первобытный лабиринт…
Но, поверяя друг другу свои догадки, мы не приходили к единому мнению. Стоя на месте, мы в целях экономии потушили фонарик и только тогда заметили, что в темноте чуть брезжится — это сверху просачивался свет. Непроизвольно двинулись дальше, включая теперь фонарик лишь изредка, чтобы убедиться, что идем в нужном направлении. Неприятный осадок от недавних следов не покидал нас, тем более что запах бензина становился все сильнее. Разруха усиливалась, мы спотыкались на каждом шагу и вскоре поняли, что впереди тупик. Наши пессимистические прогнозы оправдались, и виной была та глубокая расщелина, которую мы заметили еще с воздуха. Проход к туннелю был завален — даже к выходу не пробраться.
Зажженный фонарик высветил на стенах глухого коридора очередную серию барельефов и несколько дверных проемов, заваленных в разной степени каменными обломками. Из одного доносился острый запах бензина, почти заглушая другой запах. Приглядевшись, мы обратили внимание, что обломков и прочего мусора там поменьше, причем создавалось впечатление, что проход расчистили совсем недавно. Сомнений не было — путь к неведомому монстру лежал через эту дверь. Думаю, всякий поймет, что нам потребовалось изрядно потоптаться на пороге, прежде чем решиться войти.
Когда же мы все-таки ступили под эту черную арку, то первым чувством было недоумение. В этой уединенной замусоренной комнате — абсолютно квадратной, длина каждой из покрытых все теми же барельефами стен равнялась примерно двадцати футам, — не было ничего необычного, и мы инстинктивно закрутили головами, ища прохода дальше. Но тут зоркие глаза Денфорта различили в углу какой-то беспорядок, и мы разом включили оба фонарика. Зрелище было самым заурядным, но говорило о многом, и тут меня опять тянет оборвать рассказ. На слегка притоптанном мусоре что-то валялось, там же, судя по всему, недавно пролили изрядное количество бензина, от него, несмотря на несколько разреженный воздух, шел резкий запах. Короче говоря, здесь недавно устроили привал некие существа, так же, как и мы, стремящиеся попасть в туннель и точно так же остановленные непредвиденным завалом.
Скажу прямо. Все разбросанные вещи были похищены из лагеря Лейка — консервные банки, открытые непередаваемо варварским способом, как и на месте трагедии; обгоревшие спички; три иллюстрированные книги в грязных пятнах непонятного происхождения; пустой пузырек из-под чернил с цветной этикеткой; сломанная авторучка; искромсанные палатка и меховая куртка; использованная электрическая батарейка с приложенной инструкцией; коробка от обогревателя и множество мятой бумаги. От одного этого голова могла пойти кругом, но когда мы подняли и расправили несколько бумажек, то поняли, что самое худшее ожидало нас здесь. Еще в лагере Лейка нас поразил вид уцелевших бумаг, испещренных странными пятнами, но то, что предстало нашим взорам в подземном склепе кошмарного города, было абсолютно невыносимо.
Сойдя с ума, Гедни мог, конечно, подражая точечному орнаменту на зеленоватых камнях, воспроизвести такие же узоры на отвратительных, невероятных пятиугольных могилах, а затем повторить их тут, на этих листках; поспешные грубые зарисовки тоже могли быть делом его рук; мог он составить и приблизительный план места и наметить путь от обозначенного кружком ориентира, лежащего в стороне от нашего маршрута, — громадной башни-цилиндра, постоянно встречавшейся на барельефах, с самолета она нам виделась громадной круглой ямой, — до этого пятиугольного здания и дальше, до самого выхода в туннель.
Он мог, повторяю, начертить какой-никакой план, ведь, несомненно, источником для него, так же как и для наших наметок, послужили все те же барельефы в ледяном лабиринте, но разве сумел бы дилетант воспроизвести эту неподражаемую манеру рисунка: ведь, несмотря на явную поспешность и даже небрежность зарисовок, манера эта ощущалась сразу и намного превосходила декадентский рисунок поздних барельефов. Здесь чувствовалась характерная техника рисунка Старцев в годы наивысшего расцвета их искусства.
Не сомневаюсь, что многие сочтут нас с Денфортом безумцами из-за того, что мы не бросились тут же прочь, спасать свои жизни. Самые чудовищные наши опасения подтвердились, и те, кто читает сейчас мою исповедь, понимают, о чем я говорю. А может, мы и правда сошли с ума — ведь назвал же я эти страшные горы «Хребтами Безумия»? Но нас охватил тот безумный азарт, какой не покидает охотников, выслеживающих диких зверей где-нибудь в джунглях Африки и рискующих жизнью, только чтобы понаблюдать за ними и сфотографировать. Мы застыли на месте, страх парализовал нас, но где-то в глубине уже разгорался неуемный огонек любопытства, и он в конце концов одержал победу.
Мы, конечно, не хотели бы встретиться лицом к лицу с тем или с теми, кто побывал здесь, но у нас было ощущение, что они ушли. Должно быть, сейчас уже отыскали ближайший туннель, проникли внутрь и направляются на встречу с темными осколками своего прошлого, если только они сохранились в темной пучине — в неведомой бездне, которую они никогда прежде не видели. А если заблокирован и тот туннель, значит, пойдут на север в поисках другого. Им ведь не так, как нам, необходим свет — это мы помнили.
Возвращаясь мысленно в прошлое, затрудняюсь определить, какие именно эмоции овладели нами тогда, какую форму приняли и как изменился наш план действий в связи с острым предчувствием чего-то необычайного. Разумеется, мы не хотели бы столкнуться с существами, вызывавшими у нас столь жгучий страх, но, думаю, подсознательно жаждали хоть издали их увидеть, тайком подсмотреть из укромного убежища. Мы не расставались окончательно с мыслью увидеть воочию таинственную бездну, хотя теперь перед нами замаячила новая цель — дойти до места, которое на смятом плане было обозначено большим кругом. Было ясно, что так изобразили диковинную башню цилиндрической формы, которую мы видели даже на самых ранних барельефах, — ведь сверху она выглядела просто огромным круглым провалом. Даже на этом небрежном чертеже чувствовалось некое скрытое величие этой постройки, уважительное к ней отношение; это заставляло нас думать, что в той части, что находится ниже уровня льда, может найтись для нас много интересного. Башня вполне могла быть архитектурным шедевром. Судя по барельефам, построена она в непостижимо далекие времена — одно из старейших зданий города. Если там сохранились барельефы, они могут многое поведать. Кроме того, от нее мы могли бы, возможно, найти для себя более короткую дорогу, чем та, которую так последовательно метили клочками бумаги.
Начали мы с того, что тщательно изучили эти ошеломляющие зарисовки, которые вполне совпадали с нашими собственными, а затем отправились в обратный путь, точно придерживаясь указанного на листке маршрута, ведущего к цилиндрической башне. Наши неизвестные предшественники, должно быть, проделали этот путь дважды. Как раз за гигантским цилиндром начинался ближайший туннель. Не стану описывать нашу обратную дорогу, во время которой мы старались как можно экономнее тратить бумагу: ничего нового нам не повстречалось. Разве только теперь путь наш реже взмывал вверх, стелясь по самой земле и даже иногда опускаясь в подземелье. Не однажды замечали мы следы, оставленные прошедшими перед нами незнакомцами, а после того как запах бензина остался далеко позади, в воздухе вновь стал слышен слабый, но отчетливый неприятный запах, от которого нас бросило в дрожь. Свернув в сторону от прежнего маршрута, мы стали иногда включать фонарик, направляя свет на стены, и могу вас заверить, не было случая, чтобы при этом не высветился очередной барельеф — несомненно, то был наилюбимейший вид искусства у Старцев.
Около 9:30, двигаясь по длинному сводчатому коридору, обледеневший пол которого, казалось, уходил под землю, а потолок становился все ниже, мы заметили впереди яркий дневной свет и тут же выключили фонарик. Вскоре стало понятно, что наш коридор кончается просторной круглой площадкой вроде арены, до которой было уже рукой подать. Впереди вырисовывалась чрезвычайно низкая арка, совсем не типичная для мегалитов[7], и, даже не выходя, мы увидели довольно много интересного. Перед нами раскинулся огромный круг — не менее двухсот футов в диаметре, — заваленный обломками и прочим мусором, от него расходилось множество сводчатых коридоров, вроде того, которым шли мы, но большинство из них было основательно засыпано. По стене на высоте человеческого роста тянулась широкая полоса барельефов, и, несмотря на разрушительное действие времени, усиленное пребыванием под открытым небом, сомнений не оставалось: ничто из виденного нами ранее нельзя было поставить рядом с этими великолепными шедеврами. Толстый слой льда проступал из-под завалов мусора, и мы догадались, что настоящее дно открытого цилиндра глубоко внизу.
Но главной достопримечательностью места был огромный каменный пандус, который, не заслоняя коридоры, плавной спиралью взмывал ввысь внутри цилиндрического колосса, подобно своим двойникам в зиккуратах[8]Древнего Вавилона. Из-за скорости самолета, нарушившей перспективу, мы не заметили его с воздуха, потому-то и не направились к башне, когда решили спуститься под лед. Не сомневаюсь, что Пибоди доискался бы до принципа устройства этой конструкции, мы же с Денфортом могли только смотреть и восхищаться. Каменные консоли и колонны были великолепны, но мы не могли взять в толк, как это все функционирует. Время не повредило пандусу, что само по себе удивительно — ведь он находился под открытым небом; мало того, он еще предохранил от разрушения диковинные космические барельефы.
Опасливо ступили мы на частично затененное пандусом ледяное дно этого необыкновенного цилиндра — ведь ему было никак не меньше пятидесяти миллионов лет, без сомнения, то была самая древняя постройка изо всех, что нам пришлось увидеть, — мы обратили внимание, что стены его, увитые пандусом, возвышаются на полных шестьдесят футов. Это означало, судя по нашему впечатлению с самолета, что снаружи ледяной пласт тянулся вверх, обхватывая цилиндр, еще на сорок футов: ведь зияющая яма, которую мы отметили с самолета, находилась посредине холма высотой футов в двадцать, состоящего, как мы решили, из раздробленного каменного крошева. На три четверти яму затеняли массивные, нависшие над ней руины окружающих ее высоких стен. На древних барельефах мы видели первоначальный облик башни. Стоя в центре огромной площади, она взмывала ввысь на пятьсот-шестьсот футов, сверху ее покрывали горизонтальные диски, верхний из которых имел по краям остроконечные завершения в виде игольчатых шпилей. К счастью, разрушенная кладка сыпалась наружу — иначе рухнул бы пандус, полностью завалив интерьер башни. И так-то зрелище было довольно жалкое. А вот щебень от арок, казалось, недавно отгребли.
Не составляло особого труда понять: именно по этому пандусу спустились в подземелье неведомые пришельцы. Мы тут же решили выбраться отсюда тем же способом, благо башня находилась от оставленного в предгорье самолета на таком же расстоянии, что и внушительных размеров дом с колоннадой, через который мы проникли в сердце города. Зря, конечно, оставили за собой тропу из бумажек, ну да ладно. Остальную разведку можно провести и в этом месте. Вам может показаться странным, но мы до сих пор не оставили мысль о том, чтобы вернуться сюда и, может быть, даже не один раз — и это несмотря на все увиденное и домысленное. С превеликой осторожностью прокладывали мы путь сквозь груды обломков, но тут необычное зрелище заставило нас застыть на месте. За выступом пандуса стояли трое саней, связанные вместе и находившиеся ранее вне поля нашего зрения. Они-то и пропали из лагеря Лейка и вот теперь обнаружились здесь, изрядно расшатанные в дороге, — по-видимому, их тащили не только по снегу, но и по голым камням и завалам, а кое-где перетаскивали на весу. На санях лежали аккуратно увязанные и стянутые ремнями знакомые до боли вещи: наша печурка, канистры с бензином, набор инструментов, банки с консервами, завязанные узлом в брезент книги и еще какие-то тюки — словом, похищенный из лагеря скарб. После всего предыдущего мы не очень удивились находке, скажу больше — были почти к ней готовы. Однако когда, склонившись над санями, развязали брезентовый тюк, очертания которого меня почему-то смутно встревожили, нас как громом поразило. По-видимому, существам, побывавшим в лагере, тоже не была чужда страсть к научной систематизации, как и Лейку: в санях лежали два свежезамороженных экземпляра, раны вокруг шеи аккуратно залеплены пластырем, а, дабы избежать дальнейших повреждений, сами тела туго перевязаны. Надо ли говорить, что то были Гедни и пропавшая собака.
Глава 10
Наверное, многие сочтут нас бездушными и, конечно же, не вполне нормальными, но и после этой жуткой находки мы продолжали думать о северном туннеле, хотя, уверяю, мысль о дальнейшем путешествии на какое-то время оставила нас, вытесненная другими размышлениями. Закрыв тело Гедни брезентом, мы стояли над ним в глубокой задумчивости, из которой нас вывели непонятные звуки — первые услышанные с того момента, как мы покинули улицы города, где слабо шелестел ветер, спускаясь со своих заоблачных высот. Очень земные и хорошо знакомые нам звуки были настолько неожиданны в этом мире пагубы и смерти, что, опрокидывая все наши представления о космической гармонии, ошеломили нас сильнее, чем это сделали бы самые невероятные звучания и шумы.
Услышь мы загадочные и громкие трубные звуки, мы удивились бы меньше — результаты проведенного Лейком вскрытия подготовили нас к чему-то в этом роде, более того, наша болезненная фантазия после кровавой резни в лагере вынуждала нас чуть ли не в каждом завывании ветра чуять недоброе. Ничего другого не приходилось ожидать от этого дьявольского края вечной смерти. Здесь приличествовали кладбищенские, унылые песни канувших в прошлое эпох. Но услышанные нами звуки разом сняли с нас умопомрачение, в которое мы впали, уже и мысли не допуская, что в глубине антарктического континента может существовать хоть какая-то нормальная жизнь. То, что мы услышали, вовсе не исходило от захороненной в незапамятные времена дьявольской твари, разбуженной полярным солнцем, приласкавшим ее дубленую кожу. Нет, существо, издавшее этот крик, было до смешного заурядным созданием, к которому мы привыкли еще в плавании, недалеко от Земли Виктории, и на нашей базе в заливе Мак-Мердо; его мы никак не ожидали встретить здесь. Короче — этот резкий, пронзительный крик принадлежал пингвину.
Он доносился откуда-то снизу — как раз напротив коридора, которым мы только что шли, то есть со стороны проложенного к морской пучине туннеля. Присутствие в этом давно уже безжизненном мире животного, не способного существовать без воды, наводило на вполне определенные предположения, но прежде всего хотелось убедиться в реальности крика — а вдруг нам просто послышалось? Он, однако, повторился и даже умножился — орали уже в несколько глоток. Пойдя на звуки, мы вошли в арку, которую, видно, только недавно расчистили от завалов. Оставив дневной свет позади, мы возобновили нашу возню с клочками, тем более что позаимствовали, хоть и не без брезгливости, изрядную толику бумаги из тюка на санях.
Вскоре лед сменился открытой почвой, состоящей преимущественно из обломков детрита, — на ней явственно виднелись следы непонятного происхождения, как если бы что-то тащили, а раз Денфорт заметил очень четкий отпечаток, но о нем не стоит распространяться. Мы шли на крик пингвинов, что соответствовало направлению, в котором, как говорили нам и карта, и компас, находился вход в северный туннель; коридор, ведущий туда, к счастью, не был засыпан. Согласно плану, туннель шел из подвала большой пирамидальной конструкции, на которую мы обратили внимание еще во время полета над городом, — она сохранилась лучше многих других построек. Освещая путь единственным фонариком, мы видели, что нас и тут продолжают сопровождать барельефы, но теперь нам было не до них.
Впереди замаячил белый громоздкий силуэт, и мы поспешно включили второй фонарик. Как ни странно, мы тут же сосредоточились на новой загадке, позабыв о своих страхах. Те, что оставили часть снаряжения на дне огромного цилиндра и отправились на разведку к морской пучине, могли в любую минуту вернуться, но мы почему-то перестали принимать их во внимание. Беловатое существо, неуклюже ковылявшее впереди, было не менее шести футов росту, но мы ни минуты не сомневались, что оно не из тех, кто побывал в лагере Лейка. Те были выше и темнее, а по земле двигались, несмотря на свою приспособленность к жизни под водой, быстро и уверенно, — это мы поняли из барельефов. И все же, не буду скрывать, мы испугались. На какое-то мгновение нас охватил безотчетный ужас, пострашнее прежнего, осознанного, с которым мы ожидали встречи с существами, опередившими нас на пути к туннелю. Разрядка, впрочем, наступила быстро, стоило белому увальню свернуть, переваливаясь, в проход под арку, где к нему присоединились двое собратьев, приветствуя его появление резкими, пронзительными криками. Это был всего лишь пингвин, хотя и значительно превосходящий размерами обычных королевских пингвинов. Полная слепота еще более усугубляла отталкивающее впечатление, которое производил этот альбинос.
Мы последовали за нелепым созданием, а когда, ступив под арку, направили лучи обоих фонариков на безучастно топчущуюся в проходе троицу, то поняли, что слепыми были и остальные два представителя этого неизвестного науке вида пингвинов-гигантов. Они напоминали нам древних животных с барельефов Старцев, и мы быстро смекнули, что эти недотепы наверняка были потомками тех прежних великанов, которые выжили, уйдя от холода под землю; вечный мрак разрушил пигментацию и лишил их зрения, сохранив как бы в насмешку ненужные теперь узкие прорези для глаз. Мы ни на минуту не сомневались, что они и теперь обитают на берегах подземного моря, и это свидетельство продолжающегося существования пучины, по-прежнему дарующей тепло и пристанище тем, кто в них нуждается, наполнило нас волнующими чувствами.
Интересно, что заставило этих трех увальней покинуть привычную среду обитания? Особая атмосфера разора и заброшенности, царящая в громадном мертвом городе, не позволяла предположить, что он был для них сезонным пристанищем, а полнейшее равнодушие животных к нашему присутствию заставляло сомневаться, что их с обжитых мест могли вспугнуть опередившие нас незнакомцы — если, конечно, не набросились на пингвинов с целью пополнить свой запас продовольствия. А может, животных раздразнил висевший в воздухе едкий запах, от которого бесились собаки? Тоже маловероятно, ведь их предки жили в полном согласии со Старцами, и это должно было продолжаться и под землей. В сердцах посетовав, что не можем сфотографировать в интересах науки эти удивительнейшие экземпляры, мы обогнали их, еще долго слыша, как они гогочут и хлопают крыльями-ластами, и решительно направились вдоль указанного ими сводчатого коридора к неведомой бездне.
Вскоре на стенах исчезли барельефы, а коридор, став заметно ниже, резко пошел под уклон. Видимо, неподалеку находился вход в туннель. Мы поравнялись еще с двумя пингвинами; впереди слышались крики и гогот их собратьев. Неожиданно коридор оборвался, и у нас перехватило дыхание — перед нами находилась большая сферическая пещера, диаметром сто, а высотой пятьдесят футов; во все стороны от нее расходились низкие сводчатые галереи, и только один ход, пятнадцати футов высотой, нарушая симметрию, зиял огромной черной пустотой. То был, несомненно, путь, ведущий к Великой бездне.
Под сводом пещеры, которой явно пытались в свое время придать резцом вид небесной сферы (зрелище впечатляющее, хотя художественно малоубедительное), бродили незрячие и ко всему равнодушные пингвины-альбиносы. Туннель зазывно чернел, приглашая спуститься еще ниже, манил и сам вход, которому резец придал декоративную форму двери. Из таинственно зияющего отверстия, казалось, тянуло теплом, нам даже почудились струйки пара. Кого же еще, кроме пингвинов, скрывали эти бездонные недра и эти бесконечные ячейки, пронизывающие землю и гигантские хребты? Нам пришло в голову, что дымка, окутывавшая вершины гор, которой мы любовались с самолета и которую Лейк, обманувшись, принял за проявление вулканической активности, могла быть всего лишь паром, поднимающимся из самых глубин земли.
Туннель был выложен все теми же крупными глыбами, и поначалу ширина в нем равнялась высоте. Стены украшали редкие картуши, приметы позднего упаднического искусства, все здесь сохранилось превосходно — и кладка, и резьба. На каменной пыли отпечатались следы пингвинов и тех, других, опередивших нас. Одни следы вели в сферическую пещеру, другие — из нее. С каждым шагом становилось все теплее, и вскоре мы, расстегнув теплые куртки, шли нараспашку. Кто знает, не происходят ли там, под водой, вулканические выбросы, благодаря которым подземное море сохраняет тепло? Довольно скоро кладку сменила гладкая скальная поверхность, но это никак не отразилось на размерах туннеля, да и картуши украшали стены с той же регулярностью. Иногда спуск становился слишком крутым, и тогда мы нащупывали под ногами каменные ступени. Несколько раз нам попадались небольшие боковые галереи, не обозначенные на нашем плане, впрочем, они никак не могли нас запутать и помешать нашему быстрому возвращению, напротив, в случае опасности мы могли в них укрыться. Неприятный едкий запах тем временем все усиливался. Учитывая обстоятельства, лезть в туннель было чистым безумием, но в некоторых людях страсть к познанию перевешивает все, ей уступает даже инстинкт самосохранения, именно эта страсть и гнала нас вперед. Мы повстречали еще нескольких пингвинов. Сколько нам предстояло идти? Согласно плану, крутой спуск начинался за милю до бездны, но предыдущие скитания научили нас не очень-то доверяться масштабам на барельефах.
Через четверть мили едкий запах стал почти невыносимым, и мы с особой осторожностью проходили мимо боковых галерей. Струйки пара, напротив, исчезли — температура теперь всюду выровнялась, такого контраста, как при входе в туннель, больше не было. Становилось все жарче, и поэтому мы не удивились, увидев брошенную на пол до боли знакомую теплую одежду и скарб. В основном это были меховые куртки и палатки, пропавшие из лагеря Лейка, и нам совсем не хотелось рассматривать странные прорези, сделанные похитителями, подгонявшими вещи по своим фигурам. Вскоре число и размеры боковых галерей резко увеличилось, видимо, начинался район изрешеченных подземными ходами-ячейками предгорий.
К едкой вони теперь примешивался какой-то новый, не столь резкий запах, откуда он взялся, мы не понимали и только гадали: может, что-то гниет, или так своеобразно пахнет какая-нибудь неизвестная разновидность подземных грибов? Неожиданно туннель как по волшебству (карты нас к этому не подготовили) вдруг расширился, сменившись просторной, по-видимому, естественного происхождения пещерой овальной формы, с ровным каменным полом приблизительно семидесяти пяти футов длиной и пятидесяти — шириной. Отсюда расходилось множество боковых галерей, теряясь в таинственной мгле.
При ближайшем рассмотрении пещера оказалась вовсе не естественного происхождения: перегородки между отдельными ячейками были сознательно разрушены. Сами стены были неровными, с куполообразного потолка свисали сталактиты, а вот пол, казалось, только что вымели — никаких тебе обломков, осколков и даже пыли совсем немного. Чисто было и в боковых галереях, и это нас глубоко озадачило. Новый запах все усиливался, он почти вытеснил прежнее зловоние. От необычной чистоты, граничащей прямо-таки со стерильностью, мы потеряли дар речи, это казалось настолько необъяснимым, что произвело на нас более жуткое впечатление, чем все прежние странности. Прямо перед нами начиналась галерея, вход в которую был отделан более тщательно, чем все прочие; нам следовало выбрать его: на это указывали ведущие к нему внушительные груды пингвиньего помета. Решив не рисковать, мы, во избежание всяких случайностей, начали вновь рвать бумагу: ведь на следы рассчитывать не приходилось, чистота была прямо идеальная — никакой пыли. Войдя в галерею, мы привычно осветили фонариком стены и застыли в изумлении: как снизился уровень резьбы! Нам уже было известно, что во времена строительства туннелей искусство у Старцев находилось в глубоком упадке, и сами недавно воочию в этом убедились. Но теперь, на подступах к загадочной бездне, мы увидели перемены настолько разительные, что не могли найти им никаких объяснений. И форма, и содержание немыслимо деградировали, говорить о каком-либо мастерстве исполнения просто не приходилось.
В новой манере появилось нечто грубое, залихватское — никакой тонкости. Резьба в орнаментальных завитках была слишком глубокой, и Денфорту пришла мысль, что, возможно, здесь происходило как бы обновление рисунка, своего рода палимпсест — после того как обветшала и стерлась старая резьба. Новый рисунок был исключительно декоративным и традиционным — сплошные спирали и углы — и казался грубой пародией на геометрический орнамент Старцев. Нас не оставляла мысль, что не только техника, но само эстетическое чувство подверглось здесь грубому перерождению, а Денфорт уверял меня, что здесь не обошлось без руки «чужака». Рисунок сразу же вызывал в памяти искусство Старцев, но это сравнение порождало в нас одновременно и глубокое внутреннее неприятие. Непроизвольно вспомнилось мне еще одно неудачное подражание чужому стилю — пальмирские скульптуры, грубо копирующие римскую манеру. Те, что шли перед нами, тоже заинтересовались резьбой, об этом говорила использованная батарейка, брошенная рядом с наиболее типичным картушем.
Однако из-за недостатка времени мы бросили на эти необычные барельефы лишь беглый взгляд и почти тут же возобновили путь, хотя далее довольно часто направляли на стену лучи фонариков, высматривая, не появились ли еще какие-нибудь новшества. Но все шло как прежде, разве что увеличивалось расстояние между картушами: слишком много отходило от туннеля боковых галерей. Нам повстречалось несколько пингвинов, мы слышали их крики, но нас не оставляло чувство, что где-то в отдалении, глубоко под землей, гогочут и кричат целые стаи этих больших птиц. Новый запах непонятного происхождения почти вытеснил прежний, едкий. Вновь появившиеся в воздухе струйки пара говорили о нарастающей разнице температур и о близости морской бездны, таящейся в кромешной мгле. И тут вдруг, совершенно неожиданно, мы увидели впереди, прямо на сверкающей глади пола, какое-то препятствие — нет, совсем не пингвинов, а что-то другое. Решив, что непосредственной опасности как будто нет, мы включили второй фонарик.
Глава 11
И вот снова слова застывают у меня на губах. Казалось бы, пора привыкнуть спокойнее на все реагировать, а может, даже ожесточиться, но в жизни случаются такие переживания, что ранят особенно глубоко, от них невозможно исцелиться, рана продолжает ныть, а чувствительность настолько обостряется, что достаточно оживить в памяти роковые события, и снова вспыхивают боль и ужас. Как я уже говорил, мы увидели впереди, на чистом блестящем полу, некое препятствие, и одновременно наши ноздри уловили все тот же новый запах, многократно усилившийся и смешавшийся с едкими испарениями тех, кто шел перед нами. При свете фонариков у нас не осталось никаких сомнений в природе неожиданного препятствия; мы не побоялись подойти поближе, потому что даже на расстоянии было видно, что распростертые на полу существа не способны больше никому причинить вреда — так же как и шестеро их товарищей, похороненных под ужасными пятиконечными надгробиями из льда в лагере несчастного Лейка. Как и у собратьев, почивших в ледяной могиле, у них были отсечены некоторые члены, а по расползавшейся темно-зеленой вязкой лужице было понятно, что печальное событие случилось совсем недавно. Мы увидели только четверых, хотя из посланий Лейка явствовало, что звездоголовых существ должно быть не менее восьми. Зрелище потрясло и одновременно удивило нас: что за роковая встреча произошла здесь, в кромешной тьме?!
Напуганные пингвины разъяренно щелкали клювами; по доносившимся издалека крикам мы поняли, что впереди — гнездовье. Неужели звездоголовые, потревожив птиц, навлекли на себя их ярость? Судя по характеру ран, такого быть не могло: ткани, которые с трудом рассек скальпелем Лейк, легко выдержали бы удары птичьих клювов. Кроме того, огромные слепые птицы вели себя исключительно мирно.
Может, звездоголовые поссорились между собой? Тогда вина ложилась на четверых отсутствующих. Но где они? Прячутся неподалеку и выжидают удобный момент, чтобы напасть на нас? Медленно продвигаясь к месту трагедии, мы опасливо поглядывали в сторону боковых галерей. Что бы здесь ни случилось, это очень напугало пингвинов, они необычайно всполошились. Возможно, схватка завязалась недалеко от гнездовья, где-нибудь на берегу бездонной темной пучины: ведь поблизости не было птичьих гнезд. Может, звездоголовые бежали от преследователей, хотели поскорее добраться до оставленных саней, но тут убийцы нагнали тех, кто послабее, и прикончили? Можно представить себе панику среди звездоголовых, когда нечто ужасное поднялось из темных глубин, распугав пингвинов, и те с криками и гоготом бросились в бегство.
Итак, мы опасливо приближались к загромоздившим проход истерзанным созданиям. Но не дошли, а, слава Создателю, бросились прочь, опрометью понеслись назад по проклятому туннелю, по его гладкому, скользкому полу, мимо издевательских орнаментов, открыто высмеивающих искусство, которому подражали. Мы бросились бежать прежде, чем уяснили себе, что же все-таки увидели, прежде чем наш мозг опалило знание, из-за которого никогда уже нам не будет на земле покоя!
Направив свет обоих фонариков на распростертые тела, мы поняли, что более всего встревожило нас в этой жуткой груде тел. Не то, что жертвы были чудовищно растерзаны и искалечены, а то, что все были без голов. Подойдя еще ближе, мы увидели, что головы не просто отрубили, а изничтожили каким-то дьявольским способом — оторвали или, скорее, отъели. Кровь, темно-зеленая, все еще растекавшаяся лужицей, источала невыносимое зловоние, но теперь его все больше забивал новый, неведомый запах — здесь он ощущался сильнее, чем прежде, по дороге сюда. Только на совсем близком расстоянии от поверженных существ мы поняли, где таится источник этого второго, необъяснимого запаха. И вот тогда Денфорт, вспомнив некоторые барельефы, живо воспроизводящие жизнь Старцев во время перми, сто пятьдесят миллионов лет назад, издал пронзительный, истошный вопль, отозвавшийся мощным эхом в этой древней сводчатой галерее со зловещей и глубоко порочной резьбой на стенах.
Секундой позже я уже вторил ему: в моей памяти тоже запечатлелся старинный барельеф, на котором неизвестный скульптор изобразил покрытое мерзкой слизью и распростертое на земле тело обезглавленного Старца; это чудовищные шогготы убивали таким образом своих жертв — отъедая головы и высасывая из них кровь; происходило это в годы их неповиновения, во время изнурительной, тяжелой войны с ними Старцев. Высекая эти кошмарные сцены, художник нарушал законы профессиональной этики, хотя и изображал события, уже канувшие в Лету: ведь шогготы и последствия их деяний явно были запретным для изображения предметом. Несомненно, на это существовало табу. Недаром безумный автор «Некрономикона» пылко заверял нас, что подобные твари не могли быть созданы на Земле и что они являлись людям только в наркотических грезах. Бесформенная протоплазма, до такой степени способная к имитированию чужого вида, органов и процессов, что копию трудно отличить от подлинника. Липкая пузырчатая масса… эластичные пятнадцатифутовые сфероиды, легко поддающиеся внушению послушные рабы, строители городов… все строптивее… все умнее… живущие и на земле, и под водой… и все больше постигающие искусство подражания! О Боже! Какая нелегкая дернула этих нечестивых Старцев создать этих тварей и пользоваться их услугами?!
Теперь, когда мы с Денфортом воочию увидели блестящую, маслянистую черную слизь, плотно обволакивающую обезглавленные тела, когда в полную силу вдохнули этот ни на что не похожий мерзкий запах, источник которого мог себе представить только человек с больным воображением — исходил он от слизи, которая не только осела на телах, но и поблескивала точечным орнаментом на грубо и вульгарно переиначенных картушах, — лишь теперь мы всем своим существом прочувствовали, что такое поистине космический страх. Мы уже не боялись тех четверых, которые сгинули неведомо где и вряд ли представляли теперь опасность. Бедняги! Они-то как раз не несли в себе зла. Природа сыграла с ними злую шутку, вызвав из векового сна: какой трагедией обернулось для них возвращение домой! То же станет и с остальными, если человеческое безумие, равнодушие или жестокость вырвут их из недр мертвых или спящих полярных просторов. Звездоголовых нельзя ни в чем винить. Что они сделали? Ужасное пробуждение на страшном холоде в неизвестную эпоху и, вполне вероятно, нападение разъяренных, истошно лающих четвероногих, отчаянное сопротивление, и, наконец, впридачу — окружившие их неистовые белые обезьяны в диковинных одеяниях… несчастный Лейк… несчастный Гедни… и несчастные Старцы. Они остались до конца верны своим научным принципам. На их месте мы поступили бы точно так же. Какой интеллект, какое упорство! Они не потеряли головы при встрече с неведомым, сохранив спокойствие духа, как и подобает потомкам тех, кто изображен на барельефах! Кого бы они ни напоминали внешним обликом — морских звезд или каких-то наземных растений, мифических чудищ или инопланетян, по сути своей они были людьми!
Они перевалили через заснеженные хребты, на склонах которых ранее стояли храмы, где они возносили хвалу своим богам; там же они прогуливались когда-то в зарослях древесных папоротников. Город, в который они так стремились, спал, объятый вечным сном, но они сумели, как и мы, прочитать на древних барельефах историю его последних дней. Ожившие Старцы пытались разыскать своих соплеменников здесь, в этих легендарных темных недрах, и что же они нашли? Примерно такие мысли рождались у нас с Денфортом при виде обезглавленных и выпачканных мерзкой слизью трупов. Затем мы перевели взгляд на резьбу, вызывавшую отвращение своей вульгарностью, над которой жирно поблескивала только что нанесенная гнусной слизью надпись из точек. Теперь мы поняли, кто продолжал жить, победив Старцев, в подводном городе на дне темной бездны, по краям которой устроили свои гнездовья пингвины. Ничего здесь не изменилось. Должно быть, и теперь над пучиной все так же дымятся клубы пара.
Шок от ужасного зрелища обезглавленных, перепачканных гнусной слизью тел был так велик, что мы застыли на месте, не в силах вымолвить ни слова, и только значительно позже, делясь своими переживаниями, узнали о полном сходстве наших мыслей. Казалось, прошли годы, на самом же деле мы стояли так, окаменевшие, не более десяти-пятнадцати секунд. И тут в воздухе навстречу нам поплыли легкие струйки пара, как бы от дыхания приближающегося к нам, но еще невидимого существа, а потом послышались звуки, которые, разрушив чары, открыли нам глаза, и мы опрометью бросились наутек мимо испуганно гогочущих пингвинов. Мы бежали тем же путем, топча брошенную нами бумагу, по извивавшимся под ледяной толщей сводчатым коридорам — назад, скорее в город! Выбежав на дно гигантского цилиндра, мы заторопились к древнему пандусу; оцепенело, автоматически стали карабкаться вверх — наружу, к спасительному солнечному свету! Только бы уйти от опасности!
Мы считали, в соответствии с гипотезой Лейка, что трубные звуки издают те, которые сейчас, в большинстве своем, были уже мертвы. Значит, кто-то уцелел! Денфорт позже признался, что именно такие звуки, только более приглушенные, он слышал при нашем вступлении в город, когда мы осторожно передвигались по ледяной толще. Они удивительно напоминали завывания, доносившиеся из горных пещер. Не хотелось бы показаться наивным, но все же прибавлю еще кое-что, тем более что Денфорту, по странному совпадению, пришла в голову та же мысль. Этому, конечно, способствовал одинаковый круг чтения; Денфорт к тому же намекнул, что, по его сведениям, По, работая сто лет назад над «Артуром Гордоном Пимом», пользовался неизвестными даже ученым тайными источниками. Как все, наверное, помнят, в этой фантастической истории некая огромная мертвенно-белая птица, живущая в самом сердце зловещего антарктического материка, постоянно выкрикивает некое никому неведомое слово, полное рокового скрытого смысла: «Текели-ли! Текели-ли!»
Уверяю вас, именно его мы расслышали в коварно прозвучавших за клубами белого пара громких трубных звуках. Они еще не отзвучали, а мы уже со всех ног неслись прочь, хотя знали, как быстро перемещаются Старцы в пространстве: выжившему участнику этой немыслимой бойни, тому, кто издал этот непередаваемый трубный клич, не стоило большого труда догнать нас — хватило бы минуты. Мы смутно надеялись, что нас может спасти отсутствие агрессии и открытое проявление нами добрых намерений — в преследователе могла проснуться любознательность. В конце концов, зачем причинять нам вред, если ему ничто не угрожает? Пробегая по галерее, где невозможно было укрыться, мы на секунду замедлили бег и, нацелив назад лучи фонариков, заметили, что облако пара рассеивается. Неужели мы наконец увидим живого и невредимого жителя древнего города? И тут снова прозвучало: «Текели-ли! Текели-ли!».
Преследователь отставал; может, он ранен? Но мы не решались рисковать: ведь он, услышав крик Денфорта, не убегал от врагов, а устремился вперед. Времени на размышления не было, оставалось только гадать, где сейчас пребывали убийцы его соплеменников, эти непостижимые для нас кошмарные создания, горы зловонной, изрыгающей слизь протоплазмы, покорившие подводный мир и направившие посланцев на сушу, где те, ползая по галереям, испоганили барельефы Старцев. Скажу откровенно, нам было жаль оставлять этого последнего и, возможно, раненого жителя города на почти верную смерть.
Слава Богу, мы не замедлили бег. Пар вновь сгустился, мы летели вперед со всех ног, а позади, хлопая крыльями, испуганно кричали пингвины. Это было само по себе странно, если вспомнить, как вяло реагировали они на наше присутствие. Вновь послышался громкий трубный клич: «Текели-ли! Текели-ли!» Значит, мы ошибались. Звездоголовый не был ранен, он просто задержался у трупов своих товарищей, над которыми поблескивала на стене надпись из гнусной слизи. Неизвестно, что означала дьявольская надпись, но она могла оскорбить звездоголового: похороны в лагере Лейка говорили о том, что Старцы безмерно чтут своих усопших. Включенные на полную мощь фонарики высветили впереди ту, уже известную нам большую пещеру, где сходилось множество подземных ходов. Мы облегченно вздохнули, вырвавшись наконец из плена загаженных шогготами стен: даже не разглядывая мерзкую резьбу, мы ощущали ее всем своим естеством.
При виде пещеры нам пришло также в голову, что, возможно, наш преследователь затеряется в этом лабиринте. Находившиеся здесь слепые пингвины-альбиносы пребывали в страшной панике, казалось, они ожидают появления чего-то ужасного. Можно попробовать притушить фонарики и в надежде, что испуганно мечущиеся и гогочущие огромные птицы заглушат наш слоновий топот, юркнуть прямиком в туннель: кто знает, вдруг удастся обмануть врага. В туманной дымке грязный, тусклый пол основного туннеля почти не просматривался, разительно отличаясь от зловеще поблескивавшей позади нас галереи; тут даже Старцам с их шестым чувством, позволявшим до какой-то степени ориентироваться в темноте, пришлось бы туго. Мы и сами боялись промахнуться, угодить не в тот коридор, ведь у нас была одна цель — мчаться что есть силы по туннелю в направлении мертвого города, а попади мы ненароком в одну из боковых галерей, последствия могли быть самые непредсказуемые.
То, что мы сейчас живы, доказывает, что существо, гнавшееся за нами, ошиблось и выбрало не тот путь, мы же чудом попали куда надо. И еще нам помогли пингвины и туман. К счастью, водяные пары, то сгущаясь, то рассеиваясь, в нужный момент закрыли нас плотной завесой. А вот раньше, когда мы только вбежали в пещеру, оставив позади оскверненную гнусной резьбой галерею, и в отчаянии оглянулись назад, вот тогда дымка несколько разошлась, и перед тем как притушить фонарики и, смешавшись с пингвиньей стаей, попытаться незаметно улизнуть, мы впервые увидели догонявшую нас тварь. Судьба была благосклонна к нам позже, когда скрыла нас в тумане, а в тот момент она явила нам свой грозный лик: мелькнувшее видение отняло у нас покой до конца наших дней.
Заставил нас обернуться извечный инстинкт догоняемой жертвы, которая хочет знать, каковы ее шансы, хотя, возможно, здесь примешались и другие подсознательные импульсы. Во время бегства все в нас было подчинено одной цели — спастись, мы не замечали ничего вокруг и, уж конечно, ничего не анализировали, но в мозг тем не менее, помимо нашей воли, поступали сигналы, которые посылало наше обоняние. Все это мы осознали позже. Удивительно, но запах не менялся! В воздухе висело все то же зловоние, которое поднималось ранее над измазанными слизью, обезглавленными трупами. А ведь запаху следовало бы измениться! Этого требовала простая логика. Теперь должен преобладать прежний едкий запах, неизменно сопровождавший звездоголовых. Но все наоборот: ноздри захлестывала та самая вонь, она нарастала с каждой секундой, становясь все ядовитее.
Казалось, мы оглянулись одновременно, как по команде, но на самом деле, конечно же, первым был один из двоих, хотя второй тут же последовал его примеру. Оглянувшись, мы включили на полную мощность фонарики и направили лучи на поредевший туман. Поступили мы так, возможно, из обычного страха, желая знать, в чем именно заключается опасность, а может, из подсознательного стремления ослепить врага, а потом, пока он будет приходить в себя, скользнув меж пингвинов, юркнуть в туннель. Но лучше бы нам не оглядываться! Ни Орфей, ни жена Лота не заплатили больше за этот безрассудный поступок! И тут снова послышалось ужасное «Текели-ли! Текели-ли!».
Буду предельно откровенным, хотя откровенность дается мне с большим трудом, и доскажу все, что увидел. В свое время мы даже друг с другом избегали говорить на эту тему. Впрочем, никакие слова не передадут и малой толики пережитого ужаса. Зрелище настолько потрясло нас, что можно только диву даваться, как это у нас хватило соображения притушить фонарики да еще выбрать правильное направление. Есть только одно объяснение: нами руководил инстинкт, а не разум. Может, так оно было и лучше, но все равно за свободу мы заплатили слишком большой ценой. Во всяком случае, с рассудком у нас с тех пор не совсем в порядке.
Денфорт совершенно потерял голову; помнится, весь обратный путь он твердил на бегу одно и то же, для любого нормального человека это звучало бы чудовищным бредом — только один я понимал, откуда все взялось. Голос его разносился эхом по коридорам, теряясь среди криков пингвинов и замирая где-то позади, в туннеле, где, к счастью, уже никого не было. Слава Богу, он забубнил этот бред не сразу после того, как оглянулся, иначе нас давно уже не было бы в живых. Страшно даже вообразить себе нашу возможную участь.
«Саут-стейшн — Вашингтон-стейшн — Парк-стейшн — Кендалл-стейшн — Сентрел-стейшн — Гарвард…»
Бедняга перечислял знакомые станции подземки, проложенной из Бостона в Кембридж за тысячи миль отсюда, в мирной земле Новой Англии, но мне его нервный лепет не казался ни бредом, ни некстати проснувшимся ностальгическим чувством. Денфорт находился в глубоком шоке, но я тут же безошибочно уловил пришедшую ему на ум болезненную аналогию.
Оглядываясь, мы ни на минуту не сомневались, что увидим жуткое чудище, но все же вполне определенное — к обличью звездоголовых мы как-то привыкли и смирились с ним. Однако в зловещей дымке вырисовывалось совершенно другое существо, гораздо более гнусное. Оно казалось реальным воплощением «чужого», инородного организма, какие любят изображать наши фантасты, и больше всего напоминало движущийся состав, если смотреть на него с платформы станции метро. Темная громада, усеянная ярко светящимися разноцветными точками, рвалась из подземного мрака, как пуля из ствола.
Но мы находились не в метро, а в подземном туннеле, а за нами гналась, синусоидно извиваясь, кошмарная черная блестящая тварь, длиною не менее пятнадцати футов, изрыгавшая зловоние и все более набиравшая скорость; густой пар окружал ее, восставшую из морских глубин. Это невообразимое чудовище — бесформенная масса пузырящейся протоплазмы — слабо иллюминировало, образуя тысячи вспыхивавших зеленоватым светом и тут же гаснувших глазков, и неслось прямо на нас; массивнее любого вагона, оно безжалостно давило испуганных беспомощных пингвинов, скользя по сверкающему полу — ведь именно эти твари отполировали его до полного блеска. Вновь издевательски прогремел дьявольский трубный глас: «Текели-ли! Текели-ли!». И тут мы вспомнили, что этим нечестивым созданиям, шогготам, Старцы дали все — жизнь, способность мыслить, пластические органы; шогготы пользовались их точечным алфавитом и, конечно же, подражали в звучании языку своих бывших хозяев.
Глава 12
Не все запомнилось нам с Денфортом из нашего поспешного бегства, но кое-что все-таки удержалось в памяти. Помним, как пробежали громадную пещеру, куполу которой Старцы придали черты небесной сферы; как, несколько успокоившись, шли потом коридорами и залами мертвого города, но все это помним как во сне. Как будто мы находились в иллюзорном, призрачном мире, в некоем неизвестном измерении, где отсутствовали время, причинность, ориентиры. Нас несколько отрезвил сумеречный дневной свет, падавший на дно гигантской цилиндрической башни, но мы все же не осмелились приблизиться к оставленным саням и взглянуть еще раз на несчастного Гедни и собаку. Они покоились здесь как на дне огромного круглого мавзолея, и я от всей души надеюсь, что их мертвый сон никто и никогда не потревожит.
Лишь взбираясь по колоссальному пандусу, мы осознали, насколько устали; от долгого бега в разреженной атмосфере перехватывало дыхание, но ничто не могло заставить нас остановиться и перевести дух, пока мы не выбрались наружу и не оказались под открытым небом. Карабкаясь на вершину сработанного из цельных глыб шестидесятифутового цилиндра, пыхтя и отдуваясь, мы тем не менее понимали, что сейчас происходит наше глубоко символичное прощание с городом: параллельно пандусу шли широкой полосой героические барельефы, выполненные в изумительной технике древней эпохи сорок миллионов лет назад, — последний привет от Старцев.
Поднявшись на вершину башни, мы, как и предполагали, обнаружили, что спускаться нам предстоит по замерзшему каменному крошеву, окружившему башню снаружи на манер холма. На западе высились другие, не менее громадные постройки, на востоке же, в той стороне, где дремали вдали занесенные снегом вершины великих гор, здания обветшали и были заметно ниже. Косые лучи низкого антарктического полночного солнца пробивались сквозь строй покосившихся руин, а город по контрасту со знакомым полярным пейзажем казался еще древнее и угрюмее. В воздухе дрожала и переливалась снежная пыль, мороз пробирал до костей. Устало опустив рюкзаки, которые лишь чудом сохранились во время нашего отчаянного бегства, мы застегнули пуговицы на куртках и начали спуск. Потом побрели по каменному лабиринту к подножью гор, где нас дожидался самолет. За весь путь мы ни словом не обмолвились о том, что побудило нас спасаться бегством, так и не позволив побывать на краю загадочной и самой древней бездны на Земле.
Меньше чем через четверть часа мы по крутой древней террасе спустились туда, откуда был виден темный силуэт нашего самолета, оставленного на высокой площадке среди вмерзших в лед редких руин. На полпути к нему мы остановились, переводя дух, и посмотрели еще раз на оставленные позади фантастические каменные джунгли, четко и таинственно отпечатанные на фоне неба. В это время туманная дымка, затягивавшая западную сторону небосвода, рассеялась, снежная пыль устремилась ввысь, сливаясь в некий диковинный узор, за которым, казалось, вот-вот проступит некая страшная, роковая тайна.
За сказочным городом, на совершенно белом небосклоне протянулась тонкая фиолетовая ломаная линия, ее острые углы, озаренные розовым сиянием, призрачно вырисовывались на горизонте. Плоскогорье постепенно шло ввысь — к этому таинственно мерцавшему и манившему венцу; местность пересекало бывшее русло реки, похожее теперь на неровно легшую тень. У нас захватило дух от неземной красоты пейзажа, а сердце екнуло от страха. Далекая фиолетовая ломаная линия была не чем иным, как проступившим силуэтом зловещих гор, к которым жителям города запрещалось приближаться. Эти высочайшие на Земле вершины являлись, как мы поняли, средоточием чудовищного Зла, вместилищем отвратительных пороков и мерзостей; им опасливо поклонялись жители древнего города, страшившиеся приоткрыть их тайну даже на своих барельефах. Ни одно живое существо не ступало на склоны загадочных гор — лишь жуткие, наводящие ужас молнии задерживались в долгие полярные ночи на их острых вершинах, освещая таинственным светом землю далеко вокруг. На полярных просторах они стали как бы прообразом непостижимого Кадата, находившегося за зловещим плато Ленг, о чем смутно упоминается в древних легендах.
Если верить виденным нами барельефам и резным картам, до загадочных фиолетовых гор было почти триста миль, однако очертания их четко проступали над раскинувшейся снежной гладью, а зубчатые вершины, круто взмывая ввысь, вызывали ощущение того, что они находятся на чужой, полной неведомых опасностей планете. Высота этих вершин была немыслимой, недоступной человеческому воображению, они уходили в сильно разреженные слои земной атмосферы, которые посещали разве что призраки — ведь ни один из дерзких воздухоплавателей не остался в живых, чтобы поведать о своем непонятном, не поддающемся объяснению внезапном крушении. Вид гигантских гор заставлял меня не без дрожи вспоминать барельефные изображения, которые подсказывали нам, что великая река могла нести с проклятых склонов нечто, державшее жителей города в смертном ужасе, и я мысленно задавал себе вопрос: а не был ли их страх порождением укоренившегося предрассудка? Я припомнил также, что горы эти своей северной оконечностью выходят к побережью в районе Земли Королевы Мери, где, в тысяче миль отсюда, именно сейчас работает экспедиция сэра Дугласа Моусона, и от всей души пожелал, чтобы ни с научным руководителем, ни с прочими членами экспедиции не случилось ничего дурного и чтобы они даже не заподозрили, сколь опасные гиганты таятся за грядой прибрежных скал. Эти мысли ужасно угнетали меня, нервная система была напряжена до предела, а Денфорт просто находился на грани срыва.
Однако еще задолго до того, как мы, миновав руины пятиконечного Утроения, достигли самолета, наши неопределенные страхи обрели вполне четкую мотивацию. Черные, усеянные вмерзшими в лед руинами склоны Хребтов Безумия, заслонив от нас высоченной стеной восточную часть неба, вновь напомнили нам о таинственных азиатских полотнах Николая Рериха. То и дело возвращаясь мыслями к ужасным бесформенным тварям, которые, изрыгая зловоние, копошились в подземных норах, пронизывавших хребты вплоть до вершин, мы содрогались от страха, представляя, как будем вновь пролетать над круглыми отверстиями, пробуравленными в земле, и как от трубного завывания ветра у нас будет холодеть в груди. Хуже того — кое-какие вершины окутывал туман (бедняга Лейк принял это за проявление вулканической деятельности), и мы ежились, вспоминая туманные завитки в подземном туннеле и представляя себе адскую бездну, от которой восходил весь этот пар.
Самолет благополучно дожидался нас на прежнем месте, и мы, напялив на себя всю теплую одежду, приготовились к взлету. Денфорт легко завел мотор, и самолет без труда плавно взмыл в воздух, унося нас от кошмарного города. Внизу вновь поплыл каменный лабиринт, а мы поднимались все выше, замеряя силу и направление ветра. Должно быть, где-то в верхних слоях зарождалась буря, мы видели, как бешено мчались там облака, но на высоте двадцати четырех тысяч футов, над перевалом, условия для перелета через горы были довольно сносные. Когда мы приблизились к торчащим пикам, вновь послышались странные трубные звуки, отчего у Денфорта, сидевшего у штурвала, затряслись руки. Хотя я был средним пилотом, скорее дилетантом, но тут все же решил вести самолет сам: в сложных условиях лавирования между пиками слишком опасно было доверять управление человеку, потерявшему голову от страха. Денфорт даже не протестовал. Собрав всю свою волю, я сосредоточился на управлении и, стараясь вести самолет как можно увереннее, не сводил глаз с красноватого клочка неба, открывшегося в провале между пиками. Я сознательно избегал смотреть на клубившийся у вершины туман и, слыша тревожные трубные звуки, завидовал в душе Одиссею, который в подобной ситуации, чтобы не внимать чарующему пению Сирен, залепил уши воском.
Денфорт же, оставшись без дела и томясь внутренним беспокойством, не мог спокойно усидеть на месте. Он все время крутил головой: провожал взглядом оставшийся позади город, глядел вперед на приближавшиеся вершины, изрытые пещерами и усеянные прямоугольными руинами, поворачивался то в одну, то в другую сторону, где проплывали внизу заснеженные предгорья с утопавшими в снегу развалинами крепостных стен, а иногда устремлял взор в небо, следя за фантастическими сочетаниями мчавшихся над нами облаков. Вдруг у самого перевала, когда я, вцепившись в штурвал, преодолевал самый ответственный участок пути, раздался его истошный вопль, который чуть не привел к катастрофе: штурвал дрогнул у меня в руках и я едва не потерял управление. К счастью, мне удалось совладать с волнением и мы благополучно завершили перелет, но вот Денфорт… Боюсь, он никогда теперь не обретет душевного равновесия.
Как я уже говорил, Денфорт наотрез отказался поведать мне, что за кошмарное зрелище заставило его завопить с такой силой, а ведь именно оно окончательно лишило юношу покоя. Оказавшись по другую сторону Хребтов Безумия и чувствуя себя в безопасности, мы наконец заговорили, обмениваясь громкими (чтобы перекричать шум мотора и завывания ветра) замечаниями; в основном они касались наших взаимных обещаний не разглашать ничего имеющего отношение к древнему городу. Эти поистине космические тайны не должны были стать достоянием широкой публики, предметом зубоскальства, и, клянусь, я никогда бы и рта не раскрыл, если бы не вполне реальная перспектива работы в тех краях экспедиции Старкуэтера-Мура и прочих научных коллективов. В интересах безопасности человечества нельзя бесцеремонно заглядывать в потаенные уголки планеты и проникать в ее бездонные недра, ибо дремлющие до поры монстры, выжившие адские создания могут восстать ото сна, могут выползти из своих темных нор, подняться со дна подземных морей, готовые к новым завоеваниям.
Мне удалось выпытать у Денфорта, что его последнее ужасное зрительное впечатление напоминало мираж. По его словам, оно не имело ничего общего ни с кубическими сооружениями на склонах, ни с поющими, источающими пар пещерами Хребтов Безумия. Мелькнувшее среди облаков дьявольское видение открыло ему, что таят фиолетовые горы, которых так боялись и к которым не осмеливались приближаться Старцы. Возможно, видение являлось наполовину галлюцинацией, вполне вероятной после перенесенных нами испытаний, а наполовину — тем не распознанным им миражом, который мы уже созерцали, подлетая днем назад к лагерю Лейка. Но что бы это ни было, оно лишило Денфорта покоя до конца его дней.
Иногда с его губ срываются бессвязные, лишенные смысла словосочетания вроде: «черная бездна», «резные края», «протошогготы», «пятимерные, наглухо закрытые конструкции», «мерзкий цилиндр», «древний Фарос», «Йог-Сотот», «исходная белая студнеобразная структура», «космический оттенок», «крылья», «глаза в темноте», «лунная дорожка», «первозданный, вечный, неумирающий» и прочие странные словосочетания. Придя в себя, он ничего толком не объясняет, связывая свои темные высказывания с неумеренным чтением в юные годы опасной эзотерической литературы. Денфорт, один из немногих, осмелился дочитать до конца источенный временем том «Некрономикона», хранившийся под замком в библиотеке университета.
Помнится, когда мы летели над Хребтами Безумия, небо хмурилось, и хотя я ни разу не посмотрел вверх, но, думаю, клубившиеся снежные вихри принимали там фантастические очертания. Быстро бегущие облака могли усилить, дополнить и даже исказить картину, воображение — с легкостью разукрасить ее еще больше, а к тому времени, когда Денфорт впервые заикнулся о своем кошмарном видении, оно успело также обрасти аллюзиями из его давнего чтения. Не мог узреть он так много в одно мгновение.
Тогда же, над хребтами, он истошно вопил одно и то же — безумные, услышанные нами одновременно слова: «Текели-ли! Текели-ли!»
ТАЙНА ЧАРЛЬЗА ДЕКСТЕРА УОРДА
Жизненныя соли зверей тако приготовлять и сохранять можно, что ученый муж в комнате своей хоть целый Ноев ковчег соберет и форму всякого зверя из праха подымет. Такожде из солей человеческих философ способен без преступной некромантии форму любого предка из пепла возродить, где бы его тело прежь огню ни предали.
БореллийЧасть I. Исход и пролог
Глава 1
Недавно из частной лечебницы для душевнобольных близ Провиденса, Род-Айленд, исчез в высшей степени необыкновенный человек. Звали его Чарлз Декстер Уорд, а в больницу его поместил убитый горем отец, на глазах которого незначительные странности в поведении сына переросли в зловещую манию с наклонностью к насилию и поразительно глубокими переменами в образе и характере мыслей. Врачи признавались, что состояние пациента — совершеннейшая для них загадка, ведь отклонения носили как общий физиологический, так и психологический характер.
Во-первых, пациент выглядел много старше своих лет (ему было двадцать шесть). Душевные болезни действительно имеют свойство старить, однако на лице молодого человека как будто лежала едва уловимая печать, каковая отмечает лица глубоких стариков. Во-вторых, естественные процессы в его организме отличались невиданной в медицинской практике несообразностью: дыхание и сердцебиение поразила загадочная аритмия, голос почти полностью пропал, пищеварение крайне замедлилось, а нервные реакции на раздражители не походили на известные — будь то здоровые или патологические. Кожа была болезненно холодной и сухой, клеточная структура тканей выглядела неестественно грубой и рыхлой. Вдобавок у Уорда отчего-то исчезло большое родимое пятно на правом бедре, а на груди появилась диковинная черная родинка. Кроме того, все врачи и исследователи сходились во мнении, что обмен веществ в организме Уорда недопустимо замедлен.
Не поддавались объяснениям и перемены в психике Чарлза Уорда. Его безумие не имело ни малейшего сходства с недугами, описанными даже в самых современных научных трудах, вдобавок душевной болезни сопутствовала такая острота ума, что Уорд мог бы стать гениальным ученым или выдающимся политиком, не прими его рассудок столь причудливых и безобразных форм. Доктор Уиллет, семейный врач Уордов, подтвердил, что изрядные умственные способности пациента, если рассматривать их отдельно от душевной болезни, после припадка стали и вовсе незаурядными. Действительно, Уорд с детства интересовался литературой и историей, но даже в самых удачных его трудах не чувствовалось той удивительной прозорливости и способности проникновения в суть вещей, какие он проявлял во время осмотров психиатрами. Нелегко было найти вескую причину для помещения Уорда в больницу — таким ясным и острым казался его ум; лишь свидетельства других людей и странные пробелы в кругозоре (при столь редкой проницательности) позволили врачам признать его невменяемым. До самого дня исчезновения Уорд много читал и охотно, насколько позволял слабый голос, беседовал с окружающими; многие внимательные наблюдатели (не сумевшие, однако, предсказать его побег) прочили Уорду скорейшую выписку и возвращение домой.
Мысль о выписке Уорда ужасала лишь доктора Уиллета, принимавшего роды у матери Чарлза Уорда и с тех пор наблюдавшего за развитием его души и тела. Недавно он стал свидетелем страшных событий и сделал жуткое открытие, о котором боялся поведать своим скептически настроенным коллегам. Отношение Уиллета к делу Чарлза Декстера Уорда — само по себе загадка. Он был последним, кто видел пациента перед побегом из лечебницы, и после разговора с юношей, по свидетельству нескольких человек, пребывал в состоянии ужаса и одновременно облегчения. Побег Чарлза Уорда по сей день остается нераскрытой тайной лечебницы доктора Уэйта. Пациент не мог сбежать через окно, открытое над пропастью в шестьдесят футов, и все же после разговора с доктором Уиллетом юноша в самом деле исчез. У многих, правда, сложилось впечатление, что доктор мог бы рассказать больше о той последней встрече с Чарлзом, если бы знал, что ему поверят. После того как он покинул палату, работники лечебницы долго и тщетно стучали в запертую дверь. Когда же ее вскрыли, пациента внутри не оказалось, а промозглый апрельский ветер из открытого окна поднял в воздух облако тонкой голубовато-серой пыли, которая чуть не задушила вошедших. Незадолго до этого громко выли собаки, но то было еще при докторе Уиллете, и вскоре они успокоились. Врачи сразу же позвонили отцу Уорда, однако тот не столько удивился, сколько опечалился. Когда же доктор Уэйт нанес ему личный визит, мистер Уорд уже побеседовал с доктором Уиллетом и оба категорически отрицали свою причастность к побегу Чарлза. Несколько догадок удалось выжать лишь из близких друзей Уиллетта и Уорда-старшего, однако они были столь неправдоподобными и надуманными, что доверия не вызывали. До сего времени не обнаружено ни единого следа пропавшего безумца.
Чарлз Уорд с детства интересовался стариной — несомненно, формированию его увлечений способствовали освященный веками родной город и реликвии прошлого, коих оказалось немало в фамильном особняке на Проспект-стрит, стоящем на самой вершине холма. С годами любовь Чарлза к древностям только усиливалась, и в конце концов история, генеалогия, колониальная архитектура и интерьеры целиком захватили мысли юноши, вытеснив все прочее из круга его интересов. Об этих предпочтениях необходимо помнить, изучая историю душевной болезни Чарлза Декстера Уорда; пусть они не составляли ее ядра, характерную форму его безумию придали именно они. Пробелы в картине мира, выявленные психиатрами, неизменно касались современной жизни, на фоне которых особенно ярко выделялись обширные познания пациента в области давно минувшего. Казалось, Уорд словно бы перенесся в прошлый век посредством некоего таинственного самогипноза. Еще удивительнее было то, что его интерес к старине внезапно иссяк; он словно бы забросил источник знаний, вычерпав его до дна, а все умственные усилия направил на знакомство с окружающим миром, познания о котором вдруг начисто и безвозвратно стерлись из его разума. Сей факт Чарлз Уорд пытался всячески скрыть, но каждому было ясно, что его жажда к чтению и беседам с окружающими объясняется отчаянными попытками наверстать упущенное, вобрать как можно больше знаний о собственной жизни и культурно-бытовых особенностях современного мира, о которых должен быть осведомлен всякий, кто родился в 1902 году и получил образование в учебных заведениях своего времени. Теперь психиатры задаются вопросом, как же беглецу со столь искаженными и убогими воззрениями удается существовать в нашем сложном мире; большинство убеждены, что он «затаился» и восполняет пробелы в знаниях.
Начало душевной болезни Уорда также стало для психиатров предметом жарких споров. Доктор Лайман, выдающийся бостонский врач, считает временем ее зарождения 1919–1920 годы, когда мальчик доучивался в школе Моисея Брауна. Тогда-то он и переключился с изучения прошлого на оккультные науки, а затем отказался поступать в университет, объясняя это тем, что ему предстоят более важные исследования. Гипотеза эта подтверждается внезапной переменой в деятельности Уорда: он вдруг принялся копаться в городских архивах и бродить по старым кладбищам в поисках некой могилы, где в 1771 году был захоронен его предок по имени Джозеф Кервен. Личные бумаги этого человека Чарлз случайно обнаружил за деревянными панелями ветхого дома в Олни-корте, который, как известно, Кервен выстроил для себя в середине XVIII века и где жил до самой смерти. Словом, зимой 1919–1920-го в Чарлзе Уорде произошли перемены, из-за которых он бросил занятия историей и полностью погрузился в жадное изучение оккультных наук — как дома, так и за границей, — которое прерывал временами лишь с тем, чтобы продолжить на удивление упорные поиски могилы давнего предка.
Доктор Уиллет, однако, решительно против этой гипотезы. В качестве довода он приводит близкое знакомство с пациентом, а также сделанные им недавно чудовищные открытия. Эти исследования и находки наложили на разум Уиллета тяжелый отпечаток: голос его дрожит, когда он пытается о них рассказать, а руки трясутся, стоит ему взять перо. Уиллет признает, что зима 1919–1920-го действительно отмечает собой начало прогрессирующего ухудшения, каковое достигло своей ужасной кульминации в полном умственном помешательстве 1928 года. Однако его личные наблюдения показывают, что здесь многое необходимо уточнить. Спокойно соглашаясь, что мальчик всегда был несколько неуравновешен, чрезмерно впечатлителен и восторжен в своих реакциях на окружающие явления, Уиллет наотрез отказывается признавать, что вышеупомянутые первые перемены ознаменовали собой переход от нормального психического состояния к безумию, и приводит письмо Уорда о неком открытии или переоткрытии, способном в значительной степени изменить человечество. Настоящее безумие, убежден Уиллет, пришло вместе с другими, более поздними переменами в его сущности: после обнаружения портрета Кервена и его личных бумаг; после того как Уорд побывал в странном европейском замке и при загадочных обстоятельствах прочел ужасные заклинания, на которые получил ответ и в страшном возбуждении написал последнее отчаянное письмо; после волны вампиризма, пронесшейся по городу, и странных слухах из деревни Потакет; после того как из памяти пациента вдруг стерлось понятие о современном мире, а психика и характер претерпели неуловимые изменения, замеченные впоследствии столь многими.
Лишь после всего этого, тщательно подчеркивает Уиллет, его пациенту стали присущи некоторые страшные качества и особенности. Вдобавок доктор с содроганием заверяет, что Уорд не лгал, говоря об открытии, которое может изменить мир. Во-первых, свидетелями обнаружения бумаг Джозефа Кервена стали двое весьма надежных и неглупых рабочих. Во-вторых, Уорд сам однажды показывал доктору Уиллету эти старинные бумаги и страницу из дневника Кервена — то есть в подлинности документов сомнений не возникало. Потайную нишу, в которой Уорд их нашел, давно заделали, но много позже Уиллет своими глазами увидел их в самой немыслимой и невообразимой обстановке. Загадочные письма Орна и Хатчинсона; улики касательно таинственного исчезновения доктора Аллена; карандашная записка, начертанная средневековым минискулом и обнаруженная Уиллетом в собственном кармане после страшных и незабываемых событий, — все свидетельствовало в пользу правдивости этого смелого заявления.
Самым же убедительным доводом можно считать ужасающие результаты, которые доктор получил после чтения некой двойной магической формулы, — они фактически доказывали подлинность бумаг и их кошмарное значение, хотя сами эти бумаги более недоступны человечеству.
Глава 2
На прежнюю жизнь Чарлза Уорда стоит смотреть как на столь же глубокую старину, что и реликвии прошлого, которыми он так истово увлекался. Осенью 1918 года, проявив изрядный интерес к военной подготовке, которой тогда уделяли большое значение, он поступил в школу Моисея Брауна. Главный корпус, возведенный в 1819-м, всегда пленял своей красотой юного любителя старины, и разбитый вокруг просторный парк тоже отвечал его тонкому вкусу. Со сверстниками Чарлз общался мало; свободное от учебы и военной подготовки время он проводил дома, в долгих прогулках или поисках исторических и генеалогических сведений, что хранились в архивах городской ратуши, парламента, в читальном зале публичной библиотеки, исторического общества, университетских библиотеках Джона Картера Брауна и Джона Хея, а также совсем недавно открытой библиотеке Шепли на Бенефит-стрит. Несложно представить, как он выглядел в то время: высокий подтянутый юноша со светлыми волосами, серьезным пытливым взглядом и немного сутулыми плечами, одетый слегка небрежно и создающий впечатление скорее безобидного и неуклюжего, нежели привлекательного человека.
Его прогулки всегда были вылазками в прошлое, во время каковых он умудрялся из множества реликвий чарующего старинного города восстановить цельную картину минувших веков. Дом его представлял собой великолепный кирпичный особняк в георгианском стиле на вершине чрезвычайно крутого холма, вздымающегося к востоку от реки. Из задних окон его флигелей Чарлз завороженно смотрел на теснящиеся шпили, купола, крыши и верхушки небоскребов делового района, на пурпурные холмы за городом. Здесь он родился, и с этого прекрасного крыльца в классическом стиле няня когда-то выкатила его в коляске на первую прогулку; они проходили мимо белого фермерского домика, построенного двести лет назад и давно проглоченного городом, к статным университетским зданиям на тенистой зеленой улице, где квадратные кирпичные особняки и деревянные дома поменьше с узкими крыльцами промеж дорических колонн величаво дремали среди пышных садов и просторных дворов.
Затем он проезжал в коляске по сонной Конгдон-стрит, протянувшейся чуть ниже по склону холма и заставленной домами на высоких террасах. Деревянные домики здесь были постарше, ведь на этот холм когда-то начинал карабкаться растущий город; во время подобных прогулок Чарлз, должно быть, и проникся духом старинной колониальной деревни. Няня любила сидеть на скамейках в парке Проспект Террас и болтать с полисменами. Одним из первых воспоминаний Чарлза было раскинувшееся на западе огромное море крыш, куполов, шпилей и далеких холмов в дымке, которое он увидел однажды утром с этой великолепной смотровой площадки: таинственный фиолетовый город на фоне апокалипсических закатных облаков — алых, золотистых, багровых и загадочно-зеленоватых. Громадный мраморный купол здания парламента штата вырисовывался на фоне пылающего неба, увенчанный статуей с фантастическим ореолом.
Немного повзрослев, Чарлз начал подолгу гулять — сначала нетерпеливо таская за собой няню, а потом уже в одиночку, погрузившись в мечтательные размышления. Он шел все дальше и дальше по практически отвесному склону, каждый раз проникая чуть глубже в старинные и причудливые кварталы древнего города. Он с опаской спускался по вертикальной Дженккс-стрит с каменными заборами и старомодными коттеджами в колониальном стиле и входил на тенистую Бенефит-стрит, где впереди высилась деревянная громада с двумя парадными входами, обрамленными ионическими пилястрами, а за спиной стоял доисторический дом с мансардной крышей и остатками первобытных фермерских построек. Дальше располагался особняк судьи Дарфи, почти полностью растерявший былое георгианское великолепие. Эти места потихоньку превращались в трущобы, но вязы-титаны бросали на улицы живительную тень, и потому мальчик шел дальше на юг, мимо длинных верениц дореволюционных домов с центральными дымовыми трубами и классическими крыльцами. Дома с восточной стороны улицы сидели на высоких фундаментах, а ко входу с разных сторон вели две каменные лестницы с перилами, и маленький Чарлз представлял их новенькими, только что выстроенными, а по крашеным тротуарам, теперь таким истоптанным и стертым, сновали люди в пышных париках и красных туфлях с каблуками.
Не теряя крутизны, склон спускался на запад к старой Таун-стрит, которую основатели города проложили вдоль речного берега в 1636 году. Здесь переплетались множество улочек и переулков, заставленных сутулыми и покосившимися домишками невообразимой старины. Однако, как ни завораживали они маленького Чарлза, пройтись по древним крутым мостовым он решился еще очень не скоро — боялся, что они вдруг окажутся сном или порталом в непостижимый ужас. Куда безопасней и приятней было идти дальше по Бенефит-стрит: мимо железного забора церкви Святого Иоанна, задней стены здания колониальной легислатуры, построенного в 1761 году, и рассыпающейся громады «Золотого шара» — гостиницы, в которой однажды останавливался сам Джордж Вашингтон. На Митинг-стрит — ранее называвшейся Джейл-лейн и Кинг-стрит — он вновь смотрел наверх, на восток, и видел изогнутую лестницу, без которой обратно было не забраться, а внизу — старую кирпичную школу, улыбающуюся через дорогу зданию типографии, прозванному «Головой Шекспира», где еще до революции печатались «Провиденс газетт» и «Кантри джорнал». Наконец Чарлз приближался к великолепной Первой баптистской церкви 1775 года с несравненной колокольней Гиббса, георгианскими крышами и куполами. Отсюда на юг уходили респектабельные кварталы, чудесные соцветия старинных особнячков; однако и здесь сплетение узких переулков манило вниз, на запад, — окунуться в призрачную многофронтонную древность, в пестрое буйство гниения и упадка, где старая зловещая береговая линия еще помнила великолепные ост-индские времена с их многоязычной нищетой и пороком, смрадными верфями и мутноглазыми торговцами корабельным скарбом, а переулки назывались Золотой, Серебряный, Монетный, Дублон, Соверен, Гульден, Доллар, Четвертак и Цент.
Немного повзрослев и осмелев, Уорд стал время от времени совершать вылазки в этот водоворот покосившихся домишек с выломанными оконными рамами, порушенных лестниц, извилистых парапетов, загорелых лиц и неведомых запахов; там он петлял между Саут-Мейн и Саут-Уотер, заглядывая в доки, где еще стояли древние пароходы, и возвращался на север вдоль складов с крутыми крышами, в конце концов упираясь в площадь у Большого моста, где крепко стояло на своих древних арках здание рынка, построенное в 1773 году. На этой площади Уорд останавливался и впитывал пьянящую красоту старого города, что поднимался на восток георгианскими шпилями и был увенчан громадным куполом новой Научной церкви Христа, — так купол собора Святого Павла венчает Лондон. Уорду особенно нравилось приходить сюда ближе к вечеру, когда косые лучи солнца покрывали золотом старый рынок, древние кровли и колокольни, а дремлющие верфи, пристанище кораблей Ост-Индской компании, утопали в волшебстве. После такого долгого любования городом у юноши от поэтического восторга едва не кружилась голова, и в сумерках он отправлялся в обратный путь, мимо белой церкви по крутым узким улочкам, где первые огни уже зажигались в окнах с мелким переплетом и веерообразных окошках над парадными дверями, к которым вели каменные лестницы с причудливыми коваными перилами.
Взрослея, Уорд все чаще отправлялся на поиски разительных контрастов. Первую половину прогулки он проводил в полуразрушенных колониальных кварталах к северо-западу от дома, где холм спускался к гетто и негритянскому кварталу района Стэмперс-хилл — отсюда до революции отправлялись почтовые кареты в Бостон. Затем Уорд шел в изысканные южные кварталы на Джордж-, Беневолент-, Пауэр— и Уильямс-стрит — там на старом склоне сохранились в первозданном виде великолепные поместья, обнесенные каменными стенами сады и крутая зеленая тропинка, хранившая множество ароматных воспоминаний.
Прогулки эти вкупе с прилежной учебой, несомненно, во многом обусловили любовь Уорда к древностям и истории, обширные познания в которой затем и вытеснили все остальное из его разума; они наглядно показывают нам ту духовную почву, из которой в роковую зиму 1919–1920-го проклюнулись побеги, принесшие затем столь страшные и странные плоды.
Доктор Уиллет убежден, что до той злополучной зимы первых перемен интерес Чарлза Уорда к старине был совершенно здоровым. Кладбища его особенно не манили, разве только красотой могильных памятников да исторической ценностью; склонным к насилию или жестокости он никогда не был. Но затем Чарлз как-то исподволь и незаметно стал уделять много внимания одной генеалогической находке, сделанной им годом раньше: среди предков по материнской линии он обнаружил некоего долгожителя по имени Джозеф Кервен, который приехал в Провиденс из Салема в 1692 году и о котором ходили чрезвычайно удивительные и неприятные слухи.
Прапрадед Уорда по имени Уэлком Поттер в 1785 году женился на некой «Анне Тиллингаст, дочери миссис Элизы, дочери капитана Джеймса Тиллингаста», о чьем отце не сохранилось никаких сведений. Позже, в 1918-м, изучая городские архивы, молодой генеалог наткнулся на запись о смене фамилии: миссис Элиза Кервен, вдова Джозефа Кервена, в 1772 году решила сменить фамилию мужа на девичью, Тиллингаст, а заодно изменить и фамилию дочери. Причину она указала следующую: «Имя мужа стало предметом всеобщих попреков вследствие того, что открылось после его кончины и о чем прежде ходили одни лишь досужие слухи, в полной мере затем подтвердившиеся».
Запись эта обнаружилась совершенно случайно после того, как Чарлз разъединил две аккуратно склеенные и перенумерованные страницы.
Чарлзу стало ясно, что он нашел своего прежде никому не известного прапрапрадеда. Находка поразила его вдвое сильней еще и потому, что он уже не раз слышал странные и разрозненные истории про этого человека, о котором не осталось доступных архивных сведений — как будто кто-то сговорился уничтожить всякую информацию о нем из памяти человечества. Исключительность и пикантность сохранившихся преданий будили желание разузнать, о чем же столь упорно молчали хроникеры колониальных времен… и наводили на мысль, что молчали они неспроста.
До сих пор Чарлз Уорд не придавал особого значения слухам о Джозефе Кервене, и фантазия его дремала; но стоило вскрыться их родству с этой одиозной личностью, как он начал систематически охотиться за любыми доступными сведениями о своем предке. Эти лихорадочные поиски неожиданно увенчались успехом: старые письма, дневники и груды неопубликованных мемуаров, хранившиеся на затканных паутиной чердаках Провиденса, проливали немало света на занятия Джозефа Кервена, о которых авторы не сочли нужным умалчивать. Важная информация поступила даже из далекого Нью-Йорка, где в музее-таверне Фрэнсиса сохранилась род-айлендская переписка дореволюционных лет. Но главной находкой — и роковой, по мнению Уиллета, — стала стопка бумаг за деревянными панелями полуразрушенного дома в Олни-корте. Именно они, несомненно, и вскрыли черную пропасть безумия, в которую упал юный Чарлз.
Часть II. Ужас прошлого
Глава 3
Джозеф Кервен, если верить легендам, которые Уорд слышал и читал, был личностью крайне необычной, таинственной и жуткой. Он сбежал из Салема в Провиденс — тихую гавань для всех недовольных и инакомыслящих — в самом начале охоты на ведьм, испугавшись, что его затворничество и увлечение алхимией вызовут подозрение у горожан. Он был бледным молодым человеком лет тридцати, который вскоре стал почетным гражданином Провиденса и приобрел участок к северу от особняка Грегори Декстера, в начале Олни-стрит. Его дом построили в районе Стэмперс-хилла к западу от Таун-стрит, который впоследствии стал называться «Олни-корт». В 1761 году Кервен построил на месте старого домика дом побольше, который и стоит там по сей день.
Итак, первая странная особенность Джозефа Кервена заключалась в том, что он почти не постарел со дня своего приезда в Провиденс. Он занимался морской торговлей, потом приобрел верфи неподалеку от Майл-энд-Коув, помогал перестраивать Большой мост в 1713-м, а в 1723-м стал одним из основателей Конгрегационалистской церкви на холме; все это время он обладал непримечательной внешностью человека средних лет. Шли десятилетия, и свойство это стало привлекать широкое внимание общества, однако на все расспросы он отвечал, что унаследовал моложавый вид от своих закаленных предков, которые вели простой и здоровый образ жизни. Как эта простота соотносилась с постоянными разъездами скрытного торговца, а также с его горящими ночами напролет окнами, оставалось загадкой для горожан. Неудивительно, что они стали придумывать другие объяснения его вечной молодости. Большинство людей сходились во мнении, что прекрасный внешний вид ему помогают сохранять различные химические снадобья, которые он без конца варит в лаборатории своего особняка. Ходили слухи о странных веществах, которые Кервен закупал в Ньюпорте, Бостоне или Нью-Йорке, а также привозил на кораблях из Лондона и Индии. Когда же старый доктор Иавис Боуэн из Рехобота открыл аптеку за Большим мостом, разговоры и сплетни о лекарствах, кислотах и металлах, постоянно привозимых молчаливому затворнику, больше не затихали. Убежденные в том, что Кервен обладает некими тайными медицинскими знаниями, многие жители Провиденса стали приходить к нему с самыми разными хворями — в надежде на помощь. Хотя своими намеками и уклончивыми ответами он лишь подтверждал эти догадки, да вдобавок всегда одаривал желающих зельями странных цветов, лекарства эти редко приносили пользу людям. Но вот прошло пятьдесят лет, а лицом и сложением Кервен постарел от силы на пять, и по городу пошла недобрая молва. Кервен наконец мог насладиться полным уединением, которого так алкал.
Частные письма и дневники того времени дают еще одно объяснение тому, почему люди сначала дивились Кервену, а потом стали его бояться и избегать, как чумы. Он любил кладбища, где его можно было застать в любую погоду и в любое время дня и ночи, однако никто не видел, чтобы Кервен раскапывал могилы или занимался иными сомнительными делами. Он купил себе ферму на Потакет-роуд, где жил летом и куда частенько, даже среди ночи, отправлялся верхом на лошади. На ферме работало всего два человека: мрачные престарелые индейцы племени наррагансетт, бессловесный и исполосованный шрамами муж и отвратительного вида жена (дурнота ее, возможно, объяснялась примесью негритянской крови). В пристройке к фермерскому дому находилась лаборатория, где Кервен проводил большинство своих опытов. Любопытные носильщики и посыльные, доставлявшие к небольшой красной двери бутылки, мешки и коробки, обменивались потом рассказами о фантастических колбах, ретортах, перегонных кубах и печах, которые они успели разглядеть в комнатке с низкими полками, и шепотом прочили молчаливому «химику» (под химией они имели в виду алхимию) скорое открытие Философского камня. Ближайшие соседи, Феннеры, жившие в четверти мили от фермы, рассказывали о странных и жутких звуках, доносившихся по ночам из дома Кервена — криках и сдавленных стонах. Недоумение вызывали и огромные стада домашнего скота, толпившиеся на пастбищах, — одинокому человеку и двум его слугам не могло понадобиться столько мяса, молока и шерсти. Причем скот этот постоянно менялся, и у кингстонских фермеров покупали все новые и новые стада. Наводила ужас на местных жителей и одна из внешних построек фермы — высокое каменное здание с узенькими щелями вместо окон.
Зевакам с Большого моста тоже было что порассказать о городском жилище Кервена в Олни-корте — не о новеньком доме, построенном в 1761-м, когда старику должно было стукнуть почти сто лет, а о старинном особняке с мансардной крышей, чердаком без окон и крытыми гонтом стенами, после сноса которого Кервен тщательно сжег все доски. Здесь загадок было меньше, однако ночные бдения хозяина, молчаливость двух смуглых слуг, омерзительное бормотание невероятно древней француженки-домработницы, огромное количество пищи, приносимое в дом, где жили всего четыре человека, а также странные приглушенные разговоры, доносившиеся из-за стен среди ночи или на рассвете, — все это вкупе со слухами о потакетской ферме обеспечило особняку недобрую славу.
В избранных кругах, несомненно, тоже ходили слухи о доме Кервена, поскольку участие в торговой и религиозной жизни города подразумевало завязывание знакомств с уважаемыми людьми, в общество которых он легко влился благодаря превосходному образованию. Он происходил из хорошего рода: Кервенов (или Корвинов) из Салема знала вся Новая Англия. Выяснилось, что в молодости Джозеф много путешествовал, некоторое время жил в Англии и по меньшей мере дважды плавал на восток. Когда он все-таки заговаривал (случалось это нечасто), речь выдавала в нем благородного и образованного англичанина. По какой-то загадочной причине общество Кервена не интересовало. Никогда не проявляя к гостям открытого нерасположения, он воздвигал вокруг себя столь непроницаемую стену молчания и сдержанности, что любая попытка заговорить с ним казалась большинству людей неуместной.
В его повадках чувствовалось едва уловимое сардоническое высокомерие, как будто всех собеседников он заведомо считал людьми безынтересными, а сам вращался среди существ куда более возвышенных и могущественных. В 1738 году из Бостона в Провиденс приехал доктор Чекли, знаменитый умник и остряк, новый приходской священник Королевской церкви. Он не преминул навестить господина, о котором был столь наслышан, однако очень скоро покинул его дом: в речи хозяина дома ему послышалось нечто недоброе и зловещее. Чарлзу Уорду, как вспоминает его отец, очень хотелось узнать, что же сказал таинственный старик бойкому и жизнерадостному священнику, но авторы всех дневников как один писали, что доктор Чекли не желал повторять услышанное. Этот славный человек был неприятно потрясен и с тех пор, вспоминая о Джозефе Кервене, всегда утрачивал знаменитую веселость и обходительность манер.
Чуть более ясна причина, по которой еще один человек с прекрасным воспитанием и вкусом избегал общества надменного отшельника. В 1746 году Джон Меррит, престарелый англичанин с обширными познаниями в литературе и науке, переехал из Ньюпорта в Провиденс — город, столь стремительно укрепляющий позиции и догоняющий по значимости его родину, — и скоро выстроил себе особняк в сердце самого респектабельного района. Он жил со вкусом и комфортом, держал превосходную карету, слуг в ливреях и был гордым обладателем микроскопа, телескопа и великолепной библиотеки. Узнав, что Кервен — хозяин лучшей частной библиотеки Провиденса, мистер Меррит сразу же нанес ему визит и был принят куда радушней прочих гостей. Его искреннее восхищение книжными полками, ломящимися от греческой, латинской и английской классики, а также великолепной подборкой научных трудов Парацельса, Агриколы, Ван Гельмонта, Сильвия, Глаубера, Бойля, Бургаве, Бехера и Шталя настолько польстило Кервену, что он пригласил гостя посетить его лабораторию на ферме — подобной чести не удостаивался еще никто. Двое без промедлений сели в карету мистера Меррита и отправились в путь.
Мистер Меррит потом уверял, что ничего по-настоящему ужасного на ферме не увидел, но одних названий книг по магии, алхимии и теологии, которые Кервен хранил в своей особой библиотеке, было достаточно, чтобы надолго проникнуться к их обладателю чувством глубокого отвращения. Возможно, однако, что на восприятие мистера Меррита повлияло и выражение лица Кервена во время демонстрации библиотеки. Жуткое собрание, помимо дюжины классических трудов, включало произведения чуть ли не всех известных человечеству каббалистов, демонологов и колдунов и представляло собой настоящий кладезь сведений по таким сомнительным областям знаний, как алхимия и астрология. С менаровским изданием Гермеса Трисмегиста, «Turba Philosophorum», «Liber Investigationis» Джабира ибн Хайана и «Ключом к мудрости» Артефия тесно соседствовали кабаллистический «Зогар», полное собрание сочинений Альберта Великого под редакцией Питера Джэмми, «Великое искусство» Раймунда Луллия в издании Зецнера, «Thesaurus Chemicus» Роджера Бэкона, «Clavis Alchimiae» Фладда и «De Lapide Philosophico» Иоганна Тритемия. В большом объеме там были представлены сочинения средневековых арабов и иудеев, и мистер Меррит побледнел, узнав в толстом томе под неприметным названием «Обычаи индийских мусульман» запрещенный «Некрономикон» безумного араба Абдула Альхазреда, о котором несколько лет назад ходили ужасные слухи, — после того как были разоблачены чудовищные ритуалы, проводимые жителями глухой рыбацкой деревушки Кингспорт в заливе Массачусетс.
Однако, как ни странно, больше всего обеспокоила сего славного джентльмена сущая мелочь. На огромном столе красного дерева лежала корешком вверх раскрытая книга Бореллия, на полях и между строк которой было множество комментариев, написанных рукой Кервена. Книга оказалась раскрыта примерно на середине, и готические строчки одного из абзацев были подчеркнуты столь неровной и жирной чертой, что мистер Меррит не удержался и прочел его. То ли содержание абзаца, то ли тревожный характер линий, то ли все вместе произвело на Меррита страшное и неизгладимое впечатление. В своих дневниках он вспоминал эти строчки до конца жизни, а однажды попытался процитировать их своему близкому другу доктору Чекли — но священник так встревожился, что ему пришлось замолчать. Строчки эти гласили:
«Жизненныя соли зверей тако приготовлять и сохранять можно, что ученый муж в комнате своей хоть целый Ноев ковчег соберет и форму всякого зверя из праха подымет. Такожде из солей человеческих философ способен без преступной некромантии форму любого предка из пепла возродить, где бы его тело прежь огню ни предали».
Однако самые страшные слухи о Джозефе Кервене ходили у доков в южном конце Таун-стрит. Моряки — народ суеверный, и даже матерые морские волки, ходившие в бесконечные плавания на кораблях с ромом, рабами и патокой, лихие капитаны каперов и бригов, принадлежавших Браунам, Кроуфордам и Тиллингастам, — все принимались лихорадочно чертить в воздухе знаки-обереги, завидев сухощавого, обманчиво молодого человека со светлыми волосами и немного сутулыми плечами, когда тот входил на склад на Дублон-стрит или переговаривался с капитанами и хозяевами грузов на длинном пирсе, куда без конца причаливали кервеновские суда. Его собственные работники и капитаны боялись и ненавидели его, а матросов он набирал из всякого сброда на Мартинике, Синт-Эстатиусе, в Гаване и Порт-Ройяле. Частота, с какой менялись эти матросы, пробуждала в остальных суеверный ужас. Когда судно приставало к берегу, экипаж отпускали в увольнение на сушу, а стоило всем снова собраться на борту, как обязательно кого-нибудь не досчитывались. Почти всегда пропадали те матросы, которых отправляли с поручениями на ферму в Потакете, и это обстоятельство не укрылось от внимания остальных. Вскоре Кервен начал испытывать серьезные трудности с набором экипажа. Стоило матросам узнать слухи о зловещих верфях Провиденса, как несколько человек непременно сбегали, а найти им замену на островах Вест-Индии становилось все тяжелей.
К 1760 году Джозеф Кервен стал настоящим изгоем, которого подозревали в таинственных связях с демонами и прочих страшных преступлениях — тем более жутких от того, что никто не мог их толком назвать, описать и даже доказать. Последней каплей стала история с пропавшими в 1758 году солдатами. В марте и апреле того года два королевских полка, направлявшихся в Новую Францию, были временно расквартированы в Провиденсе, после чего из обоих полков стали убывать солдаты — такое количество исчезновений нельзя было списать на дезертирство. Прошел слух, что Кервена часто видят беседующим с юношами в красных мундирах. Когда несколько из них пропали, жители Провиденса вспомнили об исчезнувших без вести моряках. Неизвестно, чем бы закончилась эта история, останься полки в городе на более долгий срок.
Тем временем дела негоцианта процветали. Кервен фактически единолично торговал в Провиденсе селитрой, черным перцем и корицей, а также стал вторым после Браунов импортером медной посуды, индиго, хлопка, шерсти, соли, снастей, железа, бумаги и всевозможных английских товаров. Почти целиком зависели от Кервена такие торговцы, как Джеймс Грин — хозяин магазинчика «Слон» в Чипсайде, Расселы, чья лавка была у Большого моста под вывеской «Золотой орел», Кларк и Найтингейл — хозяева «Рыбы на сковородке». А связи с местными винокурами, хозяевами молочных ферм, наррагансеттскими коноводами и ньюпортскими свечниками сделали его одним из ведущих экспортеров колонии.
Хоть Кервена и подвергли остракизму, чувства ответственности перед обществом он все-таки не лишился. Когда сгорело здание колониальной легислатуры, он любезно подписался на лотерею, благодаря которой собрали средства на строительство нового кирпичного дома, по сей день красующегося на прежней главной улице города. В том же 1761 году он помог восстановить Большой мост после октябрьского урагана и закупил много книг для публичной библиотеки, пострадавшей от пожара в легислатуре. Затем Кервен активно участвовал в лотерее, на выручку от которой у вечно грязной Маркет-парад и изрезанной колеями Таун-стрит появилась новая красивая брусчатка и кирпичные пешеходные дорожки посередине. Примерно в это же время он выстроил себе простой, но элегантный дом с великолепными резными пилястрами. Когда в 1743 году сторонники Уайтфильда откололись от церкви доктора Коттона на холме и основали на другом берегу свою собственную, Кервен последовал за ними — вот только религиозный пыл в нем быстро иссяк и церковь он посещал нечасто. Впрочем, уже очень скоро он вновь стал подчеркнуто набожен, словно решил развеять окутавшую его черную тень, которая сделала его изгоем и грозила, если вовремя не предпринять строгих мер, навредить его делам.
Глава 4
Поистине захватывающим и одновременно жалким зрелищем было наблюдать, как этот странный бледный человек — на вид средних лет, но в действительности ему было не меньше ста, — наконец пытается выйти из облака всеобщего презрения и страха. Но такова уж власть денег и внешних приличий: отношение к нему в обществе действительно стало заметно лучше, особенно после того, как прекратились исчезновения моряков. Вдобавок он начал тщательно скрывать свои походы на кладбище, и больше его там никто не видел; утихли и сплетни о жутких криках на потакетской ферме. Еду и скот Кервен по-прежнему закупал в огромных количествах, но до недавнего времени, когда Чарлз Уорд поднял архивы со счетами и заказами Кервена в библиотеке Шепли, никому не приходило в голову провести параллель между количеством гвинейских негров, которых он ввозил в страну вплоть до 1766 года, и необъяснимо малым числом купчих, удостоверяющих продажу этих рабов торговцам с Большого моста и плантаторам округа Наррагансетт. Словом, когда возникала острая необходимость, этот страшный человек мог проявить необычайную хитрость и изобретательность.
Эффект от запоздалого исправления, конечно, был невелик. Кервена продолжали избегать и сторониться; людям было достаточно уже одного того, что в свои сто лет он так молодо выглядит. Кервен понимал, что рано или поздно дурная репутация испортит ему торговлю, а для проведения опытов и исследований требовались изрядные средства. Поскольку смена города лишила бы его добытых большим трудом торговых преимуществ, о переезде не могло быть и речи. По здравому размышлению Кервен понял, что должен как можно скорей восстановить добрые отношения с жителями Провиденса, чтобы его появление больше не становилось сигналом к перешептыванью, внезапным отлучкам «по важным делам» и общему напряжению обстановки. Слугами в его доме давно работали нищие лентяи, которых никто другой нанимать не хотел, и они причиняли ему немало хлопот; из прежних капитанов и матросов с ним соглашались работать лишь те, над кем он имел какую-нибудь власть, будь то закладная, долговая расписка или тайные сведения, могущие нанести существенный урон их благосостоянию. Кервен, о чем с трепетом писали авторы различных дневников, обладал почти сверхъестественным даром по добыванию компрометирующих семейных тайн. В последние пять лет его жизни многим казалось, что сведения, которыми он свободно располагал, могли сообщить ему лишь мертвецы.
Примерно в это время коварный негоциант предпринял последнюю попытку восстановить свое положение в обществе. Абсолютный отшельник и изгой, Кервен вдруг решил заключить брак по расчету, взяв в жену леди, безупречная репутация которой не дала бы подвергать дальнейшему остракизму его дом. Возможно, на то имелись и другие, более глубокие причины — причины столь неподдающиеся человеческому восприятию, что лишь найденные через полтора столетия бумаги стали поводом для страшных догадок.
Естественно, он понимал, с каким ужасом и негодованием воспримет его ухаживания любая девушка, поэтому решил подыскать себе такую жену, на родителей которой мог бы оказать существенное давление. Подобных кандидаток оказалось немного, поскольку у Кервена были очень высокие требования к будущей супруге по части внешности, образования и положения в обществе. В конце концов поиски привели его в дом одного из самых лучших и давних его капитанов, вдовца с благородным происхождением и непререкаемым авторитетом по имени Дьюти Тиллингаст, чья дочь Элиза была наделена всеми достоинствами, какие только можно пожелать, за исключением наследства. Капитан Тиллингаст целиком и полностью находился во власти Кервена; после страшной беседы, состоявшейся в его доме с куполом на Пауэрс-лейн-стрит, он был вынужден благословить сей богохульный союз.
Элизе Тиллингаст в то время было восемнадцать лет; она получила самое лучшее воспитание и образование, какое только мог предоставить ей разорившийся отец. Элиза посещала школу Стивена Джексона напротив Корт-хаус-перейд и училась всем тонкостям ведения домашнего хозяйства у матери, пока та не погибла от оспы в 1757 году. Вышивки Элизы, сделанные ею в возрасте девяти лет, по сей день украшают комнаты Род-Айлендского исторического общества. После смерти матери девочка взяла все домашнее хозяйство на себя, и в помощницах у нее была только чернокожая старуха. Несомненно, споры с отцом по поводу брака с Кервеном причинили ей немало боли, однако об этом никаких сведений не сохранилось. Помолвку с Эзрой Уиденом, вторым помощником капитана судна «Энтерпрайз», пришлось разорвать. 7 марта 1763 года в Баптистской церкви, в присутствии всех знатных персон города, состоялась свадьба Элизы и Джозефа Кервена — церемонию проводил Сэмюэль Уиндзор-младший. В «Газетт» по этому поводу написали коротенькую заметку, но из большинства сохранившихся экземпляров того номера ее либо вырвали, либо вырезали. Единственную уцелевшую копию газеты удалось найти в архивах известного частного коллекционера, и Чарлз Уорд не мог не подивиться и не улыбнуться бездушной обходительности языка, которым была написана заметка:
«Минувшим вечером мистер Джозеф Кервен, купец сего города, сочетался законным браком с Элизой Тиллингаст, дочерью капитана Дьюти Тиллингаста, — истинной леди, чьи несомненные достоинства вкупе с истинной красотой да принесут счастье и согласие сему славному союзу».
Собрание писем судьи Дарфи и мистера Арнольда, незадолго до первого приступа безумия обнаруженное Чарлзом в частной коллекции господина Мелвилла Ф. Питерса с Джордж-стрит, проливает весьма яркий свет на то, какое негодование вызвал в обществе сей нечестивый союз. Однако авторитета Тиллингастов это не подорвало, и в дом Джозефа Кервена вновь потянулись люди, которых прежде он ничем не мог заманить на порог. Конечно, полностью в общество его не приняли, и супруге его пришлось немало пострадать, однако стена полного остракизма все же рухнула. К вящему удивлению самой Элизы и всех остальных, Кервен относился к жене с поразительным уважением и любовью. В новом доме не осталось и следа от его прежних занятий, и хотя Кервен часто отлучался на ферму в Потакете, где его жена никогда не бывала, дома он вел себя совершенно нормально. Лишь один человек не прекратил с ним открытой вражды — юный помощник капитана, с которым Элиза Тиллингаст столь внезапно разорвала помолвку. Эзра Уиден поклялся отомстить Кервену, и хотя по натуре он был человек мягкий и незлобивый, теперь он лелеял одну-единственную цель, не сулившую мужу-узурпатору ничего хорошего.
7 мая 1765 года родился единственный ребенок Кервена, дочь Анна; преподобный Джон Грейвз крестил ее в Королевской церкви, прихожанами которой, дабы найти компромисс между конгрегационалистскими убеждениями мужа и баптистскими — жены, недавно стали оба супруга. Запись об этом рождении, как и о заключении брака двумя годами раньше, тщательно вымарали из всех церковных и городских архивов; Чарлзу Уорду удалось найти их лишь после того, как он узнал о смене фамилии вдовы и собственном родстве с Кервеном, каковое открытие пробудило в нем безудержный интерес и впоследствии привело к безумию. Запись о рождении нашлась весьма удивительным образом: благодаря переписке с наследниками лоялиста Грейвза, который после начала революции сбежал из Провиденса, прихватив с собой копию церковного архива. Уорд решил испытать этот источник, поскольку знал, что его прапрабабушка Анна Тиллингаст Поттер относилась к епископальной церкви.
Вскоре после рождения дочери — события, которое он встретил с необычайным для его холодной натуры восторгом, Кервен решил позировать для портрета. Художником стал одаренный шотландец по имени Космо Александр, который впоследствии поселился в Ньюпорте и был одним из первых учителей Гилберта Стюарта. Портрет повесили в библиотеке заново отстроенного дома, но ни в одном из дневников, где упоминалась картина, не было сведений о ее дальнейшей судьбе. В это время ученый стал проявлять необычайную рассеянность и почти все свое время проводил на потакетской ферме. Он постоянно пребывал, как свидетельствовали окружающие, в состоянии тщательно скрываемого возбуждения, словно вот-вот должно было свершиться нечто удивительное. Это явно имело отношение к химии и алхимии, поскольку Кервен перевез на ферму множество книг по этим темам.
Между тем его интерес к жизни Провиденса не угас, и он не упускал случая помочь таким деятелям как Стивен Хопкинс, Джозеф Браун и Бенджамин Уэст в попытках поднять культурный уровень города, который тогда был гораздо ниже ньюпортского, где издавна покровительствовали гуманитарным наукам. В 1763 году Кервен помог Дэниелу Дженкксу открыть книжный магазин, после чего стал там постоянным покупателем; оказывал поддержку нуждающейся «Газетт», свежий номер которой каждую среду печатался в «Голове Шекспира». Что касается политики, он горячо поддерживал губернатора Хопкинса в борьбе с партией Уорда, основная сила которой была сосредоточена в Ньюпорте. А чрезвычайно убедительная речь Кервена в Хэчерс-холле против обособления Северного Провиденса позволила ему вновь закрепить свое положение в обществе. Один лишь Эзра Уиден цинично усмехался его напускному пылу и клятвенно заверял остальных, что все это — лишь прикрытие для страшных дел, свершаемых в самых черных глубинах Тартара. Мстительный молодой человек принялся систематически собирать сведения о Кервене в порту и часами проводил на верфи с плоскодонкой наготове, чтобы преследовать маленькую лодку, которая время от времени покидала кервеновский склад и отправлялась куда-то вниз по заливу. Вдобавок он пристально наблюдал за потакетской фермой и однажды подобрался так близко, что его жестоко искусали собаки, спущенные стариками-индейцами.
Глава 5
В 1766 году в Джозефе Кервене произошли последние перемены. Это случилось внезапно и получило широкую огласку среди любопытных горожан: Кервен вдруг скинул с себя возбужденное ожидание, точно старый плащ, и его место занял плохо скрываемый триумф. Он с явным трудом удерживал себя от публичных выступлений по поводу своей находки или открытия, однако необходимость сохранить это в тайне все же не дала ему поделиться радостью с остальными, поскольку никаких объяснений он так и не предоставил. Именно после этих странных перемен, произошедших с ним в начале июля, Кервен стал поражать окружающих сведениями, которые могли сообщить ему разве что давно почившие родственники.
Однако тайные занятия Кервена после этого не прекратились. Напротив, они стали еще интенсивней; его торговыми делами теперь занимались лишь те капитаны, которых он сковал по рукам и ногам угрозой полного банкротства. Кервен совершенно забросил работорговлю, поскольку она приносила все меньше прибыли, и каждую свободную минутку проводил на потакетской ферме и в местах, не столь далеких от кладбища, — люди наблюдательные начали задаваться вопросом, действительно ли старый негоциант так уж изменил своим привычкам. Эзра Уиден, который из-за частых дальних плаваний мог следить за Кервеном лишь изредка и недолго, все же обладал мстительным упорством, несвойственным практичным горожанам; он подверг дела своего заклятого врага такому тщательному изучению, какому они прежде никогда не подвергались.
Странные маневры кервеновских судов горожане объясняли трудными временами: каждый колонист, казалось, решил всеми силами бороться с Законом о сахаре, серьезно подорвавшем морскую торговлю. Контрабанда стала нормой в заливе Наррагансетт, и ночные перевозки незаконных грузов уже никого не удивляли. Однако Уиден, еженощно следивший за лодками, которые тайно выплывали со складов Кервена, вскоре утвердился во мнении, что зловещий негоциант тщательно скрывается вовсе не от боевых кораблей Его Величества. До перемен 1766 года в этих лодках обычно перевозили закованных в цепи негров, которых высаживали на берег неподалеку от Потакета, а затем везли через поле на ферму Кервена, где держали в огромном каменном здании с пятью узкими щелочками вместо окон. Но после тех перемен схема стала иной. Кервен забросил работорговлю, и на какое-то время ночные вылазки в море тоже прекратились. Однако весной 1767-го негоциант возобновил свою деятельность на новый лад. Из безмолвных черных доков снова стали выплывать лодки, но теперь они шли гораздо дальше, возможно, до самого Намквит-пойнта, где принимали груз с каких-то странных и постоянно меняющихся кораблей. Матросы Кервена затем доставляли этот груз на прежнее место неподалеку от Потакета, откуда транспортировали его по суше на ферму и запирали в том же загадочном каменном здании, где раньше держали рабов. Груз состоял в основном из ящиков и сундуков, многие из которых были тяжелыми, вытянутыми и подозрительно похожими на гробы.
Уиден всегда следил за фермой с неусыпным вниманием, на протяжении долгого времени посещая ее каждую ночь — за исключением тех ночей, когда на земле лежал снег и могли остаться видимые следы. Но даже тогда Уиден подходил как можно ближе, стараясь ходить по тропинкам или твердому льду протекающей рядом речушки: он высматривал следы, оставленные другими. Поскольку дозоры то и дело приходилось прерывать из-за плаваний, он нанял себе сменщика — приятеля по имени Елеазар Смит, который продолжал слежку в его отсутствие. При желании они могли бы пустить по городу весьма любопытные слухи, но не делали этого, чтобы не спугнуть жертву и выведать как можно больше. Друзья сговорились найти какое-нибудь подтверждение своим догадкам и лишь затем что-либо предпринимать. Видимо, им открылось нечто поистине ужасное: Чарлз нередко жаловался родителям, что Уиден сжег все свои записи. Единственные сведения об открытии обнаружились в довольно бессвязном дневнике Елеазара Смита, а также в письмах других людей, которые лишь робко повторяли слова Уидена и Елеазара: согласно им, ферма была лишь прикрытием для чего-то столь гнусного и омерзительного, для зла столь безграничного и непостижимого, что человеческий разум не в силах даже его осознать.
Известно, что Уиден и Смит еще на ранних этапах своего расследования узнали об огромной сети катакомб и туннелей, проложенных под фермой, где помимо двух стариков-индейцев трудились сотни рабов. Дом был древней реликвией середины семнадцатого века с остроконечной крышей, огромной дымовой трубой и витражными окнами. Лаборатория располагалась в северной пристройке с односкатной крышей, которая спускалась почти до самой земли. Здание стояло в отдалении от всех остальных построек, однако, судя по голосам разных людей, доносившимся оттуда в разное время дня и ночи, в дом можно было попадать тайными подземными ходами. Голоса эти до 1766 года что-то неясно бормотали, шептали или вопили, к ним то и дело и примешивались загадочные песнопения и молитвы. Однако после 1766-го они приобрели необычайно жуткий характер: смиренные безжизненные стоны сменялись воплями ярости, громогласными спорами и жалобными мольбами, учащенным хриплым дыханьем и криками протеста. Языки были разные, но Кервен знал их все — его сиплый голос с узнаваемым акцентом часто произносил в ответ упреки или угрозы. Иногда казалось, что в доме собралось несколько человек: Кервен, пленники и их стражи. Таких голосов ни Уиден, ни Смит никогда прежде не слышали, и многие языки казались им совершенно незнакомыми, хотя оба часто бывали в разных уголках света. Сами разговоры всегда напоминали допросы, словно бы Кервен пытался силой добыть из обезумевших от страха или бунтующих пленников какие-то сведения.
Многие из подслушанных разговоров Уиден записал дословно — на ферме часто разговаривали на английском, французском и испанском, а эти языки он прекрасно знал. Однако ни одной записи тех бесед не сохранилось. Впоследствии он признался, что лишь немногие из леденящих душу разговоров касались семей Провиденса; большая часть вопросов и ответов, которые он сумел разобрать, имели отношение к истории и различным наукам, весьма отдаленным местам и эпохам. Однажды, к примеру, некоего человека допрашивали на французском языке о Черном Принце и расправе над жителями города Лимож в 1370 году — словно бы он по какой-то неведомой причине мог знать о тех событиях. Кервен спросил узника — если тот вообще был узником — о причинах гибели трех тысяч человек: истребили их потому, что на алтаре в древнеримском склепе под собором нашли символ козла, или потому, что Черный Человек из Верхней Вьенны произнес три слова? Не получив желаемого ответа, инквизитор прибегнул к крайним мерам, поскольку тут же раздался страшный визг, за которым последовала внезапная тишина, глухое проклятье и тяжелый удар.
Ни один из этих разговоров Уидену и Смиту не удалось увидеть собственными глазами, поскольку окна всегда были плотно зашторены. Но однажды, во время допроса на неизвестном им языке, на портьеру упала тень допрашиваемого, один вид которой привел Уидена в ужас: она напомнила ему о марионетках, которых он видел в Хэчерс-Холле осенью 1764 года, когда некий артист из Джермантауна показывал публике любопытный механический спектакль. На плакате, зазывавшем зрителей, было написано:
«Вы увидите знаменитый город Иерусалим с Храмом Соломона, царским троном, знаменитыми башнями и холмами, а также страсти Христовы от Гефсиманского сада до распятия на Голгофе; искусное зрелище на самого любопытного и взыскательного зрителя».
Именно в ту ночь Уиден, подкравшись во время разговора поближе к окну, от ужаса подскочил на месте, и охранявшие дом индейцы спустили на него собак. После этого случая всякие допросы в доме прекратились, и Уиден со Смитом решили, что Кервен перенес поле своей деятельности под землю.
Тому, что под землей действительно что-то располагалось, было много свидетельств. Местами оттуда доносились едва различимые крики и стоны, а никаких построек поблизости не было. В зарослях кустарника вдоль реки, где за крутым холмом начиналась долина Потакет, обнаружилась тяжелая деревянная дверь с каменным обрамлением — очевидно, то был вход в пещеры под холмом. Кто и когда его построил, Уиден сказать не мог, однако он часто подчеркивал, что со стороны реки там вполне могли незаметно трудиться рабочие. Да, Джозефу Кервену было чем занять своих матросов-полукровок! Во время сильных весенних дождей 1769-го два друга постоянно следили за крутым речным берегом — на случай, если паводок вынесет на поверхность какие-нибудь подземные тайны. Наградой им было обилие человеческих и животных костей в глубоких промоинах на берегу. Конечно, на задворках скотной фермы, где в стародавние времена к тому же находилось индейское кладбище, подобные находки были вполне объяснимы, но Уиден и Смит пришли к другим выводам.
В январе 1770-го, пока они раздумывали, что же им делать с этими ужасными открытиями, произошел странный случай с баржей «Форталеза». Летом прошлого года близ Ньюпорта контрабандисты сожгли таможенный корабль «Либерти», и раздосадованный адмирал Уоллес, командовавший тогда таможенным флотом, стал с удвоенной бдительностью следить за неизвестными судами. Так, однажды ранним утром боевая шхуна «Лебедь» под управлением капитана Чарлза Лесли после недолгого преследования захватила барселонскую баржу «Форталеза», следовавшую, согласно бортовому журналу, из Каира в Провиденс. Когда судно обыскали на предмет контрабандных товаров, таможня с удивлением обнаружила, что груз целиком состоит из египетских мумий, предназначенных «матросу А. Б. В.», который должен был забрать их близ Намквит-пойнта и доставить в нужное место. Личность таинственного матроса капитан баржи Мануэль Арруда счел своим долгом не разглашать. Вице-адмирал в Ньюпорте пришел в замешательство: с одной стороны, груз не назовешь контрабандным, с другой — дело явно нечисто и разрешения на ввоз мумий они не давали. В конечном итоге он решил последовать совету контролера Робинсона и отпустить судно, но запретить ему входить в воды Род-Айленда. Потом пошли слухи, что баржу видели в бостонской гавани, хотя открыто в порт она не входила.
Необычный этот случай не мог не получить широкой огласки в Провиденсе, и мало кто сомневался в связи между грузом с мумиями и зловещим Джозефом Кервеном. Его экзотические исследования, частые поставки странных химических веществ, подозрительная любовь к кладбищам, о которой все прекрасно знали… нетрудно было догадаться, кому именно в Провиденсе предназначался столь жуткий груз. Словно понимая, что подобных подозрений не избежать, Кервен несколько раз с нарочитой беспечностью обмолвился в обществе о химической уникальности древних бальзамических жидкостей, надеясь таким образом объяснить случившееся и одновременно не указывать прямо на свое участие. Уидена и Смита, это, разумеется, не успокоило, и они продолжали строить безумные догадки о чудовищных опытах Кервена.
Следующей весной опять шли сильные дожди, и дозорные внимательно следили за речным берегом позади потакетской фермы. Вода вновь смыла толстый слой земли и обнажила множество костей, но подземных пещер и туннелей так и не открыла. Правда, странные слухи поползли по деревне Потакет, что находилась примерно в миле по течению от фермы, где река переливалась через уступ и каскадами спускалась в мирную лагуну. На склоне холма теснились причудливые старинные домики, а в сонных доках дремали рыбацкие лодки. Из этих безмятежных мест стали поступать жуткие слухи о непонятных предметах, плывущих по реке и исчезающих в пучине водопада. Конечно, Потакет — река длинная и минует немало поселений с кладбищами, а дожди той весной шли сильные и продолжительные; но рыбаков на мосту напугал дикий взгляд, каким посмотрел на них один из этих «предметов», прежде чем свалиться в водопад, и страшный крик другого — он почти разложился и пребывал вовсе не в том состоянии, чтобы кричать. Эти слухи погнали Смита (Уиден тогда ушел в очередное плавание) на берег реки, где непременно должны были остаться следы обширного обвала. Но попасть на крутой берег оказалось невозможно: обвал оставил за собой твердую стену из земли и кустарника. Смит думал даже устроить экспериментальные раскопки, но быстро бросил эту затею, испугавшись неудачи (или, наоборот, его устрашил возможный успех). Будь на его месте Уиден, он бы наверняка поступил иначе.
Глава 6
К осени 1770-го Уиден решил, что пришла пора рассказать остальным о своих открытиях. В его распоряжении было множество фактов, которые легко увязывались в единое целое, и второй свидетель — на случай, если его собственное суждение было замутнено ревностью и жаждой мести. В качестве первого доверенного лица Уиден избрал капитана Джеймса Мэтьюсона с «Энтерпрайза», который, с одной стороны, хорошо знал Эзру и не усомнился бы в правдивости его слов, а с другой — пользовался достаточным авторитетом — в городе его бы выслушали с уважением. Разговор состоялся в верхних комнатах таверны Томаса Сабина рядом с доками. Пришел туда и Смит, чтобы в случае необходимости подтвердить каждое слово Уидена. Капитан Мэтьюсон был крайне поражен услышанным. Как и все жители города, он давно подозревал своего соседа Джозефа Кервена в темных делах, и теперь его подозрения подтвердились. В конце беседы он стал очень мрачен и велел молодым людям хранить полное молчание. Мэтьюсон решил сам распространить полученную информацию среди примерно десяти выдающихся жителей Провиденса, узнать их мнение и последовать любому их совету. Как бы то ни было, все нужно держать в строжайшей тайне, потому что ни городские констебли, ни армия не смогут уладить такое дело. И прежде всего нельзя посвящать в это впечатлительный народ: не приведи Бог, повторится жуткая Салемская история, которая случилась меньше века назад и погнала Кервена с насиженных мест.
Доверенными лицами Мэтьюсон избрал доктора Бенджамина Уэста, чей труд о прохождении Венеры по диску Солнца обнаружил в нем крепкого ученого и мыслителя; президента университета Джеймса Маннинга, который совсем недавно переехал из Уоррена и временно проживал в здании школы на Кинг-стрит, дожидаясь окончания строительства нового университетского здания на Пресвитэриан-лейн; бывшего губернатора Стивена Хопкинса, члена Ньюпортского философского общества и человека весьма широких взглядов; Джона Картера, издателя «Газетт»; всех четырех братьев Браун — Джона, Джозефа, Николаса и Моисея, — городских магнатов; старого Иависа Боуэна, человека весьма эрудированного и первым узнавшего о странных покупках Кервена; и, наконец, капитана Абрахама Уиппла, приватира небывалой храбрости и силы духа, который поведет за собой остальных в случае, если придется прибегнуть к активным действиям. Всех этих почтенных господ предполагалось собрать вместе, посвятить в случившееся и возложить на них ответственность за решение, уведомлять или не уведомлять губернатора колонии Джозефа Уонтона о дальнейших мерах.
Миссия капитана Мэтьюсона увенчалась неожиданным успехом; хотя среди посвященных два или три человека отнеслись к услышанному весьма скептически, все как один были убеждены в необходимости тайных, решительных и слаженных мер. Кервен, несомненно, угрожал благоденствию города и колонии в целом, и угрозу эту нужно было искоренить любой ценой. В конце декабря 1770 года компания именитых горожан встретилась в доме Стивена Хопкинса — обсудить первые пробные шаги. Они внимательно изучили заметки Уидена, предоставленные капитаном Мэтьюсоном, а также вызвали самих Уидена и Смита для дачи личных показаний. Нечто сродни суеверному страху охватило всех присутствующих еще до того, как собрание закончилось, однако в этом страхе сквозила решимость, нашедшая самое яркое отражение в грубовато-простодушной и звучной брани капитана Уиппла. Губернатора решили ни во что не посвящать, поскольку здесь требовалось нечто большее, чем вмешательство закона. Кервена, обладавшего некой таинственной силой, о могуществе которой оставалось лишь гадать, нельзя было просто попросить покинуть город — страшную неведомую кару сулила такая просьба всем обратившимся. К тому же переезд Кервена ничего бы не решил: нечистое бремя легло бы на другой город, но не исчезло. Всюду царило беззаконие, и люди, долгие годы игравшие в прятки с королевским таможенным флотом, не боялись предпринять более крутые меры, если того требовал долг. Кервена можно было застать врасплох: отправить на его ферму рейдерскую группу из матерых приватиров и дать ему последний шанс оправдаться. Если выяснится, что он обыкновенный безумец, развлекающий себя воплями и разговорами на разные голоса, надо будет просто поместить его в лечебницу. Если же под землей действительно обнаружится некая ужасная тайна, Кервен и все, что с ним связано, должно исчезнуть с лица земли. Дело можно провернуть тихо, и даже вдове не обязательно сообщать, что они узнали.
Пока эти серьезные меры только обсуждались, в городе произошло событие столь страшное и необъяснимое, что на какое-то время во всей округе говорили только об этом. Однажды лунной и снежной январской ночью тишину над рекой и холмом пронзили жуткие вопли. Проснувшиеся жители прильнули к окнам, и люди близ Уэйбоссет-пойнта увидели, как в проруби у «Головы Шекспира» барахтается и мечется странное белое существо. Где-то вдалеке лаяли собаки, но стоило подняться шуму разбуженного города, как лай утих. Люди с фонарями и мушкетами отправились узнать, что происходит, и ничего не нашли. На следующее утро, однако, на ледяных глыбах у южной опоры Большого моста обнаружили огромное, абсолютно нагое мускулистое тело. Личность этого человека стала предметом бесчисленных бесед и перешептываний, причем сплетничала главным образом не молодежь, а старики — застывшее лицо с выпученными от ужаса глазами пробудило в патриархах города кое-какие воспоминания. Дрожа и хрипя, они обменивались пугающими сплетнями: отвратительные черты мертвеца делали его как две капли воды похожим на человека, умершего пятьдесят лет назад.
Эзра Уиден лично присутствовал при находке; вспомнив о собачьем лае, раздававшемся минувшей ночью, он отправился по Уэйбоссет-стрит и через мост Мадди-Док к тому месту, откуда он доносился. Уиден рассчитывал на интересное открытие и не удивился, когда на краю жилого квартала, где улица переходила в Потакет-роуд, обнаружились весьма любопытные следы. За нагим великаном бежала целая свора собак и множество людей в сапогах. По следам, оставшимся на снегу, легко можно было проследить их обратный путь: преследователи бросили погоню, когда подошли слишком близко к городу. Уиден зловеще улыбнулся и на всякий случай прошел по следам до конца, то есть до кервеновской фермы близ Потакета. Он много бы дал за то, чтобы посмотреть на истоптанный двор перед фермой, однако при свете дня побоялся проявлять чрезмерный интерес. Доктор Боуэн, к которому Уиден сразу же направился с докладом, провел вскрытие найденного тела — и пришел в полное замешательство. Пищеварительный тракт великана никогда не работал, а кожа представляла собой необъяснимо грубую и рыхлую ткань. Пораженный слухами о том, что великан очень похож на давно почившего кузнеца Дэниэля Грина, чей правнук теперь работал представителем Кервена на грузовых судах, Уиден провел небольшое расследование и в конце концов нашел могилу Грина. Той же ночью группа из десяти человек посетила старое Северное кладбище напротив Герренденс-лейн. Они вскрыли могилу и обнаружили ее, как и предполагали, совершенно пустой.
Тем временем почтальонов попросили перехватывать всю корреспонденцию Джозефа Кервена, и незадолго до означенного случая с нагим трупом ему пришло письмо от некого Иедедии Орна из Салема, которое заставило участников заговора глубоко задуматься. Приводим выдержку из письма, сохранившегося в личных архивах семьи Смит:
«Я восхищен Вашими упорными изысканиями в области Древних материй, однако успехи мистера Хатчинсона из Салем-виллидж внушают куда меньше радости. Лишь толику надобного собрал Х., и из оной толики поднялось живое воплощение ужаса. То, что Вы мне милостиво прислали, надлежит исправить: или же в материалах недостает какой-то части, или Вы неверно записали слова. Я сам пребываю в растерянности, ибо нет у меня должного опыта в химии, дабы последовать по стопам Бореллия или же постичь умом книгу «Некрономикон», каковую вы мне советуете. Однако обращаю Ваше внимание на предостережение мистера Мэзера из «Magnalia — «: с осторожностью надобно взывать к неизвестному, ибо слышал я, какие неописуемые ужасы могут явиться на зов. Заклинаю Вас вновь: не взывайте к тому, что не возможете потом вернуть в небытие и что в ответ призовет на борьбу с Вами нечто, против чего даже самые могущественные Ваши заклинания и орудия будут бессильны. Зовите меньшее, дабы большее не пожелало Вам ответить. Я пришел в сущий ужас, когда узнал, что Вам теперь известно о содержимом того сундука черного дерева, что принадлежал Бену Зариатнатмику, ибо ясно мне, кто мог Вам сие сообщить. И вновь прошу Вас писать на имя Иедедии, а не Саймона, ибо в сем обществе человеку не след жить сверх отмеренного, и Вы знаете о моих планах вернуться в Салем в качестве собственного сына. С нетерпением ожидаю того дня, когда Вы откроете мне, что Черный Человек выпытал у Косидия Сильвана в склепе под римским валом. Равным же образом буду премного признателен, ежели Вы пришлете мне упомянутые материалы».
Второе неподписанное письмо из Филадельфии тоже наталкивало на странные мысли, особенно следующий пассаж:
«Впредь постараюсь пересылать материалы токмо Вашими судами, как Вы просите, однако я не знаю, когда их точно ждать. Относительно нашего же дела, мне осталось добыть единственную составную часть. Я бы хотел увериться, что правильно понял Ваши слова. Вы сообщаете, что ежели мы хотим добиться наилучшей пользы и результата, надобно собрать все части до единой и ничего не упустить. Однако добыть все разом представляется мне большим риском, особливо в городе (как то: в соборе Святого Петра, Святого Павла, Святой Марии или же в Церкви Христа), где это и вовсе нельзя осуществить. Памятуя, какие изъяны были в том, что явилось на мой зов в прошлом октябре, и сколько перевел я живых экземпляров, дабы найти верный способ, буду отныне всецело следовать Вашим указаниям. С нетерпением жду Вашего брига и ежедневно справляюсь о его прибытии на верфи мистера Биддла».
Третье подозрительное письмо было на неизвестном языке — даже алфавита такого никто раньше не видел. В дневнике Смита, обнаруженном Чарлзом Уордом, приведена часто повторяющаяся последовательность символов, скопированных неуклюжей рукой. Ученые Брауновского университета сказали, что это либо амхарская письменность, либо абиссинская, но слово узнать не смогли. Ни одно из этих писем Кервену так и не доставили, однако исчезновение Иедедии Орна из Салема свидетельствует, что провиденские заговорщики все же предприняли кое-какие незаметные меры. В Пенсильванском историческом обществе также сохранилось несколько весьма любопытных писем к доктору Шиппену касательно некоего подозрительного и неприятного господина, проживающего в Филадельфии. Но принимались и более серьезные шаги: главные плоды уиденовских изысканий стоит искать в действиях группы закаленных моряков и старых верных приватиров, собиравшихся на складе Брауна. Медленно, но верно план по полному искоренению Кервена приобретал все более четкие очертания.
Кервен, несмотря на все меры предосторожности, явно почувствовал угрозу: окружающие замечали его крайне встревоженный и почти напуганный вид. Его карету часто видели в городе и на Потакет-роуд, а напускное благодушие, посредством которого он пытался бороться с нелюбовью горожан, мало-помалу испарялось. Его ближайшие потакетские соседи, Феннеры, рассказывали, как однажды ночью из крыши загадочного каменного здания с высокими узкими окнами выстрелил яркий луч света — они сразу же сообщили об увиденном Джону Брауну из Провиденса. Мистер Браун был своеобразным предводителем группы, вознамерившейся сжить Кервена со света, и он заверил Феннеров, что скоро будут приняты весьма решительные меры. Посвятить их в происходящее было необходимо: они так или иначе стали бы свидетелями налета. Браун солгал им, что Кервен — шпион ньюпортской таможни и все шкиперы, купцы и фермеры открыто или тайно проголосовали за то, чтобы от него избавиться. Поверили Феннеры в эту ложь или нет (все-таки на их глазах происходило немало странного и жуткого), неизвестно, однако человека с такой репутацией легко можно было заподозрить хоть во всех смертных грехах. Мистер Браун возложил на Феннеров ответственную миссию: следить за домом негоцианта и регулярно докладывать о любых происшествиях.
Глава 7
Вероятность того, что Кервен все же догадался о готовящемся налете и предпринимает какие-то меры (об этом, возможно, свидетельствовал таинственный луч света), заставила группу решительно настроенных заговорщиков поторопиться с исполнением плана. Согласно дневнику Смита, 12 апреля 1771 года в десять часов вечера у таверны Терстена, что находилась на Уэйбоссет-пойнте против Большого моста, собралось около ста человек. Из главных заговорщиков, помимо Джона Брауна, присутствовали доктор Боуэн с набором хирургических инструментов, президент Маннинг без своего знаменитого парика (самого большого парика в колонии), губернатор Хопкинс в темном плаще и в компании брата-мореплавателя Изека, которого он с позволения остальных недавно посвятил в готовящийся план, Джон Картер, капитан Мэтьюсон и капитан Уиппл — последний должен был повести за собой налетчиков. Эти почтенные господа собрались в задней комнате таверны на совещание, после чего капитан Уиппл вышел в большой зал, взял с собравшихся моряков обет молчания и раздал последние наставления. Елеазар Смит сидел вместе с главными заговорщиками и дожидался прибытия Эзры Уидена, задачей которого было следить за Кервеном и доложить, как только его карета отправится на ферму.
Примерно полодиннадцатого с Большого моста послышался грохот и скрип колес. В столь поздний час и без донесения Уидена всем стало ясно: обреченный на погибель человек выехал из дома — в последний раз вершить свое греховное колдовство. Минутой позже, когда тающий в ночи скрип и лязг стихли за мостом Мадди-Док, к таверне подъехал Уиден, и налетчики стали в боевом порядке выстраиваться на улице, вооружившись кто охотничьими, кто кремниевыми ружьями, а кто и огромными китобойными гарпунами. Уиден и Смит присоединились к налетчикам, а за ними вышли капитан Уиппл, руководитель налета, капитан Изек Хопкинс, Джон Картер, президент Маннинг, капитан Мэтьюсон и доктор Боуэн. Ровно к одиннадцати подоспел и Моисей Браун, который на предварительном собрании в таверне не присутствовал. Все эти почтенные граждане и около сотни моряков без промедления отправились в путь: мрачные и чуть напуганные, они вскоре оставили за собой Мадди-Док и начали подъем по Броад-стрит к Потакет-роуд. Сразу за церковью Элдера Сноу некоторые налетчики оборачивались и бросали прощальный взгляд на Провиденс, что простирался под молодыми весенними звездами. Шпили и крыши домов темными силуэтами поднимались в небо, а из бухточки к северу от Большого моста дул соленый ветер. Вега взбиралась на высокий холм на другом берегу; очертания леса на его вершине прерывались контуром недостроенного университетского здания. У подножия холма и вдоль узких улочек на склоне дремал старинный город Провиденс, ради безопасности и душевного покоя которого сто с лишним жителей решили раз и навсегда искоренить чудовищное зло.
Спустя час с четвертью налетчики подошли к дому Феннеров, где выслушали последнее донесение о будущей жертве. Кервен приехал около получаса назад, вскоре после этого небо опять пронзил яркий луч, и больше ни в одном из окон фермы свет не загорался — так было и прежде. Уже во время разговора с Феннерами на юге вновь полыхнуло, и налетчики поняли: страшное и удивительное совсем рядом. Капитан Уиппл приказал войску разделиться на три части. Один отряд под командованием Елеазара Смита встанет у берега и будет сторожить пристань — на случай, если Кервен уже вызвал подкрепление, — пока к ним не пошлют гонца с просьбой о помощи. Второй отряд под командованием Изека Хопкинса должен незаметно пробраться в речную долину, обойти ферму и топорами, порохом или иными доступными способами уничтожить тяжелую дубовую дверь под крутым высоким холмом. Наконец, третий отряд отправится к дому и прилегающим внешним постройкам. Треть этого отряда с капитаном Мэтьюсоном во главе пойдет к загадочному каменному зданию, еще одна треть под руководством капитана Уиппла окружит сам дом, а оставшиеся матросы будут держать оцепление вокруг всей фермы, пока не услышат сигнал тревоги — значит, их помощь требуется в другом месте.
Единственный громкий свист станет сигналом для берегового отряда, чтобы выломать дубовую дверь в холме и ждать дальнейших указаний, отлавливая все, что может выйти из-под земли. Еще два свистка — и они двинутся в подземелье навстречу врагу или остальным налетчикам. Ровно то же самое свистки будут означать для тех, кто подойдет к каменному зданию: сначала нужно выломать дверь, затем начать спуск под землю навстречу главному или береговому отряду. Третий сигнал — он же сигнал тревоги, — состоящий из трех свистков подряд, призовет на помощь оцепление из двадцати человек, которым надлежит разделиться и войти в подземелье с двух сторон — через дом и через каменное здание.
Капитан Уиппл был абсолютно убежден в существовании катакомб и при планировании налета руководствовался этой верой. Он взял с собой очень мощный и громкий свисток, так что ошибок с толкованием сигналов возникнуть не могло. Пристань располагалась вне пределов слышимости, и к резервному отряду у берега в случае необходимости послали бы гонца. Моисей Браун, Джон Картер и капитан Хопкинс пошли на берег, а президента Маннинга с капитаном Мэтьюсоном направили к каменному зданию. Доктор Боуэн в компании Эзры Уидена остался в отряде капитана Уиппла, которому предстояло штурмовать сам дом. Облава должна была начаться, как только гонец от капитана Хопкинса доберется до капитана Уиппла и сообщит, что береговой отряд готов к наступлению. Тогда предводитель даст первый сигнал, и все три отряда начнут одновременную атаку по всем фронтам. Незадолго до часу ночи все налетчики покинули дом Феннеров: одни ушли сторожить пристань, вторые искать дубовую дверь в холме, а третьи — окружать постройки кервеновской фермы.
Елеазар Смит, который присоединился к береговому отряду, пишет в своем дневнике о том, как моряки без инцидентов добрались до места и долго ждали, прежде чем вдалеке послышался едва различимый свисток, а за ним — вроде бы крики и взрывы. Позже одному моряку из отряда показалось, что он слышит выстрелы, а еще позднее сам Смит ощутил в небе грохот неведомых и страшных слов. Незадолго до рассвета к ним прибыл единственный изможденный гонец с безумными глазами, от одежды которого исходила странная, ни на что не похожая вонь. Он велел морякам незаметно разойтись по домам и никогда никому не рассказывать о событиях этой ночи и о человеке, называвшем себя Джозеф Кервен. Поведение и взгляд гонца оказались куда красноречивей, чем слова: увиденное раз и навсегда лишило покоя душу и разум крепкого закаленного матроса. То же самое стало и со всеми остальными, кто побывал в ужасном подземелье: увидев нечто необъяснимое и неописуемое, они словно бы навек утратили — или, напротив, обрели — какую-то частичку души. Они испытали нечто неподвластное человеческому разуму и с тех пор не могли это забыть, однако никому не поведали о случившемся: человеческим слабостям все же есть предел. А гонец своим видом и поведением так напугал береговой отряд, что страх запечатал и их губы. Лишь считаные слухи просочились в город, и дневник Елеазара Смита — единственное дожившее до наших дней письменное свидетельство той ночной экспедиции.
Чарлз Уорд, однако, нашел еще кое-какие сведения в переписке Феннеров, сохранившейся у их родственников в Нью-Лондоне. Проводив налетчиков, Феннеры, из чьих окон можно было наблюдать за проклятой фермой, ясно услышали неистовый лай кервеновских псов и первый взрыв пороха, предваривший наступление. Вслед за взрывом из крыши каменного здания вновь вырвался яркий луч, а еще через секунду, после двух свистков подряд, послуживших сигналом к облаве, раздались мушкетные выстрелы и страшный оглушительный рев, который Люк Феннер записал буквами «ваааарррр-р’вааарррр».
Свойства этого рева не передать словами: мать Люка Феннера тотчас лишилась чувств. Позже он повторился, но уже тише, а за ним вновь последовали выстрелы и оглушительный взрыв со стороны реки. Примерно через час поднялся испуганный собачий лай, а земля начала трястись и гудеть так, что задрожало пламя свечей на каминной полке. Свидетель отмечает сильный запах серы; отец Люка Феннера заявляет, что слышал третий свисток — сигнал тревоги, — однако больше никто его не распознал. Опять раздались приглушенные выстрелы, а за ними — дикий крик, уже не такой оглушительный, но еще страшней предыдущего: некий горловой, неестественный кашель или бульканье, которое можно назвать криком лишь ввиду его продолжительности и психологического эффекта, а не звуковых свойств.
Затем в той стороне, где должна была находиться ферма Кервена, что-то вспыхнуло и послышались испуганные человеческие вопли. Застрекотали мушкеты, и полыхающее нечто рухнуло на землю. За ним появилось второе объятое огнем существо, кричавшее явно человеческим голосом. Феннер пишет, что ему даже удалось разобрать несколько слов, исторгнутых в предсмертной муке: «Всемогущий, защити агнца своего!» Затем вновь раздались выстрелы, и второе пламенеющее существо тоже рухнуло на землю. На три четверти часа воцарилась полная тишина, в конце которой маленький Артур Феннер, брат Люка, якобы увидел «красный туман», поднимающийся к звездам от проклятой фермы. Кроме ребенка этого никто не видел, но сам Люк признается, что по странному совпадению именно в ту секунду три домашних кошки в ужасе выгнули спины и зашипели.
Пятью минутами позже подул холодный ветер, и воздух наполнился невыносимой вонью, которую береговой отряд и жители Потакета не почуяли лишь благодаря свежему морскому бризу. Ничего подобного этой вони Феннеры никогда не обоняли: она пробуждала в груди некий липкий бесформенный страх, чем-то похожий на ужас человека, попавшего в темный склеп, но гораздо сильней. Затем прозвучал кошмарный глас, каковой в памяти любого услышавшего останется до конца жизни. Он прогремел с небес, точно предвестие конца света, и сотряс даже стены домов. Он был низкий и мелодичный, мощный, как орган, и зловещий, как запретные писания безумного араба. Никто не знает, о чем говорил глас, но в своем письме Люк Феннер так запечатлел эти демонические слова: «ДЭЭСМЕС ЙЕХЕТ БОНЕ ДОСЭФЕ ДУВЕМА ЭНИТЕМОСС». До 1919 года ни одна живая душа не могла соотнести эту грубую транскрипцию с какими-либо известными человеческими знаниями, но Чарлз Уорд побледнел, узнав в них то, что Мирандола с содроганием объявил ужаснейшей из магических формул.
В ответ на этот зловещий глас с кервеновской фермы раздался человеческий вопль десятков людей, после чего к неведомой вони примешался в равной степени невыносимый смрад. Затем раздался громкий вой — то слабеющий, то нарастающий. Временами в нем словно проскальзывали какие-то слова, но никто не мог их разобрать, а в какой-то миг он почти перешел в истерический или дьявольский хохот. Из человеческих глоток вырвался крик невыносимого, наивысшего ужаса и безумия — ясный и отчетливый, хотя и шел он из подземных глубин. Затем воцарилась полная тишина и мрак. Едкий дым спиралями поднимался в небо и застилал звезды, однако пламени никто не видел, и на следующее утро все постройки на ферме оказались целы.
Ближе к рассвету в дверь Феннеров постучали два перепуганных насмерть гонца в чудовищно провонявшей неизвестно чем одежде. Они попросили бочонок рома, за который щедро заплатили. Один из них сказал, что с Джозефом Кервеном покончено и о событиях этой ночи надлежит забыть раз и навсегда. Как бы надменно ни прозвучал этот приказ, тон и взгляд говорящего не дали Феннерам повода для возмущения или ослушания. Лишь в тайной переписке Люка Феннера с коннектикутским родственником (последний должен был сразу сжигать письма, но ослушался) сохранились воспоминания семьи о тех страшных событиях, и только упрямство этого родственника спасло ту ночь от полного забвения. Расспросив множество потакетских жителей на предмет семейных легенд, Чарлз Уорд смог добавить лишь одну любопытную подробность к рассказу Люка. Дедушка старика Чарлза Слокума рассказывал ему жуткую байку об обугленном трупе, найденном в поле через неделю после смерти Джозефа Кервена. Останки эти, хоть и серьезно пострадавшие от огня, явно не были человеческими, но и зверей таких никто из потакетских жителей даже в книгах никогда не видел.
Глава 8
Ни один человек, ставший свидетелем того налета, не вымолвил ни слова о случившемся. Все дожившие до наших дней обрывочные сведения поступали от людей, которые не вошли в последний отряд. Есть что-то необъяснимо жуткое в той тщательности, с какой налетчики уничтожали мельчайшие крохи информации, имеющей отношение к тем событиям. Погибли восемь матросов: тела их исчезли, но родственники вполне удовольствовались объяснением, что они погибли в стычке с таможенниками. То же самое сказали и родным бесчисленных пострадавших, раны которых перевязывал участвовавший в облаве доктор Иавис Боуэн. Сложнее всего было объяснить странную вонь от налетчиков — слухи о ней ходили по Провиденсу еще несколько недель. Из первых лиц города сильней всего пострадали капитан Уиппл и Моисей Браун, но, к вящему недоумению родных и жен, они никого не подпускали к ранам и ни словом не обмолвились о случившемся. Что же до психологического состояния всех участников налета, то они казались постаревшими, мрачными и чем-то страшно потрясенными. Хорошо, что все они оказались людьми крепкими и с простыми религиозными убеждениями: натура сложная и чувствительная могла не вынести пережитого. Сильней всего тревожился президент Маннинг, но даже он со временем смог избавиться от черных воспоминаний, задушив их неустанными молитвами. Каждый из заговорщиков в будущем так или иначе взял на себя роль предводителя — это, наверно, и хорошо. Примерно через год капитан Уиппл возглавил шайку, которая сожгла таможенное судно «Гаспи», и в этом отважном поступке можно угадать попытку стереть из памяти отвратительные образы.
Вдове Джозефа Кервена доставили запечатанный свинцовый гроб странной формы, явно найденный прямо на ферме. В нем якобы лежал труп ее супруга, убитого в битве с таможенниками, о подробностях которой ей не сообщили. Больше о смерти Джозефа Кервена никто и словом не обмолвился, а Чарлзу Уорду пришлось строить свою теорию на основании единственной призрачной зацепки — наспех переписанного рукой Уидена абзаца из письма Иедедии Орна к Джозефу Кервену. Копию нашли у одного из потомков Смита, и остается лишь гадать, то ли Уиден сам отдал другу письмо, когда все закончилось, то ли, что вероятней, оно попало к Смиту раньше и он сам подчеркнул нужный абзац. Вот что там было написано:
«Заклинаю Вас вновь: не взывайте к тому, что не возможете потом вернуть в небытие и что в ответ призовет на борьбу с Вами нечто, против чего даже самые могущественные Ваши заклинания и орудия будут бессильны. Зовите меньшее, дабы большее не пожелало Вам ответить».
В свете этих строк Чарлз Уорд всерьез задумался о том, каких невообразимых союзников мог в качестве крайней меры призвать поверженный колдун и действительно ли Кервена убили жители Провиденса.
Тщательному уничтожению любых сведений о Джозефе Кервене из жизни и архивов города весьма способствовало высокое положение и влиятельность главных заговорщиков. Поначалу они не были столь осмотрительны: вдова, ее дочь и отец долго пребывали в неведении относительно событий той роковой ночи, пока до сведения капитана Тиллингаста, человека весьма проницательного, не дошли кое-какие слухи. Они настолько ужаснули капитана, что он велел дочери и внучке немедленно сменить фамилию, сжег библиотеку со всеми архивами и стер надпись с могильной плиты Джозефа Кервена. Он хорошо знал капитана Уиппла и, должно быть, сумел выудить из простодушного моряка больше сведений о смерти проклятого колдуна, чем остальные.
С того времени запрет на упоминание имени Джозефа Кервена стал полным и безоговорочным, распространившись, по общему согласию, даже на городские архивы и подшивки «Газетт». По духу это можно сравнить лишь с тем забвением, каковому на десять лет предали имя Оскара Уайльда, а по тяжести — только с судьбой нечестивого короля Руназара из сказки лорда Дансейни — короля, которого по велению разгневанных богов не только не стало, но и никогда не было.
Миссис Тиллингаст — именно так ее стали звать после 1772 года — продала дом в Олни-корте и переехала к отцу на Пауэрс-лейн, где жила до самой смерти в 1817-м. Ферма в Потакете, куда не отваживалась ступить ни одна живая душа, на протяжении всех этих лет стояла в запустении и с невиданной быстротой ветшала. К 1780 году от нее остались лишь каменные и кирпичные стены, а к 1800-му и те превратились в бесформенные руины. Никто не смел продраться сквозь густые заросли на речном берегу, где могла бы скрываться дубовая дверь в подземелье, равным образом никто и не пытался восстановить картину событий, в ходе которых Джозеф Кервен навсегда покинул созданный им же самим хаос.
И лишь старый капитан Уиппл, как говорят люди с хорошим слухом, иногда бормотал себе под нос: «Черти его раздери! Чего ж он хохотал-то, …, когда от боли вопил? Будто какую пакость напоследок удумал, сволочь …! Эх, спалить бы его дом к чертовой бабушке!»
Часть III. Поиски и призыв
Глава 9
Чарлз Уорд, как мы уже знаем, впервые узнал о своем родстве с Джозефом Кервеном в 1918 году. Нет ничего удивительного в том, что он с пылким интересом принялся за поиски любых сведений, могущих пролить свет на тайну своего предка. Каждая неподтвержденная байка приобретала для Уорда огромное значение, ведь в нем самом текла кровь Кервена: на его месте любой увлеченный генеалог с богатым воображением начал бы систематический сбор информации о колдуне.
Поначалу он и не пытался скрывать свои изыскания, так что даже доктор Лайман затрудняется назвать точное время начала его безумия — ясно только, что это произошло до конца 1919 года. Юноша с удовольствием рассказывал о Кервене своей семье — хотя мать не шибко обрадовалась сомнительному родству, — а также сотрудникам различных музеев и библиотек. Подавая заявки на изучение личных семейных архивов, он не скрывал предмета своих исследований и разделял ироничный скептицизм родственников к письмам и дневникам предков. Он с восторгом говорил о своем желании выведать, кем на самом деле был Джозеф Кервен и что же произошло сто пятьдесят лет назад на потакетской ферме, местоположение которой ему так и не удалось найти.
Обнаружив дневник Смита и письмо от Иедедии Орна, пытливый юноша решил посетить Салем и узнать, чем занимался и с кем водил знакомства Джозеф Кервен в родном городе. Чарлз совершил это путешествие во время пасхальных каникул 1919 года. В институте Эссекса, хорошо знакомом ему по прошлым поездкам в этот великолепный старинный город осыпающихся фронтонов и теснящихся мансардных крыш, Чарлза приняли очень тепло, и ему удалось собрать немало сведений о Кервене. Его предок родился 18 февраля (по старому стилю) 1662 или 1663 года в Салем-виллидж, ныне Данверсе, что находится в семи милях от города. В возрасте пятнадцати лет Джозеф сбежал из дому и целых девять лет от него не было ни слуху ни духу. Затем он вернулся — одежда, речь и манеры выдавали в нем истинного англичанина — и уже окончательно поселился в Салеме. В те годы он мало общался с семьей и большую часть времени уделял диковинным книгам, привезенным из Европы, а также странным химическим веществам, которые ему присылали из Англии, Франции и Голландии. Его частые вылазки на природу стали предметом множества пересудов: ходили слухи, что по ночам на холмах кто-то разводит костры.
Единственными близкими друзьями Кервена были некий Эдвард Хатчинсон из Салем-виллидж и Саймон Орн из Салема. Окружающие нередко видели эту троицу за оживленной беседой, они регулярно ходили друг к другу в гости. У Хатчинсона был дом на окраине, почти у самого леса, и впечатлительные местные жители его недолюбливали: по ночам оттуда доносились чудны́е звуки. Поговаривали, что он принимает у себя странных гостей, а окна иногда светятся разными цветами. Его осведомленность в делах давно минувших лет у многих вызывала подозрения, а незадолго до начала охоты на ведьм Хатчинсон бесследно исчез. Тогда же покинул город и Джозеф Кервен, однако в городе скоро узнали, что он поселился в Провиденсе. Саймон Орн жил в Салеме до 1720-го, когда его моложавый внешний вид начал наталкивать горожан на определенные мысли. После этого он также исчез, а через тридцать лет в Салем приехал его сын-самозванец — точная копия отца. Он предъявил права на отцовский особняк и в конечном счете получил его, поскольку под всеми предоставленными документами стояла подлинная подпись Саймона Орна. Иедедия Орн жил в Салеме вплоть до 1771 года, когда преподобному Томасу Барнарду пришло некое письмо от жителей Провиденса, после чего Орн незаметно уехал из города в неизвестном направлении.
В институте Эссекса, судебных архивах и канцелярии города сохранилось немало свидетельств об этих странных личностях: от безобидных документов на земельную собственность и купчих до обрывочных сведений весьма провокационного характера. В судебных протоколах слушаний по обвинениям в колдовстве нашлось четыре или пять явных указаний на Хатчинсона, Орна и Кервена. Например, некая Гефсиба Лоусон 10 июля 1692 года заявила под присягой судье Готорну, что «в лесу за домом мистера Хатчинсона собираются сорок ведьм и Черный Человек». А некая Эмити Хау на слушании 8 августа того же года сказала Дж. Б. (преподобному Джорджу Берроузу) в присутствии судьи Гедни, что «мистер Г. Б. в ту ночь поставил дьявольское клеймо на Бриджит С., Джонатана А., Саймона О., Деливеренс У., Джозефа К., Сюзан П., Мехитабль К. и Дебору Б.».
Кроме того, сразу после исчезновения Хатчинсона обнаружился каталог его жуткой библиотеки и незаконченный текст, записанный неизвестным шифром. Уорд попросил снять для него фотостатическую копию, и, как только получил ее, без промедления приступил к расшифровке. В сентябре его работа приобрела неистовый и лихорадочный характер, а к октябрю или ноябрю ему удалось подобрать ключ к шифру. Но впоследствии никто так и не узнал, преуспел он в этом деле или нет.
Однако самый живой интерес Чарлза Уорда вызвали материалы по Орну. Анализ почерка очень скоро подтвердил то, что и так следовало из его письма к Кервену: Саймон Орн и его «сын» Иедедия — один человек. Как Орн писал своему другу, оставаться в Салеме было небезопасно, поэтому он решил отправиться в тридцатилетнее заграничное путешествие и вернуться за своим имуществом уже представителем нового поколения. Орн, по-видимому, тщательно уничтожил всю прежнюю переписку, однако сознательным гражданам, которые в 1771 году приняли ряд решительных мер, удалось отыскать несколько старых писем и бумаг, вызвавших у них удивление. Среди таинственных формул и диаграмм, начертанных рукою Орна и других, которые Уорд сразу переписал или сфотографировал, было одно в высшей степени загадочное письмо, написанное каллиграфическим почерком — молодой исследователь без труда признал в нем руку своего предка Джозефа Кервена.
Листок этот, хоть и не датированный, явно не имел отношения к переписке с Орном, письмо из которой конфисковали в Провиденсе перед налетом. По некоторым свидетельствам, содержавшимся в самом письме, Уорд отнес его примерно к 1750 году. Полагаю, будет весьма уместно привести текст целиком, дабы у читателя сложилось представление о стиле и слоге человека со столь темной и жуткой историей. Письмо адресовано «Саймону», однако имя это отовсюду вымарали (то ли Кервен, то ли сам Орн, Уорд так и не уяснил).
«Провиденс, 1 мая.
Брат мой —!
Старинный и почтенный друг мой, да славится имя Того, чьему извечному могуществу мы служим! Сейчас только я наткнулся на нечто о Последних Пределах, что вам тоже знать полезно и должно. Я не могу последовать за вами, ибо возраст мне сего не дозволяет, тем паче в Провиденсе благосклонней относятся ко всему необычному и странному, нежели в Салеме, где на подобных нам давно объявили охоту. Будучи морской торговлей зело занят, я Вашему примеру последовать не в силах, к тому же сокрытое под фермой моей в Потакете не станет дожидаться моего возвращенья под новым именем.
Однако к лишеньям я не готов, как уже говорил Вам, и давно о путях возврата помышляю. Минувшей ночью прочел я слова, призывающие ЙОГГЕ-СОТОТЕ, и впервые увидел лик, описанный у Ибн-Шакабао в его «—». Оно сказало, что ключ запрятан в III псалме «Liber Damnatus». Когда солнце в пятом доме будет, Сатурн в трине, нарисуйте огненную пентаграмму и трижды девятый стих повторите. Оный стих читайте на каждое Воздвиженье и в канун Дня всех святых, тогда в Потусторонних сферах зародится Он.
Из старого семени родится Тот, кто оглянется в прошлое, не зная, чего ищет.
Сие однако будет втуне, ежели к тому времени не подготовим наследника и соли или же хотя бы верного способа сии соли изготовлять. Необходимых шагов я до сих пор не предпринял и мало пока что собрал. Добыть все нужное оказалось нелегко, я уже погубил десятки живых экземпляров, а всё новые потребны, хотя я неустанно нанимаю моряков в Ост-Индии. Местные жители начинают любопытствовать, но я их не подпускаю. Аристократы много любопытнее простонародья и о моих делах могут несравнимо обстоятельней рассказывать, тем паче их слову верят. Парсон и Меррит уже что-то разболтали, но опасности поколе нет. Химические препараты добываю без труда, в городе есть хорошие аптекари, доктор Боуэн и Сэм Кэрю. Я прилежно следую всем указаниям Бореллия и Абдула Альхазреда. Что сумею получить я, то получите и Вы. А пока ждете, не забывайте читать слова, кои я Вам посылаю. Записаны они верно, однако ежели хотите сами Его увидеть, используйте писания из «—», кои прикладываю к сему письму. Повторяйте стихи каждое Воздвиженье и канун Дня всех святых, и, коли не прекратите их читать, однажды к нам явится тот, кто оглянется и применит соли, каковые мы ему оставим. Книга Иова, 14:14.
Безмерно радуюсь, что Вы смогли вернуться в Салем, и надеюсь в скором времени Вас повидать. У меня хороший скакун и я подумываю приобрести экипаж, в Провиденсе уже один есть (у мистера Меррита), хотя дороги здешние сквернее некуда. Если надумаете отправиться в путешествие, заезжайте ко мне. Из Бостона можно добраться по почтовой дороге чрез Дедхэм, Рентам и Этлборо, во всех городах хорошие постоялые дворы имеются. В Рентаме останавливайтесь лучше у мистера Балькома, перины у него мягче, чем у Хэтча, зато у последнего лучше кормят. У Потакетского водопада поверните на Провиденс и езжайте мимо постоялого двора мистера Сайлса. Мой дом стоит против таверны Епенета Олни рядом с Таун-стрит, первый дом на северной стороне Олни-корта. От Бостона сюда примерно сорок четыре мили езды.
Засим прощаюсь, ваш добрый друг и брат в Альмонсине-Метратоне,
Джозеф К.
Мистеру —,
Уильямс-лейн, Салем».
Именно из этого письма, как ни странно, Уорд впервые узнал о точном местонахождении кервеновского дома в Провиденсе — ни одно из прежде найденных свидетельств такой точной информации не содержало. Открытие это было вдвойне поразительно еще и тем, что последний дом Кервена, построенный в 1751-м на месте старого, до сих пор стоял в Олни-корте и был хорошо знаком Уорду по долгим прогулкам вдоль и поперек Стамперс-хилла. Место это находилось в каких-то считаных кварталах от его собственного дома на вершине холма и сейчас служило пристанищем негритянского семейства, услуги которого по стирке, уборке и чистке печных труб пользовались в округе большим спросом. Найти в далеком Салеме сведения о столь важном для семейной истории гнезде было очень удивительно для Уорда; он решил осмотреть дом сразу по возвращении в Провиденс. Остальные строки, которые юноша принял за некую причудливую разновидность символизма, озадачили и смутили его, хотя он с восторженным замиранием сердца отметил знакомые слова из книги Иова: «Когда умрет человек, то будет ли он опять жить? Во все дни определенного мне времени я ожидал бы, пока придет мне смена».
Глава 10
Юный Уорд вернулся домой приятно взбудораженным и следующее воскресенье провел за долгим и утомительным осмотром дома в Олни-корте. То был не особняк, а скромный полуразвалившийся деревянный дом с двумя этажами и чердаком, какие часто строили в колониальную эпоху: простая островерхая крыша, большая дымовая труба посередине и резная парадная дверь с веерообразным окном наверху, треугольным сандриком и элегантными дорическими пилястрами. Внешне дом почти не изменился, и Уорд чувствовал, что подобрался очень близко к зловещему предмету своих изысканий.
Теперешние чернокожие обитатели дома — старик Эйза и его дородная жена Ханна — знали Уорда и очень любезно показали ему старинные интерьеры. К великому прискорбию юного исследователя, от доброй половины изысканных украшений над каминами и резьбы на буфетах ничего не осталось, а деревянные панели и лепнина были покрыты пятнами, трещинами и сколами, а то и вовсе заклеены дешевыми обоями. В целом можно сказать, что осмотр дома почти не помог Уорду в его исследованиях, но ему было приятно даже просто постоять в стенах, где жил его зловещий предок Джозеф Кервен. Он с замиранием сердца отметил, что кто-то тщательно стер со старинного дверного молотка его монограмму.
С тех пор до окончания учебного года Уорд часами просиживал за расшифровкой фотостатической копии хатчиновской рукописи и различными письменными свидетельствами о ранних годах жизни Джозефа Кервена. Первая никак ему не давалась, зато из последних он извлек немало полезных сведений и отсылок к другим доступным источникам. К июлю Чарлз Уорд решил съездить в Нью-Лондон и Нью-Йорк, где должны были сохраниться различные переписки тех лет. Путешествие это оказалось весьма успешным: Уорд нашел письма Феннеров с описанием налета на потакетскую ферму, а также переписку Найтингейла и Тальбота, из которой он узнал о портрете Кервена, написанном прямо на деревянных панелях его библиотеки. Особенно Чарлза заинтересовал портрет — вот бы узнать, как выглядел ужасный Джозеф Кервен! — и юноша решил еще раз наведаться в старый дом: под слоями истлевших обоев или старой краски могли сохраниться черты далекого предка.
В начале августа он приступил к поискам и стал внимательно осматривать стены всех комнат, где могла помещаться библиотека злого колдуна. Особое внимание Уорд уделял большим резным панелям над каминами и примерно через час, к вящему своему восторгу, обнаружил на стене просторной комнаты на первом этаже, под несколькими слоями облупившейся краски поверхность куда более темную, нежели остальные крашеные или обитые деревом стены. Осторожно поддев слой краски тонким ножом, Уорд понял, что наткнулся на большой, написанный маслом портрет. Взяв себя в руки, как подобает истинному ученому, Уорд отказался от попытки расковырять портрет ножом и ушел за профессиональной помощью. Через три дня он вернулся с многоопытным реставратором и художником мистером Уолтером К. Дуайтом, у которого была своя студия у подножия Колледж-хилла. Сей умелый мастер, вооружившись нужными химическими веществами и инструментами, сразу принялся за работу. Прибытие странных гостей, разумеется, не на шутку встревожило старика Эйзу и его жену, поэтому им щедро заплатили за неудобства, связанные с нарушением привычного уклада жизни.
День за днем, пока шла реставрация, Чарлз Уорд с растущим интересом вглядывался в черты и тени, возникающие из пелены векового забвения. Дуайт начал снизу, а поскольку портрет был почти в полный рост, лицо появилось еще не скоро. Тем временем показался на свет темно-синий плащ, расшитый камзол, короткие штаны из черного атласа и белые шелковые чулки. Стройный и подтянутый, Кервен сидел на резном стуле на фоне окна, из которого виднелись верфи и корабли. Когда начала вырисовываться голова, юноша увидел аккуратный парик и узкое, спокойное, невыразительное лицо, которое и Уорду, и художнику показалось смутно знакомым. Лишь по завершению работы, с потрясением вглядываясь в тонкие бледные черты, заказчик и реставратор начали понимать, какую невероятную шутку сыграла кровь. Последнее движение острым скребком, последняя протирка маслом — и вот перед ними возник лик, который не видел света на протяжении полутора веков. В чертах зловещего прапрапрадеда пораженный Чарлз Уорд, любитель старины, узнал самого себя!
Уорд показал обнаруженную диковинку родителям, и отец без колебаний решил выкупить картину, хоть она и была написана на деревянной панели. Сходство с его мальчиком, несмотря на существенную разницу в возрасте, было поразительным: казалось, благодаря какому-то чуду природы Джозеф Кервен спустя полтора века обрел своего точного двойника. При этом миссис Уорд совершенно не походила на предка, хотя и припоминала в своем роду людей с похожими чертами. Находка ей очень не понравилась, и она посоветовала мужу не приносить портрет домой, а сжечь от греха подальше. Хотя до городских предрассудков ей не было никакого дела, в столь очевидном сходстве с Чарлзом миссис Уорд виделось что-то зловещее и жуткое. Мистер Уорд, однако, — хозяин нескольких хлопкопрядилен в Риверпорте и долине реки Потакет — был человеком практичным и слушать женские благоглупости не стал. Портрет поразил его до глубины души, и мальчик, на его взгляд, вполне заслуживал такого подарка. Нечего и говорить, что мнение это нашло горячий отклик в сердце Чарлза Уорда, и уже через несколько дней мистер Уорд-старший нашел теперешнего владельца дома — маленького человечка с крысиными чертами и гортанным акцентом. Чтобы предупредить неизбежный поток елейных просьб и предложений, мистер Уорд сразу установил весьма привлекательную цену и купил деревянную панель вместе с каминной полкой и резными украшениями.
Теперь оставалось лишь снять панель и перенести ее в дом Уордов, где ее должны были окончательно отреставрировать и установить над искусственным электрическим камином в кабинете или библиотеке Чарлза на третьем этаже — самому Чарлзу поручили следить за этим переносом. Двадцать восьмого августа два искусных мастера из ремонтно-отделочной фирмы Крукера приехали в старинный дом, под надзором юного Уорда осторожно сняли деревянную панель над камином и поместили ее в грузовик. За панелью оказалась голая кирпичная кладка дымовой трубы, а в ней — квадратная ниша примерно в фут глубиной, располагавшаяся прямо за нарисованной головой Кервена. Юноше стало любопытно, для чего могла предназначаться такая ниша: он подошел и увидел внутри под толстыми слоями пыли и сажи несколько пожелтевших листков бумаги, толстую записную книжку и волокна истлевшей ткани — по-видимому, то была лента, которой все бумаги когда-то скреплялись. Сдув с них большую часть пыли и золы, Уорд взял в руки блокнот и прочел надпись на обложке, начертанную хорошо знакомым почерком: «Дневник и заметки Джоз. Кервена, гражд. Провиденса, а ранее — Салема».
Восхищенный и завороженный своей находкой, Уорд показал книжку озадаченным рабочим. Их свидетельства не подлежат сомнению — на них-то доктор Уиллет и построил теорию о том, что Уорд не был безумен, когда в его поведении появились значительные перемены. Все остальные бумаги также были заполнены почерком Кервена, и одна из них показалась Уорду особенно удивительной, ибо заглавие гласило: «Тому, кто придет мне на смену: о преодолении времени и пространств».
Текст на втором листке был зашифрован: Уорд понадеялся, что ключ к шифру тот же самый, который использовал Хатчинсон (и который ему до сих пор не удалось разгадать). Третий — и здесь наш юный исследователь возликовал — явно содержал ключ к шифру. Четвертый и пятый были адресованы соответственно «господину Эдв. Хатчинсону» и «господину Иедедии Орну», «либо же наследникам или их представителям». Шестой — и последний — листок носил следующее заглавие: «Жизнь и путешествия Джозефа Кервена между 1678 и 1687 годами: где он побывал, где останавливался, что видел и чему научился».
Глава 11
Тут мы подошли к периоду, который психиатры академической школы считают началом безумия Чарлза Уорда. Найдя дневник и бумаги, юноша сразу же заглянул внутрь и, очевидно, прочел там нечто глубоко его поразившее. В самом деле, показывая рабочим заглавия, он словно бы нарочно не давал им прочесть сами тексты, а потом взялся за работу с таким волнением и ретивостью, каковые не может объяснить даже историческая ценность находки. Родителям он сообщил новость почти смущенно, будто бы хотел передать свой восторг от совершенного открытия, но самих бумаг не показывать. Он даже не продемонстрировал им заглавий — только сказал, что обнаружил кое-какие документы Джозефа Кервена, «главным образом зашифрованные», которые необходимо внимательно изучить, прежде чем делать какие-либо выводы об их истинном значении. Рабочим же Уорд показал находки лишь потому, что те проявили к ним живой интерес и подозрительная скрытность с его стороны послужила бы только лишним поводом для слухов.
В тот вечер Чарлз Уорд заперся в своей спальне и приступил к изучению дневника и бумаг. Село и взошло солнце, а он все читал и читал. Когда мать попыталась войти и узнать, что происходит, Уорд настоятельно попросил не тревожить его и приносить еду в комнату; днем он лишь ненадолго вышел из спальни, чтобы проследить за установкой панели с портретом в его кабинете. Следующей ночью он спал лишь урывками, не раздеваясь, и в минуты бодрствования лихорадочно трудился над расшифровкой текстов. Утром миссис Уорд заметила, что сын работает над фотостатической копией рукописи Хатчинсона, которую он много раз ей показывал; впрочем, он солгал ей, что ключ Кервена к этому шифру не подходит. Днем он отложил работу и завороженно следил, как мастера заканчивают установку портрета над весьма правдоподобной имитацией камина: тот немного выпирал из северной стены, как будто сзади помещалась дымовая труба, и боковые стенки обили такими же деревянными панелями, какими была оформлена вся комната. Сам портрет повесили на петли, так что сзади образовался своего рода стенной шкаф. После ухода мастеров Чарлз перенес все бумаги в кабинет и сел прямо напротив портрета, то и дело переводя взгляд с шифра на изображение предка, взиравшего на него из глубины веков, — казалось, это какое-то волшебное зеркало, состарившее его собственный облик.
Родители, вспоминая поведение Чарлза в тот период, предоставили потом немало любопытных подробностей о политике утаивания, которой стал придерживаться их сын. Например, он и не думал прятать свою работу от слуг, справедливо полагая, что тем не по силам разобраться в замысловатой и архаичной каллиграфии Кервена. С родителями, однако, Чарлз был куда более скрытен: зашифрованные тексты (например, с названием «Тому, кто придет мне на смену…») или бумажки с россыпью неизвестных символов он не прятал, а все остальное, стоило кому-то войти, тотчас прикрывал чистым листком. Ночью он хранил бумаги под замком в резном антикварном шкафчике и туда же складывал всю работу, отлучаясь из кабинета даже на несколько минут. Довольно скоро Чарлз вернулся к прежним привычкам и режиму работы, разве что перестал подолгу гулять и забросил все остальные увлечения. Школа нагоняла на него скуку (Чарлз теперь учился в последнем классе), и он часто говорил, что не собирается поступать в университет. Ему якобы предстояли куда более важные исследования, открывающие перед ним такие необозримые просторы для познания и самосовершенствования, какие не в состоянии предоставить ни один университет.
Разумеется, лишь человек и без того нелюдимый, книжный и чудаковатый мог долгое время вести подобный образ жизни и не вызывать подозрений. Уорд от природы был замкнутым и горячо увлеченным наукой юношей, а потому его родители не столько удивились, сколько опечалились полному затворничеству сына. Однако же и матери, и отцу показалось странным, что Чарлз не желает показывать им находок из тайника Кервена и ничего не рассказывает об успехах по расшифровке текстов. Эту скрытность сам Чарлз объяснял желанием дождаться окончательных результатов, но недели шли, работа не сдвигалась с места, и между юношей и его родителями стало возникать напряжение, усиливаемое неприязнью матери ко всему, что касалось Джозефа Кервена.
В октябре Уорд вновь начал посещать библиотеки, но история и древности его больше не увлекали. Ведовство и магия, оккультизм и демонология — вот чем интересовался теперь юный исследователь. Когда выяснилось, что источники Провиденса ничего нового ему открыть не могут, Уорд сел в поезд на Бостон и там припал к щедрому источнику знаний в богатой библиотеке на Копли-сквер, а затем в Гарвардской библиотеке Уиденера и Сионской исследовательской библиотеке в Бруклине, где хранилось немало редких текстов по библейской тематике. Кроме того, Уорд не жалел денег на новые книги и скоро установил в кабинете дополнительные стеллажи для оккультной литературы. Во время рождественских каникул юноша совершил несколько поездок в другие города, включая Салем, где изучал кое-какие архивы в институте Эссекса.
Примерно в середине января 1920 года в поведении Уорда стало проскальзывать явное ликование, природу которого он ничем не объяснял; родители заметили, что он больше не работает над шифром Хатчинсона, а тратит все время на химические опыты и изучение архивов, приспособив для первых пустующую комнату на чердаке и прочесывая всю доступную демографическую статистику Провиденса. Допрошенные местные аптекари предоставили следствию весьма любопытные, но ничего не объясняющие списки веществ и инструментов, которые он закупал. Однако служащие легислатуры, ратуши и различных библиотек без труда называют второй предмет его изысканий: то была могила Джозефа Кервена, с надгробия которой горожане прошлых веков осмотрительно стерли имя.
Постепенно в семье Уордов росло убеждение, что с их сыном творится неладное. Интересы Чарлза и раньше незначительно менялись, но эта скрытность и полное погружение в какие-то зловещие исследования были нехарактерны даже для него. В школе он почти не занимался, и хотя ни одного экзамена еще не провалил, всем было очевидно, что от его прежнего усердия и прилежания не осталось и следа. Теперь его заботило совсем другое; в свободное от химических опытов время Чарлз либо сосредоточенно изучал архивы кладбищ, либо безотрывно читал оккультную литературу — под неизменным присмотром своей почти точной копии, Джозефа Кервена, вкрадчиво глядевшего на него с большой панели над искусственным камином.
В конце марта Уорд стал не просто изучать кладбищенские архивы, но и бродить по различным древним погостам Провиденса. Причина выяснилась позднее, когда служащие городской ратуши сообщили следствию, что Уорд, по-видимому, обнаружил ключ к разгадке этой тайны. Цель его поисков внезапно изменилась: он стал разыскивать могилу не Джозефа Кервена, а некоего Нафтали Филда. Вскоре и этой перемене нашлось объяснение: следователи подняли те же бумаги, что изучал Уорд, и наткнулись в них на короткую архивную запись о похоронах Джозефа Кервена, которую заговорщики забыли уничтожить и в которой говорилось, что «свинцовый гроб закопали в 10 ф. на юг и 5 ф. на запад от могилы Нафтали Филда, на кладб…». Отсутствие названия кладбища сильно усложняло поиск, и могила Нафтали Филда могла показаться столь же недостижимой целью, что и могила Кервена, однако надписи с этого надгробия, по крайней мере, никто не стирал, и даже если архивные записи тех лет не уцелели, при большом желании ее можно было найти, просто прочесывая старые кладбища. Следователи выяснили, зачем Уорд наведывался на погосты и почему обошел вниманием церковь Святого Иоанна (прежде называвшуюся Королевской церковью), а также древнее конгрегационалистское кладбище на Суон-пойнт: в единственной сохранившейся архивной записи о Нафтали Филде (умершем в 1729 году) говорилось, что он был баптистом.
Глава 12
В конце апреля Уорд-старший обратился за помощью к доктору Уиллету: он предоставил ему все сведения о Джозефе Кервене, какие только успел выудить из сына, пока тот окончательно не замкнулся в себе, и попросил врача поговорить с Чарлзом. Беседа эта не принесла плодов: Уиллет постоянно чувствовал, что скрытный юноша прекрасно владеет собой и имеет дело с чем-то поистине важным, о чем не станет распространяться ни при каких обстоятельствах; зато из его слов врачу хотя бы стало понятно, отчего Уорд так странно ведет себя последнее время. Будучи юношей замкнутым и немногословным, он все же с охотой говорил о своих изысканиях, однако предмета их так и не открыл. Он утверждал, что в бумагах его предка якобы содержались некие весьма важные научные сведения, главным образом зашифрованные, по значимости своей сравнимые только с открытиями Роджера Бэкона, а то и превосходящие их. Однако сами по себе, в отрыве от области человеческих знаний, полностью забытой в наши дни, они лишены всякого смысла. Если явить их миру сейчас — миру, вооруженному лишь современными научными методами, — это принизит их значимость и лишит всякого очарования. Дабы они заняли заслуженно высокое место в истории человеческой мысли, необходимо сначала соотнести эти открытия с научным контекстом того времени — этой-то задаче и посвятил себя Уорд. Он пытался как можно быстрей ознакомиться с забытыми науками прошлого, глубокими познаниями в которых должен владеть всякий, кто хочет правильно истолковать наследие Джозефа Кервена, а затем наконец представить эти открытия ученому миру во всей их полноте и колоссальности — открытия столь революционные, что даже Эйнштейну еще не удавалось так кардинально перевернуть человеческие представления об устройстве мира.
Что же касается поисков могилы — Уорд и не думал утаивать их от Уиллета, — то на изувеченном надгробии Джозефа Кервена должны были сохраниться некие мистические символы, которые заговорщики по невежеству своему забыли стереть, — и которые могли оказаться решающей подсказкой к разгадке таинственного шифра. Кервен, по разумению Уорда, тщательно оберегал свою тайну и все сведения о ней изложил при помощи крайне замысловатой системы символов. Когда доктор Уиллет попросил ознакомиться с таинственными бумагами, Уорд попытался охладить его интерес демонстрацией фотостатической копии рукописи Хатчинсона и загадочных диаграмм Орна, но в конце концов показал Уиллету и дневник, и зашифрованный текст (с зашифрованным же заглавием), и испещренное формулами послание «Тому, кто придет мне на смену» — доктор все равно не смог бы разобраться в непонятных символах и значках.
Дневник он нарочно открыл на самой безобидной странице — просто чтобы показать Уиллету каллиграфический почерк своего предка. Врач внимательно изучил замысловатую вязь и быстро убедился в подлинности документа: почерк и слог несомненно свидетельствовали о том, что автор родился в XVII веке (хотя и застал существенную часть века XVIII). Содержание текста было весьма тривиальным, и Уиллет заполнил лишь небольшой фрагмент:
«Среда, 16 октября 1754 года. Мой корабль «Бдительный» сегодня вышел из Лондона с 20 новыми матросами из Ост-Индии, испанцами с Мартиники и двумя голландцами из Суринама на борту. Голландцы хотят дезертировать, ибо до них дошли слухи о моих плаваниях, но я попробую уговорить их остаться. Для мистера Найта Декстера везу 120 рулонов камлота, 100 рулонов тонкого камлота разных цветов, 20 рулонов синей байки, 100 рулонов шаллуна, 50 рулонов коломянки, по 300 рулонов чесучи и грубого индийского хлопка. Для мистера Грина: 50 галлоновых котлов, 20 грелок, 15 противней для выпечки, 10 коптилен. Для мистера Перриго: набор шил, для мистера Найтингейла 50 стоп лучшей писчей бумаги 13х8 дюймов.
Прошлой ночью трижды прочел «Саваоф», однако же ничего не добился. Нужно расспросить мистера Х. из Трансильвании, хотя нынче с ним трудно связаться. Зело неясно, что ему мешает разъяснить мне то, чем он благополучно занимается без малого сто лет. От Саймона за 5 недель ни слова, но скоро надеюсь получить от него весточку».
Когда на этих строках доктор Уиллет хотел перевернуть страницу, Уорд тут же выхватил дневник у него из рук — едва ли не вырвал силой, — и доктор успел увидеть на следующей странице лишь первые два предложения. Они, как ни странно, надолго запечатлелись в его памяти: «Стих из «Liber-Damnatus» надлежит пять раз прочесть на Воздвиженье и четыре в канун Дня всех святых, тогда из Потусторонних сфер, если сие правильно сотворить, придет Он и оглянется в прошлое. Для сего надобно приготовить соли или сырье для их приготовленья». Больше Уиллет ничего не разглядел, но строки эти отчего-то придали новую зловещую выразительность портрету Джозефа Кервена, взиравшего на них с северной стены. Еще долгое время Уиллета не покидало обманчивое чувство — по крайней мере, разум уверял его, что оно обманчиво, — будто человек на картине пытается следить (если не следит по-настоящему) за передвижениями Чарлза Уорда по комнате. Прежде чем покинуть кабинет, Уиллет подошел к портрету и внимательно изучил его, запомнив каждую мельчайшую черточку на таинственном бледном лице — вплоть до едва заметных шрамов и небольшой ямочки над правым глазом. Художник Космо Александр, решил Уиллет, был достоин страны, что породила великого Генри Реборна, и не менее достойным учителем блистательного портретиста Гилберта Стюарта.
Вняв заверениям врача, что душевному здоровью Чарлза ничто не угрожает и что он занят исследованиями, которые действительно могут принести весьма заметные плоды, заботливые родители довольно спокойно отнеслись к решению сына не поступать в университет. Он убедил их, что занят куда более важной работой, и признался, что в следующем году хочет совершить поездку за границу, дабы ознакомиться там с некоторыми научными трудами, недоступными в Америке. Уорд-старший, хоть и счел последнее желание сына абсурдным (мальчику-то восемнадцать лет!), все же не стал настаивать на поступлении Чарлза в университет. Словом, после не слишком блестящего окончания школы Моисея Брауна Чарлз на три года посвятил себя изучению оккультных наук и прогулкам по кладбищам. Он прослыл чудаком и нелюдимом, совершенно пропав из вида друзей семьи; все свое время он посвящал работе и только время от времени ездил в другие города изучать архивы. Однажды он отправился на юг, чтобы побеседовать с каким-то странным мулатом, жившим на болоте (героем любопытной газетной заметки), а вскоре после этого наведался в деревушку Адирондакс, жители которой, по слухам, регулярно устраивали ритуальные танцы и жертвоприношения. Но поездку в Старый свет, о которой он так мечтал, родители ему по-прежнему запрещали.
Достигнув совершеннолетия в 1923 году и получив в наследство небольшой капитал от деда со стороны матери, Уорд принял решение наконец совершить заветное путешествие по Европе. О предполагаемом маршруте он почти ничего не говорил, только сказал родителям, что научные изыскания могут завести его в самые разные места, откуда он непременно будет писать им подробные письма. Поняв, что сына не остановить, они прекратили сопротивление и решили помочь, чем удастся, так что в июне юноша уже отплыл в Ливерпуль. Родители проводили его до Бостона, где стояли на пристани «Белая звезда» в Чарльстоне и махали кораблю, пока тот не скрылся из виду. Вскоре от Чарлза пришло письмо, что он благополучно добрался и снял хорошие апартаменты на Грейт-Рассел-стрит, Лондон, где и планировал оставаться, избегая встреч с друзьями семьи, покуда не исчерпает ресурсы Британского музея по определенной теме. О своей жизни Чарлз писал мало — потому что писать было не о чем. Изучение документов и эксперименты отнимали все его время (в одной из комнат он устроил себе лабораторию). То, что сын ничего не писал о прогулках по великолепному древнему городу с манящими очертаниями куполов и колоколен на горизонте, затейливыми переплетениями улиц и переулков, с которых неожиданно открывались захватывающие дух виды, послужило его родителям верным признаком того, что новые интересы полностью захватили его разум и мысли.
В июне 1924 года Чарлз прислал родителям короткое письмо, в котором сообщил, что отправляется в Париж, куда до сих пор ездил лишь ненадолго и исключительно с целью посетить Национальную библиотеку. На протяжении трех месяцев от Чарлза приходили только почтовые открытки. Он поселился на рю Сен-Жак и упоминал редкие манускрипты, найденные им в частной библиотеке неназванного коллекционера. Новых знакомств Чарлз не заводил, а бывавшие в Париже друзья семьи его там не видели. Потом наступила долгая тишина, а в октябре пришла открытка из Праги: Чарлз приехал в Чехословакию с целью проконсультироваться у некоего загадочного старика, последнего на свете обладателя каких-то средневековых тайн. Он дал родителям свой адрес в Новом городе и заявил, что до января никуда оттуда не уедет. В конце зимы пришло письмо из Вены: Чарлз был там проездом и направлялся на восток страны, куда его пригласил давний знакомый по переписке, такой же любитель оккультных наук.
Следующая открытка пришла из Клужа, Трансильвания: Уорд сообщил родителям, что значительно приблизился к достижению своей цели. Он собирался посетить барона Ференци, чей замок находился в горах к востоку от Ракуси, и велел писать ему в Ракуси на имя сего почтенного господина. Неделю спустя пришла еще одна открытка: хозяин имения прислал за ним экипаж, и Чарлз отбывает в горы. Долгое время от него совсем не было весточек, и на частые письма родителей он ответил только в мае, сообщив, что летом не сможет встретиться с ними ни в Париже, ни в Лондоне, ни в Риме (Уорды обдумывали поездку в Европу). Исследования, писал Чарлз, не позволяют ему отлучаться из дома, а в замке барона Ференци гостей не принимают: он стоит на утесе среди заросших дремучими лесами гор, а само место пользуется такой дурной репутацией у местных жителей, что нормальным людям там будет в высшей степени неуютно. Больше того, сам барон едва ли понравится воспитанным и консервативным аристократам из Новой Англии. В его манерах и поведении слишком много странностей, и ему столько лет, что даже написать страшно. Уорд посоветовал родителям дождаться его возвращения в Провиденс — скучать оставалось недолго.
Однако домой он вернулся лишь в мае 1926-го, вслед за несколькими почтовыми открытками, в которых предупреждал о своем приезде. Его корабль «Гомер» тихо вошел в бухту Нью-Йорка, после чего Чарлз сел на автобус и отправился в дальнюю дорогу до Провиденса, впервые за четыре года упиваясь видами родной Новой Англии: мимо проплывали зеленые холмы, цветущие сады и белые города весеннего Коннектикута. Когда автобус въехал на Род-Айленд, сердце Чарлза Уорда застучало быстрей при виде необыкновенной красоты золотистого весеннего дня, а потом — несмотря на страшные глубины тайных знаний, которые Чарлзу пришлось изведать, — зашлось от радости и восторга на подъезде к родному Провиденсу. На площади, где пересекались Броуд-, Уэйбоссет— и Эмпайр-стрит, его взору открылись знакомые, милые сердцу дома, колокольни и шпили родного города, объятые алым пламенем заката. На подъезде к вокзалу, что стоит за зданием гостиницы «Билтмор», Чарлз с любопытством вытянул шею, глядя на заставленный домиками зеленый холм на другом берегу реки и высокий колониальный шпиль Первой баптистской церкви, сияющий нежным розовым светом на фоне свежей весенней зелени крутого склона.
Ах, старый Провиденс! Именно этот город и его загадочная, освещенная веками история сделали Чарлза таким, каким он был, а после привели к удивительным чудесам и тайнам, подлинные глубины которых оказались неподвластны ни одному прорицателю. Именно здесь жила магия, чудесная или ужасная, к встрече с которой он готовился все эти годы, путешествуя по миру и читая запретные книги. Кэб промчал его по Пост-офис-сквер, позволив одним глазком взглянуть на реку, старое здание рынка, бухту и крутую извилистую Уотерман-стрит, над которой сияли, маня на север, залитые розовым светом ионические колонны и огромный купол Научной церкви Христа. Потом еще восемь кварталов вдоль любимых старинных домов и милых кирпичных тротуаров, по которым так часто ступали его детские ножки, и вот наконец слева от Чарлза показался белый фермерский домик, а справа — белое классическое крыльцо и элегантный фасад большого кирпичного особняка, где он родился. Спустились сумерки, и Чарлз Декстер Уорд вернулся домой.
Глава 13
Школа психиатров, настроенная чуть менее консервативно, нежели школа доктора Лаймана, считает это путешествие в Европу началом душевной болезни Уорда. Уезжая из дома, он был еще совершенно здоров, но по возвращении характер и поведение юноши претерпели катастрофические изменения. Однако доктор Уиллет не согласен и с этой гипотезой. Позднее с ним произошло еще что-то; некоторые новые странности в манерах Уиллет приписывает тому факту, что за границей Уорд практиковал различные сомнительные ритуалы, однако было бы глупо утверждать, что они подорвали его душевное здоровье. Хоть Уорд значительно повзрослел и возмужал за время странствий, его организм все еще нормально реагировал на внешние раздражители, и во время бесед с юношей доктор Уиллет отметил его необычайную выдержку и душевное равновесие — ни один безумец, даже на самой зачаточной стадии болезни, не смог бы так долго притворяться нормальным. Однако поводом для подозрений психиатрам послужили странные звуки, доносившиеся днем и ночью из лаборатории Уорда на чердаке, где он проводил почти все свое время. То были неразборчивые причитания, напевы и ритмичные громогласные молитвы — и хотя произносил их всегда голос Уорда, слышалось в нем какое-то новое звучание, от которого у любого свидетеля невольно мороз шел по коже. Заметили также, что Ниг — любимый всем семейством старенький кот — от определенных интонаций в голосе хозяина ощеривался и выгибал спину.
Кроме того, из лаборатории временами доносились весьма странные запахи — порой отвратительные и тошнотворные, но чаще приятные и неуловимые, словно бы навевавшие чудесные сны и видения. Почуяв их, люди вдруг представляли себе бескрайние виды со странными холмами или улицами, уходящими в бесконечность, по обеим сторонам которых стояли сфинксы и гиппогрифы. По возвращении домой Уорд не возобновил прогулок по городу, однако без конца читал привезенные из Европы книги. Родителям он говорил, что европейские источники информации открыли перед ним новые, недоступные прежде возможности, которые сулят обернуться в будущем великими открытиями. Повзрослевший и возмужавший, он стал еще больше походить на Джозефа Кервена, портретом которого доктор Уиллет частенько любовался после визитов к Чарлзу, восхищаясь поразительным сходством и подмечая, что лишь странная ямочка над правым глазом Кервена отличает давно почившего колдуна от юного Уорда. Визиты эти, на которых настаивали родители, весьма озадачивали самого доктора. Юноша никогда не отталкивал Уиллета, однако тот чувствовал, что не может добраться до самой сути его скрытной души. Часто доктор Уиллет подмечал в кабинете странные вещи: маленькие восковые фигурки причудливых форм или полустертые круги, треугольники и пентаграммы, начертанные мелом посреди большой комнаты. По ночам в этих стенах гремели зловещие ритмичные заклинания, так что очень скоро из дома стали уходить слуги, а по городу поползли слухи о безумии юного Уорда.
В январе 1927-го случилось нечто необычайное. Около полуночи, когда Чарлз вновь декламировал загадочные строки, отдававшиеся жутким эхом в стенах особняка, с бухты вдруг подул странный ледяной ветер, а земля едва ощутимо задрожала — это почувствовали все жители близлежащих кварталов. В то же время шерсть на спине кота встала дыбом, а на милю вокруг неистово залаяли собаки. Затем разразилась страшная гроза, каких в это время года не бывает, и грянул такой гром, что мистеру и миссис Уорд почудилось, будто молния ударила прямо в особняк. Они бросились наверх — посмотреть, не повреждена ли крыша, — но у входа на чердак их встретил Чарлз: бледный, решительный и зловещий, с пугающей смесью ликования и печали на лице. Он заверил их, что молния в дом не попала, а гроза скоро закончится. Родители на миг остановились и бросили взгляд в окно — в самом деле, он был прав: молнии сверкали все дальше и дальше от Провиденса, а деревья перестали гнуться на странном ветру. Гром перешел в низкое рокотание, а потом и вовсе стих. Показались звезды, и ликование во взгляде Чарлза Уорда наложило странную печать на его лицо.
В течение примерно двух месяцев после того происшествия Уорд был общительнее, чем обычно, и проводил меньше времени в своем кабинете. Он живо интересовался погодой и зачем-то наводил справки о времени первых весенних оттепелей. Однажды мартовской ночью Уорд вышел из дома и вернулся только утром: его бодрствующая мать услышала рокот двигателя у въезда для экипажей и чьи-то приглушенные ругательства. Она выглянула в окно: четыре темные фигуры вытащили из грузовика большой длинный ящик и внесли его в дом через черный ход. Затем на лестнице раздалось частое дыхание и тяжелые шаги, потом что-то грохнуло на чердаке. Шаги спустились к выходу, четверо неизвестных сели в машину и укатили прочь.
На следующий день Чарлз вновь заперся на чердаке, задернул все окна лаборатории шторами и начал работать над какими-то жидкими металлами. Дверь он никому не отпирал и упорно отказывался от всякой пищи. Около полудня с чердака донесся какой-то страшный грохот, а вслед за ним — душераздирающий крик и глухой удар. Когда миссис Уорд взволнованно забарабанила в дверь, ее сын через какое-то время тихо ответил, что все нормально и ничего плохого не случилось, а отвратительный запах, валивший из дверных щелей, абсолютно безвреден и, увы, необходим. Внутрь он пустить никого не может, но обязательно спустится к обеду. Днем, когда сверху перестало доноситься странное шипение, Чарлз наконец-то появился: он был в весьма растрепанных чувствах и заявил, что никто и ни при каких обстоятельствах не должен входить в его лабораторию. Это, как оказалось, было началом новой политики затворничества: отныне ни одному человеку не разрешалось посещать загадочную мастерскую на чердаке и прилегающее к ней помещение, которое он сам вычистил, обставил простой мебелью и превратил в свое неприкосновенное жилище и спальню. Сюда же он перенес книги из библиотеки, пока не купил себе бунгало в Потакете и не переехал туда вместе со всей литературой и оборудованием.
В тот день Чарлз Уорд первым взял вечернюю газету и словно бы по чистой случайности оторвал низ одной страницы. Позже доктор Уиллет, узнав от родственников точную дату, зашел в редакцию и попросил сохранившийся экземпляр. На месте оторванного клочка была небольшая заметка следующего содержания:
На Северном кладбище застали врасплох ночных гробокопателей
Роберт Харт, ночной сторож Северного кладбища, сегодня утром обнаружил в самой старой части владений грузовик и группу из нескольких человек, которых спугнул своим появлением, не дав им совершить задуманное злодеяние.
Это произошло в четыре утра: внимание Харта внезапно привлек звук работающего мотора за сторожкой. Выйдя на разведку, он заметил на главной аллее большой грузовик, однако подойти к нему не успел — шорох гравия под его ногами вспугнул нарушителей, они поспешно спрятали в кузов большой ящик и уехали. Поскольку ни одна могила потревожена не была, сторож сделал вывод, что они приехали не выкапывать, а, наоборот, закапывать.
По всей видимости, преступники давно орудуют на кладбище: Харт обнаружил большую яму на участке Амессы Филд, вдали от дороги, где надгробия за давностью лет почти не сохранились. Яма — по размерам и глубине соответствующая могиле — была пуста, и на этом месте, судя по архивам кладбища, никогда никого не хоронили.
Сержант Райли со второго полицейского участка осмотрел место и пришел к заключению, что яму выкопали коварные и безнравственные контрабандисты, искавшие надежный тайник для хранения нелегально перевезенных спиртных напитков. Судя по оставленным следам, грузовик направился вверх по Рошамбо-авеню, но судить однозначно сержант не берется.
В следующие несколько дней родственники почти не видели Чарлза Уорда. Устроив на чердаке спальню, он совсем перестал выбираться оттуда, распорядился приносить еду к двери и не забирал ее, покуда слуга не уходил. Монотонное чтение непонятных формул и напевы со странным ритмом регулярно повторялись, а иногда наверху звенело стекло, шипели химикаты, текла вода или ревело пламя. Возле двери порой стояли совершенно невообразимые и ни на что не похожие запахи; а когда юный анахорет все же выбирался из дома (однажды Чарлз ненадолго вышел в библиотеку за недостающей книгой, а в другой раз отправил курьера в Бостон за очередным таинственным изданием), лицо и тело его были так напряжены, что окружающие невольно принимались строить догадки и распускать слухи. Словом, все происходящее было крайне подозрительно: ни доктор Уиллет, ни семья не знали, что думать и что предпринять.
Глава 14
15 апреля эта история получила неожиданное продолжение. По сути своей ничего не изменилось, но странности в поведении Уорда стали настолько выраженными, что доктор Уиллет не мог не обратить внимания на эту перемену. На 15 апреля в том году пришлась Страстная пятница, каковое обстоятельство слуги сочли зловещим знаком, а остальные, что вполне естественно, — случайным и ничего не значащим совпадением. Днем юный Уорд начал громко повторять одни и те же строки, сжигая при этом некую пахучую смесь — запах был настолько едким и резким, что быстро заполнил весь дом. Само же заклинание было отчетливо слышно за дверью, и миссис Уорд, с тревогой прислушиваясь к происходящему на чердаке, невольно запомнила незнакомые слова и по просьбе доктора Уиллета записала их на бумаге. Позже ученые сообщили Уиллету, что строки эти весьма напоминают мистические писания Элифаса Леви, таинственного ученого, которому удалось краем глаза увидеть пугающую бездну за пределами человеческого разумения.
«Per Adonai Eloim, Adonai Jehova, Adonai Sabaoth, Metraton On Agla Mathon, verbum pythonicum, mysterium salamandrae, conventus sylvorum, antra gnomorum, daemonia Coeli God, Almonsin, Gibor, Jehosua, Evam, Zariatnatmik, veni, veni, veni».Строки эти звучали без остановки на протяжении двух часов, пока над всей округой не поднялся оглушительный собачий вой. О шуме, который они подняли, можно судить хотя бы по тому, что заметки о взбесившихся собаках на следующее утро появились во всех городских газетах, однако для обитателей дома Уорда все затмевал кошмарный запах, которым наполнились комнаты, — омерзительная, всепроникающая, ни на что не похожая вонь. Посреди этого смрада внезапно грянула молния — если бы за окном была ночь, а не день, она могла и ослепить. Вслед за молнией зазвучал жуткий незабываемый глас: поразительно глубокий и низкий, совершенно не похожий на голос Чарлза Уорда, он будто бы раздался с неба и сотряс весь дом. По меньшей мере двое соседей услышали его даже несмотря на вой собак. Миссис Уорд, в отчаянии сидевшая под дверью лаборатории, с ужасом и содроганием узнала дьявольский глас: давным-давно Чарлз рассказывал ей о дурной славе этого голоса в оккультных книгах и о том, как он прогремел над проклятой фермой в Потакете в ночь убийства Джозефа Кервена. Ошибки быть не могло: уж слишком ярко запомнились ей слова, произнесенные Чарлзом в ту пору, когда он еще открыто говорил о своих генеалогических исследованиях. На древнем забытом языке глас вещал: «ДИЕС МИЕС ЙЕХЕТ БОЭНЕ ДОЭСЕФ ДОУВЭМА ЭНИТЕМАУС».
Примерно в это же время дневной свет ненадолго померк, хотя до заката оставалось еще больше часа, а к прежней вони примешался второй запах, столь же чужеродный и невыносимый. Чарлз опять запричитал какие-то слова, и мать разобрала что-то вроде «Йи наш Йог Сотот хи лгеб сродаг», после чего раздалось оглушительное «ЙА!». А потом прозвучало нечто такое, отчего все пережитое на несколько минут стерлось из памяти миссис Уорд: жуткий вой, прогремевший точно взрыв и постепенно сменившийся истерическим дьявольским смехом. Напуганная до полусмерти, но одурманенная желанием спасти свое дитя, миссис Уорд принялась отчаянно барабанить в дверь, однако ее никто не услышал. Она постучала снова и обмерла: из-за двери донесся второй вопль, явно принадлежавший ее сыну, который слился с безудержным хохотом неизвестного существа. В следующий миг миссис Уорд лишилась чувств и до сих пор не может вспомнить почему. Человеческая память иногда в высшей степени милосердна.
Мистер Уорд вернулся из делового района города около шести вечера. Не найдя жены внизу, он обратился к слугам, и те испуганно сообщили ему, что она, должно быть, сидит под дверью Чарлза, потому что оттуда доносятся еще более страшные звуки, чем обычно. Взлетев по лестнице, он увидел, что миссис Уорд распласталась в коридоре под дверью лаборатории. Плеснув холодной воды ей в лицо, мистер Уорд с облегчением наблюдал, как жена приходит в чувство и изумленно открывает глаза. И тут его пробила сильная дрожь, едва не ввергшая его в то же состояние, из которого он только что вывел жену: из тихой лаборатории донеслись звуки приглушенного напряженного разговора — слов разобрать было нельзя, однако голоса внушали чистый ужас.
Да, Чарлз и раньше читал какие-то странные заклинания, но те звуки не имели с этими ничего общего. Было ясно, что за дверью кто-то беседует (или делает вид, что беседует): интонации менялись от вопросительных к утвердительным. Один голос несомненно принадлежал Чарлзу, а вот второй был таким низким и гулким, что юноше вряд ли удалось бы изобразить нечто подобное. В нем слышались какие-то омерзительные, почти богохульные, нездоровые нотки — словом, если бы не крик очнувшейся от обморока жены, который вывел его из оцепенения, Теодор Хаулэнд Уорд вряд ли смог бы и дальше хвастаться друзьям, что никогда не лишался чувств. Он схватил миссис Уорд на руки и быстро понес вниз, покуда она не успела расслышать страшную беседу за дверью, — однако ж не настолько быстро, чтобы самому не различить кое-что, отчего его ноги опасно подкосились на лестнице. Крик миссис Уорд, по всей видимости, услышал не только он: из-за запертой двери вместо приглушенной жуткой беседы донеслись первые отчетливые слова, всего лишь взволнованный окрик Чарлза, который почему-то нагнал на его отца неописуемый ужас: «Ш-ш! Пишите!»
За ужином мистер и миссис Уорд посовещались и решили этим же вечером серьезно поговорить с сыном. Как бы важны ни были его исследования, это безобразие необходимо прекратить. Последние события не укладываются ни в какие рамки и несут угрозу порядку и душевному благополучию всех обитателей дома. Их юный сын, по-видимому, окончательно лишился рассудка: нормальный человек не может издавать такие крики и вести вымышленные беседы неизвестно с кем. Всему этому надо положить конец, или миссис Уорд заболеет, а удерживать слуг в доме станет и вовсе невозможно.
После ужина мистер Уорд встал из-за стола и начал подниматься по лестнице на чердак. На третьем этаже, однако, он услышал странные звуки из бывшей библиотеки сына: кто-то разбрасывал книги и неистово шуршал бумагами. Ступив на порог комнаты, мистер Уорд увидел своего сына, лихорадочно сгребающего книги всех форм и размеров. Выглядел Чарлз осунувшимся, изможденным и от звука отцовского голоса в испуге выронил всю охапку книг на пол. Подчинившись приказанию, Чарлз сел и какое-то время покорно выслушивал заслуженные упреки. Скандала не произошло. В конце лекции Чарлз признал правоту отца: его крики, бормотания и запахи химикатов в самом деле никто не обязан терпеть. Впредь он обещает не создавать шума, но по-прежнему настаивает на полном своем уединении. Большая часть его дальнейшей работы все равно связана с изучением литературы, а для шумных ритуалов, проведение которых может стать необходимо впоследствии, он найдет другое место. Чарлз выразил глубокое раскаяние, что его работа стала причиной нездоровья матери, и пояснил, что разговор, услышанный родителями, был частью тщательно продуманной символической системы, призванной создать определенный душевный настрой. Мудреная терминология, которой пользовался Чарлз, привела Уорда в замешательство, однако разговор этот внушил ему полную уверенность, что сын здоров и владеет собой, хоть и практикует весьма сомнительные ритуалы. Правда, никаких конкретных сведений от Чарлза он так и не добился, а когда тот собрал книги и ушел, мистер Уорд проводил его недоуменным и озадаченным взглядом. Неразгаданной осталась тайна гибели старого Нига, чей окоченевший труп нашли в подвале часом ранее: глаза у кота были выпучены, рот раскрыт в испуганном оскале.
Одолеваемый любопытством, отец взглянул на пустые книжные полки: что же сын взял с собой на чердак? В библиотеке юного исследователя царил полный порядок, поэтому нетрудно было понять, каких книг — или хотя бы какого рода книг — не достает на полках. Тут мистера Уорда ждало странное открытие: вся литература по оккультным наукам и химии была на месте, Чарлз забрал с собой лишь современные издания по истории, естественным наукам, географии, философии и литературе, а также подшивки некоторых газет и журналов. В читательских вкусах Чарлза произошла какая-то странная перемена… Мистер Уорд замер, переполняемый ощущением странности происходящего: эта странность буквально теснила ему грудь, пока он крутил головой по сторонам и пытался разобраться, что же тут неладно. А неладное чувствовалось и на уровне подсознательного, и на уровне вполне ощутимого, зримого… В библиотеке мистер Уорд сразу же заметил, что чего-то не хватает, и в конце концов его осенило.
На северной стене все еще красовалась старинная резная панель из дома в Олни-корте, однако с потрескавшимся и тщательно отреставрированным портретом Кервена случилась катастрофа: время и неравномерный обогрев наконец сделали свое дело, и совсем недавно (на днях в комнате делали уборку) здесь произошло ужасное: понемногу отставая от дерева, хлопья краски сворачивались в крошечные свитки и в конце концов со зловещей внезапностью опали на пол. Джозеф Кервен навсегда прекратил свою слежку за юношей, который на него так походил, и теперь лежал на полу тонким слоем серо-голубой пыли.
Часть IV. Роковые перемены
Глава 15
Всю следующую за Страстной пятницей неделю родные видели Чарлза Уорда чаще обычного: он без конца таскал книги из библиотеки в лабораторию. Действия его были бесшумны и разумны, однако мать с тревогой отмечала напряженный, загнанный взгляд сына и ненасытный аппетит — Чарлз постоянно отдавал повару новые и новые поручения. Доктору Уиллету рассказали о пятничных событиях, и на следующий четверг он долго беседовал с юношей в библиотеке, на северной стене которой больше не висел портрет Джозефа Кервена. Беседа, как и всегда, плодов не принесла, но Уиллет вновь готов был поклясться, что юноша совершенно здоров. Уорд опять говорил о грядущих великих открытиях, для которых ему как воздух необходима уединенная лаборатория. О портрете он ничуть не горевал, наоборот, отнесся к его внезапной гибели с юмором — что было весьма странно, учитывая, как радовался он сначала своей находке.
Примерно на вторую неделю после Страстной пятницы Чарлз стал часто и надолго отлучаться из дома, и однажды, когда старушка Ханна пришла в особняк Уордов забрать белье на стирку, она сообщила, что мистер Уорд-младший регулярно наведывается в их дом с большим саквояжем и зачем-то спускается в подвал. Хоть он всегда добр и любезен к ним с Эйзой, в последнее время мальчик сильно чем-то обеспокоен — ей больно это видеть, поскольку она знает его с самого рождения. Еще одно донесение о действиях Чарлза пришло из Потакета, где его несколько раз подряд видели друзья семьи: он регулярно наведывался на курорт и в ангар для каноэ. Наведя соответствующие справки, доктор Уиллет узнал, что целью Чарлза всегда был огороженный берег реки, вдоль которого он уходил на север и возвращался очень не скоро.
В конце мая с чердака вновь стали раздаваться ритуальные чтения, немедленно пресеченные мистером Уордом. Чарлз рассеянно пообещал, что больше это не повторится, но однажды утром в лаборатории началось нечто весьма похожее на события Страстной пятницы. Юноша пылко спорил и ругался с самим собой: друг за другом последовало несколько громких криков, произнесенных на разные лады: требовательных, умоляющих и непреклонных. Миссис Уорд взбежала по лестнице и замерла у двери в лабораторию. Она расслышала немногое, всего несколько слов: «три месяца нужна кровь», и стоило ей постучать, как все звуки за дверью утихли. Когда отец позже устроил Чарлзу допрос, тот выразился весьма туманно: в сферах сознания неизбежны некоторые конфликты, решить которые под силу лишь опытному и умелому мастеру, но он, так и быть, постарается перенести эти конфликты в другие области и измерения.
В середине июня случилось еще одно странное ночное происшествие. С раннего вечера в лаборатории что-то громыхало, и мистер Уорд уже собрался идти на разведку, когда все шумы внезапно стихли. В полночь, когда они с женой легли спать, а дворецкий пошел запирать входную дверь, на подножии лестницы возник шатающийся Чарлз и жестами попросил выпустить его на улицу. Ни одного слова он не произнес, однако славный йоркширец сразу заметил лихорадочный блеск в его глазах и неуемную дрожь в членах. Он открыл дверь и выпустил юного Уорда, однако наутро попросил у миссис Уорд расчета. Было что-то богопротивное во взгляде, которым смерил его Чарлз Уорд: не пристало юным господам так смотреть на честных стариков! Дворецкий не пожелал остаться даже на ночь и сразу уехал. Миссис Уорд не стала ему мешать, но и большого значения его словам не придала. В ту ночь она долго не могла заснуть и слышала, как в лаборатории кто-то всхлипывает, ходит туда-сюда и вздыхает — то были звуки глубочайшего отчаяния, но не злости. Миссис Уорд давно привыкла прислушиваться к ночным шумам на чердаке: тайна сына вытеснила из ее головы все прочие заботы и тревоги.
На следующий вечер Чарлз, как и три месяца назад, выхватил газету из рук почтальона и «ненароком» потерял главный раздел. Об этом случае никто бы и не вспомнил, не предприми доктор Уиллет попытку связать все в единое целое и найти в истории слабые звенья. В редакции «Джорнал» он нашел пропавший раздел и отметил в нем две заметки, могущие иметь значение для следствия. Вот они:
И снова гробокопатели
Сегодня утром Роберт Харт, ночной сторож Северного кладбища, обнаружил, что кладбищенские воры опять взялись за свое. Они раскопали и разграбили могилу некоего Эзры Уидена, родившегося в 1740-м и умершего в 1824-м (согласно надписи на вырытом и расколотом надгробии). Работали воры лопатой, которую украли из сарая для инструментов.
Каковым бы ни было содержимое этого старинного гроба, погребенного более века назад, все бесследно исчезло: осталось лишь несколько прогнивших деревянных щепок. Все следы воры старательно замели, но один отпечаток все же удалось отыскать — ботинок явно принадлежал человеку знатному и богатому.
Харт связывает это преступление с последним инцидентом, произошедшим в марте, когда шаги сторожа вспугнули группу человек на грузовике. Однако сержант Райли не согласен с его теорией и указывает на существенные различия в двух преступлениях. В марте нарушители раскопали пустой участок, а на сей раз это была ухоженная могила конкретного человека. Кроме того, налицо явный признак злого умысла: разбитое надгробие.
Члены семьи Уиденов, когда их уведомили о случившемся, выразили скорбь и недоумение по поводу инцидента; у них нет врагов, которые могли бы столь варварски обойтись с могилой их предка. Хэзерд Уиден, проживающий по адресу Энджелл-стрит, 598, рассказал следствию о семейной легенде, по которой Эзра Уиден незадолго до революции якобы впутался в какую-то странную историю — не порочащую, впрочем, его имя, — однако причины для вражды в наши дни ему неведомы. Инспектор Каннингем, расследующий дело, надеется в ближайшее время обнаружить важные улики.
Собачий лай в Потакете
Примерно в три часа минувшей ночи жители Потакета проснулись от небывало громкого собачьего лая, раздававшегося на берегу реки к северу от исторического здания «Родс-на-Потакете». По свидетельствам очевидцев, лай этот имел крайне необычное звучание; Фред Лемдин, ночной сторож вышеупомянутого здания, утверждает, что он походил на вопли человека, охваченного смертельным ужасом. Конец этим звукам положила сильная и короткая гроза, разразившаяся у самого берега. Жители деревни связывают это происшествие со странными неприятными запахами — вероятно, исходящими от нефтяных резервуаров вдоль бухты, — которые могли послужить причиной такого поведения собак.
Чарлз с каждым днем выглядел все более загнанным и осунувшимся: позже все сошлись во мнении, что он, должно быть, хотел сделать какое-то признание, однако ужас и душевные муки ему не позволили. Напуганная мать теперь ночами напролет прислушивалась к звукам на чердаке и узнала о частых ночных вылазках Чарлза — большинство психиатров убеждены, что именно эти вылазки связаны с отвратительными случаями вампиризма, волна которого прокатилась по округе как раз в это время, но в котором до сих пор никого не уличили. Преступления эти получили широкую огласку в прессе, и нет нужды пересказывать их во всех подробностях: жертвами становились люди различных возрастов и общественного положения, жившие либо в окрестностях холма и Норт-Энда, рядом с особняком Уордов, либо на окраинах города, близ Потакета. Нападению подвергались как припозднившиеся путники, так и спящие в своих кроватях жители, не закрывавшие на ночь окон. Те, кому чудом удалось выжить, рассказывают о тонком и гибком чудище с пылающими глазами, которое хищно впивалось им в горло или в плечо и жадно пило.
Однако доктор Уиллет отказывается приписывать начало душевной болезни Чарлза даже этому периоду и предпринимает осторожные попытки объяснить вышеупомянутые ужасы. У него якобы есть своя теория, подробности которой он сообщать не желает и ограничивается весьма странным утверждением: «Я не скажу, кто или что совершило эти нападения и убийства, но заявляю со всей уверенностью, что Чарлз Уорд в них неповинен. У меня есть веская причина полагать, что юноша никогда не знал вкуса крови, и его растущая вялость и бледность говорят яснее всяких слов. Уорд вмешался в ужасные дела и поплатился за это, но злодеем и чудовищем он не был. А потом… не знаю, что с ним случилось, и не хочу даже думать. Вместе с переменами, поразившими его тело и разум, умер и сам Чарлз Уорд. По крайней мере, душа его погибла, ибо в том безумном теле, что исчезло из лечебницы Уэйта, жила совсем другая душа, мне незнакомая».
Мнение Уиллета заслуживает доверия хотя бы потому, что он часто навещал дом Уордов и лечил миссис Уорд — нервы ее не выдержали столь страшной нагрузки. Ночные бодрствования под дверью чердака породили ужасные галлюцинации, о которых она с опаской поведала врачу и которые он добродушно высмеял, — впрочем, они таки заставили Уиллета глубоко задуматься. Галлюцинации всегда имели отношение к тем едва различимым звукам, что якобы доносились с чердака — приглушенным стонам и всхлипываниям, раздававшимся в любое время дня и ночи. В начале июля доктор Уиллет настоятельно посоветовал миссис Уорд отправиться в Атлантик-сити восстанавливать силы, а мистеру Уорду и неуловимому Чарлзу велел писать ей только веселые и обнадеживающие письма. Вероятно, лишь благодаря этому вынужденному отъезду ей и удалось сберечь себе жизнь и душевное здоровье.
Глава 16
Вскоре после отъезда матери Чарлз начал вести переговоры о покупке бунгало в Потакете. То был грязный и запущенный деревянный домишко с бетонным гаражом, примостившийся на высоком пустынном берегу чуть выше по течению от «Родс-на-Потакете», но ни о каком другом доме Чарлз и слышать не желал. Он не давал спуску всем местным агентствам недвижимости, покуда одному из них не удалось чуть ли не силой выкупить бунгало у упрямого владельца — по заоблачной цене. Как только документы на собственность были готовы, Чарлз под покровом тьмы перевез в дом все содержимое своей лаборатории, включая старинные и современные книги (те, что он недавно перенес из библиотеки на чердак). В самый темный предрассветный час ночи он загрузил свой фургон и уехал — отец только помнит, как сквозь сон слышал приглушенные проклятия и топот ног. После этого Чарлз переехал обратно в свою спальню на третьем этаже, а чердак забросил раз и навсегда.
В потакетское бунгало Чарлз перевез и атмосферу таинственности, которая прежде окутывала его чердачное царство. Правда, теперь у него появились две новые тайны: зловещего вида португалец-мулат, который жил на Саут-мейн-стрит в прибрежной части города (он явно был Чарлзу слугой), и худощавый интеллигентный незнакомец в темных очках и с колючей, будто бы крашеной бородой — он, очевидно, имел статус коллеги. Напрасно соседи пытались завязать с этими двумя людьми хоть какой-нибудь разговор. Мулат Гомес почти не говорил по-английски, а бородач, представившийся доктором Алленом, охотно последовал его примеру. Уорд сам пытался вести себя приветливо и обходительно, но разговорами о своих химических опытах только привлек к ним лишнее внимание. Вскоре по городу поползли странные слухи о том, что в его окнах даже по ночам что-то горит, а когда гореть наконец перестало, соседи принялись судачить о невероятных количествах мяса, которые Уорд заказывает у мясника, и о приглушенных криках, напевах и стонах, доносившихся словно бы из подвала бунгало. Меньше всего этот странный дом на берегу нравился местным честным буржуа, и неудивительно, что проклятое бунгало и все происходящее в нем быстро связали с эпидемией вампиризма (к тому же страшные убийства и нападения теперь происходили исключительно в окрестностях Потакета и на прилегающих к нему улицах Эджвуда).
Большую часть времени Уорд проводил в бунгало, но спал иногда дома, поэтому в городе все равно считали, что живет он под родительской крышей. Дважды Чарлз надолго уезжал из города — до сих пор неизвестно куда. Он становился все бледнее, изможденней и уже не так бойко рассказывал доктору Уиллету старую, набившую оскомину историю про важные исследования и грядущие великие открытия. Уиллет обычно подстерегал юношу в родительском доме: Уорд-старший был глубоко озадачен и очень тревожился за сына, поэтому просил доктора как можно внимательней приглядывать за Чарлзом — насколько вообще можно приглядывать за столь скрытным и независимым взрослым человеком. Уиллет настаивает, что даже в ту смутную пору Чарлз был еще здоров, а в качестве доказательства приводит их многочисленные беседы.
Примерно в сентябре случаи вампиризма прекратились, но в январе Чарлз едва не навлек на себя серьезную беду. Вот уже несколько недель в городе перешептывались о загадочных грузовиках, подъезжающих к бунгало Уорда среди ночи, и вот однажды из-за случайной заминки стало известно, что за груз перевозил по крайней мере один из них. На безлюдном участке дороги близ Хоуп-вэлли бандиты, промышлявшие кражей спиртного, устроили одному из таких грузовиков засаду, но на сей раз их ждало страшное потрясение. В длинных ящиках, которые попали им в руки, оказалось нечто столь ужасное, что слухи об этом разнеслись далеко за пределы преступного мира. Воры поспешно закопали добычу, но потом весть дошла до полиции штата, и те начали тщательное расследование. Однажды в участок явился бродяга: заключив сделку со следствием и обезопасив себя от тюремного срока, он в конце концов отвел полицейских на место. Там, в наскоро сооруженном тайнике, они обнаружили нечто поистине ужасное и постыдное. Находка могла так навредить репутации города (а то и всей страны), что потрясенные следователи решили не разглашать сведений о ней. Ошибки быть не могло, даже самые недалекие офицеры все поняли, и в Вашингтон тут же полетели секретные телеграммы.
На вырытых ящиках стоял адрес потакетского бунгало Чарлза Уорда, и полиция штата немедленно нанесла ему весьма нелюбезный и серьезный визит. Они застали его в компании двух странных спутников; Чарлз был крайне бледен и взволнован, однако сумел предоставить им правдоподобное объяснение случившегося и доказательства своей невиновности. Определенные анатомические препараты были необходимы ему для исследований, о глубине и важности которых им может рассказать любой, кто общался с ним последние десять лет. Уорд заказал эти препараты у нескольких агентств и полагал, что это совершенно законно. О происхождении препаратов он ничего не знал и был глубоко потрясен, когда инспекторы намекнули ему, как страшно может сказаться подобное дело на общественном мнении и национальном достоинстве. В этой беседе со следствием его поддерживал коллега-бородач, доктор Аллен, чей до странного низкий и гулкий голос звучал куда убедительней, чем его — напуганный и дрожащий. В итоге инспекторы решили не привлекать Уорда к ответственности, но тщательно записали нью-йоркский адрес и имя человека, владения которого им предстояло обыскать. Впрочем, обыск этот ничего не дал. Стоит, пожалуй, добавить, что все препараты быстро и незаметно вернули на место, и широкая общественность так и не узнала о том, что их столь кощунственно побеспокоили.
9 февраля 1928 года доктор Уиллет получил письмо от Чарлза Уорда, которому он придает очень большое значение, и по поводу которого он нередко ссорился с доктором Лайманом. Лайман считает, что это послание служит явным доказательством dementia praecox, раннего слабоумия, однако Уиллет убежден, что несчастный юноша написал его в совершенно здравом уме. Он обращает особое внимание на почерк Уорда: хоть он и свидетельствует об определенном нервическом возбуждении, все же это почерк нормального человека — и, несомненно, самого Чарлза. Приводим здесь текст письма:
«Проспект-стрит, 100
Провиденс, Род-Айленд.
8 февраля 1928 года.
Уважаемый доктор Уиллет!
Чувствую, наконец пришло время сделать то, что я давно обещал и о чем Вы столь часто меня просили. Я буду вечно признателен Вам за терпение, с коим Вы дожидались этого дня, и за уверенность в моем полном умственном здравии.
Да, я наконец-то готов говорить, но прежде должен с унижением признаться, что триумфа, о котором я так мечтал, мне никогда не испытать. Вместо ликования меня охватил ужас, и мое письмо Вам — не радостный победный крик, но вопль о помощи. Я прошу спасти меня и весь мир от ужаса, неподвластного человеческому разумению. Вы ведь помните, что писал Феннер в своих письмах о налете на потакетскую ферму Кервена. Налет необходимо повторить — и быстро. От нас зависит больше, чем можно выразить словами, — вся человеческая цивилизация, законы природы, а может, и судьба Солнечной системы, целой Вселенной. Я вывел на свет чудовищную аномалию, но помните: я сделал это только ради знаний. Теперь — ради всей жизни на Земле — Вы должны помочь мне загнать это обратно во тьму.
Я навсегда покинул бунгало в Потакете, и мы должны как можно скорей уничтожить все, что там есть, живое или мертвое. Причины объясню при личной встрече. Я вернулся в родительский дом и надеюсь, что в ближайшее время Вы сможете нанести мне визит. Прошу Вас выкроить пять или шесть часов, чтобы выслушать мой подробный рассказ. Да, это займет много времени — поверьте, это Ваш самый что ни на есть профессиональный долг. Моя жизнь и рассудок — самое меньшее из того, что поставлено на карту.
Я не решаюсь посвятить в это отца, он не сможет понять и осознать угрозу в полной мере. Но я рассказал ему, что моя жизнь в опасности, и теперь вокруг дома круглосуточно дежурят четверо людей из детективного агентства. Не знаю, на что они годятся, ведь против них может подняться такая сила, которую не в силах вообразить даже Вы. Поэтому заклинаю Вас, приходите как можно скорей, если хотите увидеть меня живым и узнать, как спасти космос от сущего ада.
Жду вас в любое время — из дома я не выйду. Не звоните заранее, ибо тогда вашему приходу могут помешать. И давайте помолимся вместе любым богам, чтобы наша встреча все-таки состоялась.
Со всей серьезностью и в отчаянии,
Чарлз Декстер Уорд.
P. S. Как можно скорее застрелите доктора Аллена и растворите его тело в кислоте. Не сжигайте труп!»
Доктор Уиллет получил это письмо в 10:30 утра и сразу же освободил весь день и вечер для этого судьбоносного разговора. Он хотел явиться в особняк Уордов к четырем часам, а до тех пор настолько глубоко погрузился в размышления, что все необходимые действия совершал почти машинально. Каким бы безумным ни казалось письмо на первый взгляд, Уиллет своими глазами видел слишком много странного, чтобы принять слова Чарлза Уорда за обыкновенный бред сумасшедшего. Он был практически уверен, что происходит нечто ужасное и непостижимое, и строчки о докторе Аллене подтверждали потакетские слухи о загадочном компаньоне Уорда-младшего. Уиллет никогда его не видел, но столько слышал о его внешности и поведении, что невольно задавался вопросом, что могло скрываться за пресловутыми темными очками.
Ровно в четыре доктор Уиллет пришел к Уордам и к досаде своей обнаружил, что Чарлз не сдержал обещание и все-таки покинул дом. Стражи, однако, были на месте и сообщили Уиллету, что юноша все утро испуганно пререкался с кем-то по телефону, без конца повторяя фразы вроде «Я слишком устал и должен отдохнуть», «Я никого не могу принимать», «Вы должны меня извинить», «Прошу отложить любые решительные действия до тех пор, пока мы не придем к компромиссу» и «Мне очень жаль, но я вынужден полностью удалиться от дел, поговорим позже». Затем, словно бы осмелев от каких-то мыслей, Чарлз тихо и незаметно сбежал из дома: никто не видел, куда он ушел, однако ровно в час он вернулся и молча поднялся к себе. Там, по всей видимости, его вновь обуял страх, потому что из библиотеки донесся вопль ужаса, сменившийся частым затрудненным дыханием. Дворецкого, поднявшегося его проведать, Чарлз немедленно выдворил — его вид неизъяснимо напугал старика. Затем юноша принялся что-то искать на полках: сверху раздавался грохот, лязг и скрип, после чего Чарлз сразу же вышел из дома. Уиллет спросил, не оставил ли юноша ему какое-нибудь послание или сообщение, но нет, ничего не было. Дворецкого очень обеспокоили внешний вид и поведение молодого хозяина, и он поинтересовался, есть ли какое-нибудь средство для приведения в порядок расстроенных нервов юноши.
Доктор Уиллет почти два часа ждал Чарлза в библиотеке, разглядывая пыльные, наполовину опустевшие книжные полки и мрачно улыбаясь резной деревянной панели над камином, откуда еще год назад вкрадчиво смотрел на него старик Джозеф Кервен. Через какое-то время в комнате стали сгущаться тени, и жизнерадостные закатные краски уступили место смутному ужасу — предвестнику ночи. Наконец вернулся домой Уорд-старший: он был неприятно удивлен и раздосадован тем, что все его попытки оградить сына ни к чему не привели. Он не знал, что у Чарлза назначена встреча, и пообещал сразу же сообщить Уиллету, когда тот вернется. Пожелав доктору спокойной ночи, мистер Уорд еще раз выразил свое крайнее недоумение по поводу здоровья сына и снова попросил сделать все возможное, чтобы вернуть мальчику душевный покой. Уиллет с облегчением вышел из библиотеки — воздух ее был проникнут чем-то страшным и богопротивным, как будто осыпавшийся портрет оставил за собой печать зла. Картина никогда ему не нравилась, и даже теперь, хотя нервы у Уиллета были железные, пустая панель внушала ужас и желание поскорей выбраться на свежий воздух.
Глава 17
На следующее утро Уиллет получил от Уорда-старшего записку: Чарлз так и не вернулся домой. Зато позвонил доктор Аллен и сообщил, что Чарлз на неопределенное время останется в Потакете и просит его не беспокоить. Это необходимо, поскольку сам Аллен надолго отбывает в другой город, а их эксперименты нельзя оставлять без бдительного присмотра. Чарлз передает отцу привет и сожаления по поводу столь внезапной перемены планов. Мистер Уорд впервые услышал голос доктора Аллена, и он пробудил в нем какие-то странные неуловимые воспоминания, которые отчего-то встревожили его и почти напугали.
Противоречивые эти сведения завели доктора Уиллета в тупик: он не знал, что теперь делать. Письмо Чарлза не оставляло сомнений в его серьезности и правдивости, однако почему же он сразу нарушил данное обещание? Юный Уорд писал, что его исследования зашли слишком далеко, что все оборудование и даже бородатого коллегу необходимо стереть с лица земли, а сам он клянется никогда не возвращаться в потакетское бунгало. Однако, по последним сведениям, именно так он и поступил, вновь окутав себя плотным пологом тайны. Здравый смысл подсказывал Уиллету оставить юношу в покое — пусть сам разбирается в своих страхах и причудах, в конце концов! — но некий глубинный инстинкт не позволял выбросить из головы отчаянное письмо Уорда. Уиллет перечитал его и вновь не смог разглядеть безумия за выспренними и туманными словами. Ужас автора был слишком искренним, а вкупе с тем, что доктор уже слышал, письмо Уорда пробуждало яркие образы неподвластных времени и пространству кошмаров, затмевающие собой любые логичные объяснения. Безымянный ужас вырвался на свободу, и пусть не в силах человека было его одолеть, подготовиться к встрече с ним все же стоило.
Больше недели доктор Уиллет размышлял над вставшей перед ним дилеммой, и с каждым днем он все больше склонялся к тому, чтобы нанести Чарлзу визит. Ни один друг еще не отваживался вторгнуться в его запретное логово, и даже отец знал о внутреннем убранстве лишь то, что сын счел возможным описать. Однако Уиллет чувствовал, что должен во что бы то ни стало лично поговорить с пациентом. Мистеру Уорду приходили от сына короткие и уклончивые записки, набранные на пишущей машинке, и миссис Уорд в Атлантик-сити тоже подробных писем не получала. В конце концов доктор решил действовать: несмотря на дурные предчувствия, вызванные старинными легендами о Джозефе Кервене, а также недавними открытиями и предостережениями Чарлза, он храбро отправился в путь — к бунгало на крутом берегу реки Потакет.
Доктор Уиллет уже бывал в тех местах — из чистого любопытства и, конечно, никогда не сообщая о своем приезде, — поэтому точно знал, как добраться до нужного дома. Когда февральским утром он катил по Броад-стрит в сторону Потакета, его посещали странные и мрачные мысли о налетчиках, которые сто пятьдесят семь лет назад отправились в точно такой же путь и столкнулись с непостижимым ужасом.
Поездка по обветшалым окраинам города не заняла много времени: впереди показались опрятный Эджвуд и дремлющий Потакет. Доктор Уиллет свернул направо и проехал до конца по проселочной Локвуд-стрит, затем вышел из машины и отправился пешком на север, где над живописными изгибами реки и дымчатой долиной поднимался обрывистый берег. Здесь по-прежнему было мало домов, и доктор Уиллет сразу увидел на возвышении слева от себя одинокое бунгало с бетонным гаражом. Стремительно поднявшись по запущенной гравийной дорожке, он решительно постучал в дверь и без малейшей дрожи в голосе заговорил со зловещим мулатом.
Ему необходимо сейчас же встретиться с Чарлзом Уордом, сказал он, — по жизненно важному делу. Отказа он не примет, а если его все же выгонят, он немедленно пожалуется Уорду-старшему. Мулата это не проняло, и он крепко держал дверь, когда доктор попытался ее открыть. Тогда Уиллет повысил голос и повторил свои требования. Тут из-за двери раздался сиплый шепот, от звука которого доктора насквозь пробила дрожь, хотя он и сам не понял, что именно его напугало. «Пусти его, Тони. Коли господин настаивает, поговорим сейчас». Но, как бы ужасно ни звучал этот шепот, еще страшней было то, что за ним последовало. Заскрипели половицы, и перед доктором Уиллетом предстал сам говорящий — обладателем странного звучного голоса оказался не кто иной, как Чарлз Декстер Уорд.
Точность, с каковой доктор Уиллет записал состоявшуюся между ними беседу, свидетельствует о том, какое огромное значение он ей придает. Вот тут-то в сознании и разуме Уорда и произошла роковая перемена, убежден Уиллет, и у заговорившего с ним человека душа была совсем другая, нежели у того, за развитием и воспитанием которого он наблюдал двадцать шесть лет. Чтобы окончательно развенчать теорию доктора Лаймана, Уиллет называет точную дату начала душевной болезни: день, когда мистеру и миссис Уорд пришли от сына первые короткие послания, набранные на пишущей машинке. Они написаны совсем другим слогом, странным и архаичным, — отличным даже от того, каким написано последнее отчаянное письмо Чарлза Уиллету. В уме автора словно бы прорвало плотину, и его затопило почерпнутыми в детстве представлениями о старине. Ясно угадывалась попытка изъясняться современно, но общий дух и язык явно принадлежали прошлому.
Прошлое чувствовалось и в манерах Чарлза, когда он наконец соизволил принять доктора в своем темном бунгало. Юноша отвесил поклон, учтиво показал на кресло и сразу начал говорить тем же странным сиплым шепотом (который не преминул тотчас объяснить):
— Из-за проклятого речного воздуха меня одолела чахотка, потому и хриплю, вы уж не обессудьте. Смею предположить, вас направил сюда мой батюшка. Надеюсь, вы не сообщите ему ничего, что может лишить его покоя.
Уиллет внимательно прислушивался к хриплому голосу — и еще внимательней вглядывался в лицо говорившего. Что-то было неладно, и доктору невольно вспомнился рассказ Уорда-старшего о старике-дворецком, которого внезапно одолел неизъяснимый страх. В комнате было темно, однако Уиллет не стал настаивать на том, чтобы раздернули шторы. Он только спросил, почему Чарлз нарушил свое обещание, данное в письме чуть больше недели назад.
— Я как раз подошел к сему вопросу, — ответил хозяин дома. — Вы должны понимать, что нервы мои оказались в весьма плачевном состоянии, и я часто говорю или делаю то, что не в силах потом объяснить. Как вы многажды слышали, я стою на пороге великих открытий — их величие порой кружит мне голову и мутит рассудок. На моем месте испугался бы любой человек, однако я не из тех, кто малодушничает долго. Я окружил себя стражами и заперся дома по глупости, а на самом деле мое место — здесь. Любопытные соседи распускают обо мне скверные слухи, и я по душевной слабости едва сам в них не поверил. Однако же в моих делах нет ни капли злого умысла, и, если точно соблюдать процедуру, окружающие не могут пострадать от моих исследований. Умоляю вас потерпеть еще полгода, и я сполна вознагражу вас за ожидание!
Да будет вам также известно, что я изобрел способ узнавать подробности давно минувших дел — способ куда более верный, нежели чтение книг. Рассудите сами, какой неоценимый вклад я могу внести в историю и философию — просто открывая двери, к коим я подобрал ключ. Всем этим владел и мой предок, но неразумные соглядатаи вломились в его дом и убили его. Мне удалось восстановить знания предка — точней, малую их толику. На сей раз ничто не должно мне помешать, и уж точно я не позволю собственным глупым страхам взять надо мной верх. Заклинаю вас: забудьте все, о чем я вам писал, доктор! И прекратите страшиться этого места, я не творю здесь ничего дурного. Доктор Аллен — прекрасный и умнейший человек, я многим ему обязан и приношу глубочайшие извинения за низкие слова, каковые я осмелился произнести в его адрес. Мне жаль было его отпускать, но у нас возникли важные дела в ином месте. Его научный пыл и рвение равны моим, и посему, должно быть, испугавшись своих открытий, я испугался и своего главного помощника.
Уорд умолк, и доктор Уиллет тоже растерянно молчал, не зная что сказать или предпринять. Он почувствовал себя едва ли не дураком, услышав столь спокойный отказ Уорда от собственных слов. Однако его сильно покоробил тот факт, что в странной, нездоровой речи этого человека совершенно не узнать было того Чарлза Уорда, которого доктор знал с самого рождения. Уиллет попытался заговорить с ним о давних семейных событиях и таким образом настроить его на прежний лад; однако труды эти принесли самые неожиданные и необъяснимые плоды (позже с тем же столкнулись и остальные психиатры). Из памяти Чарлза Уорда будто бы стерлись огромные фрагменты, имеющие отношение к его личной жизни и современности, в то время как юношеское увлечение стариной вдруг вышло на поверхность, поглотив все остальное. Знания юноши о делах давно минувших дней были ненормальны и внушали ужас, поэтому он всячески пытался их скрыть. Когда Уиллет упоминал какой-нибудь старинный предмет, любимый Чарлзом с детства, юноша вдруг проливал такой яркий свет на его историю, что доктор невольно содрогался: ни один смертный не мог обладать столь точными сведениями.
Например, откуда ему знать, как 11 февраля 1762 года (в том году это был четверг) на спектакле в Актерской академии мистера Дугласа толстый шериф нагнулся что-то поднять и обронил собственный парик; или как актеры настолько бездарно искромсали текст «Искренних любовников» Стила, что горожане почти обрадовались, когда двумя неделями позже легислатура закрыла театр? Допустим, в каких-нибудь письмах вполне могли сохраниться сведения о том, какими «чертовски неудобными» были пассажирские вагоны в бостонском поезде Томаса Сабина, но кто и откуда мог знать, что скрип новой вывески Епенета Олни (аляповатая корона, которую он повесил над дверью после переименования своей таверны в «Королевскую кофейню») звучал в точности так же, как первые ноты новой джазовой мелодии, звучавшей в ту пору из всех радиоприемников Потакета?
Однако допрашивать Уорда в таком ключе удалось недолго. От вопросов о современном и личном он отмахивался, но и к рассказам о далеком прошлом быстро утратил всякий интерес. Очевидно было, что ему просто хочется поскорей ответить на все расспросы гостя, дабы впредь у него не возникло желания вернуться. С этой целью он даже предложил Уиллету осмотреть дом и лично показал доктору все комнаты от чердака до подвала. Уиллет внимательно смотрел по сторонам и отметил, что книг, лежавших на виду, было слишком мало, чтобы заполнить пустоты в домашней библиотеке Чарлза, а так называемая «лаборатория» — всего-навсего жалкий муляж. Не подлежало сомнению, что настоящие библиотека и лаборатория располагались в другом месте, но где — определить было нельзя. Потерпев полное поражение в своих поисках неизвестно чего, Уиллет вернулся в город еще до наступления сумерек и подробно рассказал об увиденном Уорду-старшему. Оба считали, что юноша явно помутился рассудком, но крайних мер пока предпринимать не хотели. Миссис Уорд тоже решили не беспокоить: пусть лучше она не знает о болезни сына, пока та сама не проявится в его странных записках.
Мистер Уорд решил нанести Чарлзу личный визит — причем неожиданный. Доктор Уиллет отвез его в Потакет на своем автомобиле и остановился вдалеке от бунгало, где его бы никто не заметил. Встреча затянулась, а когда мистер Уорд наконец вернулся к машине, вид у него был в высшей степени расстроенный и озадаченный. Его приняли примерно так же, как и Уиллета, вот только Чарлз очень долго не выходил к отцу, когда тот силой ворвался в дом и выпроводил слугу-португальца, а в поведении изменившегося юноши не было ни капли сыновней любви. Свет в комнатах горел очень тусклый, но Чарлз постоянно жаловался, что слепнет. Он говорил тихо, почти шепотом, ссылаясь на больное горло, однако в его хриплом голосе звучала какая-то недобрая и зловещая нотка, которую мистер Уорд никак не мог выкинуть из головы.
Решив объединить усилия и во что бы то ни стало вернуть Чарлзу душевное здоровье, мистер Уорд и доктор Уиллет принялись собирать информацию — их интересовало все, что могло иметь отношение к делу. Первым делом они изучили потакетские слухи: сделать это оказалось несложно, поскольку у обоих в деревне жили друзья. Большинство сплетен удалось разузнать доктору Уиллету, поскольку люди разговаривали с ним охотней, нежели с его влиятельным другом. Из этих бесед стало ясно, что молодой Уорд вел весьма и весьма странный образ жизни. Молва приписывала ему прошлогодние случаи вампиризма, да и грузовики, то и дело подъезжающие к его дому среди ночи, давали плодородную почву для зловещих сплетен. Местные торговцы перешептывались о странных заказах, которые приносил им жуткий мулат, а в особенности об огромных количествах мяса и свежей крови, поставляемых в бунгало из двух ближайших мясных лавок. Ни при каких обстоятельствах три человека не могли съесть столько мяса.
И еще были звуки, которые раздавались из-под земли. Слухи о них не успели особо расползтись по Потакету, но все смутные намеки сводились к одному и тому же: ритуальные песнопения и наговоры звучали из-под земли по ночам, когда в самом бунгало свет не горел. Конечно, они могли доноситься и из подвала, который Уиллет видел своими глазами, но, по слухам, под землей действительно существовали глубокие ходы и пещеры. Вспомнив старинные легенды о катакомбах Джозефа Кервена и сообразив, что бунгало может стоять на месте его фермы (поэтому Чарлз и настоял на его покупке), Уиллет и мистер Уорд с большим вниманием отнеслись к этим слухам и много раз безуспешно искали дубовую дверь в крутом берегу, упомянутую в старинных рукописях. Что же касается обитателей бунгало, то очень скоро стало ясно, что мулата-португальца народ презирает, доктора Аллена боится, а юного молодого ученого недолюбливает. За последнюю неделю-две Уорд очень изменился, бросил любезничать с соседями и стал затворником, а в те редкие случаи, когда выбирался из дома, разговаривал каким-то сиплым и крайне неприятным шепотом.
Вот какие обрывки сведений удалось собрать мистеру Уорду и доктору Уиллету. Каждый слух они подолгу обсуждали, используя все возможности дедукции, индукции и конструктивного воображения, а также сопоставляя известные факты из жизни Чарлза (включая последнее отчаянное письмо доктору Уиллету) с единичными уцелевшими сведениями о Джозефе Кервене. Они бы много отдали, чтобы взглянуть на бумаги, обнаруженные Чарлзом в тайнике, ведь ключ к его безумию несомненно лежал в том, что юноша узнал о колдуне и его занятиях.
Глава 18
Однако вскоре история получила новое развитие, и в том вовсе не было заслуги мистера Уорда или доктора Уиллета. Отец и врач, потрясенные и озадаченные столкновением с неизвестным и непостижимым, на какое-то время опустили руки и ничего не предпринимали. Послания от Уорда приходили все реже и реже. А потом начался новый месяц — время для улаживания всевозможных финансовых формальностей, — и служащие многих банков вдруг стали удивленно пожимать плечами и перезваниваться. Чиновники, которые знали Чарлза лично, пошли к нему домой и спросили, отчего на всех его последних чеках стоят поддельные подписи. Молодой человек хрипло заверил их, что беспокоиться нечего: недавно его хватил удар, из-за которого у него почти отнялась рука, и писать он теперь не может. Ему настолько трудно выводить буквы, что даже письма родителям он набирает на машинке — они это, разумеется, подтвердят.
Однако чиновников поставило в тупик вовсе не это обстоятельство — вполне понятное и едва ли подозрительное — и даже не потакетские слухи, отголоски которых, разумеется, до них долетали. Более всего чиновников озадачил странный монолог Уорда, из которого стало ясно, что он начисто забыл о важных финансовых делах, начатых всего месяц или два назад. Что-то было неладно; говорил он вполне рассудительно и разумно, однако нормальный человек не стал бы с плохо скрываемым равнодушием говорить о столь важных делах. Больше того, хотя никто из этих людей не водил с Чарлзом близкого знакомства, они не могли не заметить удивительных перемен в его речи и манерах. Да, все знали о его увлечении стариной, однако даже самые завзятые любители старины не используют устаревшие слова и жесты в повседневной жизни. А вкупе с хриплым голосом, парализованными руками и плохой памятью все это наталкивало на мысль о некоем серьезном расстройстве или заболевании, ставшем основой для многочисленных слухов. Городские чиновники решили провести серьезную беседу с мистером Уордом-старшим.
Итак, 6 марта 1928 года в кабинете мистера Уорда состоялся долгий и обстоятельный разговор, по окончании которого растерянный и беспомощный отец вызвал к себе доктора Уиллета. Доктор изучил неуклюжие подписи на чеках и сличил их мысленно с почерком в последнем письме Чарлза. Разумеется, перемена была разительной, однако что-то в этих буквах показалось Уиллету странно знакомым. Очертания букв выглядели ломаными, архаичными, да и наклон был незнакомый. Удивительно… где же Уиллет видел этот почерк? Впрочем, одно было ясно и не подлежало сомнению: Чарлз сошел с ума. А поскольку это угрожало и его финансовым делам — он не мог разумно распоряжаться своим имуществом и выходить в свет, — необходимо было как можно скорей предпринять какие-то меры для его лечения. Тогда-то отец и врач обратились за помощью психиатров — докторов Пэка и Уэйта из Провиденса и доктора Лаймана из Бостона, — которым они в мельчайших подробностях изложили дело. Наконец все пятеро собрались в заброшенной библиотеке фамильного особняка, чтобы изучить оставшиеся книги и бумаги и попытаться узнать из них что-то новое о душевном состоянии пациента. Ознакомившись с этими материалами и с последним письмом Чарлза доктору Уиллету, все единодушно согласились, что подобные исследования могли расстроить или хотя бы поколебать любой, даже самый крепкий рассудок. Работе психиатров очень бы помогли более личные записи и книги пациента, однако добыть их можно было лишь в самом бунгало. Уиллет взялся за дело с новым пылом: на сей раз ему удалось раздобыть показания рабочих, которые снимали и вешали портрет Кервена, а также восстановить уничтоженные газетные заметки.
В четверг, 8 марта, мистер Уорд и доктора Уиллет, Пэк, Уэйт и Лайман нанесли юноше роковой визит, не скрывая своих целей и с изрядной дотошностью допрашивая теперь уже признанного пациента. Чарлз — хотя вышел к гостям не скоро и все еще источал запах каких-то странных химикатов — ничуть не противился расспросам и спокойно признал, что память его и рассудок в последнее время значительно пострадали от тесного взаимодействия с трудными для понимания предметами и явлениями. Он не стал сопротивляться, когда ему сообщили о необходимости переезда в другое место, и, если не считать потери памяти, обнаружил весьма незаурядный ум. Такое поведение вполне могло сбить врачей с толку и убедить в нормальности пациента, если б не странная архаичная манера речи и очевидная подмена современных идей устаревшими — все это ясно свидетельствовало о психических отклонениях. О своей работе он рассказал докторам не больше, чем семье и Уиллету, а последнюю отчаянную мольбу о помощи списал на обыкновенное нервное расстройство и истерию. Чарлз также настаивал, что под его бунгало нет никакой тайной библиотеки или лаборатории, а на вопрос, почему от него пахнет химикатами, следов которых нигде не видно, ударился в заумные невразумительные объяснения. Соседские сплетни он назвал дешевыми домыслами любопытных невежд. О местонахождении своего бородатого коллеги в очках Чарлз распространяться не пожелал, однако заверил врачей и отца, что доктор Аллен вернется, как только в том возникнет необходимость. Выплачивая жалованье бесстрастному португальцу (который наотрез отказался отвечать на какие-либо вопросы) и запирая бунгало на ключ, Уорд-младший не выказывал ни малейших признаков волнения или тревоги; казалось только, что он все время прислушивается к каким-то едва уловимым звукам. Он отнесся к переезду спокойно и философски, словно это был пустяк, вынужденная несущественная заминка, которая совершенно не повредит его трудам, если уладить все быстро и без шума. Чарлз был абсолютно уверен, что острый незамутненный ум позволит ему без труда справиться со всеми недоразумениями, в которые он оказался втянут из-за своей плохой памяти, хриплого голоса, парализованной руки, затворничества и эксцентричных поступков. Миссис Уорд решили ничего не говорить, отец печатал ей письма от имени сына. Чарлза отвезли в тихую частную лечебницу на живописном острове Конаникут, в которой доктор Уэйт был главным врачом. Там его тщательнейшим образом опросили и осмотрели, в результате чего стало известно о странностях физиологического характера: замедленном обмене веществ, рыхлой коже и аритмичном дыхании и сердцебиении. Больше всего эти метаморфозы обеспокоили доктора Уиллета, поскольку он наблюдал за здоровьем Уорда всю жизнь и мог оценить эти физиологические перемены во всей их чудовищной глубине. Даже родимое пятно на бедре юноши куда-то исчезло, зато на груди неизвестно откуда появилась большая черная родинка или шрам — Уиллет невольно задался вопросом, не может ли это быть колдовским клеймом, какие якобы наносят людям во время известных ночных встреч в глухих и безлюдных местах. Доктора не покидали мысли об архивных записях из Салемского зала суда, которые давным-давно показывал ему Чарлз: «…мистер Г. Б. в ту ночь поставил клеймо дьявола на Бриджит С., Джонатана А., Саймона О., Деливеренс У., Джозефа К., Сюзан П., Мехитабль К. и Дебору Б.». Лицо Чарлза Уорда также наводило на Уиллета ужас, но он не сразу понял, почему: над правым глазом молодого человека оказался маленький шрамик, точно такой же, как у Джозефа Кервена — вероятно, они в разное время и на определенной стадии своих оккультных «карьер» стали участниками одного и того же ритуала, в ходе которого им сделали некий укол или надрез.
Пока доктора гадали над всеми этими странностями, за всеми письмами Уорда, адресованными ему или доктору Аллену, велось тщательное наблюдение — последние мистер Уорд-старший приказал доставлять к себе домой. Уиллет считал, что вряд ли из писем получится узнать что-то важное, поскольку всеми существенными сведениями они наверняка обмениваются через курьера. Однако в конце марта из Праги доктору Аллену пришло письмо, заставившее глубоко задуматься и доктора Уиллета, и отца. Письмо было написано острым архаичным почерком, однако складно и гладко — английский явно был родным языком автора, — при этом современную речь он приправлял теми же устаревшими словами и выражениями, что и Уорд-младший.
«Кляйнштрассе, 11
Старый город, Прага,
11 февраля 1928 года.
Брат мой в Альмонсине-Метратоне!
Сегодня только получил Ваше послание о том, что вышло из солей, кои я вам выслал. Произошла досадная ошибка: полагаю, надгробия переставили местами и Барнабас отправил мне не те экземпляры. Подобные недоразумения нередки в нашем деле, как Вы должны были уразуметь еще в 1769-м, когда получили экземпляр из королевской усыпальницы, и когда в 1690-м Х. едва не пал от рук полученного со старого кладбища экземпляра. 75 лет назад в Египте со мной случилось похожее происшествие: тогда-то и появился шрам, недавно замеченный мальчишкой у меня на лбу. Многажды я заклинал Вас: не взывайте к тому, что не сможете потом вернуть в небытие, будь то из солей или же из Потусторонних сфер. Слова для упокоения надобно во все времена держать наготове и без промедлений использовать их, стоит возникнуть хоть тени сомнения относительно того, кто явился на Ваш зов. Не забывайте, что девять надгробий из десяти перепутаны! Ни в чем нельзя быть уверенным, покуда лично не проведете допрос! Сегодня мне пришло письмо от Х., у коего возникли непредвиденные трудности с солдатами. Он жалеет, что Трансильвания отошла теперь Румынии, и с радостию сменил бы место жительства, не будь его замок полон сами знаете чего. Напоминаю, что с нетерпением жду Б. Ф. и зело надеюсь, что Вы сумеете его для меня раздобыть. Высылаю Г. из Филады, можете вызвать его первым, но не мучьте чересчур, ибо я тоже имею намерение с ним поговорить.
Йог-Сотот Неблод Зин,
Саймон О.
Мистеру Дж. К.,
Провиденс».
Мистер Уорд и доктор Уиллет в полнейшем замешательстве замерли над письмом, автором которого совершенно точно был безумец. Далеко не сразу до них дошел истинный смысл послания. Выходит, именно пропавший доктор Аллен, а вовсе не Чарлз, был вдохновителем и двигателем исследований в Потакете? Тогда понятно, откуда взялось открытое осуждение и мольба уничтожить Аллена в последнем письме Чарлза. Но почему же бородача в очках называют «мистером Дж. К.»? Намек очевиден, однако всякому безумию должны быть пределы… Кто такой «Саймон О.» — старик, которого Уорд посещал в Праге четыре года назад? Вполне может быть, но ведь был и другой Саймон О. — Саймон Орн, он же Иедедия из Салема, пропавший без вести в 1771 году, чей необычный почерк доктор Уиллет видел на фотостатических копиях рукописных текстов, которые Чарлз ему показывал. Что за кошмары и тайны, что за противоречия и аномалии вернулись в старый Провиденс полтора века спустя, чтобы вновь потревожить город теснящихся шпилей и куполов?
Озадаченные врач и отец отправились в лечебницу и постарались как можно деликатней расспросить Чарлза о докторе Аллене, о поездке в Прагу и о том, что ему известно об Иедедии Орне из Салема. На все вопросы Чарлз отвечал вежливо, но уклончиво: мол, доктор Аллен обладает уникальным даром входить в духовную связь с некоторыми душами прошлого, и человек из Праги, с которым переписывается бородач, по-видимому, наделен тем же даром. Покинув Чарлза, доктор Уиллет и мистер Уорд с досадой осознали, что это их на самом деле подвергли допросу: ничего толком о себе не сообщив, юноша без труда вытянул из них сведения, содержавшиеся в странном письме.
Доктор Уэйт, Пэк и Лайман были не склонны придавать большое значение этой переписке, поскольку знали о тенденции людей с одной манией сбиваться в группы. По-видимому, Чарлзу или доктору Аллену попросту удалось найти в Праге эмигрировавшего единомышленника — он наверняка видел почерк Орна и скопировал его в попытке выдать себя за восставшего из могилы персонажа. Аллен, должно быть, сделал то же самое и убедил Чарлза, что он — воскресший Джозеф Кервен. Такие случаи бывали и раньше, и на том же основании твердолобые доктора отмахнулись от тревожных опасений Уиллета касательно изменившегося почерка самого Чарлза Уорда (врачам удалось хитростью добыть несколько его образцов). Уиллет наконец понял, на что походил новый почерк Чарлза — то была рука самого покойного Джозефа Кервена. Данный факт остальные психиатры списали на очередной и вполне ожидаемый симптом вышеупомянутой мании — придавать ему какое-либо значение, положительное или отрицательное, они отказались. Убедившись в закоснелости их образа мыслей, доктор Уиллет посоветовал мистеру Уорду-старшему оставить у себя следующее письмо, адресованное Аллену и пришедшее из Ракуси, Трансильвания. Почерк, каковым написали адрес получателя на конверте, был настолько схож с почерком Хатчинсона, что отец и врач потрясенно замерли и несколько секунд разглядывали его, прежде чем вскрыть сургучную печать. Вот что там было написано:
«Замок Ференци,
7 марта 1928 года.
Дражайший К.!
Ко мне явился отряд милиции числом двадцать человек — проверять деревенские слухи. Надобно копать глубже, чтобы никто ничего не слышал. От румын один вред, они насели на меня точно мухи, тогда как от мадьяров можно было откупиться хорошим ужином и бутылкой вина.
В прошлом месяце я получил саркофаг пяти сфинксов из Акрополя, где должен был покоиться тот, к кому я желал воззвать. Я провел с ним три беседы. В ближайшее время саркофаг отправится в Прагу к С. О., а затем и к Вам. Он упрям, но вы знаете подход к таким экземплярам.
Вы мудро поступаете, уменьшая их количество, ибо тогда нет нужды и держать овеществленными стражей, и в случае беды меньше будет найдено. Теперь Вы можете без труда переехать в другое место и работать там, не заботясь об убиении, — впрочем, надеюсь, в ближайшее время ничто не вынудит вас к таковому шагу.
Безмерно рад, что Вы боле не ведете торговли с Потусторонними, ибо в том таится смертельная опасность, и Вы знаете, что будет, если испросить защиты у того, кто не желает ее давать.
Вы превзошли меня в искусстве записывания заклинаний так, чтобы их могли правильно прочесть другие, однако Бореллий полагал, что главное — найти правильные слова. Часто ли использует их мальчишка? Жаль, что в нем проснулась излишняя добродетельность, хотя я догадался о таком развитии событий еще тогда, когда он гостил у меня. Полагаю, Вы знаете, как его унять. Заклинаниями человека не возьмешь, ибо они действуют лишь на тех, кто встает из солей, но в Вашем распоряжении есть крепкие руки, острый нож и револьвер. Могилу вырыть нетрудно, а кислота растворит любые улики.
О. говорит, Вы обещали добыть для него Б.Ф. Непременно вышлите его и мне. Вам же я отправляю Б., пусть он расскажет о черных тайнах, что сокрыты под Мемфисом. Будьте настороже с теми, к кому взываете, и берегитесь мальчишки.
Уже через год мы сможем поднять из-под земли легионы, и тогда нашей власти не будет границ. Верьте мне, ибо у нас с О. было на 150 лет больше Вашего, и мы лучше понимаем в таких делах.
Нефреу — Ка наи Хадот
Эдв. Х.
Господину Дж. Кервену,
Провиденс».
Уиллет и мистер Уорд не показали этого письма психиатрам, но ряд мер, безусловно, приняли. Никакая заумная софистика не могла спорить с тем фактом, что доктор Аллен со странной бородой и очками, которого так страшился Чарлз в своем письме, состоял в неких близких и зловещих отношениях с двумя загадочными личностями, которых Чарлз посетил во время своей зарубежной поездки и которые открыто утверждали, что являются выжившими либо воскресшими друзьями Кервена, а сам он, доктор Аллен, считает себя Джозефом Кервеном и строит — либо же помогает строить — ужасные козни в отношении некоего «мальчишки» — несомненно, Чарлза Уорда. Эти трое замыслили нечто кошмарное; неважно, кто все затеял, исполнение плана теперь зависело от доктора Аллена. Возблагодарив Господа за то, что Чарлз в безопасности, мистер Уорд не теряя времени нанял частных сыщиков и велел им узнать как можно больше о загадочном бородатом докторе: когда он прибыл в Потакет, что о нем известно в деревне и где он находится сейчас. Дав сыщикам ключи от бунгало, он наказал внимательно обыскать бывшую комнату Аллена, которую обнаружили уже после отъезда Чарлза. Мистер Уорд разговаривал с сыщиками в старой библиотеке сына: покинув ее, они почувствовали явственное облегчение, словно бы вся комната дышала злом. Быть может, виною тому были жуткие легенды о старом волшебнике, чей портрет некогда висел над искусственным камином, а может, что-то совсем иное и не имеющее касательства к нашей истории нагнало на них страх; как бы то ни было, все они смутно ощущали едва уловимые испарения, которые сгущались у старинной резной панели над камином.
Часть V. Кошмар и катаклизм
Глава 19
Вскоре после этого случилось ужасное событие, которое оставило неизгладимую печать страха в душе Марина Бикнелла Уиллета и состарило этого и без того немолодого господина еще на добрый десяток лет.
Наконец-то доктору Уиллету и мистеру Уорду удалось договориться о ряде мер, которые психиатры сочли бы смешными и нелепыми. В мире, решили они, затевается нечто кошмарное, напрямую связанное с некромантией даже более древней, чем Салемская. По крайней мере двое человек — об одном из которых они боялись и думать — преступно завладели умами и душами людей, живших в конце XVII века или даже раньше — это противоречило всем известным законам природы, однако не подлежало сомнению. Чем именно занимались эти жуткие личности — включая Чарлза Уорда, — было более-менее ясно из их писем, а также из тех немногих обрывочных сведений, что удалось раздобыть следствию. Они раскапывали могилы разных людей, включая величайших и мудрейших представителей мира сего, в надежде добыть из тлена те знания, которыми эти люди некогда владели.
Они наладили между собой чудовищную и омерзительную торговлю: легко, точно мальчишки, обменивающиеся учебниками на уроках, они пересылали друг другу древние мощи. То, что они извлекали из векового праха, должно было наделить их такой несметной силой и мудростью, каковыми мироздание еще никогда не наделяло одного человека или же группу людей. Негодяи нашли некий богопротивный способ поддерживать жизнь своей души — в одном теле или же в разных телах — и явно преуспели в пробуждении мертвых душ, истлевшие тела которых им удавалось найти. По всей видимости, в словах старого Бореллия была доля правды: даже из самых древних останков можно приготовить «соли», которые помогут воскресить дух давно умершего существа. Существовало заклинание для оживления такого духа и для возвращения его обратно в небытие. Некроманты настолько отточили свое мастерство, что могли успешно обучать ему других. Однако воскрешать мертвых следовало с осторожностью: надписи на древних надгробиях не всегда соответствовали истине.
Уиллет и мистер Уорд делали все новые и новые открытия, каждое из которых заставляло их содрогнуться. Души или голоса людей можно было вызвать не только из могил, но и из самых далеких мест, и здесь следовало быть крайне осторожным. Джозеф Кервен, несомненно, осторожности не соблюдал и взывал к запретным душам, но что делал Чарлз? Какие «чудовищные силы» пробились к нему из глубины веков и заставили обратить взор на давно забытые знания? Очевидно, он следовал чьим-то подсказкам. Чарлз встречался со страшным стариком из Праги и долго прожил в горных владениях другой жуткой твари в Трансильвании. По-видимому, в конце концов ему удалось найти и могилу Джозефа Кервена. Об этом свидетельствует та газетная заметка и страшные ночные звуки в лаборатории, подслушанные матерью Уорда. А потом он воззвал к чему-то ужасному, и оно ответило на его зов. Тот могучий глас с неба, раздавшийся в Страстную пятницу, и разговоры на чердаке… кто мог говорить такими низкими и гулкими голосами? Не предвещали ли они прибытие кошмарного доктора Аллена с потусторонним басом? О да, не зря мистера Уорда охватил суеверный страх, когда он услышал голос этого человека — если то был человек — в телефонной трубке!
Что за дьявольское создание или дух, что за призрак мог явиться в ответ на тайные заклинания Чарлза Уорда? Тот подслушанный разговор… «три месяца нужна кровь»… Святый Боже! Уж не о вампиризме ли, охватившем город вскоре после этого, шла речь? Раскопанная могила Эзры Уидена и ночные крики в Потакете — чей коварный ум замыслил возмездие и привел юношу в богопротивное логово, куда на протяжении полутораста лет не ступала нога человека? Бунгало, бородатый незнакомец, сплетни, страх… Последних перемен в поведении Чарлза ни доктор, ни отец объяснить не могли, но они чувствовали: душа Джозефа Кервена вернулась в наш мир и снова творит зло. Неужели Чарлз одержим дьяволом, неужели такое действительно бывает? В любом случае Аллен имеет к этому непосредственное отношение, и спасение Чарлза во многом зависит от того, удастся ли сыщикам разузнать что-то о его местонахождении. А тем временем необходимо разыскать подземные катакомбы — в их существовании уже не сомневался ни доктор, ни мистер Уорд. Помня о скептическом настрое психиатров, они решили предпринять тайный и тщательнейший обыск бунгало и договорились встретиться у его ворот на следующее утро, прихватив с собой саквояжи и инструменты для археологических раскопок и подземных исследований.
Ясным утром 6 апреля, ровно в десять часов, оба исследователя явились к бунгало. Мистер Уорд открыл дверь своим ключом, они прошли внутрь и провели поверхностный осмотр комнат. По беспорядку в комнате доктора Аллена они поняли, что здесь уже побывали сыщики, но все-таки решили обыскать помещение еще раз — вдруг те что-нибудь упустили. Впрочем, куда больше их интересовал подвал, куда они незамедлительно спустились и вновь прошли по помещениям, которые однажды осматривали в присутствии юного безумца. Поначалу им показалось, что ничего нового они не найдут: стены и пол были столь ровными и прочными, что в голову не приходило даже мысли о возможном ходе или люке. Уиллет подумал, что строители бунгало не могли знать о лежащих под ним катакомбах. Следовательно, ведущий под землю ход должен быть прокопан относительно недавно, когда Чарлз и его помощники узнали о существовании древнего склепа.
Доктор попытался поставить себя на место Чарлза и понять, откуда тот мог начать раскопки. Увы, такой метод не принес плодов. Затем он решил действовать методом исключения и внимательно, стараясь не упускать ни дюйма, изучил все горизонтальные и вертикальные поверхности. Скоро круг его поисков значительно сузился, и в конце концов осталась лишь небольшая деревянная панель за корытами, которую он безрезультатно осматривал раньше. Уиллет стал давить на нее с разных сторон и в итоге, приложив двойное усилие, сдвинул ее в сторону. Под ней лежала ровная бетонная плита с железным люком посередине, к которому тут же кинулся взволнованный мистер Уорд. Крышку поднять оказалось совсем несложно, и мистер Уорд уже почти сдвинул ее, когда Уиллет заметил странную бледность его лица. Затем его спутник пошатнулся, замотал головой, и только тут доктор понял, что вызвало такую реакцию: из открывшейся черной ямы вырывался поток зловонного воздуха.
Доктор Уиллет не мешкая вывел своего спутника наверх и побрызгал ему в лицо холодной водой. Мистер Уорд слабо застонал и пришел в себя, однако видно было, как сильно его отравил едкий воздух из подземелья. Не желая испытывать судьбу, Уиллет поспешил на Броуд-стрит, где поймал такси и отправил слабо протестующего мистера Уорда домой. Затем он вооружился электрическим фонариком, прикрыл рот и нос стерильной марлей и снова спустился в подвал. Ядовитая вонь немного рассеялась, и Уиллету удалось посветить фонариком в мрачную темницу. Примерно на десять футов вниз уходил круглый туннель с бетонными стенами и железной лестницей, после чего начинались древние каменные ступени — видимо, изначально они вели на поверхность земли немного к юго-западу от бунгало.
Глава 20
Уиллет без всякого стыда признается, что на мгновение ему стало страшно спускаться в зловонный туннель — слишком живы были в его памяти легенды о злом колдуне Кервене. Он не мог выбросить из головы мысли о том, что писал Люк Феннер про ту дьявольскую ночь. Но потом чувство долга взяло верх, и он устремился вперед, не забыв прихватить с собой большой саквояж — на случай, если внизу обнаружатся какие-нибудь важные бумаги. Медленно, как и подобало человеку в его возрасте, он спускался по влажным скользким ступенькам. Фонарик выхватывал из темноты древнюю каменную кладку, мокрую и заросшую отвратительным вековым мхом. Все ниже и ниже уходили ступени — не спиралью, а тремя узкими крутыми пролетами, где с трудом разминулись бы два человека. Доктор Уиллет насчитал примерно тридцать ступенек, когда до него донесся едва слышный звук… и после этого у него отпала охота что-либо считать.
То был неземной звук, низкий и злобный, точно разгневанный рев Природы. Глухой вой, обреченный крик, безнадежный вопль неизбывной тоски и животной боли — никакими словами было не передать омерзительных и тошнотворных обертонов этого звука. Не к нему ли прислушивался Чарлз Уорд, покидая бунгало? Ничего подобного Уиллет никогда прежде не слышал. Звук словно бы висел в воздухе, не прекращаясь, а доктор тем временем добрался до конца лестницы и осветил фонариком высокие каменные стены, взмывающие к циклопическим сводам и пронзенные бесчисленными черными арками. Зал, в который попал Уиллет, был высотой примерно четырнадцать футов и шириной около десяти-двенадцати. Пол — большие щербатые плиты, на стенах и потолке — каменная кладка с облицовкой. Длину подземелья Уиллет представить не мог: оно уходило в черную бесконечность. В некоторых арках были старинные двери в колониальном стиле, другие зияли чернотой.
Преодолев ужас, вызванный ядовитым запахом и жутким воем, Уиллет начал по очереди заглядывать в арки: за ними были комнаты среднего размера и неизвестного назначения, со сводчатыми каменными потолками. В большинстве комнат имелись очаги с весьма затейливыми дымовыми трубами, инженерное устройство которых и сейчас могло бы послужить предметом для научных исследований. Всюду Уиллет замечал диковинные, опутанные паутиной и засыпанные вековым слоем пыли инструменты — или подобия инструментов. Некоторые из них серьезно пострадали во время налета полуторавековой давности, ко многим никто с тех пор не подходил (видимо, здесь Джозеф Кервен проводил свои первые исследования, давно утратившие актуальность). Наконец пошли комнаты с явно современным оборудованием — или, по крайней мере, недавно использовавшимся. Здесь были пробирки, примусы, книжные полки и столы, стулья и шкафчики, а также заваленный бумагами стол — все разных возрастов, антикварное и современное. Тут и там стояли подсвечники и керосиновые лампы, и Уиллет, найдя спичечный коробок, зажег сразу несколько.
В свете ламп стало окончательно ясно, что перед ним — кабинет или библиотека Чарлза Уорда. Многие книги доктор Уиллет видел и раньше, мебель тоже перекочевала сюда прямиком из особняка на Проспект-стрит. Доктор встретил много знакомых вещей, и от увиденного его охватило такое странное чувство, что он на минуту забыл о запахе и вое — и то и другое здесь ощущалось вдвое сильней, нежели у подножия лестницы. Его первой задачей было найти и взять с собой как можно больше бумаг, имеющих отношение к делу; особенно те зловещие документы, что Чарлз обнаружил несколько лет назад в старом доме Кервена. Начав поиски, Уиллет понял, какой громадный труд ему предстоит: перед ним было несчетное число папок, забитых бумагами со странными надписями и значками. Чтобы расшифровать и понять все это, понадобятся месяцы, а то и годы. Уиллету попалось три толстых пачки писем с марками из Праги и Ракуси — почерк на конвертах принадлежал Хатчинсону и Орну. Их он тоже положил в груду бумаг, которые намеревался забрать с собой в саквояже.
Наконец, в запертом шкафчике красного дерева, когда-то украшавшем кабинет Уорда, Уиллет обнаружил стопку старых писем Кервена — несколько лет назад Чарлз показывал их доктору. С тех пор юноша, по-видимому, хранил их вместе: Уиллет нашел все бумаги с заглавиями, которые назвали ему рабочие. Однако писем, адресованных Орну и Хатчинсону, там не было, и зашифрованного листка с ключом тоже. Уиллет сунул находку в саквояж и продолжил осматривать папки. Поскольку на карте стояли здоровье и жизнь Уорда-младшего, первым делом надлежало изучить недавние, самые свежие документы; таковых рукописей оказалось предостаточно, и, листая их, Уиллет отметил одну странность. Нормальный почерк Чарлза был лишь на бумагах двухмесячной давности, все остальное же — внушительные стопки формул и символов, исторических и философских замечаний — было написано острым архаичным почерком Джозефа Кервена, но датировано недавним временем. По всей видимости, Чарлз задался целью в точности имитировать почерк колдуна — и достиг в этом блестящих результатов. Но следов третьей руки — Аллена — доктор нигде не обнаружил. Если он в самом деле руководил исследованиями, видимо, юный Уорд исполнял роль его личного секретаря.
В этих свежих документах и записях часто повторялось заклинание — а точнее, два заклинания, — которое к концу обыска Уиллет запомнил наизусть. Оно представляло собой два параллельных столбца: левый был увенчан древним символом «Голова дракона», которым во всех старинных календарях обозначали восходящий узел, а над правым, соответственно, стоял знак «Хвост дракона» — узел нисходящий. Доктор почти подсознательно догадался, что второй столбик представляет собой тот же самый текст, записанный по слогам наоборот, за исключением последних односложных слов и странного имени «Йог-Сотот», которое Уиллет научился узнавать в самых разных написаниях. Заклинание выглядело так (в точности так, неоднократно подчеркивал доктор), причем первые слова воскресили в его памяти какое-то странное полустертое воспоминание — позднее Уиллет понял, что слышал их в рассказах миссис Уорд о событиях прошлой Страстной пятницы.
ЙА’НГ’НГАХ,
ЙОГ-СОТОТ
Х’ЕЕ-Л’ГЕБ
Ф’АЙ ТРОДОГ
УААХ
ГОДОРТ АЙ’Ф
БЕГ’Л-ЕЕ’Х
ЙОГ-СОТОТ
ХАНГ’ГН’АЙ
ЗХРО
Заклинание это повторялось так часто и было столь навязчиво, что доктор, сам того не замечая, стал шепотом его повторять. Наконец он решил, что на первое время собрал достаточно документов и больше копаться в бумагах не будет, а в следующий раз постарается привести с собой остальных врачей, и вместе они проведут более систематический обыск. Уиллету еще предстояло найти потайную лабораторию: оставив саквояж в освещенном кабинете, он вновь вышел в темный зловонный коридор, своды которого оглашали отвратительные вопли.
Уиллет прошел мимо нескольких пустых комнат, заставленных ветхими ящиками и зловещими свинцовыми гробами. Размах кервеновских исследований потрясал: доктор невольно задумался о бесчисленных пропавших без вести матросах и рабах, о разрытых по всему миру могилах и о том, что предстало взорам налетчиков сто пятьдесят лет назад. Содрогнувшись, он решил не думать об этом и поспешил дальше: справа от него начиналась новая каменная лестница — должно быть, когда-то давно она вела к какой-нибудь внешней постройке на ферме Кервена (возможно, даже к загадочному каменному зданию с узкими щелями вместо окон), а лестница, по которой спустился сам Уиллет, шла из подвала фермерского дома с крутой крышей. Внезапно стены вокруг него раздвинулись, а смрад и вой стали еще сильнее. Уиллет понял, что очутился в большом открытом пространстве — настолько огромном, что луч фонарика не доставал до противоположной стены, а лишь выхватывал из темноты массивные колонны.
Через какое-то время доктор Уиллет подошел к месту, где колонны образовывали круг наподобие Стоунхенджа. В центре на трех ступеньках возвышался большой резной алтарь. Затейливая резьба привлекла внимание Уиллета, и он подошел к алтарю с фонариком. Едва увидев сами изображения, он с содроганием отшатнулся и не стал осматривать засохшие темные пятна и потеки на верхней плите. Вместо этого он нашел противоположную стену зала и пошел вдоль нее. Она описывала громадный круг: местами Уиллету встречались черные дверные проемы, а между ними тянулись врезанные в каменную кладку решетки, на которых висели ручные и ножные кандалы. Сами камеры были пусты, однако ужасная вонь и зловещие стоны не пропали — напротив, они стали еще сильней и временами перемежались каким-то влажным стуком.
Глава 21
Теперь все внимание Уиллета было приковано к этим звукам и вони. В большом зале с колоннадой они были сильней, чем где бы то ни было, и раздавались словно бы снизу — это ощущение не покидало доктора даже в кромешной тьме подземного мира. Прежде чем попробовать спуститься в одну из черных арок, Уиллет посветил фонариком на каменный пол. Плиты лежали неплотно и местами были беспорядочно испещрены небольшими отверстиями. Неподалеку кто-то беспечно бросил лестницу, и от нее, как ни странно, исходила особенно резкая вонь — та же самая, которой пропиталось все вокруг. Медленно обходя ее по кругу, Уиллет вдруг заметил, что запах и вой особенно сильны над продырявленными плитами — словно это примитивные люки, ведущие к новым ужасам. Опустившись на колено рядом с одной из них, доктор надавил на нее руками и обнаружил, что она сдвигается — хоть и с огромным трудом. Когда Уиллет с замиранием сердца отодвинул тяжелую плиту, стоны из-под земли стали еще громче, в нос ударил невыносимый смрад, и голова у доктора закружилась. Тем не менее он отпустил плиту и посветил фонариком в открывшийся черный мрак.
Если он рассчитывал обнаружить внизу лестницу, ведущую к жутчайшему из кошмаров, то его ждало разочарование. Среди зловония и надтреснутого воя Уиллет различил лишь кирпичную кладку цилиндрической шахты диаметром около ярда с половиной. Ни ступенек, ни даже веревочной лестницы вниз не вело, а когда в колодец упал луч света, вой вдруг сменился несколькими омерзительными воплями, которые сопровождались звуками скребущих вслепую когтей и влажными ударами. Доктор задрожал, не желая даже думать о том, кто может скрываться в зловонной бездне, но потом все-таки набрался храбрости, лег на пол и свесил вниз руку с фонариком. Секунду или две Уиллет не видел ничего кроме склизких замшелых стенок колодца, уходящих в бесконечную тьму, полную смрада и яростных воплей, но потом различил какое-то темное существо, неуклюже скачущее по дну узкой шахты (глубиной она была около двадцати или двадцати пяти футов). Фонарик задрожал в руке доктора, однако он нашел в себе силы вновь посмотреть вниз и хорошенько разглядеть существо, заточенное в вечной тьме этого жуткого подземелья. Уорд бросил его умирать с голоду — его и множество других тварей, запертых в таких же колодцах, что испещряли пол огромной сводчатой пещеры. Кем бы ни были эти существа, лежать спокойно в узких шахтах они не могли: все долгие недели в отсутствие хозяина они прыгали по стенкам, выли и ждали его возвращения.
В следующий миг Марин Бикнелл Уиллет пожалел, что снова посмотрел на дно шахты. Опытный хирург и ветеран анатомических театров, он оказался не готов к зрелищу, которое навсегда лишило покоя его разум. Трудно объяснить, как единственный взгляд на некий объект средних размеров может вызвать у взрослого человека такой ужас; скажем только, что порой определенные очертания и формы будят в нас такие ассоциации и переживания, которые глубоко потрясают наш впечатлительный разум одними намеками на космический ужас и неведомую реальность, что кроется за понятным и уютным пологом наших иллюзий. Уиллет выронил фонарик — его рука вдруг ослабла и перестала слушаться — и от страха едва услышал жуткий хруст, донесшийся из колодца, когда фонарик достиг его дна. Доктор кричал, кричал и кричал — этот панический фальцет не узнал бы даже его самый близкий друг; подняться на ноги Уиллет не мог, но в ужасе откатился от края колодца и пополз прочь от влажных плит, таящих под собой десятки тартаровых шахт, из которых в ответ на его безумные крики раздавался страшный изможденный вой. Он сдирал кожу на руках о грубые плиты, множество раз ударялся головой о частые колонны, но полз дальше. Наконец, окруженный кромешной тьмой и зловонием, Уиллет медленно пришел в себя и заткнул уши, чтобы не слышать монотонного воя, сменившего яростные вопли. Доктор промок до нитки, потерял единственный источник света и дрожал от ужаса, который потряс его до глубины души и наложил вечную печать страха на его память. Под ним все еще прыгали и извивались десятки омерзительных тварей, а плита над одной из шахт теперь была сдвинута. Он знал, что тварь не сможет выбраться из колодца по скользким стенкам, однако при мысли о малейшем выступе в стене невольно содрогался.
Что это была за тварь, Уиллет так и не понял. Она отдаленно напоминала резные изображения на алтаре, но была живой. Природа не могла создать такое существо, ибо оно выглядело до странности незаконченным, собранным из столь безобразных и увечных частей, что они не поддавались описанию. Уиллет потом предположил, что Уорд мог создать таких тварей из неправильно приготовленных «солей» и оставить в живых для ритуальных целей — о том, что они именно для этого и нужны, свидетельствовала резьба на проклятом алтаре. Впрочем, там были изображены чудовища и пострашнее, но другие шахты Уиллет открывать не стал. В те минуты первой связной мыслью, пришедшей ему на ум, была давно прочитанная фраза из старинных документов Кервена (Саймон или Иедедия Орн писал об этом умершему колдуну):
«Лишь толику надобного собрал Х., и из оной толики поднялось живое воплощение ужаса».
Затем, скорее дополняя, нежели замещая страшную картину, в голове Уиллета всплыли старинные байки о жуткой подпаленной твари, найденной в полях через неделю после налета на ферму Кервена. Чарлз Уорд однажды рассказал доктору, что говорил о той твари старик Слокум: останки были явно не человеческими, но и подобных зверей никто из жителей Потакета никогда не видел.
Слова эти эхом отдавались теперь в голове доктора, пока он раскачивался туда-сюда, сидя на каменном полу подземелья. Он пытался прогнать их и стал повторять «Отче наш», затем, сам того не замечая, начал твердить тарабарщину в духе модернистской «Бесплодной земли» мистера Т.С. Элиота, а потом и вовсе перешел на часто повторяющееся в бумагах Уорда двойное заклинание «Йа’нг’нгах, Йог-Сотот…» и так далее.
Это немного успокоило Уиллета, и он сумел подняться на ноги, оплакивая потерянный фонарик и дико озираясь по сторонам в поисках хоть малейшего проблеска света в чернильной, холодной и липкой темноте. Он понимал, что ничего не получится, но все же как мог напрягал зрение — где-то во мраке осталась ярко освещенная библиотека Уорда. Через какое-то время Уиллету показалось, что далеко-далеко впереди показался слабый намек на свет, и он с мучительной осторожностью пополз в ту сторону, постоянно ощупывая пол перед собой, чтобы не врезаться головой в колонну или не свалиться в открытую им же самим яму.
Один раз его дрожащие пальцы наткнулись на твердую преграду — ощупав ее, Уиллет понял, что это ступеньки, ведущие к дьявольскому алтарю. Он в ужасе отпрянул. В другой раз ему попалась сдвинутая каменная плита, и тогда он пополз вперед с почти болезненной осторожностью. Впрочем, дыра ему так и не встретилась, и никаких звуков оттуда он не услышал (по-видимому, сожрав фонарик, чудовище погибло). Всякий раз, нащупывая пальцами отверстия в полу, Уиллет содрогался. Когда он проползал над очередным колодцем, снизу раздавались громкие стоны, но обычно его бесшумные движения никого не тревожили. Несколько раз доктору казалось, что свет впереди слабеет — видимо, зажженные свечи и лампы одна за другой гасли. Мысль о том, чтобы остаться одному в кромешной тьме подземного лабиринта, заставила его вскочить на ноги и побежать вперед: теперь он мог не бояться упасть в колодец, ведь тот остался позади, а вот если потухнет свет в библиотеке, единственной надеждой на спасение будет поисковая группа, которую мистер Уорд отправит в подземелье еще не скоро. Вскоре Уиллет вбежал из просторного зала в узкий коридор и теперь явственно увидел впереди свет. Уже через несколько секунд он переступил порог и вновь очутился в библиотеке Уорда, дрожа от облегчения и глядя на искрящийся фитилек последней горящей лампы, которая вывела его из черного лабиринта.
Глава 22
В следующую секунду он принялся торопливо подливать в потухшие лампы керосин из канистры, которую заметил еще прежде. Вновь ярко осветив помещение, он осмотрелся по сторонам в поисках надежного фонаря для дальнейшего обхода подземелья. Хоть его и обуял ужас, желание докопаться до истины, кроющейся за странным безумием Чарлза Уорда, его не покинуло, и ради этого он не остановился бы ни перед чем. Не найдя фонаря, он взял самую маленькую лампу, карманы набил свечами и спичками да еще прихватил с собой галлон керосина — на случай, если все-таки сумеет отыскать потайную лабораторию за ужасным залом с алтарем и колодцами. Чтобы вновь пройти по этим плитам, ему придется собрать в кулак всю свою волю, но сделать это необходимо. К счастью, алтарь и сдвинутая плита были далеко от стены с камерами и черными арками, за которыми крылся новый объект его поисков.
Итак, Уиллет вернулся в большой смрадный зал с колоннами и закрытыми шахтами. Он нарочно отвел лампу подальше от алтаря, чтобы даже краем глаза не увидеть изображенных на нем адских тварей или черной отверстой ямы под сдвинутой плитой. Большая часть черных проемов вели в небольшие комнатки — либо пустые, либо отведенные под склады. В последних Уиллету попадались весьма странные вещи: одна комната, например, была завалена тюками ветхой и пропыленной одежды. Доктор с замиранием сердца отметил, что вся она сшита по моде прошлых веков. В другой комнате он обнаружил всевозможные предметы современного платья, как будто кто-то постепенно собирал гардероб для большого количества людей. Но больше всего Уиллету не понравились огромные медные баки, попадавшиеся ему время от времени, и зловещий налет на них. Они были страшнее даже свинцовых чаш странной формы, по краям и на дне которых запеклась столь отвратительная и зловонная корка, что ее запах можно было учуять сквозь невыносимый подземный смрад. Дойдя примерно до середины стены, опоясывающей круглый зал с колодцами, Уиллет наткнулся на второй коридор, очень похожий на тот, из которого он недавно вышел. В нем тоже было много дверей, и доктор принялся изучать помещения за ними. Осмотрев три небольшие комнаты и не найдя в них ничего примечательного, он попал в большие прямоугольные покои. По многочисленным сундукам и столам, горнам и современным инструментам, книгам, банкам и бутылкам Уиллет понял, что наконец-то нашел лабораторию Чарлза Уорда — и Джозефа Кервена, разумеется.
Доктор Уиллет зажег три лампы, в которых уже был керосин, и принялся с глубочайшим интересом осматривать комнату и ее содержимое, заметив по различным реагентам и химикатам на полках, что главным увлечением Уорда была некая область органической химии. В целом он не узнал почти ничего нового из этого набора научных инструментов и приспособлений, среди которых имелся и весьма жуткого вида секционный стол. На книжных полках нашлось ветхое старопечатное издание Бореллия, и здесь Уиллет с удивлением отметил, что Уорд подчеркнул в тексте ровно те же самые строки, что сто пятьдесят лет назад так взволновали почтенного господина Меррита, когда он попал в библиотеку на потакетской ферме. То старинное издание, конечно, должно было сгинуть вместе со всей остальной оккультной библиотекой во время налета на ферму Кервена. В стене лаборатории было еще три арки, куда доктор Уиллет не преминул заглянуть. Две вели в обыкновенные складские помещения, однако он решил внимательно их осмотреть, заметив груды сваленных друг на друга полуразрушенных гробов и с содроганием прочтя некоторые уцелевшие таблички. В этих комнатах тоже было много одежды и еще несколько новых, накрепко заколоченных ящиков, на которые Уиллет не стал тратить время. Наибольший интерес представляли фрагменты странного оборудования — видимо, то были инструменты самого Джозефа Кервена. Они изрядно пострадали от рук налетчиков, но даже по осколкам можно было определить, что это научный инвентарь георгианской эпохи.
Третий арочный проем вел в довольно обширную комнату, все стены которой были завешаны полками, а в центре стоял массивный стол с двумя лампами. Уиллет зажег эти лампы и в ярком свете принялся изучать содержимое полок. Верхние главным образом пустовали, а остальные были заставлены небольшими свинцовыми сосудами двух видов: одни высокие, без ручек, напоминающие греческие лекифы, а другие с единственной ручкой, формой похожие на пузатые арибалы. Все закрывались железными крышками и были исписаны странными мелкими символами. Вскоре доктор заметил, что сосуды четко классифицированы: лекифы выстроены вдоль одной стены (под деревянной табличкой с латинским словом «Custodes»), а арибалы вдоль противоположной, под надписью «Materia».
На каждом сосуде (кроме нескольких пустых на верхней полке) висел картонный ярлычок с номером — видимо, по этому номеру его можно было найти в каталоге. Уиллет решил непременно отыскать этот каталог, но сейчас его больше интересовала природа коллекции в целом, и потому он наугад открыл несколько лекифов и арибалов, желая получить общее представление об их содержимом. Внутри и тех и других хранилось небольшое количество одинакового вещества — мелкого, почти невесомого порошка различных бледных оттенков. Только цветами и различалось содержимое сосудов, но никакой закономерности в их расположении доктор Уиллет не нашел. Голубовато-серый порошок мог стоять по соседству с бело-розовым, а иногда в арибалах и лекифах, стоявших точно напротив друг друга, оказывалась пыль одного цвета. Самым характерным свойством порошка было то, что он совершенно не приставал к поверхностям, которых касался: доктор высыпал немного пыли на ладонь, а потом стряхнул обратно — рука осталась абсолютно чистой.
Деревянные таблички над полками также привели его в замешательство. И почему эти химикаты отделили от всех остальных, что стоят на полках в лаборатории? «Custodes», «Materia» — в переводе с латыни эти слова означали «стражи» и «материалы» соответственно. И тут доктора Уиллета осенило: ведь он уже встречал слово «стражи» в связи с этой жуткой историей! Да-да, в письме старика Эдвина Хатчинсона доктору Аллену была такая фраза: «Вы мудро поступаете, уменьшая их количество, ибо тогда нет нужды и держать овеществленными стражей, и в случае беды меньше будет найдено». Что бы это значило? Но постойте, стражи упоминались и раньше… Когда Уорд еще охотно делился с доктором своими находками, он рассказал ему про дневник Елеазара Смита, где тот описывал слежку за домом Кервена. В этих страшных хрониках говорилось о загадочных допросах, подслушанных Смитом и Уиденом возле проклятого дома (еще до того, как Кервен полностью перенес свою деятельность под землю): пленников допрашивал сам колдун и некие «стражи». Их-то, согласно Хатчинсону, Аллен больше не держал «овеществленными». А если не овеществленными, то какими? Уж не в виде ли «солей», которые колдун и его приспешники приготовляли из всех останков, какие удавалось раздобыть?
Так вот что хранилось в лекифах! Чудовищные плоды колдовских ритуалов и практик, несчастные твари, которых с помощью черной магии заставляли служить коварному хозяину и истязать тех, кто не желал отвечать на вопросы! Уиллет содрогнулся при мысли о том, что за порошок он держал сейчас в руках, и на секунду его обуяло непреодолимое желание сбежать из этой пещеры, заставленной молчаливыми, но, быть может, бодрствующими часовыми. И тут его посетила другая мысль — о мириадах сосудов с «материалами» на противоположной стене. Если в них покоятся не «стражи», то что? О, Господи! Уж не хранятся ли в этих арибалах останки величайших мыслителей всех веков, похищенные негодяями из склепов и могил, — чтобы в любую минуту явиться на зов безумцев, преследующих неизвестно какие цели? Цели, которые, если верить последнему отчаянному письму Чарлза Уорда, могут повлиять на судьбу «всей человеческой цивилизации, природы, а может, и Солнечной системы, целой Вселенной». И Марин Бикнелл Уиллет держал в ладонях этот прах!
Тут ему в глаза бросилась небольшая дверца в дальнем конце комнаты. Он взял себя в руки и изучил грубо вытесанную табличку над дверью: на ней был изображен символ, который наполнил Уиллета смутным суеверным ужасом. Один его приятель, сновидец и человек, склонный слишком часто размышлять о смерти, однажды нарисовал ему этот символ на бумаге и рассказал, что он значит в темном царстве снов. То был знак Ко́та, который встречает сновидцев на входе в одинокую черную башню, — Уиллету совсем не понравилось то, что он узнал от Рэндольфа Картера о значении и могуществе этого знака. Однако секундой позже он начисто забыл о зловещем символе, поскольку его внимание привлек знакомый едкий запах — скорее химический, нежели животный, шедший явно из-за двери. Именно так пахло от Чарлза Уорда в день, когда его забрали в лечебницу. Значит, вот где его прервали врачи? Он оказался мудрее Джозефа Кервена и не стал сопротивляться. Уиллет, вознамерившись открыть все загадки и тайны этого жуткого подземелья, схватил лампу и храбро переступил порог. Его тут же окатило волной непостижимого ужаса, однако доктор не поддался дурным предчувствиям и суеверным страхам. Здесь не было ни единой живой души, а значит, никто не мог причинить ему вред — он должен во что бы то ни стало развеять удушливое облако безумия, окутавшее его пациента.
За дверью оказалась почти пустая комната средних размеров: в ней помещались стол со стулом и два диковинных устройства с зажимами и скрепами — в следующий миг Уиллет признал в них средневековые орудия пыток. Сбоку от двери стояла полка с жуткими хлыстами и кнутами, а над ними помещались плоские свинцовые чаши наподобие древнегреческих киликов. На столе Уиллет увидел мощную аргандову лампу, блокнот с карандашом и два закупоренных, брошенных в спешке лекифа. Уиллет зажег лампу и внимательно прочел заметки в блокноте, надеясь узнать, чем занимался Уорд, когда его прервали. Однако на страницах блокнота было лишь несколько не связанных друг с другом предложений, написанных каллиграфическим почерком Кервена и не проливающих никакого света на последние события:
«Б. не умер. Вошел в стену и сгинул под землей».
«Видел, как старик В. прочел заклинание «Саваоф» и познал тайное».
«Трижды вызывал Йог-Сотота и на следующий день преуспел».
«Ф. хотел стереть с лица земли всех, кто умеет взывать к Потусторонним».
В мощном свете аргандовой лампы доктор Уиллет увидел, что в стену напротив двери между двумя пыточными орудиями вбиты крючки, на которых висят бесформенные одеяния неприятного желтоватого цвета. Но куда интересней оказались две пустые каменные стены, сплошь покрытые грубо высеченными символами и заклинаниями. На влажном каменном полу тоже были следы резьбы, и, присмотревшись, Уиллет различил в центре огромную пентаграмму, а между нею и углами комнаты — четыре круга диаметром около трех с половиной футов. В одном из них, рядом с небрежно скинутым на пол желтоватым одеянием, стоял неглубокий килик — такой же, как на полках у входа, — а за пределами круга доктор увидел арибал с цифрой 118 на ярлычке. Он был открыт и оказался пустым, а вот килик — нет. В плоской чаше Уиллет с содроганием различил горстку сухого бледно-зеленого порошка, который не разлетелся по комнате лишь благодаря отсутствию сквозняков, — его явно насыпали сюда из кувшина. Доктор едва не упал от ужаса, когда малые подробности обстановки постепенно сложились перед его взором в цельную картину: кнуты, орудия пыток, пыль или «соль» из кувшина с «Материалами», два лекифа со «Стражами», одеяния, знаки на стенах, заметки в блокноте, подсказки из давних переписок и легенд, тысячи догадок и подозрений, мучивших друзей и родителей юного Чарлза Уорда — все это захлестнуло доктора мощной волной безотчетного ужаса.
И все же усилием воли он взял себя в руки и начал изучать заклинания, высеченные на стене. Потемневшие и покрытые слоем грязи буквы явно вырезали здесь еще в позапрошлом веке, а тексты могли показаться смутно знакомыми тем, кто внимательно читал материалы по делу Кервена или глубоко изучал историю магии. Одно заклинание доктор узнал сразу: то были слова, которые миссис Уорд подслушала в роковую Страстную пятницу и в которых ученые признали обращение к неведомым потусторонним богам. Записано оно было несколько иначе, нежели смогла по памяти записать миссис Уорд, но и не так, как гласили запретные магические писания Элифаса Леви, однако доктор Уиллет узнал слова «Саваоф», «Метратон», «Альмонсин», «Зариатнатмик», и его — человека, столько раз познавшего за последние несколько часов космический ужас, — насквозь пробил озноб.
Этот текст был высечен на левой от входа стене. На правой, столь же густо покрытой символами, Уиллет с удивлением и испугом встретил знакомое двойное заклинание, которое часто встречалось ему в тетрадях и рукописях Уорда. По сути это был тот же самый текст со знаками «Голова дракона» и «Хвост дракона» над двумя столбцами, однако написание существенно отличалось: Кервен словно бы по-разному записывал одни и те же звуки, создавая все более совершенное и могущественное заклинание. Доктор попытался сравнить высеченный на стене вариант и тот, что по-прежнему крутился у него в голове, — и понял, что это непростая задача. Заученные Уиллетом слова звучали как «Йа’нг’нгах, Йог-Сотот», а строки на стене начинались словами «Ай, энгэнга, Йогге-Сототта», что на его слух казалось серьезным нарушением стихотворного ритма.
Поскольку текст заклинания прочно засел у доктора в голове, это различие не давало ему покоя, и он принялся вслух проговаривать первое заклинание, стараясь соотнести звуки с высеченными в камне буквами. Странно и угрожающе звучали эти древние богохульные строки в темноте подземелья; тягучий монотонный напев будил воспоминания о древних колдовских наговорах — и о жутком нечеловеческом вое, что ритмично поднимался и опадал в темных смрадных сводах.
ЙА’НГ’НГАХ,
ЙОГ-СОТОТ
Х’ЕЕ-Л’ГЕБ
Ф’АЙ ТРОДОГ
УААХ!
Но что за холодный ветер поднялся в углу, как только отзвучала последняя строчка? Огонь в лампах тревожно задрожал, и в комнате сгустился такой мрак, что буквы на стенах стали почти неразличимыми. Откуда-то появился дым и знакомый резкий запах — только куда сильнее и ядовитее прежнего. Уиллет резко обернулся: из килика на полу, в котором лежал таинственный летучий порошок, валили клубы на удивление плотного черно-зеленого дыма или пара. Этот порошок… о, Господи! Его принесли сюда с полки «Материалы», что же с ним теперь происходит… и почему?! Уиллет прочел первую часть заклинания, «Голову дракона», восходящий узел… О, силы небесные, неужели…
Доктор отпрянул к стене, и в его голове закрутился бешеный вихрь воспоминаний обо всем, что он когда-либо слышал или видел по делу Джозефа Кервена и Чарлза Декстера Уорда. «Многажды я заклинал вас: не взывайте к тому, что не сможете потом вернуть в небытие… Слова для упокоения надобно во все времена держать наготове и без промедлений использовать их, стоит возникнуть хоть тени сомнения относительно того, кто явился на ваш зов… Я провел с ним три беседы…» Боже всемилостивый, что за тень проступает в тающем дыме?!
Глава 23
Марин Бикнелл Уиллет даже не надеялся, что его истории поверит кто-нибудь кроме нескольких ближайших друзей, а посему поведал о случившемся только им. Лишь несколько людей за пределами этого узкого круга позднее услышали историю в пересказе: одни в ответ смеялись, другие с грустью замечали, что доктор стареет. Ему посоветовали взять долгий отпуск и больше не брать пациентов с душевными болезнями. Но мистер Уорд знает, что почтенный доктор говорил чистую правду. Разве не он собственными глазами видел омерзительный ход в подвале бунгало? Разве не отправил его Уиллет домой в одиннадцать часов того недоброго утра — приходить в себя после внезапно одолевшей немочи? Разве не названивал Уорд доктору весь вечер и все следующее утро, а потом лично отправился в бунгало, где и нашел друга в одной из спален — без сознания, но целого и невредимого? Уиллет тяжело дышал, а когда мистер Уорд влил ему в рот несколько капель бренди, медленно открыл глаза, содрогнулся и заорал: «Борода!.. О, эти глаза… Господи, кто ты?!» Весьма странный возглас, если учесть, что он адресовал его гладко выбритому голубоглазому джентльмену, которого знал с юных лет.
В ярком дневном свете бунгало выглядело точно так же, как минувшим утром. На одежде Уиллета не было особых следов беспорядка, если не считать нескольких пятен и протертых на коленях штанин. Лишь едва уловимый едкий запашок напомнил мистеру Уорду о том дне, когда его сына забрали в лечебницу. Фонарика при докторе не оказалось, а вот саквояж был при нем — совершенно пустой, как и до спуска в подземелье. Не соизволив даже объясниться, Уиллет огромным усилием воли заставил себя подняться, прошел, шатаясь, в подвал и ощупал заветную деревянную панель под корытами. Она не сдвинулась с места. Тогда доктор шагнул к сумке с инструментами, взял оттуда зубило и принялся по одной выламывать упрямые доски. Под ними оказался тот же бетон, но ни следа люка или зияющего черного отверстия, из-за которого вчера так поплохело мистеру Уорду; лишь гладкий твердый бетон — ни омерзительного колодца, ведущего в мир подземных ужасов, ни тайной библиотеки, ни бумаг Кервена, ни страшных ям, полных воя и смрада, ни полок с сосудами, ни высеченных в камне заклинаний… Ничего. Доктор Уиллет побледнел и схватил своего друга за плечо.
— Вчера… — тихо выдавил он. — Вы ведь тоже это видели? И запах… запах почувствовали?
Мистер Уорд, завороженный и напуганный, наконец нашел в себе силы кивнуть, и доктор Уиллет облегченно-потрясенно охнул.
— Тогда я все вам расскажу, — решительно сказал он.
Они нашли наверху самую солнечную комнату, сели в кресла, и доктор шепотом поведал мистеру Уорду свою страшную историю. Он не знал, с чем сравнить черную тень, возникшую из зеленоватого дыма, и был слишком изможден, чтобы спрашивать себя о ее природе. Оба славных джентльмена беспомощно и растерянно закачали головами, а потом мистер Уорд наконец выдавил:
— Думаете, копать не имеет смысла?
Доктор промолчал, и едва ли другой человек на его месте смог бы что-то ответить, увидев явные следы присутствия в нашем мире некой страшной и непостижимой силы. Тогда снова заговорил мистер Уорд:
— Но куда же оно пропало? Сначала принесло вас сюда, заделало дыру в подвале, а потом?..
И вновь Уиллет не нашелся с ответом.
Однако этим дело не закончилось. Сунув руку в карман, чтобы достать носовой платок, доктор Уиллет нащупал листок бумаги, которого раньше не было, и тут же — свечу и спички, взятые в подземной библиотеке. Листок был самый обыкновенный, вырванный из дешевого блокнота, а текст написан обычным графитовым карандашом — явно тем самым, что лежал рядом с блокнотом в подземелье. На небрежно сложенном листке не было никаких примет, относящих его к нашему миру или подземному, — разве что знакомый и едва уловимый едкий запах. Зато сам текст поражал воображение: слова были начертаны затейливой средневековой вязью, не на шутку озадачившей двух исследователей — впрочем, похожие значки и символы они явно где-то видели. Загадка письма придала им решимости: они уверенно прошли к машине Уорда и попросили водителя отвезти их в какой-нибудь тихий ресторан, а затем — в библиотеку Джона Хэя на холме.
В библиотеке они без труда нашли нужные пособия по палеографии и просидели над ними до наступления темноты, когда под потолком загорелась величественная люстра. Наконец друзья обнаружили искомое: буквы действительно оказались не вымышленными, то был весьма распространенный в стародавние времена почерк, саксонский минискул восьмого или девятого века нашей эры — той дикой поры, когда под свежим лаком христианства колыхались древние языческие верования и ритуалы, а бледная английская луна порой становилась свидетелем странных дел, что вершились в римских развалинах Каерлеона, Хексема и у полуразрушенных башен Адрианова вала. Текст был написан на латинском языке того варварского века: «Corvinus necandus est. Cadaver aq(ua) forti dissolvendum, nec aliq(ui)d retinendum. Tace ut potes», что в грубом переводе звучало так: «Кервена надо убить. Тело без остатка растворить в азотной кислоте. Никому об этом не рассказывайте».
Уиллет и Уорд в немом потрясении взирали на листок бумаги. Они столкнулись с чем-то совершенно непостижимым, и запаса известных им чувств и эмоций не хватало, чтобы должным образом отреагировать на находку. У доктора вдобавок способность воспринимать новые поразительные сведения изрядно притупилась, и оба друга так и просидели в библиотеке до ее закрытия, не в силах что-либо предпринять. Потом они молча отправились в особняк Уорда на Проспект-стрит и до глубокой ночи вели бессмысленные беседы. Утром доктор Уиллет поспал, но домой так и не поехал. В воскресенье днем он по-прежнему был у Уорда, когда от сыщиков, нанятых искать доктора Аллена, поступил первый телефонный звонок.
Мистер Уорд, нервно мерявший шагами гостиную, лично поднял трубку: узнав, что сыщики почти готовы предоставить отчет о проделанной работе, он велел им приезжать на следующее утро. Они с Уиллетом обрадовались, что расследование хоть в чем-то продвинулось вперед: каково бы ни было происхождение загадочной записки, они уже поняли, что под «Кервеном» автор имел в виду бородача в очках. Чарлз боялся этого человека и в своем последнем письме просил растворить доктора Аллена в кислоте. Вдобавок таинственный доктор получал из Европы странные письма, адресованные «Кервену», — то есть он считал себя по меньшей мере воплощением злобного некроманта. А теперь из свежего и неизвестного источника пришло новое распоряжение: «Кервена» убить и без остатка растворить в азотной кислоте. Уж слишком очевидна была связь, да к тому же Аллен по совету Хатчинсона собирался убить юного Уорда. Конечно, письмо с этим советом так и не нашло адресата, но из текста было ясно, что Аллен уже строит козни относительно «добродетельного» юноши. Не подлежало сомнению, что доктора необходимо арестовать, и — если крайние меры принять невозможно — хотя бы заточить его в тюрьму, откуда он не сможет навредить Чарлзу.
В тот день, надеясь вопреки всем обстоятельствам получить хоть крупицу сведений от того единственного человека, который мог их предоставить, отец и врач отправились навестить юного Чарлза в лечебницу. Уиллет без обиняков рассказал ему о случившемся, обращая внимание, как бледнеет юноша при упоминании каждого нового открытия. Врач старался говорить как можно убедительней и не жалел своего актерского дарования, надеясь, что Чарлз хотя бы поморщится от его рассказа о закрытых колодцах и неведомых чудовищах. Но тот и бровью не повел. Уиллет потрясенно умолк, а потом в его голосе зазвучал гнев: да разве можно обрекать несчастных тварей на голодную смерть! Какая бесчеловечность, какая жестокость! Однако Чарлз лишь язвительно усмехнулся: сообразив, что отрицать существование подземелья нет смысла, он открыл в происходящем что-то смешное для себя и хрипло расхохотался. В следующий миг он громко зашептал страшные слова, звучавшие еще страшней из-за надлома в его голосе:
— Фу ты черт, они и впрямь жрать горазды, вот только еда им не нужна! Говорите, месяц без пищи? Ха, сэр, да вы скромно взяли! Знаете, что приключилось со святошей Уипплом? Который собирался убить под землей все живое? Черти его раздери, этот болван чуть не оглох от Потустороннего гласа, потому и не услыхал воя из колодцев! Он так и не узнал об их существовании! Эти проклятые твари воют там с тех пор, как сто пятьдесят семь лет назад жители Провиденса прикончили Кервена!
Больше Уиллет ничего от юноши не добился. В ужасе он продолжал свой рассказ, отчаянно надеясь, что все-таки сумеет нарушить непоколебимое спокойствие безумного собеседника. Заглядывая в его лицо, доктор не мог не дивиться переменам, что произошли с Чарлзом за последние месяцы. В самом деле, юноша навлек на себя космический ужас. Наконец, когда Уиллет упомянул комнату с высеченными на стене заклинаниями и зеленоватый порошок, Чарлз немного оживился. На его лице появилось недоуменное выражение, а когда доктор прочел ему текст записки из блокнота, юноша даже снизошел до короткого ответа: запись сделана давным-давно и ничего не значит для тех, кто хорошо знаком с историей магии. Затем он добавил: «Если б вы знали верные слова и возвратили к жизни то, что лежало на дне чаши, вы бы здесь не сидели. То был номер 118, и вас, полагаю, пробила бы дрожь, узнай вы, кто стоит под этим номером в моем каталоге. Сам я прежде его не оживлял, однако собирался — в тот самый день, когда меня забрали в лечебницу».
Тут Уиллет рассказал ему о прочтенном заклинании и черно-зеленом дыме, повалившем из килика. При этих словах лицо Чарлза исказила гримаса неподдельного ужаса. «Он явился, а вы по-прежнему живы?!» — эти слова Чарлз прохрипел страшным голосом, который будто бы рвался из сдерживающих его пут, чтобы погрузиться в гулкие бездны ужаса. Уиллет обрадовался и, решив, что правильно все понял, присовокупил к своему ответу предостережение из письма Орна: «Так то был номер 118, говорите? Не забывайте, что девять надгробий из десяти перепутаны! Ни в чем нельзя быть уверенным, покуда лично не проведете допрос!» И тут, без всякого предупреждения, Уиллет вытащил из кармана карандашную записку и помахал ею перед глазами Чарлза. Более красноречивой реакции нельзя было и ждать: Чарлз Уорд немедленно лишился чувств.
Беседа эта, разумеется, проходила втайне от психиатров: они могли обвинить Уиллета и Уорда-старшего в том, что те поддерживают безумца в его заблуждениях. Никого не позвав на помощь, Уиллет и Уорд подхватили юношу и положили на диван. Очнувшись, пациент принялся бормотать что-то о словах, которые надо немедленно сообщить Орну и Хатчинсону. Когда он полностью пришел в себя, доктор Уиллет объяснил ему, что по меньшей мере один из этих людей — его злейший враг и желает ему смерти, ведь именно он посоветовал доктору Аллену его убить. Это утверждение не произвело на пациента никакого эффекта: он и без того выглядел перепуганным насмерть, загнанным в ловушку зверем. От дальнейшей беседы Чарлз наотрез отказался, и господа вскоре удалились — не забыв напоследок предостеречь его от любого общения с доктором Алленом. Тот в ответ злобно захихикал и сказал, что «сей господин никому теперь не сможет навредить, даже при великом своем желании». О том, что Чарлз станет вести переписку с двумя другими негодяями из Европы, можно было не беспокоиться: работники лечебницы читали все приходящие пациентам письма и ничего подозрительного не пропустили бы.
Однако история с Орном и Хатчинсоном — если эти ссыльные колдуны вообще существовали — все же получила весьма любопытное продолжение. Руководствуясь неким смутным предчувствием (вокруг творилось столько ужасов, что это было неудивительно), Уиллет заказал международному бюро газетных вырезок найти в пражской и трансильванской прессе все упоминания о недавних громких преступлениях и происшествиях; примерно через полгода среди многочисленных статей, которые Уиллет получал и исправно переводил, обнаружилось два весьма важных для следствия материала. В одной заметке говорилось о полном разрушении дома в старейшем квартале Праги и бесследном исчезновении старика по имени Джозеф Надек, который в этом доме проживал. Вторая заметка рассказывала о мощном взрыве, прогремевшем в трансильванских горах к востоку от Ракуси, в результате которого погибли все обитатели зловещего замка Ференци, о хозяине которого так плохо отзывались и крестьяне, и военные, что в конце концов его вызвали на допрос в Бухарест (куда бы он вскоре отправился, не положи взрыв конец его жизни и чрезвычайно долгой колдовской практике). Уиллет убежден, что человек, чья рука начертала ту предостерегающую записку, был способен и на куда более решительные меры. О Кервене предстояло позаботиться Уиллету, а вот о Хатчинсоне и Орне автор записки, судя по всему, позаботился сам. О том, какая судьба их постигла, доктор старался не думать.
Глава 24
На следующее утро доктор Уиллет поспешил в особняк Уордов, чтобы присутствовать при разговоре с сыщиками. Доктора Аллена — или Кервена, если верить негласной теории о реинкарнации, — необходимо было устранить любой ценой, и об этом своем намерении он поведал мистеру Уорду, пока они дожидались приезда сыщиков в гостиной на первом этаже — на второй и третий этажи дома теперь никто не поднимался из-за тяжелого тошнотворного духа, наполнившего комнаты. Старые слуги считали, что это проклятие сгинувшего кервеновского портрета.
В девять часов утра приехали сыщики и немедленно доложили Уорду и Уиллету все, что удалось выяснить. Увы, отыскать мулата Брава Тони Гомеса они не смогли, о местонахождении доктора Аллена также ничего не было известно. Зато они сумели выудить из потакетских жителей немало сведений и сплетен о молчаливом незнакомце. Он произвел на них весьма странное впечатление, а густая светлая борода и вовсе казалась им либо крашеной, либо накладной — подозрение подтвердилось, когда сыщики нашли в бунгало эту самую бороду и очки с затемненными стеклами. Его голос отличался жутким незабываемым тембром и глубиной (что подтвердил и мистер Уорд, разговаривавший с ним однажды по телефону), а глаза, хоть и скрытые темными стеклами, будто излучали угрозу. Один лавочник, которому Аллен оставлял заказ, говорил потом, что почерк у него очень странный, острый и ломаный; это подтвердилось карандашными записками, найденными в бунгало, смысл которых так и остался неясен. Поскольку доктор Аллен появился незадолго до первых вампирских нападений прошлым летом, большинство жителей считали, что настоящий вампир — именно он, а вовсе не Уорд-младший. Также сыщикам удалось расспросить городских чиновников, которые пришли в бунгало после той неприятной истории с ограблением грузовика. У них жуткого впечатления о докторе Аллене не сложилось, однако и они подумали, что хозяином в доме был он, а не Чарлз Уорд. Из-за тусклого освещения им не удалось как следует его рассмотреть, но они узнали бы его, если б увидели снова. Борода действительно выглядела странно, а возле правой брови, кажется, был небольшой шрамик. Что касается обыска, проведенного в комнате, сыщики не обнаружили ничего примечательного, кроме бороды, очков да нескольких карандашных записей — сделанных тем же острым ломаным почерком, что и старинные рукописи Кервена и многочисленные записи юного Уорда, обнаруженные в сгинувших катакомбах.
По мере того как сыщики докладывали о проделанной работе, доктора Уиллета и мистера Уорда отчего-то все сильнее охватывал глубокий, затаенный, космический ужас: оба вздрогнули, когда одна и та же безумная мысль одновременно пришла им в головы. Накладная борода и темные очки, одинаковый кервеновский почерк, один и тот же шрамик, как на портрете, чудовищно изменившийся юноша с таким же шрамом, низкий звучный голос по телефону, — разве не пришло все это на ум мистеру Уорду-старшему, когда сын впервые заговорил с ним жалким осипшим голосом? Кто-нибудь хоть раз видел Чарлза и Аллена вместе? Да, чиновники однажды видели, но потом?.. Разве не после загадочного отъезда Аллена Чарлз потерял всякий страх и окончательно перебрался в бунгало? Кервен — Аллен — Уорд: в какой богопротивной и ужасной связи слились два века и три личности? Проклятое сходство Кервена и Чарлза — да еще всем казалось, что портрет не сводит пристального взгляда с юноши, когда тот ходит по комнате… Почему и Аллен, и Чарлз старательно копировали почерк Джозефа Кервена, даже когда никто за ними на наблюдал? И чудовищные занятия этих людей: страшное подземелье, где доктор за ночь состарился на десять лет; чудовища, умирающие от голода в смрадных шахтах; заклинание, принесшее непостижимые результаты; таинственное послание древним минискулом в кармане Уиллета; бумаги, письма и постоянные упоминания надгробий и «солей» — куда же все это ведет? И вдруг мистер Уорд, стараясь не думать, зачем он это делает, протянул сыщикам фотокарточку — ее следовало показать потакетским торговцам. На фотографии был его злополучный сын, к лицу которого он пририсовал черные очки и заостренную бороду — точно такую, как нашли в комнате Аллена.
Два часа они с доктором Уиллетом ждали возвращения сыщиков в гнетущей атмосфере особняка, где медленно сгущался страх и зловонные испарения: они буквально спинами чувствовали, как с деревянной панели в библиотеке на них смотрит с исчезнувшего портрета Джозеф Кервен. Наконец сыщики вернулись. Да. Человек на фотографии с пририсованной бородой и очками весьма похож на доктора Аллена.
Мистер Уорд побледнел, а Уиллет отер носовым платком внезапно выступивший на лбу пот. Аллен — Уорд — Кервен… Какое чудовище вызвал юноша из бездны и что оно с ним сотворило? Что все-таки произошло? Кто этот Аллен, который хотел убить «добродетельного» Чарлза, и почему несчастный ученый в постскриптуме к последнему письму настойчиво призывал сжечь его тело в кислоте? Почему того же требовал автор карандашной записки, о происхождении которой никто не отваживался теперь и думать? В день, когда Уиллету пришло письмо, юноша вел себя очень странно: все утро тревожился и чего-то боялся, потом исчез и через какое-то время нагло прошествовал в дом мимо охранников. Но постойте… ведь потом, войдя в свой кабинет, он закричал страшным голосом. Что он там нашел? Или, скорее, что нашло его? Симулякр, бесцеремонно вошедший в дом, откуда прежде незаметно исчез, — быть может, то был ужасный фантом, вселившийся в тело юноши, который на самом деле никуда и не выходил? Разве дворецкий не вспоминал, что слышал наверху какие-то странные звуки?
Уиллет вызвал дворецкого и тихим голосом задал ему несколько вопросов. В тот день, рассказал старик, наверху творилась какая-то чертовщина: сначала кто-то вскрикнул, потом часто задышал и захрипел, как от удушья, а потом послышался грохот — или топот, или скрип, или все сразу — поди разбери. Мистер Уорд-младший спустился сам не свой и молча вышел из дома. Рассказывая все это, дворецкий то и дело вздрагивал и принюхивался к тяжелому духу, который иногда вырывался из открытых окон наверху. Весь особняк был проникнут ужасом и отчаянием; одних лишь деловитых сыщиков не посещали дурные мысли и предчувствия, но даже они ощущали, что здесь творится неладное. Доктор Уиллет лихорадочно осмысливал новые сведения и время от времени начинал бормотать что-то себе под нос, вновь и вновь прокручивая в голове новую, поистине ужасную цепь событий.
Наконец мистер Уорд дал понять, что разговор окончен, и все кроме него и доктора покинули комнату. Был только полдень, однако в особняке, словно бы населенном призраками, уже сгустились ночные тени. Доктор начал серьезный разговор с хозяином дома: он убеждал его доверить основную часть дальнейшего расследования ему, Уиллету, поскольку в будущем они могут столкнуться с явлениями и фактами столь страшными, что их проще вынести другу семьи, нежели родителю. Доктор также попросил предоставить ему полную свободу действий: некоторое время он должен пробыть совершенно один в библиотеке наверху, где вокруг проклятой панели сгустилась такая жуткая аура, какой не было и год назад, когда портрет Джозефа Кервена еще не осыпался со стены и мерил присутствующих коварным вкрадчивым взглядом.
Мистеру Уорду, у которого голова шла кругом от урагана немыслимых подозрений и безумных догадок, оставалось только повиноваться. Полчаса спустя доктор Уиллет заперся в проклятой комнате со старинной деревянной панелью из дома в Олни-корте. Хозяин дома остался снаружи и тревожно прислушивался к шагам и шорохам внутри. Через некоторое время раздался скрип, словно отворилась тугая дверца стенного шкафа, потом кто-то вскрикнул, захрипел и поспешно захлопнул открытую дверцу. Тут же в замке загремел ключ, и в коридор вырвался напуганный и бледный Уиллет. Он потребовал принести дров для настоящего камина в южной стене библиотеки: в печь все не поместится, а от электрического камина и вовсе не будет толку. Заинтригованный мистер Уорд не смел задавать вопросов и только распорядился выполнить требования доктора. Через несколько минут слуга принес несколько толстых поленьев, с содроганием вошел в заколдованную библиотеку и положил дрова на подставку. Уиллет тем временем поднялся в пустующую лабораторию на чердаке и принес остатки оборудования, которое Чарлз забыл перевезти в бунгало. Инструменты лежали в закрытой корзине, и мистер Уорд так их и не увидел.
Потом доктор вновь заперся в библиотеке, и по клубам дыма из трубы стало ясно, что он развел огонь. Долго слышался шорох газет, затем вновь раздался странный скрип, а дальше — грохот, который никому из подслушивающих не понравился. За двумя сдавленными криками последовал невыразимо жуткий шелестящий свист, из трубы повалил очень темный и едкий дым, и все пожалели, что нет ветра, который бы унес подальше эти ядовитые удушливые пары. У мистера Уорда закружилась голова, и все слуги сбились в одну кучу, со страхом глядя на тяжелый черный дым, вываливающийся из трубы на крышу особняка. Прошла, казалось, целая вечность, прежде чем дым стал светлеть и таять, а за наглухо запертой дверью начали отскребать и подметать пол, расставлять по местам вещи. Наконец, хлопнув дверцей стенного шкафа, на пороге появился доктор Уиллет — печальный, изможденный и бледный, с той же закрытой корзиной в руках. Дверь он оставил открытой, и в проклятую комнату хлынул поток свежего воздуха, мешавшийся с новым запахом обеззараживающих средств. Старинная резная панель никуда не делась, но зловещая аура вокруг нее исчезла: теперь она величественно возвышалась над искусственным камином, точно никогда не носила на себе портрета Джозефа Кервена. Близилась ночь, однако ее тени уже не таили в себе страха — только легкую грусть. Доктор Уиллет никому и никогда не рассказывал о том, что случилось в библиотеке. На вопросительный взгляд мистера Уорда он ответил так: «Я не могу ответить на ваши вопросы, скажу лишь вот что: колдовство бывает разное. Я провел ритуал очищения, и отныне обитатели вашего дома будут спать спокойно».
Глава 25
«Очищение» это стоило Уиллету не меньше нервов и здоровья, чем ужасные странствия по сгинувшему подземелью. Сразу по возвращении домой доктор слег и не вставал с постели трое суток (впрочем, слуги потом шептали, будто в среду ночью он все-таки выходил из спальни, но очень тихо, чтобы никого не разбудить). К счастью, воображение у слуг не слишком богатое, иначе эта заметка из «Вечернего бюллетеня» могла бы стать причиной долгих пересудов:
Гробокопатели опять взялись за свое
Прошло десять месяцев с тех пор, как осквернили участок Уиденов на Северном кладбище, и минувшей ночью сторож Роберт Харт вновь заметил таинственного гробокопателя. Выглянув из окна около двух ночи, Харт увидел в северо-западной части кладбища бледное свечение карманного фонарика или керосиновой лампы. Открыв дверь, в свете ближайшего уличного фонаря он ясно различил силуэт мужчины с садовой лопатой. Сторож немедленно бросился в погоню, однако преступник успел выскочить за ворота и скрыться в темноте.
Как и первые гробокопатели, вчерашний нарушитель не успел нанести какого-либо урона. На участке Уордов полиция обнаружила следы поверхностных раскопок, но ни одна могила не была потревожена.
Харт не смог разглядеть преступника и заметил только, что это был невысокий человек с окладистой бородой. Сторож склоняется к мысли, что все три преступления связаны между собой. Полиция, однако, убеждена в обратном, поскольку во втором случае гробокопатели раскопали древнюю могилу и разрушили надгробие.
Первый подобный случай произошел около года назад в марте: тогда преступники явно пытались что-то закопать. Следствие считает, что это были контрабандисты. Третий случай имеет похожий характер. Полиция прилагает все усилия, чтобы изловить банду злоумышленников, ответственных за эти вопиющие преступления.
Весь четверг доктор Уиллет отдыхал: он словно бы восстанавливал силы после изнурительных трудов или, наоборот, готовился к чему-то. Вечером он написал письмо мистеру Уорду, которое пришло на следующее утро и надолго озадачило адресата. Мистер Уорд еще не вернулся к делам после того страшного понедельника и ритуала «очищения», однако письмо, хоть и могущее вселить отчаяние, странным образом его успокоило.
«Барнс-стрит, 10.
Провиденс, Род-Айленд.
12 апреля 1928 года.
Дорогой Теодор!
Прежде чем принимать дальнейшие меры, я чувствую себя обязанным кое-что Вам сказать. Мой следующий шаг раз и навсегда положит конец начатому нами расследованию (ибо, чует мое сердце, ни одной лопате никогда не добраться до тех чудовищных катакомб), но, боюсь, Вам не будет покоя, если я не заверю Вас со всей ответственностью, что принятые мною меры в самом деле окончательны.
Мы знакомы с раннего детства, и Вы должны поверить мне на слово: есть вещи, о которых лучше никому не знать. Я рекомендую Вам прекратить расследование по делу Чарлза и заклинаю не сообщать больше ничего его матери. Когда я приду к Вам завтра, Чарлз уже сбежит из лечебницы. Это все, что Вам и остальным людям нужно знать. Он сошел с ума и сбежал. Жене потом как можно мягче расскажете о его безумии, когда перестанете посылать записки от его имени. Советую Вам тоже поехать в Атлантик-сити и хорошенько отдохнуть. Господь свидетель, после такого потрясения Вам необходим отдых — как, впрочем, и мне. Сам я ближайшее время поеду на юг, чтобы успокоиться и собраться с силами.
Прошу Вас не задавать никаких вопросов, когда я приду. Возможно, что-то пойдет неладно, но в таком случае я обязательно Вас предупрежу. Заминок возникнуть не должно, и Вам ни о чем не нужно волноваться, Чарлз будет в полной безопасности. Он и сейчас в безопасности — ему гораздо спокойней, чем Вы можете себе представить. Не бойтесь и доктора Аллена, не ломайте себе голову раздумьями о том, кто он такой. Аллен остался в прошлом, как и портрет Джозефа Кервена. Когда я позвоню завтра в Вашу дверь, можете быть спокойны: этого человека больше не существует. Пусть Вас не тревожат мысли и об авторе той карандашной записки минискулом, он никогда не побеспокоит ни Вас, ни Ваших близких.
Однако Вы должны собраться с духом и приготовиться к удару (и приготовить к нему жену). Скажу Вам откровенно: побег Чарлза из лечебницы не означает, что однажды он снова будет с Вами. Примерно через год, если пожелаете, можете рассказать друзьям о его кончине — как это произошло, придумайте сами. Установите надгробие на Северном кладбище, в десяти футах к западу от могилы Вашего отца — именно там упокоился Ваш сын. Не бойтесь, что под могильной плитой будет лежать прах какого-то чудища или оборотня. Нет, это прах Вашего родного сына, плоти от плоти вашей — того Чарлза Декстера Уорда, которого Вы нянчили и воспитывали, настоящего Чарлза с родимым пятном на ноге, без черного клейма на груди и ямочки на лбу. Чарлза, который никому не сделал зла и жестоко поплатился за свою «добродетельность».
Ну, вот и все. Чарлз сбежит, а через год Вы можете установить надгробие на его могиле. Не спрашивайте меня ни о чем завтра и верьте: честь Вашей почтенной семьи осталась незапятнанной.
Желаю смирения и твердости духа,
с глубочайшим уважением,
Марин Б. Уиллет».
Итак, на следующее утро, в пятницу, 13 апреля 1928 года, Марин Бикнелл Уиллет вошел в палату Чарлза Декстера Уорда в частной лечебнице доктора Уэйта на острове Конаникут. Юноша не пытался уйти от встречи с доктором, однако пребывал в мрачном расположении духа и не желал вести с посетителем никаких разговоров. После того как доктор спустился в тайное подземелье и сделал там чудовищные открытия, между ним и пациентом установились весьма напряженные отношения, поэтому теперь, обменявшись формальными приветствиями, оба погрузились в неловкую тишину. Напряжение усугубилось, когда Уорд, по-видимому, прочел на застывшем лице доктора страшную цель, с каковой тот явился в лечебницу. Пациент пришел в ужас, когда понял, что перед ним уже не доброжелательный и заботливый семейный врач, а беспощадный и неустрашимый мститель.
Уорд побледнел и будто лишился дара речи. Тогда первым заговорил доктор:
— Нам открылись новые обстоятельства, и я должен предупредить вас, что час расплаты не за горами.
— Копнули поглубже и вновь наткнулись на бедненьких голодающих питомцев? — ядовито осведомился Чарлз, решив до последнего морочить голову врачу своей бравадой.
— Отнюдь, — медленно ответил Уиллет. — На сей раз даже копать не пришлось. Мы наняли сыщиков, чтобы найти доктора Аллена, и те обнаружили в бунгало его бороду и очки.
— Великолепно! — крикнул встревоженный юноша и попытался уязвить собеседника побольней: — Держу пари, вам эти очки и борода пошли бы куда больше, чем нынешние.
— Да нет, они к лицу скорее вам, — последовал спокойный и пытливый ответ. — Оно и неудивительно, ведь вы были их настоящим хозяином.
На этих словах солнце будто бы зашло за тучу, хотя в комнате было по-прежнему светло. Тогда Уорд задал вопрос:
— И что же, за это я должен непременно поплатиться? Разве желанье иметь два облика наказуемо?
— Нет, — мрачно ответил Уиллет, — снова мимо. Меня не касается, сколько обличий должен иметь человек, если он вообще имеет право на жизнь и не занял место того, кто вернул его из небытия.
Уорд содрогнулся.
— Не томите, сэр, что вы нашли и зачем сюда явились?
Доктор немного выждал время, словно подбирая самые верные и сокрушительные слова.
— Я кое-что обнаружил в стенном шкафу за старинной деревянной панелью, на которой раньше был написан портрет вашего предка. Находку я сжег, а прах закопал на том месте, где и должен упокоиться Чарлз Декстер Уорд.
Безумец охнул и вскочил с кресла.
— Проклятье! Кому еще вы сказали?.. Никто вам не поверит, ведь я прожил вместе с ним два месяца! Что вы задумали?!
Несмотря на скромный рост, Уиллет выглядел невозмутимо и величественно, точно судья. Он жестом велел пациенту успокоиться и сесть.
— Я никому ничего не сказал. Дело слишком необычное: ваше безумие родом из другого века, а с потусторонними ужасами, которые вы вызвали из космоса, не справились бы ни полиция, ни адвокаты, ни психиатры. Слава Богу, во мне еще осталась искорка воображения, и я сумел разгадать, что произошло на самом деле. Вам не обмануть меня, Джозеф Кервен, ибо я знаю, что ваша проклятая магия существует на самом деле!
Мне известно, как из глубины веков вы ткали колдовские чары, чтобы в один прекрасный день опутать ими своего несчастного двойника и потомка. Мне известно, как вы заманили его в прошлое и заставили поднять вас из могилы. Мне известно, как он прятал вас в лаборатории, пока вы знакомились с нашим миром, ночами пили людскую кровь, а потом стали выходить на улицу в очках и бороде, чтобы никто не увидел вашего с Чарлзом поразительного сходства. Мне известно, что вы вознамерились сделать, когда он запретил вам раскапывать могилы, и мне известно, как вы претворили в жизнь свой зловещий план.
Вы сняли бороду и очки, чтобы обмануть нанятых отцом Чарлза стражей. Они думали, что в дом вошел Чарлз — а потом вышел, когда вы его задушили и спрятали в шкафу. Только вот о различиях в образе мыслей и характере вы не подумали. Вы болван, Джозеф Кервен, если действительно решили, что одного внешнего сходства будет достаточно! Почему вы не подумали о голосе, манере речи, почерке? Ваш план в конечном счете рухнул. Вы лучше меня знаете, кто написал ту карандашную записку, но имейте в виду: она была написана не зря. Ваше зло необходимо раз и навсегда искоренить из этого мира, и автор тех строк уже позаботился о Хатчинсоне и Орне. Один из них писал вам: «Не взывайте к тому, кого не сможете вернуть в небытие». Однажды вас уничтожили, и теперь вы снова падете — жертвой собственного колдовства. Кервен, поймите: игры с Природой не проходят даром, и созданное вами поднимется против вас.
Тут доктора прервал сдавленный крик стоявшего перед ним создания. Безоружный и беспомощный, Кервен понимал: стоит ему применить физическую силу, как на помощь доктору сбегутся санитары. Поэтому он прибегнул к единственному оставшемуся у него оружию и начал чертить в воздухе кабалистические символы, проговаривая низким звучным голосом, из которого исчезла поддельная хрипотца, первые строки ужасного заклинания:
— PER ADONAI ELOIM, ADONAI JEHOVA, ADONAI SABAOTH, METRATON…
Но Уиллет не медлил. Хотя за окном уже поднялся оглушительный собачий вой, а с бухты вдруг подул холодный ветер, доктор решительным и ровным тоном начал читать подготовленные заранее слова. Око за око — колдовство за колдовство — и пусть судьба покажет, правильно ли он выучил урок бездны! Чистым ясным голосом Марин Бикнелл Уиллет прочел вторую часть двойного заклинания, чьи первые строки — Голова дракона, восходящий узел, — вернули к жизни автора карандашной записки:
ГОДОРТ АЙ’Ф
БЕГ’Л-ЕЕ’Х
ЙОГ-СОТОТ
ХАНГ’ГН’АЙ
ЗХРО!
При первом же слове, сорвавшемся с губ Уиллета, его противник резко умолк. Лишившись дара речи, чудовище замахало руками, пока и их не сковали колдовские чары. Когда же прозвучало ужасное имя Йог-Сотота, с Кервеном начали происходить отвратительные метаморфозы: он не просто разваливался на части, а плавился в воздухе, и Уиллет закрыл глаза, чтобы не потерять сознания от ужаса.
Однако он сумел взять себя в руки и прочесть до конца нужное заклинание, навеки придав забвению обладателя порочных тайн и запретных знаний. Тайна Чарлза Декстера Уорда была разгадана. Открыв глаза, доктор Уиллет убедился, что не напрасно хранил в памяти проклятые слова: в кислоте уже не было нужды. Подобно портрету, осыпавшемуся со стены год назад, Джозеф Кервен лежал на полу тонким слоем голубовато-серой пыли.
СНЫ В ВЕДЬМИНОМ ДОМЕ
Сны ли вызвали лихорадку или лихорадка послужила причиной снов, Уолтер Гилман не знал. На заднем плане затаился тягостный, неотвязный ужас пред древним городом и перед про́клятой затхлой мансардой под самой крышей, где он писал, корпел над книгами и сражался с цифрами и формулами, когда не метался беспокойно на нищей железной кровати. Слух его сделался сверхъестественно, невыносимо чуток; Гилман давным-давно остановил дешевые каминные часы — их тиканье со временем зазвучало для него артиллерийской канонадой. Ночью еле различимые шорохи из непроглядной городской черноты снаружи, зловещий топоток крыс в изъеденных червями перегородках и поскрипывание незримых балок векового дома складывались для него в адскую какофонию. Темнота неизменно полнилась необъяснимыми звуками — и однако ж порою Гилман содрогался от страха при мысли о том, что эти шумы стихнут и тогда он, чего доброго, расслышит и другие — еще более слабые и неясные.
Гилман жил в неизменном, овеянном легендой Аркхеме, с его нагромождениями двускатных крыш, что нависают и проседают над чердаками — на этих чердаках в темные, былые дни Провинции от королевских стражников прятались ведьмы. Во всем городе не нашлось бы места, более пропитанного жуткими воспоминаниями, нежели приютившая Гилмана мансарда: ведь в этом самом доме и в этой самой комнате некогда ютилась старуха Кезия Мейсон, чей побег из Салемской тюрьмы так в итоге и остался загадкой. Было это в 1692 году: тюремщик тронулся умом и бессвязно бормотал что-то про мелкую мохнатую тварь с белыми клычками, что якобы шмыгнула из камеры Кезии, и даже сам Коттон Мэзер[9] не смог истолковать смысл углов и кривых линий, намалеванных на серых каменных стенах какой-то красной липкой жидкостью.
Вероятно, Гилману не стоило так усердствовать в своих занятиях. От неевклидовой геометрии и квантовой физики у кого угодно ум за разум зайдет, а если еще сдобрить все это фольклористикой и пытаться выявить странную подоплеку многомерной реальности, что стоит за зловещими намеками готических повестей да нелепых пересудов у камелька, тут уж и впрямь добра не жди. Приехал Гилман из Хаверхилла, но лишь поступив в Аркхемский колледж, он стал пытаться увязать математику с фантастическими легендами о древней магии. Было в самом воздухе многовекового города что-то такое, что подспудно действовало на его воображение. Профессора Мискатоникского университета наперебой уговаривали его сбавить темп и сами, по доброй воле, несколько раз сокращали ему курс. Более того, Гилману запретили работать с сомнительными старинными книгами о недозволенных тайнах, что хранились под замком и под спудом в университетской библиотеке. Но все эти предосторожности запоздали: Гилман уже почерпнул недобрую подсказку-другую из кошмарного «Некрономикона» Абдула Альхазреда, фрагментарной «Книги Эйбона» и запрещенного труда «Unaussprechlichen Kulten», или «Неназываемые культы», фон Юнцта и соотнес эти подсказки со своими абстрактными формулами, описывающими свойства пространства, и взаимосвязанностью ведомых и неведомых измерений.
Гилман знал, что живет в старом Ведьмином доме — поэтому, собственно, он здесь комнату и снял. В округе Эссекс сохранилось немало документов по процессу Кезии Мейсон, и то, в чем она под давлением призналась суду, Гилмана несказанно завораживало. Старуха рассказала судье Готорну про линии и спирали, что могут выводить из уз пространства в иные пределы, и намекнула, что эти самые линии и спирали частенько использовались на полуночных сборищах в темной долине белого камня за Луговым холмом и на безлюдном речном островке. Упомянула она и о Черном Человеке, и о своей клятве, и о своем новом тайном имени Нахаб. А потом начертала эти узоры на стенах своей камеры — и исчезла.
Гилман свято верил всей небывальщине, что рассказывали о Кезии, и, узнав, что дом ее стоит и по сей день, спустя более 235 лет, ощутил некий странный трепет. Когда же он услышал боязливые аркхемские перешептывания о том, что Кезия, дескать, по-прежнему появляется в старом особняке и узких окрестных улочках, и о том, что на спящих в этом доме и в соседних домах обнаруживаются неровные отметины человеческих зубов, и о детских криках, что слышатся накануне первого мая и Дня Всех Святых, и о гнусном зловонии, что зачастую ощущается в мансарде старого дома сразу после этих страшных дат, и о мелкой, мохнатой, острозубой твари, что рыщет по прогнившему зданию и по городу и с любопытством обнюхивает людей в темные часы перед рассветом, — Гилман твердо решил поселиться именно тут, чего бы ему это не стоило. Снять комнату оказалось нетрудно, дом пользовался дурной славой, сдать его целиком не удавалось, так что его давно переоборудовали под дешевые «меблирашки». Гилман понятия не имел, что ожидал там обнаружить: просто знал, что хочет жить под той самой крышей, где волею обстоятельств убогая старуха семнадцатого века нежданно-негаданно обрела понимание таких математических глубин, рядом с которыми ничего не стоили последние современные изыскания Планка, Гейзенберга, Эйнштейна и де Ситтера[10].
Гилман внимательно изучил деревянные и оштукатуренные стены, ища следы загадочных знаков во всех доступных местах, где отклеились обои, и, не прошло и недели, как заполучил комнату в восточной части мансарды, где Кезия якобы творила свои заклинания. Комната с самого начала пустовала — никто так и не захотел задержаться в ней надолго, — но поляк-домовладелец со временем стал побаиваться сдавать ее кому бы то ни было. Однако ничего страшного с Гилманом не случилось, — во всяком случае, вплоть до прихода болезни. Призрак Кезии не порхал по мрачным коридорам и покоям, никакие мохнатые твари не прокрадывались в жуткое гнездо под самой крышей обнюхать жильца — однако ж и неустанные поиски не увенчались успехом: никаких записей о ведьминых заклинаниях Гилман так и не нашел. Порою он отправлялся на прогулку по сумеречным лабиринтам немощеных, пахнущих затхлостью улиц, где зловещие коричневые особняки невесть какого века кренились, шатались, насмешливо щурились мелкими переплетами узких оконцев. Гилман знал: некогда здесь происходило немало всего странного, а за внешней видимостью маячило смутное ощущение того, что, возможно, не все из этого чудовищного прошлого исчезло безвозвратно — чего доброго, прошлое это живо и по сей день на самых темных, самых узких и прихотливо извилистых улочках. Пару раз Гилман сплавал на веслах на речной островок с недоброй репутацией и зарисовал характерные угловатые линии, образованные мшистыми рядами стоячих камней неведомого и незапамятного происхождения.
Комната Гилману досталась просторная, зато до странности несимметричная; северная стена заметно покосилась внутрь по всей длине, а низкий потолок шел вниз, под уклон, в том же самом направлении. Если не считать явной крысиной норы и следов других таких же, заделанных, не было никакого доступа (и никаких следов того, что такой проход когда-либо существовал) к зазору, что, по-видимому, образовался между покосившейся внутренней стеной и ровной внешней стеною дома с северной стороны. Хотя, если посмотреть снаружи, можно было разглядеть, что здесь когда-то в незапамятные времена заколотили досками окно. К чердаку, с покатым, по всей видимости, полом, в этом месте доступа тоже не было. Когда же Гилман вскарабкался по приставной лестнице на затянутый паутиной чердак, там, где над остальной частью мансарды пол был ровным, он обнаружил следы былого отверстия, которое надежно, просто-таки намертво забили старыми досками с помощью крепких деревянных гвоздей, что были в ходу у плотников колониального периода. Однако ж Гилману так и не удалось убедить флегматичного домохозяина позволить ему исследовать какую-либо из этих заделанных пустот.
По мере того как шли дни, неровная стена и потолок все больше занимали Гилмана; он принялся вычитывать в странных углах математический смысл, что словно бы наводил на некие мысли об их предназначении. Старуха Кезия, размышлял он, конечно же, жила в комнате с необычной конфигурацией не просто так: не она ли уверяла, будто через определенные углы она перемещается за пределы ведомого нам мирового пространства? Но постепенно Гилман утратил интерес к неизведанным зазорам за наклонными поверхностями: теперь ему казалось, что назначение их следует искать на этой стороне, а не на той.
Первые признаки мозговой горячки и сны проявились в начале февраля. Какое-то время, по всей видимости, причудливые углы гилмановой комнаты оказывали на него странный, почти гипнотический эффект; с приближением промозглой зимы он ловил себя на том, что все пристальнее и пристальнее смотрит на угол, где скошенный вниз потолок сходился с накренившейся внутрь стеной. Примерно в то же время неспособность сосредоточиться на прежних научных занятиях изрядно его встревожила: экзамены середины года внушали ему самые серьезные опасения. Но обострившийся слух досаждал ему ничуть не меньше. Жизнь превратилась в непрекращающуюся, почти нестерпимую какофонию, которой сопутствовало неотвязное, пугающее ощущение иных звуков — возможно, откуда-то из областей за пределами жизни, — что подрагивали на самой грани слышимости. Что до звуков реальных, хуже всего были крысы в старых перегородках. Порою казалось, что скребутся они не столько украдкой, сколько нарочито. Когда это царапанье доносилось из-за наклонной северной стены, к нему примешивалось что-то вроде сухого дребезжания, а когда оно слышалось с вот уже целый век как заколоченного чердака над скошенным потолком, Гилман всегда собирался с духом, как если бы ожидал, что некий ужас, выжидающий своего часа, низвергнется вниз и поглотит его целиком.
Сны со всей определенностью выходили за рамки разумного; Гилман полагал, что они — не иначе как следствие его математических изысканий вкупе с фольклористикой. Слишком много размышлял он о смутных пределах, что, как подсказывали ему формулы, непременно таятся вне ведомых нам измерений, и о вероятности того, что старая Кезия Мейсон — направляемая некой непостижной силой — в самом деле отыскала врата в эти пределы. Пожелтевшие бумаги из окружных архивов с показаниями Кезии и ее обвинителей соблазнительно намекали на то, что человеческому опыту неподвластно, — а описания юркого мохнатого существа, ее фамильяра, были пугающе реалистичны, невзирая на все неправдоподобные детали.
Это существо размером с хорошую крысу горожане затейливо окрестили «Бурым Дженкином»; по-видимому, то был результат прелюбопытного случая симпатической массовой галлюцинации, ведь в 1692 году целых одиннадцать человек подтвердили, что своими глазами видели это существо. Да и недавние слухи поразительно и даже пугающе сходились на одном и том же. Свидетели уверяли, что тварь эта с виду — крыса, с длинной шерстью, но острозубая бородатая мордочка смахивает на лицо злобного карлика, а лапы напоминают крохотные человеческие руки. Этот монстр служил посредником между старухой Кезией и дьяволом, а вскормлен была на ведьминой крови — сосал ее как вампир. Голос его звучал как мерзкое хихиканье; тварь владела всеми языками на свете. Из всех противоестественных чудищ в гилмановых снах ни одно не повергало его в такую панику и не вызывало такой тошноты, как эта кощунственная помесь человечка и крысы: жуткий образ мельтешил в его ночных видениях в обличье в тысячу раз более омерзительном, нежели бодрствующий ум способен был представить на основании старинных записей и нынешних слухов.
В своих снах Гилман по большей части нырял в бездонные пропасти, наполненные необъяснимо цветными сумерками и беспорядочной невнятицей звуков: материю этих пропастей, их гравитационные свойства и отношение к реальности собственного бытия он даже не пытался объяснить. Он не шел, не карабкался, не летел и не плыл, не полз и не проскальзывал, извиваясь; и однако же всякий раз испытывал некое движение, отчасти сознательное, отчасти — непроизвольное. О своем состоянии он судить не мог: из-за странной рассогласованности перспективы разглядеть собственные руки, ноги и туловище не представлялось возможным. Тем не менее он чувствовал, что его физическая организация и способности чудесным образом преобразованы и отражены как в кривом зеркале — хотя и не без гротескной соотнесенности с его обычными пропорциями и качествами.
Пропасти отнюдь не пустовали: они кишмя кишели неописуемо угловатыми сгустками субстанции неземного цвета: одни казались органической материей, другие — нет. Органические порою пробуждали в нем некие смутные воспоминания на самых задворках сознания, хотя Гилман не смог бы на сознательном уровне объяснить, что именно они гротескно пародируют или напоминают. Позже в снах он научился различать отдельные категории органических объектов: по-видимому, в каждом случае имели место совершенно разные типы образа действий и исходной мотивации. Одна из категорий, как ему казалось, включала в себя объекты менее алогичные и непоследовательные в своих передвижениях, нежели представители других категорий.
Все эти объекты — как органические, так и неорганические, — не поддавались ни описанию, ни даже пониманию. Порою Гилман сравнивал неорганические сгустки с призмами, лабиринтами, скоплениями кубов и плоскостей и циклопическими зданиями; а органические существа напоминали ему попеременно группу пузырей, осьминогов, сороконожек, одушевленных индуистских идолов и прихотливые, змееподобно оживающие арабески. Все, что он видел, внушало ужас и невысказанную угрозу; всякий раз, когда какое-нибудь органическое существо, судя по его передвижениям, замечало Гилмана, юноша испытывал мгновенный приступ леденящего, жуткого страха — от которого, как правило, резко просыпался. Как именно передвигались эти органические создания, он понимал не больше, чем природу собственных перемещений. Со временем Гилман заметил еще одну загадку: некоторые объекты появлялись внезапно, из пустоты, и точно так же исчезали бесследно. Какофония звуков — визг и рев, переполнявшие пропасти, — не поддавались никакому анализу в том, что касалось высоты, тембра и ритма; но словно бы синхронизировались с размытыми зрительными изменениями во всех неопределенных объектах, как органических, так и неорганических. Гилмана одолевал непрестанный страх, что при тех или иных неуловимых, пугающе неотвратимых флюктуациях звуки, чего доброго, достигнут непереносимого уровня громкости.
Но не в этих чужеродных безднах являлся ему Бурый Дженкин. Этот гнусный мелкий кошмар принадлежал неглубоким и вместе с тем ярким сновидениям, что приходили как раз перед тем, как юноше провалиться в самые глубины сна. Он лежал в темноте, отчаянно пытаясь не сомкнуть глаз, и тут по вековой комнате словно бы разливался слабый мерцающий свет, и в фиолетовой дымке проступали сходящиеся углы и плоскости, столь злокозненно завладевшие его мозгом. Кошмарная тварь выскакивала из крысиной норы в углу и семенила к нему по просевшим, широким половицам; в крохотном бородатом личике отражалось недоброе предвкушение — но, по счастью, этот сон неизменно гас, прежде чем существо подбиралось поближе, чтобы его обнюхать. А какие у него дьявольски длинные, острые клыки! Каждый день Гилман пытался заделать вход в нору, но каждую ночь настоящие обитатели стен прогрызали любое заграждение. Гилман заставил домохозяина заколотить нору жестью, но следующей же ночью крысы опять проели дыру — и при этом не то выпихнули, не то вытащили наружу любопытный фрагмент кости.
Гилман не стал жаловаться на лихорадку доктору: он знал, что ни за что не сдаст экзаменов, если его уложат в университетскую больницу, в то время как вызубрить предстояло немало — каждая минута была на вес золота. Он и так уже провалил математический анализ за четвертый семестр и аспирантский курс по общей психологии, хотя не терял надежды до сессии наверстать упущенное. В марте к неглубокому, «предваряющему» сну добавился третий элемент: теперь кошмарный образ Бурого Дженкина сопровождало неясное, расплывчатое облако, что с каждым разом все больше и больше походило на согбенную старуху. Это добавление необъяснимо встревожило Гилмана, но наконец он решил, что видение смахивает на седую каргу, с которой он дважды сталкивался в темном лабиринте переулков близ заброшенной пристани. Оба раза от беспричинно злобного, сардонического взгляда старухи его просто в дрожь бросало — особенно в первую встречу, когда разъевшаяся крыса метнулась через затененный проход на соседнюю улочку, а Гилман, вопреки здравому смыслу, подумал о Буром Дженкине. А теперь вот, размышлял он, эти нервические страхи отразились в беспорядочных снах, точно в зеркале.
То, что старый дом пагубно влияет на жильца, отрицать не приходилось; но былой нездоровый интерес, или то, что от него осталось, по-прежнему удерживал юношу там. Гилман внушал себе, что в ночных бредовых фантазиях повинна лишь лихорадка и ни что иное, и как только болезнь пройдет, он освободится от чудовищных видений. Однако ж видения эти были так отвратительно ярки и убедительны, что всякий раз, просыпаясь, он смутно подозревал, что испытал гораздо больше, нежели сохранила память. Он был пугающе уверен, что в позабытых снах он разговаривал как с Бурым Дженкином, так и со старухой, и что оба убеждали его куда-то с ними отправиться и повстречаться с кем-то третьим — обладателем великого могущества.
Ближе к концу марта Гилман вновь взялся за математику, хотя все остальные занятия все больше нагоняли на него скуку. Он интуитивно научился решать уравнения Римана и поразил профессора Апема пониманием четырехмерных задач, что ставили в тупик весь класс. Однажды имела место дискуссия о вероятных странных искривлениях пространства и о теоретических точках сближения или соприкосновения между нашей частью Вселенной и иными областями, далекими, как запредельные звезды или сами межгалактические бездны, — или даже столь же баснословно недосягаемыми, как условно допустимые космические единицы вне эйнштейновского пространства-времени.
Рассуждения Гилмана на эту тему вызвали всеобщее восхищение, пусть некоторые его гипотетические примеры и дали новую пищу и без того богатым сплетням о его нервозной, отшельнической эксцентричности. Студенты лишь головами качали, выслушав продуманную теорию о том, что человек способен — при наличии математических познаний, которых людям заведомо обрести не дано, — сознательно шагнуть с Земли на любое другое небесное тело, находящееся в одной из множества определенных точек космической системы.
Для такого шага, объяснял Гилман, потребуется лишь два этапа: сперва — выход из знакомого нам трехмерного пространства, затем — переход обратно в трехмерное пространство в иной, возможно, бесконечно отдаленной точке. В ряде случаев это вполне достижимо и гибелью не грозит. Любое существо из любой части трехмерной вселенной, вероятно, выживет и в четвертом измерении; а его выживание на втором этапе зависит от того, в какую чужеродную область трехмерной вселенной он решил возвратиться. Не исключено, что обитатели ряда планет не погибнут и на некоторых других — причем даже на тех, что принадлежат иным галактикам — или сходным трехмерным фазам иного пространства-времени; хотя, безусловно, должно существовать немало обоюдно необитаемых, пусть даже математически сопряженных космических тел и зон.
Допустимо также, что жители отдельно взятой пространственной области способны пережить перемещение во множество неведомых и непостижимых областей с дополнительными или умноженными до бесконечности измерениями — будь то вне или внутри данного пространственно-временного континуума, — и справедливо также и обратное. Здесь есть над чем поразмыслить, хотя можно с долей уверенности утверждать, что изменения, вызванные переходом из одного пространственного измерения в другое, высшее, не окажутся губительными для биологической целостности так, как мы ее понимаем. Гилман не мог объяснить, каковы его основания для этого последнего допущения, но подобную неопределенность заметно перевешивала полная ясность в других трудных вопросах. Профессору Апему особенно понравились его доказательства родства высшей математики с определенными стадиями развития магических знаний, что передавались через века из незапамятной древности — будь то уже во времена человека или гораздо раньше, но только древность эта располагала куда более обширными познаниями о Вселенной и ее законах, нежели мы сегодня.
С приближением первого апреля Гилман всерьез забеспокоился: его затянувшаяся лихорадка утихать и не думала. А еще — несколько жильцов уверяли, будто бы он ходит во сне, — отчего Гилман встревожился еще больше. Его постель якобы частенько оказывалась пустой, а квартирант из комнаты под мансардой отмечал, как скрипят половицы над его головой в определенные часы ночи. Он же уверял, будто слышит в ночи шаги обутых ног; но Гилман был уверен, что по крайней мере в этом сосед ошибается — ведь его ботинки, равно как и прочая одежда, поутру обнаруживались ровно на том самом месте, где были оставлены. В этом зловещем старом доме у кого угодно разовьются слуховые галлюцинации — разве сам Гилман, даже при свете дня, не слышал со всей определенностью, как иные звуки, помимо крысиной возни, доносятся из черных пустот за наклонной стеной и над наклонным потолком? Его болезненно чуткий слух начал улавливать слабый отзвук шагов на давно заколоченном чердаке над головой, и порою такого рода иллюзии становились мучительно реалистичными.
Однако ж Гилман знал, что в самом деле страдает сомнамбулизмом: ибо дважды комнату его ночью обнаруживали пустой, хотя вся одежда была на месте. Так, по крайней мере, уверял Фрэнк Элвуд, единственный сокурсник Гилмана, что по бедности вынужден был снять комнату в этом убогом и пользующемся дурной репутацией доме. Засидевшись за книгами далеко за полночь, Элвуд поднимался к соседу попросить его помочь с дифференциальным уравнением — и обнаруживал, что Гилмана нет. С его стороны было довольно-таки бесцеремонно открыть незапертую дверь, после того как, постучав, он не получил ответа, но студенту отчаянно требовалась помощь, и он подумал, что хозяин, если его деликатно растолкать, возражать не станет. Оба раза Гилмана в комнате не оказывалось — и, выслушав рассказ приятеля, он сам недоумевал, куда мог отправиться — босиком и в ночной сорочке. Гилман решил расследовать это дело, если воспоследуют новые свидетельства его сомнамбулизма, и подумывал о том, чтобы присыпать мукой пол в коридоре и посмотреть, куда ведут следы. Дверь казалась единственным мыслимым выходом, ведь за узким окном не было никакой опоры для ног.
Апрель шел своим чередом, а обостренный лихорадкой слух Гилмана терзали заунывные молитвы суеверного ткацкого подмастерья по имени Джо Мазуревич: тот снимал комнату на первом этаже. Мазуревич рассказывал длинные, бессвязные байки про призрак старухи Кезии и про пушистую острозубую принюхивающуюся тварь: его, дескать, эти двое порою просто-таки осаждали, так что спас беднягу лишь серебряный крест, специально выданный ему отцом Иваницки из церкви Святого Станислава. Теперь же Джо искал спасения в молитвах, поскольку близился ведьминский шабаш. Канун первого мая — это же Вальпургиева ночь, когда чернейшее зло ада беспрепятственно рыщет по Земле и все рабы Сатаны сходятся для неописуемых ритуалов и деяний. Прескверное то время для Аркхема — хотя именитые господа с Мискатоник-авеню, с Хай-стрит и Солтонстолл-стрит и прикидываются, будто они о том ни сном ни духом. В городе будет твориться страшное — пропадет ребенок-другой. Кто-кто, а Джо о таких вещах знал доподлинно — его бабушка еще на родине наслушалась историй от своей бабушки. В эту пору самое разумное — молиться да перебирать четки. Вот уже три месяца как Кезия с Бурым Дженкином не заглядывали в комнату ни к Джо, ни к Полу Чойнски, ни куда бы то ни было; а уж если они не дают о себе знать — тогда точно добра не жди. Небось что-то затевают.
16-го числа текущего месяца Гилман зашел-таки к доктору и с удивлением обнаружил, что температура у него не столь высока, как он опасался. Врач подробно расспросил его о симптомах — и посоветовал обратиться к специалисту по нервным болезням. По зрелом размышлении Гилман порадовался, что не стал консультироваться с доктором колледжа, человеком еще более дотошным. Старик Уолдрон, что уже и без того сократил ему нагрузку, теперь непременно предписал бы студенту отдых — а о каком отдыхе может идти речь, когда он так близок к великим результатам в своих уравнениях? Он же, вне всякого сомнения, уже приблизился к границе между ведомой вселенной и четвертым измерением: как знать, далеко ли еще идти?
Но даже во власти подобных мыслей Гилман все гадал — а откуда у него столь странная уверенность? Не идет ли это грозное ощущение неизбежности от формул, которыми он ежедневно исписывал лист за листом? Тихие, крадущиеся воображаемые шаги на заколоченном чердаке действовали на нервы. А теперь еще нарастало подозрение, будто кто-то то и дело убеждает его совершить нечто страшное и противоестественное. А как насчет пресловутого сомнамбулизма? Куда он хаживал ночью? И что это за слабый отзвук порою словно бы просачивается сквозь раздражающую какофонию знакомых звуков даже среди бела дня, когда сна — ни в одном глазу? Его ритм не походил ни на что земное — разве что на модуляцию одного-двух неназываемых ритуальных распевов с шабаша; а порою Гилман со страхом узнавал в нем нечто схожее с невнятным визгом или ревом в чужеродных пропастях сновидений.
А сны между тем становились все ужаснее. В поверхностном, «предваряющем» сне злобная старуха теперь являлась с дьявольской отчетливостью; Гилман уже не сомневался: именно она напугала его в трущобах. Ее длинный, крючковатый нос и сморщенный подбородок ни с чем невозможно было перепутать, да и бесформенное бурое платье хорошо запомнилось юноше. В лице ее отражались отвратительное злорадство и ликование; по пробуждении у него в ушах все еще слышался каркающий голос, убеждая и угрожая. Ему должно повстречаться с Черным Человеком и отправиться вместе со всеми к трону Азатота в самом сердце предельного Хаоса. Так говорила старуха. Ему должно собственной кровью начертать свою подпись в книге Азатота и принять новое тайное имя — теперь, когда его самостоятельные изыскания продвинулись так далеко. Что же препятствовало Гилману отправиться вместе с нею, Бурым Дженкином и тем, другим, к трону Хаоса, где бессмысленно посвистывают пронзительные флейты? Только то, что он уже встречал имя «Азатот» в «Некрономиконе» и знал, что обозначает оно древнейшее зло, зло настолько чудовищное, что не поддается описанию.
Старуха неизменно появлялась из разреженного воздуха в том углу, где уклон вниз сходился со скосом внутрь. Материализовывалась она ближе к потолку, нежели к полу, и каждую ночь подбиралась чуть ближе и проявлялась чуть четче, прежде чем сон менялся. Вот и Бурый Дженкин тоже всякий раз оказывался немного ближе; его желтовато-белые клычки недобро поблескивали в потустороннем фиолетовом свечении, визгливое мерзкое хихиканье все крепче отпечатывалось в сознании Гилмана; поутру он помнил, как тварь произносила слова «Азатот» и «Ньярлатхотеп».
Сны более глубокие также обретали все бо́льшую четкость; теперь Гилману казалось, что сумеречные пропасти вокруг принадлежат четвертому измерению. Те органические сущности, перемещения которых казались не столь вопиюще непоследовательными и бессмысленными, возможно, представляли собою проекции форм жизни с нашей родной планеты, включая людей. Что такое остальные в своем собственном измерении или измерениях, Гилман даже задуматься не смел. Два менее хаотично движущихся создания — довольно крупный сгусток переливчатых, вытянутых сферических пузырей и небольшой многогранник неведомых оттенков, плоскости которого стремительно изменяли углы наклона, — словно бы заметили Гилмана и повсюду следовали за ним — либо плыли впереди, по мере того как он перемещался среди исполинских призм, лабиринтов, скоплений кубов, плоскостей и квазисооружений; а невнятный визг и рев между тем все нарастали, словно бы приближаясь к чудовищной высшей точке абсолютно невыносимой интенсивности.
Ночью с 19 на 20 апреля случилось нечто новое. Гилман полуосознанно перемещался в сумеречных пропастях вслед за сгустком пузырей и маленьким многогранником, — как вдруг заметил, что края нескольких смежных скоплений гигантских призм образовали характерно правильные углы. А в следующий миг Гилман был уже не в пропасти: он стоял на каменистом склоне холма, омытом ярким рассеянным зеленым светом. Он был бос и в ночной сорочке; попытавшись сделать шаг, он обнаружил, что с трудом передвигает ноги. Клубящееся марево скрывало от глаз все, кроме небольшой части косогора прямо перед ним; при мысли о том, что за звуки могут выплеснуться из этого марева, Гилман неуютно поежился.
И тут Гилман заметил, как к нему с трудом подползают две фигуры: старуха и мелкая мохнатая тварь. Безобразная карга натужно привстала на колени и сложила руки в характерном жесте, а Бурый Дженкин куда-то указывал пугающе человекообразной передней лапой, поднимая ее с явным усилием. Побуждаемый порывом, что брал начало не в нем самом, Гилман побрел в направлении, обозначенном углом скрещенных старухиных рук и лапой мелкого уродца, но, не проковылял он и трех шагов, как вновь оказался в сумеречных пропастях. Геометрические фигуры теснились вокруг него; Гилман падал — кружилась голова, и конца падению не предвиделось. В конце концов он проснулся в своей постели в мансарде с ее бредовой угловатой планировкой, под кровом жуткого старого дома.
Наутро юноша чувствовал себя совсем разбитым; на занятия он не пошел. Что-то неведомое притягивало его взгляд туда, где, казалось бы, ровным счетом ничего не было: он не мог отвести глаз от пустого места на полу. По мере того как разгорался день, фокус невидящих глаз сместился: к полудню Гилман поборол в себе тягу неотрывно глядеть в никуда. Часа в два юноша вышел пообедать: пробираясь по узким улочкам города, он ловил себя на том, что его то и дело тянет свернуть на юго-восток. Лишь усилием воли он заставил себя задержаться в кафе на Черч-стрит, но после еды неведомая тяга дала о себе знать с еще большей силой.
Наверное, надо все-таки проконсультироваться у специалиста по нервным болезням — может, сомнамбулизм тоже как-то с этим связан; а до поры можно хотя бы попробовать рассеять страшные чары самостоятельно. Вне всякого сомнения, он пока еще в силах преодолеть эту тягу. Призвав на помощь всю свою решимость, Гилман зашагал вперед, наперекор притяжению, и нарочно побрел к северу вдоль Гаррисон-стрит. К тому времени, как он добрался до моста над рекой Мискатоник, он был весь в холодном поту; вцепившись в железную ограду, он пристально глядел вверх по течению, на островок с дурной репутацией, где правильные очертания древних стоячих камней мрачно вырисовывались в полуденном свете.
Вдруг он вздрогнул. На безлюдном островке ясно просматривался кто-то живой; приглядевшись вторично, Гилман понял: это, конечно же, та самая незнакомая старуха, чей зловещий образ столь роковым образом вторгся в его сны. Рядом с ней шевелилась высокая трава — словно по земле кралась еще какая-то тварь. Старуха начала было поворачиваться в его сторону — и Гилман поспешно кинулся прочь от моста, под защиту городского лабиринта портовых улочек. Остров находился далеко, и однако ж Гилман чувствовал: сардонический взгляд этой согбенной старой карги в бурых одеждах исполнен чудовищной, неодолимой злобы.
Гилмана по-прежнему тянуло на юго-восток: лишь грандиозным усилием воли он смог заставить себя войти в старый дом и подняться по шатким ступеням. Там он просидел молча, бесцельно не один час; взгляд его постепенно смещался на запад. Около шести часов его обострившийся слух уловил плаксивые молитвы Джо Мазуревича двумя этажами ниже. В отчаянии Гилман схватил шляпу и вышел на позлащенные закатом улицы, позволяя притяжению, что теперь было направлено точно на юг, нести его куда угодно. Час спустя тьма застала его в открытом поле за Палаческим ручьем, а в вышине мерцали и переливались весенние звезды. Порыв идти вперед постепенно сменялся желанием мистически нырнуть в пространство вселенной, — и внезапно Гилман осознал, где таится источник неодолимого притяжения.
Источник этот — в небе! Некая определенная точка среди звезд притязала на него — и манила его. По-видимому, точка эта находилась где-то между Гидрой и Кораблем Арго; Гилман знал, что туда-то его и влекло с самого момента пробуждения вскоре после восхода. Утром она была ниже линии горизонта; после полудня поднялась на юго-востоке, а сейчас — находилась ориентировочно на юге, но клонилась к западу. Что бы все это значило? Уж не сходит ли он с ума? И как долго это продлится? Вновь призвав на помощь всю свою решимость, Гилман развернулся и с трудом побрел к зловещему старому дому.
Мазуревич ждал его в дверях: похоже, ему не терпелось шепотом рассказать какое-то свежее суеверие — и вместе с тем слова не шли с языка. Речь шла о ведьминском огне. Накануне ночью Джо дома не было: в Массачусетсе праздновали День патриотов, и он вернулся уже после полуночи. Глядя на дом снаружи, он сперва подумал было, что окно Гилмана не освещено; но затем заметил внутри слабый фиолетовый отблеск. Ему хотелось предостеречь джентльмена насчет этого отблеска: ведь весь Аркхем знал, что это — ведьминский свет Кезии, что мерцает вокруг Бурого Дженкина и призрака старой карги. Мазуревич не упоминал об этом прежде, но теперь не может дольше молчать: ведь это значит, что Кезия со своим длиннозубым фамильяром преследуют молодого джентльмена. Порою он, Пол Чойнски и домовладелец Домбровски словно бы видели, как свет просачивается сквозь щели в заколоченном чердаке над комнатой молодого джентльмена, но они сговорились молчать о таких вещах. Однако ж джентльмену лучше бы снять другую комнату и разжиться крестом у какого-нибудь доброго священника вроде отца Иваницки.
Мазуревич продолжал молоть всякий вздор, а Гилман чувствовал, как к горлу подступает ком невыразимая паника. Разумеется, накануне вечером Джо был изрядно навеселе, и однако упоминание о фиолетовом свете в окне мансарды было пугающе важным. Именно такой мерцающий отблеск неизменно играл вокруг старухи и мелкой мохнатой твари в поверхностных и вместе с тем пронзительно-ярких снах, что предшествовали прыжку юноши в неведомые пропасти, и мысль о том, что человек посторонний и бодрствующий тоже видел это свечение из снов, в здравом уме просто не укладывалась. Но откуда у соседа взялась столь странная идея? Или сам он не только ходит по дому во сне, но еще и разговаривает? Джо уверяет, что нет, — но неплохо бы проверить. Может, Фрэнк Элвуд что-нибудь подскажет, хотя спрашивать Гилману отчаянно не хотелось.
Лихорадка — безумные сны — сомнамбулизм — слуховые галлюцинации — неодолимое притяжение некой точки на небе — а теперь еще и, чего доброго, нездоровые разговоры во сне! Надо, непременно надо отвлечься от занятий, посоветоваться со специалистом по нервным болезням, взять себя в руки. Поднимаясь по лестнице на третий этаж, Гилман замешкался у двери Элвуда, но понял, что соседа дома нет. Неохотно побрел он к своей мансарде и какое-то время посидел в темноте. Взгляд его по-прежнему обращался к юго-западу, и вместе с тем Гилман поймал себя на том, что напряженно прислушивается к звукам на заколоченном чердаке и уже готов навоображать себе, будто сквозь микроскопическую щель в низком, покатом потолке сочится зловещий фиолетовый свет.
В ту ночь фиолетовое свечение обрушилось на спящего Гилмана с удвоенной силой; старуха-ведьма и мелкая мохнатая тварь, подобравшись еще ближе, чем прежде, дразнили его нечеловеческими воплями и дьявольскими жестами. Гилман рад был провалиться в сумеречные пропасти, бурлящие невнятным ревом, вот только навязчивое преследование сгустка пузырей и калейдоскопического многогранничка раздражало и пугало. И тут случился переход — гигантские сходящиеся плоскости осклизлой с виду субстанции нависли сверху и снизу — накатил приступ бреда, и вспыхнул неведомый, чуждый свет, в котором бешено и неразрывно смешались желтая, карминно-красная и темно-синяя краски.
Он полулежал на высокой террасе, обнесенной фантастической балюстрадой, над бескрайними нагромождениями диковинных, неописуемых пиков, сбалансированных плоскостей, куполов, минаретов, горизонтальных дисков, уравновешенных на шпилях, и бессчетных, еще более причудливых форм, из металла и камня, что искрились великолепием в смешанном, едва ли не жгучем слепящем свете многокрасочного неба. Подняв глаза, Гилман различал три громадных огненных диска, все — разных оттенков и на разном расстоянии над бесконечно далекой волнистой линией приземистых гор у самого горизонта. Позади, насколько хватало глаз, возносились ярусы террас еще более высоких. А внизу, вплоть до самых пределов обзора, раскинулся город, и Гилман надеялся, что никакому звуку не долететь оттуда.
Гилман с легкостью поднялся на ноги. Площадка была вымощена полированным, с прожилками, камнем, определить который не удавалось; плитки были неправильно-угловатой формы, что казалась Гилману не столько асимметричной, сколько основанной на некой внеземной симметрии, законы которой ему не постичь. Балюстрада, изящная, причудливо выполненная, доходила ему до груди; вдоль всей ограды, на небольшом расстоянии друг от друга, стояли скромных размеров статуи гротескной формы и самой изысканной работы. Как и вся балюстрада, они были сделаны из какого-то сияющего металла, цвет которого не распознавался в этом хаосе смешанного блеска; а природа их и вовсе не поддавалась разгадке. Они представляли собою некий рифленый бочкообразный предмет — от центрального кольца, точно спицы, отходили тонкие горизонтальные руки, а верхняя часть и основание бочонка бугрились выпуклостями или пузырями. Каждый из таких пузырей служил основой для конструкции из пяти длинных, плоских, конусообразных ответвлений, похожих на лучи морской звезды, — почти горизонтальные, они чуть выгибались, отклоняясь от срединного бочонка. Нижний пузырь крепился к протяженной ограде, причем перемычка была столь хрупкой, что нескольких фигур недоставало: они давно отвалились. В высоту статуи достигали четырех с половиной дюймов, а руки-спицы создавали максимальный диаметр около двух с половиной дюймов.
Плитка обжигала босые ноги. Гилман был совсем один; его первым побуждением стало дойти до балюстрады и с ошеломляющей высоты оглядеть бесконечный, исполинский город на расстоянии двух тысяч футов внизу. Прислушавшись, Гилман, как ему показалось, уловил ритмичную какофонию негромких музыкальных посвистов в самом широком звуковом диапазоне, что доносилась из узких улочек; он пожалел о том, что жителей не видно. Спустя какое-то время у Гилмана закружилась голова; не схватись он машинально за лучезарную балюстраду, он бы упал на плитки. Его правая рука соскользнула на одну из выступающих статуй; это касание словно бы придало ему устойчивости. Однако экзотически хрупкий металл не выдержал, и шипастая фигура отломилась под его пальцами. Гилман полубессознательно сжал ее в кулаке, другой рукой схватившись за пустое место на гладких перилах.
Но теперь его сверхчувствительный слух уловил какое-то движение за спиной. Гилман обернулся и окинул взглядом ровную террасу. К нему тихо, хотя и не таясь, приближались пятеро, в том числе — зловещая старуха и клыкастая мохнатая тварь. При виде остальных троих Гилман потерял сознание: то были живые существа восьми футов ростом, в точности похожие на шипастые статуи балюстрады: передвигались они, по-паучьи изгибая нижние лучи-руки.
Гилман проснулся весь в холодном поту; лицо, руки и ступни саднило. Он спрыгнул с постели, умылся, оделся с лихорадочной поспешностью: ему нужно было как можно быстрее убраться из этого дома. Он понятия не имел, куда пойдет, но сознавал, что вновь придется пропустить занятия. Странное притяжение некоей точки в небесах между Гидрой и Кораблем Арго ослабло, но вместо него возникло иное, еще более сильное. Теперь юноша чувствовал, что необходимо спешить в северном направлении — как можно дальше. Перспектива пройти по мосту с видом на безлюдный островок реки Мискатоник внушала ему ужас, так что Гилман пересек мост на Пибоди-авеню. Он то и дело спотыкался: его взгляд и слух были прикованы к неописуемо далекой точке в ясном синем небе.
Спустя примерно час Гилман овладел собою — и обнаружил, что забрел далеко от города. Повсюду вокруг тянулась унылая пустыня солончаковых болот, а узкая дорога впереди уводила к Иннсмуту — древнему, полузаброшенному городу, от которого жители Аркхема почему-то предпочитали держаться подальше. И хотя тяга к северу не слабела, Гилман сопротивлялся ей — как и тому, второму притяжению, и наконец ему почти удалось уравновесить их. Он побрел обратно в город, выпил кофе у киоска с газированной водой, с трудом доплелся до публичной библиотеки и посидел там, бесцельно листая глянцевые журналы. Раз к нему подошли друзья и удивились, до чего он загорел; но о своей прогулке Гилман рассказывать не стал. В три он пообедал в ресторанчике, попутно отмечая, что притяжение либо ослабло, либо разделилось надвое. После того Гилман, чтобы убить время, заглянул в дешевый кинотеатр и просмотрел пустопорожний сеанс несколько раз, снова и снова, не вдумываясь в содержание.
Где-то около девяти вечера юноша поковылял домой и, спотыкаясь, ввалился в старый дом. Джо Мазуревич жалобно тянул свою молитвенную невнятицу; Гилман торопливо поднялся к себе в мансарду, не задержавшись проверить, дома ли Элвуд. Он включил тусклый электрический свет — и испытал настоящее потрясение. Он сразу заметил на столе нечто постороннее, а второй взгляд не оставил места сомнениям. На боку лежала — потому что стоять стоймя без поддержки не могла — необычная шипастая фигурка, что в чудовищном сне он своей рукой отломал от фантастической балюстрады. Верно, она — все детали на месте. Гофрированный, бочонкообразный центр, тонкие расходящиеся спицы-руки, выпуклости на каждом конце, а от выпуклостей тянутся плоские, чуть изогнутые наружу лучи — все в точности! В электрическом свете цвет фигурки казался радужно-серым, с зелеными прожилками; в ужасе и изумлении Гилман осознал, что на одной из выпуклостей заметен рваный надлом: в этом месте статуэтка некогда крепилась к перилам из сновидения.
Лишь полубессознательное оцепенение помешало ему закричать в голос. Это слияние сна и реальности сводило юношу с ума. До глубины души потрясенный, он стиснул в руке шипастую фигурку и побрел вниз по лестнице в квартиру домохозяина Домбровски. В затхлых коридорах все еще звенели плаксивые молитвы суеверного ткацкого подмастерья, но теперь Гилману было все равно. Домовладелец оказался у себя и приветливо поздоровался с жильцом. Нет, этой вещи он прежде не видел и ничего о ней не знает. Но жена рассказывала, будто нашла забавную жестяную игрушку в одной из постелей, когда убирала комнаты в полдень; может, это она и есть? Домбровски позвал супругу, та степенно вплыла в комнату. Да, верно, та самая вещица. В постели молодого джентльмена нашлась — у самой стенки. Странная штуковина, ничего не скажешь, ну да у молодого джентльмена комната битком набита всякими странностями — тут и книги, и разные редкости, и картины, и заметки на бумаге. Нет, она ровным счетом ничего про находку не знает.
Во власти душевного смятения Гилман вновь поднялся к себе, будучи убежден, что либо он все еще спит и видит сон, либо сомнамбулизм дошел до небывалой крайности и вынуждает его к грабежу в незнакомых местах. Где он только мог раздобыть эту экзотическую вещицу? Ни в каком аркхемском музее он ничего подобного не видел. Но откуда-то она ведь взялась! Разгуливая по городу во сне, он, должно быть, увидел и схватил ее — и это, в свою очередь, вызвало странный сон про обнесенную балюстрадой террасу. На следующий день нужно будет очень осторожно навести справки — и посоветоваться наконец со специалистом по нервным болезням.
А между тем надо попробовать отследить, куда он ходит во сне. По пути в свою комнату Гилман рассыпал по лестнице и в коридоре мансарды муку, одолженную у хозяина, — он честно объяснил зачем. Юноша задержался было у комнаты Элвуда, но свет внутри не горел. Войдя к себе, Гилман поставил шипастую фигурку на стол и прилег, не потрудившись даже раздеться — так он был измучен физически и духовно. С заколоченного чердака над скошенным потолком словно бы доносилось тихое царапанье и топоток, но в смятении своем Гилман даже не придал этому значения. Таинственная тяга на север снова набирала силу, хотя теперь источник ее находился, по-видимому, ниже у горизонта.
В слепящем фиолетовом свете сновидения старуха и клыкастая мохнатая тварь проявились снова — куда отчетливее, нежели когда-либо прежде. На сей раз они подобрались вплотную к юноше: иссохшие старухины клешни вцепились в него. Гилмана вытащили из постели и повлекли в пустоту; мгновение он слышал ритмичный рев и видел, как вокруг него вскипает сумеречная бесформенность размытых пропастей. Но картина тотчас же сменилась: в следующий миг он оказался в нищей, тесной каморке без окон — грубо обработанные балки и брусья сходились конусом у него над головой, а под ногами пол, как ни странно, шел под уклон. На подпорках вровень с полом стояли низкие ящики, битком набитые книгами самых разных эпох, более или менее тронутых распадом, а в центре громоздились стол и скамейка, по-видимому, закрепленные неподвижно. Сверху на ящиках выстроились небольшие предметы неведомой природы и формы, и в пламенеющем фиолетовом свечении Гилман заметил словно бы копию шипастой фигурки, так его озадачившей. Слева пол резко уходил вниз, в черный треугольный провал, откуда сперва донеслось сухое дребезжание, а потом выползла отвратительная мохнатая тварь с желтыми клыками и бородатым человеческим лицом.
Старая карга, недобро ухмыляясь, по-прежнему не отпускала своего пленника. А позади стола возвышалась прежде невиданная фигура — высокий, сухощавый человек, весь черный, но без характерных негроидных черт; полностью лишенный волос и бороды; единственной одеждой ему служила бесформенная мантия из какой-то плотной черной ткани. Ног различить было невозможно, их заслоняли стол и скамья, но незнакомец, по всему судя, был обут — когда он менял положение, слышалось легкое постукивание. Человек не произнес ни слова; мелкие, правильные черты лица его оставались совершенно бесстрастны. Он просто указал на массивный фолиант, раскрытый на столе, а карга всунула в правую руку Гилмана огромное серое перо. Все застилала пелена сводящего с ума страха, что достиг высшей своей точки, когда мохнатая тварь вскарабкалась по одежде спящего ему на плечи, спустилась вниз по левой руке и наконец больно укусила в запястье у самой манжеты. Фонтаном брызнула кровь, и Гилман потерял сознание.
Очнулся он поутру 22 апреля. Левое запястье ныло, манжета побурела от засохшей крови. Воспоминания путались, однако ж сцена с участием черного человека в неведомом месте запечатлелась в сознании четко и ярко. Должно быть, во сне юношу укусила крыса, что и породило кульминацию ночного кошмара. Отворив дверь, Гилман убедился, что мука на полу в коридоре не потревожена — если не считать гигантских следов неотесанного увальня, что жил в противоположном конце мансарды. Значит, на сей раз о сомнамбулизме речи не идет. Но с крысами давно пора что-то делать. Надо пожаловаться домовладельцу. Гилман снова попытался закупорить нору у основания наклонной стены, забив в нее подсвечник подходящего размера. В ушах стоял чудовищный звон — точно остаточное эхо какого-то жуткого шума из снов.
Он вымылся, переоделся и попытался вспомнить, что же произошло во сне после сцены в фиолетовом мареве, но в сознании не вырисовывалось ничего определенного. Само место событий наверняка соотносилось с заколоченным чердаком, мысли о котором поначалу так властно подчинили себе воображение Гилмана, но последующие впечатления были нечетки и тусклы. Проступали смутные образы сумеречных пропастей и еще более обширных и черных бездн за ними — бездн, в которых отсутствовали какие бы то ни было устоявшиеся представления о формах. Гилмана перенесли туда сгусток пузырей и маленький многогранник, его навязчивые преследователи, но они, как и сам Гилман, превратились в клочья молочно-белого, чуть подсвеченного тумана в еще более отдаленной пустоте запредельной тьмы. Впереди маячило что-то еще — более крупный обрывок тумана то и дело сгущался до неназываемого приближения к той или иной форме — и Гилман подумал, что продвижение их следует не по прямой линии, но скорее по чужеродным кривым и спиралям некоего эфирного водоворота, который подчинялся законам, неведомым физикам и математикам любой из мыслимых вселенных. Наконец смутно обозначились громадные мятущиеся тени, чудовищная, не вполне звуковая пульсация и тонкий монотонный посвист незримой флейты — и на этом воспоминания оборвались. Гилман решил, что последнее представление он почерпнул из «Некрономикона», в котором прочел про бездумную сущность именем Азатот, что правит временем и пространством с черного трона посреди причудливого окружения в самом сердце Хаоса.
Когда Гилман смыл кровь, ранка оказалась ничтожной: вот только расположение двух крошечных точек изрядно озадачивало. Гилману пришло в голову, что на постельном покрывале кровавых следов не осталось — что было по меньшей мере странно, учитывая количество крови на коже и на манжете. Или он расхаживал во сне по комнате, и крыса укусила его, пока он сидел на стуле или замер в какой-нибудь менее естественной позе? Гилман осмотрел все углы, ища бурые пятна или капли, но так ничего и не нашел. Пожалуй, стоит посыпать мукой пол в комнате, а не только в коридоре, — решил он; хотя никаких новых подтверждений хождения во сне, наверное, уже и не требуется. Он о своем недуге знает: теперь осталось только положить ему конец. Надо попросить о помощи Фрэнка Элвуда. Этим утром странные призывы из космоса словно бы поутихли, зато на их место заступило новое ощущение, еще более необъяснимое. То был неясный, но настойчивый порыв бежать от всего, что его окружает, но куда — Гилман ведать не ведал. Он взял со стола странную шипастую статуэтку — и юноше померещилось, что прежняя тяга на север чуть усилилась; но если и так, новое, непонятное побуждение полностью ее заглушало.
Он отнес шипастую статуэтку в комнату Элвуда, усилием воли не вслушиваясь в плаксивые стенания ткацкого подмастерья, что доносились с первого этажа. Элвуд, слава небесам, был дома и уже встал. До завтрака и ухода в колледж оставалось немного времени на беседу, и Гилман торопливо пересказал приятелю свои недавние сны и страхи. Элвуд сочувственно выслушал гостя и согласился, что надо что-то делать. Изможденный, осунувшийся вид бедняги поразил его до глубины души; не оставил он без внимания и странный, необычный загар, что в течение последней недели отмечали столь многие. Однако что тут сказать, он не знал. Он ни разу не видел Гилмана расхаживающим во сне, и что это за загадочная статуэтка, понятия не имел. Однажды вечером он слыхал, как франкоканадец, живущий под комнатой Гилмана, беседовал с Мазуревичем. Они жаловались друг другу на то, как боятся прихода Вальпургиевой ночи, до которой оставалось уже всего-то несколько дней, и вслух жалели бедного, обреченного молодого джентльмена. Дерошер, жилец из комнаты под мансардой Гилмана, рассказывал, что по ночам раздаются шаги как обутых, так и босых ног и что однажды ночью, в страхе прокравшись наверх, чтобы заглянуть в замочную скважину к Гилману, он увидел фиолетовый свет. Подсматривать он так и не дерзнул, признавался он Мазуревичу, — ибо фиолетовый свет просачивался в щель под дверью. А еще из комнаты слышались тихие голоса, и… — На этом франкоканадец понизил голос до невнятного шепота.
Элвуд понятия не имел, что послужило для этих суеверных олухов материалом для сплетен: вероятно, воображение их разыгралось, с одной стороны, оттого, что Гилман засиживался за книгами допоздна и сонно расхаживал по комнате, рассуждая сам с собою, — а с другой стороны, близился канун первого мая, дата, по традиции внушавшая немалый страх. Не приходилось отрицать, что Гилман и впрямь разговаривает во сне, и, конечно же, не кто иной, как Дерошер, имевший привычку подслушивать у замочной скважины, распустил ложный слух о фиолетовом свечении из сна. Эти простецы горазды навоображать себе любые странности, о которых случайно услышали. Что до плана действий — Гилману лучше бы на время перебраться в комнату Элвуда, дабы не оставаться по ночам одному. Элвуд, если не уснет сам, непременно разбудит его, как только сосед заговорит во сне или попытается встать. Кроме того, необходимо как можно скорее посоветоваться с врачом. А между тем они покажут шипастую статуэтку в разных музеях и кое-кому из профессоров: попросят идентифицировать ее и скажут, что нашли экспонат на городской помойке. Кроме того, Домбровски просто обязан потравить крыс в старых стенах.
Ободренный беседой с Элвудом, в тот день Гилман даже пошел на занятия. Его по-прежнему странно тянуло туда и сюда, но он не без успеха противостоял всем призывам. Во время «окна» в расписании он показал странную статуэтку нескольким профессорам: все они чрезвычайно заинтересовались находкой, но так и не смогли пролить свет ни на ее природу, ни на происхождение. В ту ночь Гилман спал на кушетке, что по просьбе Элвуда домохозяин перенес в комнату на третьем этаже, и впервые за много недель его не осаждали тревожные сны. Но лихорадка не спадала, а плаксивые подвывания ткацкого подмастерья изрядно действовали на нервы.
В течение следующих нескольких дней Гилман наслаждался почти полной неуязвимостью для зловещих явлений. Элвуд уверял, что ни разговаривать, ни ходить во сне сосед не порывался; между тем домовладелец повсюду разложил крысиный яд. Единственное, что тревожило, — так это пересуды среди суеверных иностранцев, воображение которых разыгралось ни на шутку. Мазуревич настойчиво уговаривал Гилмана разжиться распятием, и наконец сам всучил ему крест, по его словам, благословленный праведным отцом Иваницки. У Дерошера тоже нашлось что сказать — он, собственно, настаивал, что в пустой комнате над ним в первую и вторую ночь после переселения Гилмана слышались сторожкие шаги. Полу Чойнски мерещились ночами разные звуки в коридорах и на лестницах; он уверял, что однажды дверь его осторожно подергали снаружи, а миссис Домбровски клялась, что впервые со Дня Всех Святых видела Бурого Дженкина. Но все эти наивные россказни, конечно же, ничего не значили; дешевый металлический крест так и остался висеть без дела на ручке шкафа в квартире Элвуда.
Три дня кряду Гилман с Элвудом опрашивали местные музеи, пытаясь идентифицировать загадочную шипастую статуэтку, — но безуспешно. Однако ж повсюду интерес она вызывала немалый; абсолютная чужеродность фигурки бросала научному любопытству серьезный вызов. Одну из тонких расходящихся рук-спиц отломили и подвергли химическому анализу; о результатах в кулуарах колледжа толкуют и сегодня. Профессор Эллери обнаружил в странном сплаве платину, железо и теллур; но к ним примешивались по меньшей мере три явных элемента с высоким атомным весом, классификации совершенно не поддающиеся. Они не только не соответствовали никакому из известных элементов, но даже не вписывались в пустые места, оставленные для гипотетических элементов в периодической системе. Эта тайна не раскрыта и по сей день, хотя сама статуэтка выставлена в музее Мискатоникского университета.
Утром 27 апреля в комнате, где гостил Гилман, появилась свежая крысиная нора, но Домбровски заколотил ее жестью в тот же день. Яд ощутимого результата не дал; царапанье и возня в стенах тише не сделались. В тот вечер Элвуд где-то задержался, Гилман его ждал. Ему не хотелось засыпать одному в комнате, тем более что в вечерних сумерках ему померещилась отвратительная старуха, образ которой столь ужасным образом перенесся в его сны. Гилман гадал, кто она такая и что громыхало жестянкой в мусорной яме у входа на грязный внутренний двор. А карга его, похоже, заметила и злобно ему ухмыльнулась — хотя, может быть, он просто навоображал себе невесть чего.
На следующий день оба юноши очень устали и знали, что с приходом ночи заснут как убитые. Вечером они вяло потолковали о математических изысканиях, что всецело и, вероятно, не к добру поглощали внимание Гилмана, и пообсуждали связь между древней магией и фольклором, что представлялась столь загадочной — и столь возможной. Вспомнили и про старую Кезию Мейсон; Элвуд признал, что Гилман имеет веские научные основания думать, что она, вероятно, случайно оказалась обладательницей странного и важного знания. Тайные культы, к которым принадлежали ведьмы, нередко хранили и передавали удивительные секреты из древних, позабытых веков; очень может статься, что Кезия и в самом деле овладела искусством проходить сквозь врата измерений. Предания все как одно утверждают, будто материальные преграды ведьму удержать не в силах; и кому ведомо, что стоит за старыми сказками о ночных полетах на помеле?
Дано ли современному студенту обрести сходные способности благодаря одним только математическим изысканиям, предстояло еще проверить. Гилман сам признавал, что успех, чего доброго, приведет к опасным и немыслимым ситуациям; ибо кто сумел бы предсказать, что за условия царят в соседнем, но обычно недоступном измерении? С другой стороны, сколь безграничные возможности рисует разыгравшееся воображение! В определенных областях пространства время, вероятно, не существует; переносясь в эти области и оставаясь в них, можно сохранять жизнь и молодость до бесконечности; процессы обмена веществ и старения утратят над человеком власть, кроме как в те недолгие моменты, когда он навещает свое собственное или сходные измерения. Можно, например, нырнуть в безвременье — и выйти из него в какой-нибудь отдаленной эпохе земной истории, причем столь же молодым, как и прежде.
Удавалось ли такое хоть кому-нибудь, остается разве что гадать — с большей или меньшей степенью достоверности. Древние легенды невнятны и противоречивы, а в историческое время все попытки преодолеть запретные пропасти, по-видимому, осложняются странными и жуткими союзами с существами и посланниками извне. Взять вот исконную фигуру посредника или глашатая тайных и ужасных сил — «Черного Человека» ведьминского культа или «Ньярлатхотепа» из «Некрономикона». А ведь есть еще неразрешимая проблема малых посланцев — квазиживотных или противоестественных гибридов, что в легендах именуются «ведьминскими фамильярами». Глаза у собеседников уже закрывались сами собою, и на этом разговор прервался. Уже укладываясь спать, Гилман и Элвуд услышали, как в дом ввалился Джо Мазуревич, изрядно навеселе, и поневоле содрогнулись: такое исступленное отчаяние звучало в его заунывных молитвах.
Той ночью Гилман снова увидел фиолетовое свечение. Во сне он слышал царапанье и грызущее похрустывание в перегородках, потом словно бы кто-то неловко подергал за щеколду. Затем он увидел, как старуха и мелкая мохнатая тварь идут прямиком к нему по застеленному ковром полу. В лице карги сияло жестокое торжество; крохотный желтозубый монстр, глумливо хихикая, указал на фигуру Элвуда, спящего глубоким сном на своей кровати в противоположном конце комнаты. Парализующий страх пресек все попытки закричать. Как и в предыдущий раз, безобразная старуха схватила Гилмана за плечи, рывком выдернула из постели и утащила в пустоту. И вновь мимо замелькала беспредельность визжащих сумеречных пропастей, а в следующую секунду он, по-видимому, оказался в темном, слякотном, незнакомом переулке, где воздух был пропитан зловонными запахами, а слева и справа вздымались прогнившие стены старых домов.
Впереди шел Черный Человек в мантии — тот самый, которого Гилман видел в каморке с конусообразным потолком в другом своем сне, а на небольшом расстоянии обнаружилась и старуха — она манила Гилмана рукой и строила властные гримасы. Бурый Дженкин с игривой ласковостью терся о лодыжки Черного Человека, ступни которого тонули в глубокой грязи. Справа обозначился темный дверной пролет; Черный Человек молча указал на него. Туда-то и нырнула гримасничающая старуха, таща за собою Гилмана за рукав пижамы. На лестнице нависала вонь, ступени зловеще поскрипывали; старуха словно бы излучала слабый фиолетовый свет; но вот наконец лестничная площадка — и дверь. Мерзкая карга повозилась немного со щеколдой, толкнула дверь, знаком велела Гилману ждать — и исчезла в черном проеме.
Обострившийся слух юноши уловил жуткий сдавленный крик, и вскоре старая карга вышла из комнаты с маленькой бесчувственной фигуркой, которую и всунула спящему в руки, точно носильщику. При виде этой фигурки и выражения на ее лице Гилман словно бы сбросил с себя чары. В потрясении своем не в силах даже закричать, он опрометью кинулся вниз по вонючей лестнице и в грязь снаружи; но Черный Человек, ждавший у входа, схватил беглеца и начал его душить. Гилман потерял сознание: последнее, что он слышал, — это тихое, пронзительное хихиканье клыкастого крысоподобного уродца.
Утром 29-го числа Гилман проснулся в водовороте кошмара. Едва он открыл глаза, как сразу понял: случилось что-то ужасное. Ведь он снова находился в своей старой комнате в мансарде, с наклонной стеною и потолком: раскинулся на незастеленной за ненадобностью кровати. Горло необъяснимо болело; с трудом приняв сидячее положение, Гилман с нарастающим страхом обнаружил, что его ступни и штанины пижамы заляпаны засохшей грязью. В первое мгновение воспоминания его безнадежно путались, но по крайней мере не приходилось сомневаться: приступ сомнамбулизма повторился. Элвуд, верно, уснул слишком крепко, ничего не услышал и не остановил гостя. На полу остались беспорядочные грязные следы, но, как ни удивительно, до двери они не доходили. Чем дольше Гилман их разглядывал, тем более странными они казались: в придачу к тем, что явно принадлежали ему самому, там были и другие отпечатки, поменьше, и почти круглые, вроде как от ножек большого стула или стола, вот только большинство их словно бы делились напополам. А еще — грязная дорожка характерных крысиных следов вела из свежей норы и обратно. Неописуемое смятение и ужас при мысли о том, что он сходит с ума, подчинили себе Гилмана, когда он с трудом доковылял до двери и увидел, что грязных отпечатков по другую ее сторону нет. Чем яснее вспоминал Гилман свой жуткий сон, тем бо́льшая паника его охватывала; и унылый речитатив Джо Мазуревича двумя этажами ниже лишь усиливал его отчаяние.
Спустившись в комнату Элвуда, Гилман растолкал спящего хозяина и принялся рассказывать о том, что с ним случилось, но Элвуд даже предположить не мог, как такое возможно. Где Гилман был, как умудрился вернуться в комнату, не оставив следов в коридоре? — любые догадки заходили в тупик. А потом еще эти темные лилово-синие пятна на горле: можно подумать, Гилман пытался сам себя задушить. Он приложил к синякам руки — и обнаружил, что его собственные пальцы отпечаткам нимало не соответствуют. Пока друзья беседовали, в дверь заглянул Дерошер: сообщить, что в предрассветной темноте слышал над головой ужасный грохот. Нет-нет, на лестнице никого после полуночи не было — хотя незадолго до полуночи он слышал слабый отзвук шагов в мансарде, а потом еще крадущуюся поступь вниз, которая ему очень не понравилась. Недоброе это время года для Аркхема, прибавил гость. Молодому джентльмену лучше бы носить на себе принесенный Джо Мазуревичем крестик. Здесь даже днем и то опасно; ведь после рассвета в доме раздавались странные звуки — вот, например, тоненький детский вскрик, тут же и заглушенный.
Гилман машинально отправился на занятия, но сосредоточиться на учебе никак не мог. Им овладели мрачные предчувствия и опасения; он словно бы ждал сокрушительного удара. В полдень он пообедал в университетском клубе и в ожидании десерта взял с соседнего сиденья газету. Но десерта он так и не отведал: на первой же странице он прочел такое, отчего все тело его обмякло, глаза расширились; он смог лишь расплатиться по счету да, пошатываясь, доковылять до комнаты Элвуда.
Накануне ночью случилось странное похищение в проулке Орни: бесследно исчез двухлетний ребенок туповатой прачки именем Анастасия Волейко. Мать, как выяснилось, вот уже какое-то время страшилась подобного исхода; но причины для страха приводила столь нелепые, что их никто не принимал во внимание. Она якобы с самого начала марта то и дело видела в доме Бурого Дженкина, и по его ужимкам и хихиканью поняла: маленький Ладислас не иначе как предназначен в жертву на страшном шабаше в Вальпургиеву ночь. Она просила соседку, Марию Кзанек, ночевать в той же комнате и попытаться защитить ребенка, но Мария не осмелилась. В полицию обращаться было бесполезно: ей бы все равно не поверили. Детей так забирали каждый год, сколько она себя помнила. А ее дружок Пит Стовацки помочь и вовсе отказывался: ребенок-де ему только мешал.
Но что бросило Гилмана в холодный пот, так это рассказ двоих припозднившихся гуляк, что проходили мимо входа в проулок как раз после полуночи. Они признавали, что были пьяны, однако оба клялись и божились, будто видели, как в темный проход прокралась странно одетая троица. А именно: высокий негр в мантии, старушенция в лохмотьях и белый юноша в пижаме. Старуха волокла за собой юношу, а у ног негра ласкалась и резвилась в бурой грязи ручная крыса.
Гилман просидел в оцепенении до самого вечера. Так и застал его по возвращении домой Элвуд — который между тем тоже прочел газеты и сделал самые жуткие выводы. Теперь уже ни один не сомневался: к ним подступает нечто пугающе серьезное. Между фантомами ночных кошмаров и реальностью объективной действительности выкристаллизовалась чудовищная, немыслимая связь, и лишь неусыпная бдительность способна была отвратить события еще более ужасные. Безусловно, Гилману необходимо рано или поздно обратиться к невропатологу, но не прямо сейчас, когда все газеты пестрят новостями о похищении.
Загадочность происшедшего просто-таки сводила с ума. Минуту Гилман с Элвудом шепотом делились друг с другом теориями самого безумного толка. Неужто Гилман бессознательно преуспел в своем изучении пространства и его измерений куда больше, нежели рассчитывал? Неужто он и в самом деле ускользал за пределы нашей планеты в области, недоступные ни догадкам, ни воображению? Где же бывал он в ночи демонического отчуждения — если и вправду где-то бывал? Ревущие сумеречные бездны — зеленый склон холма — раскаленная терраса — призывы со звезд — запредельный черный водоворот — Черный Человек — грязный проулок и лестница — старуха-ведьма и клыкастый, мохнатый монстр — сгусток пузырей и многогранничек — странный загар — рана на запястье — необъяснимая фигурка — заляпанные грязью ноги — отметины на горле — россказни и страхи суеверных иностранцев — что все это значило? Применимы ли здесь вообще законы здравого смысла?
Той ночью никто из них так и не заснул, но на следующий день оба пропустили занятия и вздремнули немного. Было 30 апреля; с приходом сумерек настанет адская пора шабаша, которой так страшились все иностранцы и все суеверные старики. Мазуревич вернулся домой в шесть и рассказал, что рабочие на фабрике перешептываются, будто Вальпургиевы оргии назначены в темном овраге за Луговым холмом, где на поляне, пугающе лишенной всякой растительности, высится древний белый камень. Кое-кто даже подсказал полиции искать пропавшего ребенка Волейко именно там, да только никто не верит, будто из этого хоть что-нибудь выйдет. Джо настаивал, чтобы бедный молодой джентльмен надел на шею крестик на никелевой цепочке, и, не желая огорчать соседа, Гилман послушался и спрятал крест под рубашку.
Поздно вечером друзья устроились в креслах; молитвенный речитатив ткацкого подмастерья этажом ниже оказывал усыпляющее действие: глаза их закрывались сами собою. Гилман хоть и клевал носом, но бдительности не терял: его сверхъестественно обострившийся слух словно бы пытался уловить на фоне звуков старинного дома некий еле различимый, пугающий шум. В памяти всколыхнулись омерзительные воспоминания о прочитанном в «Некрономиконе» и в «Черной книге»; внезапно Гилман осознал, что раскачивается взад-вперед, подстраиваясь под неописуемо жуткие ритмы, что якобы сопровождают гнуснейшие обряды шабаша и берут свое начало за пределами постижимого нами времени и пространства.
Очень скоро Гилман осознал, к чему прислушивается — к адскому распеву жрецов в далекой темной долине. Откуда он знал, чего они ждут? Откуда он знал, когда именно Нахаб и ее приспешник вынесут полную до краев чашу, что последует за черным петухом и черным козлом? Видя, что Элвуд заснул, Гилман попытался закричать и разбудить его. Однако отчего-то в горле у него стеснилось. Он не принадлежит сам себе. Разве не поставил он свою подпись в книге Черного Человека?
А затем его возбужденный, болезненный слух уловил далекие, прилетевшие с ветром ноты. За много миль холмов, полей и улиц донеслись они, но Гилман их все равно узнал. Пора зажечь костры; настало время плясок. Как может он удержаться — и не пойти? Что за тенета его опутали? Математика — фольклор — дом — старуха Кезия — Бурый Дженкин — а вот и свежая крысиная нора в стене рядом с его кушеткой. На фоне далекого распева и куда более близких молений Джо Мазуревича послышался новый звук — потаенное, настойчивое царапанье в перегородках. Если бы только электрический свет не погас! В крысиной норе показалось клыкастое, бородатое личико — то самое ненавистное лицо, что, как он с запозданием осознал, пугающе-гротескно повторяет черты старухи Кезии, — и чья-то рука уже возилась с задвижкой двери.
Перед глазами замелькали визжащие сумеречные бездны; во власти бесформенной хватки переливчатого сгустка пузырей Гилман ощущал себя совершенно беспомощным. Впереди несся калейдоскопический многогранничек; на протяжении всего пути через пустоту густел, нарастал, ускорялся зыбкий рисунок тонов, словно предвещая некий невыразимый, невыносимый апофеоз. Гилман, похоже, знал, чего ждать — чудовищного взрыва Вальпургиевых ритмов, в космическом тембре которых сосредоточатся все первичные и конечные пространственно-временные вихри. Вихри эти бушуют за скоплением бессчетных материальных сфер и порою прорываются в размеренных отзвуках, что слабым эхом пронизывают собою все уровни существования и через все миры придают отвратительный смысл отдельным страшным временам.
Секунда — и все исчезло. Гилман снова был в тесной каморке с конусообразным потолком и покатым полом, залитой фиолетовым светом; взгляд различал низкие ящики с древними книгами, скамью и стол, разные редкости и треугольный провал сбоку. На столе лежало тщедушное белое тельце — маленький мальчик, раздетый и без сознания. По другую сторону зловеще ухмылялась мерзкая старуха, сжимая в правой руке блестящий нож с причудливой рукоятью, а в левой — странной формы чашу из светлого металла, покрытую прихотливой гравировкой и с изящными боковыми ручками. Она нараспев произносила хриплым голосом какое-то заклинание на непонятном Гилману языке, однако ж нечто похожее со всеми предосторожностями цитировалось в «Некрономиконе».
Место действия обрело отчетливость. На глазах у Гилмана старая карга наклонилась вперед и протянула пустую чашу через стол — и, не владея собою, он потянулся навстречу и принял чашу в обе руки, отмечая попутно ее сравнительную легкость. В тот же миг над краем треугольного черного провала слева показалась отвратительная мордочка Бурого Дженкина. Карга жестом велела держать чашу в определенном положении и занесла громадный гротескный нож над крошечной бледной жертвой — так высоко, как смогла. Клыкастая мохнатая тварь, хихикая, подхватила неведомое заклинание; ведьма хрипло произносила омерзительные ответствия. Гилман почувствовал, как мучительное, острое отвращение пробилось сквозь умственную и эмоциональную заторможенность, и невесомый металл задрожал в его руке. Секундой позже нож пошел вниз — и чары окончательно рассеялись. Гилман отбросил чашу — она ударилась об пол с лязгом, подобным звону колокола, — и рванулся помешать чудовищному преступлению.
В мгновение ока он метнулся вверх по покатому полу мимо стола, вырвал нож из старухиных когтей и отшвырнул его прочь; клинок со стуком провалился в узкую треугольную дыру. Но в следующее мгновение роли поменялись: смертоносные когти крепко вцепились ему в горло, а сморщенное лицо исказилось от безумной ярости. Гилман чувствовал, как цепочка дешевого крестика впивается ему в шею, и перед лицом опасности задумался — а что станется с адской старухой при виде распятия? Злобная карга душила его едва ли не со сверхчеловеческой мощью, но он из последних сил пошарил под рубашкой и извлек на свет металлический символ, оборвав цепочку.
Увидев крест, ведьма запаниковала, железная хватка ослабла — достаточно, чтобы Гилман сумел высвободиться. Он оторвал стальные когти от своего горла и спихнул бы каргу в черный провал, если бы та не вцепилась в него снова, словно бы ощутив прилив новых сил. На сей раз Гилман решил отплатить старухе ее же монетой — и в свой черед потянулся к ее шее. Не успела ведьма понять, что он задумал, как Гилман обвил ее шею цепочкой от креста — и сдавил как можно крепче. Пока старуха билась в последних судорогах, что-то укусило его в лодыжку: это Бурый Дженкин подоспел на помощь хозяйке. Одним могучим пинком Гилман отшвырнул уродца за край черного провала: тот жалобно пискнул где-то далеко внизу.
Гилман понятия не имел, убил ли он старую каргу; он просто оставил ее лежать там, где она упала. Юноша отвернулся к столу — и глазам его открылось зрелище, от которого едва не порвалась последняя ниточка разума. Пока он боролся с ведьмой, Бурый Дженкин, жилистый и крепкий, с четырьмя крохотными, дьявольски ловкими ручками, времени зря не терял, и все усилия Гилмана пошли прахом. Своим вмешательством он уберег грудь жертвы от ножа — но не запястье от желтых клыков мохнатого демона: чаша, еще недавно валяющаяся на полу, теперь стояла рядом с безжизненным тельцем, полная до краев.
В сонном бреду Гилман слышал адские, внеземные ритмы распева — отголосок бесконечно далекого шабаша, и знал, что Черный Человек наверняка там. Сбивчивые воспоминания мешались с математикой; Гилману казалось, что подсознание его владеет конфигурацией углов, посредством которых он сумеет вернуться в привычный мир — на сей раз один, без посторонней помощи. Он был уверен, что находится на заколоченном с незапамятных времен чердаке над своей комнатой, но очень сомневался, сможет ли бежать через давным-давно заделанный выход, или, допустим, пробив наклонный пол. Кроме того, покинув чердак из сновидения, не окажется ли он всего-навсего в доме из того же сна — в противоестественном отображении реально существующего места? А он понятия не имел, как именно соотносятся сон и действительность во всех пережитых приключениях.
Значит, ему остается пугающий переход через размытые пропасти: ведь бездны будут вибрировать Вальпургиевыми ритмами и он наконец услышит доселе сокрытую пульсацию Вселенной — то, что внушало ему смертельный ужас. Гилман уже сейчас улавливал низкую чудовищную вибрацию и нимало не заблуждался насчет ее темпа. В день шабаша эта вибрация всегда нарастала и распространялась по всем мирам, призывая посвященных к неназываемым обрядам. Половина распевов шабаша вторили этой смутно различимой пульсации — и ни одно ухо на земле не выдержало бы всей ее разверстой космической полноты. Кроме того, как он может быть уверен, что не окажется на омытом зеленым сиянием склоне холма далекой планеты, на мозаичной террасе над городом чудовищ с щупальцами где-то за пределами галактики или в спиральных черных водоворотах той конечной пустоты Хаоса, где царит бездумный демонический султан Азатот?
Как раз перед тем, как ему совершить прыжок, фиолетовый свет погас — и Гилман остался в непроглядной темноте. Ведьма — старуха Кезия — Нахаб — должно быть, умерла. А на фоне далекого распева шабаша и поскуливания Бурого Дженкина в провале внизу Гилман словно бы различил новый, еще более неистовый вой из неведомых глубин. Джо Мазуревич — молитвы против Ползучего Хаоса внезапно зазвучали необъяснимо торжествующим выкриком — миры сардонической реальности, посягающие на водовороты лихорадочных снов… Йа! Шуб-Ниггурат, Коза с Тысячей Отпрысков…
Гилмана нашли на полу его причудливо спланированной комнаты в старой мансарде задолго до рассвета, ибо на ужасный крик тут же сбежались и Дерошер, и Чойнски, и Домбровски, и Мазуревич; пробудился даже Элвуд, крепко спавший в своем кресле. Гилман был жив, но в полубеспамятстве; открытые глаза неотрывно глядели в никуда. На шее синели отпечатки смертоносных пальцев, а на левой лодыжке обнаружился болезненный крысиный укус. Одежда его была вся измята, креста недоставало. Элвуд задрожал, боясь даже помыслить, как проявился сомнамбулизм его друга на этот раз. Потрясенный Мазуревич был явно не в себе — ему, дескать, явился некий «знак» в ответ на молитвы — и исступленно крестился всякий раз, как из-за наклонной стены доносились крысиный писк и повизгивание.
Сновидца уложили на кушетку в комнате Элвуда и послали за доктором Малковски — местным практикующим врачом, умеющим при необходимости держать язык за зубами. Врач сделал Гилману две подкожные инъекции — и тот, расслабившись, задремал. В течение дня пациент порою приходил в сознание и бессвязным шепотом пересказывал свой последний сон Элвуду. То был весьма болезненный процесс, причем с самого начала выяснилась новая загадочная подробность.
Гилман — чей слух еще недавно обладал сверхъестественной чуткостью — теперь совершенно оглох. Опять спешно призвали доктора Малковски; и тот сообщил Элвуду, что у пациента — разрыв обеих барабанных перепонок, словно бы под воздействием какого-то звука колоссальной мощности, что человек вынести не в силах. Откуда бы взяться за последние несколько часов такому звуку и почему он не переполошил всю Мискатоникскую долину, честный доктор ответить не мог.
Элвуд писал свои реплики на бумаге, так что поддерживать разговор труда не составило. Оба не знали, что и думать о сумбурных событиях, и решили, что самое лучшее — вообще о них больше не вспоминать. Друзья, однако, сошлись на том, что древний проклятый дом необходимо покинуть, как только переезд станет возможен. В вечерних газетах рассказывалось о полицейской облаве на подозрительных гуляк в ущелье за Луговым холмом незадолго до рассвета; упоминалось и о стоячем белом камне, что испокон веков служил объектом суеверного поклонения. Никого, впрочем, не задержали: но среди разбежавшихся участников оргии заметили дюжего негра. В соседней колонке говорилось, что никаких следов пропавшего ребенка именем Ладислас Волейко не найдено.
Но той же ночью случилось самое страшное. Элвуд так и не смог позабыть об этом кошмаре и вынужден был оставить занятия вплоть до конца семестра — с ним приключился нервный срыв. Ему казалось, весь вечер напролет он слышал в стенах крысиную возню, да только не придал этому значения. А затем, спустя много времени после того, как они с Гилманом улеглись спать, раздался душераздирающий крик. Элвуд вскочил с постели, включил свет, кинулся к гостевой кушетке. Лежащий издавал звуки, в которых не осталось ничего человеческого — словно терзаемый неописуемой мукой. Он извивался и корчился под покрывалом, а на ткани постепенно проступало огромное красное пятно.
Элвуд не смел к нему прикоснуться — но мало-помалу вопли и корчи прекратились. К тому времени в дверях уже столпились Домбровски, Чойнски, Дерошер, Мазуревич и жилец с верхнего этажа; а жену хозяин послал позвонить доктору Малковски. Внезапно все завизжали: здоровенная, похожая на крысу тварь выпрыгнула из-под окровавленного постельного белья и побежала через всю комнату к свежей норе. Когда же прибыл доктор и осторожно приподнял страшные покрывала, Уолтер Гилман был уже мертв.
Можно лишь предположить, что убило Гилмана, — вдаваться в подробности было бы слишком жестоко. Кто-то выгрыз ему сердце, проев тело почти насквозь. Домбровски, вне себя от того, что все его попытки потравить крыс заканчиваются ничем, выбросил из головы все мысли об аренде и еще до конца недели перебрался вместе со всеми своими прежними жильцами в обветшалый, но не настолько старый дом на Уолнат-стрит. Труднее всего оказалось утихомирить Джо Мазуревича: унылый ткацкий подмастерье напивался всякий день и неумолчно ныл да бормотал что-то про призраков и прочие ужасы.
Как выяснилось, в ту последнюю жуткую ночь Джо наклонился приглядеться к алым крысиным следам, что вели от кушетки Гилмана к ближайшей норе. На ковре отпечатки терялись, но между краем ковра и плинтусом оставался промежуток настила. Там Мазуревич обнаружил нечто чудовищное — или так ему показалось, потому что никто другой так с ним и не согласился, невзирая на бесспорную необычность следов. Дорожка на полу и впрямь совершенно не походила на обычные отпечатки крысиных лап, но даже Чойнски с Дерошером отказывались признавать, насколько они напоминали оттиски четырех крохотных человеческих рук.
С тех пор дом больше не сдавался внаем. Как только Домбровски съехал, на здание опустился покров окончательного запустения: люди избегали его в силу прежней репутации, а также и из-за возникшего непонятно откуда зловония. Видимо, крысиный яд бывшего домовладельца все-таки сработал, потому что вскоре после его отъезда запах из особняка стал изрядно досаждать соседям. Санитарная инспекция проследила источник смрада до заколоченных пустот над восточной комнатой в мансарде и рядом с нею, и сошлись на том, что крыс тут, верно, передохло бессчетное множество. Однако ж было решено, что не стоит трудиться взламывать и дезинфицировать давно заделанные помещения: тяжелый дух скоро развеется, а район тут не из тех, где пристало привередничать. И в самом деле, по району всегда ходили смутные слухи о необъяснимом зловонии, что ощущалось на верхних этажах Ведьминого дома сразу после кануна первого мая и Дня Всех Святых. Соседи неохотно смирились с бездействием властей — но тем не менее смрад послужил дополнительным аргументом против дома. В итоге инспектор по строительству признал особняк непригодным к проживанию.
Сны Гилмана и сопутствующие им обстоятельства объяснить так и не удалось. Элвуд, чья версия событий порою способна свести с ума, вернулся в колледж следующей осенью и закончил его в июне. Он обнаружил, что городских сплетен на тему призраков изрядно поубавилось; не приходится отрицать, что со времен гибели Гилмана ни старуха Кезия, ни Бурый Дженкин больше не появлялись — невзирая на отдельные слухи про зловещее хихиканье в покинутом доме, слухи, просуществовавшие почти столько же, сколько само здание. Элвуду, пожалуй, повезло, что его не было в Аркхеме в тот год, когда некие события внезапно возродили к жизни местные россказни о древних ужасах. Разумеется, впоследствии он о событиях узнал и испытал невыразимые муки, в замешательстве строя догадки самые мрачные; но лучше уж гадать, чем находиться рядом и, чего доброго, насмотреться на такое, чего видеть не стоит.
В марте 1931 года ураган сорвал с пустого Ведьминого дома крышу и высокую трубу, так что мешанина из растрескавшихся кирпичей, почерневшей мшистой дранки и прогнивших досок и брусьев обрушилась в мансарду и продавила в ней пол. Весь верхний этаж завалило обломками сверху, но никто не потрудился разгрести этот мусор, вплоть до неизбежного сноса обветшалого строения. Этот решающий шаг был предпринят в следующем декабре; именно тогда прежнюю гилманову комнату с неохотой расчистили боязливые рабочие — и по городу опять поползли пересуды.
Среди всякого хлама, что просыпался сквозь старинный покатый потолок, обнаружилось такое, отчего рабочие остолбенели — и тут же вызвали полицию. Позже полиция в свою очередь призвала следователя и нескольких университетских профессоров. Нашлись кости — раздробленные и перемолотые, но вполне узнаваемо человеческие — однако ж, как ни странно, датировались они сравнительно недавним периодом, в то время как единственное место, способное послужить им укрытием, то есть низкий чердак с покатым полом, был, по-видимому, заколочен и ни для кого не доступен вот уже много лет. Врач при следователе определил, что часть косточек принадлежала маленькому ребенку, а другие найденные вперемешку с клочьями прогнившей бурой ткани, — довольно низкорослой и согбенной женщине преклонных лет. После того как мусор был тщательно просеян, на свет извлекли множество крохотных косточек, останки угодивших под обвал крыс, а также и крысиные косточки более старые, обглоданные острыми клычками — что наводило на противоречивые размышления.
А еще во всей этой мешанине обнаружились фрагменты множества книг и бумаг и желтоватая пыль — все, что осталось от разложившихся книг и бумаг, еще более древних. По-видимому, все они без исключения были посвящены черной магии в ее наиболее продвинутых и чудовищных формах; а то, что некоторые предметы явно относятся ко времени более позднему, до сих пор не поддается объяснению — точно так же как и тайна свежих человеческих костей. Еще большее недоумение вызывает абсолютное единообразие неразборчивых архаических записей на огромном количестве бумаг, состояние которых, равно как и водяные знаки, предполагает временной промежуток по меньшей мере от 150 до 200 лет. Однако ж некоторые считают, что главная тайна — это множество совершенно необъяснимых предметов, разбросанных среди мусора и в разной степени поврежденных — предметов, форма, материал, способ исполнения и предназначение которых ставят в тупик. В числе этих находок, что привели в восторг нескольких профессоров Мискатоникского университета, была и изрядно попорченная чудовищная статуэтка, явно схожая со странной фигуркой, что Гилман подарил музею колледжа, — только крупнее, сработанная не из металла, а из характерного синеватого камня, и стояла она на причудливо угловатом пьедестале, покрытом неразборчивыми иероглифами.
Археологи и антропологи по сей день пытаются объяснить странные узоры, выгравированные на смятой чаше из какого-то легкого металла: с внутренней стороны она была покрыта зловещими бурыми пятнами. Иностранцы и легковерные старушки также готовы порассуждать насчет современного никелевого крестика с оборванной цепочкой: его тоже нашли в мусоре, а Джо Мазуревич, дрожа, опознал в нем то самое распятие, что сам подарил бедняге Гилману много лет назад. Иные полагают, что это крысы утащили крестик на заколоченный чердак, а другие считают, будто он так с тех пор и валялся на полу в уголке старой гилмановой комнаты. А третьи, включая Джо, строят догадки настолько дикие и фантастические, что на трезвую голову и не поверишь.
Когда же разобрали наклонную стену гилмановой комнаты, в заколоченном треугольном зазоре между этой перегородкой и северной стеной дома обнаружилось куда меньше строительного мусора, нежели в комнате, даже принимая во внимание небольшие размеры, и однако ж пол покрывал жуткий слой останков более древних: при виде него рабочие заледенели от ужаса. Вкратце, зазор служил самым настоящим склепом, битком набитым костями маленьких детей: часть их относилась к современности, другие — чем дальше, тем древнее, — принадлежали к периодам настолько давним, что почти рассыпались в прах. На этом плотном слое костей покоился огромный нож, явно очень древний, гротескный, изысканно украшенный, фантастической формы — а сверху на него был навален всякий хлам.
В куче всего этого хлама, между поваленной балкой и грудой зацементированных кирпичей от развалившейся трубы, застрял предмет, которому суждено было вызвать в Аркхеме куда больше недоумения, завуалированного страха и откровенно суеверных пересудов, нежели все прочие находки из облюбованного призраками проклятого здания. То был полураздавленный скелет гигантской крысы-переростка, чьи уродства по сей день служат предметом споров среди представителей кафедры сравнительной анатомии Мискатоникского университета и при том столь многозначительно замалчиваются. Крайне немногое об этом скелете просочилось за пределы кафедры, но рабочие, обнаружившие находку, потрясенно перешептывались, обсуждая клочья длинной бурой шерсти.
По слухам, кости крохотных лапок наводили на мысль о хватательных свойствах, более типичных для небольшой мартышки, нежели для крысы; а маленький череп с хищными, противоестественными желтыми клыками под определенным углом казался миниатюрной пародией на чудовищно выродившийся череп человека. Обнаружив этого кощунственного уродца, работники в страхе перекрестились — а после поставили свечи в церкви Святого Станислава в благодарность за то, что никогда больше не услышат визгливого, призрачного хихиканья.
ПОКАЗАНИЯ РЭНДОЛЬФА КАРТЕРА
Повторяю вам, джентльмены: дознание, которое вы проводите, не даст никакого результата. Хоть целую вечность удерживайте меня здесь, заточите в темницу, казните меня — если считаете нужным принести жертву мнимому божеству, что зовется «правосудием», — ничего нового вы от меня не услышите. Я рассказал все, что помню, поведал как на духу, ничего не скрывая и не искажая, а если что осталось непроясненным — виной тому мгла, застилавшая мой рассудок, и непостижимая природа тех ужасов, что ее вызвали.
Повторяю: я не знаю, что случилось с Харли Уорреном, хотя думаю — по крайней мере, надеюсь, — что он пребывает в безмятежном забытьи, если, конечно, столь благословенная вещь вообще существует. Истинно то, что на протяжении пяти лет я был его ближайшим другом и верным спутником в опаснейших изысканиях в области неизведанного. Не стану также отрицать — особенно потому, что моя собственная память стала слаба, — что человек, который свидетельствовал здесь, вполне мог видеть нас вдвоем в ту страшную ночь в половине двенадцатого на Гейнсвильском пике, направляющихся, по его словам, в сторону Большой кипарисовой топи. То, что мы несли электрические фонари, лопаты и моток провода, соединяющий какие-то аппараты, я готов подтвердить и под присягой, ибо эти предметы играли важную роль в той чудовищной истории, разрозненные фрагменты которой глубоко врезались мне в память, как бы та ни была слаба и ненадежна. Но о том, что произошло впоследствии и почему меня обнаружили наутро на краю болота одного и в невменяемом состоянии, — я не способен поведать ничего помимо того, что уже устал вам повторять. Вы утверждаете, что ни на болоте, ни где-либо рядом нет места, подходящего под описанный мною кошмарный эпизод. Я повторяю, что только описываю увиденное собственными глазами. Было это видением или бредом — о, я надеюсь, что видением или бредом! — не знаю, но это все, что сохранилось в моей памяти от тех страшных часов, когда мы пребывали исключительно друг с другом, вдали от прочих людей. И на вопрос, почему Харли Уоррен не вернулся, способен ответить только он сам, или его тень, или та сущность, для которой у меня нет названия и которую я не в силах описать.
Я не скрывал, что не только был в курсе того, какого рода изысканиям посвящает себя Харли Уоррен, но и отчасти принимал в них участие. Я прочитал все книги из его обширной коллекции старинных раритетов на запретные темы, что написаны на языках, которыми я владею; таких, однако, оказалось меньшинство по сравнению с фолиантами, исписанными абсолютно не понятными мне значками. Большая часть из них, насколько я могу судить, были арабскими, но та вдохновленная нечистой силой книга, что привела к чудовищной развязке — он унес ее с собой в кармане, — была написана знаками, подобных которым я нигде и никогда не встречал. Уоррен же ни за что не соглашался открыть мне, о чем она. Что же касается характера наших штудий — могу лишь повторить, что теперь уже не вполне это представляю. И, говоря откровенно, даже рад своей забывчивости, потому что в целом они были жутковаты, и я принимал участие скорее с деланым энтузиазмом, нежели с искренним интересом. Уоррену всегда удавалось помыкать мною, и я его отчасти даже побаивался. Помню, мне стало не по себе от выражения его лица накануне этого ужасного происшествия, когда он увлеченно излагал мне свои соображения относительно того, почему некоторые трупы не разлагаются, но тысячелетиями лежат в могилах, неподвластные тлену. Но теперь я не боюсь его; сам он, похоже, столкнулся с такими ужасами, по сравнению с которыми мой страх ничто. Теперь я боюсь за него.
Повторяю снова, что не имею внятного представления о наших намерениях той ночью. Несомненно лишь, что это было тесным образом связано с книгой, которую Уоррен захватил с собой, — упомянутой уже древней книгой, написанной непонятным алфавитом, полученной им по почте из Индии месяц назад, — но, клянусь, я не знаю, что именно мы предполагали найти. Свидетель утверждает, что видел нас в половине двенадцатого на Гейнсвильском пике направляющимися в сторону Большой кипарисовой топи. Возможно, так оно и было, но в памяти у меня все расплывчато. Врезалась мне в душу и опалила ее сцена, явно имевшая место значительно позже; полагаю, было уже далеко за полночь, поскольку серп луны застыл высоко в мглистых небесах.
Окружало нас старое кладбище, настолько древнее, что я испытывал трепет, глядя на многочисленные приметы глубокой старины. Располагалось оно в глубокой сырой лощине, заросшей мхом, редкой травой и причудливо стелющимися сорняками. Неприятный запах в этой лощине в моем воображении абсурдным образом вязался с гниющим камнем. Нас окружали дряхлость и запустение, и меня не покидала мысль, что за многие века мы с Уорреном — первые живые существа, нарушившие безмятежность здешних могил. Бледная ущербная луна тускло проглядывала над краем ложбины сквозь нездоровые испарения, струившиеся, казалось, из каких-то невидимых катакомб, и в ее слабом свете я различал зловещие очертания древних плит, урн, кенотафов и фасадов мавзолеев; все это было разрушающимся, поросшим мхом, потемневшим от времени и наполовину скрытым в буйно разросшейся вредоносной растительности.
Мое первое яркое впечатление от этого чудовищного некрополя: мы с Уорреном остановились возле какой-то древнего вида гробницы и скинули на землю то, что принесли с собой. Возле меня лежали две лопаты и электрический фонарь, а возле моего спутника — точно такой же фонарь и переносные телефонные аппараты. Мы не проронили ни слова — и место, и наша цель были нам, похоже, хорошо известны — и, не теряя времени, взялись за лопаты и принялись счищать траву, сорняки и налипшую землю с древнего плоского надгробья. Расчистив крышу склепа, составленную из трех тяжелых гранитных плит, мы чуть отошли назад, посмотреть со стороны на представшую нам картину, а Уоррен, похоже, делал в уме какие-то прикидки. Вернувшись к гробнице, он, орудуя лопатой как рычагом, попытался приподнять плиту, ближайшую к груде камней, которая, должно быть, в свое время представляла собой памятник. Не преуспев в этом, он жестом позвал меня на помощь. Совместными усилиями мы расшатали каменный блок, приподняли его и поставили на торец.
На месте удаленной плиты зиял черный провал, из которого хлынули настолько тошнотворные миазмы, что мы в ужасе отпрянули. Спустя некоторое время, когда испарения стали менее густыми, мы снова приблизились к яме. Наши фонари осветили верхние ступени, сочащиеся какой-то мерзкой подземной сукровицей, каменной лестницы, ограниченной по сторонам влажными стенами с налетом селитры. Именно тогда прозвучали первые сохранившиеся в моей памяти слова — их произнес Уоррен, обращаясь ко мне, и голос его, несмотря на кошмарную обстановку, был таким же спокойным, как всегда.
— К великому сожалению, — сказал он, — вынужден просить тебя оставаться здесь, наверху. Было бы преступлением с моей стороны позволить человеку с такими слабыми нервами, как у тебя, спуститься туда. Ты не можешь даже вообразить, несмотря на все прочитанное и услышанное от меня, что суждено увидеть и совершить мне. Это дьявольская миссия, Картер, и нужно обладать стальными нервами, чтобы, после всего того, что предстоит мне увидеть внизу, вернуться в наш мир живым и в здравом уме. Не хочу обидеть тебя, и, видит Бог, я рад, что сейчас ты со мной, но вся ответственность за предстоящее в некотором роде лежит на мне, а я не считаю себя вправе приводить такой сгусток нервов, как ты, к порогу возможной смерти или безумия. Твоему воображению недоступно то, что ждет меня там! Но обещаю ставить тебя в известность по телефону о каждом своем движении, а провода, как видишь, у нас хватит до центра Земли и обратно.
Эти бесстрастно произнесенные слова все еще звучат у меня в ушах, и я хорошо помню свои протесты. Я отчаянно упрашивал его взять меня с собой в глубины гробницы, но он оставался неумолимым и даже пригрозил, что откажется от своего замысла, если я буду продолжать настаивать. Именно эта угроза и подействовала, ибо лишь у него был ключ к тайне. Этот момент я хорошо помню, а вот чего ради мы туда прибыли — сказать теперь не могу. Добившись от меня безусловного согласия во всем слушаться его, Уоррен поднял с земли провод и подключил аппараты. Я взял один из них и уселся на старый заплесневелый камень рядом с проходом в гробницу. Уоррен пожал мне руку, накинул моток провода на плечо и начал спускаться в недра мрачного склепа.
С минуту мне были видны отсветы его фонаря и слышно шуршание скидываемого витками с плеча провода, но потом свет резко исчез, будто лестница сделала резкий поворот, и почти тут же стихли и звуки. Я остался в одиночестве, хотя и со связью с неведомыми безднами через волшебную нить, изоляция которой зеленовато отсвечивала в слабых лучах лунного серпа.
Я то и дело светил фонарем на циферблат часов и с лихорадочным беспокойством прижимал ухо к телефонной трубке, однако на протяжении четверти часа так и не услышал ни звука. Потом в трубке раздался слабый треск, и я в тревоге выкрикнул в нее имя своего друга. Несмотря на терзающие меня предчувствия, я оказался никак не готов услышать те слова, что устройство донесло до меня из глубин чертова склепа, произнесенные таким встревоженным, дрожащим голосом, что я не сразу опознал Харли Уоррена. Еще совсем недавно такой невозмутимый и бесстрастный, теперь он говорил шепотом, звучащим страшнее, чем душераздирающий вопль:
— Боже! Если бы ты только мог видеть то, что вижу я!
Я не смог вымолвить ни слова. Только безмолвно ждал. Затем испуганный шепот продолжил:
— Картер, это ужасно… чудовищно… невообразимо!
Наконец я смог совладать со своим голосом и разразился потоком полных тревоги вопросов. Вне себя от ужаса я повторял снова и снова:
— Уоррен, что там? Что там?
Я вновь услышал голос друга — искаженный страхом голос, в котором были отчетливо слышны нотки отчаяния:
— Я не могу сказать тебе, Картер! Это выше всякого понимания… я не должен говорить тебе… никакой человек не способен выжить, узнав об этом! Великий Господь! Я ожидал чего угодно, но только не такого!
В трубке установилось молчание, несмотря на бессвязный поток вопросов с моей стороны. Потом опять прозвучал голос Уоррена — похоже, на высшей ступени уже не сдерживаемого ужаса:
— Картер, во имя любви к Господу, верни плиту на место и беги отсюда, пока не поздно! Скорее! Сделай так и убегай скорее — это твой единственный шанс на спасение! Делай, как я говорю, и ни о чем не спрашивай!
Я слышал это и тем не менее продолжал испуганно повторять вопросы. Вокруг меня были могилы, тьма и тени; внизу подо мной — ужас, недоступный человеческому пониманию. Но мой друг пребывал в еще большей опасности, чем я, и, несмотря на испуг, мне было обидно, что он полагает меня способным бросить его в таких обстоятельствах. В трубке прозвучали еще несколько щелчков, а затем отчаянный вопль Уоррена:
— Уматывай скорее! Ради Бога, столкни плиту на место и уматывай отсюда, Картер!
То, что мой спутник опустился до просторечных выражений, свидетельствовало о крайней степени его потрясения, и это оказалось последней каплей. Приняв вдруг решение, я прокричал:
— Уоррен, держись! Я спускаюсь к тебе!
На эти слова трубка откликнулась воплем, в котором сквозило уже полное отчаяние:
— Не делай этого! Ты не понимаешь!.. Уже слишком поздно… И лишь я один виноват! Столкни плиту и беги — мне уже никто не поможет!
Тон Уоррена опять изменился — сделался мягче, в нем стала слышна горечь безнадеги, но при этом ясно звучала тревога за мою судьбу.
— Скорее, а то будет поздно!
Я пытался не слишком вслушиваться в его увещевания, стараясь стряхнуть сковавший меня паралич и броситься ему на помощь. Но когда он обратился ко мне в очередной раз, я все еще сидел без движения, скованный леденящим ужасом.
— Картер, торопись! Не теряй времени! Все бесполезно… тебе нужно уходить… лучше я один, чем мы оба… плиту…
Пауза, щелчки, и вслед за тем слабый голос Уоррена:
— Почти все кончено… не продлевай этого… завали вход на чертову лестницу и беги со всех ног… ты зря теряешь время… прощай, Картер… прощай навсегда…
Внезапно Уоррен перешел с шепота на крик, переходящий в вопль, исполненный тысячелетнего ужаса:
— Будь они прокляты, эти исчадия ада!.. их здесь легионы!.. Господи!.. Беги! Беги! БЕГИ!
После этого наступила тишина. Бог знает сколько тысячелетий я просидел ошеломленный, бормоча, взывая и выкрикивая в телефонную трубку. Уходило тысячелетие за тысячелетием, а я все сидел и шептал, звал, кричал и вопил:
— Уоррен! Уоррен! Ответь мне — ты все еще здесь?
А потом на меня обрушился ужас, явившийся апофеозом всего происшедшего — немыслимый, невообразимый и почти необъяснимый. Я уже сказал, что, казалось, многие тысячелетия миновали с тех пор, как Уоррен выкрикнул последнее отчаянное предупреждение, и с тех пор лишь мои крики нарушали гробовую тишину. Однако спустя все это время в трубке снова раздались щелчки, и я весь обратился в слух.
— Уоррен, ты здесь? — снова позвал я, но в ответ мой рассудок накрыло беспроглядной мглой. Я даже не пытаюсь дать себе отчет о том, что именно имею в виду, джентльмены, и не решаюсь как-то описать это, ибо первые же услышанные мною слова лишили меня чувств и привели к тому провалу в памяти, что продолжается вплоть до момента моего пробуждения в больнице. Имеет ли смысл говорить о том, что голос казался низким, вязким, глухим, отдаленным, замогильным, нечеловеческим, бесплотным? Что еще могу я рассказать? На этом заканчиваются мои воспоминания, и далее я не способен поведать ничего. Услышав этот голос, донесшийся из глубин зияющего спуска в склеп, я впал в беспамятство — на неведомом кладбище в глубокой сырой лощине, в окружении крошащихся плит и покосившихся надгробий, где все оплетено растениями и пропитано зловонными испарениями — и сидел, оцепенело наблюдая за пляской под бледной ущербной луной бесформенных, питающихся трупами теней.
А произнес он вот что:
— Идиот! Уоррен МЕРТВ!
В ПОИСКАХ НЕВЕДОМОГО КАДАТА
Трижды грезился Рэндольфу Картеру чудесный город, и трижды Картер пробуждался в тот самый миг, когда выходил на высокую террасу, с которой открывался великолепный вид: сверкали в лучах заката многочисленные купола, колоннады, мраморные арки мостов, облаченные в серебро фонтаны, что украшали широкие площади и тенистые сады; вдоль улиц тянулись ряды деревьев, цветочные клумбы и статуи из слоновой кости, а на севере карабкались на крутые склоны холмов островерхие красные крыши, целое море крыш, волны которого отделялись друг от друга вымощенными булыжником переулками. Переполняемый восторгом, Картер будто слышал пение небесных труб и звон цимбал. Подобно тучам вокруг легендарной горы, на вершину которой не ступала нога человека, город окутывала тайна; и когда Картер, трепетавший в предвкушении чуда, взирал с балюстрады, его терзали воспоминания о былой красоте мира и он рвался туда, где обитала некогда эта красота.
Он знал, что каким-то образом связан с тем городом, хотя и не мог сказать, в каком из воплощений, во сне или наяву он бывал там. Картер смутно припоминал далекую юность, когда каждый день обещал радость и удовольствие, а рассветы и закаты словно вторили песням и звукам лютни, отворяя огненные врата, за которыми скрывались еще более грандиозные чудеса. Ночь за ночью на высокой мраморной террасе с ее диковинными вазами и изваяниями, глядя на раскинувшийся внизу в лучах заходящего солнца прекрасный город, Картер ощущал невидимые путы, которые набросили на него деспотические божества сновидений: ибо как ни стремился он покинуть возвышение, спуститься по широким лестницам к древним мощеным улочкам, все было напрасно.
Проснувшись в третий раз, осознав, что так и не сумел достичь желаемого, он принялся молиться и долго и пылко взывал к капризным божествам, таящимся за облаками на вершине неведомого Кадата, что высился посреди холодной пустыни. Но боги не ответили ему, даже когда он воззвал к ним во сне, даже когда принес жертву, назначенную бородатыми жрецами Нашт и Кама-Таха, чей пещерный храм с огненным столбом расположен недалеко от ворот в мир яви. Впрочем, молитвам его все же вняли, однако иначе, нежели он рассчитывал: уже после первого моления чудесный город перестал являться ему во сне, будто он, Рэндольф Картер, чем-то оскорбил богов или нарушил их волю.
Наконец, истомившись от тоски по сверкающим улицам, извилистым переулкам и островерхим крышам, Картер с мужеством отчаяния вознамерился попасть туда, где не бывал до сих пор ни один человек, — преодолеть мрак ледяной пустыни и достичь неведомого Кадата, окутанного облаками и увенчанного звездами, на вершине которого стоит ониксовый замок Великих.
Погрузившись в легкую дрему, он спустился по семидесяти ступенькам в пещеру пламени и поведал о своем замысле бородатым жрецам Нашт и Кама-Таха. Те покачали головами и сказали лишь, что он погубит душу. Они утверждали, что искушать Великих просьбами по меньшей мере безрассудно, и напомнили Картеру, что никому из смертных не известно, где находится Кадат — то ли в краях грез поблизости от нашего мира, то ли в непознанной дали, у Фомальгаута или Альдебарана. Лишь троим удалось пересечь темные провалы между мирами грез, и двое потеряли разум. Опасностей на пути не перечесть, а в конце путника поджидает ужас, обитающий за пределами упорядоченного космоса, последний осколок первобытного хаоса, оскверняющий пространство в самом центре бесконечности, — султан демонов Азатот, имя которого не смеют произносить ничьи уста. Он восседает в своих темных палатах вне времени, внимая оглушительному грохоту барабанов и пронзительному визгу колдовских дудок, наблюдая за неуклюжими движениями Других Богов, слепых, немых, мрачных божеств, чьим посланцем является ползучий хаос Ньярлатотеп.
Так предостерегали Картера бородатые жрецы Нашт и Кама-Таха в пещере пламени, однако Рэндольф не пожелал отказаться от своего намерения отыскать неведомый Кадат, где бы тот ни был, и вызнать у богов, которые восседают на его вершине, местонахождение чудесного города. Он знал, что путь будет долгим и трудным, что Великие воспротивятся его попыткам, но, поскольку был не новичком в стране грез, надеялся, что сумеет преодолеть все и всяческие преграды. Испросив благословения жрецов, он сошел по семидесяти ступеням к Вратам Глубокого Сна, миновал их и очутился в зачарованном лесу.
Там, под сенью кряжистых дубов, ветви которых переплетались между собой, а стволы поросли диковинным светящимся мхом, обитали загадочные зуги, ведавшие многие тайны мира грез и располагавшие кое-какими познаниями о мире яви, ибо их лес в двух местах соприкасался с землями людей (сказать, где именно, значило бы потрясти основы мироздания). Там, куда имели доступ зуги, среди людей возникали невообразимые слухи, происходили необъяснимые события, творились невероятные дела, и нам повезло, что они не могут существовать вдали от края сновидений. В своем же собственном мире они странствуют свободно, шныряют по нему едва различимыми бурыми тенями, жадно впитывают все, что случается вокруг, чтобы потом, вернувшись в лес, рассказать собравшимся перед очагом сородичам. Большинство зугов живут в норах, но некоторые селятся в дуплах деревьев; питаются они в основном древесными грибами, однако не брезгуют и мясом, и многие из сновидцев, забредавших в зачарованный лес, так и не выбрались оттуда. Тем не менее Картер не испытывал страха; он неоднократно бывал у зугов, научился их языку; заключил с ними союз. Они даже помогли ему отыскать блистающий Селефаис в долине Оот-Наргай за Танарианскими горами, город, которым правил полгода король Куранес, знакомец Картера в мире яви, известный ему под другим именем. Куранес единственный преодолел звездный провал и не сошел с ума.
Шагая по тропинке, что вилась меж гигантских стволов, Картер время от времени издавал нечто вроде птичьей трели и прислушивался, не прозвучал ли ответ. Он помнил, что одно селение зугов находится прямо посреди леса, там, где выстроились в круг на поляне громадные замшелые валуны — творение древнего, всеми ныне позабытого народа, — и направился туда. Вскоре он разглядел впереди исполинский серо-зеленый монолит, возвышавшийся над макушками деревьев, и догадался, что теперь до селения зугов подать рукой. Он снова издал тот же переливистый звук, и на поляну высыпали крошечные существа. Их было не перечесть. Наиболее дикие принялись немилосердно толкать Картера, а один даже укусил его за ухо. Впрочем, старики быстро утихомирили непосед. Мудрецы совета, признав гостя, предложили ему напиток из коры призрачного дерева, что выросло из семени, которое уронил кто-то из лунных жителей. Картер пригубил вино, как того требовал обычай, и начался весьма странный разговор. К сожалению, зуги не ведали, где расположен Кадат, не могли сказать, в каком из миров грез простирается холодная пустыня — в нашем или нет. Наверняка можно было утверждать лишь одно: богов следует искать не в долинах, а на вершинах гор, ибо там они танцуют, когда с неба светит луна, а облака стелются по земле.
Однако нашелся дряхлый зуг, который припомнил то, что забыли или никогда не знали остальные. По его словам, в Ультаре, за рекой Скай, хранилась копия прославленных Пнакотических манускриптов, написанных в незапамятные времена людьми из некоего северного королевства в мире яви и попавших в страну сновидений, когда волосатые каннибалы-гнофкесы захватили многокупольный Олатоэ и перебили всех героев края Ломар. В этих манускриптах, уверял зуг, часто упоминаются боги.
Рэндольф Картер поблагодарил зугов, которые подарили ему на прощание бутыль с напитком из коры лунного дерева, и двинулся через фосфоресцирующий лес в направлении бурной реки Скай, которая свергается водопадом с круч Лериона и течет по равнине, где высятся Хатег, Нир и Ультар. Он шагал не оглядываясь, а за ним по пятам крались несколько зугов, решивших узнать, что станется с человеком, и донести весть о том до своих соплеменников. За селением лес сделался гуще; Картер пристально вглядывался во мрак, чтобы не пропустить место, где деревья вдруг расступятся и покажется лужайка. На краю лужайки следовало резко свернуть в сторону, ибо посреди нее торчал черный камень (как утверждали те, кто осмелился приблизиться, из камня выступало железное кольцо). Зуги не отличались храбростью, а потому не подходили к замшелому валуну. Вдобавок они ежедневно видели громадные монолиты по соседству с селением и понимали, что «древний» вовсе не обязательно значит «мертвый».
Картер свернул как раз там, где было нужно, и услышал шепоток пугливых зугов. Он давно привык к их странностям и ничуть не сомневался, что они последуют за ним; пожалуй, даже удивился бы, случись наоборот. На опушку леса он вышел в рассветных сумерках. Вдалеке, на берегу Ская, виднелись соломенные крыши крестьянских домишек, из печных труб поднимался дымок, а вокруг, насколько хватало глаз, простирались разделенные изгородями поля. Картер направился к реке. Когда он остановился у деревенского колодца, чтобы попить воды, псы во всех дворах залились лаем, почуяв укрывшихся в траве зугов. Заглянув в один из домов, Картер начал было расспрашивать о богах, но крестьянин и его жена дружно заохали, сделали знак, призванный уберечь от сглаза, и смогли только объяснить путнику, как добраться до Нира и Ультара.
В полдень Картер ступил на широкие улицы Нира. Он бывал когда-то в этом городе, но дальше не заходил. Через Скай был переброшен: мост, и, перейдя на противоположный берег, Картер словно очутился в кошачьем царстве, а значит, понял он, до Ультара осталось всего ничего. Старинный ультарский закон гласит, что никто не смеет убивать кошек, потому-то их там видимо-невидимо. Странник любовался пригородами с их зелеными аккуратными домиками, а сам Ультар произвел на него еще более благоприятное впечатление: островерхие крыши, нависающие над переулками балконы, бесчисленные печные трубы, узкие улочки, заполоненные котами всех возрастов и мастей. Появление зугов заставило животных освободить дорогу, и Картер двинулся прямиком к храму Древних, где хранились, по слухам, старинные записи. Увитый плющом храм стоял на вершине самого высокого из ультарских холмов. Оказавшись в его стенах, Картер поспешил разыскать патриарха Атала, который поднимался на запретный пик Хатег-Кла и избежал кары богов.
Атал восседал на троне из слоновой кости в святилище на верху храма. Он разменял четвертую сотню, но был по-прежнему крепок рассудком и памятью. Картер узнал от него, что боги Земли не столь уж могущественны: обитатели мира грез едва ли повинуются им. Да, повинуясь собственной прихоти, они могут внять молитвам человека, но о том, чтобы достичь их ониксовой твердыни на вершине неведомого Кадата, нечего и мечтать. Хорошо, что никто из людей даже не подозревает, где высится Кадат, ибо того, кто взойдет по его склону, ожидает смерть. Атал поведал о своем товарище, Барзае Мудром, которого затянуло в небо лишь потому, что он взобрался на пик Хатег-Кла. Что же касается Кадата, смерть будет ничтожнейшим из наказаний тому, чья нога ступит на вершину горы, ибо кроме богов Земли, которых можно перехитрить, существуют Другие Боги. Пришедшие извне, они охраняют земных божеств, и о них лучше не вспоминать. Они нисходили на Землю по крайней мере дважды: в первый раз, как то явствует из Пнакотических манускриптов, в доисторические времена, а во второй — когда Барзай Мудрый вознамерился увидеть танец земных богов на Хатег-Кла. И вообще, заключил Атал, безопаснее всего оставить небожителей в покое и не докучать им своими просьбами.
Разочарованный словами Атала и теми скудными сведениями, которые обнаружил в Пнакотических рукописях и семи Тайных Книгах Хсана, Картер тем не менее не отчаялся. Он спросил у старого жреца, не известно ли тому о чудесном городе, озаренном лучами заходящего солнца. Атал отвечал отрицательно и прибавил, что, возможно, тот город принадлежит миру грез Картера, то есть являлся в сновидениях лишь ему одному и — как знать — может помещаться на другой планете. В таком случае боги Земли будут бессильны помочь. Однако судя по тому, что сны прекратились, Великие тут все же замешаны.
Затем Картер совершил грех: он напоил гостеприимного хозяина вином из коры лунного дерева, которым его столь щедро наделили зуги. Старик разговорился, позабыл об осторожности и выболтал многое из того, о чем должен был молчать. Он упомянул об огромном лице, вырезанном в камне горы Нгранек на острове Ориаб в Южном море, намекнул, что этот барельеф, скорее всего, дело рук земных божеств, танцевавших когда-то на той горе.
Картера словно осенило. Он знал, что молодые боги часто навещают человеческих дочерей — значит, в жилах крестьян на краю холодной пустыни, над которой возвышается Кадат, должна течь их кровь. Следовательно, чтобы отыскать пустыню, необходимо взглянуть на лицо в склоне Нгранека и запомнить черты, а затем пуститься на поиски подобных лиц среди смертных. Там, где сходство будет наиболее явным, и следует расспрашивать о богах; а каменистая пустыня, сколь бы убогой она ни выглядела, окажется именно той, что прячет неведомый Кадат.
Возможно, он сумеет побольше разузнать о Великих; ведь те, кто унаследовал их кровь, могли перенять от предков некие знания, весьма и весьма полезные для искателя истины. Возможно, они не подозревают о своем происхождении, поскольку божества всячески избегают являться людям. Однако им на роду написано выделяться, быть не такими как все, петь о далеких краях и дивных садах, столь непохожих даже на пейзажи мира грез. Соседи наверняка перешептываются и называют их глупцами. Что ж, если ему посчастливится, подумалось Картеру, его посвятят в древние тайны Кадата или, на худой конец, поведают, где лежит чудесный город, который купается в багрянце заката.
Атал, увы, не знал, в какой стороне находятся остров Ориаб и гора Нгранек, но посоветовал Картеру следовать за течением певучего Ская до того места, где река вливается в Южное море; там не бывал никто из горожан Ультара, за исключением купцов, что ходили туда на челнах или снаряжали караваны из множества запряженных мулами двухколесных повозок. В устье Ская стоял большой город Дайлат-Лин, пользовавшийся у ультарцев дурной славой из-за того, что в его порту частенько появлялись черные галеры; они приплывали из неведомой дали с полными трюмами драгоценных каменьев. Те, кто торговал этими самоцветами, выглядели обыкновенными людьми, гребцы же вовсе не показывались на палубах, а потому в Ультаре относились к галерам настороженно, если не с подозрением.
Язык у Атала заплетался. Старик клевал носом, и Картер уложил его на украшенную резьбой кровать черного дерева, поправил седую бороду жреца, повернулся к двери — и лишь теперь заметил, что кравшиеся по пятам зуги куда-то подевались.
Солнце клонилось к закату, и потому Картер отправился на поиски ночлега. Ему приглянулся старинный трактир, окна которого выходили на нижний город. Когда Картер посмотрел вниз с балкона, он увидел красные черепичные крыши, мощеные улочки, зеленые предместья, залитые колдовским светом, вобравшим в себя все оттенки багрянца, и на миг ему почудилось, будто Ультар — предел его желаний. Однако мгновение душевной слабости миновало, и к нему возвратилась память о чудесном городе из снов. На Ультар опустились сумерки, розовые стены домов сделались загадочно-лиловыми, в крохотных окошках замерцали желтые огоньки. На колокольне храма зазвенели колокола, в небе засияла над лугами по берегам Ская первая звезда. Послышалась песня, в которой восхвалялись былые дни. Картер кивнул головой. Пожалуй, подумалось ему, в такую ночь покажутся сладкозвучными даже кошачьи голоса. Впрочем, ультарские коты, похоже, отдыхали после сытной трапезы, а потому хранили молчание. Некоторые из них ускользнули в таинственные закутки, доступные только кошкам; если верить молве, они каждый вечер отправлялись на обратную сторону луны, прыгали туда с коньков крыш. Но один черный котенок почему-то привязался к Картеру, долго мурлыкал, играл с человеком, а когда тот улегся спать, пристроился у него в ногах, на кровати, застланной свежим бельем. Картер с наслаждением откинулся на подушки, от которых исходил дурманящий аромат свежескошенных трав.
Утром он присоединился к купеческому каравану, что направлялся в Дайлат-Лин. Купцы везли на продажу капусту и ультарскую пряжу. Шесть дней кряду они ехали под звяканье колокольцев на шеях животных по ровной дороге вдоль берега реки, ночуя то в постоялых дворах рыбацких селений, то под открытым звездным небом. Местность была весьма живописной: зеленые изгороди и рощицы, островерхие крыши деревенских домиков, ветряные мельницы на холмах.
На седьмой день пути впереди заклубилось облако дыма, а затем на горизонте возникли черные базальтовые башни Дайлат-Лина. В многочисленных тавернах города и на мрачных городских улицах толкались моряки, прибывшие сюда со всех концов света и даже, по слухам, из-за его пределов. Картер пустился расспрашивать горожан, облаченных в диковинные наряды, о пике Нгранек на острове Ориаб и вскоре выяснил все, что требовалось. В Дайлат-Лин время от времени заходили корабли, приписанные к порту Бахарна, от которого до Нгранека было два дня езды на зебре. Что касается лика на скале, его видели немногие, ибо склон, в котором он был вырезан, смотрел на отвесные утесы да на залитое лавой ущелье: там когда-то жили люди, прогневавшие земных божеств и познавшие на себе мщение Других Богов.
Да, Картер добыл нужные сведения довольно скоро, но не без труда, ибо моряки и купцы предпочитали шептаться о черных галерах, одна из которых ожидалась в Дайлат-Лине через неделю, тогда как бахарнской ладье предстояло отправиться в обратный путь не ранее чем через месяц. Когда эти черные галеры с грузом самоцветов пришвартовывались к причалам Дайлата и некоего порта, с них сходили большеротые люди с тюрбанами на головах, и у каждого ткань тюрбана в двух местах вспучивалась, словно под нею скрывались рога; башмаков же, подобных тем, в какие были обуты торговцы, не видывали ни в одном из шести Королевств. Однако хуже всего обстояло дело с незримыми гребцами. Три ряда весел двигались слишком ровно, слишком ритмично, чтобы не возбуждать нездорового любопытства; и потом, что это за корабли, гребцов с которых не пускают на берег, сколь бы долгой ни была стоянка в порту? Кабатчики, бакалейщики, мясники и рады были бы услужить, но в их услугах, по-видимому, не нуждались. Купцы с галер приобретали лишь золото да крепких чернокожих рабов из Парга, края за рекой. Если задувал южный ветер, город окутывала будто пелена тумана, нестерпимая вонь, исходившая от тех самых галер, одолеть которую можно было разве что раскурив трубку, набитую крепчайшим табаком. Когда бы не драгоценные каменья, равных которым по красоте было не сыскать на всем белом свете, дайлатлинцы ни за что не стали бы торговать с купцами в причудливых тюрбанах.
Вот о чем перешептывались моряки в старинных тавернах Дайлат-Лина, вот что довелось узнать Картеру за то время, какое он провел в городе, считая дни, остававшиеся до прибытия бахарнской ладьи, которая доставит его на остров, где высится величественный Нгранек. Картер внимательно прислушивался к историям, которые рассказывали при нем, надеясь уловить хотя бы намек на Кадат или на чудесный город с мраморными стенами и серебряными фонтанами, обагренный лучами закатного солнца. Однако его надежды не оправдались, даже когда он завел разговор с узкоглазым стариком. Тот, как утверждала молва, торговал с жителями деревень, расположенных на каменистом плато Ленг, куда не отваживался заглядывать ни один здравомыслящий человек. По слухам, старый купец имел когда-то дело с верховным жрецом Тем-Кого-Нельзя-Описать, существом, лицо которого скрыто желтой вуалью, обитающим в древнем скальном монастыре. Вполне возможно, купец лишь притворялся несведущим, однако Картер довольно быстро понял, что продолжать расспросы нет никакого смысла.
Между тем в порт, проскользнув мимо базальтового утеса с маяком на вершине, вошла черная галера, и южный ветер погнал на Дайлат-Лин невыносимую вонь. Хозяева и посетители приморских таверн сразу же повели себя так, будто сильно чего-то испугались, а вскоре на городских базарах появились большеротые торговцы с рогатыми тюрбанами на головах. Приглядевшись к ним, Картер решил, что они ему не нравятся. Как-то раз он увидел, как они загоняют на борт галеры чернокожих невольников-паргиан, и спросил себя: в каких неведомых краях — и вообще, на Земле ли? — суждено влачить свои цепи этим бедолагам?
На третий день стоянки галеры смуглый купец в тюрбане заговорил с Картером, когда тот зашел в таверну, намереваясь скоротать вечерок. Криво улыбаясь, купец признался, что слышал о поисках Картера, и намекнул, что обладает кое-какими сведениями, которые могут пригодиться, но которыми ни за что не поделится на людях. Его слащавый голос вызывал у Картера отвращение, однако возможностью вызнать хоть что-нибудь о Кадате пренебрегать не следовало, а потому он пригласил купца подняться наверх и угостил остатками лунного вина зугов, рассчитывая, что от спиртного у собеседника развяжется язык. Тот и не подумал отказаться, единым глотком осушил свой стакан, но вино, похоже, ничуть на него не подействовало. Затем купец поставил на стол диковинную бутыль, представлявшую собой полый рубин, украшенный снаружи затейливой резьбой. Он наполнил стакан Картера. Рэндольф Картер едва пригубил вино, однако у него тут же закружилась голова и все поплыло перед глазами, а купец по-прежнему улыбался. Последним, что увидел Картер, было смуглое, искаженное злорадной ухмылкой лицо и нечто совершенно неописуемое, выглянувшее вдруг из-под сбившегося тюрбана.
Картер болел три дня, но крепкий организм справился с ядом. Купец же исчез, и никто не мог припомнить ни имени его, ни внешности.
Через две недели прибыл долгожданный корабль до Бахарны. Картер обрадовался тому, что он выглядит ничуть не зловеще — ярко раскрашенные борта, желтые треугольные паруса. Барк доставил в Дайлат-Лин ароматные смолы Ориаба, изящные кувшины и горшки работы бахарнских мастеров и резные фигурки из запекшейся на склонах Нгранека лавы, а взамен его нагрузили ультарской шерстью, переливчатыми тканями Хатега и слоновой костью, которую добыли у себя за рекой чернокожие паргиане. Картер разыскал капитана, седобородого старика в шелковых одеждах, и попросился пассажиром; ему сообщили, что путь до Бахарны займет десять дней. Всю ту неделю, которую корабль простоял в порту, Картер расспрашивал капитана о Нгранеке. Старик сказал, что лишь немногие воочию видели тот лик на скалистом склоне, как правило, путешественники удовлетворялись легендами и преданиями, а дома потом хвастали, будто и впрямь лицезрели выбитое в камне изображение. Капитан утверждал даже, что вряд ли кто из ныне живущих созерцал божественный лик, поскольку склон, в котором тот высечен, крут и обрывист, вдобавок его, по слухам, стерегут обитающие в пещерах у вершины горы призраки. Что именно за призраки, он не пожелал уточнить, заявив, что они, мол, со временем начинают неотвязно преследовать в сновидениях того, кто слишком много о них размышлял. Картер спросил у старика о неведомом Кадате в холодной пустыне и о чудесном городе в багрянце заката, но не узнал ничего нового.
Приняв на борт весь положенный груз, барк однажды утром вышел из дайлатлинской гавани. Стоя на палубе, Картер наблюдал за тем, как первые лучи солнца выхватывают из мрака стройные башни базальтового города. Два дня напролет они плыли вдоль зеленого побережья, часто видели рыбацкие деревушки — красные крыши домов, печные трубы, ветхие пристани, раскинутые для просушки сети. На третий же день корабль повернул к югу, и земля вскоре исчезла из виду. К пятому дню пути матросы забеспокоились; капитан извинился за их страхи и объяснил, что барк вот-вот достигнет затонувшего города, развалины которого сплошь увиты водорослями, так что, когда вода прозрачна, кажется, будто среди них снуют некие существа.
Ночь выдалась светлая, луна сияла необыкновенно ярко, и морское дно можно было различить невооруженным глазом. Ветер стих, и барк еле двигался. Перегнувшись через борт, Картер разглядел глубоко внизу, под толщей воды, купол грандиозного храма, а чуть дальше — площадь, к которой вела аллея, украшенная изваяниями сфинксов. В развалинах резвились дельфины, иногда они поднимались к поверхности и выпрыгивали из воды. Впереди подводная равнина переходила в гряду холмов, усыпанных обломками древних строений. Когда корабль приблизился к городу, стали видны предместья, извилистые улочки и странное здание, располагавшееся отдельно от остальных, менее вычурное по архитектуре и гораздо лучше сохранившееся. Здание было приземистым и квадратным, с башенкой на каждом углу и мощеным внутренним двориком; возможно, его воздвигли из базальта, хотя определить наверняка было трудно, ибо кладка лишь кое-где выступала из-под густых водорослей. В стенах виднелись круглые окошки. Строение производило весьма внушительное впечатление и, судя по всему, являлось в незапамятные времена храмом или монастырем. Окошки тускло светились, должно быть, благодаря тому, что внутри прятались фосфоресцирующие рыбы, и страх матросов перед затонувшим городом показался Картеру вполне простительным. Посреди мощеного дворика высился монолит, к которому был привязан веревкой какой-то предмет. Картер попросил у капитана разрешения воспользоваться подзорной трубой, навел резкость и рассмотрел, что к камню привязан человек в платье ориабского матроса. Зрелище было не из приятных, и Картер откровенно обрадовался, когда задул ветер и корабль устремился прочь от нечестивого жертвенника.
На следующий день им повстречалось судно с лиловыми парусами, шедшее в Зар, страну забытых сновидений, груженное луковицами лилий. А на одиннадцатые сутки пути, под вечер, на горизонте замаячил остров Ориаб и взметнулась к небесам снежная вершина Нгранека. Островов крупнее Ориаба не найти, а порт Бахарна ничем не уступал крупным городам материка. Причалы из порфира, каменные террасы, широкие лестницы, арки и мосты между домами — такова была Бахарна. Через весь город тянулся подземный туннель, который запирался гранитными воротами и вел к озеру Йат. На дальнем берегу острова громоздились руины доисторического поселения с позабытым именем. Когда барк вошел в гавань, маяки Тон и Тал приветствовали его мерцанием своих огней. Вечер незаметно перетек в ночь, на небе высыпали звезды, в домах горожан зажглись лампы, а на улицах — фонари, и Бахарна внезапно словно превратилась в искрящееся созвездие между ночными светилами в небесах и их отражениями на зеркальной глади бухты.
Капитан пригласил Картера поселиться в его домике на берегу Йата, у подножия холмов. Путника вкусно и сытно накормили и уложили спать. Поутру Картер приступил к поискам: он бродил по городу, не пропуская ни единой таверны, куда заглядывали сборщики лавы и резчики по камню, и расспрашивал о Нгранеке, но не сумел найти никого, кто забирался бы на вершину или зрел божественный лик. Крутизна склона, проклятая долина за горой, слухи о призраках — все это, вместе взятое, остужало пыл смельчаков, которым порой взбредало вдруг в голову взойти на Нгранек.
Когда старый капитан отправился обратно в Дайлат-Лин, Картер переселился в таверну, окна которой выходили на одну из городских лестниц. Картер принялся обдумывать, как ему осуществить свой замысел и подняться на вершину Нгранека. Хозяин таверны, человек весьма преклонных лет, оказался сущим кладезем полезных сведений, ибо помнил множество преданий. Он даже показал Картеру грубый рисунок, нацарапанный на глиняной стене комнаты еще в те времена, когда люди были смелее и не так страшились всяких призраков. Прадед хозяина слышал от своего деда, что храбрец, побывавший на Нгранеке, пытался изобразить на стене божественный лик, каким он его запомнил, однако в достоверности этого предания Картер сомневался: слишком уж торопливыми, небрежными были линии рисунка, к тому же лицо с крупными, резкими чертами окружали гурьбой крохотные фигурки, наружность которых свидетельствовала разве что о дурном вкусе художника — рожки, крылышки, когти, лихо закрученные хвосты.
Наконец, разузнав, очевидно, все, что можно, в тавернах и на улицах Бахарны, Картер купил зебру и как-то утром поскакал вдоль берега озера туда, где возвышается Нгранек. По правую руку от себя он видел холмы, цветущие сады и обнесенные каменными изгородями поля, что напомнили ему о плодородных землях в долине Ская. К вечеру он достиг безымянных руин на дальнем берегу Йата и, хотя сборщики лавы не советовали ему ночевать там, привязал зебру к какому-то столбу у осыпавшейся стены, а затем расстелил одеяло в укромном уголке, под затейливой и загадочной резьбой. Завернувшись в другое одеяло, ибо ночами на Ориабе отнюдь не жарко, он почти сразу заснул. Во сне ему почудилось, будто над ним кружит некое насекомое, и он укрылся с головой и проспал до самого рассвета.
Его разбудило пение птиц. Солнце только-только выглянуло из-за гор и осветило древние развалины — полуразрушенные стены, покосившиеся колонны, треснувшие постаменты. Картер поискал глазами зебру. Изумлению его не было предела: животное лежало у того самого столба, к которому его привязали накануне вечером, и не подавало признаков жизни. В горле зебры зияла страшная рана. Лишь теперь Картер заметил, что кто-то рылся в его пожитках и похитил некоторые из них. В пыли пропечатались следы огромных клиновидных лап. Картеру вспомнились рассказы и предостережения сборщиков лавы; он подумал о том, какие твари могли кружить поблизости, пока его посещали сны, а потом закинул за спину мешок и зашагал в направлении Нгранека.
Местность, по которой пролегал его путь, была лесистой и безлюдной — ни деревень, ни хуторов, лишь изредка попадались хижины углежогов да станы сборщиков знаменитой ароматной смолы. В воздухе разливался пряный аромат, птицы маги звонко рассыпали трели на ветвях деревьев, сверкая на солнце своим семицветным оперением. На закате Картер набрел на лагерь сборщиков лавы, возвращавшихся с добычей с нижних склонов Нгранека. Он подсел к костру, слушал песни и сказания, жадно ловил шепотки: сборщики перешептывались друг с другом о товарище, которого потеряли. Тот поднялся выше остальных, потому что углядел наверху отличный кусок лавы, и так и не спустился с горы, а на следующий день нашли только его тюрбан, после чего поиски прекратились, ибо самые старые и опытные из сборщиков заявили, что толку все равно не будет. Если кто угодил к призракам, то ему не помочь.
Утром Картер простился со сборщиками лавы, которые отправились на запад, а он — к востоку, оседлав купленную у них зебру. Старики благословили его и посоветовали не забираться чересчур высоко; он сердечно поблагодарил их, однако пропустил совет мимо ушей. Он чувствовал, что должен отыскать богов на неведомом Кадате и добиться, чтобы те объяснили ему дорогу к чудесному городу в багрянце заката.
К полудню, после долгого и утомительного подъема, Картер достиг заброшенной деревни, в которой когда-то проживали горцы, искусно вырезавшие из лавы затейливые фигурки. Они обитали здесь во времена прадедушки хозяина таверны в Бахарне, но уже тогда ощущали, что их присутствие кому-то мешает. Селение разрасталось, дома карабкались все выше по склону горы и все чаще оказывались на восходе солнца пустыми. В конце концов горцы решили уйти отсюда насовсем, ибо по ночам вокруг деревни начали шнырять существа, облик которых никак не внушал доверия. Они переселились к морю, в Бахарну, заняли целиком старинный городской квартал и стали учить детей искусству резьбы по камню, тому самому, что сохранилось до наших дней и вызывает такое восхищение знатоков. Рыская по тавернам Бахарны, Картер подружился кое с кем из детей переселенцев, их рассказы о Нгранеке были интереснейшими из всех, какие ему довелось слышать.
Чем ближе подходил Картер к пику, тем выше тот становился. Если на нижних склонах еще виднелась чахлая растительность — робкие деревца, хилый кустарник, — то наверху не было ничего, кроме камня, льда, вечных снегов и застывших языков лавы. Множество эпох назад, задолго до того, как танцевали на его вершине боги, Нгранек извергал огонь и сотрясался от раскатов подземного грома. Ныне же он хранил зловещее молчание и всячески скрывал от любопытствующих взоров высеченный в скалистом склоне божественный лик, о котором ходило столько слухов. Вдобавок ко всему прочему, если молва не обманывала, он приютил в своих мрачных пещерах таинственных созданий, о которых лучше даже не упоминать.
У подножия Нгранека росли редкие дубы и ясени, из-под толстого слоя пепла выглядывали камни, тут и там чернели кострища, следы ночевок сборщиков лавы, бросались в глаза грубые алтари, возведенные то ли для того, чтобы умилостивить Великих, то ли во славу тех божков, которые таились в горных проходах и гротах. Картер заночевал у последнего из кострищ. Он привязал зебру к стволу дерева, а сам поплотнее закутался в одеяла. Ночь напролет откуда-то издалека доносились крики вунита, но Картер не обращал на них внимания, поскольку его заверили, что эти мерзкие твари не смеют приближаться к Нгранеку.
Ясным солнечным утром он ступил на склон горы. Вскоре ему пришлось расстаться с зеброй, ибо животное не могло, подобно человеку, карабкаться по крутизне. Картер миновал лесок с каменными развалинами на полянах, продрался сквозь кустарник и очутился в густой траве. Мало-помалу перед ним открывался вид на равнину, он различал покинутые хижины горцев, рощи и становища тех, кто собирал в них ароматную смолу, леса, где гнездились и пели переливчатые маги, и далеко-далеко — расплывчатые очертания берегов озера Йат и древних безымянных руин. Впрочем, вскоре ему стало ясно, что по сторонам лучше не глядеть, и он угрюмо уставился себе под ноги.
Постепенно трава сошла на нет, ее сменили громадные валуны, лезть по которым, не будь они выщербленными ветрами и дождями, было бы поистине невозможно. Порой в вертикальных трещинах или на уступах виднелись гнезда кондоров. Перебираясь с камня на камень, Картер радовался всякий раз, когда замечал на скале знак сборщиков лавы. Сознание того, что здесь бывали и другие люди, согревало душу. Потом знаки исчезли; теперь следовало искать зарубки для рук и ног. В одном месте вправо от тропы уводил вырубленный в склоне желоб — должно быть, кто-то торил дорогу к облюбованному куску лавы. Оглядевшись, Картер изумился явленному зрелищу. Его взгляду открылся весь остров до самого побережья: террасы Бахарны, струйки дымка из печных труб, бескрайняя ширь Южного моря, хранилища бесчисленных тайн.
До сих пор подъем был утомительным, поскольку Картер то и дело огибал различные препятствия. Но вот он рассмотрел впереди карниз и продолжил путь по нему, надеясь, что возвращаться не придется. Картер не обманулся в своих ожиданиях и десять минут спустя установил, что, если не случится ничего непредвиденного, он через несколько часов достигнет загадочного южного склона, выходящего на проклятую долину. Местность внизу становилась все более унылой, да и склон тоже менялся, в нем все чаще появлялись трещины, кое-где чернели зевы пещер, причем ни к одной нельзя было добраться иначе как по воздуху.
Наконец преодолев последние метры карниза, Картер вышел на загадочный склон Нгранека. Внизу, в немыслимой дали, проступали очертания залитой лавой долины, за которой простиралась пустыня. Пещеры и трещины в склоне по-прежнему оставались недоступными для скалолаза. Дорогу Картеру преградил громадный камень, и странник на мгновение испугался, что его не обойти. Солнце между тем клонилось к закату; если ночь застанет его здесь, рассвета он уже не встретит.
Но страх накатил — и отхлынул, и тогда Картер понял, как следует поступить. Пройти там, где прошел он, сумел бы только опытный сновидец. Обогнув камень, он обнаружил, что дальше двигаться гораздо легче, поскольку по склону, очевидно, прополз когда-то ледник, оставивший после себя широкую колею. Слева высилась отвесная стена, в которой зияло чернотой отверстие очередной пещеры.
Справа же и сзади было достаточно места для того, чтобы выпрямиться и передохнуть.
Картер начал замерзать и заключил, что приближается к границе снежного покрова. Он поднял голову, чтобы осмотреться. И впрямь, высоко-высоко вверху серебрился снег, а чуть ниже виднелся величественный утес. Разглядев его, Картер задохнулся от радости, издал громкий крик и едва устоял на ногах. С утеса взирал на мир осиянный лучами заката лик божества.
Молва уверяла, что черты божества необычны и западают в память; Картер убедился, что так оно и есть. Он с первого взгляда запомнил узкие раскосые глаза, длинные мочки ушей, тонкий нос и заостренный книзу подбородок. Он преисполнился благоговения и трепетал под взором каменных глазниц, ибо хоть и разыскал то, к чему стремился, все же не был готов к великолепию открывшегося ему зрелища, несмотря на множество сказаний и легенд, услышанных в разных краях, — ни в одной из них не упоминалось о багреце заката.
Картер совершил открытие, полностью переменившее его планы. Он намеревался обойти, если понадобится, всю страну сновидений, чтобы найти отпрысков небожителей, но теперь осознал, что в том нет ни малейшей необходимости. Ему частенько доводилось видеть похожие черты в тавернах Селефаиса, приморского города в долине Оот-Наргай за Танарианскими горами, города, которым правил король Куранес, знакомец Картера по миру яви. Каждый год в Селефаис приплывали смуглокожие моряки, чьи черты угадывались в высеченном на склоне лике; они привозили оникс и меняли его на поделки из яшмы, золотую нить и певчих птичек Селефаиса. Значит, они — те самые полубоги, встречи с которыми он ищет! А раз так, то поблизости от их поселений должна простираться холодная пустыня, посреди которой возвышается неведомый Кадат с ониксовым замком Великих на вершине. Значит, нужно двигаться в Селефаис, покинуть остров Ориаб, возвратиться в Дайлат-Лин, пересечь по нирскому мосту Скай, вернуться в зачарованный лес зугов, а оттуда направиться на север, мимо садов Украноса, к золоченым шпилям Трана и там сесть на какой-нибудь из галеонов, бороздящих ширь Серанианского моря.
Над Нгранеком сгущались сумерки. Божественный лик, укрывшись в тень, приобрел еще более грозное выражение. Ночь застала Картера на склоне. Беспомощный как ребенок, не в силах ни подняться выше, ни спуститься, он отчаянно прижимался к скале, моля о том, чтобы не заснуть, так как страшился, что потеряет во сне равновесие и рухнет вниз, прямиком в залитую застывшей лавой долину. На небе высыпали звезды, тусклые искорки в кромешной тьме, той, что была заодно со смертью, притягивала к себе, манила сделать шаг в пропасть. Последним, что видел Картер перед тем, как мир окутал непроглядный мрак, был кондор, паривший над расселиной; птица спокойно кружила в воздухе — и вдруг шарахнулась прочь от пещеры в отвесной стене.
Внезапно Картер почувствовал, как кто-то ловко вытащил у него из-за пояса ятаган. Мгновение спустя тот ударился о камни внизу. Млечный Путь заслонила некая фигура — рогатая, хвостатая, с крыльями как у летучей мыши. К первой твари прибавилась вторая, третья… Судя по всему, они появлялись из той пещеры, до которой было не добраться иначе как по воздуху. Холодная лапа сдавила Картеру горло; человека схватили за ноги, перевернули и куда-то поволокли. Звезды пропали из виду, и Картер догадался, что угодил к призракам.
Они влетели в пещеру и устремились дальше, в чудовищный лабиринт темных коридоров. Картер попытался вырваться, но похитители быстро вразумили его, дали понять, что шутить не намерены. Они хранили молчание, даже крылья их не производили ни шелеста, ни шороха — словом, призраки внушали жуткий страх. Вскоре лабиринт закончился, вернее, вывел в казавшийся бездонным колодец со спертым воздухом, и Картеру почудилось, будто его засасывает, пронзительно завывая и визжа, водоворот демонического безумия. Он закричал, а призраки в ответ принялись щекотать его, что вовсе не было приятно. Неожиданно мрак слегка рассеялся, вокруг разлился серый свет, и Картер сообразил, что они достигли подземелья ужасов, о котором говорилось в древних сказаниях; это подземелье освещали бледные огоньки, вроде тех, что вьются над могилами на кладбищах.
Наконец он разглядел под собой, сквозь белесую пелену, смутные очертания горных вершин. То были легендарные и зловещие Кряжи Трока, превосходившие размерами самое смелое человеческое воображение, стерегущие лишенные солнечного света долины, в которых ползают из норы в нору отвратительные, мерзкие дхолы. Горы повергали в панику, однако Картер предпочитал все же смотреть на них, нежели на своих похитителей, чей облик потряс его до глубины души: гнусные черные твари с гладкой, лоснящейся кожей, повернутыми друг к дружке рогами, нетопыриными крыльями, когтистыми лапами и хвостами, которыми они непрестанно вертели. Призраки не переговаривались между собой, не смеялись и не улыбались, ибо улыбаться им было нечем — лица у них начисто отсутствовали. Таковы были призраки пика Нгранек, умевшие всего лишь хватать, тащить и щекотать.
Чем ниже они спускались, тем внушительнее становились серые Кряжи Трока, и уже можно было различить, что на их склонах нет и намека хотя бы на единый признак жизни. Бледные огоньки мало-помалу пропали, и стаю призраков вновь поглотила первобытная тьма. Вскоре горные вершины остались далеко вверху, задул порывистый ветер, пронизанный сыростью земных недр, и полет завершился. Картера бросили в одиночестве, распростертого на толстом слое костей. Призраки Нгранека, исполнив то, что вменялось им в обязанность, немедленно удалились. Картер всмотрелся в темноту, надеясь увидеть, как они поднимаются по колодцу, однако тщетно напрягал зрение: во мраке, который его окружал, было не различить даже Кряжи Трока.
Нечто, может статься наитие, подсказало Картеру, что он очутился в долине Пнот, той самой, которую населяли дхолы. Впрочем, осознание этого мало чем могло ему помочь, ибо он — да и никто другой — никогда не встречался с дхолом и понятия не имел о том, как тот выглядит и чего от него ждать. Про дхолов упоминалось разве что в преданиях: мол, их можно узнать по шороху, какой они производят, снуя среди костей, и по липкому прикосновению к коже. Видеть же их нельзя, ибо они живут в сплошной темноте. Картер отнюдь не стремился свести знакомство с дхолами, а потому настороженно прислушивался, жадно ловя любые звуки, откуда бы те ни доносились. Тем временем мысли его обратились к тому, как извлечь из случившегося хоть какую-то пользу. Давным-давно Рэндольфу Картеру довелось беседовать с человеком, сведущим в географии ужасного подземелья, и тот поведал, что долина Пнот — скорее всего, помойная яма, куда скидывают остатки своих пиров упыри, терзающие обитателей мира яви. Вполне возможно, подумалось Картеру, ему посчастливится набрести на гору, что выше Кряжей Трока и отмечает границу долины; надо только заметить, откуда сыплются кости, а уж там воззвать к упырям, чтобы те спустили лестницу. Он вправе был рассчитывать, что вампиры внемлют его призыву, ибо, как ни дико это звучит, его с ними кое-что связывало.
Он знавал бостонского художника, писавшего жуткие картины в своей тайной студии, в подвале дома на окраинной улочке, неподалеку от кладбища; тот художник на деле подружился с упырями и научил Картера разбирать их бормотание, вернее, малую его часть. Потом художник бесследно исчез. Картер полагал, что найдет его здесь, и намеревался впервые за все свои странствия по миру грез воспользоваться английским языком, дабы привлечь внимание приятеля. Он не особенно уповал на то, что его затея осуществится, однако решил все же попытаться. По совести говоря, лучше уж повстречаться с вампиром, которого видно, нежели с дхолом, которого не разглядеть.
И вот Картер двинулся сквозь мрак сначала шагом и на ощупь, а затем бегом, после того как решил, что кости под ногами начинают шевелиться. Вскоре над его головой раздался чудовищный грохот, и он догадался, что приближается к нужному месту. Он засомневался было, услышат ли упыри крик, но тут же сообразил, что в подземном мире свои законы. В этот миг его слегка оглушило упавшей сверху костью, судя по размерам, не иначе как черепом; он заключил, что находится совсем рядом с пиком, и закричал по-вампирьи.
Звук путешествует медленно, а потому прошло некоторое время, прежде чем прозвучал ответный клич. Картеру сообщили, что лестницу сейчас спустят. Ожидание было непереносимым, он весь извелся, ибо не мог даже предположить, кто еще, кроме упырей, услышал его зов. Страхи оказались обоснованными: издалека донеслось какое-то шуршание, которое с каждым мгновением становилось все громче. Картер изнывал от беспокойства, паника нарастала, и он едва сдерживался. Внезапно что-то глухо стукнулось о кости. Лестница! В следующий миг он крепко вцепился в нее и полез вверх. Однако шуршание, казалось, преследовало его по пятам. На высоте около пяти футов он услышал внизу омерзительные звуки, а когда поднялся футов на десять, лестница заходила ходуном. Пятнадцать футов, двадцать — мимо Картера промелькнуло огромное склизкое щупальце; он содрогнулся и принялся лихорадочно карабкаться по перекладинам, моля небеса, чтобы ему удалось оторваться от преследователя — гнусного дхола, облик которого скрыт от человеческого взора.
Подъем продолжался не один час. У Картера болела каждая косточка, руки покрылись волдырями. Он миновал пояс бледных огоньков, взобрался выше Кряжей Трока, разглядел уступ на вершине упыриного пика, а несколько часов спустя увидел на краю уступа чье-то лицо, похожее на рыло горгульи. От подобного зрелища он едва не потерял сознание и оступился, однако совладал со своими чувствами, хоть и с немалым трудом. Впрочем, благодаря любезности того самого бостонского художника Картеру доводилось уже общаться с упырями, и он хорошо запомнил их собачьи физиономии, уродливые тела и взбалмошный нрав. Так что он сохранил самообладание, когда гнусная тварь вытянула его на вершину пика, и не закричал в ужасе, заметив чуть поодаль целую толпу вампиров, что с любопытством таращились на него, не переставая одновременно ублажать свои чрева.
Картер осмотрелся по сторонам. Он оказался на тускло освещенной равнине, испещренной норами и громадными валунами. Упыри отнеслись к нему довольно уважительно, хотя один попробовал было ущипнуть Картера, а несколько других не сводили с него алчных взглядов. Тщательно выговаривая слова, Картер справился о своем пропавшем приятеле и выяснил, что тот сделался упырем и пользуется к тому же известным влиянием в сферах поблизости от мира яви. Пожилой упырь с зеленоватой кожей вызвался проводить человека туда, где находился сейчас бывший художник. Преодолев естественное отвращение, Картер заполз следом за вожатым в нору и погрузился на долгие часы в пропитанный сыростью мрак узких ходов. Утомительный путь завершился на бескрайней равнине, усеянной реликвиями человеческого бытия — старинными надгробиями, треснувшими урнами, обломками памятников, — и Картер догадался, что с тех пор, как сошел по семистам ступеням из пещеры пламени к Вратам Глубокого Сна, он не был еще столь близок к миру яви.
На могильном камне 1768 года, украденном с кладбища Гранари в Бостоне, восседал упырь, ранее известный как художник Ричард Антон Пикмен, совершенно голый и изменившийся настолько, что почти полностью утратил прежний облик. Однако английский он забыл не до конца и сумел худо-бедно объясниться с Картером, несмотря на то что речь его состояла в основном из маловразумительных звуков и то и дело перемежалась бормотанием на языке вампиров. Узнав, что Картер хочет попасть в зачарованный лес, а оттуда — в город Селефаис в долине Оот-Наргай за Танарианскими горами, он как будто смешался, поскольку упыри, терзавшие мир яви, не заглядывали на могильники верхнего мира грез, оставляя те во владении краснолапых вурдалаков, что кишмя кишели в мертвых городах; вдобавок их отделяли от зачарованного леса многие мили пути, в том числе — по землям королевства ужасных кагов.
Именно каги, косматые исполины, возвели в зачарованном лесу те диковинные каменные сооружения, где поклонялись Другим Богам и ползучему хаосу Ньярлатотепу. Однажды ночью божества Земли прослышали об их бесчинствах и в наказание загнали кагов в пещеры. Из обители упырей в зачарованный лес вела одна-единственная дорога, что заканчивалась огромным камнем с железным кольцом. То была дверь, которую каги никогда не открывали, опасаясь гнева богов. Сновидец-смертный не мог и мечтать о том, чтобы добраться до нее, ибо в седой древности каги питались людьми и у них сохранились предания о лакомой человеческой плоти. Стоит им увидеть Картера, они тут же сожрут его, тем более что теперь их пишу составляют одни только гасты, отвратительные существа, которые не выносят света, населяют подземелья Зина и прыгают на длинных задних ногах, точно кенгуру.
Поэтому упырь, который был Пикменом, посоветовал Картеру либо покинуть бездну у Саркоманда, заброшенного города в долине недалеко от Ленга, где крылатые диоритовые львы стерегут черные лестницы, ведущие в верхний мир грез, либо возвратиться через кладбище в мир яви и вновь сойти оттуда по семидесяти ступеням в пещеру пламени, а затем спуститься к Вратам Глубокого Сна и ступить сквозь них в зачарованный лес. Но Картер не внял его совету, ибо не ведал, в какой стороне от Ленга лежит Оот-Наргай, и не желал просыпаться из опасения потерять все то, что обрел в сновидении. Он сознавал, что ни в коем случае не должен забыть удивительные лица тех моряков с севера, что привозили в Селефаис оникс и, будучи отпрысками богов, могли указать путь к холодной пустыне и неведомому Кадату с замком Великих на вершине.
После долгих уговоров упырь согласился отвести Картера к стене, что окружала королевство кагов. Сновидец твердо решил воспользоваться той единственной возможностью, которая ему представлялась: прокрасться мимо круглых монолитов в час, когда исполины будут спать. Если повезет, он достигнет башни со знаком Коса, внутри которой вьется лестница к каменной двери в зачарованный лес зугов. Пикмен даже приставил к Картеру трех своих собратьев, они должны были помочь человеку отворить дверь. И потом, каги испытывали страх перед упырями и частенько бросались врассыпную, стоило тем появиться на кладбище.
Пикмен также дал Картеру совет притвориться упырем — сбрить бороду, так как вампиры не носят бород, раздеться догола, вызеленить кожу и шагать, переваливаясь с ноги на ногу, а одежду связать в узелок и закинуть за спину — каги наверняка подумают, что он тащит недоеденную добычу. В город кагов, пределами которого, собственно, и ограничивалось королевство, им предстояло попасть по подземному коридору, что выходил на поверхность на кладбище близ башни Коса, нужно было только остерегаться обширной пещеры, рубежа, принадлежавшего гастам Зина. Мерзкие гасты несли там неусыпный дозор, высматривая утративших осторожность путников. Едва лишь каги ложились спать, те вылезали из своих нор и нападали на всех подряд, не делая разницы ни между кагами и упырями, ни между теми и собственными сородичами, ибо, как дикари, пожирали любых живых существ. Каги обычно выставляли часового, но тот зачастую дремал на посту, а потому нападения гастов многажды оказывались внезапными. Если бы в городе кагов было светлее, они, пожалуй, могли бы чувствовать себя в безопасности, но, к сожалению, жили они в вечном сумраке, который не причинял гастам ни малейших неудобств.
Завершив необходимые приготовления, Картер нырнул в туннель. Его сопровождали трое упырей, прихвативших с собой плоское надгробие полковника Непемайи Дарби, скончавшегося в 1719 году и похороненного на салемском кладбище Чартер-стрит. Туннель привел их к скопищу замшелых монолитов, таких высоких, что человеческий глаз бессилен был различить их вершины; однако то были всего лишь самые скромные из могильных камней кагов. Справа от зева норы виднелись за монолитами гигантские круглые башни, что тянулись вдаль, насколько хватало взгляда, и терялись в сером полумраке. Картер понял, что перед ним город кагов — исполинов, в чьих домах высота дверных проемов равнялась тридцати футам. Упыри нередко заглядывали сюда, ведь трупом одного кага можно было кормиться чуть ли не целый год; вдобавок похищать мертвецов у кагов куда проще, чем связываться с людьми. Теперь Картеру стало ясно, откуда взялись те громадные кости, на которые он несколько раз натыкался в долине Пнот.
Впереди, сразу за оградой кладбища, возвышался обрывистый утес, у подножия которого чернела дыра. Упыри предупредили Картера, чтобы он не вздумал приближаться к ней, так как это был вход в пещеру гастов. Там простирались в кромешном мраке подземелья Зина. Картер вскоре убедился, что предупреждение — не пустой звук: едва один из упырей пополз к башне, дабы удостовериться, спят ли каги, в черноте пещеры сверкнули чьи-то желтовато-красные глазки. Походило на то, что каги остались без часового; если так, значит, за упырями следили гасты, чьему исключительно острому чутью можно было только подивиться. Разведчик вернулся к норе и жестом призвал товарищей к молчанию. Упыри вовсе не рвались схватиться с гастами, пока существовала возможность избежать столкновения: утомленные битвой с часовым кагов, гасты наверняка вот-вот уберутся восвояси. Однако мгновение спустя из тьмы в серый сумрак выпрыгнуло существо размером с жеребенка, при виде которого к горлу Картера подкатила тошнота. Когда бы не отсутствие носа, лба и некоторых других черт, морда гаста являла бы собой точную копию человеческого лица.
За первым гастом выскочили еще трое. Кто-то из упырей, обращаясь к Картеру, пробормотал, что враги, похоже, не сражались с кагом-часовым, а попросту проскользнули мимо него и потому будут рыскать по округе, пока не найдут жертву и не утолят свою свирепость. Гастов становилось все больше, теперь их насчитывалось что-то около пятнадцати особей; наблюдать за тем, как они скачут по кладбищу, было неприятно само по себе, однако куда неприятнее оказалось слушать кашель, заменявший им членораздельную речь. Да, они внушали отвращение, но существо, которое появилось из пещеры следом за ними, обладало поистине гнуснейшей наружностью.
Сперва показалась когтистая лапа, примерно двух с половиной футов в поперечнике, за ней другая, дальше — поросшая густым черным мехом рука, засветились розовые глаза на кончиках усиков длиной добрых два фута каждый, зашевелились низкие кустистые брови — проснувшийся каг покрутил огромной, как бочка, головой. Ужаснее всего в его облике была пасть, из которой торчали желтые клыки и которая словно рассекала голову чудища пополам, причем не горизонтально, а по вертикали.
Прежде чем каг успел распрямиться во весь свой рост — двадцать футов, — расторопные гасты скопом накинулись на него. Картер испугался было, что часовой поднимет тревогу и начнется всеобщий переполох, но притаившийся рядом упырь поведал, что каги лишены голоса и общаются лишь посредством мимики. Между тем на кладбище разворачивалась кровопролитная битва. Гасты наскакивали на бедного кага со всех сторон, щипали его, кусали, наносили удары своими заостренными копытами, не переставая при этом восторженно подкашливать, взвизгивали, когда кагу удавалось расправиться с кем-нибудь из них, — шум стоял такой, что удивительно, как только не проснулся весь город. Впрочем, каг слабел на глазах, и гасты мало-помалу оттаскивали его в глубь пещеры. Вскоре они исчезли вместе со своим пленником во мраке под ее сводами, и о том, что борьба продолжается, говорило разве что случайное эхо. Вожак упырей подал знак двигаться, и Картер, заодно с проводниками, покинул кладбище и устремился к городу гигантских башен. Пробираясь к своей цели темными мощеными улицами, все четверо настороженно прислушивались к доносившемуся из домов храпу кагов. Время сна исполинов подходило к концу, поэтому упыри торопились изо всех сил: ведь расстояние, которое предстояло пройти, было отнюдь не маленьким. Наконец из сумрака возникла башня, превосходившая размерами все остальные; над ее дверью виднелся вырезанный в камне символ, от одного вида которого бросало в дрожь даже того, кто не ведал, что этот символ означает. То была башня Коса, а едва различимые ступени в ее дверном проеме являлись началом лестницы, что выводила в верхний мир грез, к зачарованному лесу.
Подниматься по лестнице было нелегко, ибо кругом царила непроницаемая тьма, к тому же ступеньки, высотой где-то в ярд, явно не предназначались для кого-либо, кроме кагов. Картер принялся пересчитывать их, но очень скоро утомился настолько, что незнакомым с усталостью упырям пришлось тащить его на себе. Они спешили, поскольку опасались погони: хотя, страшась гнева Великих, ни один каг не посмеет отворить каменную дверь в зачарованный лес, но ничто не препятствует исполинам входить в башню. Зачастую они намеренно загоняли внутрь башни гастов и преследовали тех до самого верха. Слух у кагов столь острый, что они вполне могли расслышать шаги чужаков на улицах своего города; коли так, им, привыкшим охотиться на гастов в лишенных света пещерах Зина, не понадобится много времени, чтобы отловить в темноте четверых возмутителей спокойствия. Мысль о том, что каги не могут разговаривать, а потому если нападут, то в полном молчании, угнетала Картера. Вдобавок он понимал, что на традиционный страх кагов перед упырями надежд возлагать не стоит: как-никак, все преимущества сейчас были на стороне косматых гигантов. Кроме того, не следовало забывать и про зловредных гастов, которые частенько забирались в башню, пока сонливые каги отдыхали. Может случиться и так, что та стая гастов, которая накинулась на часового, быстро управится с ним, учует запах упырей и ринется вдогонку.
Подъем продолжался невыносимо долго. Внезапно сверху донесся кашель, и стало ясно, что дело принимает дурной оборот. Очевидно, гаст или несколько гастов проникли в башню раньше Картера и его провожатых. Судя по всему, беды было не миновать. Справившись со смятением, вожак упырей оттолкнул Картера к стене и выстроил своих товарищей в подобие боевого порядка. Они могли видеть в темноте, и Картер порадовался тому, что не один. Раздался цокот копыт; упыри воздели над головами надгробие полковника Дарби и приготовились нанести сокрушительный удар. Вот в темноте сверкнули желтовато-красные глаза, послышалось учащенное дыхание; когда гаст оказался на расстоянии ступеньки, упыри обрушили на него надгробие. Сдавленный визг — и все было кончено. Установившаяся тишина как будто свидетельствовала, что гаст был один, и поэтому, выждав мгновенье-другое, упыри поманили Картера за собой наверх. Им снова пришлось тащить его; медленно, но верно они уходили все дальше от того места, где распростерся во мраке обезображенный труп гаста.
Какое-то время спустя упыри остановились. Картер пошарил вокруг и установил, что они добрались до громадной каменной двери с железным кольцом наверху. О том, чтобы распахнуть ее настежь, нечего было и думать; упыри рассчитывали подпихнуть под нее надгробие и выпустить Картера наружу сквозь образовавшуюся трещину. Сами же они собирались потом спуститься вниз и вернуться к своим через город кагов, поскольку, во-первых, не сомневались в том, что сумеют проскользнуть незамеченными, а во-вторых, не знали дороги к призрачному Саркоманду с его диоритовыми львами.
Упыри дружно навалились на дверь всем весом своих раздобревших от нечестивой пищи тел. Картер помогал им в меру оставшихся у него сил. Вот между дверью и стеной появилась тоненькая полоска света, и Картер, которому поручили эту задачу, умудрился всунуть в расщелину край надгробия. Однако первый успех оказался единственным: дверь упрямо не желала поддаваться.
Вдруг лестница словно заходила ходуном, послышался глухой стук — должно быть, покатилось по ступенькам тело убитого гаста. Упыри удвоили, если не удесятерили усилия и ухитрились-таки приоткрыть дверь настолько, что Картер сумел поставить надгробие на ребро. Потом он взобрался на плечи провожатым, подтянулся — и рухнул на благословенную почву верхнего мира грез. Вампиры, которые протиснулись следом, выбили надгробие, и дверь закрылась — весьма кстати, ибо в темноте уже разносилось тяжелое дыхание кагов. Теперь они были в безопасности: исполины ни за что не отважатся нарушить наложенный богами запрет. Картер привольно развалился на диковинном мху зачарованного леса, а упыри уселись на корточки — они всегда отдыхали в такой позе.
Сколь бы потусторонним ни был зачарованный лес, после тех передряг, в которых побывал Картер, он казался тихой гаванью, сулил покой и уют. Поблизости не было ни единого живого существа, поскольку зуги боялись камня с железным кольцом. Картер принялся совещаться с упырями, как быть дальше. Вампиры пребывали в затруднении: возвращение через город кагов представлялось уже невозможным, да и путь в мир яви не вызывал у них восторга, особенно когда они узнали, что дорога туда пролегает сквозь пещеру пламени, где обитают жрецы Нашт и Кама-Таха. В конце концов они решили вернуться к себе через ворота Саркоманда, но до тех тоже надо было как-то добраться. Картер припомнил, что Саркоманд расположен в долине за плато Ленг, а еще — что в Дайлат-Лине ему показывали зловещего вида узкоглазого купца, который, по слухам, торговал с жителями плато. Поэтому он посоветовал упырям отправиться в Дайлат-Лин, объяснил, что нужно сперва попасть в Нир, перейти по мосту Скай, а затем следовать течению реки до самого устья. Те тотчас согласились. В зачарованном лесу сгущались сумерки. Картер поблагодарил своих спутников за помощь, выразил признательность бывшему Ричарду Пикмену, однако не смог подавить вздох облегчения, когда вампиры тронулись в путь. Упырь есть упырь, и для человека он в лучшем случае — неподходящая компания. Расставшись со своими проводниками, Картер разыскал в лесу пруд, выкупался, смыл с себя грязь подземелий и облачился в одежду из узелка.
В зачарованном лесу тем временем наступила ночь, правда, темноты как таковой не было, ее рассеивали светящиеся древесные грибы. Картер вышел на дорогу.
Ему частенько доводилось бывать в тех краях, что лежат между зачарованным лесом и Серанианским морем, а потому он ни минуты не сомневался, куда надлежит идти, — путь указывала певучая речка Укранос. Наступил рассвет, солнце поднималось все выше, освещало рощицы и луга, прибавляло яркости и свежести тысячам цветов, покрывавших землю переливчатым ковром. Над Украносом постоянно стояло легкое марево, благодаря чему солнце пригревало тут немного сильнее, нежели в других местах, птицы и насекомые пели дольше, а люди воображали, будто очутились в волшебной сказке, испытывали ни с чем не сравнимые радость и восторг.
К полудню Картер достиг яшмовых террас Кирана, спускавшихся уступами к реке и служивших опорой Храму Милости, куда прибывает раз в году в золотом паланкине из глубин сумеречного моря король Илек-Вада, чтобы помолиться богу Украноса, который пел ему, когда он был совсем маленьким и жил в доме на речном берегу. Тот храм тоже из яшмы и занимает целый акр земли со своими стенами, внутренними двориками, семью высокими башнями и святилищем, где струится вода реки и поет ночами бог. Луна, освещая храм, многажды слышала диковинную музыку, но была ли то песня бога или напевные заклинания жрецов, знал один лишь король Илек-Вада, ибо только ему разрешалось входить в храм и видеть жрецов. В разгар дня, когда все словно погружается в дрему, никто, похоже, петь не собирался, во всяком случае, Картер различал всего-навсего журчание воды, щебет птиц и стрекотание цикад.
За Кираном вновь начались луга и пологие холмы, на которых виднелись дома с соломенными крышами и алтари местных божеств, вырезанные из яшмы или хризоберилла. Порой Картер спускался к воде, чтобы посвистеть шаловливым рыбам, порой замирал среди тростника и глядел на густой лес на противоположном берегу. В прежних снах он наблюдал за неуклюжими буопотами, что выходили из того леса к реке напиться, но теперь не заметил ни одного из них. Зато ему представилась возможность подсмотреть, как охотится на птиц плотоядная рыба: подманивает сверканием чешуи поближе к воде, а затем, стоит птице окунуть клюв, стискивает его мощными челюстями и увлекает жертву на дно.
Под вечер он взошел на травянистый холм и узрел пламенеющие в лучах заката золоченые шпили Трана. Алебастровые стены этого дивного города взмывают едва ли не к небесам и высечены из одного-единственного, невообразимо громадного камня в незапамятные времена руками не людей, а неких загадочных существ. В них сотня ворот, они увенчаны двумястами башенками и непостижимо высоки, однако белые городские башни с золочеными шпилями еще выше; те шпили видны издалека — они то сверкают на солнце, то вонзаются в облака, то рассекают грозовые тучи. На реке выстроены мраморные причалы, к которым швартуются галеоны, источающие аромат кедра и каламандера. Корабли привозят грузы со всех концов света, моряки, что плавают на них, поголовно носят бороды. От самых стен Трана простираются возделанные поля, дремлют на взгорках белые крестьянские домики, вьются меж полей и садов мощеные дороги со множеством каменных мостов.
Картер увидел с холма, как подкрадываются по реке к золоченым шпилям вечерние сумерки, спустился вниз, добрался вскоре до южных ворот города, остановился по приказу облаченного в алое стражника и вынужден был поведать три невероятных сна, чем доказал, что достоин ступить на таинственные улицы Трана и бродить по базарам, на которых продают товары, доставленные галеонами. Он прошел в ворота, вернее, в туннель, прорезавший толстую стену, и очутился в легендарном Тране. В окнах домов светились огни, из внутренних двориков, где журчали мраморные фонтаны, доносились звуки флейт и свирелей. Картер знал, куда идти, быстро добрался до прибрежной таверны, где разыскал знакомых по прежним сновидениям капитанов и матросов, договорился о том, что его доставят в Селефаис, и заночевал в той же таверне.
Утром он поднялся на борт галеона, который следовал в Селефаис, и сел на носу. Между тем матросы отдали швартовы, распустили парус, и корабль устремился вниз по реке к Серанианскому морю. Многие лиги подряд речные берега оставались такими же, какие они у Трана, лишь иногда возникали справа, на холмах, древние святилища да показывались порой сонные деревушки с красными крышами домов и раскинутыми на солнце сетями. Картер расспрашивал моряков о том, с кем им доводилось встречаться в тавернах Селефаиса, старался разузнать как можно больше о людях с раскосыми глазами, длинными мочками ушей, тонкими носами и заостренными книзу подбородками, которые приплывают с севера на черных ладьях и меняют оникс на поделки из яшмы, золотую нить и певчих птиц Селефаиса. Мореходы не сумели удовлетворить его любопытство, твердили в один голос, что те люди почти не раскрывают ртов и внушают невольное к себе почтение.
Их страна называлась Инкванок, и мало кто стремился попасть туда, в холодные сумеречные широты, поблизости, если верить молве, от ужасного Ленга. Впрочем, та же молва утверждала, что Инкванок отделяет от Ленга цепь непреодолимых гор; потому невозможно сказать, вправду ли зловещее плато с его гнусными обитателями и пещерным монастырем, который лучше не упоминать, лежит так близко или это попросту домыслы, порожденные зрелищем грозных черных пиков на фоне встающей луны. Ведь известно, помимо всего прочего, что Ленга достигают не по земным морям. Ничего другого моряки об Инкваноке не ведали, равно как в жизни не слыхали о неведомом Кадате в холодной пустыне, если, конечно, не считать всяких маловразумительных историй. О чудесном же городе в багрянце заката, истинной цели поисков Картера, они и вовсе не имели ни малейшего представления. Поэтому Картер перестал донимать их расспросами и принялся с нетерпением дожидаться того мига, когда сможет перекинуться словечком с людьми из холодного и сумеречного Инкванока, отпрысками богов, лик одного из которых высечен в склоне Нгранека.
К вечеру показалась излучина, от которой начинались и тянулись в глубь суши джунгли Кледа. Картеру захотелось сойти на берег, ибо в глуши тропических зарослей возвышались чудесные дворцы из слоновой кости, ныне покинутые, а некогда принадлежавшие достославному монарху, правителю страны, чье название затерялось в веках. Чары Великих хранили дворцы, оберегали их от упадка и разрушения, так как в скрижалях богов было записано, что однажды они вновь могут понадобиться; погонщики слонов видели те дворцы, но не смели приближаться к ним из страха перед суровыми стражами. Однако галеон миновал излучину и двинулся дальше, в темноту ночи. На небе проступили первые звезды, словно откликнувшись на огоньки горевших по берегам костров, и вскоре джунгли остались позади, лишь попутный ветер доносил некоторое время их сладостный аромат. Ночь напролет корабль плыл к морю, и его команда не ведала — да и не рвалась узнать, — что скрывает окружающий мрак. Раз дозорный на мачте крикнул, что на востоке полыхают на холмах огни, но капитан посоветовал не особенно приглядываться к ним — мол, откуда нам знать, кто и зачем их зажег.
Утром река разлилась так, что берега стали едва различимы. По виду местности Картер заключил, что галеон находится неподалеку от приморского торгового города Хланита. Городские стены были из шероховатого гранита, дома с островерхими крышами поражали причудливостью фасадов. Жители Хланита необыкновенно походили на обитателей мира яви, из-за чего в мире грез к ним относились с известной долей подозрительности, однако отдавали должное мастерству хланитских ремесленников. Корабль пристал к дубовому причалу. Капитан сразу направился в таверну, где обычно велись торговые дела, а Картер пошел побродить по городу, по узким улочкам которого громыхали телеги, а на базарах наперебой расхваливали свой товар купцы. Таверны все располагались рядом с причалами, на мощеной набережной, которую при высоком приливе захлестывали волны, и выглядели неизмеримо древними: низкие закопченные потолки, зеленоватые стекла круглых, точно иллюминаторы, окон. Моряки, сидевшие в тавернах, громогласно рассуждали о далеких портах и рассказывали множество историй о странных людях из сумеречного Инкванока, но их сведения, как правило, повторяли те, какие Картер добыл у матросов галеона. Наконец, после долгой и утомительной разгрузки-погрузки, корабль отвалил от пристани, вышел в Серанианское море, и стены Хланита исчезли за его кормой вместе с последними лучами заката, на миг придавшего городу очарование, какого не смогли сотворить люди.
Плавание по морю продолжалось две ночи и два дня, на протяжении которых на горизонте не было видно ни признака земли. Навстречу галеону попался лишь один корабль. Под вечер второго дня впереди замаячил снежный пик Аран; немного спустя Картер разглядел деревья гинкго на нижних склонах горы и догадался, что зрит долину Оот-Наргай, в которой привольно раскинулся прекрасный Селефаис. Вот стали различимы сверкающие минареты, мраморные стены с бронзовыми статуями наверху, каменный мост, перекинутый через Нараксу в том месте, где река вливается в море, пологие холмы с рощицами и садами асфоделей, маленькими храмами и домами горожан, а затем вдали проступили обагренные заходящим солнцем Танарианы, величественные и мистические, стерегущие запретные пути в мир яви и иные края мира грез.
Гавань заполняли разноцветные галеры; некоторые из них приплыли из мраморного Сераниана, города в облаках, что находится в эфире, за той чертой, где море встречается с небом, другие же — из более привычных краев земли сновидений. Кормчий, лавируя между судами, подвел галеон к причалу как раз в тот миг, когда на город опустились сумерки и в воде гавани отразились мириады городских огней. Селефаис мнился вечно юным городом мечты: время здесь не имело власти старить или уничтожать. Бирюзовый храм Нат-Хортата — такой же, как десять тысяч лет назад, и среди восьмидесяти служащих в нем жрецов с венками орхидей на головах с тех пор не появился ни один новичок. По-прежнему ярко сияет бронза огромных ворот, по-прежнему кажутся только что вымощенными улицы, в ониксе которых дробится солнечный свет, по-прежнему взирают на купцов и погонщиков верблюдов дивные статуи, а в бородах горожан не найти ни единого седого волоска.
Картер не стал торопиться, не бросился сразу разыскивать главный храм, дворец или цитадель, но остался в порту, намереваясь потолкаться среди торговцев и моряков, а потом, когда все разошлись, направился в знакомую таверну, лег спать и грезил во сне о богах на неведомом Кадате.
На следующий день он вышел на набережную, надеясь на случайную встречу с кем-нибудь из Инкванока, однако ему сообщили, что галера оттуда ожидается не раньше чем через две недели. Тогда Картер разговорился с торабонианским матросом, который бывал в Инкваноке и даже трудился там на ониксовых копях. По словам этого матроса, к северу от населенных земель лежала пустыня, которой все почему-то боялись. Он предположил, что причина страха кроется в том, что, идя по пустыне, можно обогнуть горную цепь и выйти на зловещее плато Ленг, но добраться туда, прибавил он, не так-то просто: Инкванок полнится слухами о всяких гнусных тварях и безымянных стражах. Та ли это пустыня, в которой высится неведомый Кадат, матрос не знал, но резонно заметил, что иначе не было бы смысла ставить в ней стражей, если те, конечно, не выдумка.
Проведя в таверне еще одну ночь, Картер поутру отправился вверх по улице Колонн в бирюзовый храм и завел беседу с верховным жрецом. Хотя в Селефаисе почитают только Нат-Хортата, дневные молитвы посвящаются всем Великим вместе, а потому верховный жрец ведал кое-что о нравах божеств. Подобно Аталу, он настойчиво убеждал Картера отказаться от поисков, заявил, что боги Земли раздражительны и капризны и пользуются покровительством Других Богов, обитающих Извне, чьим глашатаем является ползучий хаос Ньярлатотеп. То, что они скрыли от него видение чудесного города в багрянце заката, — ясный знак их немилости, и вряд ли они доброжелательно отнесутся к Картеру, если тот все же предстанет перед ними и примется молить о возвращении своего сна. В прошлом никому из людей не удалось найти Кадат, и маловероятно, чтобы кто-то отыскал его в будущем. Вдобавок толки, что ходят про ониксовый замок Великих, ни в коей мере не обнадеживают.
Поблагодарив верховного жреца, Картер покинул храм и двинулся в сторону мясного рынка: там столовался вождь кошачьего ополчения Селефаиса. Серый кот грелся на солнышке и лишь вяло пошевелился, когда его окликнул человек. Но стоило Картеру произнести пароль, который он узнал от старого ультарского генерала, кот преобразился — сделался приветливым и разговорчивым, открыл гостю много такого, что известно только животным, шныряющим по долине Оот-Наргай. В частности, кот повторил Картеру те сведения, какими его самого снабдили трусоватые кошки из приморских таверн.
Походило на то, что людей из Инкванока будто окутывала некая аура потусторонности, хотя коты не плавали на их кораблях по другой причине, а именно — из-за того, что в Инкваноке простирались тени, которых не выносит никто из кошачьих. Вот почему тот холодный и сумеречный край никогда не слышал ни дружеского мурлыканья, ни звонкого «мяу». Определить, что настораживало котов, было трудно: кто говорил — твари, засевшие в горах на границе зловещего Ленга, кто — чудища, что шныряют в студеной пустыне к северу от моря. Так или иначе, в Инкваноке ощущалось присутствие чего-то чуждого, не от мира сего, чего-то такого, что не по нраву кошкам и что они улавливают гораздо лучше людей. Потому-то все коты дружно отворачивались от черных кораблей, приплывавших из далеких северных земель.
Старый вождь также поведал Картеру, где он сможет найти своего друга, короля Куранеса, которого в последних сновидениях видел попеременно то в хрустальном дворце Семидесяти Удовольствий в Селефаисе, то в высокобашенном облачном замке парящего в небесах Сераниана. Выяснилось, однако, что король, похоже, совсем извелся от тоски по зеленым холмам Англии, среди которых прошло его детство, где звучали вечерами старинные напевы и проступали из-за деревьев серые деревенские церквушки. Он не мог возвратиться в мир яви, ибо тело его умерло, а потому постарался вообразить себе похожую местность к востоку от города — там вздымались над морем утесы, за ними расстилались луга, упиравшиеся в конце концов в подножия Танарианских гор. Теперь Куранес обитал не во дворце, а в обыкновенном доме готического стиля, окна которого выходили на море, и убеждал сам себя, что это — Тревор-Тауэрз, где появился на свет он и тринадцать поколений его предков. А на побережье он выстроил силою мысли рыбацкую деревушку, словно перенес ее туда из корнуоллской глубинки, сохранив в неприкосновенности все отличительные признаки, и населил людьми, наружностью напоминавшими англичан, которых все пытался научить столь милому его сердцу диалекту. В долине же неподалеку он возвел норманнское аббатство, чьей башней любовался отныне из окон своего дома, и устроил при аббатстве кладбище с надгробиями, на которых вырезал имена предков, а пространство между могилами выложил мхом, походившим на мох родной Англии. Да, Куранес был монархом в стране сновидений, где множество чудес и необычайных красот, восторгов и приключений, однако с радостью отрекся бы от престола, отказался от власти, коей его облекли, за один день в благословенной Англии, тихой и чистой, древней, ненаглядной Англии, которая вскормила его и частичкой которой он останется навеки.
Так что, простившись с вождем кошачьего ополчения, Картер не стал заглядывать в хрустальный дворец; он вышел из Селефаиса через восточные ворота и направился по полю к домику, приютившемуся под сенью раскидистых дубов. Вскоре он достиг живой изгороди, двинулся вдоль нее и какое-то время спустя очутился у кирпичной сторожки. Когда он дернул дверной молоток, к нему вышел не разряженный в пух и прах дворцовый лакей, а низкорослый старик в простой одежде, говоривший по-английски с легким корнуоллским акцентом. Старик пропустил Картера в сад, где все — породы деревьев, тенистые дорожки, планировка эпохи королевы Анны — напоминало об Англии. У двери дома, по обеим сторонам которой восседали на крыльце каменные коты, Картера встретил привратник в ливрее и с бакенбардами. Он проводил гостя в библиотеку, где сидел в кресле у окна Куранес, правитель Оот-Наргая и небес вокруг Сераниана. Он глядел в окно на рыбацкую деревушку и мечтал, чтобы в комнату вошла няня и выбранила его за то, что он не готов ехать на чай к викарию, хотя карета уже подана и матушка сердится.
Завидев Картера, Куранес, облаченный в наряд, какой носили в Лондоне в дни его юности, тепло приветствовал гостя, ибо всякий англосакс из мира яви был для него другом, пускай даже он родился не в Корнуолле, а в Бостоне, штат Массачусетс. Они долго вспоминали былое, и обоим нашлось что сказать, поскольку и тот и другой принадлежали к числу искушенных сновидцев — людей, сведущих в тайнах мира грез. Что касается Куранеса, он побывал в пучине за звездами и, по слухам, единственный сохранил рассудок после такого путешествия.
Наконец Картер заговорил о том, что его волновало, спросил у хозяина про Кадат и про все остальное. Куранес не знал местонахождения Кадата или чудесного города, однако ему было известно, что с Великими лучше не связываться и что Другие Боги не брезгуют никакими средствами, когда защищают божеств Земли. Он многое узнал о Других Богах в отдаленных уголках космоса, особенно в тех палестинах, где не существует формы и где изучают загадки бытия разноцветные газы. Фиолетовый газ С’Нгак открыл ему суть ползучего хаоса Ньярлатотепа и советовал всячески избегать бездны, где пребывает во мраке демонический султан Азатот. Словом, подытожил Куранес, если Древние не пускают Картера в закатный город, безопаснее всего отступиться и прекратить попытки проникнуть туда.
Куранес даже сомневался, что Картер чего-либо добьется, попади он, паче чаяния, в заветный город. Он сам долгие годы томился по Селефаису в долине Оот-Наргай, по свободе, ярким краскам и буйству жизни, лишенной всевозможных пут, ограничений и условностей. В итоге он очутился в этом городе, стал королем окрестных земель, познал свободу — и что же? Яркие краски быстро потускнели, свобода опротивела, буйство утомило до последней степени. Он правил долиной Оот-Наргай, но не находил в этом ничего привлекательного и тосковал по Англии, какой та запомнилась ему по детским впечатлениям. Он отдал бы все свое королевство за плывущий над корнуоллскими холмами звон колоколов, променял бы тысячу минаретов Селефаиса на островерхие крыши деревушки поблизости от того дома, где родился. И потому Куранес сказал гостю, что город, который тот ищет, может не оправдать ожиданий и лучше ему оставаться манящей, но несбыточной мечтой. В бытность человеком из плоти и крови Куранес часто навещал Картера и знал, что Рэндольф Картер горячо привязан к своей родине — холмистой Новой Англии, и, случить ему оказаться оторванным от нее, зачахнет от тоски.
Он предложил Картеру поучиться на его, Куранеса, собственном примере, заявил, что рано или поздно тот перестанет думать о чем-либо, кроме запавших в душу мест: будет видеть мысленным взором огонек маяка Бикон-хилл, шпили и извилистые улочки архаичного Кингспорта, двускатные крыши колдовского Аркхема, благословенные луга, долины с каменными изгородями, белые домики среди деревьев. Однако Картер не пожелал внять совету друга, и, когда они расставались, каждый был убежден, что прав именно он. Картер вернулся в Селефаис и стал дожидаться прибытия в порт черной галеры из холодного и сумеречного Инкванока, галеры, в жилах моряков и купцов с которой течет кровь Великих.
Однажды вечером ведомая сигналами маяка долгожданная галера вошла в гавань, пристала к берегу, и вскоре в приморских тавернах появились, поодиночке и компаниями, люди, черты которых в точности воспроизводили божественный лик, высеченный в склоне Нгранека. Картер не спешил, присматривался и прислушивался, сознавая, что раскрывать немногословным северянам свои замыслы было бы несколько неосторожно, равно как и расспрашивать их о холодной пустыне; кто знает, каковы они по складу характера, эти отпрыски Великих? Северяне ни с кем особо не общались, в тавернах выбирали укромные уголки, сидели всегда вместе, пели песни неведомых земель или рассказывали друг другу длинные истории на языке, которого никто, кроме них, не понимал. О чем говорилось в тех песнях и историях, можно было, впрочем, догадаться по слушателям, взгляды которых выражали благоговение и восторг.
Черная галера простояла в порту Селефаиса ровно неделю. Моряки провели это время в тавернах, а купцы — на городских рынках. Картер попросился на борт перед самым отплытием, назвался рудокопом и заявил, что хочет добывать оникс. Никто не усмотрел в подобном намерении чего-либо необычного или подозрительного. Галера представляла собой не корабль, а прямо-таки произведение искусства: ее построили из тика с вкраплениями черного дерева и золота; стены каюты, в которую поместили пассажира, были завешены шелком и бархатом. Наутро капитан приказал распустить паруса и поднять якорь. Отлив подхватил судно и повлек его в море. Стоя на высокой корме, Картер наблюдал, как постепенно исчезают из виду залитые лучами рассвета стены, бронзовые статуи и золотые минареты Селефаиса, как становится все меньше и меньше снежная шапка пика Аран. К полудню Селефаис пропал без следа — куда ни глянь, повсюду простиралась безбрежная ширь Серанианского моря. Вдалеке виднелась ярко раскрашенная галера, похоже, державшая путь в Сераниан, где море сливается с небом.
С наступлением ночи на небосводе высыпали звезды. Кормчий правил по Большой и Малой Медведицам, матросы пели незнакомые песни, а остальные разглядывали плескавшихся в волнах рыб, что распространяли вокруг себя тусклый свет. Картер лег спать в полночь, а проснулся на заре и отметил, что солнце несколько сдвинулось к югу. Второй день плавания он посвятил тому, чтобы сойтись поближе с моряками и разговорить их. Осмелев, он начал спрашивать о холодном и сумеречном Инкваноке, об ониксовом городе, о непреодолимой горной цепи, за которой якобы лежит зловещее плато Ленг. Моряки поведали ему о своей печали, о том, что во всем Инкваноке не сыскать ни единого кота и виной тому, должно быть, близость проклятого Ленга. Они охотно отвечали на вопросы Картера, но едва тот упоминал холодную пустыню, сразу стушевывались, замыкались в себе и угрюмо замолкали.
В следующие дни они рассказывали Картеру о копях, на которые тот будто бы направлялся. Копей было не перечесть, ведь оникса требовалось очень и очень много: из него были возведены все города Инкванока, им торговали в Ринаре, Огротане и Селефаисе, его меняли на пользовавшиеся большим спросом товары из Трана, Иларнека и Кадатерона. Один рудник, громаднее всех остальных, располагался на крайнем севере, чуть ли не на границе холодной пустыни, существование которой люди Инкванока отказывались признавать; это из него добыли в незапамятные времена те глыбы оникса, о чьих потрясающих воображение размерах напоминали теперь зияющие пустоты в драгоценной породе. Кто вырубил те глыбы и куда их потом переправили, сказать было невозможно, однако при всем при том сочли за лучшее во избежание всякого рода неожиданностей и неприятностей оставить эти копи в покое. Моряки уверяли, что ныне там никто не появляется, за исключением воронья и легендарной птицы шантак. Картер призадумался, ему вспомнились древние предания, гласившие, что замок Великих на вершине неведомого Кадата — из оникса.
С каждым днем солнце вставало все ниже и ниже над горизонтом, а туманы становились все гуще. Затем солнце исчезло вообще, на целых две недели; корабль плыл сквозь колдовские сумерки, светло-серые днем и серебристые ночью. На двадцатый день плавания впереди показалась торчащая из моря скала — первый признак суши с тех пор, как пропал из виду Аран; Картер спросил капитана, как она называется, и услышал в ответ, что названия у нее нет и что ни одно судно не отваживается подойти к ней сколько-нибудь близко из-за звуков, что раздаются с наступлением темноты. Когда пали сумерки, от скалы, словно подтверждая слова капитана, донесся заунывный вой, и пассажир порадовался тому, что галера находится на достаточном удалении от гранитного острова. Матросы молились, пока корабль не отошел настолько, что вой стал не слышен по причине расстояния, а Картера в ту ночь мучили кошмары.
На второе утро на восточном горизонте замаячил горный кряж. Узрев его, моряки затянули веселую песню, некоторые опустились на колени и принялись молиться, и Картер понял, что галера приближается к Инкваноку и скоро пришвартуется к базальтовому причалу. К полудню стало возможным различить береговую линию, а три часа спустя на севере проступили из мглы похожие на луковицы купола и затейливые шпили ониксового города. Древний Инкванок производил весьма внушительное впечатление: черные с золотой инкрустацией стены домов, множество ворот, арки которых венчали бюсты божеств, исполненные столь же искусно, как и лик в склоне Нгранека, шестнадцатиугольная главная башня с балконом — как пояснили моряки, Храм Древних. Еще они прибавили, что верховный жрец этого храма изнемогает под бременем тайн, в которые посвящен. Инкрустация на стенах многооконных строений поражала воображение: замысловатые рисунки, конуса, пирамиды, прочие геометрические фигуры, пересечения, наложения, переплетения.
Время от времени над городом проплывал колокольный звон, которому всякий раз отвечали рога, виолы и сливавшиеся в хоре голоса. Треножники на галерее храма изрыгали пламя — жрецы, а заодно с ними и простые горожане, соблюдали правила, изложенные Великими на скрижалях, более древних, нежели Пнакотические рукописи. Когда галера миновала базальтовый волнолом и вошла в гавань, послышался шум, обычный для портового города, и Картер увидел на набережной моряков, купцов и рабов. Моряки и купцы явно относились к тем, чей род вел свое начало от богов, а вот рабы, низкорослые и узкоглазые, по слухам, явились в Инкванок из долин за зловещим плато Ленг, то ли обогнув, то ли каким-то образом перевалив через поднебесный хребет. На длинных причалах вовсю торговали всякой всячиной.
Галера пристала. Команда быстро покинула ее и направилась в город. Улицы этого города были вымощены ониксом, некоторые из них отличались прямизной и широтой, прочие были извилистыми и узкими. Дома на набережной уступали высотой всем остальным, однако здесь висели над дверями золотые символы, означавшие, что дому покровительствует то или иное божество. Капитан галеры привел Картера в таверну, где собирались моряки со всего света, пообещал показать ему завтра достопримечательности сумеречного города и отвести в таверну рудокопов у северной стены. Наступил вечер, зажглись бронзовые светильники, моряки запели о далеких краях. Но когда зазвонил колокол храмовой башни, они перестали петь, склонили головы и молчали, пока не стихло последнее эхо. В сумеречном городе Инкванок — свои обычаи, и нарушать их никто не собирался, опасаясь скорого и ужасного возмездия.
Картер окинул взглядом залу — и вздрогнул: в укромном уголке притаился в тени тот самый купец из Дайлат-Лина, который, если верить молве, торговал с жителями зловещего плато Ленг и которого чураются все здравомыслящие люди; да, купец, якобы имевший дело с верховным жрецом, чье лицо скрывает желтая шелковая вуаль, обитающим в одиночестве в доисторическом скальном монастыре. Этот купец искоса поглядывал на Картера, когда тот расспрашивал дайлатлинцев о холодной пустыне и неведомом Кадате; его присутствие в сумеречном Инкваноке, столь близко от чудес севера, порождало в душе смутную тревогу. Картер хотел было заговорить с ним, но тот ухитрился незаметно ускользнуть. Кто-то из моряков позднее сообщил Картеру, что купец появился в городе с караваном яков, привез огромные и очень приятные на вкус яйца легендарной птицы шантак, которые, судя по всему, намеревался обменять на яшмовые кубки из Иларнека.
Наутро капитан галеры привел Картера к храму, что располагался, вместе с обнесенным стеной садом, на просторной площади, от которой, подобно спицам в колесе, разбегались во все стороны улицы Семь ворот сада — арки с резными ликами богов, которые никогда не запирались, и каждый, кому хотелось, мог побродить среди деревьев по дорожкам, вдоль которых расставлены были пьедесталы с бюстами, заглянуть в скромные святилища мелких божеств. Когда звенел колокол, из семи сторожек у семи ворот звучали рога, виолы и человеческие голоса, а из семи дверей храма выступали семь процессий — жрецы в масках и черных плащах с капюшонами, державшие перед собой, на расстоянии вытянутой руки, золотые чаши, над которыми курились дымки. Шагали они весьма странно: не сгибая ног в коленях, постепенно выстраивались в одну длинную колонну, направлялись к семи сторожкам, вновь разделялись, заходили внутрь — и пропадали. Кое-кто утверждал, что сторожки соединены с храмом подземными коридорами, по которым возвращаются жрецы; правда, уверяли также, что ониксовые ступеньки уводят из сторожек в земные недра, к непостижимым тайнам, но лишь немногие отваживались намекать, что жрецы в масках — вовсе не люди.
Картер не пошел в храм, поскольку путь туда был заказан всем, кроме Короля-под-вуалью. Однако прежде чем он успел покинуть сад, прогремел колокол, запели рога и виолы, потянулись вереницами к семи сторожкам жрецы в масках, и, глядя на них, странник невольно содрогнулся от страха, какой люди внушают отнюдь не часто. Выждав, пока не исчезнет последний из жрецов, Картер покинул сад, поторапливаемый капитаном галеры, который повлек его к прекрасному дворцу Короля-под-вуалью.
Улицы, что вели ко дворцу, были узкими и крутыми, все за исключением той, по которой король и придворные ездили на яках или на влекомых яками колесницах. Картер с капитаном выбрали именно ее, прошли между инкрустированных золотом стен, под балконами, откуда доносились звуки музыки или пряные ароматы, миновали огромную черную арку и очутились в садах развлечений монарха, чей дворец, знаменитый своими высокими стенами, могучими башнями и многочисленными куполами-луковицами, возвышался впереди. У Картера захватило дух от окружающей красоты: ониксовые террасы, колоннады, клумбы, ряды деревьев в цвету, золотые шпалеры, бронзовые урны, треножники с резьбой, статуи из черного с прожилками мрамора, настолько правдоподобные, что казались не изваяниями, а живыми людьми; выложенные базальтом водоемы со светящимися рыбами, птицы, сверкающие переливчатым оперением, изумительный орнамент огромных ворот из бронзы, цветущие лозы на стенах — все это вместе создавало картину, превосходившую прелестью действительность и непривычную даже в стране сновидений. Чудилось, что под серым сумеречным небом словно воплотились чьи-то грезы, невыразимо дивные и потусторонние, особенно в сочетании с видом на королевский дворец и далекий непреодолимый горный хребет.
Затем капитан повел Картера в северный квартал города, к Воротам Караванов, туда, где располагались таверны рудокопов и торговцев. И там, под низким потолком одной из таверн, они расстались, ибо капитану пора было заняться делами, а Картеру не терпелось приступить к расспросам. Народу в таверне было много, и вскоре страннику удалось завязать разговор на интересовавшую его тему. Он представился рудокопом и заявил, что хочет узнать побольше об ониксовых копях Инкванока. Однако ему не слишком повезло: собеседники давали уклончивые ответы, всячески изворачивались или просто замолкали, когда речь заходила о холодной пустыне и заброшенном руднике. Люди боялись существ, что «могли явиться невзначай со зловещего Ленга, а еще — пустынных тварей и безымянных часовых в скалах. Картер краем уха разобрал чей-то шепоток: мол, шантакам тоже не след доверять, недаром молва твердит, что увидеть такую птицу — не к добру (не зря же прародителя шантаков, заключенного в королевском дворце, кормят в сплошной темноте).
На следующий день, сказав, что хочет побывать на копях и заглянуть в несколько деревушек, Картер нанял яка, навьючил на животное мешки с поклажей и выехал из города через Ворота Караванов. Дорога бежала, никуда не сворачивая, вдоль нее виднелись дома с приплюснутыми куполами. Время от времени Картер заходил в эти дома и задавал свои вопросы. Раз ему встретился человек замечательной наружности, суровый и немногословный, черты лица которого удивительно напоминали божественный лик в склоне Нгранека, и Картер решил, что наконец-то отыскал одного из Великих или, по крайней мере, кого-то из числа их ближайших родственников, а потому беседовал с тем поселянином весьма почтительно, избегал всего, что могло бы помни́ться хулой на богов, наоборот, не уставал повторять, как признателен Древним за все их благодеяния.
Он заночевал на придорожном лугу, под сенью громадного дерева лигат, к которому привязал своего яка, а утром продолжил путь на север. Часам к десяти он добрался до селения Ург, где отдыхали обычно караванщики и делились историями рудокопы, и просидел до полудня в деревенской таверне. Сразу за Ургом караваны сворачивали на запад, в сторону Силарна; Картер же по-прежнему двигался в северном направлении. Дорога, уже караванной тропы, вилась меж каменистых взгорков, а слева приобретала все более четкие очертания гряда холмов. К вечеру холмы превратились в черные скалы, и Картер понял, что приближается к местам, где добывали оникс. Вдалеке справа высился непреодолимый горный хребет, и чем выше забирался путник, тем меньше приятного слышал он о тех горах от случайных попутчиков.
На четвертый день местность сделалась не то чтобы пугающей, но достаточно неприглядной, дорога сузилась до тропки, которая вела все вверх и вверх. Справа по-прежнему возвышались грозные пики; чем дальше проникал Картер в неизведанный край, тем холоднее и темнее становилось вокруг. Вскоре он заметил, что на тропе нет ни единого следа, и догадался, что ею не пользовались с незапамятных времен. Порой над головою раздавался хриплый крик ворона, а шорох за камнями наводил на мысль о легендарных шантаках, но в основном окрест было тихо. Косматый як тащился вперед — Картеру раз за разом приходилось его понукать, — фыркал и тряс головой при малейшем, даже еле слышном звуке.
Тропу с обеих сторон стискивали отвесные стены утеса, она стала еще круче, копыта яка частенько скользили по камням. Часа через два такой езды Картер разглядел перевал, за которым не было ничего, кроме тускло-серого неба, и порадовался предстоящему спуску. Однако добраться до перевала оказалось не так-то легко: тропа пошла вверх едва ли не вертикально. Картер спешился и повел животное в поводу, а як то упирался, то спотыкался. Внезапно подъем закончился. Картер осмотрелся — и оторопел.
Тропа и впрямь сбегала вниз по более-менее пологому склону. Слева от нее находилась пропасть — не естественная, а рукотворная, образовавшаяся после того, как из скалы извлекли умопомрачительное количество оникса. На дно копей, помещавшееся, казалось, в глубине планетных недр, нырял, словно в пасть исполинского чудища, гигантский желоб. Да, подумалось Картеру, тут поработали явно не люди. Щербины на стенах пропасти свидетельствовали о том, какого размера куски высекали здесь когда-то молотки неведомых рудокопов. Над краем пропасти кружили вороны, а внизу шныряли нетопыри или урхаги, а может, иные жуткие твари. Ошеломленный Картер глядел то на сумеречное небо, то на тропу, поворачивался то к высоким утесам справа, то к бездонной пропасти слева.
Вдруг, издав пронзительный вопль, як вырвал из руки человека повод и помчался по тропе вниз. Камни из-под его копыт летели в пропасть и словно растворялись в воздухе, не достигая дна. Картер бросился вдогонку. Постепенно утесы обступили тропу как справа, так и слева, опасность свалиться в пропасть миновала. Картеру почудилось, будто впереди слышен топот копыт, и он припустил еще быстрее. Погоня продолжалась миля за милей, тропа мало-помалу становилась все шире, и Картер осознал, что скоро очутится в холодной пустыне. Над утесами справа вновь возникли вершины непреодолимого горного хребта, прямо же виднелось открытое пространство, предвестник голой и студеной равнины. Вновь, отчетливее, чем раньше, зацокали копыта, и Картер испугался, ибо звук доносился сверху, с перевала, и вовсе не походил на топот мчащегося сломя голову яка.
Погоня за животным обернулась бегством от незримого преследователя. Картер не оглядывался, но что-то подсказывало ему, что ничего хорошего он у себя за спиной не увидит. Должно быть, як ощутил это прежде человека. Неужели, подумал Картер, меня преследуют от самого Инкванока или это появилось какое-нибудь чудовище из бездны? Тем временем утесы сгинули, словно их и не было; впереди расстилалась бескрайняя песчаная пустыня. Следы яка исчезли, зато сзади по-прежнему раздавался цокот, перемежавшийся порой звуком, напоминавшим хлопанье крыльев. Картер понимал, что его настигают, вдобавок он утратил всякую ориентировку.
И тут Картер рассмотрел нечто поистине ужасное. Сперва ему показалось, что на севере — гряда холмов, но когда замерцали низко нависшие над землей тучи, он осознал свою ошибку. То были не холмы, а колоссальные изваяния, статуи собакоподобных существ высотой в добрую тысячу футов, протянувшиеся цепочкой от горного хребта на востоке до горизонта на западе, — громадный ониксовый кряж, преобразившийся под руками тех, с кем не мог равняться человек. Молчаливые стражи, они сидели в пустыне, подобные волам или упырям, увенчанные коронами туманов и туч, воздев правые лапы в угрожающем жесте.
Картеру померещилось, будто двухголовые твари шевельнулись, однако то была всего лишь игра тусклого света. Но в следующий миг над статуями показались черные силуэты, которые действительно двигались. Крылатые создания неумолимо приближались — размерами больше слона, с лошадиными мордами. Картер, хоть ни разу не встречался с ними, догадался, что это легендарные шантаки. Ему стало ясно, кого так страшатся люди Инкванока, каких безымянных дозорных в пустыне. Он остановился, решил наконец оглянуться и увидел то, что, собственно, ожидал: за ним ехал на тощем яке купец с раскосыми глазами, которого сопровождала стая омерзительных шантаков, не успевших еще отряхнуть с крыльев селитру земных недр.
Очутившись в западне, окруженный кошмарными существами, Рэндольф Картер не потерял ни сознания, ни присутствия духа. Купец соскочил с яка, ухмыльнулся и ткнул пальцем в одного из шантаков. Картер понял: ему предлагали взобраться на отвратительное чудище. Купец подсадил его, Картер содрогнулся от прикосновения нечестивца. Подниматься было нелегко, ибо у шантаков вместо перьев чешуя, притом очень и очень скользкая. Но вот Картер уселся, купец пристроился у него за спиной, оставив яка кому-то из гиппоцефалов. Картер увидел, что животное погнали в сторону гигантских ониксовых статуй.
Остальные шантаки взмыли в воздух и устремились на восток, к тому непреодолимому хребту, за которым, по слухам, лежал Ленг. Они летели над облаками, а потому Картер сумел разглядеть то, что было недоступно взорам людей Инкванока — затянутые сверкающей дымкой горные вершины. Он различил на склонах отверстия пещер и вспомнил о Нгранеке, но не стал спрашивать купца, кто обитает в тех пещерах, ибо заметил, что и купец, и его крылатый скакун, похоже, испытывают страх.
Миновав горы, шантак снизился. В разрывах облаков стала видна серая равнина, на которой, на значительном удалении друг от друга, мерцали огоньки костров. Присмотревшись, Картер увидел одинокие гранитные дома и деревни из таких домов. Окна строений лучились бледным светом, изнутри доносились визгливое пение дудок и мерзкий грохот.
У костров плясали какие-то существа. Картеру, несмотря на его положение, стало любопытно, каковы они из себя. Он ведал, что никому еще не доводилось сталкиваться с обитателями Ленга — в преданиях говорилось лишь о каменных селениях и огнях костров. Плясуны двигались медленно и неуклюже, изгибаясь так, что к горлу подступала тошнота, и Картер понял, откуда взялся тот ужас, с которым упоминают о Ленге во всех концах мира грез.
Шантак пролетел над кострами, гранитными строениями и пляшущими у огня нелюдями и устремился дальше. Под ним тянулись голые серые холмы — единственное, что оживляло угрюмый пейзаж студеной пустыни. Наступил день, свечение облаков померкло, а исполинская птица продолжала по-прежнему мерно взмахивать крыльями. Порой купец заговаривал со своим скакуном, обращался к нему на отвратительном, клекочущем языке, а тот отвечал свистом, который резал уши, как царапанье ногтем по стеклу. Между тем местность внизу постепенно повышалась, и какое-то время спустя шантак очутился над плоской, доступной всем ветрам равниной, этакой крышей проклятого, обезлюдевшего мира. Посреди той равнины стояло приземистое здание без окон, окруженное цепочкой грубо обтесанных монолитов. На человеческий дух здесь не чувствовалось даже намека; Картеру вспомнились старинные предания, и он заключил, что и впрямь попал в самое жуткое на свете место — доисторический монастырь, в котором молится в одиночестве Другим Богам и их глашатаю, ползучему хаосу Ньярлатотепу, верховный жрец, чье лицо скрыто желтой шелковой маской.
Птица приземлилась. Купец легко соскочил с нее и помог спуститься пленнику. Теперь Картер знал, зачем его похитили. Вне сомнения, купец с раскосыми глазами являлся соглядатаем темных сил и, чтобы выслужиться перед своими повелителями, решил доставить им смертного, который осмелился разыскивать неведомый Кадат и ониксовый замок Великих на его вершине. Что ж, подумалось Картеру, во всяком случае, он узнал, что подходы к Кадату надежно охраняются Другими Богами, владыками Ленга и холодной пустыни к северу от Инкванока.
Купец был невысок ростом, но ослушаться его не представлялось возможным, ибо он, чуть что, поглядывал на огромного гиппоцефала. Поэтому Картер безропотно последовал за ним, миновал круг монолитов и ступил сквозь низкий дверной проем под своды лишенного окон монастыря. Внутри было темно, однако купец зажег глиняный светильник с омерзительной резьбой на стенках и повел пленника в лабиринт узких, извилистых коридоров. Стены коридоров сплошь покрывали фрески, возраст которых уходил в глубину веков, а стиль исполнения поразил бы археологов мира яви. Несмотря на прошедшие тысячелетия, краски ничуть не выцвели, поскольку их сохранила стужа, царившая на зловещем Ленге. То, что удалось разглядеть Картеру в тусклом свете, исходившем из глиняной плошки, заставило его содрогнуться.
На фресках раскрывалась история Ленга. Рогатые большеротые нелюди плясали на развалинах позабытых городов, сражались с жирными лиловыми пауками из соседних долин, встречали черные галеры с луны, сдавались жабообразным тварям, что спрыгивали с палуб кораблей, а после поклонялись им как богам, и во взглядах, какими они провожали галеры, увозившие самых крепких и упитанных самцов, не читалось ни гнева, ни мольбы о снисхождении. Судя по фрескам, лунные жабы обосновались по прибытии на острове в открытом море; Картер понял страх моряков Инкванока перед одинокой скалой, мимо которой им приходится плавать и с которой доносится по ночам жуткий, заунывный вой.
Кроме того, на этих фресках изображен был морской порт, столица хвостатых нелюдей, город на утесах со множеством колоннад, базальтовыми причалами, великолепными дворцами и чудесными храмами. Широкие улицы вели от утесов и от шести увенчанных сфинксами ворот через цветущие сады к просторной центральной площади, на которой восседали два циклопических крылатых льва: они стерегли уводившую под землю лестницу. Изображения львов повторялись снова и снова, то в серых сумерках дня, то в тусклом свечении ночи, и в конце концов Картера словно осенило; он догадался, где сидят исполинские львы и какой город принадлежал нелюдям до прибытия черных лунных галер. Ошибки быть не могло — тот город неоднократно прославлялся в легендах. Баснословный Саркоманд, лежавший в руинах за миллион лет до появления на Земле человека! Если так, львы охраняют лестницу, что ведет из страны сновидений в Великую Бездну.
Другие фрески показывали горный хребет, что отделял Ленг от Инкванока, чудовищных шантаков, чьи гнезда лепились к скалам над глубокими пропастями, и пещеры вблизи вершин, те пещеры, от которых шарахались в ужасе, как можно было судить по картине, храбрейшие из шантаков. Картер видел эти пещеры сверху, со спины гигантской птицы, и еще тогда заметил их сходство с пещерами Нгранека. Теперь же он убедился в том, что сходство — не простая случайность. Фрески изображали обитателей пещер — нетопыриные крылья, рога, хвосты, когтистые лапы, будто гуттаперчевые тела… Да, он сталкивался с ними! Лишенные рассудка стражи Великой Бездны, которых боятся даже Великие и которые подчиняются не Ньярлатотепу, а седому Ноденсу, призраки Нгранека, что никогда не смеются и не улыбаются, потому что не имеют лиц, вечно снующие во мраке между долиной Анот и проходами во внешний мир!
Купец привел Картера в помещение с арочным потолком. Стены украшали отталкивающего содержания барельефы, в полу посреди помещения зияла круглая дыра, вдоль которой выстроились в кольцо шесть покрытых бурыми пятнами алтарей. Глиняная плошка светила столь слабо, что подробности обстановки воспринимались не сразу, а постепенно, одна за другой. У дальней стены возвышался каменный помост, к которому вели пять ступенек; на нем стоял золотой трон, а на том троне сидело существо в желтых с красным шелковых одеждах и желтой шелковой маской на лице. Купец принялся оживленно жестикулировать, существо в ответ поднесло к губам флейту из слоновой гости и извлекло из инструмента ряд оскорбительных для слуха звуков. Разговор продолжался, но вот существо высунуло из шелкового рукава лапу, и Картер удостоверился, что его опасения были не напрасны. Волной накатил страх и побудил сделать то, на что по здравом размышлении он вряд ли бы отважился. Всякие раздумья уступили место одной-единственной мысли: бежать прочь отсюда, прочь от этой твари на золотом троне! Он помнил, что от выхода из монастыря его отделяет лабиринт коридоров, а на студеной равнине поджидают шантаки, однако все опасности вдруг будто умалились, а все желания свелись к тому, чтобы вырваться из лап облаченного в шелковые одежды чудища.
Купец поставил плошку на один из алтарей у края дыры в полу и прошел немного вперед, вероятно, для того, чтобы верховный жрец мог лучше разобрать его жесты. Картер, до сих пор выказывавший полную покорность судьбе, внезапно словно воспрял: толкнул купца с силой, которую придал ему страх, и тот рухнул в дыру, что являлась, по слухам, колодцем, достигавшим пещер Зина, где охотились во мраке на гастов косматые каги. Почти в ту же секунду сновидец схватил с алтаря глиняную плошку со свечой и кинулся в лабиринт коридоров, сворачивая туда, куда несли ноги, и стараясь не думать о возможной погоне и о тех ловушках, которые наверняка подстерегают его в темноте.
Мгновение спустя ему пришлось пожалеть о том, что он бежал без оглядки, — ведь насколько разумнее было бы ориентироваться по фрескам! Правда, с ними тоже морока, зачастую последующее изображение лишь немногим отличается от предыдущего, но надо было хотя бы попробовать. Те фрески, которые открывались его взгляду теперь, выглядели гораздо отвратительнее прежних, и он сообразил, что направляется не к выходу из монастыря, а, по-видимому, в обратную сторону. Довольно скоро он убедился, что его не преследуют, и слегка сбавил шаг, но едва вздохнул с облегчением, как обрушилась новая напасть: свеча в плошке догорала. Картеру предстояло очутиться в кромешной тьме.
Когда свеча погасла, он продолжил путь на ощупь, моля Великих о пускай незначительной, но помощи. Порой коридор уводил вверх, порой нырял вниз, а как-то раз Картер споткнулся о ступеньку, которой по всем признакам на том месте никак не должно было быть. Чем дальше он шел, тем более сырым становился воздух; когда обнаруживал, что туннель разветвляется, то всегда выбирал тот проход, который имел наименьший уклон. Он сознавал, что идет вниз: запах как на кладбище, узоры на склизких стенах, покатый пол — все свидетельствовало о том, что он забрался глубоко в недра зловещего плато Ленг. А дальше случилось непредвиденное. Только что он ковылял по коридору, ощупывая рукой стену, — а в следующий миг уже летел с головокружительной скоростью во мрак по чуть ли не строго вертикальной шахте.
Сколько продолжалось падение, он не знал, ибо замечал всего лишь приступы тошноты и панического ужаса, но вдруг понял, что лежит на земле, устремив взгляд на тускло светящиеся облака. Его окружали осыпавшиеся стены и полуразрушенные колонны, сквозь камни мостовой пробивались трава и кустарник. Сзади возвышался базальтовый утес, в его испещренном узорами склоне зияло черное отверстие — должно быть, та самая шахта. Впереди виднелись двойные колоннады, обломки, пьедесталы, урны, бассейны фонтанов: похоже, когда-то здесь пролегала широкая и красивая улица. В конце улицы можно было различить просторную площадь, над которой проступали из серого сумрака два диоритовых колосса. То были крылатые львы, расстояние от их голов до земли составляло полных двадцать футов, они грозно взирали на руины и как будто рычали. Рассмотрев их, Картер понял, куда его забросило. Перед ним восседали бессменные стражи Великой Бездны, у ног которых распростерлись развалины древнего Саркоманда.
Первым делом Картер заложил то отверстие, из которого выскочил, попавшимися под руку кусками камня. Ему вовсе не хотелось столкнуться с погоней из скального монастыря на зловещем плато Ленг. Покончив с этим, он задумался над тем, как ему возвратиться из Саркоманда в населенные области страны сновидений. Спускаться к упырям не имело смысла, ибо собратьям Пикмена известно не больше, чем самому Картеру. Те трое упырей, что помогли ему пробраться через город кагов, ведать не ведали, как им добраться до Саркоманда, и собирались расспросить торговцев Дайлат-Лина. Мысль о том, чтобы вновь сойти в подземелье кагов, проникнуть в башню Коса и попытаться достичь зачарованного леса, отнюдь не прельщала Картера; тем не менее он решил вернуться к ней, если не придумает ничего другого. Бродить по зловещему Ленгу с его доисторическим монастырем, да еще в одиночку, было бы сущим безумием; вдобавок он вряд ли сумеет избежать встречи с шантаками и прочей тамошней жутью. Будь у него лодка, он мог бы доплыть до Инкванока, миновав каким-то образом торчащую из моря скалу: ведь если судить по фрескам в лабиринте монастыря, та скала находится довольно близко от базальтовых причалов Саркоманда. Но лодки нет, и найти ее или построить не удастся.
Вот о чем размышлял Рэндольф Картер, когда произошло событие, положившее конец всяким размышлениям. Справа от крылатых львов замерцал над руинами баснословного Саркоманда призрачный свет, исходивший не от фосфоресцирующих туч. Этот свет имел зеленоватый оттенок и то становился ярче, а то тускнел. Догадавшись об искусственном происхождении зеленоватого свечения, Картер осторожно двинулся туда, где предположительно находился его источник. Как выяснилось минуту-другую спустя, то были отблески разожженного близ пристани костра, возле которого толпились смутно различимые фигуры и который источал весьма неприятный запах. Слышался плеск воды. У пристани стоял большой корабль. Картера пронзил страх, когда он увидел, что судно — черная галера с луны.
Он уже собирался ползти прочь, но тут толпа у костра зашевелилась, и до Картера донесся звук, который невозможно было спутать ни с каким иным, — всхлип перепуганного упыря. Поначалу еле слышный, всхлип постепенно перешел в надрывный вопль. Чувствуя себя в безопасности в тени саркомандских развалин, Картер справился со страхом и, вместо того чтобы убраться восвояси, пополз вперед. Ему пришлось перебраться на противоположную сторону, что он и проделал, извиваясь всем телом, как громадный червяк, а затем вынужден был подняться на ноги, чтобы преодолеть без лишнего шума груду мраморных осколков. Никто его не окликнул и не схватил, так что вскоре он притаился за толстой колонной, откуда мог наблюдать за происходящим, оставаясь незамеченным. Возле костра, разведенного из лунного мха, сидели на корточках жабообразные твари и их рабы-нелюди. Несколько рабов нагревали в пламени наконечники диковинных копий для того, чтобы потом прижечь кожу троим крепко связанным пленникам, катавшимся от боли по земле у ног предводителей отряда. По тому, как дергались щупальца на рылах лунных жаб, Картер заключил, что они наслаждаются зрелищем; а затем он пришел в неописуемый ужас, ибо узнал в мучимых упырях своих проводников, верных товарищей на пути из подземелья в верхний мир, с которыми расстался в зачарованном лесу, когда они отправились на поиски Саркоманда и ворот, через которые могли бы попасть домой.
Лунных жаб у костра было многое множество, так что Картер бессилен был помочь тем, кто не так давно выручил его. Каким образом упыри оказались в плену, он не имел ни малейшего понятия, однако предположил, что жабы услышали в Дайлат-Лине, как те выспрашивают дорогу в Саркоманд, устроили засаду, не желая близко подпускать их к зловещему плато Ленг и скальному монастырю с его верховным жрецом. Прикидывая, как ему поступить, Картер припомнил вдруг, что совсем недалеко — ворота в подземелье упырей. Пожалуй, разумнее всего будет вернуться на площадь диоритовых львов и спуститься по лестнице в бездну, ужасы которой наверняка уступают тем, что творятся здесь. Да, необходимо спуститься и разыскать там вампиров, готовых сразиться за освобождение сородичей. Быть может, битва завершится истреблением всех до единой жаб с черной лунной галеры. Тут Картеру пришло в голову, что ворота, как и прочие проходы в бездну, стерегут, должно быть, немые призраки, но их, как ни странно, он не боялся. Он узнал, что призраков связывают с упырями нерушимые клятвы; упырь Ричард Пикмен сообщил ему пароль, который понимали призраки.
Картер пополз обратно, по направлению к центральной площади с ее крылатыми львами. Увлеченные пыткой лунные жабы не обращали внимания на шум, который он производил при движении. Наконец Картер выбрался на площадь и, перебегая от одного мертвого дерева к другому, устремился к воротам в бездну. Исполинские львы, очертания которых четко обрисовывались на фоне тускло-серого ночного неба, грозно нависали над ним, но он мужественно продолжал путь. Статуи располагались на расстоянии десяти футов друг от друга, их пьедесталы испещряли отталкивающие изображения. Между пьедесталами была площадка, некогда огороженная ониксовой галереей, а посреди площадки чернел зев провала. Присмотревшись, Картер различил искрошившиеся от времени ступени, ведущие вниз.
Ужасный спуск длился не час и не два. Время летело незаметно для Картера, спускавшегося по бесконечной спирали в кошмарное подземелье. Ступени были столь древними и узкими и вдобавок такими скользкими, что он постоянно ожидал падения, гибельного полета до самых земных недр. К тому же в уголке сознания прочно угнездилась мысль, что ему не избежать нападения немых призраков. Постепенно Картер словно превратился в автомат: он двигался как заведенный и не заметил, что кто-то подхватил его и повлек в темноту, и лишь когда зашелся в нервном смехе от щекотки, сообразил, что угодил-таки в лапы к призракам.
Опомнившись, Картер прокричал пароль, который узнал от упыря Ричарда Пикмена. Хотя, по утверждению молвы, призраки лишены рассудка, их поведение тут же изменилось: щекотка прекратилась, пленника оставили в покое. Ободренный таким поворотом событий, Картер пустился в объяснения, поведав об участи троих упырей, и заявил, что необходимо освободить несчастных. Призраки, похоже, поняли его, скорость их движения возросла. Внезапно густая тьма рассеялась, вокруг засерел тусклый свет подземного мира, впереди показалась одна из тех равнин, на которых так любят собираться вампиры. Повсюду валялись обломки надгробий и остатки нечестивых пиршеств; когда Картер издал призывный клич, из нор высунулось с дюжину похожих на собачьи морд. Призраки опустили Картера на ноги посреди возбужденных упырей, а сами порхнули в сторону.
Картер быстро сообщил, что привело его к вампирам. Четверо упырей немедля нырнули в норы, чтобы известить остальных и собрать войско. Через некоторое время появился упырь, пользовавшийся, должно быть, определенным влиянием. Он сделал знак призракам, и двое из них сорвались с мест и скрылись во мраке. Вскоре они возвратились, а за ними прилетела целая стая их собратьев. Между тем из нор, взволнованно переговариваясь, вылезали все новые упыри. Мало-помалу они выстраивались в некое подобие боевого порядка. Вот из норы возник предводитель, бывший бостонский художник Ричард Пикмен, и ему Картер изложил случившееся во всех подробностях. Пикмен, обрадованный встречей со старым другом, быстро разобрался что к чему и устроил совет с другими вождями.
Наконец, окинув придирчивыми взглядами собравшееся войско, предводители принялись отдавать приказы как вампирам, так и призракам. Крупный отряд рогатых летунов взмыл в воздух, а те, что остались, разбились на пары и опустились на колени. Едва тот или иной упырь взбирался на своих «скакунов», призраки взлетали и пропадали во тьме. Постепенно равнина опустела, исчезли все, за исключением Картера, Пикмена, прочих вождей и их призраков. Пикмен объяснил, что призраки — кавалерия упыриного войска, которая ринулась в Саркоманд. По примеру вампиров, Картер подошел к призракам, очутился в крепких объятиях, а в следующее мгновение поднялся над кладбищем, и призраки понесли его к крылатым львам и древним руинам древнего города.
Снова томительно долгое пребывание в кромешной тьме, но вот показались светящиеся тучи, и призраки вылетели на центральную площадь Саркоманда, заполненную воинственно настроенными упырями и их помощниками. Судя по свечению неба, скоро должен был наступить день, однако армия была столь внушительной, столь грозной, что ее командующий вовсе не собирался прятаться от врага. Близ пристани по-прежнему виднелись зеленоватые отблески пламени костра, хотя отсутствие криков говорило о том, что пытка — по крайней мере, на время — закончилась. Отданы последние указания, упыри сомкнули ряды и двинулись по развалинам в направлении пристани. Картер шагал рядом с Пикменом в первой шеренге и потому чуть ли не раньше всех увидел лунных жаб. Те оказались застигнутыми врасплох. Трое пленников лежали на земле, их мучители дремали у огня, рабы-нелюди крепко спали, даже часовые пребывали в полусонном состоянии, ибо жабы, по всей вероятности, полагали, что опасаться им некого.
Упыри и призраки напали разом, так что жабообразные твари и рабы-нелюди не успели издать ни звука. Впрочем, лунные жабы не имели голосов, но и у рабов вырвались в лучшем случае всего лишь один или два сдавленных вопля. Жабы бешено извивались, но, как ни пытались, не могли освободиться из железной хватки призраков. Те применяли простой, однако, судя по результатам, весьма действенный способ, чтобы успокоить непонятливых: хватали их за розовые щупальца на рылах, и жабы сразу же прекращали трепыхаться. Картер ожидал кровавой бойни, но обнаружил, что замысел упырей гораздо коварнее. Призракам велели сделать то-то и то-то (Картер не разобрал, что именно). Однако какое-то время спустя его любопытство было удовлетворено: призраки с живым грузом в когтях отправились обратно в Великую Бездну, чтобы доставить столь изысканное лакомство к столу дхолов, кагов, гастов и прочих жителей подземелья. Трех несчастных упырей развязали, разведчики обыскали окрестности и взошли на борт черной галеры, дабы убедиться, что никто не избежал возмездия. Да, победа была полной и сокрушительной. Картер, желая сохранить корабль для возможного путешествия в иные пределы страны сновидений, попросил не сжигать галеру. Его просьбу, разумеется, исполнили, ибо упыри были признательны человеку за услугу, которую он им оказал. На корабле нашли диковинные предметы и украшения, впрочем, бо́льшую часть Картер немедля выкинул в море.
Вожди стали обсуждать дальнейшие действия. Трое спасенных предлагали совершить набег на скалу в море и уничтожить тамошний гарнизон. Но призраки не согласились, ибо не любили летать над водой, поэтому от этой затеи пришлось отказаться. Впрочем, не до конца: Картер посоветовал воспользоваться вражеской галерой и научить упырей работать веслами. Все одобрительно зашумели. Наступил серый день; отряд вампиров поднялся на борт корабля, и Картер взялся за обучение. Дело пошло столь гладко, что к вечеру он уже отважился поплавать немного по гавани, но лишь три дня спустя окончательно уверился в том, что может положиться на упырей. Призраков разместили на носу, гребцы заняли свои места, Картер, Пикмен и прочие вожди расположились на корме, и галера снялась с якоря.
В первую же ночь над морем разнесся заунывный вой. Все невольно содрогнулись; хуже других чувствовали себя трое спасенных, которым было известно, что означает этот вой. Посовещавшись, вожди сочли за лучшее не нападать ночью. В час серого рассвета завывания стихли; гребцы налегли на весла, и галера помчалась к гранитной скале, чьи очертания мнились поистине фантастическими на фоне свинцового неба. На крутых, обрывистых склонах виднелись уступы, на которых мелькали диковинные здания без окон и придорожные ограждения. К этому острову не приближалось еще ни одно судно с командой и людьми — вернее, приближаться-то оно могло, но вот на возвращение живыми и здоровыми морякам рассчитывать не приходилось, однако ни Картер, ни упыри не ведали страха. Галера обогнула восточный склон горы — и впереди проступили из сумрака причалы порта.
Вход в гавань охраняли два высоких мыса. Расстояние между ними было столь малым, что, сумей встретиться в проливе корабли — один с моря, другой из порта, — они ни за что бы не разминулись. Дозорных вроде бы не наблюдалось, поэтому галера устремилась в пролив, проскользнула меж мысов и оказалась в гавани. Там уже находилось несколько судов, стоявших на якоре у каменного причала, по которому, подгоняемые лунными жабами, сновали рабы-нелюди — таскали ящики и бочонки, грузили их на повозки, покрикивали на запряженных в постромки чудовищных тварей. Над пристанью нависал утес, у подножия которого притулились какие-то строения, а по склону вилась дорога, исчезавшая за гребнем.
Завидев галеру, существа на причале засуетились: те, у кого были глаза, таращились на судно, а лишенные глаз помахивали розовыми щупальцами. Они, разумеется, не догадывались, что черная галера сменила хозяев, ибо издали упыри сильно смахивали на рогатых рабов-нелюдей, а призраки заблаговременно попрятались. Замысел вождей состоял в следующем: едва корабль пристанет, выпустить на врагов немых призраков, а самим идти полным ходом обратно в открытое море. Брошенные якобы на произвол судьбы, призраки похватают всех живых существ, каких только сумеют найти, а затем, изнывая от тоски по дому, преодолеют свой страх перед водой и полетят к подземелью, обремененные добычей, которую потом разделят по справедливости.
Упырь Ричард Пикмен спустился в трюм и разъяснил призракам, что от них требуется, а тем временем галера подошла едва ли не вплотную к одному из зловещих причалов. Внезапно Картер заметил, что на берегу нарастает беспокойство. То ли корабль двигался не туда, куда предписано, то ли кто-то уловил разницу между рабами-нелюдями и упырями на палубе. Должно быть, подали сигнал тревоги: из зданий без окон у подножия утеса выплеснулся целый поток лунных жаб, на галеру обрушился град дротиков, двое вампиров упали замертво, третий был ранен. Но тут распахнулись настежь люки, и из трюма вырвались призраки — они закружились над пристанью подобно стае громадных рогатых нетопырей.
Лунные жабы попытались отпихнуть галеру от причала длинным шестом, однако на них накинулись призраки, и они забыли и думать о своих попытках. Зрелище впечатляло: безликие призраки парили над пристанью, залетали в дома, носились над дорогой; порой они роняли по ошибке кого-то из жаб, твари падали и разбивались о камни, распространяя вокруг отвратительную вонь. Когда последний из призраков покинул галеру, прозвучала команда, гребцы навалились на весла, и корабль устремился прочь из гавани. На берегу по-прежнему царил хаос.
Пикмен решил, что призракам понадобится несколько часов, чтобы довершить дело, а потому галера бросила якорь примерно в миле от гранитной скалы, и упыри занялись ранеными товарищами. Пала ночь, серый сумрак сменился тусклым свечением облаков; предводители пристально вглядывались в небо, ожидая появления вереницы призраков. Где-то под утро показалась черная точка, вскоре к ней присоединились другие, и словно возникло еще одно облако. Перед самым рассветом облако рассеялось, а через четверть часа его было не сыскать и следа. Призраки улетели на северо-восток. Когда упыри убедились, что призраки направились в сторону Саркоманда и ворот в Великую Бездну, галера снялась с якоря и снова вошла в гавань. Команда высадилась на берег и рассыпалась по окрестностям.
Ужасными были находки, сделанные в башнях и домах без окон: в основном остатки нечестивых пиршеств. Внутренняя обстановка домов была весьма скудной и состояла, как правило, из диковинных стульев и скамей, сделанных из древесины лунного дерева; стены украшали затейливые узоры. Повсюду валялись оружие и драгоценности, в том числе вырезанные из цельных рубинов идолы с наружностью явно неземных существ. Эти идолы, несмотря на материал, который пошел на их изготовление, не заслуживали того, чтобы ими любовались, и Картер разбил целых пять штук на мельчайшие кусочки. Копья и дротики он, с одобрения Пикмена, распределил среди упырей. Тем такое оружие было в новинку, однако обращение с ним не составляло никакого труда, поэтому Картер надеялся, что упыри вскоре освоятся.
Чем выше по склону утеса, тем чаще встречались храмы и реже — жилые дома. Сделанные в скале многочисленные пещеры скрывали во мраке резные алтари, все в бурых пятнах от жидкости, которой их наполняли, святилища для поклонения тем, кому были не чета даже дикие божества, воздвигшие себе замок на вершине неведомого Кадата. В одном из скальных храмов Картер обнаружил уводивший в темноту коридор и забрался в него с зажженным факелом. Коридор привел его в подземный зал со сводчатым потолком, на стенах которого виднелись изображения всевозможных бесов, а посредине зияла дыра, как две капли воды напоминавшая жерло бездонного колодца в монастыре на плато Ленг, где обитает верховный жрец в желтой шелковой маске. Картеру почудилось, будто он различает в стене рядом с ямой бронзовую дверцу, но что-то подсказало ему, что открывать ее не нужно и лучше даже не приближаться, и он заторопился обратно, к своим союзникам-упырям, которые шныряли по острову, проявляя завидную любознательность и полное равнодушие к тому, что повергало человека в панику. Они отыскали бочонок крепкого лунного вина и закатили на борт галеры. На складе недалеко от пристани нашлось громадное количество лунных рубинов, как ограненных, так и необработанных, но когда упыри выяснили, что самоцветы не годятся в пищу, они потеряли к ним всякий интерес.
Вдруг с причала донесся окрик часовых. Все, кто находился на берегу, обернулись к морю. В проливе показалась черная галера. Оставалось лишь какое-то мгновение до того, как рабы на ее палубе заметят упырей и сообщат о том хозяевам-жабам. По счастью, вампиры не додумались выкинуть копья и дротики, которыми вооружил их Картер; повинуясь приказу человека, подкрепленному распоряжениями Ричарда Пикмена, упыри построились в боевой порядок и приготовились отразить натиск новоприбывших. Волнение на борту галеры свидетельствовало о том, что экипаж корабля в замешательстве, а то, что судно, едва войдя в гавань, подняло все весла, доказывало — жабы приняли в расчет многочисленность упыриного войска. Вот галера развернулась и помчалась в море, однако вампиры отнюдь не предполагали, что им удалось одержать столь легкую, бескровную победу. Галера либо отправилась за подкреплением, либо ее команда попытается высадиться на остров в другом месте, поэтому на высокий утес были посланы дозорные с наказом проследить, куда двинется вражеское судно.
Несколько минут спустя один из дозорных вернулся с вестью, что лунные жабы и их рабы высаживаются на побережье восточного мыса и поднимаются наверх тропинками, крутизны которых испугаются и горные козлы. Тут в глубине пролива вновь мелькнула галера, а потом прибежал второй дозорный с донесением, что еще один отряд, еще большим числом, занял западный мыс. В этот миг галера, которую только что поминали, проскользнула в гавань, действуя лишь одним рядом весел, и бросила якорь.
Картер и Пикмен разделили упырей на три группы — две направлялись в бой, а третья оставалась в городе. Первые группы немедленно разошлись в разные стороны, третью же разбили на сухопутную и морскую. Морской, под командованием Картера, предстояло атаковать вражескую галеру. Та, видя, что противник выбирает якорь, вышла в открытое море. Картер не стал преследовать ее, так как понимал, что может понадобиться в городе.
Отряды жаб и рабов-нелюдей взобрались на вершины мысов, их фигуры отчетливо вырисовывались на фоне сумеречного неба. Завизжали дудки; общее впечатление, которое производили жабообразные твари, было ничуть не менее тошнотворным, чем вонь, исходившая от их тел. Неожиданно в поле зрения возникли упыри. Воздух заполонили дротики, к визгу дудок добавились крики упырей и завывания нелюдей, и все вместе они слились в чудовищную, демоническую какофонию. Тела валились с обрывов то в открытое море, то в воду гавани; в последнем случае их незамедлительно проглатывали некие твари, чье присутствие ощущалось лишь по пузырькам на поверхности.
Сражение продолжалось около получаса. Но вот западный мыс оказался полностью очищенным от нападавших. Однако на восточном, где, судя по всему, бился в рядах своих воинов предводитель лунных жаб, дела обстояли иным образом: упыри медленно отступали.
Пикмен отправил туда подкрепление, а затем в схватку вмешались подоспевшие с западного мыса, и стало ясно, что победа достанется упырям. Они отогнали врагов к обрыву. Нелюди к тому времени все полегли, уцелели только жабы, да и то немногие, но дрались они отчаянно, размахивая огромными копьями. Дротики уже не годились, завязалась рукопашная.
Битва кипела, и тела сыпались вниз одно за другим. Все, кто падал в гавань, погибали в челюстях неведомых тварей, из тех же, кто очутился в открытом море, некоторым посчастливилось добраться до подножия мыса, где торчали из воды обнажившиеся с отливом камни, а нескольких лунных жаб подобрала их галера. Впрочем, упыри на камнях находились в незавидном положении: влезть наверх они не могли, ибо единственный проход загораживали жабы, а с галеры принялись метать дротики. Но тут, очень вовремя, появился Картер, прогнал лунную галеру подальше от берега, снял горстку упырей с камней, выловил тех, что барахтались в воде, и прикончил обнаруженных у подножия мыса лунных жаб.
Считая, что вражеской галеры теперь можно не опасаться, он высадил на сушу многочисленный отряд, который ударил противнику в тыл, и сражение вскоре закончилось. Зажатых с обеих сторон жаб убили или сбросили со скал. Черная галера скрылась за горизонтом. Обсудив, как быть дальше, вожди упырей решили покинуть гранитный остров, дабы избежать столкновения с превосходящими силами лунян, которые наверняка вот-вот явятся сюда.
Пикмен с Картером собрали упырей, пересчитали их и установили, что в схватке пала четвертая часть войска. Раненых разместили на корабле — Пикмен терпеть не мог древнего обычая убивать и поедать сородичей, получивших ранения в бою, — гребцы расселись по веслам, а остальные примостились там, где нашлось свободное местечко, и галера тронулась в путь. Картер ни капельки не жалел о том, что покидает загадочный остров с его секретами и сводчатой залой, где зияет в полу черная дыра, а рядом виднеется в стене бронзовая дверца. Рассвет застал галеру рядом с базальтовыми развалинами Саркоманда, где упырей поджидало несколько призраков: словно рогатые горгульи, они сидели на корточках, взгромоздясь на руины города, процветавшего и канувшего в небытие задолго до рождения первого человека.
Упыри расположились лагерем на набережной и послали гонца за призраками. Пикмен и прочие вожди наперебой благодарили Картера, а тот вдруг ощутил, что обрел над соратниками власть, позволявшую требовать от тех помощи в поисках ониксового замка богов на вершине неведомого Кадата и чудесного города в багрянце заката, столь безжалостно выхваченного из его сновидений. И тогда он поведал упырям то, что сумел узнать за время своих блужданий по миру грез. Он сказал, что знает, где холодная пустыня, в которой высится Кадат, упомянул про гигантских шантаков и двухголовых ониксовых исполинов, заявил, что шантаки боятся немых призраков, описал, как громадные гиппоцефалы шарахались от пещер на склонах гор, отделяющих Инкванок от зловещего Ленга. Он прибавил также, что видел изображения призраков на фресках в коридорах скального монастыря, где восседает на золотом троне верховный жрец в желтой шелковой маске; судя по тем фрескам, крылатых тварей боятся даже Великие, а повелевает ими не ползучий хаос Ньярлатотеп, но седой и неизмеримо древний Ноденс, владыка Великой Бездны.
Изложив все это упырям, Картер сказал, что у него есть просьба, которую, он надеется, не сочтут чрезмерной в благодарность за услуги, оказанные им упыриному роду. Он просит выделить ему столько призраков, сколько нужно, чтобы перенести человека через гнездовья шантаков, по-над ониксовыми страхами и холодной пустыней, туда где не бывал еще ни один смертный. Он хочет добраться до замка на вершине неведомого Кадата в холодной пустыне, дабы умолить Великих вернуть ему видение чудесного города в багрянце заката. Он убежден, что призракам под силу преодолеть все опасности на долгом и многотрудном пути.
Для подобного путешествия, продолжал Картер, вполне хватило бы десяти или пятнадцати призраков, такое количество наверняка удержит шантаков на почтительном расстоянии. Вдобавок он был бы очень рад, если бы его вызвался сопровождать кто-либо из упырей, поскольку упыри гораздо лучше знакомы с повадками призраков. Возможно, кому-то из упырей также захочется повидать Великих; он, Картер, отнюдь не станет возражать, ибо присутствие сподвижников придаст лишний вес его мольбе. Впрочем, последнее не суть важно. Итак, он просит, чтобы его доставили в ониксовый замок на вершине неведомого Кадата в холодной пустыне, а оттуда или в чудесный закатный город, если боги смилостивятся, или к Вратам Глубокого Сна в зачарованном лесу, если моления окажутся тщетными.
Вожди внимательно слушали Картера. Небо между тем потемнело от кишевших в нем призраков, тех самых, за которыми посылали гонца. Рогатые твари окружили войско упырей и замерли в ожидании. Упырь Ричард Пикмен, переговорив с остальными, объявил Картеру решение совета. Поскольку человек помог им расправиться с лунными жабами, они посодействуют ему в осуществлении его дерзкого замысла, предоставят в распоряжение Картера стаю призраков заодно с седоками, за исключением небольшого отряда, необходимого для охраны захваченной галеры, а по прибытии на вершину Кадата ему, когда он ступит под своды замка божеств, будет сопутствовать процессия упырей.
Донельзя обрадованный, Картер принялся обсуждать подробности перелета. Было решено, что призраки полетят как можно выше, чтобы избежать неприятностей над зловещим Ленгом с его безымянным монастырем и каменными поселениями, задержатся лишь на горном хребте, где постараются отыскать своих внушающих ужас чудовищным шантакам сородичей и перемолвятся с ними словечком. Затем, в зависимости от того, что сообщат им собратья, они двинутся дальше то ли над пустыней с ее ониксовыми двухголовыми стражами, то ли над северными пределами гнусного Ленга. Лишенные души, ни упыри, ни призраки не страшились кары, могущей постигнуть тех, кто проникнет в студеную пустыню, и не испытывали ни намека на благоговение при упоминании неведомого Кадата.
Около полудня все было готово, каждый из упырей встал рядом с парой выделенных ему летунов; Картер находился во главе войска рядом с Пикменом перед двойной шеренгой призраков без ноши — они составляли авангард. По сигналу Пикмена стая взмыла в воздух, поднимаясь все выше и выше над развалинами древнего Саркоманда, и вот уже остался внизу исполинский базальтовый утес, и взгляду открылась голая равнина — предвестница зловещего Ленга. Но подъем продолжался, и вскоре равнина сделалась едва-едва различимой. Призраки устремились на север. Когда они неслись над жутким плато, Картер содрогнулся, рассмотрев круг монолитов и приземистое здание без окон, где скрывается верховный жрец в желтой шелковой маске, отвратительный монстр, в чьих когтистых лапах ему довелось не так давно очутиться. Стая пролетела над монастырем, миновала селения с их бледными огоньками костров, у которых плясали под визгливые звуки дудок рогатые и хвостатые нелюди. Вдалеке мелькнул шантак — углядев призраков, он издал истошный вопль и умчался на север.
В сумерках стая достигла горного хребта, отделяющего Ленг от Инкванока, и закружилась над пещерами, которые, как вспомнилось Картеру, вызывали панический страх у шантаков. Вожди упырей призывно закричали, и из пещер вылетели черные крылатые существа, упыри и призраки завязали с ними разговор. Вскоре выяснилось, что безопаснее всего продолжать путь над холодной пустыней, ибо северные пределы Ленга изобилуют ловушками, которых остерегаются даже призраки; те представляют собой полусферические белые здания на диковинных холмах, и молва гласит, что их воздвигли Другие Боги со своим ползучим хаосом Ньярлатотепом.
О Кадате обитатели горных вершин ничего не знали, сообщили только, что к северу должно находиться некое чудо, доступ к которому преграждают шантаки и двухголовые ониксовые стражи. По слухам, холодная пустыня искажала до неузнаваемости любые формы и размеры, а еще толковали, что ее окутывает покрывало вечной ночи. Однако это были домыслы, и потому Картер, поблагодарив рогатых существ, дал знак отправляться; стая призраков снова взвилась в воздух, промчалась над кряжем, а затем опустилась до уровня фосфоресцирующих облаков, и тут вдалеке проступили из сумрака очертания исполинских фигур, созданных в седой древности руками неведомых титанов.
Чудища сидели полукругом, зарывшись в песок задними лапами, а правые передние воздев к облакам — зловещие, похожие на волков двухголовые твари с выражением ярости на оскаленных мордах, бессменные блюстители рубежей человеческого мира, хранители тайн студеной северной пустыни. На статуях примостились огромные шантаки, которые было замахали крыльями, но, заметив передовой отряд призраков, ринулись прочь, оглашая окрестности истошными воплями. Стая пролетела над стражами, и внизу потянулась, лига за лигой, безжизненная холодная пустыня. Свет облаков все более тускнел, наконец наступила темнота, но призраки, привычные к мраку своего подземелья, ничуть не испугались. Дальше, дальше, лига за лигой, туда, где тьма гуще… Прикинув, сколько длится полет, Картер невольно вздрогнул: а что, если они покинули земной мир грез?
Внезапно облака стали реже, в разрывах между ними замерцали звезды. Внизу по-прежнему царила кромешная тьма, зато наверху лучились светом небесные маяки, словно указуя дорогу. Картеру чудилось, будто знакомые созвездия сделались вдруг символами, суть которых проясняется с первого же взгляда. Впечатление было такое, что на небе возникла громадная сверкающая стрела, устремленная на север; странника как бы подгоняли к неведомой цели, лежавшей за студеной пустыней. Картер посмотрел на восток, где высился горный хребет, протянувшийся вдоль границы Инкванока. В сиянии звезд можно было различить отдельные пики, зияющие чернотой расщелины, обрывистые склоны; горы, мнилось, являются продолжением прорезавшей небосвод стрелы, чем-то вроде ее оперения.
Призраки летели так быстро, что человек попросту не успевал как следует разглядеть то, что приковывало к себе его внимание. Неожиданно Картер уловил краем глаза какое-то движение над хребтом: некая тень двигалась в том же направлении, в каком мчалась стая. Упыри также заметили новоявленного спутника, о том говорило их возбужденное бормотание; сперва Картер решил, что видит необычайно крупного шантака, но мгновение спустя понял, что ошибся: у крылатых гиппоцефалов не наблюдалось пары голов, до сих пор они обходились одной, и, кроме того, диковинное существо, если и летело, то без помощи крыльев.
Впереди показался разрыв в горной цепи: узкий проход, соединявший холодную пустыню со зловещим Ленгом. Картер пристально всматривался в него, рассчитывая увидеть преследователя в полный рост. Тот сейчас слегка опережал призраков. Вот он достиг прохода и немного умерил свою прыть, будто осознал, что превратился из преследователя в преследуемого. Упыри, не сводившие с него глаз, дружно вскрикнули, и их возгласы выражали панический ужас, а человек ощутил, как ему в душу закрадывается беспримерная стужа. Над горами виднелась лишь голова, вернее, две головы, а в проходе мелькнуло на миг массивное тело, напоминавшее очертаниями невероятно огромную гиену.
Картер не потерял сознания и даже не закричал от страха, ибо отнюдь не впервые очутился в мире грез. Однако, оглянувшись, он содрогнулся: в погоню за стаей призраков бросились, похоже, все до единого ониксовые исполины. Трое из них гнались за дерзкими нарушителями буквально по пятам. Выходит, гиганты сидят на рубеже пустыни не просто так: у них есть свои обязанности, которые они должны выполнять. Жуткость происходящего подчеркивалась тем, что каменные твари не издавали ни звука, двигались совершенно бесшумно.
Упырь Ричард Пикмен отдал приказ — и стая взмыла вверх, едва ли не под самые звезды; призраки поднимались до тех пор, пока горный хребет и ониксовые стражи не пропали в разливавшемся внизу мраке. Теперь вокруг были только мерцание звезд, шелест ветров да смех эфира — ни шантаков, ни иных, более гнусных тварей. Быстрее, быстрее! Казалось, призраки превзошли резвостью скорость винтовочной пули и вот-вот достигнут той, с какой кружит по орбите планета. Странно, подумалось Картеру, сколько летим, а под нами все та же Земля. Впрочем, ему было известно, что в мире грез расстояния иные. Он был уверен единственно в том, что они попали в край вечной ночи; ему вновь почудилось, будто созвездия указывают на север. Небо словно сжималось гигантской пружиной, чтобы затем швырнуть стаю в холодные объятия северного полюса.
Картер вдруг заметил, что призраки больше не машут крыльями, и преисполнился ужаса. В самом деле, рогатые летуны сложили свои перепончатые отростки и доверились буйному ветру, стаю увлекала вдаль неведомая, потусторонняя сила: ни призраки, ни упыри не могли противостоять небесному течению, мчавшему их на север, откуда не возвращался еще ни один смертный. На горизонте заблистал свет, разгоравшийся тем ярче, чем становился ближе, а под ним проступало нечто темное, заслонявшее собой звезды. Картеру померещился маяк на горе — лишь высокая гора способна была произвести подобное впечатление из поднебесья.
Гора, если то была гора, постепенно увеличивалась в размерах и наконец взметнулась выше стаи призраков, надо всеми земными вершинами, пронзив лишенный атомов эфир, в котором вращаются загадочная луна и безумные планеты. Люди не в состоянии вообразить себе что-либо подобное. Кайма облаков оторачивала подножие горы, верхние слои атмосферы служили ей как бы поясом на чресла. Черный во мраке вечной ночи, вздымался впереди мост между землей и небом, увенчанный короной звезд, которые изливали на него ослепительное сияние. Упыри шумно восхищались, Картер же испугался, что беспомощная стая врежется с лета в грандиозную скалу.
А та поднималась все выше, прямо в зенит, и будто бы подмигивала путнику, насмешливо и с издевкой, со своей недосягаемой вершины, где стоял маяк. Пространство внизу затянула тьма: кромешный, непроницаемый мрак, истекавший из незримых пучин и достигавший непознанных высот. Картер присмотрелся к маяку — и оторопел от неожиданности. Он различил башни с куполами, созданные явно не человеческими руками, укрепления, террасы, невыразимо прекрасные и грозные одновременно, посеребренные сиянием звездного венца; увидел и понял, что поиски завершены, что он добрался до желанной Цели, предмета дерзновенных мечтаний и устремлений, легендарного замка Великих на вершине неведомого Кадата.
Едва постигнув это, он осознал, что ветер, увлекавший стаю к горе, изменил направление и теперь дует снизу вверх. Судя по всему, ему велели доставить незваных гостей в ониксовый замок. Склон горы был совсем рядом, но подъем происходил столь быстро, да и к тому же было так темно, что разглядеть что-либо не представлялось возможным. Мало-помалу замок Великих приобретал все более четкие очертания, и Картеру подумалось, что колоссальные башни попирают самим фактом своего существования законы и установления населенного людьми мира. Все постройки замка были сложены из громадных глыб оникса, вполне возможно, тех, что добыли в незапамятные времена на заброшенном ныне руднике близ Инкванока. Купола многочисленных башен сверкали и переливались в свете звезд. То, что Картер поначалу принял за маяк, оказалось освещенным окном наверху одной из высочайших башен. Человеку показалось, он видит в окне — сводчатом, ничуть не похожем на окна земных домов, — неясные тени.
Между тем отвесный склон исподволь перешел в замковую стену. Скорость полета слегка уменьшилась. Мелькнули огромные ворота, а в следующий миг призраки, упыри и Рэндольф Картер очутились на внутреннем дворе замка богов. Там они не задержались, невидимое воздушное течение увлекло их в темный дверной проем у основания башни. Коридор, в котором, как и снаружи, царила темнота, сворачивал то вправо, то влево, однако неуклонно вел вверх. Тьма угнетала: ее не нарушали ни звук, ни проблеск света. Стая призраков словно сгинула в ней, канула в бесконечном лабиринте ониксового замка. Но вот вокруг разлился бледный свет, и пилигримы оказались в помещении со сводчатым окном. Картер долго приглядывался к стенам и потолку, прежде чем сообразил, где находится: ему было почудилось, что он окружен пустотой.
Рэндольф Картер рассчитывал явиться в тронную залу Великих — пускай не торжественно, но с достоинством, в сопровождении свиты упырей, и изложить свою просьбу так, как пристало свободному и искушенному сновидцу. Он знал, что мольба смертного может тронуть Великих, и уповал на то, что в решающее мгновение поблизости не будет ни Других Богов, ни их глашатая — ползучего хаоса Ньярлатотепа. В глубине души он даже грезил о том, что его свита отпугнет Других Богов, ведь упыри не подчиняются никому, а призраками повелевает не Ньярлатотеп, но неизмеримо древний Ноденс. Однако сейчас, узрев величественный Кадат, охраняемый безымянными стражами и полный чудес, он понял, что Другие Боги, должно быть, не спускают глаз со слабых, безвольных божеств Земли. Да, они не правят ни упырями, ни призраками, но наделены могуществом и способны, когда понадобится, подчинить себе любого. Так что Рэндольф Картер явился в тронную залу Великих не как свободный и искушенный сновидец. Его вместе со спутниками внесли туда звездные вихри и швырнули на ониксовый пол, исполняя, очевидно, некое беззвучное, неслышимое распоряжение.
Картер не увидел ни золотого престола, ни диковинных существ в ореолах славы, с узкими раскосыми глазами, длинными мочками ушей, тонкими носами и заостренными книзу подбородками, — словом, тех, к кому, убежденный сходством их черт с ликом на склоне Нгранека, мог обратиться с мольбой. Не считая одной-единственной комнаты, ониксовый замок на вершине Кадата был погружен во мрак, а его владельцы не показывались. Картер добрался до неведомого Кадата в холодной пустыне, но богов не нашел. Однако просторное помещение наверху высочайшей из башен заливал неяркий свет. Да, божества Земли отсутствовали, но в дымке, скрывавшей стены и потолок помещения, угадывались иные создания, ибо Великие не вездесущи, но Другие Боги — повсюду и, разумеется, не могли оставить без присмотра ониксовый замок. В каком обличье они предстанут, Картер не ведал, однако чувствовал, что его здесь ожидали, и спросил себя, сколь пристально следил за ним ползучий хаос Ньярлатотеп. Именно Ньярлатотепу, ужасу множества миров, гнусному глашатаю Других Богов, служат лунные жабы; Картеру вспомнилась черная галера, исчезнувшая за горизонтом, когда стало ясно, что упыри сумели отстоять гранитный остров.
Подобного рода размышлениям предавался Рэндольф Картер, когда вдруг под сводами необъятной залы раскатился громоподобный звук, повторившийся затем еще дважды. Три раза пропели фанфары, смолкло последнее эхо, и Картер обнаружил, что остался один. Упыри и призраки будто растворились в воздухе. Куда и каким образом они подевались, Картер не имел ни малейшего представления, знал только, что лишился дружеской поддержки и что невидимые существа, которые заполняют комнату, — чужаки в земном мире грез. Из глубины помещения донесся новый звук, похожий на предыдущий, но менее пронзительный, исполненный эфирной мелодичности и волшебности, присущей разве что сну: он навевал видения, пронизанные насквозь неизъяснимой прелестью. По комнате заструились диковинные пряные ароматы, а под потолком вспыхнул ослепительный свет, небесный огонь, менявший цвета в такт музыке, то и дело обретавший неизвестные на Земле оттенки. Вдали замерцали факелы, дробь барабанов словно подчеркнула напряженность ожидания.
Из утончающейся на глазах дымки возникли окутанные клубами благовоний черные рабы с набедренными повязками из искрящегося шелка. Их головы венчали причудливые металлические шлемы, в которые были вставлены смолистые факелы, распространявшие вокруг поистине божественный фимиам. Каждый раб держал в правой руке хрустальный жезл с набалдашником в виде мерзко ухмыляющейся химеры, а в левой — серебряную трубу, в которую по очереди дул. На запястьях и лодыжках блистали золотые браслеты, причем ножные были соединены между собой золотой же цепочкой, что, похоже, сильно мешало рабам идти. В них с первого взгляда можно было признать жителей земного мира грез, однако наряды и украшения явно принадлежали иным измерениям. Двигаясь двумя вереницами, рабы остановились в десяти футах от Картера, трубы взлетели к толстым губам, а затем, как бы вторя пению фанфар, из множества глоток вырвался приветственный клич.
В дальнем конце комнаты появилась еще одна фигура: высокий и стройный человек с юным лицом египетского фараона, облаченный в яркие одежды, со сверкающим золотым обручем на волосах. Он приблизился к Картеру, которому почудилось, будто он видит перед собой темного бога. Незнакомец усмехнулся и заговорил, и в его голосе послышалась дикая музыка реки забвения.
— Рэндольф Картер, — произнес незнакомец, — ты явился сюда, чтобы узреть Великих, которых не дано видеть никому из людей. О твоей дерзости говорили стражи. Другие Боги гневались в бездне, где они пляшут под звуки флейт, радуя демонического султана, чье имя не смеют произносить вслух.
Барзай Мудрый, что взобрался на Хатег-Кла, чтобы понаблюдать за Великими, танцующими на вершине в лунном свете, так и не вернулся домой. Зениг из Афората пытался достичь неведомого Кадата в холодной пустыне, и теперь его череп оправлен в металл кольца на пальце того, кого мне не нужно называть.
Но ты, Рэндольф Картер, оказался отважнее всех в земном мире грез, и в твоей душе по-прежнему горит пламя. Ты пришел не из праздного любопытства, но чтобы отыскать то, что полагаешь своим, и ни единожды не оскорбил богов Земли словом или поступком. Тем не менее эти боги спрятали от тебя чудесный город в багрянце заката, видение из твоего сна. Знай же, что их побудила к тому обыкновенная зависть: они позавидовали богатству твоего воображения и поклялись, что отныне не станут обитать ни в каком ином месте.
Они покинули замок на вершине неведомого Кадата, чтобы поселиться в том чудесном городе! В его мраморных дворцах они веселятся днем, а когда солнце садится, выходят в сады и любуются отблесками заката на храмах и колоннадах, мостах и фонтанах, на широких улицах с цветниками и статуями из слоновой кости. С наступлением ночи, когда на траву падает роса, они поднимаются на террасы, усаживаются на резные скамьи из порфира и глядят на звезды или на холмы к северу от города; там зажигаются одно за другим окошки в домиках под островерхими крышами.
Боги полюбили твой чудесный город и ради него отринули древние обычаи. Они забыли о вершинах Земли, о тех горах, на которых танцевали в дни юности. Земля утратила своих божеств, лишь Другие Боги, существа Извне, навещают ныне вековечный Кадат, а Великие, безучастные к радостям и скорби людей, проводят дни в бездумном веселье в далекой долине твоего, Рэндольф Картер, счастливого детства. Твои грезы были чересчур хороши, о великий сновидец, они заставили божеств бежать из мира, созданного снами всех людей, в тот, который сотворил ты, ибо тебе удалось воплотить детские фантазии в нечто непостижимое, непередаваемо прекрасное!
Но божествам Земли не к лицу оставлять троны, чтобы на тех пряли свою пряжу гнусные пауки, или препоручать державу произволу Других. Силы, явившиеся Извне, грозят хаосом и бедой, прежде всего тебе, Рэндольф Картер, ибо ты причина случившегося; впрочем, Другим известно, что лишь при твоем участии возможно возвращение божеств Земли в покинутый ими мир. В страну, возникшую в твоем воображении, сейчас нет доступа никому, кроме тебя; только ты можешь изгнать себялюбивых Великих из чудесного города в багрянце заката, вернуть их в северные сумерки, на вершину неведомого Кадата в холодной пустыне.
А потому, Рэндольф Картер, я пощажу тебя! Во имя Других Богов повелеваю тебе разыскать чудесный город, где скрываются божества, по которым томится мир грез, и прислать их сюда. Тебе нетрудно будет найти свою мечту. Вспомни звуки фанфар и звон цимбал, вспомни тайну, что сопровождала тебя по залам яви и пещерам сна, мучила обрывками позабытых впечатлений, терзала мыслями о том, что ты считал утраченным навеки. Вспомни свою путеводную звезду, в сиянии которой слились воедино искорки всех твоих сновидений. Зри! Ищи не за безбрежными морями — за прожитыми годами. Ты должен повернуть вспять, возвратиться в детство — к волшебным чарам, узнанным тобою на заре жизни.
Знай: чудесный город в багрянце заката — воплощение всего, что ты видел и любил в молодости. В нем прелесть бостонских крыш и окон, обагренных лучами заходящего солнца, огромный купол на холме, лес печных труб в лиловой долине величавого Чарлза, сладость напоенного цветочными ароматами воздуха. Все это, Рэндольф Картер, ты видел своей первой весной и увидишь снова, в последний час. Еще в том городе — древний Салем, и призрачный Марблхед, и солнце, садясь, золотит шпили Салема и пастбища Марблхеда, и гавань, которая их разделяет.
Не забудь о Провиденсе с его семью холмами над зеркальной гладью вод, зелеными террасами, что ведут к высоким башням и старинным укреплениям; о Ньюпорте, что вздымается, подобный призраку, над призрачным же волноломом; об Аркхеме, за двускатными крышами которого раскинулись среди скалистых холмов пышные луга; о старом Кингспорте, где дымоходы осыпаются от дряхлости, набережные пусты, а над затянутым белесой дымкой океаном возносятся исполинские утесы, вершин которых достигает порой звон колокольцев на бакенах.
Прохладные долы Конкорда, мощеные улочки Портсмута, извивы сельских дорог Нью-Гемпшира, гигантские ильмы, белые домики, скрипучие журавли колодцев; просоленные причалы Глостера, скрытые зарослями дикого винограда окна Труро, зрелище, какое являет собой Северное побережье: гряды холмов, маленькие тихие городки; приземистые строения Род-Айленда; запах моря и благоухание полей; очарование лесов и рассветное чудо садов — таков, Рэндольф Картер, твой город, и таков ты сам. Новая Англия воспитала тебя и запечатлелась в твоей душе, и образ ее бессмертен. То великолепие, подправленное и дополненное годами мечтаний и видений, и есть твоя греза о багрянце заката на мраморных террасах. А чтобы найти террасы и спуститься наконец по широкой лестнице в город просторных площадей и искрящихся фонтанов, тебе нужно лишь обернуться в прошлое, вернуться к мыслям и переживаниям своего детства.
Зри! В окне башни мерцают звезды вечной ночи. Даже сейчас, даже здесь они льют свой свет на пейзажи, ведомые тебе и любимые тобой, впитывают пленительность твоих снов, чтобы потом одарить ею самые укромные уголки мира грез. Вон Антарес — он стоит над Тремонт-стрит, и ты можешь видеть его из окна своего дома на Бикон-хилл. За теми звездами простирается бездна, куда загнали меня мои лишенные разума хозяева. Быть может, однажды ты навестишь меня там, но я надеюсь, что мудрость удержит тебя от подобного шага, ибо из тех смертных, что заглядывали в черную пучину, лишь один сохранил рассудок. Там снуют чудовищные твари, они сражаются друг с другом, потому что им не хватает места, и мелкие куда злее крупных. Признаться, я не испытывал желания губить тебя и давным-давно бы помог, не будь я уверен, что ты справишься без моей помощи, и не отвлекай меня иные заботы. Берегись преисподней, что Извне, и не забывай светлых дней своей юности! Отыщи чудесный город, изгони оттуда Великих, напомни им о горах, что ожидают их возвращения!
Однако я попытаюсь облегчить твой путь. Смотри! Вот шантак, его ведет раб, которого ты не видишь. Забирайся на птицу. Пособи-ка ему, черный Йогаш! Правь на ярчайшую из звезд к югу от зенита, на Вегу; через два часа она встанет над террасами твоего города. Правь на нее, но лишь до тех пор, пока не услышишь тихое пение. То голоса эфира, они навевают безумие, поэтому поверни шантака и оглянись на Землю. Ты узришь вечное пламя алтаря Иред-Наа на крыше священного храма. Это и будет твой город, лети к нему, иначе сойдешь с ума.
Когда окажешься над городом, правь на тот балкон, с которого любовался когда-то закатом, и заставь шантака закричать. Великие услышат этот крик и все поймут, их одолеет тоска по дому, они поступятся всеми красотами закатного города ради угрюмого замка на вершине Кадата и звездного венца над ним.
Тогда ты должен приземлиться и проследить, чтобы Великие притронулись к гиппоцефалу, не переставая твердить им о неведомом Кадате. Скажи им, что ты только что оттуда, сердце твое полно скорби, ибо в замке темно и пусто и нет былого веселья. А шантак заговорит с ними по-своему, но он способен лишь напомнить о прошлом, власть убеждать ему не дана.
Снова и снова повторяй Великим, сколь прекрасен их древний дом; в конце концов они попросят указать тропу, которая приведет их сюда. Тогда ты отпустишь шантака, тот поднимется в небо и издаст свой клич. Великие примутся танцевать, а затем последуют за шантаком легкой поступью божеств, перешагивая через небесные пропасти, и вернутся на отринутый ими Кадат.
Чудесный город в багрянце заката останется тебе, наслаждайся им в свое удовольствие, а земные божества вновь станут править сновидениями людей. Лети — окно открыто, звезды ожидают снаружи. Твой шантак извелся от нетерпения. Правь на Вегу, но поверни, когда услышишь пение. Не забудь повернуть, иначе неописуемые твари увлекут тебя в пучину безумия. Помни Других Богов, они лишены разума, но велики и грозны, они — Извне. Таких богов следует опасаться.
Хей! Аа-шанта’ниг! Лети! Верни богов Земли в замок на вершине неведомого Кадата и молись, чтобы тебе не привелось вновь встретиться со мной в любом из моих обличий. Прощай, Рэндольф Картер, и берегись. Ибо я — ползучий хаос Ньярлатотеп!
Картер закричал от ужаса, но тут шантак ринулся в окно и устремился сквозь ночь туда, где холодно мерцала голубая Вега. Человек посмел бросить лишь один взгляд через плечо на башни ониксового замка, на бледный свет в окне высоко над миром грез. Мимо проносились омерзительные чудища, он слышал хлопанье множества нетопыриных крыльев, но лишь крепче вцеплялся в гриву исполинского гиппоцефала. Звезды словно потешались над ним — смещались то вправо, то влево, вверх или вниз, образуя светящиеся знаки судьбы; завывали вокруг космические ветры, будто жалуясь на вечный мрак и одиночество.
Вдруг ветры и чудища разом исчезли, как исчезают на рассвете в норах ночные животные. Картер очутился в переливчато-золотом облаке и различил далекую мелодию, равной которой по красоте поистине не могло возникнуть в нашей Вселенной. Шантак встрепенулся и помчался вперед, седок пригнулся, чтобы лучше слышать. Это была песня, которую пели небесные сферы, и звучала она задолго до того, как был сотворен космос и родились Ньярлатотеп и Другие Боги.
Все быстрее летел шантак, все ниже пригибался человек к его спине, опьяненный чудесами, пронизанный волшебством того, что Извне. Внезапно — слишком поздно! — он вспомнил предостережение Ньярлатотепа, вспомнил, что тот советовал остерегаться музыки эфира. Лишь затем, чтобы помучить, указал ползучий хаос дорогу к чудесному городу в багрянце заката; лишь затем, чтобы вдоволь натешиться, открыл тайну божеств Земли, которых легко мог возвратить единым мановением руки! Безумие и возмездие обитателей бездны — вот чем одарил Ньярлатотеп самонадеянного смертного! Как ни старался Картер поворотить шантака, тот рвался выше и выше, обуреваемый злобной радостью, устремляя полет к пучине, которой не достигают никакие сны: той самой, где мечется в центре бесконечности демонический султан Азатот, чье имя никогда не произносят вслух.
Повинуясь воле Ньярлатотепа, гнусная птица летела сквозь мрак, в котором копошились бесформенные, безымянные создания, прислужники Других Богов, слепые, как хозяева, лишенные рассудка, зато наделенные неутолимым голодом и жаждой.
Вперед, вперед, под истерический хохот, в какой переросла песня ночи и небесных сфер, вперед, за грань мироздания, к непостижимым рубежам иных измерений, прочь от звезд и материи, — блистающим метеором через Ничто, туда, где мечется жуткий Азатот, где гремят бейовские барабаны и визжат мерзкие дудки.
Вперед, вперед, сквозь наполненные клекотом полости… Внезапно взору обреченного Рэндольфа Картера явился благословенный образ. Сведущий в пытках и мучениях Ньярлатотеп воссоздал то, чего не уничтожить отвратительнейшим из порождений зла: дом! Новая Англия… Бикон-хилл… Мир яви!..
«Знай: чудесный город в багрянце заката — воплощение всего, что ты видел и любил в молодости… прелесть бостонских крыш и окон, обагренных лучами заходящего солнца, огромный купол на холме, лес печных труб… А чтобы найти террасы и спуститься наконец по широкой лестнице в город просторных площадей и искрящихся фонтанов, тебе нужно лишь обернуться в прошлое, вернуться к мыслям и переживаниям своего детства».
Вперед, вперед, с головокружительной скоростью к неумолимой судьбе, сквозь мрак, где шарят вслепую чьи-то лапы, касаются тела скользкие рыла, раздаются отвратительные звуки. Однако, как бы то ни было, образ мелькнул — и запечатлелся, и Рэндольф Картер теперь знал наверняка, что всего лишь спит и что город его детства лежит где-то на рубежах мира яви. Снова пришли слова: «…тебе нужно лишь обернуться в прошлое…» Обернуться. Обернуться! Вокруг темнота, но он, Рэндольф Картер, увидит то, что ждет!
Несмотря на накатившую вдруг слабость, Картер сумел обернуться. Он обнаружил, что может двигаться, может, если захочет, спрыгнуть со спины шантака, уносившего его в бездну по приказу ползучего хаоса Ньярлатотепа. Да, он может спрыгнуть в пучину ночи под ногами, в пучину, которой страшится гораздо меньше, нежели участи, уготованной ему в сердце хаоса.
Обреченный сновидец сорвался с исполинского гиппоцефала, скатился в кромешную тьму бездны. Мимо пролетали эпохи, умирали и рождались заново вселенные, звезды превращались в туманности и вновь становились звездами, а Рэндольф Картер все падал и падал.
И тут, на необъятной протяженности вечности, космос завершил один цикл и перешел в другой, и все стало таким, каким было несчетные тысячелетия назад. Материя и свет возродились в том виде, какой был изначально присущ им в пространстве; кометы, солнца и миры воспряли к жизни. Правда, Ничто уцелело — чтобы напомнить о порядке вещей: все, что появляется, должно рано или поздно исчезнуть. Так заведено от века.
Сызнова возникла небесная твердь, подул ветер, и в глаза сновидцу ударил багряный свет. Возвратились боги и прочие живые существа, добро и зло, послышался истошный вопль ночи, которую лишили жертвы. Но образ, сохранившийся в памяти сновидца с детских лет, пережил вселенскую катастрофу, только благодаря ему удалось воссоздать мир яви. Фиолетовый газ С’нгак указал Картеру путь, а из бездны подал голос седой Ноденс.
Звездные сумерки перетекли в рассветы, а те расцвели всплесками золота, кармина и багрянца. Падение же Картера все продолжалось. Лучи света разогнали тварей тьмы, эфир огласили веселые крики, седой Ноденс торжествующе захохотал, когда Ньярлатотеп, уже настигавший сновидца, отпрянул, ибо яркое сияние испепелило его гнусных приспешников. Рэндольф Картер опустился на широкую мраморную лестницу, что вела в чудесный город, и очутился в Новой Англии, на просторах которой провел годы детства.
Загремели раскаты незримого органа, приветствуя наступление рассвета, первые лучи коснулись огромного купола Стэйт-Хайз на холме, и Рэндольф Картер, вскрикнув, проснулся в собственном доме на одной из бостонских улиц. За окном пели птицы, в комнату проникал аромат кустарников и вьюнков, посаженных еще дедом Картера. В спальне было светло и уютно, у очага лежал черный кот; он потянулся, разбуженный криком хозяина, а далеко-далеко, за Вратами Глубокого Сна, зачарованным лесом, плодородной долиной Ская, Серанианским морем и сумрачными пределами Инкванока, расхаживал по ониксовому замку на вершине неведомого Кадата ползучий хаос Ньярлатотеп. Раздраженный неудачей с Картером, он издевался над божествами Земли, которым так и не дал сполна насладиться чудесным городом в багрянце заката.
СЕРЕБРЯНЫЙ КЛЮЧ
Когда Рэндольфу Картеру исполнилось тридцать, он потерял ключ, открывавший врата в страну его сновидений. До того времени он смирялся с прозой жизни, поскольку ночами странствовал по странным и древним городам, расположенным где-то очень далеко, за призрачными морями; но с наступлением среднего возраста фантазии становились все слабее, и наконец сказочный мир оказался отрезан. Его галеры больше не плыли по реке Укранос мимо золотых шпилей Франа, а караваны слонов не пробирались через благовонные джунгли Клида, среди которых стояли заброшенные дворцы с колоннами из слоновой кости, погруженные в вечную дрему под лунным светом.
Он прочел немало книг о реальности как она есть и наслушался советов множества опытных людей. Философы из лучших побуждений поучали, что следует искать логические связи между разными явлениями и анализировать, что именно вызвало мысли и фантазии. Он уже не удивлялся и словно бы забыл, что вся жизнь представляет собой лишь череду мысленных образов и представлений, а впечатления реального мира неотделимы от плодов игры воображения и противопоставлять их не имеет смысла. Обычаи нашептывали ему уважительно относиться ко всему существующему и осязаемому, и он постепенно начал стыдиться своих прежних фантазий. Мудрецы неустанно напоминали Картеру, что его видения были глупыми, ребяческими, несомненно абсурдными, потому что их действующие лица считали события вокруг них полными тайного значения, а между тем бессмысленный мир по-прежнему скрипуче вращается вокруг своей оси, то превращая ничто в нечто, то низводя нечто до ничто, не обращая внимания на помыслы и само существование сознаний, вспыхивающих на миг обманчивыми огоньками и гаснущих во мраке.
Эти мудрецы хотели приковать его к реальному миру, из которого изгнаны тайны, и подробно рассказывали, каким образом все происходит. Но Картер запротестовал, сбежал от их мира, их законов и попытался скрыться в сумеречных царствах, где, повинуясь волшебству, прежние видения и милые ему ассоциации соединялись, открывая перед ним новые горизонты, и дух перехватывало от напряженного ожидания и безмерного восхищения; однако наставники старались обратить его от этого к чудесам науки, предлагая видеть удивительное и красоту в вихревом движении атомов или в небесных межпланетных просторах. А когда ему не удалось найти этого в подобных вещах, во всем том, что хорошо известно и описано, ему заявили, что у него недостаток воображения и отставание в развитии, поскольку он предпочитает иллюзии снов иллюзиям нашего физического мира.
Но наконец Картер смирился и попробовал поступать как все, приучая себя к мысли, что повседневные события и эмоции простых смертных важнее фантазий редких и утонченных душ. Он не протестовал, когда ему говорили, что любая грубая, животная боль, будь то страдания голодного крестьянина или даже муки свиньи на бойне, значат для жизни больше несравненной красоты Нарата с его сотнями узорных ворот и куполами из халцедона, которые он смутно помнил по прежним видениям, и в соответствии с увещеваниями постарался ощутить тревоги других и понять, что такое боль сострадания и трагизм ситуации.
Однако он слишком ясно видел, сколь ничтожны, переменчивы и бессмысленны все человеческие надежды и сколь незначительны и пусты порождающие их импульсы, — и все это несовместимо с высокими идеалами, о которых так любят рассуждать философы. Он стал искать спасения в иронии и с усмешкой воспринимал сумасбродные фантазии, сознавая, что в обыденной жизни таких сумасбродств и нелепостей ничуть не меньше, однако они напрочь лишены красоты, а в веренице происходящих событий нет ни цели, ни смысла. Он сделался чем-то вроде адепта юмора, ибо еще не осознал, что даже юмор не нужен бестолковой Вселенной, не признающей логики, но и не имеющей ей достойной замены.
Приняв такие узы, в первые дни он обратился к вере отцов и решил вернуться в лоно церкви — ему казалось, что там он отыщет сокровенные мистические пути, способные увести от обыденной жизни. Но при внимательном рассмотрении он заметил все ту же скудость воображения, поблекшую, болезненную красу, уныние, банальность и напыщенную серьезность, возомнившую себя истиной в последней инстанции; проповедники старались поддерживать страх своих прихожан перед неведомым, и вскоре Картер убедился, что их попытки были весьма неуклюжи. Он с горечью узнал, что эти напыщенные люди для оправдания реальной жизни используют старинные предания, которые их же хваленая наука опровергает на каждом шагу. Эта необоснованная серьезность окончательно охладила его пыл. Картер полагал, что любовь к былым верованиям можно сохранить лишь если они остаются красивыми обрядами или неясными фантазиями, обращенными не к уму, а к чувствам.
Однако когда он обратился к тем, кто отвергал древние мифы, те оказались еще хуже верующих и внушили ему подлинное отвращение. Им не приходило в голову, что красота неотделима от гармонии и достижима лишь в идеале или в видениях, а не в бессмысленном пространстве; не думали они и о том, что без сновидений и воспоминаний человечество не смогло бы противостоять окружающему хаосу. Они оказались неспособными видеть, что добро и зло, красота и уродство есть узоры бесконечного орнамента и приобретают смысл лишь в связи с ним, и связь эта испокон веков обеспечивала нормальную жизнь и давала нашим предкам возможность думать и чувствовать; каждый народ и каждая цивилизация вплетали свои узоры в гигантский гобелен мирового порядка. Эти отвергатели не желали слушать об извечных ценностях и сводили бытие к грубым и примитивным инстинктам, а сами влачили убогое, никчемное существование, но при этом гордились своим здравомыслием, полагая, что избежали каких-то смутных соблазнов. Это была жалкая иллюзия, ибо соблазны никуда не исчезли и всего лишь на месте старых идолов появились новые; страх сменился своеволием, а слепое навязанное благочестие — анархией.
Их разновидность свободомыслия не понравилась Картеру; он видел, что большинство из них, уподобившись отвергнутому лжесвященству, не могли вырваться из заблуждения, что жизнь имеет еще какой-то смысл, помимо того, который вкладывают в нее люди; что они запутались в собственных противоречиях и при всем радикализме суждений не в силах обойтись без идолов в виде строгой морали и долга, а их вера в свободу исключает красоту; что, с искаженным восприятием и фанатично приверженные иллюзиям правосудия, личной свободы и общего единообразия, они отбросили старые знания вместе со старыми верованиями, не сумев уяснить, что эти извечные ценности — единственные мерила добра и зла и маяки надежды в бессмысленном космосе, хотя об этом вопила вся открытая и познанная ими Природа. Без них жизнь постепенно лишалась для отвергателей какого-либо интереса и цели; стремясь побороть овладевшую ими скуку, они обратились к суетному, их наигранная деловитость перемежалась столь же искусственным возбуждением, пристрастием к варварским зрелищам и буйным, грубым забавам. Однако разочарование наступало слишком быстро и доходило до отвращения; их отрадой стали желчные насмешки над миром и придирки к общественному строю. Отвергатели никак не могли понять, что их убогие принципы столь же противоречивы, как и боги их предков, а минутное наслаждение сулит скорую гибель. Спокойная, вечная красота достижима лишь в снах, но мир лишил себя этого утешения вместе с отринутыми тайнами детства и невинности.
Картер продолжал жить в окружении этой чуждой ему хаотичной, суетной реальности, не обольщаясь иллюзиями и следуя добрым традициям. Его видения таяли и с каждым днем становились все бесплотнее, но любовь к гармонии удерживала его и не давала свернуть с пути, определяемого его происхождением. Он праздно путешествовал по различным городам и при этом часто печально вздыхал, поскольку открывавшиеся виды не казались ему полностью реальными, а любой отблеск солнечных лучей от высокой кровли или парапета на закате напоминал ему о тех видениях, что прежде у него бывали, и вызывал тоску по этим бесплотным землям, оказавшимся теперь недоступными. Первая мировая война немного взбодрила его, и он записался во французский Иностранный легион. Здесь у него появились новые друзья, однако он быстро пресытился обществом обыкновенных людей с неразвитым воображением и грубыми чувствами. Все его родственники находились за океаном, и это его даже радовало, ведь никто из них не понял бы, что творилось в его душе. Никто, кроме его родного деда и двоюродного деда Кристофера, но они оба давно умерли.
После войны он снова обратился к литературе и дописал несколько книг, которые совсем было забросил, перестав видеть сновидения. Но он больше не испытывал ни удовлетворения от творчества, ни радости творения; вдохновение покинуло его, в сознании утвердилось земное начало, и он с трудом отрывался от реальности. Мир его сновидений отдалялся с каждым годом, уходя за туманный горизонт. Ирония разрушала выстроенные им призрачные минареты, а сам он, из боязни неправдоподобия, с корнем удалял нежные и яркие цветы из волшебных садов. Картер по привычке относился к своим героям с симпатией, и от этого злодеи у него получались какими-то слащавыми, не способными ни испугать кого-либо, ни оттолкнуть. Он стал адептом реальности и заботился о точности мотивировок и жизненной убедительности событий, отчего в его романах преобладали плоские аллегории или дешевая социальная сатира. Его новые книги заполучили куда больший успех, чем прежние; он осознал, что это тревожный симптом: пустые произведения притягивают пустых читателей, так как потакают их вкусам, — и тогда сжег рукописи и отказался от литературного поприща. Он писал изысканные романы, в которых посмеивался над своими видениями, очерчивая их двумя-тремя легкими штрихами, однако видел, что в его утонченностях нет жизни.
После этого он стал холить и лелеять свои иллюзии и увлекся всем причудливым и эксцентричным. Картер надеялся избавиться таким образом от ненавистной ему банальности. Однако под внешне причудливой оболочкой скрывались обычно те же убожество и пустота; расхожие оккультные доктрины показались ему сухими и догматичными, он не обнаружил в них ни грана истины, способной оправдать непререкаемый тон; ставшие очевидными глупость, фальшь и путаница не имели ничего общего с его видениями и только мешали его сознанию уйти от обыденности в иные, высшие сферы. Картер стал собирать библиотеку и приобретал странные, мистические книги; завязал переписку с не менее странными людьми фантастической эрудиции; ему сделались доступными тайные бездны человеческой души, древние легенды и события глубокой старины. Пристрастие к мистике сказалось и на его быте: он окружил себя уникальными вещами, обставил свой бостонский дом в соответствии с изменившимися вкусами и оформил комнаты в разных тонах, разместил подходящим образом книги и прочие предметы, позаботившись о нужном освещении, тепле и даже запахах.
Однажды он прослышал о человеке с юга Америки, которому доставляли из Индии и арабских стран древние фолианты и глиняные таблички, внушающие ужас и свидетельствующие о богохульстве минувших тысячелетий. Картер отправился к нему, и они семь лет прожили вместе, погрузившись в исследования. Но однажды ночью на старом заброшенном кладбище им довелось столкнуться с неведомым ужасом, и его спутник бесследно исчез. Через некоторое время Картер вернулся на родину предков — в Аркхем, овеянный преданиями и зачарованный нечистой силой, — и продолжил свои штудии, приводил в порядок семейный архив, а по вечерам любовался серебристыми ивами, двускатными крышами и силуэтами колоколен. Но вот ему попался дневник одного из его предков, некоторые страницы которого содержали настолько страшные истории, что он никому не решился о них рассказать. Эти ужасы подтолкнули его к мрачному краю реальности, но путь в страну юношеских сновидений, как и прежде, оставался скрыт темной завесой; в пятьдесят лет Картер уже ощущал смертельную усталость и не ждал ни покоя, ни утешения от мира, слишком суетливого для красоты и слишком практичного для мечтаний.
Уверившись, что жизнь уже прожита и ему не найдется места в постылой реальности, Картер забросил занятия и целыми днями праздно бездействовал, пытаясь припомнить хотя бы обрывки своих сновидений. Он не видел смысла в продолжении жизни, и даже получил от знакомого из Латинской Америки весьма особый состав, позволяющий покинуть этот бренный мир без боли и страданий. Однако безволие и сила привычки удержали его от самоубийства, а преодолев искушение небытием, он словно перенесся назад в свое детство; но современная обстановка разрушительно действовала на эту иллюзию, и потому он сделал в окнах цветные витражи, сменил мебель на викторианскую и тому подобное.
Шли годы, он утвердился в благостном мнении в отношении того, что все же не совершил решительного действия; окружающее его больше не мучило и не тревожило, повседневность отступила на задний план и сделалась малозаметной; он замкнулся в себе и не воспринимал почти ничего извне. В его снах понемногу начало обосновываться ожидание чуда, промелькивали яркие искры, и он все чаще видел себя играющим в дедовской усадьбе. Видения становились более продолжительными и превращались иногда в отчетливые картины прошлого. На протяжении двадцати лет ему, как и большинству людей, снились бледные отражения каждодневных событий, но вот пробудившаяся память вернула его к родному дому. Он часто, просыпаясь, обнаруживал, что зовет к себе мать или деда, которые уже четверть века покоились в могилах.
Однажды ночью дед напомнил ему о серебряном ключе. Старый седой ученый, совсем как живой, долго рассказывал внуку об их древнем роде и о странных видениях, посещавших чутких и восприимчивых предков Картера. Он рассказал ему о крестоносце с горящими глазами, который попал в плен к сарацинам и узнал от них немало тайн, и о первом Рэндольфе Картере, который жил в эпоху королевы Елизаветы и увлекался магией. Дед поведал ему и об Эдмунде Картере, который чудом избежал виселицы в Салеме в пору охоты на ведьм и спрятал в старинной шкатулке большой серебряный ключ, доставшийся ему по наследству. Перед тем как Картер проснулся, старик объяснил, где можно найти эту дубовую шкатулку со страшными фигурками на крышке, и добавил, что ее не открывали уже два столетия.
Шкатулка отыскалась на пыльном чердаке, где лежала, затерянная на дне высокого комода. Она оказалась почти квадратной, со стороной примерно в фут, а готическая резьба на ней вызывала такой ужас, что вряд ли кто решился открыть ее со времен Эдмунда Картера. Он встряхнул ее, но изнутри не донеслось ни звука, зато появился аромат неведомых специй. Возможно, что ключ всего лишь легенда — ведь даже отец Рэндольфа Картера не знал о существовании шкатулки, обитой железом и закрытой на сложный замок. Потом до него дошло, что серебряный ключ, если он действительно существует, поможет ему открыть ворота в страну сновидений, хотя дед и не сказал ему, как и где им нужно воспользоваться.
Старому слуге удалось отомкнуть замок, хотя он и вздрогнул от ужаса, завидев жуткие ухмыляющиеся физиономии на темной деревянной крышке. Внутри шкатулки оказался большой ключ из потускневшего серебра, украшенный загадочными арабесками, завернутый в выцветший пергаментный свиток; никаких других пояснений там не оказалось. Пергамент был исписан непонятными буквами. Картер вспомнил, что у его исчезнувшего на кладбище друга хранился очень похожий папирусный свиток и, перечитывая его, тот всякий раз вздрагивал от страха; сейчас Картер тоже вздрогнул.
Он протер ключ, вновь положил его в источающую ароматы шкатулку из древнего дуба и унес ее к себе в спальню. С того дня его сны становились все красочнее, и хотя он больше не странствовал по неведомым городам и не гулял в роскошных садах, общее значение воспринимаемого не вызывало у него сомнений. Сны звали его назад, к родовому истоку. Он понял, что должен уйти в прошлое и раствориться в мире, полном тайн и старинных вещей. С каждым днем он все больше думал о магии северных гор, о застывшем Аркхеме и стремительном Мискатонике, о заброшенной сельской усадьбе и семейном кладбище.
Когда наступила осень и деревья окрасились золотом и багрянцем, Картер решил отправиться на машине по старой петляющей дороге, знакомой ему с детства, мимо горных кряжей и лугов за каменными оградами; он ехал через тихие долины и густые леса, любовался прозрачной гладью Мискатоника и деревянными или каменными мостами. Увидев на очередном повороте вязовую рощу, он вспомнил, что в ней полтора века назад без следа пропал один из его предков, и невольно вздрогнул, услышав шелест деревьев под порывом ветра. Затем промелькнул разрушенный дом сельской колдуньи Гуди Фаулер, с крохотными мрачными окошками и спускающейся чуть ли не до земли скособоченной крышей. Он промчался мимо на полной скорости и не снижал ее, пока не доехал до старого белого особняка у подножия крутого холма. Здесь родились его мать, дед и прадед. Дом по-прежнему гордо взирал через шоссе с горного склона на величественную панораму зеленой долины. Вдали виднелись шпили и крыши Кингспорта, а еще дальше до горизонта простиралось склоняющее к мечтаниям древнее море.
Машина остановилась возле крутого склона, на котором располагалась усадьба Картеров, где он не был больше сорока лет. Он вышел и внимательно оглядел окрестности. Полдень давно миновал, и лучи клонящегося к западу солнца окрашивали ярким золотом все вокруг. Этот безмолвный и неземной пейзаж часто снился ему в последние дни — и вот чудесные, проникнутые ожиданием сны сбылись. Он разглядывал окрестности — искрящуюся на солнце бархатную зеленью лугов, обветшавшие каменные стены усадьбы и стройные ряды густых деревьев, — тихие и пустынные, словно расположенные на иной, неведомой планете; затем посмотрел на алые горные отроги и лесистые долины, широкими ступенями спускавшиеся вниз, и лощины, где журчали ручьи, омывающие разбухшие, узловатые корни.
Он осознал вдруг, что автомобиль чужд всему окружающему, и, оставив его на краю леса, переложил серебряный ключ в карман пальто и стал подниматься в гору. Лес, хотя его здесь регулярно прореживали, обступил его со всех сторон и скрыл стоявший выше особняк. Интересно, сохранилось ли в доме что-нибудь со времен его детства? После смерти двоюродного деда Кристофера здесь уже тридцать лет никто не жил, и все, наверное, успело обветшать. Мальчишкой Рэндольф часто гостил в этом доме и обожал чудесный лес, начинающийся за садом.
Вокруг сгустились тени, близилась ночь. Когда справа бывали просветы между деревьями, он видел вдали силуэт старой конгрегационной церкви, стоявшей на центральном холме Кингспорта; закат окрашивал ее в розовые тона, и остекление маленьких круглых окон сверкало, отражая багровые лучи. Затем, когда тени стали гуще, он понял, что эти отсветы пришли к нему из детских воспоминаний — ведь церковь давно снесли и выстроили на ее месте конгрегационную больницу. Когда-то он с интересом прочел в газете заметку о том, что на холме при этом строительстве обнаружили несколько странных и напоминавших большие норы подземных ходов, прорубленных через скалистое основание.
С удивлением услышав знакомый голос, он повернулся, не веря своим ушам. Старый Бениджа Кори, прислуживавший дяде Кристоферу, уже в те далекие годы был весьма немолод. Сейчас ему явно должно было перевалить за сто, но Картер смог бы отличить этот звучный голос от тысячи других. Он не сразу разобрал слова, но моментально опознал интонацию. Подумать только, старый Бениджа еще жив!
— Мистер Рэнди! Мистер Рэнди! Иде вы? Читож вы, хотите вгнать в гуроб вашу тетушку Марти? Неушто забыли, что она запретила вам гулять в темноте и просила вернуться до вечера? Рэнди! Рэн-ди! Вот же несносный мальчишка, все норовит убежать и часами бродит, как лунатик, возле змеиного логова… Эй, эй, Рэн-ди!
Рэндольф Картер остановился в почти кромешной тьме и потер глаза, пытаясь скинуть оцепенение. Что-то странное. Похоже, он умудрился заблудиться и припоздниться. Интересно, который теперь час? Отсюда было не разглядеть время на часах башни Кингспорта, но маленькая подзорная труба в кармане могла помочь в этом. Картер осознал, что его блуждание допоздна связано с чем-то очень странным и необычным. Наконец он сунул руку в карман за подзорной трубой, но ее там не оказалось — а был лишь серебряный ключ, найденный в шкатулке. Дядя Крис однажды рассказал ему загадочную историю о старой запертой шкатулке, но тетя Марта оборвала его, заявив, что нечего забивать такими вещами голову мальчику, который и без того слишком много фантазирует. Рэндольф попытался вспомнить, где именно взял этот ключ, но в его сознании все перепуталось. Ему казалось, что шкатулка хранилась на чердаке его дома в Бостоне и он пообещал Парксу выплатить половину его недельного жалованья, если тот поможет ему открыть замок и будет держать язык за зубами; однако когда он вспоминал об этом, то увидел Паркса мысленным взором и был поражен, как годы сказались на прежде расторопном и бодром кокни.
— Рэн-ди! Рэн-ди!.. Эй, эй, Рэнди!
Из-за темного поворота появился раскачивающийся фонарь, и старый Бениджа бросился к молчаливому и растерянному путешественнику.
— Ага, мальчик, вот вы где! Я вас полчаса выкрикиваю, обыскался уже. Почему же молчите? Язык к горлу прилип? Тетя Марта вся извелась от беспокойства. Где вы пропадали? Вот расскажу все дяде Крису, он вас по головке не погладит! Вас не раз предупреждали, негодный мальчишка, что по лесу вечером гулять нельзя! В нем полно всякой нечисти. Мне об этом еще дед рассказывал. Идемте скорее, мистер Рэнди, а то Ханна не даст вам ужин.
Рэндольф Картер продолжил идти по дороге; сквозь осенние ветки просвечивали звезды, вдали громко лаяли собаки, из окон дома лился ярко-желтый свет, и Плеяды тускло мерцали на западе за большой двускатной крышей. Тетя Марта ждала на пороге, но, вопреки ожиданиям, не набросилась на Рэнди с руганью, а лишь добродушно поворчала. Она слишком хорошо знала дядю Криса и понимала, что все Картеры с чудинкой — это у них в крови. Рэндольф не стал показывать свой ключ, молча поужинал и заупрямился лишь когда его стали укладывать спать. Иногда он предпочитал грезить наяву, и ему хотелось поскорее воспользоваться ключом.
Он проснулся рано утром и уже собирался бежать в лес на горе, но дядя Крис перехватил его по дороге и усадил в кресло в столовой. Мальчик обвел тревожным взглядом комнату с низким потолком, лоскутные половики на полу, солнечные зайчики в углах и улыбнулся, когда ветки застучали в окна задней части дома. Деревья и холмы теперь были совсем рядом, они и образовывали ворота в ту вневременную реальность, что была его настоящей родиной.
Вырвавшись спустя некоторое время на свободу, Рэндольф пощупал ключ в кармане, приободрился и вприпрыжку пробежал по саду, затем стал взбираться к вершине горы. Под ногами у него стлался мох, покрытые лишайниками скалы смутно проступали сквозь утреннюю дымку, словно долмены друидов среди разбухших и покривившихся стволов священной рощи. Он миновал быстрый ручей, вспененные воды которого пели рунические заклинания притаившимся за деревьями фавнам, египанам и дриадам.
Наконец он добрался до странной пещеры на лесистом склоне — того самого «змеиного логова», которого так боялись местные крестьяне и старый Бениджа советовал обходить стороной. Пещера оказалась глубокой — гораздо глубже, чем предполагал Рэндольф, — и он нашел в ней в дальнем темном закутке разлом, ведущий к расположенному выше гроту, в котором мальчика впечатлили плоские гладкие гранитные стены, словно бы обработанные искусными мастерами, а не созданные природой. На этот раз он пробрался к нему как обычно — подсвечивая украденными в столовой спичками — с непонятной ему самому решимостью. Картер не знал, почему так уверенно идет к дальней стене и почему инстинкт подсказывает ему держать серебряный ключ в вытянутой руке. Но цель оказалась достигнута, и когда вечером он, припрыгивая от радости, прибежал домой, то не стал объяснять, где и почему задержался, и даже не проявил необходимой осторожности, когда родные принялись допытываться, отчего он не явился к обеду.
Все оставшиеся сейчас дальние родственники Рэндольфа Картера уверены, что на десятом году жизни с ним что-то случилось, нечто, потрясшее его воображение. Его кузен, эсквайр из Чикаго Эрнст Б. Эспинуолл, на десять лет старше его, заметил, что с осени 1883 года мальчик изменился. Рэндольф разыгрывал фантастические сцены, на которые мало кто мог смотреть без содрогания, и у него обнаружились свойства, казавшиеся странными и неуместными в повседневной жизни. Он, похоже, обладал даром предвидения, и иногда необычно реагировал на вещи, которые впоследствии полностью оправдывали его реакцию. Спустя десятилетия родственники и знакомые Картера иногда с изумлением вспоминали, что когда-то, давным-давно, он небрежно обмолвился о сегодняшней сенсации. Самому ему тоже не было понятно значение сказанных им слов, он не сознавал, почему чувствовал так, а не иначе, и лишь смутно подозревал, что виной тому какой-то полузабытый сон. В начале 1897 года, когда некий путешественник упомянул французский город Белуа-ан-Сантер, Рэндольф ни с того ни с сего страшно побледнел. Друзья Рэндольфа вспомнили этот эпизод в 1916 году, когда его, служившего во время Первой мировой войны в Иностранном легионе, чуть не убили в этом самом городе.
Многие такие истории о Картере стали известны уже после его таинственного исчезновения. Старый Паркс, слуга Рэндольфа, за долгие годы привыкший к причудам хозяина, в последний раз видел его утром, когда тот выехал из дома на своей машине, забрав с собой найденный серебряный ключ. Паркс сам помог ему достать этот ключ из старой шкатулки, и на него произвели странное впечатление вырезанные на ней гротескные фигуры и некоторые другие детали, о которых он не решился сообщить. Уезжая, Картер сказал, что собирается повидать старую родовую усадьбу неподалеку от Аркхема.
Его автомобиль нашли на полпути между шоссе и заброшенной усадьбой на горе Вязов, а в нем оказалась деревянная шкатулка, пугавшая всех местных жителей, пытавшихся разглядывать ее. В шкатулке был только странный пергамент с текстом на неведомом языке, который не сумели расшифровать ни лингвисты, ни палеографы. Дождь старательно смыл любые возможные следы, но следователи из Бостона обратили внимание на беспорядочно поваленные молодые деревья на территории усадьбы Картеров. По их мнению, это свидетельствовало, что тут кто-то недавно падал. В лесу на вершине сыщики отыскали обычный белый носовой платок, однако доказать, что он принадлежал Картеру, не представлялось возможным.
Обсуждалось, что его имение следует разделить между наследниками, но я твердо встал против этого, так как не верю в его смерть. Существуют крутые изломы во времени и пространстве, в реальности и видениях, которыми могут воспользоваться лишь мечтатели; я неплохо знал Картера и полагал, что он нашел способ пробраться в эти лабиринты, хотя и не мог сказать, сможет ли он вернуться назад. Он хотел попасть в потерянную страну сновидений и тосковал по годам своего детства. Поскольку он отыскал ключ, я нисколько не сомневался, что он сумел им воспользоваться.
Я непременно спрошу его об этом, когда увижу снова, ибо рассчитываю в скором времени встретиться с ним в том городе сновидений, куда мы оба всю жизнь стремились. Ходят слухи, будто в Ультаре, что за рекой Скай, власть перешла к новому королю, восседающему на опаловом троне в Илек-Ваде, сказочном городе, где башни стоят на стеклянных утесах, нависающих над сумрачным морем, под которыми бородатые ласторукие гнорри прорыли свои удивительные лабиринты, и мне кажется, я знаю, что стоит за этими слухами. Мне очень хочется вглядеться в большой серебряный ключ — не сомневаюсь, что в его загадочных арабесках скрываются символы всех тайн безразличного к человеку космоса.
ВРАТА СЕРЕБРЯНОГО КЛЮЧА
Глава 1
В просторной комнате, украшенной причудливыми гобеленами и превосходной работы старинными бухарскими коврами, четверо мужчин расположились вокруг стола, заваленного различными документами. В дальних углах дымились кадильницы на кованых треножниках; время от времени невероятно старый слуга-негр в темной ливрее пополнял их, и тогда дурманящий запах ароматических смол становился гуще; в глубокой стенной нише тикали странные часы в форме гроба, циферблат которых был размечен непонятными иероглифами, а движение четырех стрелок не соответствовало никакой системе исчисления времени из используемых на этой планете. Эта комната была необычной и вызывала беспокойство, но вполне подходила для того дела, ради которого здесь собрались. Сюда, в этот дом в Новом Орлеане, некогда принадлежавший человеку, посвященному в тайные знания, величайшему на американском континенте математику и востоковеду, съехались друзья и родственники другого великого посвященного — писателя и визионера, лишь немногим уступавшего своему предшественнику, бесследно исчезнувшего четыре года назад, — чтобы решить, кому достанется его имение.
Рэндольф Картер, всю жизнь мечтавший о бегстве из скуки и ограниченности повседневности в манящие просторы видений и сказочные пространства иных измерений, исчез для всех людей седьмого октября 1928 года, в возрасте пятидесяти четырех лет. Вел он довольно странный и уединенный образ жизни, и некоторые полагали, что в основе удивительных историй, описанных в его романах, лежат реальные случаи из жизни автора, не вошедшие в официальную биографию. Также он был близким другом Харли Уоррена, тайноведа из Южной Каролины, увлекавшегося изучением книг на языке нааков — предначальном языке гималайских жрецов. Настолько близким, что именно он стал свидетелем того, как Уоррен одной промозглой ужасной ночью на древнем кладбище спустился в сырой смрадный склеп — чтобы никогда из него не подняться. Многие годы Картер прожил в Бостоне, но предки его были родом из дремучих лесистых холмов за Аркхемом, старинным городком, словно зачарованным нечистой силой. Именно там, среди этих древних, могильно угрюмых холмов он пропал.
Его старый слуга Паркс, умерший в начале 1930 года, рассказывал о найденной Картером на чердаке своего дома шкатулке, украшенной устрашающим орнаментом, источающей какой-то странный аромат, в которой лежали пергамент с непонятными письменами и серебряный ключ, покрытый загадочными символами. Сам Картер тоже упоминал о них в переписке. По словам Паркса, его хозяин полагал, что ключ достался ему по наследству и с его помощью он сможет открыть врата в страну своих детских грез и узреть таинственные миры, в которых бывал лишь в видениях. Так что однажды Картер взял шкатулку с ее содержимым, сел за руль своего автомобиля, и больше его никто не видел.
Спустя некоторое время автомобиль обнаружили на обочине старой, поросшей травой дороги в холмах за Аркхемом, неподалеку от родовой усадьбы Картеров — точнее, останков величественных построек, обвалившихся до самого погреба. Неподалеку располагалась роща вязов, где в 1781 году исчез другой представитель рода Картеров, а чуть в стороне сохранилась ветхая, скособоченная хижина, служившая напоминанием о Гуди Фаулер, ведьме, в еще более ранние времена варившей здесь свое адское зелье. Этот край стал пользоваться дурной славой с тех пор как в нем поселились беженцы из Салема, обвиненные в 1692 году в общении с нечистой силой, так что не стоит удивляться, что и поныне он кажется зловещим. Среди спасшихся от пенькового галстука был и Эдмунд Картер, о колдовстве которого ходило много историй. А теперь канул в неведомое его одинокий потомок, не иначе как чтобы присоединиться к нему!
В машине была найдена шкатулка из странного пахучего дерева, содержащая пергамент с письменами, которые никто не сумел прочесть. Серебряный ключ пропал — видимо, Картер забрал его с собой. Проще считать так, чем полагать, будто никакого ключа не было. Следователи из Бостона заметили, что отдельно лежащие бревна из разрушенной старой усадьбы недавно кто-то передвигал, а также был найден носовой платок на склоне поросшей лесом мрачной скалы, возле темнеющего входа в ужасную пещеру, прозванную в здешних краях Змеиным логовом.
И конечно, легенды о Змеином логове вновь возродились к жизни. Фермеры шепотом рассказывали старые предания об Эдмунде Картере, творившем нечестивые обряды в дальнем гроте этой пещеры, присоединяя к ним недавнюю историю о втором исчезнувшем Картере, которого с самого раннего детства тянуло в Змеиное логово. Во времена его юности большой дом с двускатной крышей был в отличном состоянии, и заправлял в нем его двоюродный дед Кристофер. Маленький Рэндольф часто гостил здесь и рассказывал об этой пещере всякое загадочное. Особенно запомнился людям его рассказ об узкой расщелине, ведущей в таинственный внутренний грот, а когда в девять лет он провел в пещере целый день, то сам сильно переменился. Случилось то событие тоже в октябре, с того момента у мальчика открылись незаурядные способности — он стал предсказывать будущее.
В ночь после исчезновения Картера шел сильный дождь, смывший все следы на дороге рядом с машиной. В Змеиное логово тоже попала вода, и пол покрывала жидкая грязь. Глуповатые деревенские жители уверяли, будто видели следы под вязами на обочине дороги и на склоне холма, у Змеиного Логова, там, где нашли носовой платок. Но кому из следователей пришло бы в голову прислушиваться к описаниям глубоких вмятин, напоминавших следы от башмаков с квадратными носами, таких, какие носил маленький Рэнди Картер? Также за бредни были приняты описания других отпечатков, напоминающих следы от особых сапог без каблуков старого Бениджи Кори, замеченных рядом с этими вмятинами. Старый Бениджа служил у Картеров во времена детства Рэндольфа и умер тридцать лет назад.
Однако эти описания, распространяемые слухами, да еще слова Картера, переданные Парксом, о серебряном ключе с причудливой арабеской, который поможет ему открыть врата в мир утраченного детства, сподвигли нескольких из посвященных в тайные знания заявить, что пропавший сумел преодолеть течение времени и вернулся на сорок пять лет назад, в октябрьский день 1883 года, когда он, будучи мальчишкой, пробыл целый день в Змеином логове. Когда он вечером вернулся в усадьбу, уверяли они, он уже совершил первое путешествие в будущее и побывал в 1928 году; иначе откуда бы ему знать о событиях, происходивших позднее, в отношении которых его предвидения полностью оправдались. И при всем при том он ни разу не упоминал о событиях, которые произойдут после 1928 года.
Один из этих посвященных — пожилой и весьма эксцентричный джентльмен, живший в Провиденсе, штат Род-Айленд, и долгие годы переписывавшийся с Картером, — выдвинул более изощренную теорию: что Картер не только вернулся в детство, но и освободился от пут времени, отправившись в путешествие по призрачным просторам своих детских грез. У этого джентльмена было видение, после чего он опубликовал свою версию произошедшего, согласно которой исчезнувший восседает ныне на опаловом королевском троне в Илек-Ваде, сказочном городе, где башни стоят на стеклянных утесах, нависающих над сумрачным морем, под которыми бородатые ласторукие гнорри прорыли свои удивительные лабиринты.
Именно этот старик-посвященный, Уорд Филлипс, наиболее решительно возражал против раздела имения Картера между его наследниками — дальними родственниками — на том основании, что он жив, и хотя находится в другом измерении, но еще может вернуться. Главным его оппонентом был один из кузенов Картера, Эрнст К. Эспинуолл из Чикаго, имеющий некоторые познания в юриспруденции. Он был на десять лет старше самого Картера, но сохранил юношескую горячность в спорах. Четыре года продолжались их словесные баталии, но наконец настало время для принятия окончательного решения, и эта просторная странная комната новоарлеанского дома превратилась в зал заседаний.
В этом доме проживал и присматривал за наследием Картера, а также приводил в порядок его литературное наследство креол Этьен-Лоран де Мариньи, изучающий тайные знания и восточные древности. Картер познакомился с ним во время войны, оба они служили во французском Иностранном легионе и подружились благодаря сходству взглядов и интересов. Когда по случаю удачной военной операции им обоим предоставили отпуск, креол пригласил бостонского мечтателя на юг Франции, в Байонну, и посвятил его в ужасающие тайны старинных и забытых склепов, вырытых под этим городом с тысячелетней историей, от чего их дружба стала еще крепче. Картер указал де Мариньи в качестве душеприказчика, и сейчас этому неутомимому исследователю приходилось заниматься вопросом о наследовании имения. Делал он это крайне неохотно, ибо, подобно старику-посвященному из Род-Айленда, не верил, что Картер мертв. Но что могут противопоставить видения мистиков суровой расчетливости практиков?
Вокруг стола в этой странной комнате дома, расположенного в старом французском квартале, собрались люди, непосредственно заинтересованные в исходе дела. Как полагается в таких случаях, в газетах тех городов, где предположительно проживали родственники Картера, заблаговременно были даны объявления, приглашающие явиться в определенный день и час в этот дом, однако всего лишь четверо прибыли сюда и слушали сейчас безумное тиканье напоминающих гроб часов, отсчитывающих время не этого мира, и журчание воды в фонтане во внутреннем дворике, куда выходило окно с неплотно задернутыми шторами. Проходили часы, и лица четверых становились все менее различимы из-за дыма от треножников, уже не требовавших дополнительного внимания от безмолвно сновавшего между ними и явно нервничавшего старого негра.
Одним из присутствующих был сам Этьен-Лоран де Мариньи — стройный, смуглый, привлекательный, с густыми усами и еще вполне молодой. Интересы наследников представлял Эспинуолл — седой, тучный, с апоплексически красным лицом и короткими бакенбардами. Филлипс, посвященный из Провиденса, был худым, серокожим, длинноносым, гладко выбритым и слегка сутулым. Возраст четвертого человека не поддавался точному определению — худой бородач со смуглым лицом, черты которого казались странно неподвижными, в тюрбане, свидетельствующем о принадлежности к высшей касте — браминам, а его сверкающие угольно-черные глаза смотрели словно из какой-то невероятной глубины. Про себя он сообщил, что его зовут свами Чандрапутра, он посвященный в сокровенные знания из Бенареса и у него есть важные относящиеся к делу сведения; де Мариньи и Филлипс уже несколько лет состояли с ним в переписке и согласились с его странной претензией на участие в этом заседании. Когда он говорил, то словно бы подчеркивал каждое слово, и голос звучал как-то глухо и механически, но в то же время фразы он выстраивал гладко и правильно, скорее так, как говорят коренные англосаксы. Одет он был в европейский костюм, сидевший на нем крайне плохо и как-то неестественно, а косматая черная борода, восточный тюрбан и большие белые рукавицы придавали его облику заморский, диковинный колорит.
Де Мариньи, уперев палец в пергамент, найденный в машине Картера, говорил собравшимся:
— Мне не удалось ничего разобрать на этом пергаменте. И присутствующему здесь мистеру Филлипсу тоже. Полковник Черчуорд утверждает, что это не язык нааков и совершенно не похоже на письмена острова Пасхи. Хотя резьба на шкатулке очень напоминает фигуры с острова Пасхи. Сам я прежде всего обратил внимание, что надписи выглядят так, будто буквы нанизаны на невидимую горизонтальную ось и висят на ней — подобное я уже видел в одной книге, принадлежавшей несчастному Харли Уоррену. Ее прислали из Индии как раз в то время, в 1919 году, когда мы с Картером гостили у него, и он никак ее не прокомментировал, сказал лишь, что лучше нам о ней не знать, и намекнул, что книга написана в каком-то ином месте, вовсе не на Земле. Эту книгу он взял с собой в декабре, отправившись на старое кладбище, где спустился с ней в склеп, и больше ни его, ни книгу никто не видел. Некоторое время назад я отправил нашему другу, присутствующему здесь свами Чандрапутре, воспроизведенные по памяти некоторые буквы из книги и фотокопию пергамента Картера. Он полагает, что есть надежда после дополнительных консультаций и изысканий пролить свет на их значение.
Но что касается ключа… Картер присылал мне его фотографию. Эти загадочные арабески — не письмена, но, похоже, относятся к той же культурной традиции, что и пергамент. Картер всякий раз говорил, что почти разгадал тайну, но никогда не делился подробностями. Хотя однажды по сему поводу на него нашло поэтическое вдохновение. Этот старинный серебряный ключ, сказал он, откроет нужные двери, преграждающие доступ в коридоры пространства и времени, тянущиеся до самой Границы, которую не переступал ни один человек с тех пор, как страшный гений Шаддад воздвиг и спрятал в аравийской Петре величественные купола и бесчисленные минареты тысячеколонного Ирема. Как писал Картер в одном из своих рассказов, полуголодные дервиши и обезумевшие от жажды кочевники возвратились, желая рассказать о монументальном портале с гигантской рукой, высеченной над замковым камнем, но ни один человек не смог пройти через него и оставить в качестве свидетельства следы своих ног на темно-красном от зноя песке по ту сторону. Ключ, по мнению Картера, был именно тем, чего пока напрасно ждала эта гигантская рука.
Нам неизвестно, почему Картер не забрал пергамент вместе с ключом. Возможно, он забыл о нем, но может быть, не захотел брать его с собой, помня об участи другого человека, спустившегося в склеп вместе с книгой и не вернувшегося оттуда. Или, возможно, он просто не нуждался в нем.
Де Мариньи сделал паузу, и заговорил мистер Филлипс — резким, пронзительным голосом:
— О странствиях Рэндольфа Картера мы можем знать только из наших собственных видений. Странствуя во снах, я посетил много удивительных мест и услышал немало странного и весьма значительного в Ултаре, что за рекой Скай. Пергамент был ему без надобности, ведь Картер вернулся в мир своих мальчишеских грез, и теперь он король в Илек-Ваде.
Мистер Эспинуолл, выглядевший так, будто его вот-вот хватит апоплексический удар, сердито пробурчал:
— Не заткнете ли рот старому дураку? Достаточно уже подобного бреда. Мы собрались, чтобы разделить наследство, и пора бы уже заняться делом.
Тут впервые заговорил своим глухим неестественным голосом свами Чандрапутра:
— Господа, все гораздо сложнее, чем вы думаете. Мистер Эспинуолл поступает нехорошо, пытаясь высмеивать наши видения. Мистер Филлипс же получил отнюдь не полную картину — возможно, из-за того, что уделял видениям недостаточно времени. Сам я посвятил им очень много времени. Мы в Индии относимся к видениям очень серьезно, как, похоже, поступали и все Картеры. К вам, мистер Эспинуолл, это не относится, поскольку вы приходитесь Рэндольфу двоюродным братом по материнской линии. Мои видения и другие источники информации открыли мне многое из того, что для вас оставалось покрытым мраком. К примеру: Рэндольф Картер забыл пергамент, который не сумел расшифровать, — однако лучше бы он не допускал такой оплошности. Видите ли, я смог немало узнать о том, что происходило с ним с того момента, как он вечером седьмого октября, то есть четыре года назад, покинул свою машину с серебряным ключом в руке.
Эспинуолл недоверчиво хмыкнул, но остальные с интересом посмотрели на индуса. Дым из треножников сгустился, а безумное тиканье часов стало казаться последовательностью точек и тире телеграфной передачи каких-то чужаков из иного мира. Индус откинулся на спинку стула, полуприкрыл глаза и продолжил свою странно звучащую, но формально очень правильную речь, а перед слушателями возникали в дыму картины того, что происходило когда-то с Рэндольфом Картером.
Глава 2
Холмистая местность за Аркхемом пропитана всяческой магией — возможно, той самой, которую старый маг Эдмунд Картер призвал со звезд и выманил из подземных миров после бегства сюда из Салема в 1692 году. Едва лишь Рэндольф Картер вернулся снова в родные края, он осознал, что оказался возле одних из тех врат, через которые лишь немногие отчаянные смельчаки, отверженные и отрешившиеся, способны пробиться через прочнейшие стены, отделяющие наш мир от непознаваемой запредельности. Он почувствовал, что именно здесь, в этом месте и в этот самый день, может с успехом применить расшифровку надписей, с которой справился несколькими месяцами раньше — он разгадал смысл арабесок на потускневшем и невероятно древнем серебряном ключе. Теперь он знал, как его поворачивать и как располагать в солнечном свете, какие сочетания звуков следует произнести нараспев при девятом, последнем повороте. В месте, столь близком к полюсу мрака и настолько пропитанном ощущением врат, будет трудно ошибиться в использовании их основных функций. Сегодня ночью он несомненно попадет наконец в мир своего детства, о потере которого не переставал скорбеть.
Он вышел из машины с ключом в кармане и забирался все выше и выше в холмистую местность по извилистой дороге, забираясь все глубже и глубже в эту дикую местность; он миновал увитую лозой каменную стену, чернолесье, согнутые и искривившиеся деревья в старом саду, заброшенный дом с пустыми оконными глазницами и какие-то неопознаваемые руины. В час заката, когда далекие шпили Кингспорта окрасились в алый цвет, он достал из кармана ключ и начал поворачивать его и произносить заклинание. Лишь позднее он осознал, насколько быстро сработал ритуал.
В сгущающихся сумерках до него донесся голос из прошлого — голос старика Бениджа Кори, наемного слуги его двоюродного деда. Но разве старик Бениджа не умер тридцать лет назад? Назад по отношению к чему-то. Но что такое время? И где он сейчас? Почему ему показалось странным, что старик Бениджа окликает его 7 октября 1883 года? Разве он не нарушил обещание, данное тете Марте? И что за странный ключ лежит в кармане его куртки вместе с маленькой подзорной трубой, подаренной отцом на девятый день рождения — два месяца назад… или когда это было? Кажется, он нашел его дома, на чердаке? Можно ли с его помощью открыть загражденный каменной плитой таинственный проход в глубине грота, в который можно попасть через Змеиное логово? Это место в представлении местных жителей было связано с колдуном Эдмундом Картером. Люди никогда не спускались в пещеру, и никто кроме него не знал об узкой расщелине, ведущей в просторный черный грот с каменной плитой. Кем высечены контуры прохода в гранитной скале? Самим старым колдуном Эдмундом Картером?.. Или другими, кого он заворожил и кем повелевал?
Этим вечером маленький Рэнди ужинал вместе с дядей Крисом и тетей Мартой в старом деревенском доме с двускатной крышей.
На следующее утро он проснулся спозаранку и побежал через яблоневый сад, где деревья росли так часто, что густо сплетались ветвями, к роще на склоне холма, в которой среди огромных дубов темнел запретный вход в Змеиное логово. Он думал лишь о том, чтобы скорее спуститься в пещеру, и не заметил, что выронил носовой платок, когда совал руку в карман куртки — убедиться, что взявшийся неизвестно откуда серебряный ключ на месте. Потом долго пробирался по узкой темной расщелине, нисколько не сомневаясь, что достигнет цели, и зажигая время от времени спички, украденные из гостиной. И вот он добрался до конца расщелины и очутился в просторном гроте, о котором никто не знал и на одной из стен которого была высечена ровная плита с арочным закруглением наверху. Он в молчании, с благоговейным страхом стоял возле этой плиты и запаливал спички одну за другой, присматриваясь. Эта каменная глыба над замковым камнем воображаемого прохода похожа на высеченную руку? Наконец Картер достал серебряный ключ и начал поворачивать его и нараспев произносить непонятные слова, мучительно пытаясь вспомнить, откуда те ему известны. Не забыл ли он еще чего-то? Он знал только одно — ему необходимо преодолеть барьер, отделяющий его от бескрайних просторов своих грез и тех водоворотов пространств, где все мыслимые измерения растворяются в абсолюте.
Глава 3
То, что происходило с ним после этого, вряд ли возможно описать словами. Такому изобилию парадоксов, противоречий и аномалий нет места в нашей повседневной жизни, хотя они переполняют фантастические сновидения и воспринимаются как само собой разумеющееся вплоть до того самого момента, когда мы возвращаемся в наш скованный тесными рамками объективный мир, ограниченный причинно-следственными связями и логикой трехмерного пространства. Индус продолжал свой рассказ, но излагаемое им вполне могло показаться вольным полетом фантазии — оно было даже более экстравагантным, чем описанное возвращение взрослого мужчины в собственное детство. Мистер Эспинуолл с отвращением хмыкнул и всем своим видом стал показывать, что не слушает его.
— Ритуальные действия с серебряным ключом, проделанные Рэндольфом Картером в темном потаенном гроте пещеры, не оказались безрезультатными. Едва он повернул его в первый раз и произнес первые слова заклинания, как его окружила странная, пронизанная тревогой аура; он ощутил, что все привычные координаты времени и пространства смешались, так что понятия «движение» и «продолжительность» утратили былое значение, а понятия «возраст» и «месторасположение» вообще перестали существовать. Днем раньше Рэндольф Картер чудесным образом перескочил через бездну лет. Теперь же все различия между мальчиком и немолодым мужчиной исчезли. Был один-единственный Рэндольф Картер и множество его подобий, потерявших связь с земными событиями и обстоятельствами, при которых они произошли. Лишь мгновение назад он находился в гроте, где в темноте с трудом угадывалась чудовищная арка и гигантская, высеченная из камня рука. Теперь же пещеры не было, как не было и ее отсутствия, и не было ни стены, ни отсутствия стены. Был лишь поток впечатлений, но не зримых, а воспринимаемых рассудком, посреди которого пребывало нечто, полагающее себя Рэндольфом Картером, пытающееся вникнуть в их суть или просто фиксирующее образы, сохраняя цельность собственного «я», но не понимая до конца, откуда эти образы приходят.
Когда ритуал завершился, Картер понял, что место, в которое он попал, не обозначено ни на одной карте мира, а время не датируется никакой историей; однако суть пережитого им превращения не была ему совершенно неведома. Намеки на это попадались в загадочных фрагментах манускриптов из библиотеки Пнакотуса, и целая глава из запрещенного «Некрономикона» безумного араба Абдула Альхазреда стала понятна ему, когда он разгадал смысл загадочных арабесок на серебряном ключе. Врата отворились — но, конечно, это были не Предельные Врата, а лишь одни из ведущих с Земли и от земного времени в дополнение Земли, лежащее вне времени, откуда можно попасть к Последней Пустоте за пределами всех обитаемых планет, вселенных и вообще материи.
Здесь у него должен быть Проводник — и довольно страшный по сути; Проводник, обитавший на Земле миллионы лет назад, задолго до появления первых людей, когда по влажной, окутанной паром горячей поверхности бродили смутные, уже забытые тени, воздвигнувшие удивительные города, по руинам которых впоследствии ползали первые млекопитающие. Картер помнил, что в ужасном «Некрономиконе» имелись смутные предостережения насчет этого Проводника. «Те, кто отважился заглянуть за Завесу, — писал безумный араб, — и выбрать Его в провожатые, пусть крайне осторожно ведут дела с Ним; ибо сказано в Книге Тота о страшной цене, которую придется заплатить за один лишь Его взгляд. Последовавшие за Ним не имеют шансов на возвращение, ибо бескрайность за пределами нашего мира населена призраками тьмы, порабощающими дух. Связаться с Ним — само по себе величайшая опасность, даже Знак Древних не может служить защитой при этом; та орда злобных тварей, что стерегут тайные врата у всех погребальниц и питаются тем, что исходит оттуда, — вся она ничто в сравнении с Ним, охраняющим Путь: Он способен провести безрассудного за пределы всех миров, в Бездну, где господствуют безымянные силы. Ибо он Умр ат-Тавил, Древнейший, а имя его расшифровывают также как Продлитель Жизни».
Память и воображение формировали смутные образы с зыбкими контурами посреди бурлящего хаоса, но Картер знал, что это всего лишь производные его памяти и воображения. В то же время он чувствовал, что появление этих образов определялось не случайностью — их вызывала иная реальность, беспредельная, невыразимая и безмерная, окружающая его и проявляющая себя посредством тех символов, которые был способен усвоить его разум. Ибо земному сознанию недоступно охватить все многообразие форм, существующих вне времени и известных нам измерений.
Перед взором Картера как в тумане проплывали картины, имеющие какое-то отношение к далекому прошлому Земли, многие миллионы лет назад. Чудовищные твари передвигались на фоне фантастических строений, какие нормальный человек не увидит даже во сне; в окружающем ландшафте все — и растительность, и скалы, и горы, и здания — выглядело непривычно для человека. Он видел подводные города и их странных обитателей; башни среди бескрайних пустынь, возле которых исчезали и появлялись, словно выныривая из глубины пространства, шары, цилиндры и неведомые крылатые существа. Картер старался поточнее запомнить все увиденное, хотя эти зримые им образы не имели отношения ни к нему, ни друг к другу. Да и сам он теперь не имел какого-либо постоянного облика и местоположения, только ошеломленный видениями разум подсказывал ему, какими его облик и местоположение могут быть.
Прежде он мечтал отыскать чудесную страну своих детских грез, где галеры взбирались по реке Укранос мимо золотых шпилей Франа, а караваны слонов пробирались через пропитанные ароматами джунгли Кледа, где луна высвечивала погруженные в вечную дрему заброшенные светлые дворцы. Но теперь, опьяненный красочными видениями, Картер не сознавал, к какой цели должен стремиться. Его обуревали дерзкие, кощунственные мысли, и он знал, что сможет без страха обратиться к жуткому Проводнику, потребовав от него чудовищного и ужасного.
Наконец мельтешение зыбких образов сменилось чем-то более стабильным. Он увидел громадные каменные пьедесталы, украшенные чуждыми и невразумительными резными узорами и расставленные непонятным образом, вопреки законам геометрии. С неба, для описания цвета которого у него не нашлось бы слов, струились потоки света под невообразимыми углами, скользя по изогнутой шеренге пьедесталов, покрытых резными иероглифами; ему показалось, что по форме пьедесталы близки к шестиугольникам и на них восседают фигуры в плотных одеяниях.
Еще одна фигура находилась не на пьедестале, а парила над смутно различимой поверхностью возле его подножия. В непрерывно изменяющихся очертаниях угадывалось отдаленное сходство с формами, то ли предшествовавшими человеческим, то ли просто подобными им, но при этом фигура была чуть ли не вдвое выше ростом обычного человека. Как и фигуры на пьедесталах, парившая была укутана в одеяние нейтральных тонов; но Картер не заметил никаких прорезей для глаз. Хотя, возможно, им просто не требовалось смотреть, а окружающее они воспринимали каким-то иным способом, основанным не на физических чувствах.
В следующий момент Картер убедился в правильности такой догадки, ибо парящее очертание обратилось к его разуму, без звуков и вообще каких-либо слов. И хотя одно только имя представившегося могло внушать страх и ужас, Рэндольф Картер не испугался.
Вместо этого от ответил аналогичным, без слов, способом и держался в высшей степени почтительно, как предписано в мерзейшем «Некрономиконе». Ибо пред ним был тот, кого весь мир страшился еще с тех пор, когда Ломар поднялся из пучины морской, а Дети Огненного Тумана явились на Землю, чтобы научить людей Древнейшему Знанию. Это и в самом деле был жуткий Проводник и Страж Ворот Умр ат-Тавил, именуемый также Продлителем Жизни.
Проводник знал (как знал и обо всем на свете), зачем явился Картер, а также о том, что этот искатель грез и тайн не боится его. От Проводника не исходили ни злоба, ни коварство, и на мгновение Картер подумал, что безумный араб извергал на него хулу из зависти или из желания самому совершить то, что сейчас предстояло сделать ему. А может быть, Проводник приберегал злобу и коварство для тех, кого пугала встреча с ним. Тем временем их общение продолжалось, и Картер пытался облекать в словесную форму направленный на него поток мыслей.
— Я действительно Древнейший из всех, о ком тебе ведомо, — сказал Проводник. — Мы уже давно ждем тебя — другие Древние и я. Мы рады тебя видеть, хотя ты слишком задержался. У тебя есть ключ, и ты отворил Первые Врата. Теперь тебе предстоит испытание у Предельных Врат. Если в тебе есть страх, то лучше не пытайся. Ты все еще способен вернуться в мир, из которого явился. Но если ты намерен идти до конца…
Пауза могла показаться зловещей, хотя Проводник по-прежнему не излучал никакой злобы. Картер ни минуты не колебался, сгорая от нетерпения двигаться дальше.
— Я пойду вперед, — мысленно ответил он, — и признаю за тобой право быть моим Проводником.
После этого его заявления Проводник, похоже, сделал какой-то знак — его покров всколыхнулся, возможно, он поднял руку или сделал что-то подобное. Затем он сделал еще какой-то знак, и обладающий многими знаниями Картер понял, что уже почти приблизился к Предельным Вратам. Струящийся свет принял другой оттенок, также совершенно неописуемый, и очертания на псевдошестиугольных пьедесталах стали более четкими. Теперь они как будто встали более прямо и напоминали людей, хотя Картер знал, что это точно не люди. На их покрытых капюшонами головах засверкали тиары невиданных расцветок, отчего они напомнили ему фигуры, высеченные неизвестным скульптором в высоких запретных горах Тартарии; из складок их одежд выглядывали длинные скипетры с резными навершиями, в которых угадывалась причудливая и древняя тайна.
Картер понял, кто они такие, откуда пришли и Кому служат, а также какова должна быть плата за подобную службу. Однако он по-прежнему был полон решимости идти до конца и пережить все. Он не страшился штампа «проклятие», которым слепцы клеймили всех, кто способен видеть хотя бы одним глазом. Ему казалось забавным непомерное самомнение болтающих о зловещих и коварных властителях-Древних, якобы готовых прервать свой вековечный сон ради того, чтобы обрушить свой гнев на человечество. Это примерно как мамонту обратить свои силы на месть червяку. Все сидевшие на шестиугольных пьедесталах взмахнули резными скипетрами, приветствуя его, и излучили ему мысленное послание:
— Мы приветствуем тебя, Древнейший, и тебя, Рэндольф Картер, претендующий на то, чтобы стать одним из нас.
Картер заметил, что один из пьедесталов пуст, и по жесту Древнейшего осознал, что тот оставлен специально для него. Он заметил также другой пьедестал, возвышавшийся над остальными, — все вместе они образовывали странно изогнутую линию, не полукруг и не овал, не гипербола и не парабола, — и догадался, что это трон самого Проводника. Не отдавая отчета в своих действиях, он направился к свободному пьедесталу и взобрался на него, а когда оглянулся, то увидел, что Проводник поступил таким же образом.
Постепенно и как бы сквозь туман он осознал, что Древнейший держит что-то под своим покровом — нечто, что, похоже, собирается достать и показать, отвечая на безмолвный вопрос своих укутанных в плотные балахоны компаньонов. Это оказалась большая сфера — или то, что воспринималось Картером как сфера, — из тускло светящегося металла, и когда Проводник приподнял ее, возникло ощущение звука, который то становился громче, то стихал — с периодичностью, не похожей ни на какой ритм нашей Земли. Затем ему почудилось нечто, что его человеческое восприятие приняло за пение. Под воздействием этого квазисфера стала светиться более интенсивно, излучая холодный пульсирующий свет невиданных оттенков, мерцающий в унисон с подобием пения. Когда между ними установилась гармония, скипетроносцы на пьедесталах начали плавно раскачиваться в такт завораживающей музыке, а над их прикрытыми головами засверкали нимбы тех же небывалых оттенков.
Индус сделал перерыв в своем рассказе и внимательно уставился на высокие, похожие на гроб часы, безумное тиканье которых не соответствовало никаким земным ритмам.
— Мне незачем объяснять вам, господин де Мариньи, — обратился он к ученому устроителю встречи, — каков был ритм неземного напева и почему под его воздействием стали раскачиваться все фигуры на шестиугольных пьедесталах. Вы единственный здесь, в Америке, имеете понятие о Внешнем Дополнении. Эти часы… полагаю, их прислал вам тот йог, о котором рассказывал несчастный Харли Уоррен, — провидец, который уверяет, что первым из всех людей посетил Йан-Хо, тайное хранилище наследия невероятно древнего Ленга, и смог вынести из этого жуткого и запретного города несколько диковин. Любопытно, много ли вам известно об их странных свойствах? Если верить моим видениям и некоторым письменным источникам, их создатели довольно много знали о Первых Вратах. Но позвольте мне продолжить свое повествование.
Наконец пульсации и беззвучное пение прекратились, и фигуры в плотных одеяниях перестали раскачиваться, сияние нимбов над их головами померкло, и сами они стояли на пьедесталах уже не так прямо. Квазисфера, однако, по-прежнему излучала удивительный пульсирующий свет. Картер почувствовал, что Древние вновь погрузились в сон, как до его появления, и задумался над тем, от каких космических видений отвлек их своим приходом. Постепенно в его сознание проникло, что странный неторопливый распев был частью ритуального обряда, посредством которого Древнейший погрузил их в особую необычную разновидность сна, так что их сновидения откроют Предельные Врата, пропуском для которых послужит серебряный ключ. Так что теперь Картер знал, что они созерцают бездны беспредельного внешнего пространства, готовясь завершить то, что потребовалось ввиду его присутствия.
Проводник же не присоединился к ним в этом сне и, похоже, усилием мысли управлял этим процессом. Очевидно, он пытался управлять теми образами, которые видят спящие. Картер понял, что каждый из Древних должен сформировать во сне какую-то определенную мысль, композиция которых вызовет проявление, доступное даже его земному восприятию. Когда видения спящих достигнут полного согласования, он сам все увидит и тогда сможет усилием воли материализовать все, что ни вообразит. Нечто подобное ему доводилось наблюдать на Земле, в Индии, когда проекция совместной воли посвященных преобразовывала воображаемое в осязаемую реальность, а в древности этим славился Атлаанат, о котором до сих пор боятся упоминать вслух.
О том, что представляют собой Предельные Врата и как через них проходить, Картер имел довольно смутное представление, но был охвачен напряженным ожиданием. Он сознавал, что сохранил прежнюю телесную оболочку и сжимает в руке роковой серебряный ключ. Путь ему преграждала каменная глыба, гладкая как стена, и он не мог оторвать взгляд от ее центра. А затем вдруг ощутил, что Древнейший больше не общается с ним потоком мыслей.
Картер впервые по-настоящему осознал, какой устрашающей может быть полная тишина, воцарившаяся как на физическом, так и на ментальном плане. Прежде в этом своем странствии он постоянно ощущал некий ритм, возможно, просто пульсацию дополнительных измерений нашего мира, но теперь вокруг установилась абсолютная тишина бездны. Хотя он ощущал свое тело, но не слышал собственного дыхания, а квазисфера Умр ат-Тавила светилась ровно, без пульсаций. Более яркий, чем у прочих, нимб над прикрытой головой Проводника сиял холодным, будто бы замороженным светом.
У Картера закружилась голова, и ощущение потери ориентации выросло тысячекратно. Странное свечение нимбов лишь подчеркивало кромешность тьмы, окружающей спящих Древних, а вблизи их псевдошестиугольных пьедесталов воздух был пронизан ощущением ошеломительной удаленности. Затем он почувствовал, как какая-то сила подхватила его и бросила в теплые пахучие волны над бездонной пучиной. Он словно бы плыл по знойному, пахнущему розами морю, волны которого разбивались о берега из пылающей бронзы. Великий ужас пронзил Картера, когда он окинул взглядом морскую ширь, отделяющую его от далекого берега. Но в следующий момент тишина была сломлена, и волны заговорили с ним на языке, не использующем никаких слов, да и вообще звуков.
— Служитель Истины стоит по ту сторону добра и зла, — возвестил голос, не обладающий звучанием. — Служитель Истины постигает Все-в-Одном. Служитель Истины знает, что Иллюзия — это Единственная Реальность, а Плоть — это Великий Обманщик.
На поверхности гладкой каменной стены, от центра которой он был не в силах оторвать взгляд, проступили очертания огромной арки, сходной с той, которую он давным-давно видел в темном гроте на далекой Земле с ее тремя измерениями. Он осознал вдруг, что производит манипуляции с серебряным ключом и произносит нараспев заклинание, инстинктивно совершая ритуал вроде того, с помощью которого открыл Внутренние Врата. Ему стало ясно, что розово-пьянящее море, волны которого обдавали теплом его щеки, на самом деле было массивом каменного монолита, сквозь который он проникал под воздействием произносимого им заклинания, усиленного потоками мыслей спящих Древних. По-прежнему полный решимости и не ведающий сомнений, Картер отважно устремился вперед — и через Предельные Врата.
Глава 4
Проникновение Рэндольфа Картера через циклопическую каменную глыбу напоминало головокружительное падение в межзвездные бездны. Как бы с безмерной удаленности он ощущал собственное ликование и божественно-сладостную атмосферу смертельной опасности, но в следующий миг ему почудились трепет гигантских крыльев и звуки движения каких-то тварей, неведомых ни на Земле, ни в Солнечной системе. Оглянувшись, он увидел не одни врата, а целое множество, и в некоторых из них он заметил очертания существ, о которых хотел бы забыть навсегда.
Еще через мгновение он вдруг испытал величайший ужас, какой не смогли бы внушить никакие очертания неведомых тварей, — ужас, сбежать от которого было непросто, ибо это было связано с его собственной телесной сущностью. Еще при прохождении Первых Врат облик Картера лишился неизменности, очертания его тела и взаимоотношения с окружавшими туманными формами стали отчасти неопределенными, но он по-прежнему ощущал свою целостность. Он все еще был Рэндольфом Картером, находящимся в каком-то конкретном месте многомерного пространства. Теперь, оказавшись за Предельными Вратами, он на мгновение испытал гнетущий страх, ибо перестал быть одним существом и воплотился во множество.
Он пребывал во многих местах одновременно. На земле 7 октября 1883 года мальчик по имени Рэндольф Картер покинул Змеиное логово, спустился в сумерках с холма и через сад с искривленными деревьями направился к дому дяди Кристофера в холмистой местности за Аркхемом; но в то же самое время и Рэндольф Картер 1928 года, как расплывчатое очертание, пребывал на пьедестале среди Древних в дополнительных измерениях Земли. Был и третий Рэндольф Картер — в неведомой и бесформенной космической бездне за Предельными Вратами. А кроме того, повсюду, в хаотическом и беспредельном многообразии сцен, клубящихся в его сознании, от разнородности которых он едва не сходил с ума, присутствовало бесконечное множество существ, которые были проявлениями Рэндольфа Картера в неменьшей степени, чем данное, пребывающее за Предельными Вратами.
Эти Картеры распределились по всем известным и неизвестным периодам истории Земли, включая наиболее удаленные, выходящие за рамки знаний и представлений ученых; были среди них Картеры в людском обличье и Картеры не-люди, животные и растения, позвоночные и беспозвоночные, обладающие сознанием и лишенные его. Были также и Картеры, не имевшие никакого отношения к земной жизни, разбросанные по многим мирам, звездным системам, галактикам и безбрежности космоса; споры вечной жизни, дрейфующие от мира к миру, от вселенной к вселенной — все они тоже были Картерами. Некоторые из видений напоминали ему сны — как блеклые, так и красочно яркие, как промелькнувшие лишь раз, так и присутствующие почти постоянно в его видениях; некоторые обладали навязчивой, беспокоящей или даже вызывающей страх узнаваемостью, совершенно необъяснимой земной логикой.
По мере того как Рэндольф Картер осознавал это, его беспокойство перерастало в наивысший ужас — такой ужас, какого он не испытывал с той незабываемой ночи, когда двое отправились на старое заброшенное кладбище, освещенное тусклым полумесяцем, а вернулся домой он один. Ни смерть, ни удары судьбы, ни душевные муки не способны вызвать такое отчаяние, как утрата собственного «я». Слияние с несуществованием дарует покой забвенья, но осознание, что ты существуешь, но больше не обладаешь индивидуальностью, не являешься чем-то отличным от других — вызывает не имеющее названия состояние наивысшего ужаса.
Он знал, что некогда в Бостоне жил некий Рэндольф Картер, однако не был уверен, сохранилось ли тождество между ним — фрагментом или представителем множественной сущности, оказавшейся за Предельными Вратами, — и тем Картером. Его «я» исчезло, но в то же время он — если только понятие «он» применимо к множественному существованию — сознавал, что вмещает в себя целое сонмище различных «я». Как будто его тело сделалось телом одного из тех божеств со множеством рук и голов, что украшают индийские храмы. Он в растерянности смотрел на своих бесчисленных двойников, пытаясь отличить копии от оригинала, и уже не мог утверждать, что оригинал действительно существовал (воистину чудовищная мысль!), а не был лишь одним из множества воплощений.
Метания его мыслей были прерваны тем, что некая сила забросила объятого ужасом Картера — тот его фрагмент, что пребывал за вратами, — на пик еще более высокого ужаса. Источник его находился как в нем самом, так и преимущественно вовне, а сила эта одновременно и противостояла ему, и поддерживала его, присутствовала во всех его воплощениях, словно была частью его самого, сосуществовала с ним во всех временах и пространствах. Не имея зримого образа, она тем не менее обладала объективным существованием, и всепоглощающая мощь ее вызывала трепет и сознание своего ничтожества у каждого из бесчисленных двойников Картера.
Вознесенный на волну нового страха, квази-Картер забыл о только что пережитом ужасе от распада собственного «я». Он осознал силу Всего-в-Одном и Одного-во-Всем в безграничности бытия и существования, заключающего в себе не только время и пространство, но и все мироздание с безмерностью его характеристик, превосходящей любые фантазии и модели математиков и астрономов. Возможно, именно это в древности жрецы тайных культов называли Йог-Сототом и передавали это имя шепотом из уст в уста; ракообразные обитатели Юггота почитали как Запредельное Существо, а призрачный разум спиралевидных туманностей обозначал непереводимым знаком, — но множественный Картер понимал, сколь относительны и неточны все эти определения.
И вот Сущее обратилось к множественному Картеру, направляя ему мыслеволны, пышущие ярким пламенем и гремящие раскатами грома, — сгустки энергии, едва не разрушившие его свой неистовой силой, но при этом в них прослеживался тот же неземной ритм, в такт которому раскачивались Древние и мерцали их нимбы в том загадочном месте после Первых Врат. Словно бы множество солнц, миров и вселенных сосредоточились на одной точке, чтобы уничтожить ее в порыве гнева. Однако этот величайший страх полностью затмил предыдущие его страхи, его обжигающие волны изолировали Картера Завратного от его двойников и отчасти вернули ему ощущение собственного «я». Довольно скоро он смог прислушаться к накатывающим на него волнам и транслировать их в понятные ему речевые формы, и тогда ужас и отчаяние понемногу начали опадать. Страх уступил место благоговению, а то, что недавно казалось кощунственным извращением, на поверку оказалось невыразимо величественным.
— Рэндольф Картер, — словно бы говорилось ему, — мои представители на твоей планете, Древние, прислали тебя сюда, хотя тебе предстояло вернуться в излюбленные уголки своих утраченных грез, ибо ты, обладая неведомой многим людям свободой, возвысился до более великих и благородных желаний и поисков. Ты жаждал плыть по златоструйной реке Укранос, отыскивать заброшенные города в орхидейных дебрях Кледа и взойти на опаловый трон Илек-Вада с его бесчисленными куполами и сказочными башнями, грандиозно вздымающимися к единственной алой звезде на небосводе, чуждом твоей Земле и вообще твоему миру. Сейчас, преодолев двое Врат, ты наверняка мечтаешь о нечто еще более грандиозном. Ты явно не сбежишь, как ребенок, если увиденное не совпадет с твоими любимыми снами, а найдешь в себе мужество принять сокровенные тайны, лежащие в основе этих видений и снов.
Мне по душе твои устремления, и я готов даровать тебе то, что даровал одиннадцати существам с твоей планеты, из которых только пять можно назвать людьми или подобными человеку. Я также готов открыть тебе Предельную Тайну, знакомство с которой губительно для слабых духом. Однако прежде чем ты познаешь эту последнюю — и самую первую — из тайн, подумай и сделай свой выбор. Ты пока что способен вернуться назад, не сняв пелену, закрывающую глаза.
Глава 5
Мыслеволны внезапно стихли, оставив Картера в одиночестве и внушающей ужас тишине, полной ледяного безмолвия. Можно было подумать, что во все стороны от него простирается лишь пустота, но неутомимый искатель знал, что Сущее по-прежнему здесь. Спустя мгновение он нашел слова для послания, которое мысленно отправил в бездну:
— Я принимаю это. Я не отступлю.
Мыслеволны вновь стали накатывать на него, и Картер понял, что Сущее услышало его. Безграничный разум сразу же направил ему целый поток информации и пояснений, распахнувший перед ним новые горизонты, позволяющий охватить мысленным взором недоступные раньше сферы космоса. Он узнал, насколько наивны и ограниченны его представления о трехмерном мире и что существует великое множество иных направлений помимо известных всем «вверх-вниз», «вперед-назад», «направо-налево». Ему была наглядно продемонстрирована мелкость и ничтожность земных богов с их жалкими человеческими пристрастиями — ненавистью, гневом, любовью и тщеславием, жаждой поклонения и жертвоприношений — с их претензиями на слепую веру почитателей вопреки рассудку и природе.
Хотя бо́льшая часть впечатлений транслировалась Картеру в словесной форме, были среди них и такие, которые он воспринимал непосредственно через чувства. То ли зрение, то ли воображение помогало ему проникать в измерения, недоступные человеческому зрению и разуму. Теперь, созерцая бездонную тень, прежде казавшуюся ему сферой вихря хаотических сил или областью полной пустоты, он ощущал в ней небывалую мощь, способную потрясти самые сокровенные чувства. Картер словно находился в какой-то особой точке обзора и смотрел оттуда на гигантские формы, затмевающие любой фантастический вымысел и непостижимые земным рассудком. Всю свою жизнь он посвятил исследованию тайн, но был бессилен понять природу этих явлений. Сквозь пелену прежних представлений постепенно он начал понимать, каким образом маленький Рэндольф Картер, оставшийся в 1883 году в усадьбе близ Аркхема, мог одновременно являться призрачным очертанием на псевдошестиугольном пьедестале за Первыми Вратами, и Картером, пребывающим пред лицом Сущего в безмерной бездне, и всеми прочими Картерами, доступными его мысленному восприятию.
Затем потоки мыслеволн стали более интенсивными, само понимание его усилилось, и вдруг он понял суть всего многообразия своих сущностей и обличий, лишь малой частицей которого было его данное воплощение. Ему было объяснено, что любая форма в пространстве образуется сечением какой-то фигуры с большим количеством измерений. Квадрат — это результат сечения куба, а круг — сечения сферы. Трехмерный куб и сфера образуются сечением четырехмерных фигур, о чем люди до сих пор лишь догадывались и случайно прозревали. Четырехмерные фигуры создаются посредством сечения пятимерных и так далее, вплоть до головокружительной безмерности прообразов. Мир людей и людских богов лишь малая грань ничтожно малого явления — трехмерное сечение того, что расположено за Первыми Вратами, где Умр ат-Тавил навевает сны Древним. Люди называют это жалкое сечение реальностью, отвергая многомерный подлинник как бредовый вымысел, хотя все обстоит прямо противоположным образом. То, что они считают сущностью и реальностью, на самом деле есть иллюзия и призрак, а то, что на Земле называют иллюзией и призраком — и есть сущность и реальность.
Время не движется, а стоит на месте и не имеет ни начала, ни конца. Нам только кажется, что его движение приводит к переменам. Это земное заблуждение. Да и само время всего лишь иллюзия, ибо зажатые в трехмерности мира люди полагают, будто прошлое сменяется настоящим, а настоящее будущим. Людям кажется, что время идет, поскольку они наблюдают изменения, но это тоже иллюзия. Все, что было, есть и будет, существует одновременно.
Эти откровения провозглашались Картеру с божественной величественностью, не давая ему возможности усомниться. Даже если ему не удавалось до конца уразуметь суть какого-то откровения, он ощущал непреложную правоту крайней реальности космоса и знал, что она способна опровергнуть все прежние узкие взгляды и косные представления. Да разве сам он не чувствовал неподлинность земных понятий и не стремился вырваться из их плена?
Выдержав долгую паузу, мыслеволны продолжили питать его знаниями, сообщая, что перемены, которым обитатели трехмерных миров придают столь большое значение, — всего лишь функция их сознания, которое воспринимает явления под разными космическими углами. Подобно тому как результат сечения конуса — получится ли круг, эллипс, парабола или гипербола — зависит от угла сечения, реальность кажется изменившейся от малейшего сдвига космического угла. Сознание обитателей миров с малым числом измерений оказывается сильно ограниченным, ибо они не способны управлять углом зрения. Только очень немногие, овладевшие тайными знаниями, понимают, как контролировать угол восприятия, и потому способны вырваться из власти времени и перемен. Но силы и сущности за Вратами способны менять угол зрения по своему желанию и видеть космос как фрагментарно, раздробленным на частицы, которые вы зовете событиями, так и неизменным и целостным.
Наступила следующая пауза, и Картер начал осознавать, что приблизился к пониманию столь напугавшей его утраты цельности своего «я». Интуитивно соединяя разрозненные фрагменты открывшейся истины, он становился все ближе и ближе к разгадке. Картер понял, что смог бы узнать о мириадах своих воплощений еще за Первыми Вратами, но чары Умр ат-Тавила уберегли его от этого потрясения, чтобы страх не помешал ему открыть серебряным ключом Предельные Врата. Желая лучше разобраться, что связывает столь различные его воплощения — находящегося сейчас за Предельными Вратами призрака на шестиугольном пьедестале, мальчика из 1883 года, немолодого мужчину из 1928 года, далеких пращуров, безымянных существ из иных эпох и иных миров, — он обратился к бездне с мысленными вопросами. Сущее ответило ему новым потоком мыслеволн и постаралось разъяснить природу этой связи, едва ли постижимой земному уму.
Все поколения существ в пространствах трех измерений и все стадии роста одной-единственной личности, понял он, — не более чем воплощения извечного прообраза, находящегося в безмерном пространстве. Каждый представитель уходящего в глубь веков рода — сын, отец, дед и так далее — и каждый возрастной период человека — младенец, ребенок, подросток, мужчина — лишь одна из фаз этого надстоящего вечного существа, зависящая от смены угла сознания и плана восприятия. Рэндольф Картер в любой год своей жизни, Рэндольф Картер и его предки, люди и их предтечи, земляне и жители иных планет — всего лишь разные фазы абсолютного, вечного «Картера» вне времени и пространства, призрачные проекции, различие между которыми определяется сменой угла восприятия и рассечения прообраза планом сознания.
Крохотное изменение угла способно превратить сегодняшнего великого посвященного в ребенка, каким он был много лет назад, превратить Рэндольфа Картера в колдуна Эдмунда Картера, бежавшего в 1692 году из Салема в холмистую местность за Аркхемом, или в Пикмена Картера, который в 2169 году сыграет важную роль в отражении натиска монгольских орд, собирающихся завоевать Австралию; превратить Картера-человека в обитавшего в Гиперборее и поклоняющегося черному идолу Тзатоггуа инопланетянина, прибывшего с Китамила, двойной планеты, некогда вращавшейся вокруг Арктура; превратить Картера-землянина в еще более далекого предка, обитателя самого Китамила или внегалактической планеты Стронти, или в четырехмерный летучий разум в более древнем пространственно-временном континууме, или в растительный мозг будущего с черной радиоактивной кометы, несущейся по немыслимой орбите, и так далее в бесконечность космического цикла.
Прообраз, гулко вещали мыслеволны, это типичный представитель обитателей Предельной Бездны — они не имеют формы и не поддаются описанию, и лишь редкие провидцы из миров с малым числом измерений способны догадаться об их существовании. Самое главное среди них — само Сущее… которое и является прообразом Картера. Вот причина того, почему Картеры испокон веков стремились раскрыть запретные тайны космоса. Все великие колдуны, великие мыслители и великие художники — воплощения этого прообраза.
Потрясенный этим откровением, Картер ощущал какой-то пугающий восторг и был готов преклониться перед трансцендентной сущностью, от которой он сам происходил. Мыслеволны опять стихли, и наступившее безмолвие заставило его задуматься о странных дарах, еще более странных вопросах и уж совсем странных ответах. Ему не удавалось сосредоточиться, чтобы оценить величие открывшихся ему новых перспектив. Если все поведанное ему Сущим правда, то, изменив угол сознания, он может во плоти побывать в далеких эпохах и областях Вселенной, которые прежде видел лишь во сне, но для этого надо овладеть искусством изменения угла. Поможет ли ему в этом серебряный ключ? Он ведь уже смог превратить его из мужчины, живущего в 1928 году, в мальчика из 1883 года, а потом помог выйти за пределы времени. Как ни странно, но, утратив телесную оболочку, Картер все же знал, что ключ находится у него.
Поскольку безмолвие все еще продолжалось, Рэндольф Картер обратился со своими тревогами к Сущему. Картер знал, что здесь, в предельной бездне, он в равной степени удален от любых граней своего прообраза — и с лицом человека, и неведомой твари, земнородного или родившегося на иной планете. Его снедало любопытство, и он хотел узнать о разных своих фазах, в особенности об отстоящих от 1928 года далеко во времени и пространстве, а также о тех, которые видел в сновидениях. Он не сомневался, что великий и извечный прообраз способен перенести его во плоти в любую из этих фаз, путем изменения плана его сознания, он страстно мечтал о новом чуде, и ему не терпелось побывать в загадочных и необычных уголках Вселенной, которые прежде он видел лишь фрагментарно.
Для начала он попросил Сущее помочь ему попасть в призрачный фантастический мир с пятью разноцветными солнцами, незнакомыми созвездиями и головокружительными черными скалами, в мир, где обитают похожие на тапиров существа с клешнями, высятся причудливые башни, где прорыты ведущие неизвестно куда туннели, а сверху парят цилиндры. У него было смутное ощущение, что эта планета лучше всего подойдет для переходов в другие миры, а кроме того, обосновавшись на ней, он сможет совершить путешествия на планеты, с которыми издавна торговали клешнерукие. Страха у него не было ни малейшего. Как и во всех прочих сложных ситуациях в его жизни, любопытство и в этот момент возобладало у Картера над остальными чувствами.
Его снова коснулись мыслеволны, и Картер понял, что на его просьбу ответили согласием. Сущее поведало ему о черных безднах, которые ему предстояло одолеть, о странной группе из пяти звезд, вокруг которой обращается эта планета, расположенной в другой галактике, об обитающих в норах извечных врагов клешнеруких — громадных ползающих тварях. Картеру было объяснено, как нужно повернуть план сознания, чтобы совместиться с временно-пространственными измерениями мира этой планеты, и как изменить угол, чтобы принять облик своего тамошнего клешнерукого воплощения; также важно не забывать свои символы — иначе он не сможет вернуться назад.
Картер отправил в ответ ликующе-радостный поток мыслей — его устраивало все описанное. Он догадывался, что упомянутые символы — это знаки на серебряном ключе. Однажды он уже использовал ключ для совмещения плана своего сознания с планом мира, и тот перебросил его в 1883 год. Теперь он со своими арабесками поможет ему перенестись на другую планету. Сущее уловило беспокойство его ожидания и подтвердило, что готово помочь отправиться в путь. Мыслеволны полностью стихли, и наступившее безмолвие показалось ему невыносимым.
Затем вдруг он услышал рокот, очень быстро перешедший в оглушительный грохот. Неистовая сила вновь сфокусировалась на Картере, била и кружила его в ритме неземного пространства. Он не мог сказать, похоже ли это на жар пылающей звезды или на леденящую стужу предельной бездны. Перед ним плясали, переплетались и скрещивались лучи невероятных цветов, не встречающихся ни в одном спектре Вселенной, и от стремительности перемещения у него сперло дыхание. Но тем не менее он успел на мгновение увидеть фигуру на шестиугольном пьедестале…
Глава 6
Сделав паузу в своем повествовании, индус заметил, что де Мариньи и Филлипс слушают его, не скрывая интереса. Эспинуолл делал вид, будто ему безразличны странствия Картера, а гораздо более интересуют лежащие на столе документы. Напоминающие гроб часы отсчитывали неземное время. Тиканье их стало казаться зловещим. Дым из кадильниц, которые больше никто не наполнял, густыми клубами поднимался к потолку, что в сочетании с гротесковыми фигурами на колеблющихся гобеленах вызывало тревожащее ощущение. Старик-негр, присматривавший за треножниками, исчез, возможно, он не выдержал напряжения, нараставшего здесь с каждым часом. Рассказчик, словно преодолев неуверенность, почти виновато произнес своим странным, неестественным голосом:
— Полагаю, трудно поверить в то, что я рассказывал о бездне, но я собираюсь поведать о вещах еще более странных, хотя и вполне осязаемых. Так уж устроен наш разум. Привыкшим к трехмерному миру чудеса в стране сновидений представляются совершенно непостижимыми. Не стану утомлять вас долгими описаниями — это будет иная и совсем другая история. Поведаю только то, что вам необходимо знать.
После того как на Картера обрушился яростный ураган чуждого многокрасочного ритма, он решил, что снова видит старый, часто повторявшийся сон. Он уже не раз ночами двигался вместе с когтистыми пыхтящими тварями по лабиринтам загадочных улиц со стенами из неведомого металла, озаряемых лучами разноцветных солнц; а бросив взгляд на свое тело, он убедился, что оно такое же, как у местных жителей — сочлененное как у гигантского насекомого, сморщенное и покрытое жесткой чешуей, — но в то же время в нем сохранилось карикатурное сходство с человеческой фигурой. Серебряный ключ по-прежнему был при нем, зажатый в длинной загнутой клешне.
В следующую минуту ощущение, будто он во сне, пропало, и он, напротив, почувствовал себя очнувшимся от сна. Предельная бездна, Сущее, некое существо абсурдной странной расы не родившегося еще мира, именуемое Рэндольфом Картером, — эти видения часто снились магу Зкауба с планеты Йаддит. Иногда они беспокоили его даже днем, ослабляя чары и мешая проводить магические обряды, удерживающие зловещих дхолов в их норах, и сливались порой с его реальными воспоминаниями о мириадах миров, которые он посетил в двигающихся на световых лучах капсулах. Но никогда они еще не выглядели такими реальными. Тяжелый серебряный ключ, который он держал сейчас в своей правой верхней клешне, был в точности таким, какой он видел во снах, и это не сулило ничего хорошего. Ему необходимо отдохнуть и поразмыслить, обратиться к священным таблицам Нхинг, чтобы получить от них совет. Вскарабкавшись по металлической стене тихой улочки, он оказался у себя дома и направился к полке с табличками.
Семь дней провел после этого Зкауба, перечитывая письмена, но радость и преклонение перед тайной мудростью боролись в нем с отчаянием, ибо он открыл правду и был не в силах отделаться от мучительных воспоминаний. Он навсегда лишился покоя и цельности собственного «я». Теперь двое пребывали в одном теле одновременно: Зкауба, маг с Йаддита, с отвращением думавший о земном млекопитающем Рэндольфе Картере, в которого ему опять предстоит воплотиться, и Рэндольф Картер, боящийся существа с клешнями, которым он когда-то был и вновь сделался, попав на эту планету.
Его пребывание на Йаддите само по себе заслуживает долгого и подробного рассказа, — проговорил свами; в его неестественном голосе появились хрипы, свидетельствующие об усталости. — Он много путешествовал, посетил планеты Стронти, Мтура и Кат, другие миры в двадцати восьми галактиках. Картер облетел эти галактики в двигающейся на световом луче капсуле, какими пользовались обитатели Йаддита. С помощью серебряного ключа и символов, известных магам Йаддита, он совершал путешествия на эоны в прошлое и проникал в будущее. Ему приходилось вести тяжелую борьбу с мерзостными белесыми дхолами в древних туннелях, избороздивших Йаддит. Немало дней он провел в библиотеках, изучая мудрые откровения десяти тысяч существующих и угасших миров, беседовал с лучшими умами Йаддита, в том числе и с архидревним Буо. Зкауба никому не рассказывал, что произошло с его «я», но когда на первый план выступала частица Рэндольфа Картера, она думала только о возвращении на Землю и неустанно искала способы воплощения в прежний, человеческий облик, вспоминала забытые слова человеческой речи и старалась произносить их вслух, хотя гортань клешнерукого существа для этого годилась плохо.
Частица Картера вскоре с ужасом установила, что серебряный ключ не в состоянии вернуть ей человеческое обличье. Слишком поздно догадалась она, соединив обрывки видений и сведения из манускриптов мудрецов Йаддита, что ключ, изготовленный на Земле, в Гиперборее, мог изменять лишь угол наклона плана человеческого сознания. Однако это позволяло использующему ключ лишь путешествовать во времени, не меняя своей телесной оболочки. Существовали дополнительные заклинания, значительно расширявшие возможности серебряного ключа, но об этом когда-то, в давние эры, знали на Земле, а магам с Йаддита они были неведомы. Все необходимые подсказки содержались в нерасшифрованном пергаменте, лежавшем в резной шкатулке вместе с серебряным ключом, и Картер теперь горько сетовал, что не захватил его с собой. Недостижимое теперь Сущее предупреждало о том, что ему следует хорошо помнить свои символы, полагая, что он успел их изучить.
Довольно продолжительное время он без устали старался использовать все чудовищное величие премудрости Йаддита для возвращения к бездне и всемогущему Сущему. С обретенными теперь знаниями он почти наверняка мог бы расшифровать письмена загадочного пергамента, но такие способности без самого пергамента казались горькой насмешкой. Однако порой частица Зкаубы оттесняла его из сознания, Картер забывал о Земле и успокаивался.
Проходили долгие века и тысячелетия — настолько продолжительные временные периоды не в силах осознать человеческий разум, но обитатели Йаддита по нашим меркам считались бы сверхдолгожителями. После многих революций, бунтов одной личности и подавлений их другой частица Картера в целом возобладала над частицей Зкаубы, и Картер вплотную засел за расчеты расстояния, отделяющего Йаддит от Земли, и времени, которое должно занять его возвращение. Цифры оказались поистине колоссальными — эоны световых лет! — но усвоенная Картером премудрость йаддитов дала ему возможность рассчитать все довольно точно. Кроме того, он много спускался на Землю в своих видениях и узнал о нашей планете много нового и доселе неизвестного. Однако увидеть записанное на пергаменте таким способом ему так и не удалось.
Наконец у него созрел план отчаянного побега с Йаддита, что случилось после того как он нашел зелье, способное усыплять частицу Зкаубы, не затрагивая при этом ни его воспоминаний, ни познаний. Он задумал отправиться в путешествие в двигающейся на световом луче капсуле, на какое не отважился бы ни один из обитателей Йаддита — телесно переместиться через бесчисленные эоны и необозримые просторы Вселенной к Солнечной системе и Земле.
Оказавшись на Земле, пусть даже в обличье инопланетянина с клешнями, он будет иметь возможность отыскать лист пергамента, оставленный им в машине неподалеку от Аркхема; заполучив же его, он сможет с помощью серебряного ключа вернуть себе человеческий облик.
Не забывал он и об опасностях такого дерзания. Картер знал, что, когда он совместит планетарный угол наклона с нужной эпохой (он не мог сделать это, совершая космический полет), жизнь на Йаддите подойдет к концу, на планете станут господствовать победившие дхолы и само его бегство в двигающейся на световом луче капсуле станет весьма рискованным предприятием. Кроме того, ему предстояло отключить на время долгого путешествия свое собственное существование, поскольку только так, с остановленной жизнедеятельностью, он мог выдержать бесчисленные века полета через немыслимые бездны. Он знал также, что если путешествие пройдет удачно, ему придется выработать иммунитет против земных бактерий, смертоносных для выходца с Йаддита. А на Земле ему нужно будет надежно замаскироваться под человека, пока не удастся найти пергамент и вернуть себе прежнее обличье. В противном случае он вызовет у людей ненависть и страх, и его будут пытаться уничтожить. И следовало позаботиться о запасе золота — которое, к счастью, имелось на Йаддите в изобилии, — чтобы облегчить период этих поисков.
Он без спешки готовился к осуществлению своего плана. Подготовил для путешествия особо прочную капсулу, способную выдержать невероятное перемещение во времени и пространстве. Проверил свои расчеты и неоднократно посещал в видениях Землю, намереваясь как можно точнее попасть в 1928 год. Нашел решение труднейшей задачи по отключению в себе жизнедеятельности. Открыл те бактериальные средства, которые потребуются для адаптации на Земле, и натренировал тело, чтобы оно могло переносить высокие перегрузки. Смастерил отличную восковую маску и мешковатый костюм, в которых выглядел похожим на человека, и разузнал, какими чарами можно защититься от дхолов при отлете с мертвого, угрюмого Йаддита далекого будущего. Сделал основательный запас снадобья, воспроизвести которое на Земле невозможно, погружающего частицу Зкаубы в транс и позволяющего ему пользоваться телом, и не забыл про несколько золотых слитков, чтобы на Земле не оказаться в нужде.
В день побега он все еще не был уверен, что все пройдет удачно. Но вот наконец он поднялся по ступенькам в капсулу, предупредив инопланетян, что отправляется в путешествие на тройную звезду Нитон, и забрался в узкий футляр из сверкающего металла. Места здесь едва хватало на проведение ритуала с серебряным ключом, и, уже начав его, Картер активировал левитацию капсулы. Как только он это сделал, все вокруг потемнело, и его пронзила сильнейшая боль. Показалось, будто космос закружился в хороводе и созвездия заплясали на черном небе.
Через какое-то время его чувства наконец пришли в норму. Холод межзвездных бездн царил по ту сторону тонкой стенки корабля, и Картер видел, что парит в свободном пространстве, а металлическая конструкция, по которой он поднялся в корабль, уже давно полностью проржавела. Поверхность Йаддита внизу кишела гигантскими дхолами, и когда он взглянул вниз, одно из чудищ приподнялось на семьсот футов и попыталось дотянуться до него своей белесой липкой конечностью. Но заготовленное им заклинание сработало эффективно, и в следующий момент он уже мчался, целый и невредимый, прочь с умирающего Йаддита.
Глава 7
В странной комнате новоорлеанского дома, куда старик-негр больше не возвращался, свами Чандрапутра продолжал свой рассказ, по мере чего его странный голос становился все более глухим и сиплым.
— Господа, я не требую от вас поверить мне на слово, поскольку готов представить доказательство. Пока же вы, несомненно, воспринимали все это как миф — рассказ о тысячах световых лет — многих тысячах лет во времени и бессчетных биллионах миль в пространстве, которые преодолел Рэндольф Картер в облике инопланетянина, чуждого нашему миру, в тонкостенной капсуле из электроактивного металла. Он довольно точно рассчитал, когда ему следует пробудиться, планируя сделать это за несколько лет до посадки на Земле, которая по нашему исчислению должна была случиться примерно в 1928 году.
Своего пробуждения он не забудет никогда. Припомните, господа, что до погружения в многовековой сон он в полном сознании прожил несколько земных тысячелетий в чуждом и пугающе удивительном мире планеты Йаддит. Пробудившись, сначала он ощутил зловещую стужу, развеявшую его полные мрачных видений сны, затем посмотрел через прозрачную пластину корпуса корабля. Расположение звезд, скоплений и туманностей на небе было в точности таким, какое он помнил по тем временам, когда разглядывал звездное небо Земли.
Надеюсь, когда-нибудь будет возможность рассказать о его путешествии по Солнечной системе со всеми подробностями. Он видел самые дальние планеты Кинат и Юггот, пронесся рядом с Нептуном, успев заметить на нем грибовидные белесые образования, познал непередаваемые на словах тайны, скрывающиеся под облаками Юпитера, и ужасы одной из его лун, а потом успел разглядеть развалины циклопических строений на красноватом диске Марса. Приближающаяся Земля, увеличиваясь, стала похожей на тонкий полумесяц. Он снизил скорость, хотя волнение от предстоящей встречи с родными краями делало мучительной каждую минуту приближения. Мне трудно передать все его чувства при этом, — которые он описал мне.
Картер неторопливо летел в верхнем слое земной атмосферы, дожидаясь, когда над Западным полушарием взойдет солнце. Он хотел приземлиться точно в том же месте, откуда покинул Землю — рядом со Змеиным логовом, в холмистой местности за Аркхемом. Если кому-то из вас доводилось надолго покидать свой дом, — а я знаю, что по меньшей мере одному из вас доводилось, — вы поймете, как растрогали Картера пейзажи Новой Англии с плавными очертаниями холмов, огромными вязами, запущенными садами и старыми каменными стенами.
На рассвете он совершил посадку на лужайке старой усадьбы Картеров и с благодарностью окунулся в тишину и одиночество. Как и тогда, когда он покинул Землю, стояла осень, его любимое время года, и запахи опавшей листвы на холмах пробуждали чувства в его душе. Он переместил корабль-капсулу вверх по склону холма, затащил его в Змеиное логово, но не смог протиснуть корабль в дальний грот через узкую расщелину. Затем он переоделся и скрыл лицо восковой маской. После того капсула хранилась в пещере более года, пока обстоятельства не заставили Картера перепрятать ее понадежнее.
Он пешком добрался до Аркхема, стараясь держаться прямо и двигаться наподобие человека в условиях повышенной, земной, гравитации, там он в банке обменял золото на деньги и задал несколько вопросов, выдавая себя за иностранца, плохо владеющего английским языком, и таким образом выяснил, что попал в 1930 год, то есть на два года позднее, чем рассчитывал.
Конечно же, ситуация оказалась ужасной. Он не мог открыться, кто он такой, был вынужден всегда пребывать в настороженности, приходилось питаться непривычной местной пищей, требовалось рационально использовать запас снадобья, усыпляющего частицу Зкаубы, и ко всему этому необходимо было действовать без промедления. Он отправился в Бостон и снял квартиру в одном из бедных кварталов, где и жил затем очень скромно и уединенно, но наконец до него начали доходить слухи о предстоящем разделе наследства Рэндольфа Картера. Он стал наводить справки и узнал о стремлении мистера Эспинуолла как можно быстрее осуществить раздел наследства между родственниками и о благородстве мистера де Мариньи и мистера Филлипса, противостоящих этому.
Индус сделал в их стороны легкие поклоны, но выражение его смуглого, обрамленного густой бородой лица по-прежнему оставалось непроницаемым.
— Окольными путями Картеру удалось раздобыть копию потерянного пергамента, — продолжал свами, — и он занялся его расшифровкой. Рад отметить, что в этом отношении я сумел оказать ему помощь. Едва приступив к расшифровке, он обратился ко мне и познакомился через меня с другими посвященными в тайные знания, живущими в разных концах света. Я перебрался в Бостон и поселился вместе с ним в трущобах на Чемберс-стрит. Что же касается пергамента, позвольте я сейчас разъясню ряд деталей, ставивших в тупик мистера де Мариньи. Прежде всего надо заметить, — обратился к нему индус, — что иероглифы эти не нааков, а обитателей Р’лайха, этот язык попал на Землю неимоверно давно с отродьями Ктулху, спустившимися со звезд. Конечно, это перевод, а гиперборейский оригинал появился на миллионы лет раньше и был написан на древнем языке тсат-йо.
Расшифровка оказалась намного более сложным делом, чем предполагал Картер, однако он не терял надежды. В начале этого года мы сумели заметно продвинуться благодаря одной книге, присланной из Непала. Несомненно, скоро он одолеет все трудности и завершит работу. К сожалению, в последнее время ему мешает еще одно обстоятельство — зелье, усыпляющее частицу Зкаубы, закончилось. Впрочем, опасность эта не столь велика, как могло бы показаться. Картер все еще обладает большей властью над телом, чем Зкауба, и если тот даже возобладает, то лишь на короткий срок, с каждым разом эти периоды будут уменьшаться, и к тому же он слишком одурманен, чтобы совсем уж испортить все дела Картера. Однажды он попробовал вмешаться всерьез и пытался добраться до металлической капсулы, чтобы вернуться в ней на Йаддит. После этой его попытки Картер перепрятал корабль в новый тайник, когда частица Зкаубы опять погрузилась в сон. Эта попытка, по сути, никому не причинила вреда, только напугала и наверняка навеяла кошмарные сны живущим в Вест-Энде полякам и литовцам, среди которых поползли слухи о чудовищах. Несколько раз частица Зкаубы срывала и выбрасывала маску, но мы находили ее и подправляли. Я видел это существо без маски — воистину ужасное зрелище.
Месяц назад Картер прочел в газете объявление об этой встрече и понял, что необходимо срочно спасать его имение. Он не мог ждать, пока расшифрует пергамент и примет человеческий облик. Ввиду этого он поручил мне явиться сюда и представлять его интересы.
Господа, уверяю вас, что Рэндольф Картер не умер; он временно находится в аномальном состоянии, но через два или три месяца будет способен предстать пред нами и потребует обратно свое имение. Я готов представить вам доказательства, если это необходимо. Принимая во внимание сложившиеся обстоятельства, прошу вас отложить это заседание на неопределенный срок.
Глава 8
Де Мариньи и Филлипс смотрели на индуса как загипнотизированные, тогда как Эспинуолл издал серию хмыканий и прочих невнятных звуков. Неприязнь пожилого юриста к собравшимся посвященным переросла в открытое негодование. Перестав сдерживаться, он стукнул по столу кулаком с апоплексически вздувшимися венами и заговорил отрывистым, похожим на злобный лай голосом:
— Как долго вы будете пытаться меня дурачить? Вот уже целый час я слушаю этого безумца — этого жулика, — после чего у него хватает наглости заявить, что Рэндольф Картер жив, и потребовать без каких-либо оснований отложить нашу встречу! Де Мариньи, почему бы вам не выгнать этого негодяя? Вы же не хотите, чтобы мы стали жертвами шарлатана или чокнутого?
Де Мариньи успокаивающим жестом поднял руку и негромко ответил:
— Давайте обсуждать спокойно и без спешки. Это очень необычная история, но я, как человек, достаточно сведущий в мистицизме, не считаю все это невозможным. Скажу даже более — с 1930 года я регулярно получал от свами письма, и в них уже было изложено все, что он здесь рассказал.
Он сделал паузу, и мистер Филлипс поспешил вставить слово:
— Свами Чандрапутра упомянул о доказательствах. Мне в этой истории тоже многое показалось немаловажным, и добавлю, что в последние два года, подобно мистеру де Мариньи, я состоял со свами в переписке и уже знаком в общих чертах с тем, о чем он сейчас рассказывал, хотя некоторые его заявления кажутся мне чересчур смелыми. Не будет ли с моей стороны слишком наглым попросить представить то наглядное доказательство, о котором было упомянуто?
Свами с тем же невозмутимым видом начал неторопливо извлекать что-то из кармана своего просторного пиджака и пояснял при этом:
— Хотя никто из вас не видел серебряный ключ своими глазами, мистеру де Мариньи и мистеру Филлипсу он известен по фотографиям. Кажется ли вам вот это знакомым?
Он неуклюже протянул руку в большой белой рукавице и положил на стол тяжелый ключ из потускневшего серебра, длиной около пяти дюймов, выполненный в странном, крайне экзотическом стиле и весь испещренный непонятными знаками. Де Мариньи и Филлипс уставились на него затаив дыхание.
— Это он! — воскликнул де Мариньи. — В точности такой, как на фотографии. Трудно ошибиться!
Эспинуолл без промедления возразил:
— Дураки! Разве же это доказательство? Если этот ключ действительно принадлежал моему кузену, то пусть этот иностранец — этот чертов негр — объяснит, как он его заполучил! Рэндольф Картер исчез вместе с ключом четыре года назад. Нам неизвестно, может, его ограбили и убили? Он сам был почти безумным и общался со всякими психами. Послушай, черномазый, где ты взял этот ключ? Ты убил Рэндольфа Картера?
На лице свами, по-прежнему безмятежном, не дрогнул ни один мускул, но черные глаза без радужной оболочки недобро сверкнули. Он, похоже, сделал над собой усилие, чтобы заговорить.
— Пожалуйста, держите себя в руках, мистер Эспинуолл. Я могу доказать, что он действует, как и описывалось, но, боюсь, это скажется на всех присутствующих. Давайте будем разумными. Вот записи, сделанные Рэндольфом Картером после возвращения в 1930 году, — вы можете признать это по весьма характерным особенностям.
Он извлек из внутреннего кармана своего костюма длинный конверт и передал его разгневанному адвокату; де Мариньи и Филлипс взирали на это с растерянностью и восторгом, как наблюдают за сверхъестественным чудом.
— Конечно, сам почерк нелегко разобрать, но следует помнить, что сейчас руки у Рэндольфа Картера плохо приспособлены для письма на манер людей.
Эспинуолл торопливо пролистал бумаги и заметно смутился, но его решительный настрой не пропал. Напряженность в комнате словно бы усилилась, а неземной ритм напоминающих гроб часов стал казаться де Мариньи и Филлипсу демоническим, тогда как адвокат, похоже, не обращал на него внимания.
— Это выглядит как искусная подделка, — заявил он. — Если же они подлинные, то возможно, что Рэндольфа Картера похитили и он в полной власти каких-то злоумышленников. В обоих случаях нам следует немедленно арестовать этого шарлатана. Вы позвоните в полицию, де Мариньи?
— Давайте обсуждать спокойно и без спешки, — повторил смотритель дома. — Не думаю, что есть реальный повод для обращения в полицию. У меня есть другая идея. Мистер Эспинуолл, этот джентльмен имеет репутацию посвященного в тайные знания. По его словам, он доверенное лицо Рэндольфа Картера. Удовлетворит ли вас, если он ответит на несколько вопросов, имеющих отношение к событиям, неизвестным посторонним? Я хорошо знал Картера и смогу задать такие вопросы. Сейчас я схожу за одной книгой, которая как раз подходит для такой проверки.
Он направился к двери библиотеки, а Филлипс, ошеломленный, не вполне сознающий свои действия, последовал за ним. Эспинуолл остался на месте и продолжал рассматривать индуса, лицо которого оставалось по-прежнему невозмутимым. Когда Чандрапутра бестактно засунул серебряный ключ обратно себе в карман, юрист внезапно воскликнул:
— Боже мой, я наконец-то понял! Этот мерзавец наряжен так, чтобы его не узнали. Думаю даже, что он вовсе и не индус. Это лицо… это не лицо, а маска! Он сам же, своей историей, подсказал мне эту мысль. Лицо у него всегда неподвижно, а борода и тюрбан закрывают его края. Этот тип — обычный мошенник. И вовсе никакой он не иностранец — судя по тому, как правильно он говорит. Какой-нибудь янки, не иначе. А эти рукавицы — он просто старается не оставить отпечатков пальцев. Черт побери, я сорву с него эту…
— Стойте! — Хриплый, необычно чужеродный голос свами мог бы сейчас вызвать испуг. — Я говорил вам, что у меня есть другое доказательство, которым я могу воспользоваться в случае необходимости, и предупреждал, чтобы меня не провоцировали. Этот сутяга с покрасневшим лицом прав: я на самом деле не индус. Это маска, и скрывает она не человеческое лицо. Другие присутствующие уже догадались об этом — несколько минут назад я почувствовал, что они все поняли. Вам очень не понравится то, что вы увидите, если снять ее, — так что лучше ее не трогать. Эрнст, могу признаться тебе: я — Рэндольф Картер.
Все замерли. Де Мариньи и Филлипс, застывшие у двери, наблюдали за выражением побагровевшего лица Эспинуолла, тогда как фигура в тюрбане была видна им со спины. Безумное тиканье часов сделалось невыносимым, а клубы дыма от треножников и раскачивающиеся гобелены закружились в смертельном танце. Эспинуолл, у которого едва не сперло дыхание, прервал молчание:
— Нет, ловкач, меня не проведешь! У тебя есть какие-то причины не снимать маску. Возможно, мы тебя сразу узнаем. Так давайте же…
Когда он протянул руку, свами перехватил ее своей конечностью в белой рукавице, вызвав вскрик от боли и удивления. Де Мариньи бросился было к ним, но замер, когда протестующий выкрик лжеиндуса сменился необъяснимым рокотом. Багровое лицо Эспинуолла исказила ярость, и он свободной рукой вцепился противнику в бороду. На сей раз его попытка оказалась более успешной, и после безумного рывка восковая маска выбилась из-под тюрбана и оказалась зажата в кулаке юриста.
Эспинуолл издал крик, перешедший в какое-то булькание, и Филлипс с де Мариньи увидели, что его лицо затряслось в конвульсиях и исказилось выражением такой паники, с какой они никогда прежде не встречались. Лжесвами тем временем отпустил его руку и стоял словно ошеломленный, продолжая странно гудеть. Затем фигура в тюрбане сменила позу, почти утратив человеческие очертания, и стала неуклюже передвигаться к напоминающим гроб часам, привычно отмеряющим странный ритм космического времени. Ее лицо, не скрытое теперь маской, было повернуто так, что де Мариньи и Филлипс не могли увидеть, что же повергло юриста в такой ужас. Когда они обратили взгляды на Эспинуолла, тот тяжело опускался на пол. Это заставило их вырваться из оцепенения, но когда они подбежали к старику, тот был уже мертв.
Повернувшись затем к спине неуклюже удаляющегося свами, де Мариньи заметил, что одна из белых рукавиц почти сползла с его руки. Все, что удалось ему разглядеть через густые клубы дыма, это что-то вытянутое и черное на месте открывшейся кисти. Креол хотел было броситься к странному пришельцу, но мистер Филлипс остановил его, схватив за плечо.
— Не делайте этого, — прошептал он. — Неизвестно, к чему это приведет. Вспомните о его другой частице, о маге Зкауба с Йаддита…
Фигура в тюрбане добралась до стенной ниши с часами, и они различили сквозь пелену дыма, как черные клешни неловко ощупывают высокую дверцу, расписанную иероглифами. Затем до них донесся резкий щелчок. Фигура вошла в напоминающий гроб корпус часов и захлопнула его за собой.
Теперь де Мариньи больше никто не сдерживал, но когда он подбежал к часам и открыл их, там никого не было. Странное тиканье продолжалось, отбивая мрачный космический ритм, который сопровождает любое мистическое открытие врат. На полу комнаты валялась большая белая рукавица, а мертвец рядом со столом сжимал в руке маску с фальшивой бородой, — никаких других следов не осталось.
Прошел год, но по-прежнему никто ничего не слышал о Рэндольфе Картере. Вопрос о его наследстве так и остался нерешенным. По тому бостонскому адресу, который значился на конвертах старых писем, отправленных свами Чандрапутрой разным посвященным в тайные знания, соседи по дому подтвердили, что в 1930–1932 годах здесь действительно проживал странный индус, но после поездки в Новый Орлеан он не возвращался, и больше его никто не видел. По словам соседей, он был смуглым, с неподвижным, словно бы застывшим лицом и носил бороду, и когда домовладельцу показали оставшуюся маску, он признал ее похожей на лицо этого индуса. Последнего, впрочем, никогда не подозревали в связи с привидениями, о которых ходили слухи среди проживавших в этом районе славян. Несколько экспедиций отправлялись в холмистую местность за Аркхемом на поиски «металлической капсулы», но ничего похожего найти не удалось. А вот служащий Первого Национального банка в Аркхеме хорошо запомнил чудаковатого человека в тюрбане, обменявшего в октябре 1930 года золотой слиток на наличные.
Де Мариньи и Филлипс не знали, что делать, и пребывали в растерянности. В конце концов, какие у них были реальные доказательства?
Они выслушали рассказ. Они видели ключ, но его мог сделать кто-нибудь по одной из фотографий, разосланных Картером в 1928 году. Документы не вызывали доверия. Они видели незнакомца в маске, но никто из оставшихся в живых не видел, что же скрывалось за маской. После долгой беседы и в клубах дыма от благовоний им обоим могло померещиться, будто человек исчез в корпусе часов, — они могли стать жертвой двойной галлюцинации. Индусы ведь известные мастера гипноза. Логика подсказывала: свами — преступник, который хотел завладеть имением Рэндольфа Картера. Однако вскрытие показало, что Эспинуолл умер в результате нервного потрясения. Было ли оно вызвано только вспышкой гнева? Да и прочие подробности этой истории…
Сиживая в просторной комнате, украшенной причудливыми гобеленами и пропитанной запахом ароматических смол, Этьен-Лоран де Мариньи часто с волнением вслушивается в безумный ритм тиканья расписанных иероглифами часов, напоминающих гроб.
ДАГОН
Я пишу эти слова в состоянии понятного умственного напряжения, ибо сегодня вечером меня не будет в живых. Оставшийся без гроша, и даже без крохи зелья, которое одно делает мою жизнь терпимой, я не могу более переносить это мучение и скоро выброшусь из чердачного окна на нищую мостовую. И если я раб морфия, не надо считать меня слабаком или дегенератом. Прочитав эти торопливо набросанные строки, вы можете догадаться, хотя, наверное, никогда полностью не поймете, почему я добиваюсь забвения или смерти.
Случилось, что посреди одной из наиболее открытых и редко посещаемых частей широкого Тихого океана пакетбот, на котором я был суперкарго, пал жертвой германского рейдера. Великая война была тогда в самом начале, и океанский флот гуннов еще не успел достичь тех глубин падения, к которым ему суждено было опуститься потом; поэтому наше судно было объявлено законным призом, а к экипажу отнеслись с теми справедливостью и вниманием, которых требовало наше положение военнопленных. Победители установили на борту настолько либеральные порядки, что через пять дней после захвата я сумел ускользнуть в небольшой шлюпчонке, захватив с собой достаточное количество воды и провизии.
Оказавшись наконец на воде и в полной свободе, я не имел особо точного представления о том, где нахожусь. Не будучи компетентным навигатором, я мог только догадываться по солнцу и звездам, что нахожусь к югу от экватора. Долгота известна мне не была, а островов или берегов вблизи не было видно. Погода была ясной, и несчетные дни я бесцельно дрейфовал под обжигающим солнцем, ожидая, пока меня подберет проходящий корабль либо прибьет к берегам какой-нибудь населенной земли. Однако не появлялось ни корабля, ни земли, и я уже начал отчаиваться, оставаясь в уединении на неторопливо вздыхающем синем просторе.
Перемена произошла, пока я спал. Подробности ее так и остались неведомыми для меня, ибо мой сон, хотя и тревожный и полный сновидений, так и не прервался.
Когда я наконец пробудился, оказалось что меня засасывает в адски черную, полную слизи лужу, монотонно колыхавшуюся во все стороны от меня, куда достигал взгляд, a лодка моя лежала на ней как на суше неподалеку.
Хотя можно подумать, что моим первым ощущением при виде столь неожиданного и огромного преображения окрестностей должно было стать удивление, на самом деле я скорее пребывал в ужасе, чем был удивлен, ибо в воздухе и в гнилой почве присутствовало нечто зловещее, пробравшее меня до глубины души. Вокруг валялись гниющие мертвые рыбины, а посреди отвратительной грязи бесконечной равнины торчали и менее понятные останки. Возможно, не стоит и пытаться передать простыми словами ту неизреченную мерзость, которая обитала в этом абсолютно безмолвном и бесплодном просторе. Слух не улавливал звуков, a зрение — ничего иного, кроме бесконечной черной грязи со всех сторон; и все же сама полнота тишины и однородность ландшафта вселяли в меня тошнотворный страх.
Солнце пылало на небесах, уже казавшихся мне черными в своей безоблачной жестокости и словно бы отражавшихся в чернильной болотине под ногами. Перебравшись в оказавшуюся как бы на суше лодку, я подумал, что положение мое способна объяснить лишь одна теория. Какой-то беспрецедентный вулканический выброс вынес на поверхность часть океанского дна, обнажив область его, которая в течение бесчисленных миллионов лет оставалась скрытой в неизмеримых водяных глубинах. И настолько велика была сия поднявшаяся подо мной земля, что, усердно напрягая слух, я никак не мог уловить даже слабого отзвука доносящихся издалека рокочущих океанских волн. Не было видно и чаек, охотящихся за мертвечиной.
Несколько часов я сидел в лодке, лежавшей на боку и дающей некоторую тень по мере того, как солнце ползло по небу. С течением времени почва потеряла долю своей липкости и достаточно подсохла, чтобы по ней можно было пройти. В ту ночь я спал немного и на следующий день приготовил себе поклажу из пищи и воды, собираясь в сухопутное путешествие в поисках исчезнувшего моря и возможного спасения.
На третье утро я обнаружил, что почва высохла настолько, что по ней можно идти без труда. От рыбной вони можно было сойти с ума; но я был озабочен вещами куда более серьезными, чтобы обращать внимание на столь мелкое зло, и потому отправился к неведомой цели. Весь день я упорно шагал на запад, в сторону пригорка, казавшегося выше прочих на гладкой равнине. Ночь я провел под открытым небом, a на следующий день все еще шел в сторону пригорка, и цель моего пути едва ли казалась ближе, чем когда я впервые заметил ее. На четвертый вечер я приблизился к основанию холма, оказавшегося много выше, чем это казалось мне издали, и отделявшая меня от него долинка еще резче выделяла бугор на ровной поверхности. Слишком усталый для восхождения, я задремал в тени его.
Не знаю, почему сны мои в ту ночь оказались настолько бурными; но прежде чем фантастический лик убывающей горбатой луны восстал над восточной равниной, я пробудился в холодном поту, решив не смыкать более глаз. Тех видений, что я только что пережил, было для меня довольно. И в свете луны я понял, насколько неразумным было мое решение путешествовать днем.
Без обжигающих лучей солнца путь не стоил бы мне таких затрат энергии; в самом деле, я уже чувствовал в себе достаточно сил, чтобы решиться на устрашавший меня на закате подъем. Подобрав пожитки, я направился к гребню возвышенности.
Я уже говорил о том, что ничем не прерывавшаяся гладь монотонной равнины вселяла в меня непонятный ужас; однако кошмар этот сделался еще более тяжким, когда, поднявшись на вершину холма, я увидел по ту сторону его неизмеримую пропасть, каньон, в чьи темные недра не могли проникнуть лучи еще невысоко поднявшейся луны. Мне казалось, что я очутился на самом краю мира, что заглядываю за край бездонного хаоса и вечной ночи. В ужасе припоминал я уместные строки «Потерянного рая»[11], повествующие о жутком подъеме Сатаны через бесформенные области тьмы.
Когда луна поднялась на небе повыше, я увидел, что склоны долины оказались не столь отвесными, как мне только что привиделось. Карнизы и выступы скал предоставляли достаточную опору для ног, и когда я спустился на несколько сотен футов, обрыв превратился в весьма пологий откос. Повинуясь порыву, истоки которого я положительно не могу определить, я не без труда спустился с камней на ровный склон под ними, заглядывая в стигийские бездны, куда еще не проникал свет.
И тут вдруг мое внимание приковал к себе громадный и одинокий объект, круто выраставший на противоположном склоне передо мной; объект, блеснувший белым светом под только что нисшедшими к нему лучами восходящей луны. Я скоро уверил себя в том, что вижу всего лишь громадный камень, но при этом осознавал, что очертания и положение его едва ли были делом рук одной только Природы. Более близкое исследование наполнило меня ощущениями, которые невозможно выразить; ибо несмотря на огромный размер и положение в пропасти, разверзшейся на дне моря в те времена, когда мир был еще молод, я без доли сомнения понимал, что вижу перед собой обработанный монолит, над боками которого потрудились руки мастеров; камень, быть может, знавший поклонение живых и разумных существ.
Потрясенный и испуганный и все же на самую каплю наполненный восторгом исследователя-археолога, я огляделся уже повнимательнее. Призрачный свет луны, теперь стоявшей почти в зените, падал на крутые стены, заключавшие между собой пропасть, открывая тот факт, что по дну ее в обе стороны от моих ног, едва не касаясь их, простирался широкий водоем. На той стороне пропасти мелкие волны омывали подножие циклопического монумента, на поверхности которого я теперь мог различить надписи и примитивные скульптурки. Письмена были выполнены неизвестными мне иероглифами, непохожими на все, что случалось мне видеть в книгах; в основном они изображали некие обобщенные символы моря: рыб, угрей, осьминогов, ракообразных, моллюсков, китов и тому подобное. Несколько знаков, очевидно, изображали неизвестных современному человеку морских тварей, чьи разлагающиеся тела видел я на поднявшейся из океана равнине.
Однако более всего меня заворожили высеченные на камне рисунки. Ясно видимые за разделявшим нас водоемом благодаря своей колоссальной величине, располагались барельефы, темы которых были способны породить зависть Доре[12]. Думается, что эти фигуры должны были изобразить людей — во всяком случае, некую разновидность людей; хотя существа эти были изображены резвящимися как рыбы в водах какого-то морского грота или же поклоняющимися какому-то монолиту, также как будто бы находившемуся под волнами. O лицах и очертаниях их не стану рассказывать, ибо меня мутит от одного воспоминания. Гротескные силуэты, превышающие возможности воображения Эдгара По или Бульвер-Литтона, мерзостно напоминали людей, невзирая на перепонки на руках и ногах, неприятно широкие и дряблые губы, стеклянистые выпуклые глаза и прочие черты, еще менее приятные для памяти. Забавно, однако, что они были изображены без соблюдения пропорций с их окружением, ибо одно из созданий на рельефе убивало кита, изображенного всего лишь чуть более крупным, чем эта самая тварь. Отметив, как я уже сказал, гротескный облик и странную величину этих существ, я немедленно решил, что вижу перед собой воображаемых богов племени неких примитивных рыболовов и мореходов, принадлежавших к племени, последний потомок которого сгинул за эры до появления на свет первого из предков пильтдаунского или неандертальского человека. Потрясенный неожиданным откровением, выходящим за рамки воображения самого отважного из антропологов, я стоял, размышляя, а луна рассыпала странные отблески на воды лежавшего предо мной безмолвного протока.
И тут я внезапно увидел — это. Оставив лишь легкое кружение на воде, тварь поднялась над темными водами. Огромная, как Полифем, и мерзкая, явившимся из кошмара чудовищем она ринулась к монолиту, обхватила его гигантскими чешуйчатыми руками и, склонив к камню жуткую голову, принялась издавать какие-то размеренные звуки. Тут я и расстался с рассудком.
Я мало что помню о своем отчаянном подъеме по склону и по утесу, и о прошедшем в лихорадочном возбуждении возвращении к оставленной шлюпке. Кажется, я много пел, а когда не мог петь, хохотал, как безумный. Смутно помню великий шторм, разразившийся через некоторое время после того, как я добрался до лодки; во всяком случае, точно знаю, что слышал громовые раскаты и прочие звуки, которые Природа производит лишь пребывая в самом бурном настроении.
Выбрался я из забвенья только в госпитале — в Сан-Франциско, — куда меня доставил капитан американского корабля, обнаруживший мое суденышко посреди моря-океана. Пребывая в болезненном возбуждении, я говорил много, однако понял, что на мои слова никто не обращает внимания. Спасители мои слыхом не слыхали о том, чтобы в Тихом океане понималась со дна какая-то суша, да и сам я не считал необходимым настаивать на факте, в который они просто не могли поверить. После я разыскал прославленного этнолога и изумил его странными вопросами, касающимися древней филистимской легенды о Дагоне, Боге-Рыбе; но вскоре, поняв, что собеседник мой безнадежно банален, не стал рассказывать о своем открытии.
Именно ночью, особенно когда горбатая луна убывает, я вижу эту тварь. Я пробовал морфий; увы, наркотик дарует лишь временное облегчение, но тем не менее он уже сделал меня своим безнадежным рабом. И теперь я намереваюсь покончить с этим, оставив полный отчет для информации или увеселения своих собратьев-людей. Часто я спрашиваю себя о том, не было ли это событие чистым фантазмом… болезненным видением, порожденным лихорадкой, пока я лежал в забытьи, рожденным солнечным ударом и бредом в открытой лодке после бегства с немецкого военного корабля. Так я спрашиваю себя, однако ответом на вопрос всегда является отвратительное и яркое видение. Я не могу представить себе открытого моря, не поежившись при мысли о тех безымянных тварях, которые в этот самый момент могут ползать и рыться на его илистом дне, почитая своих древних каменных идолов и высекая собственные отвратительные подобия на подводных обелисках из омытого водой гранита. И мне все мнится тот день, когда они восстанут над прибрежными бурунами, чтобы унести в своих вонючих когтях остатки ничтожного, утомленного войной человечества, — тот день, когда потонет суша, а мрачное океанское дно восстанет посреди вселенского пандемониума.
Конец близок. Я слышу шум возле двери, какое-то склизкое тело всей своей тушей наваливается на нее. Тварь отыщет меня. Боже, какая ручища! Окно! Окно!
УСЫПАЛЬНИЦА
Принимая во внимание обстоятельства, которые привели к моему заточению в этом приюте для умалишенных и само мое пребывание здесь, я вполне сознаю, что достоверность моего рассказа может вызвать естественные сомнения. Как ни печально, умственные представления большинства людей слишком ограниченны для того, чтобы разумно и терпеливо оценить те отдельные явления, которые лежат за пределами повседневного опыта и которые способны увидеть или ощутить лишь немногие психологически восприимчивые люди. Хотя человеку с широкими взглядами известно, что не существует четкого различия между реальным и нереальным, что все существующее представляется таким как есть лишь благодаря тонким индивидуальным умственным и физическим особенностям, посредством которых мы воспринимаем его, прозаическое большинство считает безумием проблески озарения, проникающие сквозь грубую завесу банального эмпиризма.
Мое имя Джервас Дадли. С самого детства я был мечтателем и фантазером. Достаток семьи позволял мне не заниматься доходной деятельностью, а неуравновешенность характера не содействовала регулярным занятиям и отдыху в обществе знакомых. Я пребывал в сферах, далеких от реального мира, юность и молодость моя прошли за чтением старинных и редких книг, в странствиях по полям и рощам близ нашей родовой усадьбы. Не думаю, что я находил в этих книгах или видел в полях и рощах совершенно то же, что видели или находили другие, но не стану распространяться об этом, поскольку подробный рассказ лишь послужит подтверждением грубой клеветы на мой разум, клеветы, которую мне не раз доводилось слышать в опасливом перешептывании здешних служителей. Мне достаточно излагать события, не анализируя их причин.
Как уже было сказано, я пребывал вдали от реального мира, но это не значит, что я существовал один. Так жить никому не под силу, и лишенный сообщества живых неизбежно находит себе компанию из не живущих более или из предметов неодушевленных.
Неподалеку от нашего дома находилась поросшая лесом лощина. Там, в тенистых зарослях, я проводил почти все время, — то читая, то предаваясь размышлениям и мечтам. По ее мшистым склонам я делал первые детские шаги, вокруг ее покрытых причудливыми наростами дубов сплетались мои мальчишеские фантазии. Я знал живших в этих деревьях дриад и не раз наблюдал их исступленные пляски в пробивающихся лучах тусклой луны… но об этом я не стану сейчас говорить. Я расскажу лишь об одинокой гробнице в самых темных зарослях — о заброшенной гробнице старинного благородного семейства Хайдов, последний прямой представитель которого упокоился в этом темном обиталище за много десятилетий до моего рождения.
Усыпальница, о которой я веду речь, была сооружена из гранита, выветрившегося и выцветшего под воздействием туманов и сырости. Она была вырублена в горе, так что на поверхности виднелся лишь портал. Тяжелая каменная дверь — плита, висевшая на ржавых железных петлях, — преграждала вход. Дверь была затворена неплотно — в этом угадывалось нечто зловещее — и заперта на тяжелые железные цепи с отвратительного вида висячими замками, бывшими в ходу около полувека назад. Усадьба рода, отпрыски которого лежали здесь, некогда венчала тот самый склон, в глубину которого уходила гробница, но уже много лет назад она пала жертвой пламени, вспыхнувшего от удара молнии. О полуночной буре, разрушившей мрачный особняк, иногда, понизив голос, со страхом рассказывали старожилы здешних мест, глухо намекая на то, что они называли «божьим гневом». Но очарование скрытой под сенью леса усыпальницы, всегда пленявшее меня, от этого лишь усиливалось. Пожар унес жизнь только одного человека. Семейство Хайдов перебралось в другую страну, и когда здесь, под сенью тишины и тени, должен был упокоиться последний из рода Хайдов, скорбную урну с его прахом доставили издалека. Здесь некому было положить цветы перед гранитным порталом, и редко кто отваживался пройти мимо гробницы, в печальной тени, которая, казалось, странным образом задерживалась на отполированном водой камне.
Никогда не забуду вечера, когда я впервые набрел на почти скрытую зарослями обитель смерти. Стоял июль — время, когда алхимия лета преображает лес в сливающуюся воедино яркую массу зелени, когда кружится голова от запахов пульсирующего моря влажной листвы и неопределимых ароматов земли и плодов, когда перестаешь видеть мир в истинном свете, время и пространство становятся пустыми словами, а эхо давно минувших времен настойчиво звучит в очарованном сознании.
Целый день я бродил по таинственным рощам лощины, обдумывая то, что нет нужды обсуждать, беседуя с теми, кого нет нужды называть. В свои десять лет я видел и слышал много чудесного, недоступного другим, и в некоторых отношениях был на удивление взрослым. Когда, пробираясь между густых зарослей шиповника, я вдруг нашел вход в усыпальницу, то не имел ни малейшего представления о том, что обнаружил. Темные гранитные плиты, странно приоткрытая дверь, траурные барельефы над аркой не пробудили во мне ни печальных, ни пугающих ассоциаций. О могилах и гробницах я много знал и много фантазировал, но, принимая во внимание особенности моего характера, родители оберегали меня от прямого соприкосновения с кладбищами и погостами. Удивительное каменное сооружение на поросшем лесом склоне лишь возбудило мое любопытство, так как его холодное влажное нутро, куда я тщетно пытался заглянуть сквозь дразнящую щель, не связывалось у меня со смертью и разложением. Вдруг любопытство сменилось диким, безрассудным желанием, которое и привело меня в это заключение, в этот ад. Повинуясь голосу, который шел, должно быть, из самой жуткой глубины леса, я решил проникнуть в манящую тьму, несмотря на преграждавшие путь тяжелые цепи. В угасающем свете дня я гремел их ржавыми звеньями, пытаясь пошире открыть каменную дверь, потом пробовал протиснуться в щель; но ни то ни другое мне не удалось. И если поначалу меня снедало простое любопытство, то тут я пришел в неистовство; в сумерках вернувшись домой, я поклялся сотне богов этой рощи, что любой ценой когда-нибудь окажусь в черных холодных глубинах, которые, казалось, призывали меня.
Доктор с седоватой бородкой, который ежедневно появляется в моей комнате, однажды сказал тому, кто навещал меня, что это решение знаменовало начало достойной сожаления мономании; но вынесение окончательного приговора я предоставляю моим читателям — после того как они узнают обо всем.
Месяцы, последовавшие за моим открытием, прошли в тщетных попытках взломать сложный замок чуть приоткрытой усыпальницы и в осторожных расспросах о характере и истории обнаруженного мною сооружения. Дети, как правило, имеют обыкновение прислушиваться к разговорам, таким образом я многое узнал, но привычка к скрытности не позволила мне ни с кем поделиться ни своим открытием, ни принятым решением. Наверное, следует упомянуть, что я не был ни удивлен, ни испуган, узнав об истинном назначении усыпальницы. В моих довольно своеобразных представлениях о жизни и смерти холодный прах и живое, трепещущее тело были связаны довольно слабо; я просто чувствовал, что злополучное благородное семейство каким-то образом представлено в одетом камнем пространстве, которое я стремился исследовать. Невнятные толки о таинственных ритуалах и нечестивых празднествах прошлых лет, которые совершались в старинной усадьбе, лишь усилили мой интерес к гробнице, и я ежедневно просиживал часами перед ее порталом. Однажды я просунул свечу в узкую дверную щель, но не увидел ничего, кроме сырых каменных ступеней ведущей вниз лестницы. Запах усыпальницы и отпугивал, и околдовывал меня. Казалось, он знаком мне, знаком с давних, за пределами воспоминаний, времен, предшествовавших моему воплощению в теперешнем теле.
На следующий после моего открытия гробницы год я случайно наткнулся на старый, заплесневелый том перевода «Жизнеописаний» Плутарха на забитом книгами чердаке собственного дома. Читая жизнеописание Тезея, я поразился рассказу об огромном камне, под которым юный герой должен был найти знамения своей судьбы, как только станет достаточно взрослым, чтобы поднять такую тяжесть. Эта легенда умерила мое страстное желание проникнуть в усыпальницу, внушив мне, что время еще не пришло. Позже, сказал я себе, став сильнее и хитроумнее, я без труда открою тяжелую, запертую на цепь дверь, а пока надо покориться велению Судьбы.
Таким образом, мои бдения около поросшего мхами портала стали реже, но большую часть времени я проводил в не менее странных занятиях. Иногда я потихоньку вставал по ночам и украдкой выбирался на прогулки по тем самым кладбищам и погостам, от которых оберегали меня родители. Что там делалось, я не буду рассказывать, потому что теперь не совсем уверен в реальности происходившего; но я помню, как после таких ночных прогулок я часто удивлял окружающих знанием подробностей, не сохранившихся в памяти поколений. Однажды я поразил домашних необычным рассказом о похоронах известного сквайра Брустера, влиятельного в наших местах и богатого человека, умершего в 1711 году; его надгробный памятник из серого с синеватым отливом сланца, на котором были выбиты череп и скрещенные кости, с течением времени понемногу рассыпался в пыль. В порыве детской фантазии я объявил, что владелец похоронной конторы, Гудмен Симпсон, украл башмаки с серебряными пряжками, шелковую одежду и атласное белье покойника, и добавил, что сам сквайр, которого не совсем покинула жизнь, дважды перевернулся в зарытом в землю гробу на следующий день после погребения.
Мысль о том, чтобы проникнуть в гробницу, не оставляла меня; неожиданно сделанное генеалогическое открытие — по материнской линии мои предки были в отдаленном родстве с Хайдами, род которых, как считалось, пресекся, — лишь укрепило мою решимость. Я оказался последним потомком не только отцовского рода, но также и этого, более древнего и более таинственного. Я начал ощущать, что эта гробница моя, и с нетерпением ждал, когда наконец, открыв дверь, смогу оказаться внутри и сойти по скользким каменным ступеням во тьму. У меня создалась привычка внимательно прислушиваться, сидя у приоткрытой двери, я выбирал для этих странных бдений тихую полуночную пору. С годами мне удалось расчистить небольшую прогалину в зарослях перед замшелым каменным порталом на склоне холма, а ветви росших вокруг деревьев переплелись, образовав стены и купол лесного шатра. Этот шатер был моим храмом, закрытая дверь — святыней, и часто, когда я лежал там, растянувшись на мшистой земле, меня посещали удивительные мысли и удивительные грезы.
Ночь, когда я совершил первое открытие, была душной. Очевидно, я задремал и, пробуждаясь, ясно услышал голоса. Их тон и произношение удержали меня от того, чтобы заговорить; их тембр заставил меня промолчать; могу поручиться, что лексика, манера говорить и сами высказывания разительно отличались от современных. Все особенности новоанглийского диалекта — и четкая риторика полувековой давности, и характерное неблагозвучное произношение колонистов-пуритан, казалось, были представлены в этой беседе теней, хотя это я осознал только впоследствии. А в тот момент мое внимание привлекло совсем другое явление, настолько мимолетное, что я не поручился бы за его реальность. Просыпаясь, я увидел, как мелькнул и тут же погас свет внутри забытой гробницы. Это не вызвало у меня ни удивления, ни испуга, но я убежден, что в ту ночь я коренным образом и навсегда переменился. Вернувшись домой, я поднялся на чердак, уверенно направился к полусгнившему сундуку и обнаружил там ключ. На следующий день я легко отпер дверь, которую так долго и напрасно старался открыть. В мягких сумерках я в первый раз проник в усыпальницу на давно опустевшем склоне. Я был точно околдован, сердце колотилось, я ощущал неописуемое ликование. Закрыв дверь, я стал спускаться по ступеням, как будто давно их знал; свеча то и дело мигала в удушливых испарениях, но я чувствовал себя в этом затхлом склепе как дома. Оглядевшись вокруг, я увидел множество мраморных плит с гробами или остатками гробов. Некоторые были закрыты и совершенно целы, другие почти рассыпались, и их серебряные ручки и накладки валялись среди странных кучек беловатой пыли. На одной из серебряных пластин я прочел имя сэра Джеффри Хайда, приехавшего из Сассекса в 1640 году и умершего несколькими годами позже. В глубине просторной ниши стоял прекрасно сохранившийся гроб, украшенный только пластинкой с именем — именем, заставившим меня и улыбнуться, и вздрогнуть. Повинуясь странному импульсу, я влез на широкую плиту, погасил свечу и улегся в него. На раннем рассвете я, пошатываясь, вышел из усыпальницы и запер дверь на цепь. Юность моя закончилась, хотя всего двадцать один раз зимние холода успели проморозить мое бренное тело. Жители деревни, рано начинавшие день, бросали на меня любопытные взгляды, удивляясь следам якобы бурной пирушки на лице юноши, который, как им было известно, вел уединенную и воздержанную жизнь. Перед родителями я решился предстать лишь после долгого освежающего сна.
С тех пор гробница служила мне убежищем каждую ночь. Не стану рассказывать о том, что я видел, слышал и делал. В первую очередь изменения произошли в моей речи, на которой всегда сказывалось влияние окружения, и появившаяся в ней архаичность вскоре была замечена. Неожиданно для себя я сделался на диво дерзким и безрассудным. Изменились манеры, я стал вести себя как светский человек, несмотря на то что жил всю жизнь отшельником. Прежняя замкнутость сменилась разговорчивостью, мне стало доступно и легкое изящество речи Честерфилда[13], и нечестивый цинизм Рочестера[14]. Я проявлял удивительную эрудицию, не имевшую ничего общего с чуть ли не монашеской образованностью, приобретенной мною в юности; я покрывал форзацы своих книг импровизированными легкими эпиграммами в духе Гея и Прайора[15]. Однажды за завтраком я сам приблизил катастрофу, вдохновенно продекламировав — с интонациями явно подвыпившего человека — стихотворение XVIII века, эпохи короля Георга, игривую застольную песнь, полную вакхического веселья, которой не найти ни в одной книге, и звучавшую примерно так:
Мы эля в тяжелые чаши нальем И выпьем за то, что пока мы живем; Пускай громоздится в тарелке еда — Поесть и напиться мы рады всегда. Подставь же стакан! Жизнь так коротка. За гробом не выпьешь уже ни глотка! Был красен от выпивки Анакреон, Но счастлив и весел при этом был он. Пусть буду я красным, но все же живым, Чем белым, как мрамор, и столь же немым! Эй, Бетти, друг мой! Целуйся со мной! В аду не найти мне подружки такой! Красавчика Гарри держите, не то, Парик потеряв, упадет он под стол! А сами наполним мы кубки опять, Все ж лучше под лавкой, чем в яме, лежать! Здесь смех и вино, Веселья полно; В могиле тебе недоступно оно. Черт, как я надрался! Шагнуть не могу, Стоять не могу, и язык — ни гу-гу! Хозяин, порядок пора навести! До дома попробую я добрести. Кто мне бы помог? Не чувствую ног, Но весел, пока не прибрал меня Бог![16]Примерно в это же время я стал бояться огня и молний. Прежде они не производили на меня никакого впечатления, теперь же я испытывал перед ними непреодолимый ужас и спасался в самых укромных уголках, как только на небе разворачивалась грозовая панорама. Излюбленным убежищем мне служил разрушенный подвал сгоревшего в огне особняка Хайдов — сидя в нем, я старался вообразить, каким было это здание прежде. И однажды поразил одного из окрестных жителей, безошибочно указав ему вход в неглубокий нижний подвал, о котором я, как выяснилось, знал, несмотря на то что о его существовании многие годы никто не вспоминал.
Наконец произошло то, чего я давно опасался. Мои родители, встревоженные переменами в манерах и облике единственного сына, из самых благих побуждений учредили слежку за моими передвижениями, и это грозило катастрофой. Я никому не рассказывал о посещении гробницы, с детских лет благоговейно храня свои тайны; теперь же я вынужден был с еще большей осторожностью пробираться по лесному лабиринту, чтобы отделаться от возможного преследования. Ключ от усыпальницы висел у меня на шее на шнурке, и никто не подозревал о его существовании. Я ни разу не вынес наружу ни одного предмета, найденного в усыпальнице.
Как-то утром, выйдя из сырой гробницы и закрывая замок на цепи не совсем твердой рукой, я заметил на соседнем склоне испуганное лицо соглядатая. Конец был явственно виден, ведь мое убежище обнаружено, цель ночных странствий раскрыта. Соглядатай не остановил меня, и я поспешил домой, чтобы постараться подслушать, что он станет рассказывать моему измученному беспокойством отцу. Неужели о моем пребывании за запертой цепями дверью станет известно всем?
Вообразите же радость и облегчение, которые я испытал, услышав, что соглядатай рассказывает боязливым шепотом, будто я провел ночь возле усыпальницы, обратясь лицом к неплотно закрытой двери! Каким чудом он мог так обмануться? Несомненно, сверхъестественные силы покровительствовали мне! Ободренный этим обстоятельством, я вновь стал, не таясь, посещать усыпальницу, уверенный, что никому не дано увидеть, как я вхожу внутрь. Целую неделю я наслаждался загробным общением, которое не стану описывать, а потом произошло это, и я был привезен сюда, в ненавистную обитель, где царят печаль и однообразие.
В ту ночь я не собирался выходить: в тучах погромыхивал гром, а на дне лощины дьявольскими огоньками фосфоресцировало мерзкое болото. И даже зов мертвых звучал по-иному. Меня тянуло не к гробнице на склоне, а к обугленному подвалу на вершине, словно обитавший там демон манил меня невидимой рукой. Пройдя рощицу и оказавшись на ровном месте перед развалинами, я увидел в неверном свете луны то, чего всегда в какой-то мере ожидал. Перед моим восхищенным взором вновь возник во всем своем великолепии особняк, рухнувший столетие назад; все окна сияли блеском множества свечей. По подъездной аллее одна за другой кареты везли гостей из Бостона, а многочисленные обитатели соседних усадеб, разодетые, напудренные, подходили пешком. Я смешался с толпой гостей, хотя и сознавал, что мне подобает находиться среди хозяев. В зале царили музыка и смех, у каждого в руке был бокал с вином. Несколько лиц оказались знакомы мне, хотя я знавал их уже ссохшимися, тронутыми смертью и разложением. В этой дикой, нечестивой толпе я был самым диким и самым беспутным. Из моих уст изливался поток богохульств, я произносил речи, в которых отрицал все законы — и божеские, и человеческие, и природные.
Внезапно над самой крышей, перекрыв шум неистового веселья, раздался удар грома. Разбушевавшиеся весельчаки в ужасе смолкли. Красные языки пламени и опаляющий жар охватили здание; участники празднества, испуганные обрушившимся на них бедствием, которое, казалось, было ниспослано свыше, с пронзительными криками исчезли. Я остался один, меня удержал на месте унизительный страх, какого я никогда прежде не испытывал. Но вдруг он сменился новым ужасом. Если я заживо сгорю дотла, а пепел мой развеется по ветру, я никогда не буду лежать в усыпальнице Хайдов! Разве не ждет меня мой гроб? Разве нет у меня законного права на вечный покой среди потомков сэра Джеффри Хайда? Вечный! Я стремился получить свое посмертное наследство во что бы то ни стало, пусть даже душе моей пришлось бы столетиями искать воплощения в теле, которое сможет упокоиться в нише склепа. Джервас Хайд не разделит печальной участи Палинура![17]
Когда видение горящего дома растаяло в воздухе, я вдруг ощутил, что исступленно кричу и бьюсь в руках двух мужчин, один из которых — тот самый шпион, выслеживавший меня у гробницы. Дождь лил как из ведра, а на южной стороне неба, у горизонта, вспыхивали молнии, какие недавно сверкали у нас над головой. Я кричал, я требовал похоронить меня в склепе, а мой отец скорбно стоял поодаль и время от времени просил удерживавших меня людей обходиться со мной как можно мягче. На полу разрушенного подвала чернел круг — след мощного удара, ниспосланного с небес; из этого развороченного ударом молнии места несколько любопытствующих жителей деревни извлекли и принялись рассматривать при свете фонарей небольшую шкатулку старинной работы.
Прекратив тщетную и теперь уже бесполезную борьбу, я наблюдал за тем, как они любовались найденными в земле сокровищами, как, получив дозволение, принялись их делить. В шкатулке, замок которой был разбит, находилось множество бумаг и ценных предметов, но я не мог отвести глаз от одного из них. Это была миниатюра на фарфоре с инициалами «Дж. X.», изображавшая молодого человека в изящно завитом по моде XVIII века парике с кошельком. Насколько я мог разглядеть, лицо его было точной копией того, что я ежедневно видел в своем зеркале.
На следующий же день я оказался в этой комнате с зарешеченными окнами, но кое-что мне продолжает сообщать старый слуга — простая душа — которого я любил в детстве и которому, как и мне, нравятся кладбища. Все мои рассказы о пребывании в усыпальнице вызывают у слушателей только сочувственные улыбки. Отец, который часто навещает меня, утверждает, что я ни разу не входил в запертую на цепь дверь и что, как оказалось при ближайшем рассмотрении, ржавого замка в течение последних пяти десятков лет никто не трогал. Он даже говорит, что о моих прогулках к гробнице знали все окрестные жители и что меня часто видели у мрачного портала. Я спал с открытыми глазами, устремленными на неплотно прилегающую дверь. Никаких вещественных доказательств, с помощью которых я мог бы опровергнуть эти утверждения, у меня нет, ведь ключ от замка был утерян, когда я в ту ужасную ночь бился в руках своих преследователей. Удивительные знания о прошлом, которые я почерпнул во время ночных встреч с мертвецами, отец считает плодом многолетнего беспорядочного чтения старинных книг из фамильной библиотеки. И если бы не мой старый слуга Хайрам, я бы сейчас не сомневался в собственном безумии. Но Хайрам, преданный Хайрам, поддерживает во мне веру. Он совершил нечто, позволяющее мне сделать, во всяком случае, часть моей истории достоянием публики. Неделю назад он взломал замок, запиравший цепи на неизменно приоткрытой двери, и спустился с фонарем в мрачные глубины. На плите в каменной нише он обнаружил старый, но пустой гроб, на потускневшей серебряной пластинке которого стоит лишь одно слово: Джервас. Я получил обещание, что после смерти буду лежать в этом гробу, в этой усыпальнице.
ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА
В мое северное окно жутковато светит Полярная звезда. Сияет долгими адскими часами непроницаемой темноты. И когда на календаре осень и ветры с севера завывают и проклинают все подряд, а в короткие утренние часы под убывающим месяцем красноватые кроны деревьев на болоте перешептываются друг с другом, я сижу возле окна и наблюдаю за этой звездой. Проходят часы, и Кассиопея соскальзывает вниз, тогда как Большая Медведица выползает из-за пропитанных болотными испарениями деревьев, покачиваемых ночным ветром. Перед самым рассветом Арктур красновато мигает над расположенным на возвышении кладбищем, а Волосы Вероники загадочно подмигивают с таинственного востока, но Полярная звезда продолжает злобно светить на том же самом месте на черном своде, мерзко помигивая, как вперившийся болезненный взгляд силящегося передать какое-то загадочное сообщение, однако неспособного вспомнить ничего, помимо лишь того факта, что когда-то обладал этим известием. Иногда, когда на небе пасмурно, мне удается заснуть.
Я хорошо помню ночь большого северного сияния, когда над болотом поигрывал ужасающими вспышками дьявольский огонь. Только когда его закрыли облака, мне удалось заснуть.
Под убывающим месяцем я впервые увидел город. Он лежал, тихий и сонный, на странном плато высоко в горах между двумя странными пиками. Стены и башни его были из мертвенно-бледного мрамора, как и его колонны, купола и мостовые. На мраморных улицах возвышались мраморные столпы, на верхней части которых были вытесаны лица суровых бородатых мужей. Воздух был теплым и неподвижным. И над всем этим, всего в десяти градусах от зенита, сияла эта стерегущая Полярная звезда. Я долго рассматривал город, но день все не наступал. Когда красный Альдебаран, мерцающий низко над горизонтом, но никогда не заходящий, прополз четверть своего круга, я заметил огни и движение в домах и на улицах. Обитатели, одетые странно, но в то же время благородные и знакомые мне, прогуливались и говорили под убывающим месяцем мудрые слова на языке, который оказался мне вполне понятен, хотя и не был похож ни на какой из известных мне языков. И когда красный Альдебаран совершил еще чуть более половины своего кругового пути, снова установились темнота и молчание.
Пробудившись, я оказался уже не тем, кем был раньше. Над моей памятью тяготело видение города, а в душе вставало другое смутное воспоминание, в природе которого я тогда не был уверен. После этого в те ночи, когда было облачно и я мог спать, я зачастую видел город; иногда его согревали желтые горячие лучи солнца, которое не закатывалось, а описывало круг низко над горизонтом. А в ясные ночи Полярная звезда глядела так злобно, как никогда раньше.
Со временем я стал задумываться: какова моя роль в этом городе на странном горном плато между странными пиками? Сначала я довольствовался наблюдением за его жизнью в качестве вездесущего бестелесного зрителя, но затем у меня возникло желание определить свое отношение к ней и высказывать свои мысли тем суровым людям, которые каждый день вели беседы на общественных площадях. Я сказал себе: «Это не сон, ибо чем я могу доказать, что более реальна та, другая жизнь в доме из камня и кирпича к югу от мрачного болота и кладбища на пригорке, где каждую ночь в мое северное окно заглядывает Полярная звезда?»
Однажды ночью, слушая ораторов на большой площади, где стояло множество статуй, я ощутил в себе перемену и внезапно понял, что перестал быть призраком и обрел материальную форму. Я больше не был чужеземцем на улицах Олатое, города, расположенного на плато Саркиа между пиками Нотон и Кадифонек. В этот момент говорил мой друг Алос, и речь его радовала мою душу, ибо это была речь настоящего мужа и патриота. Этой ночью поступило известие о падении Дайкоса и наступлении инутов, злобных желтокожих карликов, появившихся пять лет назад откуда-то с запада, опустошавших приграничные области нашего королевства и осаждавших многие наши города. Захватив укрепления у подножия гор, они могли теперь вторгнуться на плато, пусть даже каждый гражданин будет сражаться с ними за десятерых. Эти коренастые негодяи были сильны в военном искусстве и не придерживались понятий чести, которые удерживали наших рослых сероглазых ломарцев от завоевательных походов.
Алос, мой друг, был командующим всех сил плато и нашей последней надеждой. Спокойно и уверенно он говорил о нависшей над нами угрозе и призывал жителей Олатое, храбрейших из ломарцев, вспомнить славные традиции предков, которые, когда им пришлось двинуться на юг из Зобны, отступая от надвигающегося ледника (когда-нибудь и нашим потомкам придется отступать от него же с земель Ломара), доблестно разгромили волосатых длинноруких каннибалов гнопкехов, преграждавших им путь. Мне Алос не позволил участвовать в боях, потому что я был слабым и подвержен непонятным обморокам при физических и нервных нагрузках. Но мои глаза считались горожанами самыми зоркими, поскольку я ежедневно долгие часы изучал Пнакотические рукописи и премудрость Зобнийских Отцов, поэтому мой друг, не желая моей бесполезной гибели в схватке, оказал мне великую честь, доверив один из важнейших постов. Он отправил меня на сторожевую башню Тапнен, где я должен был послужить глазами его армии. Если инуты попытаются пробраться к цитадели по узкому проходу, огибающему пик Нотон, чтобы захватить гарнизон врасплох, мне следовало огнем подать сигнал, предупредить воинов и спасти город от такой угрозы.
Я в одиночестве отправился на башню, потому что все крепкие телом люди были нужны для обороны горных проходов. Мой мозг был болезненно возбужден и сильно утомлен, ибо я не спал несколько суток, но намерения мои были твердыми, поскольку я любил свою родную страну Ломар и мраморный город Олатое, лежащий между пиками Нотон и Кадифонек.
Но когда я оказался на самом верхнем этаже башни, то увидел серп убывающего месяца, красный и зловещий, мерцающий сквозь дымку испарений над далекой впадиной Баноф. А через окошко в кровле смотрела бледная Полярная звезда, подрагивающая, словно живая, и глядящая искоса, словно недруг и искуситель. Мне показалось, что душа ее вкрадчиво нашептывает, убаюкивая меня и внушая предательскую дремоту отвратительным рифмованным обещанием, повторяемым снова и снова:
Дремлешь, наблюдатель, до поры, Шесть и двадцать тысяч лет минует, И тогда вернешься в тот же круг, Где горят в очаянье миры. Звезды светят яростно, в злобе, Притупляя боль, суля забвенье, Но едва забудешь опасенья — Постучится прошлое к тебе.Тщетно я боролся с овладевающей мной дремотой, пытаясь сопоставить как-то эти странные слова со знаниями, почерпнутыми из Пнакотических рукописей. Моя голова отяжелела и, покачиваясь, склонилась на грудь, а когда я снова поднял взгляд, уже во сне, из окна на меня злорадно смотрела Полярная звезда над зловеще покачивающимися деревьями на спящем болоте. И мне не удалось проснуться.
Охваченный стыдом и отчаяньем, я кричал время от времени, умоляя снящихся мне существ разбудить меня, потому что инуты могут прокрасться через проход, огибающий пик Нотон, и захватить цитадель врасплох, но эти существа, демоны, смеялись надо мною и говорили, что я брежу. Они насмехались надо мною, спящим, а коренастые желтокожие враги уже, наверное, молчаливо подбирались к оборонявшимся. Я не справился со своим заданием и предал мраморный город Олатое. Я не оправдал надежды Алоса, моего друга и командира. Но призраки из моего сна по-прежнему смеются надо мной. Они говорят, что страна Ломар существует только в моих видениях; что в тех краях, где Полярная звезда стоит высоко, а красный Альдебаран крадется вдоль горизонта, уже давно, тысячи лет, нет ничего, кроме снега и льда, и обитают только низкорослые желтокожие туземцы, прозябающие в этом холодном крае и называемые эскимосами.
Терзаемый чувством вины, отчаянно пытаясь спасти город, отвести от него угрозу, я безуспешно старался пробудиться от этого чудовищного сна, в котором я пребываю в доме из камня и кирпича к югу от мрачного болота и кладбища на пригорке, где каждую ночь в мое северное окно заглядывает Полярная звезда, злобная и чудовищная, посматривает с черного небосвода, издевательски подмигивая, как уставившийся глаз сумасшедшего, силящегося передать какую-то весть, но неспособного вспомнить ничего, кроме того, что когда-то знал какое-то известие.
ПО ТУ СТОРОНУ СНА
Интересно, задумывается ли большинство людей над могущественной силой сновидений и над природой порождающего их темного мира? Хотя подавляющее число ночных видений является, возможно, всего лишь бледным и причудливым зеркалом нашей дневной жизни — против чего возражал Фрейд с его наивным символизмом, — однако встречаются изредка не от мира сего случаи, не поддающиеся привычному объяснению. Их волнующее и не оставляющее в покое воздействие позволяет предположить, что мы как бы заглядываем в мир духа — мир, не менее важный, чем наше физическое бытие, но отделенный от него непреодолимым барьером. Из своего опыта знаю: человек, теряющий осознание своей земной сущности, временно переходит в иные, нематериальные сферы, резко отличающиеся от всего известного нам, но после пробуждения сохраняет о них лишь смутные воспоминания. По этим туманным и обрывочным свидетельствам мы можем о многом догадываться, но не можем ничего доказать. Можно предположить, что бытие, материя и энергия не являются в сновидческом мире постоянными величинами, какими мы привыкли их считать; точно так же пространство и время значительно отличаются там от наших земных представлений о них. Порой мне кажется, что именно та жизнь является подлинной, а наше суетное существование на земле — явление вторичное или даже мнимое.
Именно от подобных раздумий меня, еще молодого тогда человека, оторвали в один из зимних дней 1900–1901 годов, когда в психиатрическую лечебницу, где я работал, доставили мужчину, чей случай вскорости необычайно заинтересовал меня. Из документов явствовало, что его звали то ли Джо Слейтер, то ли Джо Слайдер, на вид он был типичным жителем Катскиллских гор, то есть одним из тех странных, отталкивающего вида существ — потомков старого земледельческого клана, чья вынужденная почти трехвековая изоляция среди скал, в безлюдной местности способствовала постепенному вырождению, в отличие от более удачливых соплеменников, выбравших для поселения обжитые районы. Это своеобразное племя напоминает тех опустившихся обитателей юга, которых презрительно именуют «белая рвань», им равно незнакомы законы и мораль, а их интеллектуальный уровень — самый низкий в стране.
Джо Слейтера доставили в лечебницу четверо полицейских, заверивших меня, что их подопечный весьма опасен, однако при первом осмотре я не заметил в его поведении ничего пугающего. Хотя он был значительно выше среднего роста и, казалось, состоял из одних мускулов, но сонная, выцветшая голубизна его маленьких слезящихся глаз, редкая и неопрятная светлая бороденка, тяжело отвисшая, вялая нижняя губа производили впечатление какой-то особой беззащитности недалекого человека. Каков был его возраст, не знал никто: там, где он жил, свидетельств о рождении не существовало, так же как и прочных семейных уз, но, учитывая плешь на голове и удручающее состояние зубов, главный врач положил ему сорок лет.
Прочитав медицинские и судебные заключения, мы пришли к определенным выводам о болезни этого человека: бродяга и охотник, он всегда казался своим темным сородичам несколько чудаковатым. Он подолгу спал, а пробуждаясь, часто рассказывал о непонятных вещах в манере столь странной, что вызывал страх даже в сердцах лишенных фантазии соплеменников. Необычным был не язык — свой бред он описывал на примитивном местном наречии, — а тон и окраска речи, которые обретали такую таинственную мощь, что никто не оставался безучастным. Сам он бывал потрясен и озадачен не меньше слушателей, но уже через час после пробуждения все забывал и снова впадал в тупую безучастность, свойственную жителям этого горного района.
Со временем приступы утреннего безумия у Слейтера участились, становясь все исступленнее, пока не произошла наконец — приблизительно за месяц до его появления в лечебнице — та жуткая трагедия, которая и вызвала его арест. Однажды около полудня, очнувшись от глубокого сна, в который он впал после изрядной попойки, имевшей место часов в пять предыдущего дня, Слейтер издал такой душераздирающий вопль, что соседи прибежали к нему в хижину — грязный хлев, где он жил со своими родными, наверняка такими же жалкими людишками, как и он сам. Выбежав из хижины прямо на снег, он, воздев руки, старался подпрыгнуть как можно выше, крича при этом, что ему «надо в большую-большую хижину, где сверкают стены, пол и потолок и откуда-то гремит музыка». Двое крепких мужчин пытались держать его, но он яростно вырывался с необъяснимой силой маньяка и продолжал кричать, что ему во что бы то ни стало надо найти и убить «эту штуковину, которая сверкает, трясется и хохочет». Свалив вскоре одного из мужчин неожиданным ударом, он набросился на другого в каком-то кровожадном, демоническом экстазе, истошно вопя, что он «допрыгнет до неба, спалив на своем пути все, что будет мешать».
Родные и соседи в панике разбежались, а когда самые смелые вернулись, Слейтера уже и след простыл, а на снегу темнело нечто бесформенное, что еще час назад было живым человеком.
Никто из горцев не осмелился преследовать убийцу, возможно, надеясь, что он замерзнет в горах. Но несколько дней спустя, тоже утром, они услышали доносящиеся из отдаленного ущелья вопли и поняли, что ему удалось выжить. Следовательно, надо было самим расправиться со злодеем. Тут же снарядили вооруженный отряд, передавший вскоре свои полномочия (трудно сказать, какими они им представлялись) случайно встреченным в этих местах полицейским, которые, наткнувшись на отряд и узнав, в чем дело, присоединились к поискам.
На третий день Слейтера обнаружили без сознания в дупле дерева и отвезли в ближайшую тюрьму, где, как только он пришел в себя, его обследовали психиатры из Олбани. Им арестант объяснил все чрезвычайно просто. Однажды, изрядно выпив, он заснул еще до сумерек. Очнувшись, увидел, что стоит с окровавленными руками в снегу перед своим домом, а у его ног — изуродованный труп Питера Слейтера, его соседа. Объятый ужасом, он бросился в лес, не в силах лицезреть то, что могло быть делом его рук. Ничего другого он, по-видимому, не помнил, даже умело поставленные вопросы специалистов не прояснили сути.
Ту ночь Слейтер провел спокойно и, проснувшись, тоже ничем особенным о себе не заявил, хотя выражение его лица несколько изменилось. Доктору Бернарду, чьим пациентом он стал, показалось, что в светло-голубых глазах появился странный блеск, а обвисшие губы слегка сжались, как бы от некоего принятого решения. Однако на вопросы Слейтер отвечал с прежней безучастностью жителя гор, повторяя то же, что и вчера.
Первый приступ болезни произошел в больнице на третье утро. Сначала Слейтер метался во сне, а затем, проснувшись, впал в такое бешенство, что лишь усилиями четверых санитаров на него удалось надеть смирительную рубашку. Психиатры, чье любопытство было до крайности возбуждено захватывающими — при всей их противоречивости и непоследовательности — рассказами родных и соседей больного, дружно обратились в слух. В течение четверти часа Слейтер делал отчаянные попытки освободиться, бормоча на своем примитивном диалекте что-то о зеленых, полных света зданиях, о громадных пространствах, странной музыке, призрачных горах и долинах. Но более всего его занимало нечто таинственное и сверкающее, что раскачивалось и хохотало, потешаясь над ним. Это громадное и непонятное существо, казалось, заставляло Слейтера мучительно страдать, и его сокровенным желанием было свершить кровавый акт возмездия. По его словам, он готов, чтобы убить это существо, лететь через бездны пространства, сжигая все на своем пути. Слейтер повторял это много раз, а потом вдруг замолк. Огонь безумия потух в его глазах, и вот он уже в тупом недоумении смотрит на врачей, не понимая, почему связан. Доктор Бернард освободил больного от пут, и тот провел на свободе весь день, однако перед сном его убедили надеть смирительную рубашку. Слейтер признавал, что иногда немного чудит, но вот почему — объяснить не мог.
На протяжении недели у Слейтера было еще два приступа, но они мало что нового подсказали докторам. Те ломали голову над подоплекой его видений: читать и писать их подопечный не умел, сказок и легенд тоже, очевидно, не знал. Откуда же брались эти фантастические образы? Их внелитературное происхождение выдавала речь несчастного безумца, остававшаяся во всех случаях крайне примитивной. В бреду он говорил о вещах, которых не понимал и о которых не мог толком рассказать; он переживал нечто такое, о чем никогда ранее слышать не мог. Врачи вскорости сошлись на том, что причиной болезни стали патологические сны пациента, необычайно яркие образы которых и после пробуждения владеют разумом этого жалкого существа. Дабы соблюсти необходимые формальности, Слейтер предстал перед судом по обвинению в убийстве, был признан сумасшедшим, оправдан и направлен в лечебницу, где я тогда занимал скромное положение интерна.
Как я уже говорил, меня всегда занимала жизнь человека во сне, отсюда понятно нетерпение, с каким я приступил к осмотру пациента, предварительно ознакомившись со всеми документами. Он, казалось, почувствовал мою симпатию и нескрываемый интерес к нему, оценил и ту мягкость, с которой я его расспрашивал. В дальнейшем он не узнавал меня во время приступов, когда я, затаив дыхание, внимал его хаотическому рассказу о космических видениях, зато всегда узнавал в спокойные периоды, сидя у зарешеченного окна за плетением корзин и, возможно, тоскуя о навсегда утраченной жизни в горах. Родные его не навещали — они, наверное, нашли другого главу семейства, как это принято у отсталых горных племен.
Постепенно я все более восхищался безумным и фантастическим миром грез Джо Слейтера. Сам он был поразительно убог в интеллектуальном и языковом отношении, однако его ослепительные, грандиозные видения, пусть и переданные на бессвязном варварском жаргоне, могли зародиться лишь в особом, высшем сознании. Я часто задавал себе вопрос: как могло случиться, что неразвитое воображение дегенерата с Катскиллских гор могло вызвать к жизни картины, отмеченные искрой гения? Как мог неотесанный тупица воссоздать эти блистающие миры, полные божественного сияния и необъятных пространств, о которых Слейтер вещал в безумном бреду? Я все больше склонялся к мысли, что в жалком человечишке, подобострастно взирающем на меня, таится нечто выходящее за рамки понимания, как моего, так и моих более опытных, но наделенных скудным воображением коллег.
От самого же больного я не мог узнать ничего определенного. Мне удалось лишь выяснить, что в своем полусне Слейтер бродит, а иногда плавает в неведомых людям пространствах — среди огромных сверкающих долин, лугов, садов, городов, сияющих дворцов. Там он уже был не полудиким выродком, а личностью яркой и значительной, чьи деяния исполнены достоинства и величия. Существование ему омрачал лишь некий смертельный враг, который был не похож на человека и обладал хотя и видимой, но нематериальной структурой. Именно поэтому Слейтер и называл его «штуковиной». Эта «штуковина» причиняла Слейтеру чудовищные, непонятного свойства страдания, за которые наш маньяк (если он таковым все же являлся) порывался отомстить.
Из того, что рассказывал Слейтер, я уяснил, что он и «сверкающая штуковина» обладали равной мощью, что сам он во сне тоже был «сверкающей штуковиной» — словом, принадлежал к той же породе, что и его враг. Эту догадку подтверждали и его частые упоминания о полетах сквозь пространства, когда он сжигал на своем пути все преграды. Эти видения облекались больным в нескладную, совершенно неадекватную форму, что позволило мне прийти к выводу, что в мире его сновидений, если он действительно существовал, общение происходит без помощи слов. Может быть, душа, сопутствуя этому убогому созданию в его снах, изо всех сил пыталась передать ему нечто такое, что не выговаривалось на его примитивном и ограниченном языке? И возможно, я встретился с духовной эманацией, чью тайну мог бы раскрыть, если бы нашел способ. Я не поверял свои мысли старым врачам: с возрастом люди становятся скептиками и циниками, с трудом принимая новое. Кроме того, совсем недавно главный врач по-отечески предостерег меня: по его мнению, я слишком много работаю и нуждаюсь в отдыхе.
Я всегда думал, что человеческая мысль в своей основе — поток атомов и молекул, который можно представить в виде либо радиоволн, либо лучевой энергии, подобно теплу, свету и электричеству. Эта идея развилась в убеждении, что телепатия, или мысленная связь, может осуществляться с помощью соответствующих приборов. Еще в колледже я собрал приемник и передатчик, напоминающие те громоздкие устройства, которые применялись в беспроволочном телеграфе, когда еще не существовало радио. Со своим другом, тоже студентом, я провел ряд ни к чему не приведших опытов, после чего запрятал приборы подальше, вместе с другим учебным хламом, пообещав себе когда-нибудь заняться этим снова.
И вот теперь, охваченный желанием разгадать тайну сна Джо Слейтера, я отыскал эти приборы и провозился с ними несколько дней, готовя для испытания. Приведя устройство в порядок, я не упускал ни одного случая испробовать его. Как только у Слейтера начинался приступ бешенства, я тут же закреплял передатчик на его голове, а приемник — на своей и, слегка поворачивая рукоятку настройки, пытался отыскать предполагаемую волну умственной энергии. Я с трудом представлял себе, в какой форме — в случае успеха — будет усваиваться эта энергия моим мозгом, но не сомневался, что сумею распознать и истолковать ее. Я проводил эти эксперименты, никого не поставив о них в известность.
Это случилось 21 февраля 1901 года. Оглядываясь назад, я отдаю себе отчет в фантастичности случившегося и иногда задумываюсь, не был ли прав доктор Фентон, приписавший мой рассказ игре больного воображения. Помнится, он выслушал его сочувственно и терпеливо, однако тут же дал мне успокоительное и сделал все, чтобы уже на следующей неделе я смог уйти в полугодовой отпуск.
Той роковой ночью я был до крайности возбужден и расстроен, так как стало ясно, что, несмотря на прекрасный уход и лечение, Джо Слейтер умирает. То ли ему недоставало его родных горных просторов, то ли ослабший организм уже не мог справляться с бурями, сотрясавшими его мозг, но, каковы бы ни были истинные причины, огонек жизни еле теплился в его измученном теле. В тот день он все время дремал, а с наступлением темноты впал в беспокойный сон.
Против обыкновения я не надел на него смирительную рубашку, решив, что он уже слишком слаб и не может представлять опасности, даже если перед смертью переживет еще один приступ помешательства. Однако я все же закрепил на наших головах провода космического «радио», смутно надеясь получить, хоть в эти последние часы, первое и единственное послание из загадочного мира сна. В палате кроме меня был еще санитар, простоватый парень, ничего не смысливший в моем устройстве и не пытавшийся расспрашивать меня о цели моих манипуляций. Часы тянулись медленно; я заметил, что голова санитара свесилась на грудь, но не будил его. Вскоре я и сам, убаюканный равномерным дыханием здорового человека и умирающего, должно быть, задремал.
Меня разбудили звуки странной музыки. Аккорды, отзвуки, экстатические вихри мелодий неслись отовсюду, а перед моим восхищенным взором открылось захватывающее зрелище неизъяснимой красоты. Стены, колонны, архитравы, как бы наполненные огнем, ослепительно блистали со всех сторон. Я же, находившийся в центре, казалось, парил в воздухе, устремляясь ввысь, к огромному, уходящему в бесконечность своду, великолепие которого я бессилен описать. Рядом с величественными дворцами (а точнее сказать, время от времени вытесняя их в калейдоскопическом вращении) появлялись бескрайние равнины, мирные долины, высокие горы, уютные гроты. Я сам мог прибавлять им очарования: стоило мне подумать о чем-то, что могло украсить их еще больше, и это тут же возникало, вылепляясь по моему желанию из некой сверкающей, легкой и податливой субстанции, в которой равно присутствовали и материя, и дух. Созерцая все это, я быстро осознал, что во всех восхитительных метаморфозах повинен мой мозг: каждый новый открывающийся передо мной вид был именно таким, каким его хотело видеть мое переменчивое воображение. Я не чувствовал себя чужим в этом раю: мне был знаком каждый его уголок, каждый звук, как будто я обитал здесь и буду обитать вечно.
Затем ко мне приблизилась сверкающая аура моего солнечного собрата, и у нас завязался разговор — душа с душой, бессловесный и полный обмен мыслями. Приближается час его триумфа, скоро он отбросит сковывающую его тленную плоть, навсегда освободится от нее и ринется за своим ненавистным врагом в отдаленный уголок Вселенной, где огнем свершит грандиозное возмездие, которое заставит дрожать небесные сферы. Мы парили рядом, но вот я заметил, как вокруг нас начали меркнуть и исчезать предметы, будто некая сила призывала меня на Землю, куда мне так не хотелось возвращаться. Существо рядом со мной, казалось, почувствовало это и стало заканчивать беседу, готовясь к расставанию, однако оно удалялось от меня с меньшей скоростью, чем все остальное. Мы обменялись напоследок несколькими мыслями, и я узнал, что еще встречусь со сверкающим братом, но уже в последний раз. Сдерживающая его жалкая оболочка должна вот-вот распасться, меньше чем через час он будет свободен и погонит своего врага по Млечному Пути, мимо ближних звезд к самым границам Вселенной.
Весьма ощутимый толчок отделял последние картины постепенно затухающего света от моего резкого, сопровождаемого чувством неопределенной вины перехода в состояние бодрствования. Я сидел, выпрямившись на стуле, глядя, как умирающий беспокойно мечется на койке. Джо Слейтер, несомненно, просыпался, хотя, по-видимому, уже в последний раз. Вглядевшись, я заметил, что на его впалых щеках появился отсутствовавший доселе румянец. Плотно сжатые губы тоже выглядели необычно, словно принадлежали человеку с более сильным, чем у Слейтера, характером. Мускулы лица окаменели, глаза были закрыты, но тело конвульсивно сотрясалось.
Я не стал будить санитара, а, напротив, поправив съехавшие наушники телепатического «радио», ждал последних, прощальных сигналов, которые мог передать мне спящий. Тот же внезапно повернул ко мне голову, открыл глаза, и я остолбенел: катскиллский вырожденец Джо Слейтер смотрел на меня не прежними выцветшими глазками, а широко распахнутыми огненными очами. В его взгляде не было ни безумия, ни тупости. Никаких сомнений — на меня глядело существо высшего порядка.
В то же самое время мой мозг начал ощущать настойчивые сигналы извне. Чтобы лучше сосредоточиться, я закрыл глаза и тут же был вознагражден отчетливо уловленной мною мыслью: «Наконец-то мое послание достигло тебя». Теперь каждая посылаемая информация мгновенно усваивалась мною, и, хотя при этом не использовался ни один язык, мой мозг привычно переводил ее на английский.
«Джо Слейтер умер», — произнес леденящий душу голос, пришедший с той стороны сна. За этим, однако, не последовало то, чего я с ужасом ожидал — страданий, мук агонии, — голубые глаза смотрели на меня так же спокойно, выражение лица было таким же одухотворенным.
«Хорошо, что он умер, он не способен быть носителем космического сознания. Его грубая натура не смогла приспособиться к неземному бытию. В нем было больше от животного, чем от человека, однако только благодаря его невежеству ты узнал меня, ибо космическим и планетарным душам лучше не встречаться. Ведь он в течение сорока двух земных лет ежедневно переживал мучительные пытки.
Я — то существо, каким бываешь и ты сам в свободном сне без сновидений. Я — твой солнечный брат, с которым ты парил в сверкающих долинах. Мне запрещено открыть твоему дневному, земному естеству, кем ты являешься в действительности; знай только, что все мы странники, путешествующие через века и пространства. Спустя год я, возможно, попаду в Египет, который вы зовете древним, или в жестокую империю Тцан Чана, чье время придет через три тысячи лет. Мы же с тобой странствовали в мирах, вращающихся вокруг красной звезды Арктур, пребывая в обличье насекомых-философов, которые горделиво ползают по четвертому спутнику Юпитера. Как мало знает земной человек о жизни и ее пределах! Но больше ему, ради его же спокойствия, и не следует знать.
О моем враге мне нельзя говорить. Вы, на Земле, интуитивно ощущаете его отдаленное присутствие — недаром этот мерцающий маяк Вселенной вы нарекли Алголь, что означает «Звезда-Дьявол». Тщетно пытался я вырваться в вечность, чтобы встретиться с соперником и уничтожить его, — мне мешала земная оболочка. Этой же ночью я, подобно Немезиде, свершу праведное возмездие, которое ослепит и потрясет космическое пространство. Ищи меня в небе неподалеку от «дьявольской звезды».
Я не могу больше говорить: тело Джо Слейтера застывает, его грубый мозг перестает мне повиноваться. Ты был моим единственным другом на этой планете, единственным, кто прозрел меня в этой отвратительной оболочке, лежащей сейчас на койке, и стал искать ко мне путь. Мы вновь встретимся — может, это случится в светящейся туманности пояса Ориона, может, на открытых плоскогорьях доисторической Азии, может, сегодня во сне, который ты под утро забудешь, а может, в каких-то новых формах, которые обретет вечность после гибели Солнечной системы».
На этом импульсы прекратились, а взгляд светлых глаз спящего — или точнее сказать мертвеца? — потух. Еще не придя в себя от изумления, я подошел к постели больного и взял его руку — она была холодна и безжизненна, пульс отсутствовал. Впалые щеки вновь побледнели, рот приоткрылся, обнажив омерзительные гнилые клыки дегенерата Джо Слейтера. Я поежился, натянул одеяло на уродливое лицо и разбудил санитара. После чего ушел из палаты и молча направился в свою комнату, почувствовав внезапную и неодолимую потребность забыться и видеть сны, которые не смогу вспомнить.
А кульминация? Но разве можно требовать от простого изложения событий, представляющих научный интерес, художественной завершенности? Я просто записал некоторые вещи, показавшиеся мне любопытными, вы же можете толковать их по-своему. Как я уже упоминал, мой шеф, старый доктор Фентон, не верит ничему из рассказанного мною. Он убежден, что у меня было сильнейшее нервное переутомление и что я срочно нуждаюсь в длительном оплаченном отпуске, каковой он мне великодушно предоставил. Исходя из своего профессионального опыта, доктор уверяет меня, что у Джо Слейтера был параноидальный синдром, а его фантастические рассказы почерпнуты из народных преданий, существующих даже у самых отсталых сообществ. Что бы он ни говорил, я не могу забыть того, что увидел на небе в ночь после смерти Слейтера. Если вы считаете меня сомнительным свидетелем, то окончательное заключение пусть выведет другое перо, что, возможно, и станет желаемой кульминацией. Позволю себе привести следующее описание звезды Nova Persei, сделанное знаменитым астрономом Гарретом П. Сервиссом: «22 февраля 1901 года доктор Андерсон из Эдинбурга открыл новую удивительную звезду неподалеку от Алголя. Ранее на этом месте ее не наблюдали. Через 24 часа незнакомка разгорелась настолько, что по своей яркости превзошла Капеллу. Спустя неделю-другую она потускнела, однако на протяжении еще нескольких месяцев ее можно было, хотя и с трудом, различить невооруженным глазом».
РОК, ПОСТИГШИЙ САРНАТ
В земле Мнара есть большое тихое озеро, в которое не впадают и из которого не вытекают ни реки, ни ручьи. Десять тысяч лет тому возле него стоял могущественный город, называвшийся Сарнат; но сейчас там и следов этого города не найти.
Говорят, что в незапамятные времена, когда мир был молод и племя, от которого произошли обитатели Сарната, не было известно в землях Мнара, возле озера стоял другой город; называвшийся Иб, с домами из серого камня, он был древним, как само озеро, и населен очень странными существами. Они были странные и уродливые на вид, что, впрочем, вполне характерно для существ, обитавших во времена зарождения мира. Некоторые из надписей на каменных цилиндрах Кадаферона свидетельствуют, что населявшие город Иб существа были зеленоватого цвета, примерно как вода в озере и стоявший над ним туман, имели сильно выпуклые глаза, толстые отвислые губы, уши необычной формы и были безголосыми. Как гласят эти надписи, однажды ночью эти странные существа спустились с луны в сгустившийся над Мнаром туман, а вместе с ними опустилось на землю большое тихое озеро и серокаменный город Иб. Известно также, что обитатели серого города поклонялись каменному идолу цвета зеленой озерной воды, который видом несколько напоминал Бокруга, Великую Водяную Ящерицу; перед этим идолом они устраивали по ночам свои жуткие пляски, когда приближалось полнолуние. В папирусах Иларнека есть рассказ о том, как однажды они научились добывать огонь, и с тех пор по любому случаю зажигали его на всяческих церемониях. Но об этих существах известно сейчас очень мало, поскольку жили они очень давно, а род человеческий слишком молод, чтобы помнить о такой древности.
Спустя многие тысячелетия на землю Мнара явились люди, темнокожие кочевники со стадами тонкорунных овец; они построили города Траа, Иларнек и Кадаферон на реке Ай, оплетавшей Мнар своими изгибами. Самые крепкие духом из них обосновались на берегу озера и в том месте, где встречались благородные металлы, основали Сарнат.
Кочевники заложили первые камни Сарната неподалеку от серого города Иб, и вид его обитателей вызвал у них изумление. Но к изумлению этому примешивалась ненависть, ибо они считали, что существа со столь омерзительной внешностью не должны обитать в мире, населенном людьми. Не понравились им и странные скульптуры, украшавшие серые монолиты Иба, ибо слишком уж с давних времен стояли они на земле, им следовало исчезнуть задолго до прихода людей на тихую землю Мнар.
Чем чаще жители Сарната обращали свои враждебные взоры на обитателей Иба, тем сильнее ненавидели их; те казались им слабыми и немощными, а их студнеобразные тела выглядели превосходными мишенями для камней и стрел. И вот однажды молодые воины — лучники, копьеносцы и камнеметатели — напали на Иб и истребили всех его обитателей, а затем столкнули трупы в озеро длинными копьями, ибо не желали прикасаться руками к их омерзительным телам. Серые монолиты, украшенные скульптурами, тоже были преданы озеру; волоча их к воде, они изумлялись тому огромному труду, который когда-то затратили на то, чтобы доставить сюда из неведомого далека такие каменные громады, ибо подобного камня не было ни в земле Мнара, ни в соседних землях.
Вот так не осталось от древнего города Иба ничего, кроме каменного идола цвета зеленой озерной воды, который видом напоминал Бокруга, водяную ящерицу. Этого идола молодые завоеватели взяли с собой как символ победы над старыми богами и над жителями Иба, а также как знак своего господства на земле Мнара. Но в ту же ночь, когда они установили его в своем храме, случилось нечто очень страшное, ибо над озером видели тогда таинственные огни, а наутро люди обнаружили, что идол исчез, а верховный жрец Таран-Иш лежит в храме мертвый, с гримасой невообразимого ужаса на лице. Умирая, Таран-Иш из последних сил изобразил на хризолитовом алтаре Знак Рока.
Много верховных жрецов было в Сарнате после Таран-Иша, но зеленый, цвета озерной воды, каменный идол так и не был найден. Спустя многие века после того страшного и загадочного события Сарнат вырос и укрепился, в нем установилось благоденствие, и только жрецы и старухи помнили о знаке, начертанном Таран-Ишем на хризолитовом алтаре. Между Сарнатом и Иларнеком пролегал теперь караванный путь, и благородные металлы обменивались на дорогие одежды, драгоценности, книги, инструменты для искусных ремесленников и прочие предметы роскоши, известные людям, населявшим берега реки Ай и окрестности. Так Сарнат стал вместилищем мощи, красоты и культуры; его армии завоевывали соседние города, и со временем правители Сарната стали повелителями не только всего Мнара, но и многих окрестных земель.
Прекрасный город Сарнат у всего мира вызывал восхищение и гордость. Стена, окружавшая его, сложенная из отполированного мрамора, достигала трехсот локтей в высоту и семидесяти пяти локтей в ширину, и на верху могли свободно разминуться две колесницы. Длина стены составляла добрых пятьсот стадий, и оба конца ее упирались в озеро, на берегу которого высокая дамба из зеленого камня сдерживала воды, которые один раз в год, во время празднования даты разрушения Иба, странным образом вздымались на удивительную высоту. В самом Сарнате пятьдесят улиц проходили от берега озера до ворот, от которых начинались караванные пути, и улицы эти пересекались пятьюдесятью другими. Мостовая почти везде была выложена ониксом, и только там, где проводили слонов, лошадей и верблюдов, было вымощено гранитом. Все пятьдесят ворот Сарната были отлиты из бронзы и украшены фигурами львов и слонов, вырезанными из камня, который ныне совсем не встречается. Дома в Сарнате были выстроены из глазурованного кирпича и халцедона, и возле каждого располагался огражденный сад и бассейн из горного хрусталя. Здания отличались особой архитектурой, ни в одном другом городе не было подобных, и путешественники в Сарнат из Траа, Иларнека и Кадаферона восторженно любовались украшавшими их сияющими куполами.
Но самыми величественными в Сарнате были дворцы, храмы и сады, заложенные и устроенные в древности царем Зоккаром. Этих дворцов было много, и самый скромный из них превосходил по величию любой из дворцов соседних Траа, Иларнека и Кадаферона. Дворцы Сарната были так высоки, что, оказавшись внутри, можно было подумать, что находишься под открытым небом, а в свете факелов, пропитанных маслом из Дофера, на их стенах можно было увидеть огромных размеров росписи, изображавшие царей и ведомые ими войска, ошеломляющие своей красотой и вызывавшие у зрителя чувство божественного восторга. В этих дворцах было великое множество колонн, высеченных из цветного мрамора и украшенных прекрасными резными фигурами. В большинстве дворцов пол представлял собой мозаику из берилла, лазурита, сардоникса и других ценных камней, так что казалось, что идешь по девственному лугу, на котором растут самые красивые и редкие цветы. И еще во дворцах были изумительные фонтаны, испускавшие ароматизированную воду струями самых причудливых форм. Самым же прекрасным из дворцов был тот, где обитал царь Мнара и прилегавших к Мнару земель. Царский трон опирался на загривки двух золотых львов, припавших к земле перед прыжком, и много ступеней следовало преодолеть, чтобы подняться к нему от сверкающего пола. Трон был резным, из цельного куска слоновой кости, хотя, пожалуй, никому из ныне живущих не удастся объяснить происхождение столь огромного куска. В этом дворце было великое множество галерей и много амфитеатров, на арене для развлечения царей устраивались битвы воинов со львами и слонами. Иногда арены амфитеатров заполнялись водой из озера через мощные акведуки, и тогда в них устраивались различные водные состязания или бои между пловцами и разными смертоносными морскими тварями.
Высокими и величественными были семнадцать храмов Сарната, напоминавшие огромные башни, — сложенные из яркого многоцветного камня, нигде более не встречающегося. Самый большой из них вздымался на добрую тысячу локтей, и верховные жрецы в нем пребывали среди невообразимой роскоши, едва ли уступавшей царской. Когда в него входишь, то попадаешь в залы, такие же просторные и великолепные, как и залы во дворцах; жители Сарната приходили сюда поклоняться Зо-Калару, Тамашу и Лобону, своим главным богам, чьи окуриваемые фимиамом священные изображения присутствовали на тронах монархов. Не в пример другим богам, лики Зо-Калара, Тамиша и Лобона были переданы настолько живо, словно это сами милостивые боги восседали на тронах из слоновой кости. Нескончаемая лестница со ступенями из циркона вела в башню с покоями, из которых верховные жрецы взирали днем на город, долину и озеро, а ночью молча смотрели на таинственную луну, наполненные глубоким смыслом звезды и планеты и их отражение в озере. В этом храме исполнялся древний тайный обряд выражения величайшего отвращения к Бокругу, водяной ящерице, и здесь же стоял хризолитовый алтарь со Знаком Рока, начертанным Таран-Ишем.
Прекраснейшими были и сады, основанные древним царем Зоккаром. Они располагались в центре Сарната, занимая довольно обширное пространство, и были окружены высокой стеной. Сады накрывал огромный стеклянный купол, сквозь который в ясную погоду проходили лучи солнца, звезд и планет; а когда небо было затянуто тучами, в садах светились их подобия, свисающие внутри купола. Летом сады овевал ароматный свежий бриз, создававшийся хитроумным воздуходувным устройством, а зимой они отапливались скрытыми от глаз очагами, и потому в них царствовала вечная весна. Небольшие ручейки сбегали по блестящим камушкам среди зеленых лужаек, и через них было переброшено множество мостиков. Эти ручьи образовывали живописные водопады, а иногда расширялись в пруды. По ручьям и прудам плавали белоснежные лебеди, и пение экзотических птиц разливалось над волшебными садами чудесным журчанием. Зеленеющий берег поднимался от воды правильными террасами, поросшими плющом и обсаженными ярким цветами, и можно было бесконечно любоваться этим великолепием, присев на одну из многочисленных скамеек из мрамора и порфира. Во многих местах стояли маленькие храмы и алтари, у которых можно было отдохнуть и воздать почести малым богам.
Ежегодно в Сарнате праздновали дату уничтожения Иба, и в такие дни все пили вино, пели песни, танцевали и всячески веселились. Теням тех, кто уничтожил странных древних существ, воздавались почести, а память о жертвах жестокого набега и их более древних богах подвергалась насмешкам: увенчанные розами из садов Зоккара танцоры и одержимые изображали в непристойных плясках погибших жителей и богов Иба. А цари Мнара в это время обращали взгляд на озеро и посылали проклятия костям лежавших на его дне мертвецов.
Поначалу верховные жрецы не любили эти празднества, ибо хорошо знали зловещее предание о таинственном исчезновении зеленого идола и странной смерти Таран-Иша, который начертал Знак Рока на хризолитовом алтаре. С их высокой башни, говорили они, под водами озера иногда видны блуждающие огни. Но по прошествии многих лет, поскольку ничего ужасного не случалось, даже жрецы стали без страха участвовать в этих безумных оргиях. Да почему бы и нет, ведь разве не они исполняли древний тайный обряд выражения величайшего отвращения к Бокругу, водяной ящерице? Так происходило в Сарнате, чуде из чудес, всю тысячу лет радости и изобилия.
Празднование тысячелетия разрушения Иба было роскошным сверх всякой меры. В землях Мнара начали говорить о грядущем событии еще за десять лет до его наступления, и накануне торжества в Сарнат съехались многие тысячи жителей Траа, Иларнека и Кадаферона, а также многие тысячи жителей других городов Мнара и земель вокруг. В предпраздничную ночь под мраморными стенами Сарната были возведены шатры князей и палатки обычных путешественников. В пиршественном зале в окружении веселящейся знати и услужливых рабов восседал царь Наргис-Хей, опьяненный старым вином из запасников завоеванного Пнофа. На столах было изобилие странных деликатесов: здесь были запеченные павлины с дальних холмов Лимплана, пятки молодых верблюдов из пустыни Бназик, орехи и пряности из рощ Сидатриана и жемчужины из омываемого волнами Мталя, растворенные в винном уксусе из Траа. Также было невообразимое количество соусов и приправ, приготовленных искуснейшими поварами со всего Мнара. Но наиболее изысканным угощением должны были стать выловленные из озера рыбины, каждая огромного размера, подававшиеся на украшенных алмазами и рубинами золотых подносах.
Царь и его свита пировали во дворце, с предвкушением поглядывая на ожидавшие их золотые подносы с необыкновенно вкусной рыбой, и не только они веселились в тот час — пир шел повсеместно, славную дату отмечали все жители и гости Сарната. В великой башне храма высших жрецов тоже началась пирушка, и князья соседних земель предавались возлияниям в раскинутых под стенами Сарната шатрах. Именно верховный жрец Гнай-Ках первым заметил, что от мрачных теней, отбрасываемых в свете почти полной луны великими дворцами и храмами на зеркальную гладь озера, навстречу луне поднимается зловещая зеленая дымка и окутывает зеленым саваном башни и купола рокового города. Затем и другие, наблюдающие из башен, стали замечать, что на поверхности воды появились какие-то странные огни, а серая скала Акурион, прежде возвышавшаяся над гладью озера неподалеку от берега, почти скрылась под водой. В душах людей возник смутный страх, и князья Иларнека и далекого Рокола первыми свернули свои шатры и, не вполне понимая причину своего беспокойства, спешно удалились из Сарната.
Затем, ближе к полуночи, все бронзовые ворота Сарната внезапно распахнулись, и из них потекли толпы обезумевших людей, при виде которых стоявшие под стенами города князья и простолюдины в испуге бросились прочь. Ибо лица этих людей были отмечены печатью безумия, порожденного невообразимым ужасом, а слова, мимоходом слетавшие с их уст, передавали такой страх, что каждый услышавший тоже обращался в бегство. По раздающимся в ночной мгле воплям можно было понять, что в зале, где пировал царь со своей свитой, случилось нечто ужасное. Очертания Наргис-Хея и окружавших его знати и рабов, которые были четко видны в окнах дворца, вдруг стали выглядеть скопищем омерзительных безмолвных существ с зеленой кожей, выпуклыми глазами, толстыми отвислыми губами и ушами безобразной формы; некоторые из этих тварей кружились по залу в жутком танце, держа в лапах золотые подносы, украшенные алмазами и рубинами, и на каждом подносе горел язык пламени. И когда князья и обычные путешественники, в панике покидавшие Сарнат верхом на слонах, лошадях и верблюдах, снова посмотрели на окутанное дьявольской дымкой озеро, они увидели, что серая скала Акурион совсем скрылась под водой. По всему Мнару и соседним землям поползли слухи о чудовищной катастрофе, постигшей Сарнат; караваны не отправлялись более к обреченному городу и его благородным металлам. Много времени прошло, прежде чем путешественники отважились снова отправиться туда, где стоял Сарнат, и были они из храброго и отчаянного молодого племени, золотоволосые и голубоглазые, не родственного тем племенам, что населяли Мнар. Эти люди достигли самого берега озера, желая посмотреть на Сарнат, но их глазам предстало большое тихое озеро и серая скала Акурион, возвышавшаяся над гладью озера неподалеку от берега, а чуда из чудес и гордости всего человечества они не увидели. Там, где прежде возвышалась стена в триста локтей, за которой стояли еще более высокие башни, простиралась однообразная болотная топь, кишащая отвратительными водяными ящерицами — вот что нашли путники на месте города, в котором обитало когда-то пятьдесят миллионов жителей. Шахты, в которых добывали благородные металлы, тоже исчезли. Роковая участь постигла Сарнат.
Но на месте исчезнувшего Сарната оказалось не только кишащее ящерицами болото. На берегу обнаружился странный каменный идол, видом напоминавший Бокруга, водяную ящерицу. Этого идола доставили в Иларнек и поместили там в одном из храмов, где жители со всего Мнара, когда приближалось полнолуние, воздавали ему великие почести.
БЕЛЫЙ КОРАБЛЬ
Я Бэзил Элтон, смотритель маяка на Северном мысе; мой дед и мой отец тоже были здесь смотрителями. На удалении от берега стоит серая башня на скользких скалах, обнажающихся во время отлива и скрытых от глаз во время высокого прилива. Вот уже более ста лет этот маяк указывает путь величественным парусникам, странствующим по всем семи морям; во времена моего деда их было много, при отце значительно меньше, а теперь они проплывают так редко, что порой я ощущаю себя настолько одиноким, будто остался последним человеком на планете.
В старину заходили в эти края большие белопарусные корабли из дальних стран, от далеких восточных берегов, где солнце светит жарко, а над чудесными садами и пестрыми храмами витают сладкие ароматы. Старые капитаны часто заглядывали к моему деду и рассказывали обо всех этих диковинах, а он, в свою очередь, поведал о них моему отцу, а отец в долгие осенние вечера рассказывал о них мне под жуткие завывания восточного ветра. Да и сам я много читал обо всем подобном в книгах, которые мне давали, когда я был молод и восторгался чудесами.
Но чудеснее рассказов старых людей и книжной премудрости была тайная мудрость океана. Голубой, зеленый, серый, белый или черный, спокойный, волнующийся или вздымающий водяные горы, океан никогда не умолкает. Всю свою жизнь я наблюдал за ним, прислушивался к его шуму и научился понимать его с полуслова. Сначала он рассказывал мне простенькие истории про тихие пляжи и ближайшие гавани, но с годами он стал более дружелюбен и рассказывал уже о других вещах — более странных и более отдаленных в пространстве и во времени. Иногда в сумерках серая дымка на горизонте расступалась, позволяя мне увидеть пути, ведущие вдаль, а порой среди ночи морские глубины становились прозрачными и фосфоресцировали, давая мне увидеть пути, ведущие вглубь. И тогда мне доводилось увидеть как пути, которые существовали, так и пути, что могли существовать, ибо океан древнее самих гор и пропитан памятью и снами самого Времени.
Этот Белый Корабль приходил с юга, когда полная луна стояла высоко в небе. С южного направления он тихо и плавно скользил по морю. И волновалось ли оно или было спокойным, был ли ветер попутным или встречным, корабль всегда шел плавно и тихо, паруса его были приспущены, а длинные ряды весел ритмично поднимались и опускались. В одну из ночей я разглядел на палубе бородатого человека в мантии, который, казалось, манил меня на корабль, предлагая отправиться к неведомым берегам. После этого я много раз видел его при полной луне, и всякий раз он зазывал меня.
Луна светила необычайно ярко в ту ночь, когда я откликнулся на зов и перешел на Белый Корабль по мосту из лунного света. Человек, зазывавший меня, обратился ко мне на певучем языке, который показался мне вполне понятным, и все то время, пока мы плыли в сторону таинственного Юга, золотого в свете полной луны, гребцы пели тихие песни.
А когда наступил розовый и лучезарный рассвет нового дня, я увидел вдалеке зеленый берег, незнакомый мне, яркий и прекрасный. От морской глади поднимались великолепного вида террасы, поросшие буйной растительностью, среди которой можно было углядеть крыши и колоннады необычных храмов. Когда мы стали ближе к зеленому берегу, бородатый человек сказал мне, что это земля, называемая Зар, где живут все сны и помыслы о прекрасном, что являлись когда-то людям, а потом оказались забыты. И взглянув снова на террасы, я понял, что это правда, потому что среди того, что я заметил, было и то, что виделось мне сквозь туман за горизонтом и в фосфоресцирующих глубинах океана. А также были здесь формы и фантазии, великолепнее которых я никогда не видал: видения юных поэтов, умерших в нужде до того, как успели поведать миру о своих прозрениях и мечтах. Но мы не прогулялись по ровным лугам страны Зар, ибо сказано было, что тот, кто ступит на них, никогда больше не вернется на родной берег.
Когда Белый Корабль молчаливо удалился от украшенных храмами террас страны Зар, на горизонте показались шпили могучего города, и бородатый человек сказал мне: «Это Таларион, Город Тысячи Чудес, где собрано все таинственное, что люди тщетно пытались постигнуть». И снова посмотрев на него с близкого расстояния, я увидел, что город этот величественнее любого другого, о каком я знал или видел во сне. Шпили его храмов возносились в небо так высоко, что невозможно было разглядеть их острия, и далеко за горизонт уходили его мрачные серые стены, над которыми выступали только крыши немногих домов, странные и зловещие, хотя и украшенные фризами и соблазнительными скульптурами. Мне очень хотелось вступить в этот притягательный и в то же время отталкивающий город, и я умолял бородатого человека высадить меня на сияющий причал у гигантских резных ворот Акариэль, но он вежливо отклонил мою просьбу, сказав: «В Таларион, Город Тысячи Чудес, входили многие, но не вернулся никто. По его улицам бродят только демоны и безумцы, переставшие быть людьми, и мостовые белы от непогребенных костей тех, кто отважился взглянуть на нематериальный образ Лати, царствующий в этом городе». И Белый Корабль проследовал мимо стен Талариона, и много дней вслед за нами на юг летела птица, чье прекрасное оперение было цвета лазури неба, с которого она явилась.
Затем мы приблизились к приветливому берегу, радующему глаз буйством цвета, в глубину которого, насколько мог видеть глаз, в полуденном солнечном свете тянулись чудесные рощи, пронизанные радиально расходящимися аллеями. Из беседок, скрывающих то, что внутри, от нашего взгляда, доносились обрывки песен под аккомпанемент лиры, перемежающиеся со смехом, столь сладостным, что я начал настаивать, чтобы гребцы направили туда корабль. И бородатый человек не сказал ни слова, только смотрел на меня, пока мы приближались к берегу, перед которым густо росли лилии. Внезапно ветер, подувший с этих цветущих лугов, принес запах, заставивший меня вздрогнуть. Ветер стал сильнее, и воздух оказался пропитан зловонным кладбищенским духом зачумленных городов и незакопанных могил. И когда мы с безумной поспешностью поплыли прочь от этого проклятого берега, бородатый человек наконец произнес: «Это Ксура, Страна Недостижимых Удовольствий».
И снова небесная птица следовала за Белым Кораблем над теплым благословенным морем, несомая ласковым, ароматным бризом. Мы плыли день за днем и ночь за ночью, а когда восходила полная луна, слушали тихие песни гребцов, такие же приятные, как в ту давнюю ночь, когда я покинул родной берег. При свете луны мы бросили якорь в гавани страны Сона-Нил, с двух сторон которой — мысы из хрусталя, поднимающиеся над морем и сходящиеся вместе сверкающей аркой. Это была Страна Фантазий, и мы сошли на зеленеющий берег по золотому мосту из лунного света.
В стране Сона-Нил нет ни времени, ни пространства, ни страданий, ни смерти, и я прожил в ней многие тысячелетия. Рощи и пастбища там зелены, цветы ярки и ароматны, водные потоки сини и сладкозвучны, ключи прозрачны и холодны, а храмы, замки и города Сона-Нил величественны. Эта страна безгранична, за одним чудесным видом тут же открывается другой, еще более прекрасный. В селениях и среди блеска городов живет и свободно странствует счастливый народ, и каждый здесь наделен изяществом манер и безмятежным счастьем. Тысячелетия, прожитые мной в этом краю, я блаженно странствовал по рощам, где из живописных зарослей выглядывали причудливые пагоды, а белые дорожки были усажены по краям чудесными цветами. Я поднимался на пологие холмы, с которых мог видеть чарующие пейзажи с городками, пристроившимися в уютных долинах, и золотые купола гигантских городов, сверкающие на горизонте в бесконечной дали. А при свете луны видел искрящееся море, два хрустальных мыса и спокойную гавань, где бросил якорь Белый Корабль.
Снова была ночь полнолуния в незапамятный год Тарпа, когда я вновь увидел манящий силуэт небесной птицы и ощутил первые уколы беспокойства. Тогда я обратился к бородатому человеку и поведал ему о желании отправиться в далекую Катурию, которую не видел никто из людей, но все верили, что она лежит за базальтовыми столпами Запада. Это Страна Надежды, и там сияют идеалы всего, что где-либо когда-либо было известно, или по крайней мере так говорилось. Но бородатый человек сказал мне: «Следует опасаться тех коварных морей, за которыми, по рассказам, лежит Катурия. Здесь, в Сона-Ниле, нет ни боли, ни смерти, но кто знает, что скрывается там, за базальтовыми столпами Запада?» Однако в следующее полнолуние я ступил на борт Белого Корабля, и бородатый человек неохотно отплыл от счастливого берега, отправляясь в нехоженые моря.
А небесная птица летела впереди, ведя нас к базальтовым столпам Запада, но теперь гребцы не пели тихие песни при полной луне. В воображении я часто рисовал себе неведомую страну Катурию с ее пышными рощами и великолепными дворцами и представлял, какие новые наслаждения ожидают меня там. «Катурия, — говорил я себе, — это место, где обитают боги, страна бесчисленных городов из золота. Ее леса из алоэ и сандаловых деревьев напоминают благоуханные рощи Каморина, и в них веселые птицы насвистывают приятные мелодии. На зеленых и усыпанных цветами горах Катурии возвышаются замки из розового мрамора, богато украшенные барельефами и изображениями триумфов, а в их внутренних дворах прохладные серебряные фонтаны очаровательно мелодично разбрызгивают ароматную воду из рождаемой в пещерах реки Нарг. Города Катурии окружены золотыми стенами, и мостовые их также из золота. В садах этих городов растут удивительные орхидеи и благоухают озера, дно которых усыпано кораллом и янтарем. По ночам на улицах и в садах зажигают фонари, выполненные из трехцветного панциря черепахи, и звучат голоса певцов и звуки лютни. Все дома в Катурии — воистину дворцы, каждый из них выстроен над источающим аромат каналом, в котором течет вода священной реки Нарг. Эти дома выстроены из мрамора и порфира и покрыты сверкающим золотом, которое отражает лучи солнца и усиливает блеск городов в глазах блаженных богов, глядящих на них с отдаленных пиков. Но прекраснее всех строений дворец великого монарха Дориеба, которого одни считают полубогом, а другие богом. Дворец Дориеба высок, многочисленные мраморные башни возвышаются над его стенами. В его просторных залах происходят многолюдные собрания, а на стенах в них развешаны трофеи за многие века. Кровлю дворца, из чистого золота, подпирают высокие столпы из рубина и лазурита, украшенные резными изображениями богов и героев, исполненными так искусно, что при виде их кажется, что это живые обитатели Олимпа. Пол во дворце стеклянный, под ним текут искусно подсвеченные воды реки Нарг, и в них плавают рыбки дивной окраски, которых не встретишь за пределами прелестной Катурии».
Так беседовал я сам с собой о Катурии, несмотря на то, что бородатый человек предостерегал меня и уговаривал вернуться к счастливым берегам страны Сона-Нил, ибо Сона-Нил известна людям, тогда как Катурию не доводилось видеть никому.
И на тридцать первый день нашего странствия вслед за птицей мы увидели базальтовые столпы Запада. Они были окутаны туманом, так что нельзя было ни увидеть того, что за ними, ни разглядеть их вершины, которые, говорят, достают до небес. И бородатый человек снова уговаривал меня повернуть назад, но я не внял его увещеваниям, ибо из-за столпов до моего слуха доносились голоса певцов и звуки лютни, более сладостные, чем самые сладкие песни Сона-Нил, восхваляющие меня самого — смельчака, отправившегося при полной луне вдаль и долго прожившего в Стране Фантазий. Так что Белый Корабль поплыл на звуки песни в туман между базальтовыми столпами Запада. Когда же музыка стихла и туман рассеялся, мы увидели не землю Катурии, а стремительно несущиеся морские воды, которые неодолимо увлекали наше беспомощное судно неведомо куда. Скоро до нашего слуха донесся отдаленный грохот падающей воды, и нашему взору открылось титаническое облако брызг чудовищного водопада впереди, далеко на горизонте, в котором океаны мира низвергались в бездну небытия. И тогда бородатый человек сказал мне сквозь слезы, сбегающие по его щекам: «Мы отказались от прекрасной страны Сона-Нил и теперь никогда туда не вернемся. Боги могущественнее людей, и они победили». В ожидании грядущей катастрофы я закрыл глаза и перестал видеть небесную птицу, которая трепетала призрачными голубыми крыльями над самым краем стремительно обрушивающегося потока.
Сразу после крушения наступила полная темнота, сквозь которую доносились пронзительные крики людей и нечеловеческие стоны неживых предметов. Ураганный ветер с востока пробрал меня холодом, когда я приник к мокрой каменной плите, оказавшейся у меня под ногами. Затем я снова услышал грохот, открыл глаза и увидел, что нахожусь на площадке маяка, откуда отправился в путь многие тысячелетия назад. В темноте передо мной смутно вырисовывались расплывчатые очертания судна, налетевшего на безжалостные скалы, а когда я посмотрел вверх, то увидел, что маяк погружен во тьму — впервые с тех пор, как мой дед принял на себя заботу о нем.
Не дожидаясь рассвета, я вошел внутрь башни и увидел на стене календарь. На нем значился том самый день, когда я отплыл отсюда. На рассвете я спустился из башни, чтобы осмотреть обломки кораблекрушения, но нашел на скалах только мертвую птицу с оперением цвета небесной лазури и одну-единственную расщепленную рею, оказавшуюся белее гребешка волны или снега на горной вершине.
После этого океан не раскрывал мне свои секреты, и хотя много раз в небе бывала полная луна, Белый Корабль с юга не приходил больше никогда.
АРТУР ДЖЕРМИН
Часть I
Жизнь — страшная штука, а по отдельным дьявольским намекам, доходящим до нас из пучины неведомого, мы можем догадываться, что на самом деле все обстоит в тысячи раз хуже. Наука со своими шокирующими открытиями не только не принесла человечеству счастья, но, возможно, станет даже его убийцей. Однако есть ли такое понятие — человечество? Ведь желание во что бы то ни стало утаить сокрытое зло никак не могло родиться в разуме смертного. Если бы мы знали, кем являемся на самом деле, то поступили бы как сэр Артур Джермин, однажды вечером обливший себя горючей смесью и поднесший к одежде спичку. Никто так и не собрал в урну его прах и не поставил памятник на могилу: найденные после него документы и некий заключенный в ящик предмет настолько всех потрясли, что эту смерть постарались поскорее забыть. Те же, кто знал его близко, никогда о нем не говорили.
Артур Джермин ушел на болото и сжег себя, после того как извлек и рассмотрел привезенный из Африки предмет. Именно из-за этого предмета, а вовсе не из-за своей необычной внешности он покончил с собой. Многим не понравилось бы жить с таким лицом, но Артур Джермин спокойно уживался с ним — он был поэтом и ученым. Страсть к науке была у него в крови, ведь его прадедушка, сэр Роберт Джермин, был известным антропологом, а прапрапрадедушка, сэр Уэйд Джермин, одним из первых исследовал бассейн реки Конго и со знанием дела описал его племена, животный мир и возможную праисторию. Научный энтузиазм сэра Уэйда граничил поистине с сумасбродством, и когда были опубликованы материалы его исследований некоторых районов Африки, то эксцентричные предположения автора о существовании в доисторические времена в Конго белой цивилизации вызвали много насмешек. В 1765 году этого бесстрашного путешественника поместили в психиатрическую лечебницу города Хантингтона.
Безумие жило во всех Джерминах — к счастью, этот род был малочислен. В его генеалогическом древе отсутствовали побочные ветви — Артур был последним представителем рода. Трудно сказать, что сделал бы он, увидев предмет, будь у него родственники. Джермины никогда не отличались приятной наружностью — чего-то в их облике для этого недоставало, — но Артур превзошел в безобразии всех. Впрочем, по старинным фамильным портретам, висевшим в родовом поместье Джерминов, можно было заключить, что до сэра Уэйда в семье встречались и вполне благообразные люди. Безумие тоже вошло в семью с сэром Уэйдом, чьи бредовые россказни об Африке приводили его друзей равно и в восторг, и в ужас. Взять хотя бы необычную коллекцию, привезенную им из Африки, — разве не позволяла она усомниться в его нормальности? А тот факт, что никому ни разу не довелось увидеть его жену? По словам сэра Уэйда, она была дочерью португальского торговца, встреченного им в Африке, и не любила европейских обычаев. Он привез ее вместе с родившимся в Африке сыном из своего второго, самого продолжительного путешествия. Из третьего же, и последнего, жена не вернулась. Никто так никогда и не видел ее вблизи, даже служанки, но, по слухам, нрав у нее был свирепый. Во время своего непродолжительного пребывания в мужнином фамильном замке она жила в отдаленном крыле, где ее навещал один только супруг. Стремление к семейному уединению было развито у сэра Уэйда до такой степени, что, вернувшись из Африки, он никому, кроме негритянки из Гвинеи, довольно неприятного вида, не позволял ухаживать за маленьким сыном. После смерти леди Джермин он целиком посвятил себя заботам о мальчике.
Но сумасшедшим сэр Уэйд прослыл все-таки из-за своих завиральных идей. В таком рациональном веке, как восемнадцатый, образованному человеку не следовало бы рассказывать о диких зрелищах и фантастических сценах, разыгрывавшихся под конголезской луной, о высоких, полуразрушенных и заросших диким виноградом стенах и башнях заброшенного города, о сырых каменных ступенях, ведущих во мрак гробниц, наполненных сокровищами, о запутанных подземных ходах. Особенно шокировал всех его бредовый рассказ о существах, населяющих город. По его словам, они напоминали и обитателей джунглей, и потомков древней языческой цивилизации. Их причудливый облик озадачил бы самого Плиния. Эти существа возникли, возможно, после того, как гигантские обезьяны захватили приходящий в упадок город — вместе с его стенами и башнями, склепами и таинственным резным орнаментом.
После своего окончательного возвращения сэр Уэйд стал разглагольствовать обо всех этих вещах с совершенно неподобающим пылом — обычно после третьего стакана вина в трактире «Голова рыцаря». Он похвалялся, что отыскал в джунглях нечто такое, чего никто никогда не видел, и рассказывал, как жил там среди никому неведомых развалин. Об аборигенах же он говорил теперь такие несуразности, что его быстренько упрятали в сумасшедший дом. Оказавшись за решеткой больничной палаты, этот джентльмен, казалось, не сокрушался о своей судьбе — так сильно он к той поре переменился. По мере того как взрослел сын, сэр Уэйд все меньше любил свой замок и наконец прямо-таки его возненавидел. Родным домом ему стала «Голова рыцаря». Попав же в лечебницу, он как будто даже испытывал благодарность за заботу о нем. Спустя три года он умер.
Филип, сын сэра Уэйда, отличался большими странностями. Внешне он чрезвычайно напоминал отца, однако облик его и поведение были настолько грубы, что многих приводили в трепет. Его старались избегать. Хотя он и не унаследовал отцовского безумия, чего многие боялись, зато был определенно глуп и, кроме того, время от времени вдруг впадал в необъяснимую ярость. Небольшого роста, он был очень силен и необычайно ловок. Через двенадцать лет после получения титула Филип женился на дочери своего егеря, по происхождению цыгана, а перед самым рождением сына ушел на флот простым моряком, чем только подтвердил свою плохую репутацию. Рассказывали, что после окончания Войны за независимость он служил на торговом корабле, везшем груз в Африку, но исчез незадолго до того, как судно отчалило от берегов Конго.
В сыне сэра Филипа Джермина наследственные черты обернулись странной, фатальной стороной. Высокого роста, довольно привлекательный, несмотря на некоторую странность пропорций, с загадочной восточной грацией во всем своем облике, Роберт Джермин уже в самом начале сознательной жизни проявил себя как ученый и исследователь. Он первый изучил с научным пристрастием крупную коллекцию редкостей, привезенных его сумасшедшим дедом из Африки, а также прославил родовое имя в области этнологии, подобно тому как его предок сделал это в географии. В 1815 году сэр Роберт женился на дочери седьмого виконта Брайтхолма и имел в этом браке трех детей, из которых старший и младший никогда не показывались на людях по причине физических и душевных изъянов. Удрученный этими печальными семейными обстоятельствами, ученый нашел утешение в работе, совершив две продолжительные экспедиции в центральную часть Африки. В 1849 году его второй сын, Невил, исключительно неприятный субъект, соединивший в себе угрюмый нрав Филипа Джермина и надменность Брайтхолмов, убежал из дому с какой-то танцовщицей. Он объявился через год и был прощен. В родовое гнездо Невил вернулся вдовцом, с малюткой Альфредом, которому предстояло стать отцом Артура Джермина.
Друзья говорили, что разум сэра Роберта Джермина пошатнулся из-за семейных невзгод, но, возможно, поводом к этому послужил африканский фольклор. Пожилой ученый собирал легенды одного из племен онга, жившего в том районе, где путешествовал сначала дед, а потом и он сам в поисках затерянного города с жителями странного этнического типа. Некоторая логика, присутствовавшая в загадочных записях его предка, позволяла предположить, что воображение безумца подхлестывалось местными поверьями. 19 октября 1852 года путешественник Сэмюел Ситон посетил замок Джерминов, захватив с собой записи легенд, собранных им среди племен онга; он считал, что знаменитому этнологу будет интересна та их часть, где рассказывается о сумрачном городе белых обезьян во главе с белым богом. На словах он, возможно, добавил еще что-то, оставшееся неизвестным, потому что беседа завершилась кровавой трагедией. Задушив путешественника, сэр Роберт Джермин вышел из библиотеки и, прежде чем ему сумели помешать, убил всех своих детей: тех двух, которых никто не видел, и того, который убегал из дома. Перед смертью Невил Джермин успел, однако, спрятать своего двухлетнего сына, которому иначе неминуемо грозил бы тот же конец. Что касается самого сэра Роберта, то он, отказавшись дать какое-либо объяснение чудовищному своему деянию, неоднократно пытался покончить с собой и наконец скончался от апоплексического удара на второй год пребывания в тюрьме.
Сэр Альфред Джермин унаследовал титул баронета, когда ему не было и четырех лет, однако особым аристократизмом не отличался. В двадцать лет он стал работать в кабаре, а в тридцать шесть, покинув жену и ребенка, ушел с бродячим американским цирком. Конец его был ужасен. Среди цирковых животных особой популярностью у публики пользовалась огромная горилла с необычайно светлой кожей — она была послушна и хорошо поддавалась дрессировке. Эта обезьяна совершенно покорила Альфреда Джермина, и они часто и подолгу рассматривали друг друга через решетку клетки. Со временем Джермин добился разрешения работать с обезьяной, удивив всех своими неожиданными способностями к дрессуре. Однажды утром, когда цирк находился в Чикаго, горилла и Альфред репетировали сложный номер с боксом. Животное случайно нанесло дрессировщику-любителю удар сильнее обычного, чем задело его самолюбие. О том, что за этим последовало, артисты группы «Величайшее шоу мира» не любят вспоминать. Сэр Альфред Джермин издал неожиданно для всех резкий, нечеловеческий крик, схватил своего незадачливого противника и, затащив в угол клетки, вонзился зубами в волосатую глотку. Горилла потеряла над собой контроль, и, прежде чем вмешался дрессировщик-профессионал, баронет был разорван в клочья.
Часть II
Артур Джермин был сыном Альфреда Джермина и певички из кабаре неизвестного происхождения. Когда Альфред бросил ее, она привезла ребенка в родовой замок его отца, где уже не осталось никого, кто имел бы право ее выставить. Она знала кое-что понаслышке о дворянской чести и потому постаралась, чтобы ее сын получил самое лучшее образование, какое только позволяли весьма стесненные средства. Денег в семье не хватало, да и замок нуждался в ремонте, но молодой Артур крепко привязался к этому древнему дому со всем его укладом. Мечтатель и поэт, он не был похож на остальных Джерминов. Соседи, помнившие рассказы о португальской жене сэра Уэйда, утверждали, что в потомке заговорила латинская кровь; другие же, посмеиваясь над его склонностью ко всему прекрасному, приписывали ее влиянию матери-певички, которую общество так и не признало. Поэтическая натура Артура Джермина особенно бросалась в глаза по контрасту с его исключительно безобразной внешностью. Большинство Джерминов, как мы уже упоминали, отличалось некрасивостью, но Артур превзошел всех. Трудно сказать, чем именно отталкивала его внешность, но и выражение лица, и профиль, и необычайно длинные руки — все мгновенно рождало антипатию к нему.
Но ум и характер Артура Джермина с лихвой искупали недостатки его наружности. С его талантами и образованием он добился признания и ученых степеней в Оксфорде и, казалось, был рожден для того, чтобы восстановить высокую научную репутацию семьи. Хотя по темпераменту Артур был скорее поэт, нежели ученый, тем не менее он собирался продолжить труды предков в области африканской этнологии и истории, используя богатейшую, хотя и загадочную, коллекцию сэра Уэйда. Наделенный живым воображением, он частенько задумывался о доисторической цивилизации, в существование которой так истово верил сумасшедший путешественник, и тогда в его грезах вставал затерянный в джунглях город, упоминавшийся в фантастических записках его предка. При каждом, даже косвенном упоминании о безымянной, никому ранее неведомой расе, живущей в джунглях, он испытывал странное чувство, в котором подсознательный ужас смешивался с неодолимым любопытством. Он много размышлял над тем, что могло лежать в основе этой фантазии, и в поисках ответа обращался к легендам, собранным его прадедом и Сэмюелом Ситоном среди племен онга.
В 1911 году, после смерти матери, сэр Артур Джермин решил довести свои изыскания до конца. Продав часть земель и выручив необходимую для снаряжения экспедиции сумму, он отплыл в Конго. С помощью бельгийских властей он нанял проводников и отправился в джунгли, где провел год среди племен онга и калири, собрав там сведения, важность которых превзошла все его ожидания. В племени калири ему повстречался пожилой вождь по имени Мвану, обладавший не только цепкой памятью, но и значительным интеллектом — он и сам интересовался старинными легендами. Старик знал все те фантастические истории, которые читал Джермин, и добавил к ним еще одну — о каменном городе и белых обезьянах, — которую слышал от своих родичей.
По словам Мвану, древний город и его жители-метисы погибли много лет назад в войне с жестоким племенем нбангусов. Разрушив жилища и уничтожив все живое, племя унесло с собой мумию богини — она и была, собственно, предметом их вожделений. Богиня, которой поклонялись таинственные жители-метисы, напоминала обезьяну и, по преданию, когда-то царствовала в городе. Кем в действительности являлись эти обезьяноподобные белые существа, Мвану не знал, но предполагал, что они-то и построили разрушенный впоследствии город. Рассказ местного жителя не связал воедино для Джермина отдельные легенды, но история мумифицированной принцессы при дальнейших расспросах становилась все интереснее.
По преданию, обезьянья принцесса стала супругой пришедшего с запада великого белого бога. Они долгое время совместно управляли городом, но после рождения сына уехали, взяв младенца с собой. Позднее бог и принцесса вернулись и какое-то время снова царствовали. После смерти принцессы божественный супруг поместил ее мумию в просторный каменный храм, где она стала предметом ритуального поклонения. Сам же покинул город.
Легенда существовала в трех вариантах. Согласно первой, ничего особенного в дальнейшем не произошло; правда, считалось, что мумия приносит удачу и могущество владеющему ею племени. Именно поэтому нбангусы и похитили ее. В другом варианте бог вернулся, чтобы умереть у ног своей мумифицированной супруги. В третьем говорилось о приезде взрослого сына (человека? обезьяны? бога?), ничего не знавшего о тайне своего рождения. Негры с их пылким воображением, конечно же, многое присочинили, и теперь трудно было докопаться до подлинных фактов, лежащих в основе сей экстравагантной истории.
После этих рассказов Артур Джермин уже не питал ни малейших сомнений в том, что описанный старым Уэйдом город в джунглях существовал, а когда в 1912 году случайно набрел на его руины, испытал некоторое разочарование. Хотя каменные развалины ясно говорили о том, что это не обычная негритянская деревушка, однако величина города была сильно преувеличена. Резных орнаментов, к сожалению, не обнаружили, а малочисленность экспедиции не позволила начать работы по расчистке входа в подземный туннель, который, возможно, привел бы к системе подземных ходов и склепов, о которых упоминал и сэр Уэйд. Пытались расспрашивать о белых обезьянах и о мумии местное население, но без особого успеха. Наконец один европеец вызвался перепроверить сведения из рассказа старого Мвану. Это был бельгийский подданный господин Веререн, торговый агент, работавший в Конго. Он рассчитывал не только отыскать мумию, о которой кое-что слышал и раньше, но и заполучить ее. Члены когда-то могущественного племени нбангусов были теперь преданными вассалами короля Альберта и при небольшом нажиме, без сомнения, согласились бы расстаться с украденным ими божеством. Поэтому Джермин отплыл в Англию, исполненный радужных надежд воочию увидеть в ближайшие месяцы бесценную реликвию, которая подтвердила бы самые фантастические рассказы его прапрапрадедушки, по крайней мере те из них, что дошли до него. Самые бредовые рассказы сэра Уэйда наверняка слышали завсегдатаи «Головы рыцаря», но уже невозможно было разыскать и расспросить их потомков.
Артур Джермин терпеливо ждал обещанного господином Веререном ящика, а пока с еще большим тщанием изучал записи сумасшедшего предка. Он чувствовал все более тесную связь с ним и старался теперь отыскать в бумагах сведения не только об африканских экспедициях, но и о его жизни в Англии. О таинственной затворнице-жене сохранилось много устных преданий, но ни одного вещественного свидетельства ее пребывания в Джермин-хаусе. Размышляя о том, что же послужило причиной столь странного заточения, Джермин решил, что это как-то связано с безумием сэра Уэйда. Из рассказов он помнил, что его прапрапрабабушка была дочерью португальского купца из Африки. Наверняка унаследованный ею здравый смысл, а также некоторое знание Черного континента побудили ее скептически отнестись к «басням» мужа, чего он ей, конечно, не простил. Она умерла в Африке, куда он, возможно, насильственно ее привез, чтобы доказать свою правоту. Но все это были лишь предположения. Джермин прекрасно понимал, что спустя сто пятьдесят лет после смерти этих странных супругов трудно представить себе истинную картину.
В июне 1913 года пришло письмо от Веререна, в котором он сообщал, что нашел мумию богини. По его словам, это было нечто из ряда вон выходящее и совершенно не поддающееся определению. Только специалист мог бы понять, к какому виду — приматов или человека — относится это существо, однако плачевное состояние, в котором находилась мумия, исключало эту возможность. Время и климат Конго не пощадили богиню, к тому же дело усугублялось тем, что ее мумифицировали не по правилам. Шею мумии украшала золотая цепь с медальоном, на котором были выгравированы геральдические знаки. Эту ценность туземцы наверняка похитили у какого-нибудь путешественника и использовали как талисман. Месье Веререн позволил себе вышутить наружность мумии, прибавив, что, по его мнению, она удивит его корреспондента, но в остальном был краток — его слишком интересовала научная сторона вопроса. Он писал, что сам экспонат прибудет месяц спустя после письма.
Ящик с мумией доставили в Джермин-хаус в полдень 3 августа 1913 года и по просьбе хозяина сразу же внесли в большую комнату, где хранились собранные сэром Робертом и Артуром африканские раритеты. О том, что случилось дальше, известно из рассказов слуг, а также из осмотра на месте происшествия различных бумаг и предметов. Среди изложенных версий наиболее убедительным представляется рассказ старого дворецкого Сомса. По его словам, перед тем как вскрыть ящик, сэр Артур Джермин попросил всех покинуть комнату. Вскоре по донесшемуся оттуда стуку молотка стало ясно, что он приступил к делу. Затем воцарилась тишина. Сколько она продолжалась, Сомс не мог сказать с точностью, но, во всяком случае, не больше четверти часа. Затем раздался отчаянный вопль хозяина. Дверь тут же распахнулась, и Джермин, пулей вылетев из комнаты, понесся прочь, словно его преследовал страшный враг. Лицо хозяина, неприятное и при спокойном выражении, теперь, искаженное ужасом, было поистине чудовищным. Почти добежав до выхода, он вдруг остановился, как бы пораженный пришедшей в голову мыслью, повернулся и побежал к лестнице, ведущей в подвал. Ошеломленные слуги застыли на месте, не решаясь спуститься за хозяином. Тот все не возвращался, а потом из подвала донесся сильный запах нефти. Когда стемнело, во дворе послышался легкий шум, и помощник конюха увидел, как Артур Джермин, с головы до ног залитый нефтью, выскользнул из двери подвала и исчез на болоте, подступающем к дому. Его конец видели все оцепеневшие от ужаса обитатели замка. Сначала в темноте вспыхнула крошечная искорка, затем занялось пламя, и вот уже огненный столб взмыл к небесам. Род Джерминов прекратил существование.
Причина, по которой обугленные останки Артура Джермина не собрали и не похоронили, вызвана содержимым присланного из Африки ящика, которым заинтересовались после его смерти. Мумия богини выглядела отвратительно, вдобавок была источена временем, однако не вызвало никаких сомнений: в ящике лежала мумифицированная белая обезьяна неизвестного вида. Волосяной покров был у нее выражен гораздо меньше, чем у большинства известных науке приматов, и вообще она удивительным образом — что поражало неприятней всего! — напоминала человека. Не хотелось бы вдаваться во все эти подробности, но о двух вещах сказать необходимо — слишком во многом соответствуют они африканским запискам сэра Уэйда, а также конголезским легендам о белом боге и обезьяньей принцессе. Во-первых, изображенный на медальоне герб принадлежал роду Джерминов, а во-вторых, шутливый намек месье Веререна на сходство принцессы с кем-то из его знакомых расшифровывался мгновенно: сморщенное личико богини — все тотчас отметили это с ужасом и отвращением — было как две капли воды похоже на лицо утонченного Артура Джермина, прапраправнука сэра Уэйда Джермина и его неизвестной супруги. Члены Королевского общества антропологов сожгли проклятую мумию, а медальон бросили в глубокий колодец, дабы ничто не напоминало о том, что Артур Джермин жил на этом свете.
КОШКИ УЛТАРА
Рассказывают, что в городке Ултар, лежащем за рекой Скай, запрещено убивать кошек. И, глядя на кота, который мурлыча греется у камелька, я думаю, что это мудрое решение. Ведь кот — загадочнейшее существо, он посвящен в сокрытые от человека тайны. Он — душа Древнего Египта и единственный свидетель существования давно забытых городов: Мероя и Офира. Он — родственник властелина джунглей и посвящен в тайны древней и загадочной Африки. Сфинкс — его кузен, они говорят на одном языке, но все же кот старше сфинкса и помнит такое, о чем тот давно позабыл.
В Ултаре еще до выхода указа, запрещающего убивать кошек, жил старик крестьянин с женой, и ничто им не было так любо, как изловить и погубить соседскую кошку. Трудно сказать, зачем они это делали, разве что были из тех, кто не выносит кошачьи вопли по ночам, кого передергивает при мысли, что кошки крадучись бродят в полночь по дворам и садам. Так или иначе, старики с удовольствием заманивали в западню и убивали каждую кошку, имевшую несчастье приблизиться к их жилищу, а по разносившимся ночью воплям соседи догадывались, что конец животных был ужасен. И все же никто не заговаривал об этом со стариками — слишком уж невозмутимое выражение хранили они на своих лицах, да и жили на отшибе, в маленькой хибарке под развесистыми дубами. А если уж говорить начистоту, то хотя кошачьи хозяева и ненавидели эту парочку, но еще больше боялись и, вместо того чтобы как следует проучить жестоких убийц, старались следить, чтобы их любимцы не бродили поблизости от уединенной хижины под густыми деревьями и не ловили там мышек. Когда все же случалось непоправимое и кошка пропадала, владелец, слыша после наступления темноты вопли несчастной твари, бессильно плакал или же возносил хвалу Богу за то, что такая судьба не постигла его ребенка. Ведь жители Ултара были простыми людьми и не знали всю славную родословную кошек.
И вот однажды диковинный караван с юга вступил на узкие, мощенные булыжником улицы Ултара. Темнокожие путешественники отличались от обычного бродячего люда, что проходил через деревню дважды в год. На рынке они предсказывали за деньги судьбу и покупали яркие бусы. Никто не знал, откуда родом эти странники, но молились они как-то чудно, да и повозки их украшали странные фигуры с человеческим торсом и с головами кошек, соколов, баранов и львов. А голову предводителя каравана венчал двурогий убор с загадочным диском посередине.
Ехал с этим удивительным караваном маленький мальчик; не было у него ни отца, ни матери, а был только крошечный черный котенок, которого он очень любил. Жестокая судьба подарила мальчику это маленькое пушистое существо, дабы смягчить боль всех утрат: когда ты юн, взирать на резвые шалости своего черного дружка — большая утеха. И поэтому мальчик, которого темнокожие люди называли Менесом, играя с грациозным котенком в углу диковинно разукрашенной повозки, смеялся чаще, чем плакал.
На третье утро пребывания каравана в Ултаре котенок исчез. Менес горько рыдал, и тут кто-то из жителей рассказал ему о старике и его жене и о том, что сегодня ночью из их хижины опять доносились страшные звуки. Услышав это, мальчик перестал рыдать и призадумался, а потом стал молиться. Он простер руки к солнцу со словами молитвы на незнакомом языке. Впрочем, жители городка и не пытались разобрать слова молитвы, их взоры устремились к облакам, которые стали принимать удивительные очертания. Странно, но с каждым словом мальчика на небе возникали неясные, призрачные фигуры экзотических существ, увенчанных коронами с двумя рогами и диском посередине. Природа часто дарит людям с воображением удивительные картины.
Той же ночью странники покинули Ултар, и никто их больше не видел. Одновременно в городке исчезли все кошки, что привело в отчаяние их хозяев. Никто больше не мурлыкал у камелька — пропали большие и маленькие, черные, серые, полосатые, рыжие и белые. Старый бургомистр Кренон был уверен, что это темнолицые люди увели с собой кошек, чтобы отомстить за котенка Менеса, и громко проклинал и караван, и самого мальчика. Но по мнению тощего нотариуса Нита, здесь скорее замешаны старый крестьянин и его жена: их ненависть к кошкам с течением времени, казалось, лишь возрастала. И все же никто не осмелился открыто расспросить о случившемся зловещую чету, хотя маленький Атал, сын хозяина гостиницы, клялся, что видел собственными глазами, как в сумерках все кошки Ултара, медленно и торжественно выступая по двое, словно совершая неведомый ритуал, постепенно окружили проклятый дом под деревьями. Жители сомневались, можно ли верить такому малышу, и хотя подозревали, что старые злыдни замучили животных до смерти, все же предпочли не связываться с ними, пока не встретят старика где-нибудь подальше от его чертова подворья.
Наконец весь Ултар, мучась от бессильной злобы, забылся тяжелым сном, а утром, когда проснулись, — ба! — все кошки снова грелись у печурок. Все были на своих местах — большие и маленькие, черные, серые, полосатые, рыжие и белые. Они вернулись домой, отяжелевшие и лоснящиеся, и громко мурлыкали от удовольствия. Удивленные горожане, толкуя о случившемся, не знали, что и думать. Старый Кренон твердил свое: это-де темнолицые увели животных, от старика и его жены кошки живыми бы не вернулись. Но удивительнее всего, по общему мнению, было то, что блюдца с молоком и кусочки мяса стояли нетронутыми. Кошки Ултара не притрагивались к пище целых два дня, а только дремали у печки или грелись на солнышке.
Лишь неделю спустя горожане заметили, что по вечерам в окнах дома под дубами не загорается свет. И тогда тощий Нит напомнил им, что с того дня, как пропали кошки, никто не видел старых злыдней. Еще через неделю бургомистр переборол страх и постучал в дверь жилища, исполняя свою обязанность служителя власти, но из дома не донеслось ни звука. Впрочем, бургомистр не забыл захватить с собой кузнеца Шенга и резчика по камню Тула. Когда же они, взломав ветхую дверь, проникли внутрь, то увидели только два дочиста объеденных скелета да ползающих в темных углах тараканов.
Среди жителей Ултара было много всяких толков. Следователь Зат обсудил происшествие во всех подробностях с тощим нотариусом Нитом, а потом засыпал расспросами Кремона, Шенга и Тула. Затем все вместе еще раз с пристрастием допросили маленького Атала, сына хозяина гостиницы, дав ему в награду леденец. А после этого долго судили да рядили о старике крестьянине и его жене.
И в конце концов бургомистр издал памятный указ, о котором рассказывают торговцы в Хатеге и путешественники в Нире, а именно: «Никто в Ултаре не смеет убить кошку».
СЕЛЕФАИС
В видениях Куранес видел город в долине, морской берег вдали, снежную вершину горы над морем и галеры ярких расцветок, отчалившие из гавани и плывущие в дальние края, где море смыкается с небом. Именно в видениях его звали Куранес; в обычной жизни его звали иначе. Вероятно, другое имя он придумал себе не случайно, ибо был последним в роду и остро чувствовал свое одиночество в многомиллионном равнодушном Лондоне. Не так уж много людей общались с ним, напоминая тем самым, кем он был. Его деньги и земли — все это ушло в прошлое, ему было безразлично, что о нем думают люди, он предпочитал грезить и писать о своих грезах. Те, кому он показывал первые пробы пера, высмеяли его; тогда он стал писать для себя, а затем и вовсе забросил это занятие. И чем больше он удалялся от обыденного мира, тем изумительнее становились его видения и тем более беспомощными оказывались попытки описать их. Куранес был человеком консервативного воспитания и мыслил не так, как модные писатели. Они пытались сорвать с жизни ее сотканные из мифов покровы и показать неприкрытое безобразие отвратительной реальности, Куранес же искал саму красоту. Знания и обретенный опыт не смогли раскрыть ее, и тогда он обратился к фантазии и иллюзии и нашел красоту совсем рядом — в туманных воспоминаниях о детстве и детских мечтах.
Немногие сознают, какие неведомые дали раскрываются в историях и мечтах их юности; ибо дети, слушая и мечтая, не пытаются вгонять мысли в какие-то рамки, а когда мы пытаемся вспомнить уже будучи взрослыми, то воспоминания получаются скучными и унылыми, отравленными ядом жизни. И все же некоторые из нас просыпаются среди ночи, увидев диковинные фантазии: зачарованные горы и сады, поющие под солнцем фонтаны, золотые пики гор, вздымающиеся возле ласковых морей, долины, простирающиеся вокруг спящих городов из камня и бронзы, удалых воинов, разъезжающих по опушкам густых лесов на белых лошадях, покрытых попонами; и тогда мы догадываемся, что заглянули через ворота из слоновой кости в мир, открытый для нас прежде, когда мы еще не были так мудры и несчастны.
Куранес внезапно смог вернуться в прежний мир своего детства. Ему снился дом, где он родился, большой, увитый плющом, в котором прожили тринадцать поколений его предков и где он надеялся умереть и сам. Летней лунной ночью он тайком выбрался в сады, спустился вниз, по террасам, мимо парка со старыми дубами и вышел на длинную белую дорогу, ведущую к деревне. Деревня казалась очень старой на вид, с покосившимися, будто начинающая убывать луна, домами на околице, и Куранес невольно задумался: что же таится в домах с островерхими крышами: сон или смерть? Посреди улицы росла высокая трава, а дома смотрели на него взглядом непроницаемо грязных стекол либо пустыми глазницами. Куранес шел не останавливаясь, будто куда-то конкретно. Он не пытался проявлять своеволия, опасаясь, что все окажется иллюзией, как мечты и устремления повседневной жизни, никогда ни к чему не приводящие. Потом он свернул из деревни к обрыву — и внезапно оказался на краю света, у бездны, возле которой стояла деревня; весь мир заканчивался, и взору открывалась бесконечная пустота, не содержащая ничего, и небо над ней было пустое, не освещалось даже ущербной луной или мерцанием звезд. Глубокая внутренняя убежденность сподвигла Куранеса сделать шаг вперед, и он медленно полетел вниз, плыл все ниже и ниже, миновал темные, бесформенные, неприснившиеся сны, слабо светящиеся сферы частично приснившихся сновидений и смеющихся крылатых эльфов, которые, казалось, высмеивали всех мечтателей мира. Потом тьма перед ним расступилась, и Куранес увидел ущелье и город в долине, сверкающий вдали на фоне неба, моря и снежной вершины горы, вздымающейся возле моря.
Куранес проснулся в тот же миг, как увидел город, но этого мига ему хватило — он сразу узнал Селефаис, город в долине Оот-Наргаи за Танарианскими холмами, где его дух обитал целую вечность в тот час давнего летнего полдня, когда он убежал от няньки и, наблюдая за плывущими облаками, заснул возле деревни, убаюканный теплым морским бризом. Он был крайне недоволен, когда его нашли и разбудили, потому что во сне собирался отплыть на золотой галере в чудесные края, где море смыкается с небом. Вот и на этот раз Куранес, проснувшись, почувствовал досаду, потому что нашел свой сказочный город после сорока тоскливых лет.
Но через три ночи Куранес снова вернулся в Селефаис. Как и в прошлый раз, сначала ему приснилась деревушка, сонная или вымершая, и бездна, через которую он должен был безмолвно перелететь; затем снова перед ним оказалось ущелье, и он увидел сверкающие минареты города, изящные галеры, стоявшие на приколе в голубой гавани, и китайские деревья гинкго на горе Аран, колышущиеся от морского бриза. Но на сей раз никто не выхватил его из мира грез, и он, как крылатое существо, опустился на поросшую травой полянку на склоне горы, и ноги его мягко коснулись травы. Наконец ему удалось вернуться в долину Оот-Наргаи к замечательному городу Селефаис.
Спускаясь с горы, Куранес наслаждался ароматом трав и любовался красочными цветами; он перешел бурную журчащую речку Нараксу по деревянному мостику, на котором много лет назад вырезал свое имя, миновал рощицу и подошел к большому каменному мосту у городских ворот. Здесь ничто не изменилось: не потемнели мраморные стены, не покрылись патиной украшавшие их бронзовые скульптуры. И Куранес понял: ему не надо опасаться, что все здесь стало совсем другим. Даже часовые на крепостном валу были те же самые и такие же молодые, какими он их запомнил. Тогда Куранес вступил в город через бронзовые ворота и прошел по ониксовым мостовым, а купцы и погонщики верблюдов приветствовали его, как будто он никуда надолго не уходил, и то же самое повторилось в бирюзовом храме Нат-Нортат, где жрецы в венках из орхидей объяснили ему, что в Оот-Наргаи время не движется и здесь всегда вечная юность. Затем Куранес прошел по Столбовой улице к той части крепостного вала, что граничила с гаванью, где толпились купцы и моряки, а также чужестранцы из тех краев, где море смыкается с небом. Куранес долго стоял на крепостном валу, глядя на ярко освещенную гавань, на морскую рябь, сверкавшую под непривычным солнцем, на галеры, скользившие по воде. Трудно было оторвать взгляд от горы Аран, царственно возвышавшейся над морем, нижняя часть склонов которой была зелена от растительности, а снежный пик упирался в небо.
Куранесу безумно хотелось отплыть на галере в те удивительные края, о которых слышал так много чудесного, и он отправился на поиски капитана, когда-то давно согласившегося взять его с собой в плавание. Он разыскал этого человека, Атхиба, сидящим на том же самом сундуке с пряностями и, казалось, даже не заметившим, сколько времени прошло. Затем они вдвоем подплыли к галере, стоявшей на якоре, капитан отдал приказ гребцам, и галера вышла в бурное Серенарианское море, которое где-то вдали сливается с небом. Несколько дней галера неслась по волнам, и наконец путники приблизились к горизонту, туда, где море смыкается с небом. Галера, не замедляя хода, вплыла в голубизну неба и двинулась меж пушистых облачков, слегка розоватых от света солнца. А далеко внизу, под килем, Куранес видел незнакомые земли, реки и города неслыханной красоты, нежившиеся в лучах солнца, которое здесь никогда не заходило. Наконец Атхиб сказал, что путешествие подходит к концу: они приближаются к гавани Серанниана, облачного города, построенного из розового мрамора на эфирном берегу, где западный ветер начинает дуть в небо. Но когда на горизонте стали видны самые высокие из башен этого города, Куранес услышал звук, от которого проснулся в своей лондонской мансарде.
После этого он многие месяцы тщетно искал чудесный город Селефаис и галеры, уплывающие к небу, и хотя посетил в грезах много чудных, невиданных мест, никто из встреченных им не помог ему отыскать Оот-Наргаи, лежащий за Танарианскими холмами. В одну из ночей он пролетал над темными горами, где на большом расстоянии друг от друга горели едва различимые костры — там паслись стада диковинных косматых животных, и на шее у вожаков висели колокольчики, позвякивающие при ходьбе, — и в самой глухой части этой затерянной в горах страны, куда редко проникали путешественники, он приметил очень древнюю стену, изгибами проходящую через горы и долины, настолько громадное сооружение, что не верилось, что это дело рук человеческих: и в ту, и в другую сторону стена уходила куда-то вдаль. За этой стеной в предрассветных сумерках он увидел странные сады с вишневыми деревьями, а когда взошло солнце, пред ним предстал прекрасный мир белых и красных цветов, сочной зеленой листвы, белых дорожек, сверкающих ручейков и голубых маленьких озер, резных мостиков и пагод с красными крышами — настолько прекрасный, что Куранес в восхищении на миг забыл про Селефаис. Но, направившись к пагоде, он вспомнил про чудесный город — и спросил бы местных людей про него, но обнаружил, что здесь обитают только птицы, пчелы и бабочки. В другую ночь Куранес поднимался по бесконечной винтовой лестнице из мокрого камня и наконец увидел в лунном свете из окна башни долину и реку; на противоположном берегу реки лежал спящий город, и Куранесу показалось, что он узнает знакомые места. Он собирался уже спуститься и спросить, как добраться до Оот-Наргаи, но вдруг из-за горизонта выплыла яркая звезда, и Куранес понял, что перед ним руины города и не река, а болото, поросшее камышом, а на всем вокруг лежит печать смерти — с тех пор как король Кинаратолис вернулся из завоевательного похода и узрел месть богов.
Вот так Куранес тщетно искал сказочный город Селефаис с его галерами, плавающими в небесный град Серанниан, а попутно видел много чудес и однажды едва спасся от верховного жреца, о котором лучше умолчать, но скажу лишь, что тот скрывал лицо желтой шелковой маской и жил в полном одиночестве в очень древнем каменном монастыре, стоявшем на холодном пустынном плато Ленг. Со временем Куранесу стали настолько постылы бесцветные дни, разделяющие ночи, что он, желая продлить ночные грезы, стал пользоваться наркотиками. Полезным в этом отношении оказался гашиш, и с его помощью Куранес совершил путешествие в удивительное пространство, где отсутствует форма, а светящиеся газы изучают тайны жизни. Фиолетовый газ рассказал Куранесу, что это пространство находится за пределами того, что он назвал бы бесконечностью. Этот газ никогда раньше не слышал о планетах и живых организмах, но смог определить, что Куранес явился из той бесконечности, где существуют материя, энергия и сила притяжения. Куранес безумно жаждал вернуться в Селефаис с его дивными минаретами и потому стал принимать более сильные дозы наркотиков. Но в один прекрасный летний день все деньги у него закончились, и покупать наркотики было не на что; его выселили из мансарды, и он, бесцельно бродя по улицам и перейдя по очередному мосту, оказался в глухой оконечности города, где дома попадались все реже и реже. Но внезапно здесь его ожидания сбылись: Куранес повстречал кортеж рыцарей из Селефаиса, прибывший, чтобы забрать его с собою навсегда.
Они были прекрасны, эти рыцари на чалых лошадях, в сверкающих доспехах и расшитых золотом плащах с гербами. И так многочисленны, что поначалу Куранес по ошибке принял кортеж за войско; но их прислали, чтобы оказать ему особую честь: ведь Куранес создал Оот-Наргаи своими мечтаниями, и потому теперь его навечно назначили верховным богом города. Рыцари усадили Куранеса на коня, и он поскакал в голове кавалькады. Величественная конница выехала на равнины Суррея и вскоре миновала родовой замок Куранеса, где жили когда-то его предки. Но вот что удивительно: скача вперед, всадники совершали обратное путешествие во времени. Так, проезжая в сумерках деревню, Куранес видел дома и людей такими, как видел их Чосер или его предшественники, и порой им попадались рыцари верхом в сопровождении своей прислуги. Когда стемнело, лошади побежали резвее, а в ночи и вовсе полетели, будто по воздуху. В предрассветных сумерках они приблизились к деревне, которую Куранес видел обитаемой в детстве, а потом, в другом сне, спящей или вымершей. Сейчас она была обитаема, и деревенские жители, поднявшиеся рано утром, кланялись проезжавшим всадникам, сворачивавшим на улицу, которая во сне обрывалась пропастью. Прежде Куранес бывал у пропасти только ночью, теперь он жаждал увидеть бездну при свете дня и нетерпеливо подгонял своего коня. Едва все они приблизились к краю пропасти, с запада разлился золотой свет и закрыл все вокруг лучезарной завесой. Пропасть казалась бурлящим хаосом розового и небесно-голубого цвета, и невидимые голоса запели ликующий гимн, когда всадники ринулись вниз и поплыли среди сверкающих облаков в серебристом сиянии. Казалось, бесконечно долго падают вниз всадники, а кони их ступают по золотым облакам, как по золотому песку в пустыне, но наконец лазурная завеса распахнулась, открывая подлинное великолепие — изумительную красоту Селефаиса на берегу моря и горного снежного пика над ним. Галеры ярких расцветок плыли из гавани в далекие края, где море смыкается с небом.
И Куранес стал верховным правителем Оот-Наргаи, города своей мечты, и его окрестностей, а двор его располагался попеременно в Селефаисе и городе в облаках Серанниане. Он и сейчас там правит и будет править вечно, несмотря на то что возле утесов Инсмута волны насмешливо поигрывали телом бродяги, забредшего на рассвете в полупустую деревню, потаскали его вдоль берега и выбросили возле Тревор-Тауэрс, где преуспевающий пивовар, ставший миллионером, наслаждался атмосферой приобретенного не так давно старинного родового имения деградирующей аристократии.
ПОТУСТОРОННЕЕ
Странная, неподдающаяся объяснению перемена произошла с моим другом Кроуфордом Тиллингастом. Я не видал его два с половиной месяца, с того самого дня, когда он признался мне, с какой целью ведет физические и метафизические исследования, и в ответ на мои опасения и увещевания в приступе ярости выгнал меня из лаборатории и выдворил из своего дома. Я знал, что после этого он заперся в лаборатории в мансарде с этой ненавистной мне машиной, отвергая пищу и помощь прислуги, но, увидев его, с трудом поверил, что человеческое существо может настолько сильно измениться и так обезобразиться за всего лишь десять недель. Не так уж приятно видеть некогда полноватого человека внезапно сильно похудевшим, а еще неприятнее заметить, что его обвисшая кожа пожелтела, а местами стала серой, глаза ввалились, стали обведены кругами и жутко поблескивают, лоб покрылся сетью морщин, а руки дрожат и подергиваются. Если добавить к этому отталкивающую неряшливость, беспорядок в одежде, начинающую редеть нерасчесанную шевелюру, давно не стриженную седую бороду, почти скрывшую некогда гладко выбритое лицо, то невольно испытываешь нечто близкое к шоку. Таким предстал передо мной Кроуфорд Тиллингаст в ночь, когда его невразумительная записка заставила меня после многих недель нашего разрыва вновь появиться у дверей знакомого дома; стоявший передо мной со свечой в трясущейся руке на пороге старого, уединенно расположенного дома на Беневолент-стрит, поминутно озиравшийся по сторонам и пугавшийся чего-то невидимого или видимого только ему одному, скорее напоминал призрака.
То, что Кроуфорд Тиллингаст занимался наукой и философией, было ошибкой. Заниматься подобным следовало бы беспристрастному человеку с холодным рассудком, а для чувствительного и импульсивного человека, каким был мой друг, наука сулила два в равной мере трагических исхода: отчаяние в случае неудачи или невыразимый и неописуемый ужас в случае успеха. Однажды Тиллингаст уже потерпел неудачу, в результате чего обрел склонность к затворничеству и меланхолии, а по страху, который он испытывал теперь, я понял, что на сей раз он пал жертвой успеха. Я предупреждал его об этом десять недель назад, когда, увлеченный своей фантастической идеей, он с головой погрузился в исследования. В тот момент он был чрезвычайно возбужден, раскраснелся и излагал свои идеи неестественно высоким, но, как всегда, уверенным и спокойным голосом.
— Что известно нам, — говорил он, — о мире и окружающей вселенной? Органы чувств сообщают нам о них до абсурдного мало, а наши представления об окружающих предметах невероятно скудны. Мы видим вещи такими, какими мы созданы их видеть, и не в состоянии постичь их абсолютную суть. Слабыми пятью чувствами мы лишь обманываем себя, лишь тешим себя иллюзией, что воспринимаем всю безграничную сложность окружающего пространства, тогда как существа с более широким спектром и большей глубиной чувств могут не только по-иному воспринимать предметы, но способны видеть и изучать целые миры иной материи, энергии и жизни, которые окружают нас, но которые нельзя постичь земными чувствами. Я всегда верил, что эти странные, недосягаемые миры существуют у нас под боком, и теперь, похоже, придумал способ преодолеть разделяющий нас барьер. Я говорю это совершенно серьезно. Еще какие-то двадцать четыре часа, и вот эта машина, что стоит у стола, начнет генерировать лучи, оживляющие наши атрофированные или рудиментарные чувства. Эти лучи откроют нам доселе неведанное человеку в отношении органической жизни. Мы узреем причину, по которой собаки ночью воют, а кошки навостряют слух. Мы увидим это и многое другое, недоступное простым смертным. Мы преодолеем время и границы измерений и, не перемещаясь физически, проникнем в глубь мироздания.
Когда Тиллингаст сказал это, я принялся отговаривать его, ибо, зная его достаточно хорошо, скорее испугался, чем обрадовался его достижениям, но он был фанатично одержим этой идеей и, не пожелав более со мной разговаривать, выставил из своего дома. Его одержимость не пропала и сейчас, но желание выговориться оказалось сильнее обиды, и он прислал мне записку в несколько строк в повелительном тоне, написанную таким почерком, что я едва смог его разобрать. Войдя в жилище своего друга, который так внезапно превратился в трясущуюся от страха горгулью, я ощутил холод страха, которым, казалось, были пропитаны все тени в полумраке этого дома. Слова и заверения, прозвучавшие здесь десять недель тому назад, словно бы пребывали где-то за пределами маленького круга света от свечи, и я вздрогнул при звуке глухого, изменившегося до неузнаваемости голоса Тиллингаста. Я попытался окликнуть прислугу, но он тут же заверил меня, что вся челядь покинула этот дом три дня тому назад, и это сообщение показалось мне зловещим. По меньшей мере странно, что старый и преданный Грегори оставил хозяина, даже не сообщив об этом мне, его давнему и проверенному другу. Именно от Грегори я узнавал, что происходило с Тиллингастом после того, как он в припадке гнева выдворил меня из своего дома.
Но постепенно мой страх вытеснялся возрастающим любопытством. Я мог только догадываться, чего именно хотел от меня Кроуфорд Тиллингаст сейчас, но не вызывало сомнений, что он обладал великой тайной, которой жаждал поделиться. Прежде я противился его неестественной жажде прорваться в непредставимое, а сейчас, когда он почти наверняка добился успеха, я готов был разделять его веру и последовать за ним куда угодно, хотя страшную цену этой победы мне еще предстояло осознать. Но пока что я следовал через мрачную пустоту дома за неярким желтым огоньком свечи в дрожащей руке этой пародии на человека. Электричество по всему дому было отключено, а когда я спросил почему, Кроуфорд ответил, что для этого есть веские причины.
— Это будет уже слишком… Я не осмелюсь… — бурчал он себе под нос. Это бормотание привлекло мое внимание, ибо раньше за ним не водилось привычки разговаривать с самим собой. Мы поднялись в мансарду, в лабораторию, и я снова увидел эту отвратительную электрическую машину, излучавшую жуткий, зловещий фиолетовый свет. Она была подключена к мощной химической батарее, но, похоже, сейчас не работала, поскольку не вздрагивала и не издавала устрашающих звуков, как это бывало раньше. На мой вопрос Тиллингаст пробубнил, что свечение, исходящее от машины, вовсе не электрическое в том смысле, как я это понимаю.
Он усадил меня возле машины так, что она находилась справа от меня, и повернул выключатель, расположенный под рядом стеклянных ламп. Послышались знакомые мне звуки, сначала напоминающие плевки, затем жалобный вой и наконец затихающее жужжание. При этом свечение то усиливалось, то ослабевало, и вскоре приобрело какой-то бледный, тревожащий цвет такого оттенка, который я не то что описать, а даже представить себе не могу. Тиллингаст, внимательно при этом наблюдавший за мною, усмехнулся, увидев мою озадаченность.
— Хочешь знать, что это? — прошептал он. — Это ультрафиолет. — Он удовлетворенно хмыкнул, заметив изумление на моем лице, и продолжил: — Ты полагаешь, что ультрафиолетовые лучи не воспринимаются зрением, и в этом абсолютно прав. Но сейчас ты можешь наблюдать их, как и многое другое, ранее недоступное человеческому глазу. Послушай, я объясню. Волны, излучаемые машиной, пробуждают в нас тысячи дремлющих чувств, выработанных эволюцией за бесчисленные тысячелетия от первых до последних шагов — от состояния свободных электронов до синтеза человека органического — и переданных нам по наследству. Я узрел истину и хочу открыть ее тебе. Желаешь ли ты узнать, как она выглядит? Я покажу тебе. — Тиллингаст опустился на стул напротив меня, задул свечу и тяжелым взором уставился мне в глаза. — Органы чувств, которые у тебя есть, в первую очередь уши, уловят множество новых, доселе неведанных им ощущений. Затем включатся другие. Ты когда-нибудь слышал о шишковидном теле? Этот жалкий эндокринолог вызывает у меня лишь смех — этот запутавшийся вконец человечишко, выскочка Фрейд. Я открыл, что это тело есть величайший из всех органов чувств, какие имеются у человека. Оно в чем-то подобно глазам и передает зрительную информацию непосредственно в мозг. Если у тебя с ним все в порядке, ты получаешь эту информацию в полной мере… я имею в виду образы из потустороннего.
Я окинул взором пространство мансарды с наклонной южной стеной, залитое особым светом, недоступным обычному глазу. Дальние ее углы были по-прежнему темны, и все помещение казалось окутанным дымкой загадочности, скрывающей его настоящий вид и увлекающей воображение в область символизма и фантазмов. Пока Тиллингаст молчал, мне представилось, что я нахожусь в каком-то огромном и удивительном храме давно забытых богов, далекие стены которого закрыты туманом, с бесчисленными колоннами черного камня, вздымающимися от влажных плит пола до заоблачной выси за пределами моего видения. Какое-то время я видел это даже вполне отчетливо, но постепенно это сменилось более жуткой концепцией: ощущением полного, абсолютного одиночества посреди бесконечного, невидимого и беззвучного пространства. Казалось, меня окружает лишь пустота и больше ничего, я ощутил, как на меня наваливается такой ужас, какого я не испытывал с самого детства; этот ужас заставил меня вытащить из кармана револьвер, который я постоянно ношу с собой по вечерам с тех пор, как на меня как-то напали в Восточном Провиденсе. Затем откуда-то из бесконечного удаления в пространстве и времени ко мне начал пробиваться какой-то звук. Он был едва различимым, слегка резонирующим и, вне всякого сомнения, музыкальным, но в то же время в нем были нотки какой-то исступленной дикости, изощренно истязавшие мое естество, как скрип гвоздя по стеклу. В то же время возникло ощущение чего-то вроде сквозняка, казалось, исходившего из того же источника, что и звук. Пока я, затаив дыхание, напряженно вслушивался, звук и поток воздуха усиливались, и внезапно я увидал себя привязанным к рельсам на пути приближающегося огромного локомотива. Но едва я заговорил с Тиллингастом, видение это мгновенно развеялось. Снова я видел только человека, уродливую машину и мрачное помещение. Тиллингаст непроизвольно оскалился, увидев револьвер, почти бессознательно вынутый мною из кармана, и по его лицу я понял, что он видел и слышал все то, что видел и слышал я, если не больше. Я шепотом пересказал ему свои впечатления, после чего он посоветовал мне стараться оставаться спокойным и внимательным.
— Не двигайся, — предупредил он. — Мы можем видеть в этих лучах, но не забывай о том, что и нас видят. Я уже сообщил тебе, что слуги покинули дом, но не рассказал каким образом. Моя глупая экономка включила внизу свет, хотя я строго-настрого запретил это делать. Естественно, колебания тока в электросети тут же пришли в резонанс с излучением. Это, без сомнения, было страшно: их истошные вопли прорывались ко мне сквозь пелену всего того, что я видел и слышал из потустороннего, и, признаться, меня пробрал озноб, когда я обнаружил в доме кучки одежды. Возле выключателя в холле лежала одежда миссис Апдайк, и тогда я все понял. Их утащило всех до одного. Но пока мы не двигаемся, мы в безопасности. Не забывай о том, что мы контактируем с миром, в котором абсолютно беспомощны… Не шевелись!
От этого шокирующего признания и последовавшего за ним резкого приказа я впал в подобие паралича, и в этом необычном состоянии мой разум вновь стал воспринимать картины, идущие из того, что Тиллингаст называл «потусторонним». Я оказался среди водоворота звуков, расплывчатых движений и размытых образов. Очертания комнаты окончательно поблекли, и из какого-то места в пространстве возле меня потек, постепенно расширяясь, поток непонятных клубящихся форм, проходящий передо мной и пробивающий невидимую мне крышу дома где-то правее и выше меня. Снова я увидел храм, но на сей раз колонны упирались в океан света, из которого вниз вырывался слепящий луч. Вслед за тем картины и образы стали сменять друг друга в бешено вращающемся калейдоскопе. Вскоре я ощутил в себе желание раствориться и исчезнуть насовсем в этом потоке видений, звуков и незнакомых мне доселе чувственных восприятий. Один из таких ярко вспыхивающих образов я запомнил очень хорошо. На какое-то мгновение мне привиделся клочок ночного неба, густо усеянного светящимися вращающимися сферами, затем это видение удалилось, и я увидел мириады светящихся солнц, составляющих нечто вроде созвездия или галактики необычной формы, смутно напоминавшей искаженные очертания лица Кроуфорда Тиллингаста. В следующий момент я почувствовал, как эти огромные одушевленные тела касаются, а некоторые даже просачиваются сквозь меня. Тиллингаст, судя по всему, внимательно наблюдал за их движением своим более натренированным восприятием. Я вспомнил, что он говорил о шишковидном теле, и заинтересовался, какие же удивительные откровения являются его сверхъестественному взору.
Неожиданно все окружающее предстало мне как бы со стороны. Сквозь мерцающий эфемерный хаос нечетко, но все же вполне ясно проступали элементы некоей связности и постоянства. Это было нечто очень знакомое, сверхъестественным образом наложенное на привычную окружающую действительность, что-то типа кинокадра, проецируемого на расписной театральный занавес. Я видел лабораторию в мансарде, электрическую машину и расплывчатые очертания Тиллингаста, сидевшего напротив меня. Но пространство, свободное от привычных глазу вещей, было до предела заполнено недоступными описанию живыми и неживыми формами. Они сплетались друг с другом в безумные клубки, и каждая знакомая форма сливалась с сонмами непостижимых чужеродных. Казалось, все земные предметы состояли в сложных взаимосвязях с чужеродными, и наоборот. Среди живых объектов выделялись желеобразные, чернильного цвета чудовища, извивавшиеся в унисон с вибрацией машины. Их было вокруг пугающе много, и я с ужасом наблюдал, как они проникали друг сквозь друга — их текучесть позволяла им просачиваться сквозь что угодно, даже сквозь тела, которые мы аксиоматично принимаем за твердые. Эти существа ни секунды не пребывали на одном месте, а неустанно плавали во все стороны, как если бы были одержимы какой-то зловещей целью. Временами они пожирали друг друга: одно из них стремительно бросалось на другое, и в следующее мгновение атакуемый бесследно исчезал. Внутренне содрогнувшись, я понял, что теперь понимаю, как исчезли несчастные слуги, и уже не смогу изгнать из своего разума знание об этих существах. Тиллингаст, внимательно наблюдавший за мной, произнес:
— Ты их видишь? Ты их видишь? Видишь этих плавающих и прыгающих вокруг тебя, проникающих сквозь тебя ежесекундно всю твою жизнь существ? Ты видишь то, что пронизывает наш чистый воздух и наше голубое небо? Ну как, разве не преуспел я в преодолении барьера и не показал тебе мир, скрытый от глаз простых смертных?
Он истошно выкрикивал это в окружающий нас хаос, угрожающе приблизив свое лицо к моему. Глаза его горели, как два раскаленных уголька, и только теперь я заметил, что в них светится ненависть. Его машина начала издавать какое-то совсем мерзкое завывание.
— Ты, наверное, решил, что вот эти неповоротливые существа забрали моих слуг? Глупец, они безобидны! Но слуг ведь нет, правда? Ты пытался остановить меня; ты пытался разуверить меня как раз тогда, когда я больше всего нуждался в твоей поддержке. Ты побоялся узнать правду о пространстве, жалкий трус, но сейчас ты в моих руках! Что забрало слуг? Что вынудило их кричать?.. Ага, не знаешь! Погоди, сейчас узнаешь. Смотри мне в глаза и слушай меня внимательно. Ты полагаешь, что действительно существуют такие вещи, как пространство и время. Ты также уверен, что миру присущи материя и форма. Так вот, слушай. Я исследовал такие глубины мироздания, которые твой слабый мозг не в состоянии даже представить. Я заглянул за границы бесконечности и призвал демонов звезд… Я смог покорить духов, которые, путешествуя из одного мира в другой, сеют повсюду смерть и безумие… Отныне космос принадлежит мне. Ты слышишь меня? Сейчас эти существа охотятся за мной — существа, пожирающие и поглощающие все живое; но я знаю, как спастись от них. Вместо меня они заберут тебя, как до этого забрали слуг… Испугался, милый друг? Я же предупреждал тебя, что здесь опасно шевелиться. Этим я спас тебя от смерти, но спас для того лишь, чтобы ты мог еще немного посмотреть на это да послушать меня. Если бы ты хоть чуточку шелохнулся, они бы уже давным-давно слопали тебя. Не беспокойся, больно тебе не будет. Они и слугам не сделали ничего плохого — просто сам их вид заставил бедняг орать что есть мочи. Мои любимцы не очень-то красивы, но ведь они из миров, где эстетические стандарты… ну, несколько отличаются от наших. Уничтожение, уверяю тебя, проходит совершенно без боли. Но я хочу, чтобы ты посмотрел на них. Сам я их однажды едва не увидел — но, к счастью, я знаю, как этого избежать. Тебе это любопытно? Нет? Я всегда знал, что ты не настоящий ученый. Дрожишь, да? Дрожишь от жажды лицезреть высшие существа, которых я открыл. Почему же ты не хочешь шевельнуться? Устал? Ну, не волнуйся, мой друг, они уже близко… Взгляни, взгляни же, черт тебя побери, смотри, одно из них висит над твоим левым плечом!..
Остальное можно рассказать вкратце, к тому же вы наверняка знаете о нем из газет. Проходившие мимо полицейские услышали выстрел в доме Тиллингаста и нашли нас там: Тиллингаста мертвым, а меня без сознания. Сначала меня арестовали, так как в моей руке был револьвер, однако уже через три часа отпустили, поскольку установили, что Тиллингаст скончался от апоплексического удара, а я стрелял по ужасной машине, бесполезные обломки которой валялись по всему полу лаборатории. Я постарался поменьше рассказывать о том, что видел, опасаясь, что следователь отнесется к этому с вполне оправданным недоверием; но из моих уклончивых показаний врач заключил, что я находился под гипнотическим воздействием мстительного и одержимого жаждой убийства маньяка.
Мне хотелось бы поверить врачу. Тогда я смогу пересмотреть в обратную сторону свои новые представления об устройстве воздуха и неба надо мной. С тех пор я никогда не испытывал комфорта или хотя бы просто душевного спокойствия из-за гнетущего ощущения чьего-то постоянного присутствия у меня за спиной. Сомневаться до сих пор в правоте доктора меня заставляет только один факт: полиции так и не удалось найти тела пропавших слуг, убитых, по их мнению, Кроуфордом Тиллингастом.
ХРАМ
Рукопись, найденная на побережье Юкатана
Двадцатого августа 1917 года я, Карл-Генрих, граф фон Альтберг-Эренштейн, командор-лейтенант военно-морского флота Германской империи, вверяю эту бутылку и записи Атлантическому океану в месте, точные координаты которого мне неизвестны; это примерно 20 градусов северной широты и 35 градусов западной долготы, где на океанском дне беспомощно лежит мой корабль. Я поступаю так в силу желания сообщить другим некоторые необычные факты; нет шансов, что сам я выживу и смогу рассказать об этом, потому что обстоятельства как крайне необычайны, так и угрожающи, — я имею в виду не только безнадежное повреждение лодки U-29, но и катастрофическое ослабление моей немецкой железной воли.
В полдень восемнадцатого июня, как было доложено по радио U-61, идущей в Киль, мы торпедировали британское транспортное судно «Виктори», шедшее из Нью-Йорка в Ливерпуль, в месте с координатами 45° 16’ северной широты, 28° 34’ западной долготы; мы позволили экипажу покинуть корабль, который тонул очень эффектно: сначала ушла под воду корма, нос высоко поднялся из воды, а корпус погружался перпендикулярно дну. Наша кинокамера ничего не пропустила, и я сожалею, что эти прекрасные кадры никогда не попадут в Берлин. После этого мы потопили шлюпки из наших орудий и ушли под воду.
Когда мы перед закатом всплыли, на палубе оказалось тело матроса: его руки каким-то образом вцепились в поручни. Бедняга был молод, довольно смугл и вполне красив: скорее всего, итальянец или грек — без сомнения, из экипажа «Виктори». Очевидно, он искал спасения на корабле, которому пришлось уничтожить то судно, на котором он плыл, — очередная жертва грязной войны, развязанной этими псами, английскими свиньями, против нашей отчизны. Мои матросы обыскали его на предмет сувениров и нашли в кармане куртки очень странную фигурку из слоновой кости: резная голова юноши в лавровом венке. Мой ближайший помощник, лейтенант Кленце, решил, что вещь эта древняя и представляет художественную ценность, поэтому забрал ее себе. Как она могла оказаться у простого матроса — ни он, ни я представить не могли.
Когда тело выкидывали за борт, произошло нечто необычное, серьезно взволновавшее команду. Глаза трупа были закрыты; однако когда его волокли к перилам, они распахнулись, и многим показалось, что они пристально и насмешливо посмотрели на Шмидта и Циммера, склонившихся в тот момент над телом. Боцман Мюллер, человек уже в возрасте, мог бы повести себя и поразумнее, хотя и был полным предрассудков эльзасским свинопасом; его настолько потряс этот взгляд, что он продолжал следить за телом, упавшим в воду, и клялся, что когда оно погрузилось, то расправило члены, приняв позу пловца, и направилось под волнами на юг. Мне и Кленце не понравились эти проявления крестьянского невежества, и мы устроили выволочку команде, особенно Мюллеру.
На следующий день случилась новая неприятность — заболели несколько членов команды. Судя по всему, последствия нервного перенапряжения в длительном плавании и плохого сна. Некоторые из заболевших выглядели рассеянными и подавленными; удостоверившись, что они не симулируют, я освободил их от вахты. Море было беспокойным, поэтому мы погрузились: на глубине волнение не так заметно. Люди тоже стали несколько поспокойнее, несмотря на какое-то странное южное течение, которого не было на наших океанографических картах. Стоны больных были решительно несносны: но пока это не сказывалось на боевом духе команды, мы не принимали решительных мер. Мы планировали дожидаться в этих водах лайнера «Дакия», упоминавшегося в донесении агентов из Нью-Йорка.
Под вечер мы всплыли, волнение на море успокоилось. На севере виднелся дым из труб эскадры, но расстояние и способность погружаться обеспечивали нашу безопасность. Куда большее беспокойство вызывала болтовня боцмана Мюллера, который к утру стал почти невменяемым. Он впал в ребячество, слушать которое было противно, городил чепуху о мертвецах, плавающих за бортом и глядящих на него через иллюминатор, и что он узнал в них тех, кто погиб в результате наших славных боевых операций. Предводительствовал ими, по его словам, тот юноша, которого мы нашли и вышвырнули за борт. Это было очень мрачно и нездорово, поэтому мы решили приковать Мюллера и устроить ему хорошую порку. Команда не порадовалась его наказанию, но дисциплину нужно поддерживать. Также мы отклонили просьбу делегации, возглавляемой матросом Циммером, чтобы фигурка из слоновой кости была выброшена за борт.
Двадцатого июня заболевшие накануне матросы Бем и Шмидт стали вести себя буйно. К великому сожалению, в состав экипажей субмарин не входят врачи, хотя речь ведь идет о жизнях немцев; но нескончаемые вопли и причитания этих двоих о нависшем над нами ужасном проклятии настолько пагубно влияли на дисциплину, что пришлось применить к ним крутые меры. Команда восприняла это с угрюмым молчанием, зато на Мюллера, похоже, это подействовало успокаивающе и больше он не доставлял нам хлопот. Вечером его освободили, и он без лишних слов вернулся к своим обязанностям.
Целую неделю мы все были на нервах, поджидая «Дакию». Напряженная обстановка усугубилась исчезновением Мюллера и Циммера, без сомнения, покончивших с собой из-за навязчивых страхов, хотя никто не видел, как они бросались за борт. Исчезновению Мюллера я был рад: даже просто его молчание влияло на команду неблаготворно. Вся команда стала неразговорчивой, словно подавленная тайным страхом. Заболевших стало больше, но никто не доставлял хлопот. Лейтенант Кленце от постоянного напряжения стал выходить из себя по малейшему поводу: например, из-за дельфинов, собиравшихся вокруг U-29 целыми стаями, или из-за становившегося все сильнее южного течения, не значащегося на наших картах.
Наконец стало понятно, что «Дакию» мы упустили. Подобные неудачи случаются, но мы испытывали скорее облегчение, чем досаду, ведь теперь нам предстояло возвращение в Вильгельмсхафен. В полдень двадцать восьмого июня мы повернули на север и, несмотря на курьезные затруднения, связанные с необычайно большим скоплением дельфинов, погрузились и легли на курс.
Взрыв в машинном отделении в два часа ночи оказался полной неожиданностью. Никаких проблем с работой машин или с персоналом отмечено не было, и все же корабль тряхнуло жутким ударом. Лейтенант Кленце помчался в машинное и обнаружил, что топливные цистерны повреждены, двигатель почти весь разворочен, а механики Шнайдер и Раабе погибли. Наше положение внезапно стало критическим: хотя химические регенераторы воздуха остались целы и мы могли всплывать и погружаться, поскольку действовали насосы и оставались заряженными аккумуляторы, двигаться лодка не могла. Спасаться на шлюпках означало отдать себя на милость врага, испытывающего необъяснимую злобу и ненависть к нашей великой германской нации, а беспроводная связь молчала с тех пор, как перед атакой на «Виктори» мы связывались с подводной лодкой флота Германской империи.
С момента аварии до второго июля мы постепенно дрейфовали на юг — без карт, не встречая судов. Вокруг U-29 кружили дельфины — примечательное обстоятельство, принимая во внимание расстояние до ближайшего берега. Утром второго июля мы засекли военное судно под американским флагом, и вся команда настойчиво требовала, чтобы мы сдались им. В итоге лейтенанту Кленце пришлось застрелить матроса Траубе, особенно настойчиво призывавшего к этому антигерманскому акту. Это усмирило команду на некоторое время, и мы незамеченными ушли под воду.
На следующий день с юга прилетела огромная стая морских птиц, и океан начал становиться неспокойным. Мы пережидали непогоду, задраив люки, пока не поняли, что следует погрузиться, чтобы огромные волны не перевернули лодку. Мы старались экономно расходовать сжатый воздух и заряд аккумуляторов, но сейчас выбора не было. Мы погрузились неглубоко, и когда по прошествии несколько часов море успокоилось, решили снова всплыть. Однако возникла новая неприятность: лодка отказалась всплывать, несмотря на все усилия механиков. Команду обеспокоило это подводное заточение, и некоторые снова припомнили резную фигурку лейтенанта Кленце, но вид автоматического пистолета успокоил их. Мы старались занять чем-то наших людей, возились с механизмами, хотя знали, что это бесполезно.
Мы с Кленце обычно спали по очереди; четвертого июня около пяти часов утра, когда я спал, вспыхнул бунт. Шестеро ублюдков, зовущих себя моряками, полагая, будто застали нас врасплох, с внезапной яростью пытались отомстить нам за отказ сдаться военному кораблю янки два дня назад. Рыча как звери — каковыми по сути и были, — матросы крушили приборы и мебель, выкрикивая всякую чушь и проклятия костяному амулету и смуглому мертвецу, что проклял нас и уплыл. Лейтенант Кленце оказался словно парализован и не решался действовать, проявив худшие черты мягких женоподобных выходцев из Рейнской области. Я застрелил всех шестерых — этого требовали обстоятельства, — после чего лично удостоверился в смерти каждого.
Мы выбросили трупы через торпедный аппарат и остались на U-29 вдвоем. Лейтенант Кленце нервничал и беспробудно пил. Нами было принято решение, что мы постараемся прожить как можно дольше, благодаря большому запасу продовольствия и регенераторам воздуха, ни один из которых не пострадал от рук этих грязных скотов. Наши компасы, глубиномеры и другие хрупкие приборы оказались разбиты; теперь мы могли только приблизительно определять свое местоположение, используя часы и календарь и оценивая дрейф по предметам, видимым через иллюминаторы. К счастью, у нас были батареи большой емкости, их должно было хватить для внутреннего освещения и для прожекторов на долгий срок. Мы периодически включали внешнее освещение, но видели только дельфинов, плывущих параллельно нашему курсу. Эти дельфины вызывали у меня научный интерес: обычный Delphinus delphis — подобное киту млекопитающее, неспособное долго оставаться без воздуха; я же следил за одним из них около двух часов, и за это время он ни разу не поднялся на поверхность.
Прошло много дней, но мы с Кленце решили, что по-прежнему плывем на юг, погружаясь все глубже и глубже. Мы наблюдали за окружающей нас океанской флорой и фауной и читали книги на эту тему, захваченные мною ради редких свободных минут. При этом я не мог не обратить внимания на низкий интеллектуальный уровень моего товарища. К тому же у него был не прусский склад мышления и подверженность бесполезной игре ума и нездоровому воображению. Неминуемость нашей грядущей смерти любопытно подействовала на него: он стал часто молиться в раскаянии за всех мужчин, женщин и детей, которых отправил на дно, забыв о том, что все, послужившее делу германской нации, достойно всяческого одобрения. Постепенно он становился все более несдержанным, иногда часами глядел на костяную фигурку и плел фантастические истории о затерянных и бесследно исчезнувших в море. Иногда, в качестве психологического эксперимента, я сам наводил его на эту тему и выслушивал бесконечные выдержки из поэзии и рассказов о затонувших судах. Мне было жаль его, и не хотелось видеть, как страдает немец, но он был не тем человеком, с которым легко встречать смерть. Своим же поведением я гордился, зная, что отчизна почтит мою память и мои сыновья будут брать с меня пример.
Девятого августа мы заметили океанское дно и направили на него мощный луч прожектора. Это оказалась просторная холмистая равнина, заросшая водорослями и колониями моллюсков. Там и тут виднелись покачивающиеся предметы неопределенных очертаний, обросшие водорослями и ракушками, про которые Кленце сказал, что это останки древних затонувших кораблей. Но вот что его удивило: нечто прямоугольных очертаний, выступающее над дном фута на четыре, со сторонами в два фута, гладкими, ровными, с ровной плоской вершиной. Я счел это причудливым выступом скалы, но Кленце уверял, что заметил на нем барельеф. Спустя некоторое время его стала бить нервная дрожь, и он отвернулся от иллюминатора, будто напуганный, но не смог объяснить чем; думаю, он был поражен громадностью, мрачностью, древностью и загадочностью океанской бездны. Испытание оказалось чрезмерным для его рассудка; но я, более типичный немец, приметил два обстоятельства: что U-29 превосходно выдерживает давление и что странные дельфины по-прежнему с нами, хотя возможность существования высших организмов на таких глубинах отрицается большинством биологов. Возможно, я переоценил глубину, но она была, без сомнения, достаточной, чтобы счесть наблюдаемое необычным. Проверив скорость дрейфа к югу по ориентирам на дне, я убедился, что она в пределах рассчитанных мною параметров.
Двенадцатого августа в 3:15 несчастный Кленце спятил окончательно. Он сидел в рубке и светил прожектором, но затем вдруг ворвался в мою каюту, где я спокойно читал книгу, и лицо сразу выдало его. Я записываю здесь сказанное им, выделяя те слова, которые он подчеркивал голосом: «Он зовет! Он зовет! Я слышу Его! Мы должны идти!» Выкрикивая это, он схватил со стола резную фигурку, спрятал ее в карман и ухватил меня за руку, намереваясь потащить из каюты на палубу. В этот момент я сообразил, что он собирается открыть люки и выбраться за борт вместе со мной — вспышка само— и просто убийственной мании, от которой я растерялся. Когда я вырвался и попытался урезонить его, он стал действовать настойчивее, приговаривая: «Идем прямо сейчас… не надо ждать, когда станет поздно; лучше покаяться и получить прощение, чем упорствовать и стать проклятым!» Тогда я попытался применить противоположную тактику: сказал ему, что он обезумел, — этому жалкому ничтожеству. Но он был непреклонен и воскликнул: «Если я обезумел, то это милость! Да сжалятся боги над тем человеком, который сможет сохранить рассудок до самого жуткого конца! Идем, и еще не поздно сойти с ума, пока Он призывает, будучи склонным к милости!»
После этой вспышки красноречия в его голове словно бы немного прояснилось; после нее он стал мягче и попросил у меня разрешения уйти одному, если уж я отказываюсь идти с ним. Мне стало очевидным, как следует поступить. Он был немцем, но всего лишь рейнландцем и плебеем, и к тому же стал потенциально опасен. Уступив его самоубийственной просьбе, я избавлялся от того, кто был уже не товарищем, а угрозой. Я попросил его не уносить с собой фигурку, но это вызвало у него приступ такого жуткого смеха, что я не решился повторять просьбу. Затем я поинтересовался, не хочет ли оставить хотя бы прядь волос на память для своей семьи в Германии, на случай, если я спасусь, но услышал лишь тот же жуткий смех. Итак, он поднялся по трапу в шлюзовую камеру, я подошел к рычагам и с положенными паузами совершил то, что обрекало его на смерть. Увидев, что он все же покинул лодку, я включил прожектор в попытке напоследок увидеть Кленце еще раз; меня интересовало, расплющило его давлением на такой глубине или тело осталось неповрежденным, как у этих необычных дельфинов. Но мне не удалось найти своего прежнего приятеля, ибо дельфины сбились плотной массой и загородили обзор.
Вечером я пожалел, что не забрал незаметно фигурку из кармана несчастного Кленце, потому что воспоминание о ней не давало мне покоя. Я не мог забыть прекрасную юношескую голову в венке из листьев, хотя по натуре я совсем не художник. Отсутствие собеседника навевало грусть. Пусть Кленце был и не ровня мне по интеллекту, но все же лучше, чем ничего. В ту ночь мне не спалось, я мог только размышлять о неминуемом конце. Шансы на спасение у меня были ничтожные.
На следующий день я, как обычно, поднялся в рубку и начал осмотр окрестностей с помощью прожектора. В северную сторону вид был точно такой же, как и за последние четыре дня, но я заметил, что дрейф U-29 замедлился. Направив луч на юг, я заметил, что океанское дно впереди идет под уклон, а местами заметны каменные блоки искусственного вида, расположенные как будто в какой-то системе. Океанское дно уходило вниз быстрее, чем погружалась лодка, и мне пришлось повозиться, чтобы направить прожектор вертикально вниз. От резкого поворота провода отсоединились, и ремонт занял у меня долгие минуты; наконец прожектор снова заработал, освещая подводную долину подо мной.
Эмоции не властны надо мной, но увиденное в электрическом свете вызвало сильное изумление. Хотя человеку, воспитанному в лучших традициях прусской культуры, не следовало изумляться, ибо как геология, так и традиция сообщают нам о великих смещениях участков морей и материков. Я увидел великое множество расставленных в каком-то сложном порядке разрушенных зданий величественной, но незнакомой мне архитектуры, разной степени сохранности. Большинство были, по-видимому, из мрамора, отблескивающего белизной в луче прожектора; общее расположение свидетельствовало, что когда-то это был огромный город на дне узкой долины, с бесчисленными отдельно стоящими храмами и виллами на пологих склонах. Крыши обрушились, колонны подломились, но дух незапамятно древнего величия ничто не могло уничтожить.
Оказавшись наконец над Атлантидой, которую прежде считал скорее мифом, я стал ее неутомимым исследователем. По углублению в этой долине когда-то пробегала река; изучая пейзаж внимательнее, я углядел остатки мраморных и каменных мостов, набережных, террас и пристаней, когда-то, видимо, утопавших в зелени и бывших прекрасными. Охваченный энтузиазмом, я дошел почти до такой же глупости и сентиментальности, как несчастный Кленце, и поздно заметил, что южное течение наконец утихло и теперь U-29 медленно опускался вниз, на затонувший город, как садятся на землю дирижабли. А кроме того, я запоздало отметил, что стая необычных дельфинов исчезла.
Часа через два лодка улеглась на каменной площади неподалеку от скалистой границы долины. С одной стороны мне был виден весь город, спускающийся от площади к прежнему руслу реки, с другой в удивительной близости возвышался богато украшенный и, похоже, совершенно целый фасад гигантского здания, очевидно, храма, вырубленного в утесе. Каких трудов стоило создать такое титаническое сооружение — я мог только догадываться. Невероятно широкий фасад явно скрывал уходящие далеко вглубь помещения, судя по множеству окон разного назначения. Посреди него зияла громадная открытая дверь, к которой вела поражающая воображение каменная лестница; по краям двери я заметил искуснейшие барельефы на подобные вакхическим сюжеты. Над всем этим — громадные колонны и фризы, и те и другие украшены скульптурами невыразимой красоты; на них, похоже, представлены пасторальные сцены и шествия жрецов и жриц, несущих странные ритуальные предметы, поклоняясь сияющему божеству. Искусство феноменального совершенства, по виду напоминающее древнегреческое, но странно самостоятельное. Оно разрушает впечатление ужасной древности, кажется более современным, чем даже последователи древнегреческого искусства. Все это в целом, каждая деталь этой постройки ощущается как часть древнего скалистого основания нашей планеты. Не могу даже вообразить, как оно было вырублено. Возможно, каверна или серия пещер послужили основой. Ни время, ни долгое пребывание в воде не повредили религиозному величию жуткого храма — ибо это мог быть только храм, — и сейчас, спустя тысячи лет, он стоит нетронутый, неоскверненный, в бесконечной ночи и молчании океанской пучины.
Не могу оценить, сколько часов я провел, разглядывая затонувший город — его здания, арки, статуи, мосты и колоссальный храм, прекрасный и пугающий одновременно. Хотя я знал, что моя смерть близка, любопытство терзало меня, и я водил прожекторным лучом в нескончаемом поиске. Луч света позволял мне рассмотреть множество деталей, но оказывался неспособен высветить что-либо за распахнутой дверью скального храма; рассматривая его время от времени, я выключал ток, сознавая необходимость беречь энергию. Сейчас прожектор светил уже ощутимо слабее, чем в первые недели нашего дрейфа. Словно бы обостренное предстоящим расставанием с жизнью, мое желание узнать хранящиеся в океане тайны росло. Я, представитель великой Германии, буду первым, кто ступит в эти проходы, тысячелетиями пребывавшие в забвении.
Я достал и тщательно проверил металлический костюм для глубоководных погружений; попробовал пользоваться его переносной лампой и регенератором воздуха. Хотя справиться с двойным люком в одиночку очень сложно, я верил, что мои навыки ученого помогут преодолеть все препятствия и пройти по мертвому городу.
Шестнадцатого августа я осуществил выход из U-29 и прогулялся по разрушенным и заплывшим грязью улицам к ложу древней реки. Я не увидел скелетов или каких-либо других человеческих останков, но нашел множество бесценного с точки зрения археологии, от скульптур до монет. Невозможно передать на словах мою скорбь о культуре, пребывавшей в расцвете славы в те времена, когда по Европе бродили пещерные люди, а Нил нес свои воды мимо необитаемых берегов. Другие, пользуясь этими заметками как руководством — если их когда-нибудь найдут, — пусть представят перед человечеством величие, на которое я могу только намекать. Я вернулся в лодку, поскольку батареи начали садиться, приняв решение на следующий день исследовать пещерный храм.
Семнадцатого августа, когда я уже собирался отправиться к храму, меня постигло величайшее из разочарований: я обнаружил, что приборы, необходимые для перезарядки фонаря, пострадали от этих свиней в июньском бунте. Моя ярость была беспредельной, но немецкое здравомыслие не позволяло рисковать, вступая без необходимого снаряжения в непроглядную тьму, где могло оказаться логово неведомого науке морского чудовища или лабиринт, из запутанных ходов которого я никогда не выберусь. Все, что мне удалось сделать, — включить слабеющий прожектор U-29, в его свете подняться по ступеням и осмотреть наружные барельефы. Столб света упирался в проход почти снизу вверх, и разглядеть что-либо за пределами порога оказалось невозможно. Впрочем, не видно было и потолка; хотя я сделал пару шагов вовнутрь, осторожно проверяя пол, но дальше идти не посмел. Более того, впервые в жизни я испытывал ужас. Мне стали понятны причины некоторых фобий несчастного Кленце, потому что хотя храм притягивал меня все больше, по отношению к находящемуся в его глубине я испытывал слепой и все возрастающий ужас. Вернувшись в субмарину, я выключил свет и долго размышлял в темноте. Электричество следовало беречь для более важного.
Всю субботу, восемнадцатого, я провел в полной тьме, терзаемый мыслями и воспоминаниями, грозившими разъесть мою немецкую выдержку. Кленце, звавший меня с собой, обезумел и погиб прежде, чем достиг этих зловещих останков невообразимо далекого прошлого. Неужели и в самом деле судьба сохранила мне рассудок для того лишь, чтобы неодолимо увлекать к концу, более жуткому и немыслимому, чем в состоянии вообразить человек? Несомненно, эти рассуждения — последствия чрезмерного нервного напряжения, мне следует отвергнуть впечатления, возникшие ввиду временной ослабленности.
Всю субботнюю ночь я не спал и, не заботясь о будущем, включил свет. Мысль, что электричество иссякнет раньше воздуха и провизии, раздражала. Мои мысли вернулись к легкой, без мучений, смерти, и я осмотрел свой автоматический пистолет. Под утро я, должно быть, уснул при включенном свете, поскольку, проснувшись вчера среди дня, обнаружил, что батареи мертвы. Я истратил одну за другой несколько спичек и отчаянно сожалел о расточительности, с которой мы израсходовали недавно несколько имевшихся у нас свечей.
Когда последняя зажженная спичка погасла, я остался совершенно спокойно сидеть в темноте. Пока я размышлял о неминуемой смерти, мой разум просматривал все прежние события и выявил нечто странное, что обратило бы в ужас человека послабее и посуевернее. Голова светящегося божества на барельефах скального храма — точно такая же, как на резной фигурке, найденной у мертвого моряка, которую несчастный Кленце унес с собой в море.
Я был озадачен таким совпадением, но не ужаснулся. Только слабому уму свойственно объяснять уникальное и сложное примитивным замыканием на сверхъестественном. Совпадение было странным, но я был слишком здравомыслящим, чтобы увязывать столь разрозненное или неким диким образом увязать в логическую цепочку события от случая с «Виктори» до моего нынешнего ужасного положения. Ощутив потребность в отдыхе, я принял успокоительное и поспал еще. Мое нервное состояние сказывалось и на снах: я слышал крики тонущих, видел мертвые лица, заглядывающие в иллюминаторы. Среди этих мертвых лиц было и одно живое — насмешливое лицо юноши с костяной фигурки.
Описывая мое сегодняшнее пробуждение, я сам отношусь к этому с осторожностью, потому что нервы у меня совершенно расстроены и видения смешиваются с фактами. Мой случай очень интересен для психологов, и очень жаль, что за ним не могли пронаблюдать компетентные немецкие специалисты. Открыв глаза, первым делом я ощутил непреодолимое желание посетить скальный храм; растущее с каждым мгновением, оно оказалось почти автоматически заблокированным чувством страха, сработавшим как тормоз. Вслед за этим почудилось свечение среди тьмы, мне показалось, что я увидел фосфоресцирующее сияние в воде, пробивавшееся через иллюминаторы, обращенные к храму. Это возбудило мое любопытство, ибо мне неведомы глубоководные организмы, способные испускать такое свечение.
Но прежде чем я успел всерьез этим заинтересоваться, появилось дополнительное ощущение, заставившее своей иррациональностью усомниться в объективности всего, что регистрировали чувства. Это была слуховая галлюцинация: ритмический, мелодичный звук какого-то варварского, но прекрасного, распеваемого хором гимна, проникающий откуда-то извне, сквозь абсолютно звуконепроницаемую оболочку U-29. Убежденный, что это признаки психического расстройства, я истратил несколько спичек и принял большую дозу раствора бромида натрия, который, похоже, успокоил меня до уровня отключения звуковой иллюзии. Но свечение осталось, и мне было трудно подавить желание подойти к иллюминатору, чтобы высматривать его источник. Оно было настолько реальным, что вскоре я смог распознавать знакомые предметы вокруг, видел даже пустой стакан из-под брома, а ведь я не помнил, куда его поставил. Последнее заинтересовало меня — я перешел каюту и ощупал стакан. Это был именно он. Теперь я знал, что свет или реален, или часть галлюцинации такой стойкой, что у меня нет шансов справиться с ней; поэтому, отказавшись от сопротивления, я поднялся в рубку — посмотреть, что же именно светит. Может, это другая подлодка, несущая шанс на спасение?..
Читателю лучше не принимать написанное здесь на веру, ибо когда события выходят за рамки естественного порядка вещей, они неизбежно становятся субъективным и нереальным продуктом перенапряженного рассудка. Поднявшись в рубку, я нашел, что свечение в море вокруг куда меньше, чем следовало бы ожидать. Поблизости не оказалось никаких фосфоресцирующих растений или животных, и город, спускающийся к руслу реки, был окутан непроницаемым мраком. Увиденное не было гротескным или ужасающим, однако убрало последние опоры доверия моему сознанию. Вход и окна подводного храма, высеченного в скале, отчетливо горели мерцающим светом, будто от огромного жертвенного костра внутри.
Дальнейшие мои впечатления хаотичны. Глядя на эти светящиеся окна и дверь, я стал жертвой необычайной иллюзии — настолько удивительной, что не могу даже внятно рассказать о ней. Мне привиделось, что я различаю что-то в храме, какие-то предметы, неподвижные и движущиеся; казалось, снова зазвучал призрачный хорал, который я слышал, когда только проснулся. Мои думы и страхи сконцентрировались на юноше из моря и костяной фигурке, облик которой повторялся на фризах и колоннах храма передо мной. Я подумал о несчастном Кленце — где сейчас его тело с той фигуркой, которую он унес обратно в море? Он предупреждал меня о чем-то, но я не внял ему — ведь он был мягкохарактерный рейнландец, обезумевший от событий, которые пруссак способен вынести без особого труда.
Остальное все очень просто. Стремление выйти наружу и войти в храм стало для меня повелительным категорическим зовом, который решительно нельзя отвергнуть. Немецкая железная воля уже не контролирует мои поступки и проявляет себя лишь во второстепенных вопросах. Это же самое безумие погнало Кленце к смерти, незащищенного, без какого-либо снаряжения прямо в океан; но я, пруссак и здравомыслящий человек, постараюсь использовать максимально то немногое, что у меня еще осталось. Осознав, что идти придется, я подготовил водолазный костюм, шлем и регенератор воздуха, затем закончил эту поспешную хронику событий в надежде, что когда-нибудь она попадет в руки людей. Я запечатаю эту рукопись в бутылку и доверю ее морю, окончательно покидая U-29.
Я не испытываю страха, даже несмотря на пророчество безумного Кленце. То, что я наблюдаю, не может быть правдой: я знаю, что это следствие моего безумия и по большей части объясняется кислородным голоданием, поскольку воздух у меня заканчивается. Свет внутри храма — чистейшая иллюзия, и меня ждет смерть, достойная истинного тевтонца: в непроглядно черной глубине океана. Дьявольский смех, который я слышу, дописывая эти заметки, порожден моим угасающим рассудком. Так что сейчас я тщательно облачусь в водолазный костюм и смело отправлюсь вверх по ступеням в древний храм, в эту безмолвную тайну неизмеримых морских глубин и неисчислимых лет.
ДЕРЕВО
Многие годы назад, когда вилла на склоне холма еще сверкала новым великолепием, в ней обитали два скульптора — Калос и Музидес. Красоту их работ превозносили от Лидии до Неаполя, и никто не посмел бы сказать, что мастерство одного из них превосходит мастерство другого. Изваянный Калосом Гермес стоял во мраморном святилище в Коринфе, a Паллада Музидеса венчала собой столп в Афинах неподалеку от Парфенона. Все люди почитали Калоса и Музидеса и дивились тому, что никакая тень артистического соперничества не омрачает теплоту их братской дружбы.
Однако, хотя Калос и Музидес пребывали в нерушимой гармонии, по природе своей они были людьми различными. В то время как Музидес бражничал ночами посреди городских увеселений Тегеи, Калос оставался дома, ускользнув от внимания своих рабов в какой-нибудь из прохладных уголков масличной рощи. Там размышлял он над видениями, наполнявшими его разум, и обдумывал очертания той красоты, которая впоследствии сделалась бессмертной в дыхании мрамора. Впрочем, праздные люди говорили, что Калос общается с духами рощи и созданные им статуи всего лишь изображают явившихся ему там фавнов и дриад, ибо он не пользовался в своей работе услугами живых натурщиков.
Столь знаменитыми были Калос и Музидес, что никто не удивился, когда Тиран Сиракуз прислал к ним своих людей, чтобы обсудить многоценную статую Тюхэ[18], которую он намеревался поставить в своем городе. Огромной и хитроумно сделанной должна была быть она, ибо изваянию этому надлежало стать чудом для соседних народов и объектом интереса путешественников. Высокими помыслами надлежало обладать тому, чья работа могла бы заслужить одобрение, и Калос и Музидес получили приглашение побороться за эту честь. О братской любви их было известно повсюду, и хитроумный Тиран полагал, что оба не станут скрывать друг от друга своих работ, предлагая совет и помощь; и взаимная щедрость эта послужит созданию двух образцов небывалой доселе красоты, самый чарующий из которых затмит даже мечты поэтов.
Скульпторы с радостью приняли предложение Тирана, и в последовавшие дни рабы их слышали только непрекращающийся перестук молотков. Друг от друга Калос и Музидес не скрывали своих работ, однако другим не показывали. Никакие другие глаза, кроме их собственных, не лицезрели два божественных изваяния, под искусными руками высвобождавшихся из грубых камней, заточавших их в себе от начала мира.
По ночам, как и прежде, Музидес посещал пиршественные залы Тегеи, в то время как Калос бродил в одиночестве по оливковой роще. И все же с течением времени люди заметили, что веселье оставляет прежде искрившегося им Музидеса. Странно, говорили они между собой, что такое уныние может охватить человека, только что получившего столь великий шанс заслужить высочайшую награду своему мастерству. Много месяцев миновало, однако на кислом лице Музидеса никак не обнаруживалось то напряженное ожидание, которого вроде бы требовала ситуация.
А потом однажды Музидес сообщил, что Калос болен, после чего никто уже не удивлялся его печали, ибо все знали, что дружеская привязанность скульптора свята и глубока. Многие теперь отправлялись повидать Калоса и в самом деле замечали бледность лица его; однако теперь Калоса окутывала блаженная ясность, делавшая взгляд его еще более волшебным, чем взор Музидеса, явно отвлеченного тревогой и отодвинувшего прочь всех рабов, чтобы лично ухаживать за своим другом и кормить его из собственных рук. А за плотными занавесками в забвении пребывали две незаконченные каменные фигуры Тюхэ, к которым почти не прикасались в последнее время резцы больного и его верного служителя.
Необъяснимым образом теряя и теряя силы вопреки стараниям озадаченных врачей и своего усердного друга, Калос часто выражал желание, чтобы его отнесли в любимую масличную рощу. Там он просил, чтобы его оставили одного, словно бы желая поговорить с тварями незримыми. Музидес всегда исполнял его просьбы, хотя глаза его наполнялись заметными всем слезами при мысли о том, что Калос более интересуется фавнами и дриадами, чем своим другом. Наконец смерть подошла совсем близко, и Калос принялся говорить о предметах, лежащих за гранью сей жизни. Музидес, рыдая, пообещал другу воздвигнуть ему гробницу, много более красивую, чем склеп Мавзола; однако Калос воспретил ему даже вспоминать о мраморном великолепии. Только одно желание преследовало теперь умирающего: чтобы веточки нескольких маслин из рощи поместили в месте его упокоения — возле головы. И вот однажды ночью, пребывая в одиночестве во мраке масличной рощи, Калос скончался. Прекрасной, выше всякого описания, была мраморная гробница, которую исполненный горя Музидес высек из камня для своего любимого друга. Никто другой, кроме самого Калоса, не смог бы создать подобные барельефы, изображавшие Элизий во всем великолепии. Не позабыл Музидес и поместить взятые из рощи веточки олив возле головы Калоса.
Когда острота горя оставила Музидеса и сменилась смирением перед судьбой, он принялся усердно работать над своим изваянием Тюхэ. Все почести теперь заранее принадлежали ему, поскольку сиракузский Тиран не желал иметь дело с каким-либо другим скульптором, кроме него или Калоса. Работа представила свободный выход его чувствам, и Музидес ни на день не оставлял ее и усердно трудился, забросив развлечения, которыми прежде так наслаждался.
Тем временем он проводил свои вечера возле надгробия друга, из-под которого, у головы спящего, пробилась юная маслина. Так быстро росло это деревце и столь странными оказались его очертания, что всякий побывавший у гроба дивился им, восклицая; a Музидес как будто бы одновременно восторгался и испытывал отвращение.
Через три года после смерти Калоса Музидес отправил к Тирану вестника, и на Тегейской агоре начали шептать, что великое изваяние завершено. К этому времени дерево у гробницы приобрело удивительные пропорции, превосходя все прочие деревья своего рода, а особенно тяжелая ветвь протянулась над помещением, в котором работал Музидес. Многие приходили, чтобы полюбоваться великолепным деревом и восхититься искусством скульптора, так что он редко оставался в одиночестве.
Однако множество гостей не смущало его; напротив, он как бы опасался оставаться один, теперь, после того как была завершена целиком поглотившая его работа. Нудный горный ветер, вздыхавший в масличной роще и в ветвях выросшего на могиле древа, странным образом производил едва ли не осмысленные звуки.
Под сумрачным вечерним небом явились в Тегею посланцы Тирана. Всем было известно, что они прибыли затем, чтобы увезти с собой великое изображение Тюхэ и покрыть Музидеса вечной славой, так что проксены[19] оказали им весьма теплый прием. Когда ночь близилась к своему исходу, великая буря разразилась над гребнем Менала, и люди из далеких Сиракуз были рады тому, что пребывают в городском уюте. Они беседовали о своем блистательном Тиране, о великолепии его столицы и восхищались славой той статуи, которую сработал для него Музидес. Тегейцы же говорили о великодушии Музидеса и о тяжком горе его по утраченному другу, и о том, что даже грядущая слава не могла утешить его в отсутствие Калоса, который мог бы и сам заслужить эти лавры. Говорили они и о дереве, выросшем из-под надгробья у головы Калоса. И ветер взвизгивал здесь еще более жутким голосом, и сиракузяне и аркадийцы вместе молились Эолу.
Под лучами утреннего солнца проксены повели вестников Тирана вверх по склону к обители скульптора, в которой разгулявшийся ночью ветер натворил странного. Крики рабов возносились над сценой разрушения, и посреди оливковой рощи более не возносилась блистательная колоннада того чертога, в котором грезил и творил Музидес. Одинокими и потрясенными скорбели смиренные залы и основания стен, ибо на роскошный и величественный перистиль обрушился нависавший над ним тяжелый сук странного нового дерева, с удивительной полнотой превративший величественную мраморную поэму в груду неприглядной щебенки.
Ошеломленные, потрясенные ужасом застыли перед развалинами сиракузяне и тегейцы, то и дело переводя взгляд на огромное и зловещее дерево, столь таинственно похожее на человека и корнями своими уходившее в землю возле украшенного скульптурами надгробия Калоса. И страх и смятение их еще более усилились, когда, обыскав обрушившееся строение в поисках благородного Музидеса и созданного им чудесного и прекрасного изображения Тюхэ, они не обрели и следа ни того, ни другого. Великий хаос царил посреди развалин, и представители обоих городов в разочаровании оставили их; ибо сиракузяне не обрели статуи, чтобы доставить ее домой, а у тегейцев не осталось более художника, которого можно было бы увенчать славой. Впрочем, спустя некоторое время сиракузяне приобрели в Афинах великолепное изваяние, тегейцы же утешились тем, что возвели на агоре мраморный храм в честь дарования, добродетели и братской любви Музидеса.
Только масличная роща растет как и прежде, как стоит и дерево, выросшее из гробницы Калоса, a старый пасечник рассказал мне, что иногда ветви его перешептываются под ночным ветром, и все повторяют друг другу: «Ойда! Ойда! Знаю! Все знаю!»
БОЛОТО ЛУНЫ
Где, в каких запредельных и мрачных краях пребывает сейчас Деннис Бэрри? Не знаю. Прошлой ночью, когда он последний раз находился среди людей, я был неподалеку от него и слышал, когда за ним пришли, его душераздирающие крики. Крестьяне и полиция графства Мет не нашли ни Бэрри, ни остальных, хотя искали долго и упорно. Я же после всего случившегося содрогаюсь от ужаса всякий раз при кваканье болотных лягушек или если в безлюдном месте меня вдруг неожиданно зальет лунный свет.
Я хорошо знал Денниса Бэрри еще в Америке, где он разбогател, и радовался, когда он выкупил свой родовой замок у болот в сонном местечке Килдерри. Там были его корни, и ему хотелось пожинать плоды своего богатства среди родных стен. В давние времена его предки владели Килдерри, построили там замок и счастливо жили в нем, но все это было да быльем поросло. Много воды утекло с тех пор, замок пришел в полное запустение. Вернувшись в Ирландию, Бэрри часто писал мне, рассказывая, как постепенно — башня за башней — возрождается древняя постройка, по ее стенам снова, спустя много веков, побежал плющ, а крестьяне не устают благодарить его за то, что он вкладывает капиталы в процветание родных мест. Но потом все изменилось, крестьяне перестали благословлять моего друга, а, напротив, бежали от него прочь, как от зачумленного. Тогда-то Деннис и послал мне письмо с просьбой навестить его: он очень одинок в своем замке, даже поговорить не с кем, разве что с новыми слугами и рабочими, выписанными им с севера страны.
Когда я приехал, Бэрри сказал мне, что всему виной близлежащие болота. В Килдерри я прибыл на закате, заходящее летнее солнце еще золотило зелень холмов и рощ, а также синеву болота, освещая диковинные древние руины на отдаленном островке. Закат был прекрасен, но крестьяне в Баллилоу уже успели отчасти обратить меня в свою веру, рассказав, что Килдерри проклят, и я с опаской взирал на пылающие в вечернем золоте башенки замка. Я приехал из Баллилоу на посланной за мною машине, поскольку Килдерри находится в стороне от железной дороги. Крестьяне, старавшиеся держаться подальше и от автомобиля, и от его водителя-северянина, видя, что я еду в Килдерри, все же не удержались и предостерегли меня об опасности. А вечером, уже в замке, Бэрри рассказал мне, в чем дело.
Крестьяне покинули Килдерри из-за того, что Деннис Бэрри решил осушить большое болото. Несмотря на всю любовь к Ирландии, американские уроки не прошли для него даром, и ему претила мысль, что прекрасная земля пропадает под водой зря — ведь и торфяник, и саму землю можно использовать с умом. Связанные с болотом легенды и поверья он не принимал всерьез, его лишь позабавило, когда крестьяне сначала отказались участвовать в работах, а потом, увидев его упорство, прокляли своего хозяина и ушли в Баллилоу, захватив только самое необходимое. Тогда Бэрри пригласил работников с севера, а когда замок покинули и слуги, ему опять пришлось выписывать новых людей. Теперь его окружают одни чужаки, оттого-то, почувствовав себя одиноко, он и вызвал меня.
Услышав в подробностях, чего испугались жители Килдерри, я от души посмеялся вместе с моим другом: очень уж нелепыми казались их страхи, связанные с поверьем о болоте и его угрюмом страже, дух которого якобы жил в тех самых древних развалинах, которые я видел на закате. Ходили также слухи о пляшущих в темноте огоньках, о ледяных порывах ветра в теплую ночь, о призраках в белом, парящих над водой, и каменном городе, сокрытом под зеленой ряской болота. Крестьяне были убеждены: человека, который осмелится нарушить покой этих мест или осушить бескрайнюю топь, ждет возмездие. Некоторых тайн, говорили крестьяне, касаться нельзя. Эти тайны существуют с незапамятных, легендарных времен, когда детей Партолана постигло несчастье. В «Книге завоевателей» говорится, что эти сыны Греции погибли в Толлате, но старики из Килдерри утверждали, что один город был все же спасен покровительствующей ему богиней Луны, которая укрыла его в лесной чаще на холмах и тем спасла от завоевателей из Немеда, прибывших на тридцати кораблях из земель скифов.
И такие вот басни заставили крестьян покинуть Килдерри! Теперь меня более не удивляло намерение Денниса Бэрри не считаться с этими бреднями. Сам он, кстати, испытывал глубокий интерес к древности и после осушения болота собирался тщательно исследовать эту местность. Он часто посещал руины на острове; возраст их был, очевидно, солиден, архитектурой они отличались от других древних сооружений, но из-за нынешнего ужасающего их состояния трудно было понять, что представляли они собой в период расцвета. Работы по осушению должны были вот-вот начаться, и рабочие с севера готовились очистить таинственное болото от мха и красноватого вереска, уничтожить крошечные, полные ракушек ручейки и спокойные голубые глади, заросшие камышом.
После всех перипетий дня я устал и хотел спать. Была уже глубокая ночь, и я с трудом дождался, когда Бэрри закончит наконец рассказ. Слуга проводил меня в отведенную мне комнату в одной из отдаленных башенок. Из ее окон просматривались деревня, поляна на краю болота, а дальше и само болото. В лунном свете я видел спящие дома, в которых коренных жителей сменили наемные рабочие с севера, церквушку со старинным шпилем, а вдали, за сонной топью, таинственно поблескивали древние руины на островке. Погружаясь в сон, я услышал — или мне почудилось? — слабые, отдаленные звуки свирели, диковатую, какую-то первобытную мелодию. Эта музыка странно растревожила меня, войдя в мои сны. Однако, проснувшись утром, я понял, что музыка была порождена самими снами, столь удивительными, что в сравнении с ними потускнели даже эти таинственные звуки свирели. Видимо, под влиянием рассказанных Бэрри легенд мне приснилось, что дух мой витал над величественным, утопающим в зелени городом, где вымощенные мрамором улицы, виллы и храмы, статуи, резные орнаменты и надписи — все говорило о былом величии Греции. Мы посмеялись с Бэрри над этим сном, но мой смех звучал громче: друг был обеспокоен поведением рабочих с севера. Они уже шестой день подряд вставали очень поздно, двигались вяло, как в полусне, вот и сегодня выглядели совсем неотдохнувшими, хотя накануне легли рано спать.
Все утро я бродил по залитой солнцем деревне, заговаривая с рабочими. Никаких особых дел у них не было — Бэрри заканчивал последние приготовления перед началом работ, — но на душе у всех было неспокойно из-за неясных, тревожных снов, которые наутро забывались. Я тоже рассказал им о своем ночном видении, однако оно оставило их равнодушными. Оживились они, только когда я упомянул о диковатой музыке: им, помнится, тоже что-то такое слышалось.
Вечером за обедом Бэрри объявил, что работы начнутся через два дня. Меня обрадовало это сообщение, хотя стало мучительно жаль всех этих мхов и вереска, ручейков и озер. Но очень уж хотелось проникнуть в вековые тайны, которые могли скрываться в толще торфяников. Этой ночью мне снова снился сон о поющих свирелях и мраморном городе, но он оборвался резко и пугающе. Я увидел, как на город в зеленой долине надвигается беда — чудовищный оползень обрушился на него и похоронил под собой все живое. Не пострадал от жестокой стихии только стоявший на высоком холме храм Артемиды, где престарелая жрица Луны, Клеис, лежала холодная и безмолвная, с короной из слоновой кости на убеленной сединами голове.
Как я уже говорил, мой сон резко оборвался. Непонятное беспокойство не отпускало меня. Некоторое время я не понимал, сплю или бодрствую: звуки свирели продолжали звучать в ушах. Однако, увидев на полу холодные блики луны, изрешеченные тенью готического окна, я понял, что все-таки нахожусь в замке Килдерри. Когда же где-то вдали часы пробили раз и другой, мне стало окончательно ясно, что я не сплю. Но монотонное звучание свирели все же продолжалось — странная, древняя музыка, навевающая мысли о танцах сатиров на далеком Меналусе. Она не давала спать, и я, поднявшись с кровати, стал в беспокойстве бродить по комнате. По чистой случайности я подошел к северному окну и бросил взгляд на спящую деревню и на поляну у края болота. Я вовсе не собирался глазеть в окно, смертельно хотелось спать, но звуки свирели так измучили меня, что надо было чем-то отвлечься. Однако увиденное как громом поразило мое воображение.
На освещенной луной просторной поляне разыгрывался спектакль, который, раз увидев, не позабыл бы ни один из смертных. Под громкие звуки свирелей, эхом разносящиеся над болотом, по поляне безмолвно и плавно двигались странные фигуры. Мерно раскачиваясь, они постепенно достигали в своем кружении такого экстаза, какой охватывал в давние времена сицилийцев, исполнявших посвященный Деметре танец в ночь полнолуния перед осенним равноденствием неподалеку от Киана. Открытая поляна, сверкающий лунный свет, танцующие призраки, резкий, однообразный звук свирели — все это вместе произвело на меня почти парализующее действие, и все же я отметил, что половину этих неутомимых танцоров составляли наемные рабочие, которые, по моим представлениям, давно должны бы уже спать, другую же — странные призрачные существа в белом, которых при доле воображения можно было счесть эфемерными наядами, живущими в озерцах, питающих болото. Не знаю, сколько времени простоял я у своего одинокого окна, глядя на это зрелище, только в какой-то момент вдруг погрузился в глубокий, полуобморочный сон без сновидений, из которого меня вывел только яркий свет солнца.
Моим первым порывом при пробуждении было пойти и поделиться потрясшим меня сновидением с Деннисом Бэрри, но при свете солнца все выглядело иначе, и мне удалось внушить себе, что это был только сон. Возможно, я стал подвержен галлюцинациям, но ведь не настолько же, чтобы потерять контроль над собой и полагать, что видел все это наяву. Я ограничился тем, что расспросил рабочих, но, как и следовало ожидать, они, хоть и проспали опять дольше обычного, ничего особенного не припоминали, кроме разве звуков музыки. Я долго размышлял об этих странных звуках, гадая, не сверчки ли это завели свою осеннюю песню раньше положенного срока, смущая по ночам честных людей. Днем мне довелось наблюдать, как Бэрри в последний раз изучает свои чертежи перед началом работ. Итак, утром рабочие примутся за дело… Впервые у меня от страха екнуло сердце, и я понял, отчего крестьяне бежали отсюда. Непонятно почему, но мне была невыносима мысль, что кто-то потревожит это старое болото с его сокрытыми от солнечного света тайнами; под многовековым слоем торфа мне представлялись поразительные картины. Не следует так вот необдуманно выставлять на всеобщее обозрение то, что таилось там столько веков… Мне хотелось найти удобный повод, чтобы покинуть замок и саму деревню. Я даже попытался заговорить на эту тему с Бэрри, но быстро осекся, смущенный его издевательским смешком. В молчании наблюдал я, как заходящее солнце раскрашивает яркими красками дальние холмы и заливает Килдерри таким ослепительным кроваво-золотым светом, что это казалось дурным предзнаменованием.
Во сне или наяву происходили события наступившей ночи, не могу сказать. Во всяком случае, они превосходили все, что только может породить самая изощренная фантазия. Я, например, не в силах представить каких-либо разумных объяснений, куда после этой ночи исчезли люди из замка и деревни. Я рано отправился в свою комнату, но, полный тяжелых предчувствий, никак не мог заснуть. Меня томила и зловещая тишина, царящая в этой отдаленной башне. Хотя небо очистилось, ночь все же стояла темная: луна в те дни шла на убыль и всходила совсем поздно. Я лежал и думал о Деннисе Бэрри и о том, что случится с болотом, когда придет утро, и наконец довел себя до такого состояния, что был готов сорваться с места, взять машину хозяина и помчаться в Баллилоу, прочь из этого проклятого места. Но, не успев прийти к определенному решению, я уснул, а во сне снова увидел город в долине — мрачный и помертвевший от нависшей над ним смертельной угрозы.
Возможно, меня снова разбудили громкие звуки свирели, однако после пробуждения не музыка занимала мои мысли. Я лежал спиной к окну, выходящему на восток, где должна была взойти луна, и поэтому ожидал увидеть на противоположной стене ее отсвет. Но увидел я совсем другое. На стене были блики, но не те, что дает луна. Я со страхом смотрел, как сквозь готическое окно льется ярко-красный свет. Он заполнял всю комнату мощным невиданным сиянием. В такой ситуации я повел себя странно, но это и понятно — только в книгах герой ведет себя расчетливо и разумно. Вместо того чтобы взглянуть на болото и понять наконец, откуда взялся новый источник света, я даже не обернулся к окну, а торопливо натянул на себя одежду в смутной надежде поскорее отсюда удрать. Помню, захватил с собой револьвер и шляпу, но они мне не пригодились: до того, как все было кончено, я потерял то и другое — так и не выстрелив из револьвера и не надев шляпу. Любопытство в конце концов пересилило страх, я все-таки подкрался к окну, чтобы взглянуть на непонятное алое сияние, и выглянул наружу. И в эту минуту оглушительно запели свирели, сотрясая своими звуками замок и деревню.
Поток яркого, зловеще-алого света струился над болотом; исходил он из загадочных руин на островке. Руины, однако, странно изменились. Мне трудно описать, в чем было дело, может, я сошел с ума, однако мне показалось, что храм снова стоит во всем своем великолепии — нетронутый временем, в окружении колонн, на мраморе его антаблемента, поднявшегося ввысь, горели отсветы пламени. Запели флейты, застучали барабаны, и, пока я как зачарованный взирал на это зрелище, на освещенных мраморных стенах появились темные силуэты танцующих. Выглядело все это невероятно, эффект был поразительный. Я застыл на месте, не в силах отвести глаз от этой картины, а тем временем слева от меня громко зазвучали свирели. В непонятном возбуждении, охваченный тягостными предчувствиями, я пересек круглую свою комнату и подошел к северному окну, из которого просматривались деревня и поляна. То, что я видел до этого, было абсолютно непостижимо, но теперь у меня просто глаза на лоб полезли: по залитой кроваво-красным светом поляне двигалась процессия, которая могла привидеться разве что в кошмарном сне.
То скользя по земле, то плывя в воздухе, медленно двигались по направлению к тихой заводи и дальше, к руинам, болотные призраки, укутанные в белое, — двигались, образуя сложные конфигурации, словно исполняя древний ритуальный танец. Их бесплотные руки покачивались в такт режущей слух мелодии невидимых флейт, увлекая за собой наемных рабочих, которые тянулись чередой, бездумно, слепо и покорно, как собаки, словно повинуясь некой дьявольской силе. Когда наяды достигли болота, из замка, пошатываясь, нетвердой походкой вышли новые жертвы. Они появились из двери, расположенной под моим окном, прошли как во сне через двор, затем по деревенской улочке и присоединились на поляне к колышущейся веренице рабочих. Несмотря на разделяющее нас расстояние, я тотчас понял, что это прибывшие с севера слуги, и даже признал в одной из самых уродливых и неуклюжих фигур кухарку, чья обычная бестолковая повадка казалась теперь почти трагической. Флейты по-прежнему издавали какие-то немыслимые звуки, а со стороны острова снова послышался зов барабанов. И тут наяды медленно и грациозно вступили в воды древнего болота, а идущие за ними люди, не замедляя хода, тоже стали погружаться и вскоре скрылись под водой. В красном зареве на поверхности болота с трудом различались расходящиеся по воде пузырьки воздуха. Последней пучина поглотила вызвавшую во мне жалость толстуху кухарку. Когда скрылась и она, флейты и барабаны умолкли, померк и слепящий глаза свет, излучаемый руинами; деревня снова замерла в мирном свете только что взошедшей луны.
Я был в полном смятении. Схожу ли я с ума? Сплю? Наяву ли все это произошло? Думаю, спасло меня от общей участи то оцепенение, в которое я неожиданно погрузился. Кажется, я молился — Артемиде, Латоне, Персефоне и Плутону. Словом, всем, кого вспомнил из классической литературы, — пережитый ужас сделал меня суеверным. Я понимал, что стал свидетелем гибели всей деревни, — сомневаться не приходилось: в замке остались только мы с Деннисом Бэрри, чье безрассудство и привело к беде. При мысли о нем меня снова обуял такой страх, что ноги мои подкосились и я упал на пол, хотя сознания не потерял. Внезапно я почувствовал ледяной порыв ветра с востока, где взошла луна, и услышал в нижнем этаже замка отчаянные крики. Вскоре они перешли в такой истошный вопль, что мне и сейчас становится страшно при одном лишь воспоминании о нем. Могу сказать только, что этот вопль принадлежал моему другу.
Видимо, ледяной ветер и страшные крики заставили меня подняться, потому что, насколько помню, я долго бежал по темным комнатам и коридорам, пока не выбрался наружу. Меня нашли на рассвете недалеко от Баллилоу. Я брел как потерянный, что-то бормоча, в полном беспамятстве. Последнее, что я увидел в Килдерри, доконало меня. Несясь прочь от замка, я увидел столь чудовищную картину, что не забуду ее до конца дней своих. Она всегда встает у меня перед глазами, если я оказываюсь лунной ночью неподалеку от болота.
Итак, покинув проклятый замок, я мчался вдоль берега, как вдруг услышал какие-то новые звуки — ничего примечательного, но здесь, в Килдерри, я их прежде не слышал. Стоячие воды, в которых не водилась никакая живность, ожили, кишмя закишели множеством крупных лягушек, которые громко и непрерывно квакали. Лунный свет поблескивал на их раздувающихся зеленых боках, но свет струился еще из одного источника, в его-то сторону они, казалось, с интересом глазели. Я проследил за взглядом одной особенно жирной и уродливой лягушки и увидел такое, от чего окончательно потерял голову.
От загадочного сооружения на островке протянулся к молодой луне слабо мерцающий луч, не отражавшийся в водах болота. А на этой мертвенно-бледной тропе я с замиранием сердца разглядел извивающуюся фигуру — неясную тень, слабо сопротивляющуюся невидимым демонам, которые тащили ее за собой. Возможно, я сумасшедший, но этот силуэт — дикая, чудовищная карикатура — до странности напомнил мне того, кто был Деннисом Бэрри.
БЕЗЫМЯННЫЙ ГОРОД
Я знал, что над безымянным городом, к которому я приближался, тяготеет проклятие. Я ехал по выжженной, залитой лунным светом долине и уже различал вдалеке очертания городских строений, что выступали из песка, словно трупы из плохо засыпанных могил. Искрошившиеся от времени камни этого пережитка прошлого, прадеда древнейших пирамид, как будто источали страх. Ужас, встававший у меня на пути невидимой преградой, замедлял поступь моего верблюда; мне казалось, некто убеждает меня отступиться, не доискиваться зловещих тайн, которые не открывались никому и никогда.
Безымянный город располагался в самом сердце Аравийской пустыни, его полуразрушенные стены были теперь немногим выше песчаных дюн. Он погиб еще до того, как были заложены первые камни Мемфиса или обожжены первые кирпичи Вавилона. Не существует предания столь древнего, что могло бы поведать о его названии или о той поре, когда в нем кипела жизнь. Однако слухи об этом городе передаются шепотом из уст в уста у костров простолюдинов и в шатрах шейхов, и кочевники сторонятся его, не зная сами почему. Именно о нем безумный поэт Абдула Альхазред грезил той ночью, когда сложил свой исполненный темного смысла стих:
Над чем не властен тлен, то не мертво, Смерть ожидает смерть, верней всего.Мне следовало бы знать, что у арабов есть веские основания обходить безымянный город стороной. О, этот город, породивший множество легенд! Никто из людей не может похвалиться тем, что видел его воочию. Да, мне следовало бы послушать арабов, однако я пренебрег их советами и, оседлав верблюда, отправился в пустыню. И добился своего: я единственный зрел безымянный город, и оттого на лице моем навеки запечатлелся страх, оттого я вздрагиваю, когда по ночам хлопает ставнями ветер. Я набрел на него, застывшего в ненарушимой тишине бесконечного сна; он явился мне в холодных лучах луны среди пышущей жаром пустыни. Глядя на него, я понял: моя радость от того, что поиски увенчались успехом, куда-то улетучилась; я расседлал верблюда и решил дождаться рассвета.
Час проходил за часом. Наконец небо на востоке посерело, звезды померкли в свечении розовой полосы с золотой каймой. И тут я услышал стон. Должно быть, несмотря на то что небосвод был чистым, а в воздухе не ощущалось ни малейшего дуновения, мне угрожала опасность быть застигнутым песчаной бурей. Внезапно над дальним краем пустыни возникла ослепительная кромка солнечного диска. На какое-то мгновение его заволокло взвихренным песком, и мне, в моем смятенном состоянии, почудилось, будто из неведомых глубин донесся мелодичный звон. Он словно приветствовал светило, подобно Мемнону на нильских берегах. Кое-как обуздав разыгравшееся воображение, я повел верблюда к городу, который не видел никто, кроме меня.
Я долго бродил по развалинам, не находя ни изваяний, ни надписей, которые рассказали бы мне о тех людях — людях ли? — что построили в незапамятные годы этот город и жили в нем. В самой древности места было нечто нездоровое, и мне хотелось отыскать хотя бы одно свидетельство того, что этот город — творение человеческих рук. Его руины отличались такими пропорциями и размерами, что показались мне поистине странными, если не сказать больше. Я прихватил с собой кое-какой инструмент, а потому принялся за раскопки внутри обвалившихся зданий. На первых порах ничего интересного мне не попадалось. Потом, вместе с лунной ночью, возвратился холодный ветер; он принес с собой страх, и я не осмелился остаться на ночевку в пределах городских стен. Только я пересек незримую границу, за моей спиной взвился и пронесся по серым камням смерчик, который взялся неизвестно откуда — ведь на небе ярко светила луна, а пустыня хранила величественный покой.
Проснулся я на рассвете и с немалым облегчением, ибо ночь напролет меня донимали кошмары. В голове моей звучал металлический звон. Над безымянным городом бушевала песчаная буря, сквозь пелену которой виднелось багровое солнце, но вокруг все было по-прежнему тихо и спокойно. Выждав, пока она утихомирится, я вновь устремился к обломкам седой старины, что едва проступали из-под песка, укрывавшего их исполинским ковром, и потратил все утро на бесплодные поиски реликвий древнего народа. В полдень я передохнул, а после долго ходил по засыпанным улицам и пробирался вдоль крепостных стен, нанося на карту местонахождение почти исчезнувших строений. Я установил, что город и впрямь был когда-то велик, восхитился его былым могуществом и попробовал вообразить себе чудеса, которых он был полон в минувшие дни и которых не застала даже Халдея. Мне почему-то вспомнился обреченный Сарнат, гордость человечества и столица края Мнар, я подумал о вырубленном из серого камня Ибе, который существовал за много тысячелетий до появления на свете людей.
Совершенно неожиданно для себя я вышел к выступавшей из-под песка скале. Меня охватил восторг, ибо я наконец-то увидел то, что предвещало, как мне хотелось верить, обнаружение следов, оставленных загадочными жителями города. В скале имелось отверстие — наверно, то был вход в храм, где скрываются тайны эпохи, слишком от нас далекой, чтобы мы могли назвать ее по имени. Скорее всего, на поверхности невысокого утеса высечены были буквы или фигуры, однако песчаные бури потрудились на славу: камень на ощупь был ровным и гладким.
Рядом виднелись и другие отверстия, но я остановил свой выбор на том, какое попалось мне на глаза первым. Раскидав лопатой песок у входа и прихватив с собой факел, я заполз в мрачный ход, который вывел меня в пещеру, очевидно служившую когда-то храмом и содержавшую предметы, что принадлежали, по-видимому, тем, кто молился тут еще до того, как пустыня стала пустыней. Я различил примитивные алтари, колонны, странно невысокие ниши, многочисленные камни, чья причудливая форма свидетельствовала о том, что их касался инструмент каменотеса, но не заметил ни фресок, ни статуй. Своды пещеры были весьма низкими — я едва мог выпрямиться, даже стоя на коленях, — однако стены отстояли друг от друга на столь значительное расстояние, что свет моего факела выхватывал из мрака лишь крохотную часть скалистого грота. Продолжая осматриваться, я невольно вздрогнул: некоторые алтари своим видом наводили на мысль об ужасных, неописуемых древних обрядах и вынуждали задуматься над тем, какие же существа приходили некогда молиться в этот храм. Удовлетворив любопытство, я выбрался наружу; мне хотелось до наступления темноты заглянуть в соседние отверстия.
Над руинами уже сгущались сумерки, однако, будучи человеком любознательным, тем более мое воображение было подстегнуто открытием храма в скале, — я переборол страх и не стал убегать от длинных лунных теней, которые так напугали меня накануне. Расчистив другой вход, я взял новый факел и заполз туда. Внутри я нашел камни и алтари, как две капли воды схожие с теми, какие находились в первой пещере. Своды этой были такими же низкими, однако остальными размерами она сильно уступала гроту, с которого я начал осмотр, и заканчивалась узким коридором: вдоль стен его выстроились во множестве загадочные ковчеги. Едва я приблизился к ним, мое внимание привлек донесшийся снаружи звук, в котором я узнал крик своего верблюда; животное словно звало на помощь, и я поспешил к нему, гадая, что могло вселить в него страх.
На небе сияла луна, заливая призрачным светом руины, над которыми висела густая пелена песка, поднятого в воздух резким, но, судя по всему, постепенно стихающим ветром. Я догадался, что именно порывы ветра и обеспокоили верблюда, и собирался уже отвести животное в укрытие понадежнее, когда мой взгляд отметил некую маленькую несообразность в окружавшем меня пейзаже: на вершине утеса, у которого я стоял, ветра как будто не было. Я изумился и где-то даже испугался, но тотчас припомнил те ветры, что буйствовали над городом на рассвете и на закате, и решил, что подобное здесь в порядке вещей. Мне подумалось, что диковинный ветер вырывается, должно быть, из какой-нибудь трещины в скале, и я направился на ее поиски, ориентируясь по свеженаметенному песчаному гребню. Вскоре я разглядел впереди черный зев отверстия — наверно, проход в еще один храм. Отворачивая лицо от так и норовящего попасть в глаза песка, я подошел поближе. В глубине отверстия виднелись очертания полуприсыпанной двери. Я попробовал было открыть ее, но ледяной ветер, что дул из щели под нею, чуть было не загасил мой факел. Завывая и постанывая, вихрь ворошил песок и швырял его во все стороны. Через какое-то время напор ветра ослабел, песчаная пелена мало-помалу развеялась и все успокоилось. Тем не менее мне чудилось, будто по древнему городу разгуливает призрак минувших дней, будто луна вдруг подернулась рябью, словно была собственным отражением в неких бурливых водах. Мне было страшно, однако не настолько, чтобы я забыл о своей жажде чудесного. И, стоило лишь ветру улечься окончательно, я проник за ту дверь, из-под которой он рвался на волю.
Я очутился в очередном храме, который, впрочем, был обширнее любого из тех, в каких я успел побывать раньше, и являлся, похоже, — ибо как раз в нем томился взаперти подземный вихрь — естественной пещерой. Оказавшись внутри, я без труда выпрямился в полный рост, но алтари здесь были ничуть не выше, чем в прочих храмах, стены и потолок пещеры наконец-то явили моему взору образцы живописи тех, кто населял когда-то безымянный город. Я различил причудливые ломаные линии; краски, которыми нанесены были изображения, поблекли от времени, а кое-где попросту исчезли заодно с обратившимся в крошево камнем. На двух алтарях я разглядел затейливую, искусную резьбу. Меня переполнял восторг. Я поднял факел над головой и взглянул на потолок: мне показалось, он слишком уж ровный, чтобы быть естественным образованием. Неужели и к нему приложили резцы древние каменотесы? Если так, то они, надо признать, обладали солидным инженерным опытом.
Внезапно пламя факела сделалось ярче, и в его свете я увидел то, что разыскивал, — отверстие колодца, который уходил в бездну, откуда дул ледяной ветер. Когда я присмотрелся к нему, мне стало нехорошо, ибо оно было явно искусственного происхождения. Опустив в него факел, я разглядел круто уводивший вниз коридор со множеством крохотных каменных ступенек. Эти ступени будут мне сниться до конца моих дней, ибо теперь я знаю, куда они ведут. Они были столь крохотными, что поначалу я принял их за простые зарубки в стене колодца для облегчения спуска. Меня одолевали безумные мысли, предостережения арабских пророков вновь зазвучали в моем мозгу, их слова как будто долетели до меня через пустыню из тех земель, где обитают люди, которые не смеют даже грезить о безымянном городе. Однако, помедлив всего лишь какой-то миг, я пробрался сквозь отверстие и поставил ногу на верхнюю ступеньку.
Спуск, подобный тому, который совершил я, может привидеться человеку разве что в снах, навеянных наркотиками, или в горячечном бреду. Факел, который я держал над головой, бессилен был рассеять мрак, что царил в узком стволе колодца. Я потерял счет времени, я забыл про часы на руке, я испугался, подумав о расстоянии, которое уже преодолел. Крутизна колодца и его направление постоянно менялись; раз я очутился в протяженном коридоре с низким потолком и вынужден был ползти по каменному полу ногами вперед, волоча за собой факел, ибо свод буквально нависал надо мной и я не мог даже встать на колени. Потом снова пошли ступени. Я по-прежнему карабкался по ним, когда мой факел погас. Не думаю, чтобы я тогда обратил на это внимание, поскольку, помнится, все еще держал его над головой, словно он продолжал гореть. По правде сказать, томление по загадочному и таинственному, которое превратило меня в скитальца и охотника за древними чудесами, порой сказывалось на моем рассудке.
Во мраке перед моим мысленным взором возникали драгоценности из моего собрания демонических знаний: отрывки из творения безумного араба Альхазреда, апокрифические кошмары Дамаскина, кощунственные строки бредового «image du Monde»[20] Готье де Меца. Я бормотал их себе под нос, я припомнил Афрасиаба и бесов, что уволокли его вниз по Оксу, я произносил нараспев одну и ту же фразу из повести лорда Дансени: «…глухая тьма бездны». Когда же спуск сделался поистине умопомрачительно крутым, я принялся декламировать Томаса Мура:
Вода чернела в глубине Подобьем ведьминской отравы, В которую кладутся травы, Что полнолуньем налиты. Я наклонился над обрывом И, в нетерпении своем, Узрел такое с высоты: На берегу, как слизи ком, Трон Смерти высился кичливо, Бросая тень на все кругом…Время полностью перестало для меня существовать, но тут мои ноги нащупали ровную поверхность, и я обнаружил, что нахожусь в пещере, немногим более высокой, нежели те два храма, которые остались где-то там, наверху. Стоять я все-таки пока не мог, зато мне удалось сесть на колени, и в этом положении я стал осматриваться. Пещера представляла собой узкий проход, заставленный деревянными сундуками с передней стенкой из стекла. Подивившись тому, как могли оказаться в подземелье полированное дерево и стекло, я зябко передернул плечами. Сундуки располагались вдоль стен, на равном удалении друг от друга, они были прямоугольными, слегка вытянутыми в длину и до отвращения походили своими размерами и формой на гробы. Попытавшись сдвинуть парочку из них с места, я выяснил, что они надежно закреплены.
Проход уходил дальше во тьму, и я, присев на корточки, заковылял по нему «гусиным шагом». Наблюдай кто-нибудь за мной со стороны, моя походка наверняка привела бы его в ужас. Я наклонялся то вправо, то влево, чтобы убедиться, что сундуки — а следовательно, и стены — по-прежнему сопровождают меня. Человек настолько привык мыслить образами, что я почти забыл о темноте и рисовал в воображении бесконечный коридор из дерева и стекла таким, каким мне хотелось его видеть. И тут, на единый, потрясающий миг, я увидел его в действительности.
Я не могу точно определить момент, в который фантазия слилась с реальностью. Впереди неожиданно замерцал свет. Я понял, что различаю свод над головой; неведомое подземное свечение выхватывало из мрака черные прямоугольники сундуков. Некоторое время все было так, как я себе воображал, поскольку свет сочился из скрытого источника прямо-таки по капле. Но, приближаясь к нему, я постепенно начал сознавать, что моему воображению недоставало размаха. Эта пещера разительно отличалась от грубых храмов безымянного города, она была настоящим памятником великого и совершенно необычного искусства. До невероятия правдоподобные, поражающие своей фантастичностью изображения и узоры на стенах создавали цельную картину, буйство красок которой невозможно передать словами. Древесина сундуков была странного золотистого цвета, а из-за стеклянных перегородок таращились на меня мумии существ, чье уродство не поддавалось никакому описанию.
В видовом отношении они принадлежали к рептилиям, в них было что-то то ли от крокодила, то ли от тюленя; в общем, такое наверняка не снилось ни одному натуралисту или палеонтологу. Они были примерно по плечу рослому человеку, их передние лапы заканчивались удивительно похожими на человеческие ладонями. Но диковиннее всего были их головы, вид которых сокрушал всякие понятия о биологических принципах. Их не с чем было сравнить; впрочем, я одновременно подумал о кошке, бульдоге, мифическом сатире и потомке Адама. У самого Юпитера не было столь огромного, выдающегося лба; рога, отсутствие носа и крокодилья пасть помещали этих существ в разряд неизвестных науке. Я засомневался было в подлинности мумий, подозревая, что они — всего лишь жалкие куклы, но потом пришел к выводу, что вижу перед собой истинных палеолитных тварей, населявших когда-то безымянный город. Словно для того, чтобы лишний раз подчеркнуть их безобразие, они в большинстве своем были облачены в роскошные одеяния с украшениями из золота, самоцветов и каких-то неведомых сверкающих металлов.
Должно быть, эти ползучие бестии при жизни были важными персонами — на покрытых фресками стенах и потолке им отведено было главное место. Безвестный художник с неподражаемым мастерством изобразил их мир, в котором у них были города и сады под стать их размерам. У меня вдруг мелькнула шальная мысль: а что, если живописная история аллегорична и повествует на деле о развитии того народа, который чтил рептилий как богов? Быть может, они были для жителей безымянного города тем же, чем волчица для Рима и тотемное животное — для какого-нибудь индейского племени.
Исходя из такого предположения, я принялся изучать фрески — эпос безымянного города, легенду о могучей морской метрополии, что владычествовала над миром задолго до того, как поднялась из океанских вод Африка. Я узнал о том, как она сражалась за выживание; ведь море отступало, а пустыня подбиралась все ближе к плодородной долине, в которой она стояла; о войнах и победах, горестях и поражениях, о той поре, когда тысячам горожан, иносказательно представленных на рисунках в образе гротескных рептилий, пришлось прорубать сквозь скалы путь в земные недра — к новому миру, о котором вещали им пророки. Фрески были выполнены в весьма натуралистичной манере. Кстати сказать, на них был показан тот колодец, по которому я недавно спускался, прорисованный во всех подробностях: наличествовали даже боковые ответвления.
Пробираясь по коридору в направлении источника света, я не сводил взгляда с вереницы картин, что рассказывали об исходе народа, жившего в безымянном городе и его окрестностях на протяжении десяти миллионов лет, народа, душа которого не принимала расставания с землей, что дала когда-то приют кочевникам, за кое благодеяние они не переставали возносить ей хвалы в своих молитвах, творимых в скальных храмах. По мере усиления света я мог изучать рисунки более тщательно; по-прежнему считая рептилий аллегорическими существами, я задумался об установлениях и обычаях жителей безымянного города. Многое было мне непонятно. Цивилизация, знакомая с письмом, достигла, по всей видимости, более высокого уровня развития, нежели древний Египет или Халдея, однако мне не попалось еще на глаза ни единого изображения сцены смерти, за исключением тех, что относились к гибели в бою и тому подобным вещам. Почему они избегали запечатлевать смерть от старости? Невольно складывалось впечатление, что их существование определял идеал — вернее, иллюзия — бессмертия.
Ближе к концу коридора все чаще стали встречаться необычайно живописные и причудливые фрески — противоречащие друг другу виды развалин безымянного города в пустыне и новой обители, к которой вела прорубленная в скалах дорога. Город и пустыня постоянно изображались залитыми лунным светом: руины окружены были золотистой аурой, которая словно возрождала к жизни чудеса былого, столь мастерски переданные кистью художника, а пейзажи края обетованного были настолько хороши, что взгляд отказывался воспринимать их как правдивые; они рисовали непознанный мир, где царит вечный день, где много прекрасных городов, высоких холмов и плодородных долин. На последней же фреске я усмотрел, как мне показалось, вырождение творческого гения. Рисунок был куда менее завораживающим и гораздо более странным, чем самые безумные из всех предыдущих. Древняя раса, похоже, вымирала, одновременно возрастала ее ненависть к миру наверху, из которого ее изгнала пустыня. Фигуры людей — опять-таки в образе священных рептилий — постепенно уменьшались, хотя на развалинах города они почему-то обретали прежний облик. Изнуренные жрецы — рептилии в роскошных одеяниях — проклинали верхний мир и тех, кто дышит его воздухом. В довершение всего живописец поместил в углу сцену расправы существ древней расы над обыкновенным человеком, судя по его наружности — дикарем из вековечного Ярема, города-колоннады. Я припомнил страх арабов перед безымянным городом и порадовался тому, что дальше стены и потолок коридора свободны от каких бы то ни было изображений.
Увлекшись изучением этой истории в картинках, я незаметно для себя самого приблизился к воротам, из-за которых и проникало в пещеру подземное свечение. Я осторожно подобрался к ним вплотную — и не смог сдержать изумленного восклицания. Я ожидал увидеть обширную, полную света залу, а вместо нее моим глазам предстала безбрежная пучина бледного сияния. Впечатление было такое, будто я гляжу с вершины Эвереста на освещенный солнцем облачный покров. За моей спиной находился проход, в котором я не мог даже распрямиться во весь рост, а впереди расстилалось необозримое море облаков.
От конца коридора уводила в бездну крутая каменная лестница, ступени которой сильно напоминали те, по каким я спустился в подземелье. Через один или два пролета она терялась в мерцающей дымке. Дверь, преграждавшая доступ в коридор — массивная, бронзовая, чудовищно толстая, украшенная замысловатой резьбой, — была распахнута настежь. Закрытая, она, по-видимому, напрочь отделяла подземный мир света от колодцев и ходов в скале. Я поглядел на ступени и не сумел принудить себя встать на первую из них; я коснулся бронзовой двери — и не смог сдвинуть ее с места. Я опустился на каменный пол, голова моя шла кругом от лихорадочных мыслей, унять которые бессильно было даже мое утомленное состояние.
Лежа с зажмуренными глазами и пытаясь рассуждать здраво, я почему-то вспомнил фрески и заново переосмыслил то, что было на них изображено, — безымянный город в пору своего расцвета, плодородные земли вокруг, дальние края, до которых добирались его купцы. Аллегория с рептилиями озадачивала меня и сбивала с толку; я не переставал гадать, чем их наружность так расположила к себе неведомого древнего художника. На фресках безымянный город выглядел так, словно его строили именно для рептилий. Каковы же были его размеры в действительности? И тут мне на память пришли некоторые несоответствия, подмеченные мною в развалинах, то бишь необычно низкие своды пещерных храмов и пробитого в скалах коридора. Может статься, их вытесали такими из уважения к рептилиям, которых почитали как богов? Быть может, суть религиозных обрядов заключалась в ползании на животе в подражание божествам? Однако тотчас подумалось мне, что никакая религиозная теория не способна объяснить, почему потолки горизонтальных подземных проходов ничуть не выше потолков в храмах наверху — даже ниже, ведь, находясь под землей, я какое-то время не мог встать и на колени. При мысли о ползучих тварях, чьи мумии остались у меня за спиной, я вновь испытал страх. Рассудок порой приходит к поистине невероятным выводам: я содрогнулся, ибо неизвестно с чего решил вдруг, что я — второй в этом подземелье с его реликтами после того разорванного на куски дикаря.
Однако, как всегда и бывает, радостное изумление помогло мне совладать со страхом. Пучина являла собой загадку, достойную внимания величайших исследователей. Глубоко внизу, под облаками, лежал таинственный мир, к которому вела каменная лестница. Я надеялся отыскать там людей, изображения которых мне так и не встретились на фресках коридора, хотя на них выписаны были величественные города и цветущие долины низинного мира. Разыгравшееся воображение манило к грандиозным руинам, которые, должно быть, поджидали меня у конца лестницы.
Страхи мои относились скорее к прошлому, нежели к будущему. Весь ужас моего положения — один, простертый на полу подземного коридора, полного мертвых рептилий и допотопных фресок, заплутавший в недрах планеты, наткнувшийся случайно на мерцающую бездну, — не шел ни в какое сравнение с леденящим душу трепетом, который охватывал меня, стоило мне взглянуть в бездонный провал. Со всех сторон меня окружала немыслимая древность; возраст каменных алтарей и прочих предметов попросту не поддавался исчислению, а на части стенных фресок изображены были давно исчезнувшие из человеческой памяти океаны и континенты — лишь изредка мне на глаза попадались смутно знакомые очертания. Теперь уже никто не расскажет, что случилось с пришедшей в упадок расой ненавистников смерти с той поры, как была написана последняя картина в коридоре. Да, прежде эти пещеры и переливчатая бездна исполнены были жизни, а ныне я оказался наедине с пережившими века реликвиями, что несли на протяжении тысячелетий неусыпный и никому не нужный дозор.
Внезапно на меня в очередной раз обрушился страх — признаться, он и не отпускал меня с того самого мгновения, когда я впервые узрел мертвую долину и залитый лунным светом безымянный город. Пересилив усталость, я кое-как сел и уставился на черный проход, что выводил к вертикальному колодцу с зарубками для рук и ног. Я испытывал чувство, которое было сродни тому что гнало меня под вечер прочь из развалин безымянного города, — необъяснимое, сосущее чувство. В следующий же миг я был буквально потрясен звуком, что нарушил могильную тишину подземного царства. Это был низкий и протяжный стон, какой, верно, издают проклятые духи, и исходил он оттуда, куда был устремлен мой взгляд. Он становился все громче, под сводом коридора загудело эхо, и я ощутил нарастающий напор холодного воздуха, который проникал сюда откуда-то сверху. Дуновение ветра благотворно повлияло на мое сознание, восстановив способность мыслить ясно и здраво, и я сразу же вспомнил те порывы, которые на рассвете и на закате взметали песок над руинами города; один из них привел меня ко входу в подземелье. Я посмотрел на часы и увидел, что приближается рассвет, а потому постарался вжаться в стену, чтобы ветер, который возвращался домой с ночной прогулки, не увлек меня за собой. Мой страх улегся, ибо природный феномен вряд ли имел что-либо общее с занимавшей меня загадкой.
Ветер задувал все сильнее, с воем отыскивая дорогу в низинный мир. Я вцепился в камень, опасаясь, что неудержимый поток воздуха швырнет меня в сверкающую бездну. По правде сказать, я никак не ожидал от ветра подобной ярости; чувствуя, что меня таки волочет к пропасти, я рисовал себе свое будущее в самых мрачных тонах. Злобствование вихря пробудило уснувшие было фантазии: я вновь принялся сравнивать себя с единственным человеком, побывавшим здесь раньше моего — с тем несчастным разорванным на куски дикарем, — ибо мне чудилось, я улавливаю в неистовстве ветра некое мстительное исступление; впрочем, в его буйстве ощущалось — до известной степени — осознание собственного бессилия. Кажется, в конце концов я закричал и был на грани безумия, но если и так, мои вопли заглушили душераздирающие стоны невидимых призраков, что мчались по коридору на крыльях вихря. Я попробовал ползти обратно, но скоро убедился в бесплодности своих усилий. Меня влекло к краю пропасти. Должно быть, рассудок мой не выдержал, ибо я начал бормотать себе под нос тот стих безумного араба Абдулы Альхазреда, который он сложил, грезя о безымянном городе:
Чему не страшен тлен, то не мертво. Смерть ожидает смерть, верней всего.Лишь мрачные боги пустыни знают, что произошло на самом деле, что было со мной в темноте и кто вернул меня к жизни, до конца которой мне суждено содрогаться от воспоминаний, подступающих ко мне с первыми завываниями ночного ветра. Оно было чудовищным в своей громадности, это существо, настолько невообразимое, что верить в него можно только в те жуткие предрассветные часы, когда, как ни старайся, все равно не удается заснуть.
Я упомянул уже о том, что ярость вихря была поистине демонической — вернее, бесовской — и что в вое его словно обрела голос неутоленная злоба низвергнутых божеств. Постепенно я будто бы стал различать отдельные осмысленные звуки. Снизу, из гробницы неизмеримо древних реликвий, что располагалась на дне кошмарной бездны, донеслись рычание и лай. Обернувшись, я увидел на фоне сверкающего облачного покрова то, чего нельзя было разглядеть в сумраке коридора: орду омерзительных демонов, разгневанных, причудливо одетых, наполовину прозрачных тварей, чей облик говорил сам за себя — ползучих рептилий безымянного города!
Ветер утих, и я погрузился в населенную призраками тьму земных недр. Огромная бронзовая дверь захлопнулась с оглушительным звоном, эхо которого устремилось в наружный мир, чтобы приветствовать солнце, как приветствует его с нильских берегов величавый Мемнон.
ИНЫЕ БОГИ
На высочайших среди вершин земных гор обитают боги земли, и они не потерпят того, что кто-либо из людей станет утверждать, что видел их. Прежде они обитали не на столь высоких вершинах, однако люди равнины всегда будут преодолевать скалы и снега, загоняя богов на все более и более высокие горы, пока наконец не останется всего одна, самая последняя. Рассказывают, что, покидая свои прежние, старинные вершины, они забирали с собой все признаки своего пребывания и только однажды оставили вырезанные в камне очертания на горе, которую называли именем Нгранек.
Но теперь они перенесли себя в неведомый Кадат, расположенный в холодной пустоши, в которой не ступала нога человека, и сделались суровыми, не имея более горной вершины, на которую можно бежать от людей. Они сделались жесткими, и если прежде позволяли людям вытеснять себя, то теперь запрещают людям приходить, а пришедшим — уходить. И хорошо для людей, что они не ведают о Кадате и окружающей его холодной пустыне; иначе они по неблагоразумию своему попытались бы преодолеть ее.
Иногда, когда боги земли тоскуют по дому, посреди ночного покоя они посещают вершины, на которых некогда обитали, и тихонько плачут, пытаясь, как и прежде, играть на памятных склонах. Люди ощущали слезы богов на увенчанном белой шапкой Турае, хотя и думали, что идет дождь; а еще они слышали вздохи богов в жалобных ветрах над рассветными склонами Лериона. В облачных кораблях имеют обыкновение путешествовать боги, и мудрые крестьяне хранят легенды, которые запрещают им облачной ночью подниматься на иные вершины, ибо боги теперь не столь снисходительны, как в старину.
В Ултаре, что лежит за рекою Скай, некогда жил старик, с жадностью внимавший богам земли; человек, глубоко изучивший семь тайных книг земли и познавший Пнакотические манускрипты далекого мерзлого Ломара. Имя ему было Барзай Мудрый, и селяне рассказывают о том, как он поднялся на гору в ночь странного затмения.
Барзай знал о богах так много, что умел рассказывать об их деяниях и скитаниях; еще он разгадал столько их секретов, что люди считали его самого полубогом. Это он мудрым образом посоветовал магистратам Ултара принять тот знаменитый закон, запрещающий убийство кошек, это он впервые рассказал юному жрецу Аталу о том, куда ходят черные кошки в полночь Иванова дня. Барзай был человеком, обученным науке земных богов, и в душе его зародилось желание заглянуть в их лица. Полагая, что великие тайные знания о богах защитят его от их гнева, он решил взойти на высокую и скалистую вершину Хатег-Кла той ночью, когда на ней, как он знал, будут находиться боги.
Гора Хатег-Кла находится в далекой каменной пустыне за Хатегом, от которого получила свое имя, и возвышается над ней, как каменная статуя над безмолвным храмом. Вокруг вершины ее всегда скорбно играют туманы, ибо в них заключена память богов, которые любили Хатег-Кла, когда жили на ней в стародавние времена. Часто боги земли посещают Хатег-Кла в своих сотканных из облаков кораблях, и, отбрасывая блеклые тени испарений на ее памятные им склоны, пляшут под ясной луной. Жители селения Хатег говорят, что подниматься на Хатег-Кла худо в любое время, но смертельно опасно подниматься на эту гору ночью, когда бледные туманы окутывают и луну, и вершину; однако Барзай и не думал прислушиваться к их словам, когда явился из соседнего Ултара с юным жрецом Аталом, который был его учеником. Атал являлся единственным сыном содержателя постоялого двора, и потому иногда пугался; однако отец Барзая был ландграфом, обитавшим в старинном замке, поэтому суеверия простолюдинов не запали в его кровь, и он только смеялся, внимая трусливым селянам.
Вопреки мольбам крестьян Атал и Барзай вышли из Хатега в каменную пустыню, и возле ночных костров беседовали о старых богах. Много дней шли они и наконец издали узрели высокую Хатег-Кла в сиянии скорбного тумана. На тринадцатый день пути подошли они к подножию одинокой горы, и Атал признался в своих страхах. Но старый и опытный Барзай не испытывал страха, и потому первым отправился вверх по склону, по которому не ступали человеческие ноги со времени Сансу, о котором с таким страхом писано в заплесневелых Пнакотических манускриптах.
Путь их пролегал по голому камню, и пропасти, утесы и камнепады лишь добавляли ему опасности. Выше сделалось холодно и появился снег; так что Барзай и Атал часто оскальзывались и падали, опираясь на посохи и прорубая путь топорами. Наконец воздух сделался жидким, небо переменило цвет и восходителям стало трудно дышать; однако они все продвигались вверх и вверх, дивясь непривычным окрестностям и восторгаясь мысленно тем, что случится на вершине, когда взойдет луна, сея вокруг бледные испарения. Три дня они поднимались все выше и выше, приближаясь к крыше мира, а затем стали лагерем, дожидаясь ночи, когда затмится луна.
Четыре ночи не было никаких облаков, и холодная луна сквозь тонкий утренний туман светила на безмолвный пик. Затем, на пятую ночь, бывшую ночью полнолуния, Барзай увидел на севере плотные облака и сел рядом с Аталом, чтобы понаблюдать за их приближением. Тяжелые и величественные, плыли они вперед медленно и целеустремленно; остановившись вокруг вершины высоко над наблюдателями и сокрыв от их взоров и луну, и вершину. Долгий час оба взирали по сторонам, а вокруг кружили туманы, и облачный покров делался все более и более беспокойным. Умудренный в науках земных богов Барзай старательно вслушивался, ожидая услышать определенные звуки, однако Атал ощущал хлад испарений и наполнявший ночь трепет, и потому много страшился. И когда Барзай продолжил подъем и начал манить его за собой, не скоро последовал за ним Атал.
Так сгустились пары, что сделался трудным путь, и хотя Атал наконец тронулся с места, трудно было ему усмотреть серый силуэт Барзая на темном склоне под закрытой туманом луной. Барзай зашел далеко вперед, и, невзирая на возраст, поднимался быстрее Атала, не страшась крутизны, начинавшей делаться слишком большой для не слишком сильного и опасливого человека, и не замирая перед широкими черными трещинами, через которые едва мог перепрыгнуть Атал. Так вот шли они через скалы и пропасти, оскальзываясь и оступаясь, а иногда испытывая трепет перед простором и жутким безмолвием серых ледяных громад и немых гранитных круч.
И вдруг внезапно Барзай исчез из глаз Атала, поднявшись на жуткий утес, как бы выпиравший наружу и перекрывавший путь для того, кто не был вдохновлен земными богами. Атал находился далеко внизу, размышляя над тем, что будет делать, когда достигнет этого места, и тут он с любопытством отметил, что свет сделался ярче, словно бы безоблачная вершина и озаренное луной место сходок богов были уже совсем рядом. И, карабкаясь к выступающему утесу и озарившемуся небу, он ощущал страх, куда более жуткий, чем известный ему прежде. А потом, с вышины, из тумана донесся голос Барзая, переполненный безумным восторгом:
— Я слышал богов. Я слышал, как земные боги поют, блаженствуя на Хатег-Кла! Ведомы голоса земных богов Барзаю-Пророку! Разредились туманы, ясна луна, и я узрю богов в бурной пляске, на любимой ими с юности Хатег-Кла. Мудрость Барзая сделала его более великим, чем боги земли, и нет преграды и заклинания, способных устоять против его воли; Барзай увидит богов, гордых богов, тайных богов, с пренебрежением отвергающих вид человека!
Атал не мог услышать голоса, которым внимал Барзай, но теперь он был уже у самого выступающего утеса и искал взглядом на нем опоры для ног и рук. И тут он услышал, что голос Барзая сделался пронзительнее и громче:
— Почти рассеялся туман, и луна бросает тени на склон; громки и бурны голоса богов земли, и страшатся они прихода Барзая Премудрого, который больше любого из них… Мерцает свет луны, значит, затмевают его силуэты пляшущих богов; и я увижу их, прыгающих и воющих в лунном свете… тускнеет он, и боги испуганы…
Пока Барзай выкрикивал все это, Атал ощутил призрачную перемену в воздухе, словно бы законы земли склонились перед более великим законом; ибо хотя подъем становился круче, чем когда-либо прежде, уводившая наверх тропа сделалась пугающе легкой, и выпирающий утес оказался сущим пустяком под ногами, когда он добрался до него и скользнул вверх по его опасной выпуклой поверхности. Свет луны странным образом померк, и, рванувшись наверх в тумане, Атал услышал голос Барзая Премудрого, вопившего из теней:
— Луна темна, и боги пляшут в ночи; ужас воцарился в небе, ибо нашло на луну затмение, не предсказанное в книгах людей или земных богов… неведомая магия пришла на Хатег-Кла, ибо причитания испуганных богов превратились в смех, и ледяной склон бесконечно простирается в черное небо, в которое иду я… Хей! Хей! Наконец-то! В тусклом свете зрю я богов земли!
И тут Атал, скользивший как потерянный вверх по непостижимым ступеням, услышал доносящийся из тьмы омерзительный хохот, к которому примешивался крик, какого не услыхать человеку, кроме как во Флегетоне несказанных кошмаров; крик, в котором звучал ужас и боль прожитой в преследовании жизни, сжатой в один страшный миг:
— Другие боги! Другие боги! Боги внешних преисподних, охраняющие слабых богов земли!.. Отвернись… Возвращайся… Не смотри! Не смотри! Отмщение бесконечных бездн… Эта осужденная, эта проклятая яма… Милостивые боги земли, я падаю в небо!
И когда Атал зажмурил глаза, заткнул уши и попытался соскочить вниз, вопреки жуткому тяготению неведомых высот, над Хатег-Кла прокатился страшный удар грома, пробудивший добрых крестьян равнин и честных магистратов Хатега, Нира и Ултара и заставивший их сквозь облачный полог зреть то странное затмение луны, которое не было предсказано ни в одной книге. A когда луна выглянула снова, Атал уже находился в безопасности у конца снежной шапки горы, вдали от богов — земных или других.
В тронутых тлением Пнакотических манускриптах рассказывается, что Сансу, поднявшийся на Хатег-Кла во дни юности мира, не обрел там ничего, кроме бессловесного льда и камня. И все же, когда люди Ултара, Нира и Хатега, преодолев страхи, днем одолели эту зачарованную кручу в поисках Барзая Премудрого, на голой вершине горы они обнаружили любопытный циклопический символ шириной в пять десятков локтей, словно бы гигантской стамеской врезанный в камень. И знак этот был подобен тому, которые ученые люди различили на тех страшных листах Пнакотических манускриптов, которые были слишком древними для прочтения. Это выяснили они.
Барзая Премудрого так и не нашли, а святого жреца Атала ни разу не смогли уговорить помолиться об упокоении его души. Более того, люди Ултара, Нира и Хатега по сю пору боятся затмений и молятся по ночам — когда бледные туманы укутывают вершину горы и луну. A над туманами Хатег-Кла, подчас вспоминая, танцуют боги; ибо они уверены в своей безопасности и любят приплывать сюда из неведомого Кадата на облачных кораблях, и играют, как в прежние времена, как было, когда земля была совсем нова и люди еще не любили взбираться к недоступным вершинам.
ВЗЫСКАНИЕ ИРАНОНА
Имя мне Иранон, и я пришел из Айры, далекого города, града воздушного, который я помню смутно, однако стремлюсь обрести снова. Я — певец и пою песни, которым научился в сем далеком граде, и призвание мое — делать красивыми вещи своими воспоминаниями, вынесенными из детства. Состояние мое заключается в горстке воспоминаний и снов, и в надежде на то, что я еще спою в садах под ласковой луной и западный ветерок будет шевелить цветы лотоса.
Когда о сем проведали люди Телота, они стали перешептываться между собой; ибо хотя в гранитном городе не звучит смех и не слышна песня, в весенние дни суровые мужи иногда обращают свой взор к Картианским холмам и погружаются в мысли о лютнях далекого Оная, о котором слышали от путешественников. И, занятые сими мыслями, они предложили чужеземцу остаться и спеть на площади перед Башней Млина, пусть им и не нравился цвет его рваных одежд, и мирра на волосах его, и венок из листьев винограда, и юность золотого голоса. Вечером Иранон пел, и пока он пел, старец молился, а слепец молвил, что видел нимб над головой певца. Однако люди Телота в большинстве своем зевали, некоторые смеялись, а другие уснули; ибо Иранон не молвил ничего полезного и в песне его звучали только воспоминания, мечты и надежды.
— Помню сумерки, луну, негромкую песню, и окошко, возле которого качали меня. A за окном была улица, и из него лился золотой свет, и тени плясали на мраморных стенах домов. Помню площадь, залитую лунным светом, не похожим ни на какой другой свет, и видения, танцевавшие в лучах луны, когда мать моя пела мне. A еще помню солнечное утро над пестрыми летними холмами, и сладкие цветочные ароматы, несомые южным ветром, от прикосновения которого пели деревья.
O, Айра, город из мрамора и берилла, сколь множественны твои красоты! Как любил я теплые и благоуханные рощи на том берегу кристально чистой Нитры, и водопады на крошечной Кра, протекавшей по цветущей долине! В этих рощах и долине дети плели друг другу венки, a в сумерках меня посещали странные сновидения под покровом горных деревьев-ят, когда я видел под собой городские огни, a извилистая Нитра превращалась в полную звезд ленту.
A в городе были дворцы из цветного с прожилками мрамора с золочеными куполами и расписными стенами, и зеленые сады с лазурными прудами и кристальными фонтанами. Часто играл я в садах и спускался в пруды, a потом лежал и грезил среди нежных цветов под деревьями. A иногда на закате восходил я по длинной и крутой улочке к цитадели и открытому пространству перед ней и смотрел вниз на Айру, волшебный, воздушный город из мрамора и берилла, великолепный в одеждах пламенной золотой вечерней зари.
Давно скучал я по тебе, Айра, ибо был еще молод, когда ушли мы в изгнание; но отец мой был твоим королем, и я снова вернусь к тебе, ибо так назначено Судьбой. По всем семи землям я искал тебя, и однажды буду править твоими рощами и садами, твоими улицами и дворцами, и буду петь людям, знающим, о чем я пою, и не отворачивающимся прочь, и не осмеивающим меня. Ибо аз есмь Иранон, который был принцем в Айре.
В ту ночь люди Телота положили незнакомца почивать на конюшне, a утром к нему явился архонт и потребовал, чтобы пришелец отправился в лавку Атока-сапожника и поступил к нему в ученики.
— Но я Иранон-певец, и мое дело — песня, — молвил тот, — и нет во мне желания заниматься делом сапожника.
— Все в Телоте должны трудиться, — ответил архонт, — ибо таков закон.
Так тогда рек Иранон:
— Для чего трудитесь вы, как не для того, чтобы жить и быть счастливыми? A если вы трудитесь только для того, чтобы трудиться больше, может ли осенить вас счастье? Вы трудитесь для того, чтобы жить, но не соткана ли жизнь из красоты и песен? И если вы не способны потерпеть певца между собой, где обрящете тогда плод ваших трудов? Труд без песни подобен не имеющему конца утомительному путешествию. Разве смерть не более приятна тогда?
Однако архонт остался угрюм, не поняв незнакомца, и принялся укорять его:
— Ты странный юноша, и твое лицо, как и голос, не нравятся мне. И богохульны речи твои, ибо боги Телота нарекли труд благом. Боги наши обещали нам полную света гавань по смерти, где будет отдых без конца и края и кристальная прохлада, посреди которой никто не станет утомлять свой разум мыслями, а глаза красотой. Ступай же к Атоку-сапожнику, или до заката уходи из нашего города. Служить обязаны все, a песня — глупая прихоть.
Так Иранон вышел из конюшни и пошел по узким каменным улицам между мрачными квадратными, сложенными из гранита домами, разыскивая хотя бы зеленый клочок, ибо все было сложено из камня. Лица мужчин был хмуры, однако на каменной насыпи возле ленивой реки Зуро сидел мальчик, обратив печальные очи к воде, дабы узреть в ней зеленые ветки с бутонами, принесенные свежим потоком с холмов. И так сказал ему мальчик:
— Не ты ли истинно тот, о ком рассказывают архонты… тот, кто ищет далекий город в прекрасной земле? Я — Ромнод, рожденный от крови Телота, но не успел еще состариться в путях гранитного города, и потому стремлюсь каждый день к теплым рощам и далеким землям, полным красы и песни. Там, за картианскими холмами, лежит Оонай, город лютней и пляски, о котором шепчутся люди, говоря, что красив он и жуток одновременно. Туда лег бы мой путь, будь я достаточно взрослым, чтобы найти дорогу, туда надлежит тебе идти, и там петь, дабы слушали тебя люди. Так давай же оставим город Телот и отправимся вместе по весенним холмам. Ты обучишь меня путям и дорогам, и я буду слушать твои песни по вечерам, когда звезды на небе одна за другой рождают грезы в головах мечтателей. И может случиться так, что город Оонай, где звучат лютни и пляшут, окажется той прекрасной Айрой, которую ты взыскуешь, ибо сказано, что не был ты в Айре с прежних дней, а и времена нередко меняются. Так пойдем же в Оонай, о Иранон златовласый, где люди будут знать наши стремления и поприветствуют нас как братьев, и не будут хмуриться нашим речам и смеяться над ними.
Так отвечал Иранон:
— Да будет так, малыш; тот, кто в этом каменном граде стремится к красоте, должен искать ее в горах и за ними, и я не оставлю тебя вздыхать возле ленивой Зуро. Только не надо думать, что восторг и понимание обитают за Картианскими холмами или в любом краю, отстоящем отсюда на день, год или целых пять лет пути. Знай, что когда мне было примерно столько лет, сколько тебе сейчас, я обитал в долине Нартоса возле холодной Ксари, где никто не хотел внимать моим грезам; и сказал себе тогда, что, когда буду постарше, переберусь в Синару на южном склоне, чтобы петь улыбающимся погонщикам верблюдов на базаре. Но, оказавшись в Синаре, я понял, что все погонщики дромадеров просто пьяные сквернословы, и песни их не похожи на мои, и потому спустился в город ониксовых стен Джарен. Но солдаты в Джарене осмеяли меня и выгнали вон, после чего я скитался по городам. Я видел Стефелос, что лежит у подножия великого водопада, я взирал на болото, раскинувшееся на месте Сарната. Я побывал в Траа, Иларнеке и Кадафероне на извилистой реке Ай, и подолгу жил в Олатое, что находится в земле Ломарской. Однако хотя у меня иногда находились слушатели, их всегда было немного, и я знаю, что добрый прием ждет меня только в Айре, городе из мрамора и берилла, где прежде правил как король мой отец. Посему Айру будем искать мы, хотя и неплохо посетить далекий и благословенный звоном лютни Оонай, что лежит за Картианскими горами и на самом деле действительно может оказаться Айрой, хотя я сомневаюсь в этом. Красота Айры выше любого воображения, и никто не может рассказывать об этом городе без восторга, в то время как об Оонае погонщики бактрианов рассказывают с насмешкой.
Так на закате Иранон и маленький Ромнод вышли вон из Телота и долго скитались по зеленым холмам и прохладным лесам. Тяжелым и непрямым был путь, и так и не приблизились они к Оонаю, городу лютней и танцев; однако в сумерках, когда высыпали звезды, пел Иранон об Айре и красотах его и внимал ему Ромнод, так что были в известной мере счастливы оба. Ели они в обилии плоды и красную клюкву и не замечали течения лет, шедших мимо один за одним. Маленький Ромнод стал уже вовсе не мал, и голос его сделался басовитым, а не пронзительным, только Иранон оставался прежним и украшал свои золотые власы лианами и благоуханными смолами, найденными в лесах. Так случилось, что Ромнод начал казаться старше, чем Иранон, пусть и был он весьма невелик, когда Иранон нашел его наблюдающим за расцветающими зелеными ветвями в Телоте возле ленивой, закованной в камень Зуро.
И вот однажды, в полнолуние, ночью путники вышли на горный гребень и узрели внизу под собой мириады огней Ооная. Селяне подтвердили, что город сей недалек, и Иранон понял, что это не родной его Айра. Ибо огни Ооная были не такими, как в Айре — резкими и слепящими казались они, в то время как огни Айры светили столь же мягким и волшебным огнем, как тот лунный свет, что ложился на пол от окошка, возле которого матерь Иранона убаюкивала его песней. И все же Оонай был городом лютней и плясок, и посему Иранон и Ромнод отправились вниз по крутому склону, чтобы найти людей, которым приносят удовольствие песни и грезы. A войдя в город, они увидели увенчанных венками гуляк, бродивших из дома в дом, высовывавшихся из окон, и глядевших с балконов, и внимавших песням Иранона, и бросавших ему цветы, и аплодировавших после каждой песни. Тут на мгновение поверил Иранон, что нашел тех людей, которые думают и чувствуют так, как и он сам, хотя город их и на сотую долю не был так же прекрасен, как Айра.
А когда пришла заря, Иранон с разочарованием огляделся по сторонам, ибо купола Ооная не золотились под солнцем, но казались серыми и зловещими. И люди Ооная были бледны от пьянства, и тупы от выпитого вина, и ничуть не похожи на светлых людей Айры. Однако люди эти бросали ему цветы и восхищались его песнями, и потому Иранон остался в городе, а с ним и Ромнод, которому так понравился местный разгул, что он украсил свои темные волосы розами и миртом.
Часто по ночам пел Иранон гулякам, однако всегда, как и прежде, оставался он увенчанным только горной лозой, памятуя о мраморных улицах Айры и прозрачной как слеза Нитре. В расписанных фресками залах монарха пел он на приподнятом над зеркальным полом хрустальном подножии, и песни его рождали картины в сердцах слушателей, так что начинало казаться, будто пол отражает старинные, прекрасные и полузабытые вещи, а не побагровевших от выпитого вина гуляк, осыпавших его розами. И король уговорил его снять оборванный пурпур, и облачил его в атлас и золотую парчу, пожаловав кольца из зеленого нефрита и браслеты из раскрашенной слоновой кости, и поселил его в раззолоченной и украшенной гобеленами палате с ложем из теплого резного дерева, пологами и покрывалами из расшитого цветами шелка. Так жил Иранон в Оонае, городе лютней и плясок.
Неведомо, сколько времени провел Иранон в Оонае, однако пришел день, когда король привел во дворец диких и буйных кружащихся танцоров из Лирианской пустыни и смуглокожих флейтистов из восточного Дринена, и после этого гуляки стали бросать свои розы не столько Иранону, как плясунам и флейтистам. И изо дня в день Ромнод, бывший совсем мальчишкой в гранитном Телоте, становился все грубее и багровее от вина, и теперь он грезил все меньше и меньше и с меньшим восторгом внимал песням Иранона. Но хотя печалился Иранон, петь он не перестал и все рассказывал по вечерам о своих видениях Айры, города из мрамора и берилла. И вот однажды ночью багровый от вина и раздобревший Ромнод тяжко захрипел посреди украшенных маками шелков банкетной кушетки и умер в корчах, пока бледный и худой Иранон напевал самому себе в дальнем углу. A когда оплакал Иранон Ромнода на могиле его и усыпал ее зелеными ветвями, которые любил Ромнод, снял с себя все шелка и вуали и забытым ушел из Ооная, города лютней и плясок, облаченный лишь в тот рваный пурпур, в котором пришел, увенчав себя свежими горными лозами.
Прямо на закат ушел Иранон, как и прежде разыскивая свою родину и людей, которые понимают его песни и грезы. Во всех городах Кидатрии и землях за пустыней Бнази веселые дети смеялись над его старинными песнями и поношенным пурпурным одеянием; но сам Иранон оставался всегда молодым и, покрывая свою золотую голову венком, пел об Айре, прошлом восторге и надежде на будущее.
Так пришел он однажды ночью к хижине древнего пастуха, грязного и согбенного, пасшего свое стадо на каменистом склоне над болотами и плывунами.
Как и ко многим прочим, обратился к нему Иранон такими словами:
— Не скажешь ли ты мне, где я могу отыскать Айру, город из мрамора и берилла, где течет кристально чистая Нитра и где водопады на крошечной Кра поют зеленым долинам и холмам, поросшим деревом ят?
Услышав сии слова, пастух посмотрел на Иранона долгим и странным взором, словно бы вспоминая нечто очень далеко отстоящее во времени, разглядев каждую морщинку на лице его, и золотые волосы, и корону из виноградных листьев.
Но стар он был и, тряся ветхой головой, ответил:
— O незнакомец, воистину слышал я прозвание Айра и прочие вместе с ним, названные тобой, однако пришли они ко мне издалека, из-за преграды долгих лет. В юности я слышал их из уст товарища по детским играм, сына нищего, знавшего странные грезы и слагавшего долгие повести о луне, и цветах, и западном ветре. Обычно мы смеялись над ним, ибо знали его от рождения, хоть и называл он себя королевским сыном. Был он пригож, как и ты, но полон всяких странных чудачеств; еще совсем ребенком он убежал из дома, чтобы найти тех, кто будет радостно внимать его песням и грезам. Как часто пел он мне о землях несуществовавших и о вещах, никогда не бывших! Много он говорил об Айре; о городе Айре и реке Нитре и водопадах на крошечной Кра. Там, говорил он, некогда жил он принцем, хотя мы знали его от рождения. Не было никогда мраморного города Айры, как и тех, кто мог восхититься его странными песнями, кроме как в грезах дружка моего Иранона ушедшего.
И в сумерках, пока на небо одна за одной высыпали звезды и луна бросала на болото свой свет, подобный тому, который видит ребенок трепещущим на полу, когда укачивают его на ночь, вступил на тот плывун другой старец в заношенном пурпуре, увенчанный пожухшими виноградными листьями и смотревший перед собой — словно бы на золотые купола прекрасного города, в котором понимают грезы. И некая доля юности и красоты скончалась в ту ночь в постаревшем мире.
ГЕРБЕРТ УЭСТ — ВОСКРЕСИТЕЛЬ МЁРТВЫХ
Глава 1
Из глубин мрака
О Герберте Уэсте, моем друге в студенческие и все последующие годы, я не могу говорить иначе как с содроганием. Охватывающий меня при этом ужас связан не только со зловещими обстоятельствами его недавнего исчезновения, но и с самим характером его жизнедеятельности. Впервые этот ужас сковал меня более семнадцати лет назад, в бытность нашу студентами третьего курса — мы учились в медицинской школе при Мискатоникском университете в Аркхеме. Пока мы дружили, необычность и демонизм его опытов неудержимо влекли меня, — теперь же, когда его не стало, магия исчезла, а ужас, напротив, возрос. Воспоминания и предчувствия могут быть страшнее жизненных обстоятельств.
Первый ужасный случай, произошедший вскоре после нашего знакомства, стал самым жутким событием в моей жизни, и мне до сих пор нелегко о нем говорить. Как я уже упоминал, мы учились тогда в университете, где Уэст прославился своими безумными теориями о природе смерти и о возможности преодоления ее искусственным путем. В основе его взглядов, над которыми дружно потешался весь преподавательский состав вкупе со студентами, лежало представление о механической природе жизни: по его мнению, органический механизм после завершения естественных процессов можно заставить функционировать вновь при помощи определенных химических веществ. Во время экспериментов он умертвил бесчисленное множество кроликов, морских свинок, кошек, собак и обезьян, вводя им различные растворы, и стал в колледже притчей во языцех. Несколько раз ему удалось добиться появления признаков жизни, подчас пугающих, у предположительно мертвых животных, но вскоре он понял, что дальнейшее совершенствование метода, если оно возможно, потребует целой жизни. Кроме того, стало ясно: поскольку одинаковые растворы действуют по-разному на различные виды органических тканей, моему другу, дабы наращивать ценность работы, требуются человеческие особи. Именно на этом этапе он вступил в конфликт с профессурой колледжа: проведение дальнейших экспериментов ему запретил ни больше ни меньше как сам декан, образованнейший и добросердечнейший доктор Аллен Хелси, чьи добрые дела помнит каждый старожил Аркхема.
Я всегда терпимо относился к поискам Уэста, и мы часто вместе обсуждали его теории, а также многовариантность вытекающих из них следствий. Соглашаясь с Геккелем в том, что жизнь есть совокупность химических и физических процессов, а так называемая «душа» является мифом, мой друг верил, что успешное воскрешение мертвых зависит в первую очередь от состояния тканей. Если распад еще не начался, то трупу, в котором сохранены все органы, можно соответствующими усилиями вернуть жизнь. Уэст понимал, что психическая или интеллектуальная сфера может деградировать из-за особой чувствительности мозговых клеток, для которых даже краткое пребывание в состоянии смерти чревато непредвиденными последствиями.
Поэтому он стремился заполучить самые свежие экземпляры, вливая им в кровь свой раствор сразу же после кончины. Именно это обстоятельство вызывало сопротивление профессоров, которые не были уверены, что смерть имела место во всех случаях. Они продолжали придирчиво и дотошно следить за его экспериментами.
Вскоре после наложения запрета на его работу Уэст признался мне, что намерен продолжить опыты втайне, для чего ему потребуются свежие трупы. Было неприятно слушать, как он прикидывает, где и как их доставать, ведь раньше нам об этом заботиться не приходилось. Если в морге отсутствовали трупы, доставать их вменялось в обязанность двум местным неграм, которые исправно этим занимались. В те годы Уэст был хрупким светловолосым юношей небольшого роста, с тонкими чертами лица и голубыми глазами; он носил очки и говорил тихим голосом. От такого человека жутковато было слышать сравнительные характеристики привилегированного кладбища при церкви Христа и кладбища для бедняков. Первое никак не устраивало Уэста: ведь практически каждый, похороненный там, предварительно бальзамировался.
Вскоре я стал его деятельным и преданным ассистентом, помогая в решении разного рода проблем, касались ли они источника поступления трупов или же поиска подходящего места для наших устрашающих экспериментов. Именно я предложил для этой цели дом на ферме Чепмена, что за Медоу-хилл, на первом этаже которого мы оборудовали операционную и лабораторию, тщательно занавесив окна, чтобы скрыть от посторонних глаз наши ночные деяния. Дом стоял в безлюдном месте, в стороне от дорог, но меры предосторожности были все же необходимы, ибо слухи о таинственных огнях в ночи, разнесенные случайными бродягами, могли положить конец нашим занятиям. В случае расспросов порешили называть нашу лабораторию химической. Постепенно наше мрачное убежище заполнилось нужным оборудованием, частично закупленным в Бостоне, а частично позаимствованным тайком в университете. Это оборудование тщательно камуфлировалось, и распознать, что к чему, мог только глаз знатока. Мы также заготовили лопаты и кирки, необходимые для будущих захоронений в подвале. В университете мы пользовались кремационной печью, но в нынешних нелегальных условиях доступ к ней оказался закрыт. С трупами всегда было много хлопот, даже с морскими свинками, которых Уэст тайно использовал для опытов в своем гостиничном номере.
Подобно вампирам, мы подстерегали каждую новую смерть, ведь нам подходили не все покойники. Трупам надлежало быть свежими, без всяких искусственных консерваций, желательно не источенными болезнью и, конечно, со всеми жизненно важными органами. Больше всего подходили жертвы несчастных случаев. В течение многих недель нам не попадалось ничего подходящего, хотя мы связывались с моргами и больницами, ведя переговоры якобы по поручению университета и стараясь при этом не вызывать подозрений. Мы узнали, что наш факультет пользуется в таких случаях преимущественным правом, и решили остаться в Аркхеме на все каникулы, когда в колледже занимались только немногочисленные «летние» классы. Наконец нам повезло, случай подвернулся просто идеальный: молодой здоровый рабочий утонул в пруду и уже на следующее утро был похоронен за счет города на кладбище для бедных. Никаких проволочек и никакого бальзамирования. Днем мы отыскали свежую могилу и решили начать работу вскоре после полуночи.
То, чему мы посвятили предутренние часы, было пренеприятнейшим делом, хотя тогда у нас еще не развился особый ужас перед кладбищами, чему так способствовали дальнейшие события. Мы захватили с собой лопаты и керосиновые лампы (электрические фонарики уже существовали, но их качество было гораздо хуже нынешнего). Работа продвигалась медленно. Будь мы поэтами, она могла бы навевать на нас мысли о бренности человеческий жизни, но, будучи учеными, мы ничего, кроме отвращения, не ощущали и испытали большое облегчение, когда лопаты стукнулись о дерево. И вот сосновый гроб был полностью откопан, Уэст съехал вниз, снял крышку, извлек тело и подал его мне. Согнувшись, я перехватил и вытащил труп, а потом мы вдвоем, стараясь, чтобы все выглядело как прежде, аккуратно засыпали могилу. Нас обоих трясло. Застывший труп с безучастным лицом выглядел ужасно, но мы все же не ушли до тех пор, пока не уничтожили следы нашего пребывания. Убедившись наконец, что все в порядке, мы засунули тело в холщовый мешок и отправились на ферму старика Чепмена.
Лежа на импровизированном операционном столе в старом фермерском доме, наш покойник при свете мощной карбидной лампы выглядел вполне материально и нисколько не напоминал привидение. Это был крепкий, ширококостный, явно плебейского типа парень, грубое, без всяких там тонкостей или воображения животное, чьи физиологические процессы были наверняка простыми и здоровыми. Лежа перед нами с закрытыми глазами, он казался скорее спящим, чем мертвым, хотя тщательные тесты показывали, что в нем отсутствовали всякие проявления жизни. Мы нашли наконец то, что давно искал Уэст, — мертвого мужчину нужного типа, которому можно ввести раствор, тщательно приготовленный с учетом специфики человеческого организма. Мы были очень взволнованы. Шансов на полный успех почти не предвиделось, особенно мы боялись непредсказуемых и, возможно, ужасных последствий частичного воскрешения. Опасения вызывало состояние мозга и рефлексов нашего подопечного: ведь за время, прошедшее с момента смерти, особо чувствительные церебральные клетки могли разрушиться. Меня же обуревало любопытство относительно того, что принято называть «душой», а при мысли о том, какими тайнами способен поделиться с нами восставший из мертвых, меня охватывало глубокое благоговение. Что мог видеть этот юноша с безмятежным лицом в недостижимых сферах и что, будучи возвращенным к жизни, мог нам поведать? Впрочем, любопытство мое быстро прошло — в основном я разделял материалистические взгляды моего друга. А тот был вполне спокоен и невозмутимо ввел в вену мертвеца значительное количество своего раствора, сразу же перевязав место укола.
Ожидание было мучительным, но Уэст не терял присутствия духа. Время от времени он приставлял к груди покойника стетоскоп, философски перенося отсутствие изменений. Так прошли три четверти часа. Наконец Уэст решительно заявил, что раствор неудовлетворителен, но он сейчас изменит состав и попробует все повторить. А потом уж спрячем наш чудовищный трофей. Еще днем мы вырыли в погребе яму и до рассвета должны были закопать нашего мертвеца: запоры на дверях были крепки, но нас могли увидеть, а прослыть кладбищенскими мародерами все же не хотелось. Впрочем, к следующей ночи труп все равно потерял бы кондицию. И вот, прихватив с собой карбидную лампу, мы перешли в соседнюю лабораторию, оставив нашего молчаливого гостя на столе в полной темноте, и увлеченно занялись составлением нового раствора. Уэст тщательно высчитывал и взвешивал все его компоненты.
Ужасное событие произошло внезапно. Я переливал какую-то жидкость из одной пробирки в другую, а Уэст что-то грел на спиртовке, которая заменяла нам в этом старом доме газовую горелку. Вдруг из покинутой комнаты раздались страшные крики, чудовищнее которых мы не слышали в своей жизни. Даже если бы сама преисподняя разверзлась, открыв миру смертные муки грешников, адские звуки, доносящиеся оттуда, не могли быть более зловещи, ибо в услышанной нами невообразимой какофонии слились запредельный ужас и безмерное отчаяние воскрешенного существа. Эти звуки не были человеческими — ни один человек не смог бы издать их, и мы, не думая ни о покойнике, ни о лаврах первооткрывателей, бросились к ближайшему окну, как раненые звери. Опрокидывая на ходу склянки, лампы, реторты, мы выпрыгнули наружу и оказались в звездной мгле сельской ночи. Помнится, мы кричали от ужаса и, спотыкаясь, бежали по направлению к городу. Достигнув городских окраин, мы, однако, постарались принять вид попристойнее — изображая веселых гуляк, бредущих домой после изрядной попойки.
Мы не расстались, а, добравшись до жилища Уэста, прошептались с ним до рассвета при зажженных свечах. Немного успокоившись, составили план дальнейших действий и завалились спать, порешив не идти сегодня на занятия. Но на следующую ночь мы тоже не сомкнули глаз, так как вечером прочли в газете две заметки разных авторов. В первой сообщалось, что на старой ферме Чепмена по непонятной причине сгорел дом (видимо, из-за опрокинутой лампы). А во втором говорилось, что на кладбище для бедняков кто-то пытался разрыть свежую могилу, делая это, похоже, без помощи лопаты, голыми руками. Последнее сообщение мы отказывались понимать, памятуя, как аккуратно заделали могильный холм.
Даже семнадцать лет спустя Уэст часто оглядывался, жалуясь, что ему слышатся чьи-то шаги. А теперь его больше нет.
Глава 2
Демон эпидемии
Хотя минуло уже пятнадцать лет, но я до сих пор не могу забыть то страшное время, когда по Аркхему, подобно злому ифриту из иблисских владений, стал, крадучись, расползаться тиф. В памяти людей то лето осталось как время разгула сатаны, распростершего свои темные крыла над множеством склепов на кладбище при церкви Христа, мне же оно памятно по событию еще более ужасному. Теперь, когда Герберта Уэста нет больше, я остался единственным свидетелем этого кошмара.
Мы с Уэстом занимались на летних аспирантских курсах медицинского факультета Мискатоникского университета, где мой друг прославился экспериментами по воскрешению мертвых. В научных целях он извел множество мелких животных, но затем его необычную деятельность оборвал наш декан, доктор Аллен Хелси, отнесшийся к этим опытам скептически. Уэст все же втайне продолжал свои занятия в грязном номере. Однажды ему удалось доставить труп, похищенный на кладбище для бедняков, в заброшенный фермерский дом неподалеку от Медоу-хилл, но тут с ним приключилась жуткая, незабываемая история.
В тот раз я был с ним вместе и видел, как он вводил в неподвижную вену эликсир, способный, по его мнению, восстанавливать жизненно важные химические и физические процессы. Все кончилось плачевно: мы бежали, охваченные ужасом, который впоследствии приписали нервному переутомлению, но Уэст так никогда и не оправился от чувства, что кто-то постоянно за ним следит. Тот труп был недостаточно свеж, а свежесть исходного материала — необходимое условие для восстановления нормальных психических функций. Похоронить мы его не смогли — старый дом сгорел, а ведь насколько нам было бы спокойнее, будь мы уверены, что труп покоится под землей.
После этого случая Уэст на какое-то время прекратил свои опыты, но исследовательский зуд истинного ученого вскоре заставил его обратиться в деканат с просьбой разрешить пользоваться операционной и трупами из анатомического театра. Уэст продолжал считать свою работу необычайно важной. Его просьбы, однако, остались без внимания: доктор Хелси был непреклонен, а другие профессора поддержали своего шефа. В принципиально новой теории воскрешения они не видели ничего, кроме незрелых гипотез молодого энтузиаста, внешний вид которого — хрупкое сложение, светлые волосы, голубые, спрятанные под очками глаза — ничем не выдавал сверхчеловеческую, почти демоническую силу холодного разума, таящегося под заурядной внешностью. С годами он не казался старше, а лишь суровел лицом. А потом в Сефтоне произошло это несчастье, после которого Уэст исчез.
Уэст сражался с доктором Хелси вплоть до окончания учебы, причем вел этот словесный поединок далеко не столь корректно, как наш добрейший декан. Уэст знал свое: ему неразумно и бессмысленно тормозят исключительно важную работу, которую он, конечно, сможет вести и после окончания факультета, но тогда в его распоряжении не будет великолепного университетского оборудования. Для такого юноши, как Уэст, с ярко выраженным логическим складом ума, было непонятно и непереносимо, что старики-консерваторы, упорно не замечая его успешных опытов на животных, отвергают даже возможность воскрешения. Только умудренный опытом человек убедил бы его снисходительней отнестись к умственной ограниченности этих ученых мужей — порождению въевшегося с детских лет пуританства; они могли быть мягки, совестливы, подчас добры и дружелюбны, оставаясь при этом узколобыми, нетерпимыми, косными и ограниченными. Время милостиво к этим несовершенным, но возвышенным характерам, единственный порок которых — робость, но в конце концов и их ждет наказание. Их интеллектуальная ущербность — птолемеизм, кальвинизм, антидарвинизм, антиницшеанство, саббатарианизм и пиетет к законодательству, регулирующему жизнь населения, — делает их комическими фигурами. Несмотря на свои удивительные научные достижения, Уэст был еще совсем молодым человеком и не проявлял должного терпения в отношениях с добрейшим доктором Хелси и его учеными коллегами. Его раздражение росло вместе с желанием доказать этим добропорядочным тупицам свою правоту каким-нибудь необычным, фантастическим образом. Как большинство юнцов, он мысленно вынашивал планы мщения, триумфа и, наконец, великодушного прощения соперников.
И вот, казалось, из самых глубин преисподней, пришла, осклабившись, смертная кара. Мы с Уэстом к тому времени уже закончили учебу, но остались летом поработать в университете и были свидетелями начала этого чудовищного бедствия. Не получив еще врачебных лицензий, мы, однако, уже были дипломированными медиками, и нас тут же начали использовать в этом качестве: число заболевших росло не по дням, а по часам. Ситуация вышла из-под контроля властей, смерти следовали одна за другой, и гробовщики уже не справлялись с работой. Трупы хоронили поспешно, ни о каком бальзамировании и речи не могло быть, даже если умирали важные особы, которых хоронили на кладбище при церкви Христа. Уэст частенько заговаривал о парадоксе ситуации: уйма свежих трупов — и ни один не попал под его нож! Но было не до этого, мы просто валились с ног от усталости, и огромные физические и психические нагрузки приводили к тому, что мой друг все больше падал духом.
А добродетельные враги Уэста тоже не сидели сложа руки. Факультет был практически закрыт, все преподаватели брошены на эпидемию. Доктор Хелси особенно хорошо показал себя в деле, умело и самоотверженно борясь за жизнь больных даже в самых безнадежных случаях или когда другие врачи отступали из-за страха перед возможным заражением. Меньше чем за месяц бесстрашный декан стал, можно сказать, народным героем, хотя сам он, изнемогая от усталости и нервного истощения, казалось, не замечал своей славы. Уэст не мог не восхищаться мужеством своего оппонента, но именно поэтому хотел, как никогда раньше, доказать ему справедливость своих поразительных теорий. Пользуясь неразберихой, царящей на факультете и в муниципальном отделе здравоохранения, он сумел заполучить тело одного недавно скончавшегося больного, тайком пронес его ночью в анатомичку и на моих глазах ввел ему свой новейший раствор. Покойник открыл глаза, вперил в потолок взор, исполненный несказанной муки, а затем снова ушел в небытие, из которого больше его уже ничто не смогло вывести. Недостаточно свеж, сказал Уэст, жаркий летний воздух не идет им на пользу. Когда мы сжигали тело, нас чуть не застали с поличным, и в дальнейшем Уэст не рисковал больше пользоваться анатомичкой.
В августе эпидемия достигла своего пика. Мы с Уэстом были едва живы от усталости, а вот доктор Хелси действительно скончался, четырнадцатого числа. На скоропалительные похороны декана, состоявшиеся пятнадцатого августа, собрались все его студенты; богатый венок, возложенный ими на гроб, затерялся среди многих других, еще более пышных, присланных влиятельными жителями Аркхема и муниципалитетом. Похороны доктора стали почти государственным событием — он был широко известен своими благотворительными акциями. После погребения все мы пребывали в подавленном состоянии и вторую половину дня провели в баре, где Уэст, хотя и потрясенный смертью главного противника, распространялся, шокируя присутствующих, о своей пресловутой теории. Постепенно все разошлись — кто домой, кто по делам; что же касается нас, то Уэст твердил, что эту ночь надо «хорошенько запомнить».
Позднее хозяйка Уэста показала при допросе, что, когда около двух часов ночи мы входили в его комнату, с нами был третий, которого мы поддерживали с двух сторон; как она сказала мужу, видать, все трое изрядно набрались за ужином.
Это замечание ворчливой матроны вскоре подтвердилось: около трех часов ночи дом огласили истошные вопли, доносившиеся из комнаты Уэста. Когда выломали дверь, то увидели, что мы оба лежим без сознания на залитом кровью ковре — избитые, исцарапанные, истерзанные, — а рядом разбросаны склянки и хирургические инструменты Уэста. Открытое окно говорило, каким образом скрылся наш обидчик, но многих удивило, как он отважился на рискованный прыжок с третьего этажа. Нашли также странного вида одежду, но Уэст, придя в себя, объяснил, что она принадлежит не беглецу, а была взята им на бактериологический анализ для выяснения, каким способом передается болезнетворный вирус. Он распорядился немедленно сжечь одежду в нашем просторном камине. Полиции мы заявили, что ничего не знаем о ночном госте. Уэст сбивчиво объяснил, что познакомились мы с ним в каком-то из баров и он показался нам своим парнем. И я, и Уэст всем своим видом демонстрировали, что относимся к этой истории с юмором и вовсе не настаиваем на розыске нашего драчливого спутника.
Эта же ночь положила начало второму кошмару в Аркхеме, который, на мой взгляд, был ужасней самого мора. На кладбище при церкви Христа произошло зловещее убийство — растерзали сторожа. Убийство было настолько жестоким, что не укладывалось в голове, как мог совершить его человек. Несчастного видели живым уже далеко за полночь, а на рассвете открылась эта жуткая картина. Допросили владельца цирка из соседнего города Болтона, но тот клялся, что ни один зверь не сбегал у него из клетки. Люди, нашедшие тело, заметили, что кровавый след вел к гробнице, а у бетонированного входа в нее обнаружили алую лужицу. Более слабый след вел к лесу, но вскоре терялся.
Следующей ночью, казалось, сами демоны плясали на крышах Аркхема и безумный, странный вой слышался в шуме ветра. По охваченному лихоманкой городу кралась новая беда, которую некоторые считали пострашнее эпидемии и шепотом называли явлением злого духа. Этот неведомый монстр посетил восемь домов, всюду оставляя за собой красную смерть: на счету у него было семнадцать изуродованных, бесформенных трупов. Несколько человек видели его в темноте; по их словам, он был белокожим и напоминал уродливую обезьяну или дьявола в человеческом облике. По останкам можно было предположить, что для утоления голода чудовище частично поедало своих жертв. Из семнадцати человек четырнадцать были убиты им на месте, а трое скончались в больнице.
На третью ночь группа смельчаков во главе с полицией захватила чудовище в одном из домов на Крейн-стрит, неподалеку от университета. Эта операция готовилась очень тщательно, все ее участники могли входить друг с другом в контакт при помощи переговорных устройств. Поэтому, когда из университетского района сообщили, что кто-то скребется в ставни, все оказались наготове. Благодаря предельной осторожности и предусмотрительности пострадали в операции только двое, в целом поимка прошла на редкость удачно. Монстра не убили, а только ранили и срочно отвезли в местную больницу. Присутствовавшие при этом не могли скрыть смешанного чувства изумления и отвращения.
Ведь это был человек, несмотря на свой вызывающий омерзение взгляд, обезьянью немоту и дьявольскую жестокость. В больнице ему перевязали рану и отправили в Сефтон, где находилась психиатрическая лечебница. Там он в течение шестнадцати лет бился головой об обитые войлоком стены палаты, пока не сбежал при обстоятельствах столь ужасных, что лучше о них не вспоминать. Кстати, особенно отвратительной поисковому отряду из Аркхема показалась тогда в пойманном монстре невероятная, шокирующая схожесть отмытого его лица с просвещенным и самоотверженным мучеником, похороненным всего три дня назад, — с покойным доктором Алленом Хелси, филантропом и деканом медицинского факультета Мискатоникского университета.
Мы с Уэстом испытали особенный ужас и отвращение. Я и сегодня содрогаюсь при одном только воспоминании точно так же, как и тем давним утром, когда забинтованный Уэст пробормотал: «Черт подери! Опять несвежий попался!»
Глава 3
Шесть выстрелов в лунном свете
Обычно не разряжают всю обойму, когда достаточно только одного выстрела, но в жизни Уэста многое было необычным. Разве будет, например, свежеиспеченный молодой врач скрывать мотивы, которыми он руководствуется при выборе места жительства и работы, как скрывал их Герберт Уэст? Получив дипломы об окончании Мискатоникского университета, мы могли, наконец-то став практикующими врачами, расстаться с бедностью, поэтому приходилось лишь отмалчиваться на расспросы, почему мы так стараемся найти себе дом на отшибе и поближе к кладбищу для бедных.
Подобная склонность к уединению почти всегда имеет свои причины. Мы также не являлись исключением; нас побуждало к этому наше необычное занятие, вернее, дело всей жизни. На первый взгляд мы были рядовыми врачами, но, если копнуть поглубже, за традиционными заботами проступали великие и пугающие цели: смыслом жизни для Герберта Уэста был неустанный поиск тайны бытия в темных и потаенных областях неведомого. Он надеялся найти путь возвращения хладного кладбищенского праха к вечной жизни. Для подобных исследований требовались необычные материалы, включая свежие человеческие трупы, поэтому следовало жить тихо и незаметно, желательно неподалеку от места скромных погребений.
Мы с Уэстом познакомились в университете, где только один я верил в успех его умопомрачительных экспериментов. Постепенно я стал его постоянным ассистентом, и вот теперь, закончив учебу, мы решили держаться вместе. Для двух врачей непросто найти хорошую практику по соседству, но университетские власти помогли нам, и мы обосновались в Болтоне, фабричном городке неподалеку от Аркхема, где располагался университет. Болтонские ткацкие фабрики — самые крупные в Мискатоникской долине, и местные врачи не очень-то любят пользовать их разноязыкий рабочий люд. Мы придирчиво выбирали дом и наконец остановились на обветшалом домишке на краю Понд-стрит, далеко отстоящем от ближайшего жилья. От местного кладбища для бедняков его отделял луг, окаймленный с севера узкой полоской довольно густого леса. Расстояние до кладбища было бульшим, чем нам того хотелось, но ничего поближе не нашлось: дома, расположенные по другую сторону луга, не относились к фабричному району. Впрочем, все складывалось не так уж плохо: по этой безлюдной местности мы добирались незамеченными до мрачного источника нашего так называемого «сырья». Путь был нельзя сказать чтобы близкий, зато, доставляя наши безмолвные трофеи, мы могли не опасаться любопытных взглядов.
Что удивительно, нашими услугами с самого начала пользовалось немало больных, такая практика удовлетворила бы любого начинающего врача, но для ученых, чьи интересы сосредоточены на совершенно других вещах, она была в тягость. Фабричные нравы не отличались особой мягкостью; частые потасовки и пьяная резня доставляли нам много хлопот. Главным же для нас оставалась наша секретная лаборатория, которую мы оборудовали в подвале, установив в ней длинный стол, сверху освещаемый лампами; там мы частенько после полуночи вливали растворы Уэста в вены покойников с бедняцкого кладбища. Уэст самозабвенно экспериментировал, отыскивая компоненты, которые восстанавливали бы жизнедеятельность организма, прерванную тем, что мы называем смертью, но каждый раз наталкивался на все более немыслимые препятствия. Раствор приходилось опять и опять готовить заново: тот, что подходил для морских свинок, исключался для человека, каждый же человек, то бишь покойник, требовал особого подхода.
Годились только свежие трупы, ибо малейшее изменение мозговой ткани делало невозможным полноценное воскрешение. В том-то, собственно, и была вся загвоздка, над этим Уэст бился еще в студенческие годы, когда вел секретные опыты с трупами сомнительной сохранности. Результаты частичного или неполноценного воскрешения были намного ужаснее наших неудач, и у нас обоих сохранились о них жуткие воспоминания. Мы поняли, что играем с огнем, еще в Аркхеме, после первого зловещего эксперимента на брошенной ферме в Медоу-хилл. Даже Уэст, этот холодный, белокурый, голубоглазый ученый-автомат, часто признавался, что не может отделаться от неприятного ощущения тайной слежки. Ему чудилось, что за ним постоянно кто-то наблюдает; тут, конечно, сыграли свою роль расшатанные нервы, но еще и неотвязные мысли о том, что по крайней мере один из воскрешенных — плотоядное чудовище из больничной палаты в Сефтоне — до сих пор жив. О судьбе другого — нашего первого подопечного — мы так никогда и не узнали.
В Болтоне нам было легче, чем в Аркхеме, доставать подходящие человеческие экземпляры. Не прошло и недели, как удалось заполучить, почти сразу же после похорон, жертву несчастного случая. На операционном столе этот человек открыл глаза, взгляд его был абсолютно осмыслен, но затем действие раствора прекратилось. В катастрофе он потерял руку — видимо, поэтому наш успех оказался неполным. До января у нас были еще три попытки, одна из которых закончилась полным провалом. В следующий раз мы добились сокращения мышц, а вот третий покойник встал на ноги, приведя нас в содрогание, и произнес нечто невразумительное. Затем какое-то время нам не везло: погребения случались редко, а немногочисленные покойники были либо вконец истерзаны болезнью, либо до неузнаваемости изуродованы. Мы вели подробный учет количества смертей и обстоятельств, их вызвавших.
Однажды мартовской ночью нам удалось заполучить покойника еще до похорон. Надо сказать, что, хотя в Болтоне из-за царящих в нем пуританских традиций бокс был запрещен, поединки все же случались. В этих тайных грубых побоищах иногда принимали участие и профессионалы, причем самого низкого пошиба. Той ночью тоже происходил бой, который, как выяснилось, закончился трагически. К нам постучались два перепуганных поляка и шепотом, перебивая друг друга, умоляли пойти с ними к тяжелобольному человеку, прося сохранить визит в тайне. Они привели нас в заброшенный сарай, посреди которого стайка рабочих-эмигрантов теснилась вокруг неподвижного темного тела.
Поединок произошел между Малышом О’Брайеном, неуклюжим увальнем с редким для ирландца крючковатым носом, — парень маячил тут же поодаль, полумертвый от страха, — и Баком Робинсоном по кличке Гарлемская Сажа. Негра нокаутировали, и даже беглый осмотр показал, что из этого нокаута ему никогда не выйти. На вид он был страшен: горилла, да и только! Его необычно длинные руки хотелось назвать передними лапами, а лицо навевало мысли об ужасных тайнах Конго и о мерной дроби тамтама при зловещем свете луны. При жизни покойник, вероятно, выглядел еще безобразней, но ведь в мире столько уродливого! Присутствующие были охвачены страхом: никто не знал, что случится, если дело откроется и вмешается закон. Трудно передать словами их благодарность, когда Уэст предложил им помочь освободиться от трупа. Я понимал, с какой целью он это делает, и не мог унять дрожи.
Яркий лунный свет заливал бесснежную твердь. Натянув на покойника одежду, мы потащили его по безлюдным улицам и пустырям, придерживая с двух сторон, как уже делали однажды ночью в Аркхеме. К своему дому мы подошли со стороны поля, втащили тело через черный ход, спустили его в подвал и поспешно подготовили все необходимое. Панически боясь полиции, мы подгадали так, чтобы наше путешествие не совпало по времени с ночным полицейским обходом. Результат наших манипуляций с трупом равнялся нулю. Омерзительный трофей не реагировал ни на один из растворов, вводимых в его черную руку. Не потому ли, что ранее мы имели дело только с белыми? Рассвет неминуемо приближался, и мы поспешили проделать с нашим мертвецом то же, что и с другими, а именно — отволокли его в лес, граничащий с кладбищем, и похоронили в могиле, вырытой настолько глубоко, насколько позволяла промерзшая земля. Пришлось потрудиться над нею не меньше, чем при погребении нашего последнего покойника — того, что поднялся во весь рост и что-то пробормотал. Светя себе фонариками, мы аккуратно засыпали свежевскопанную землю листьями и сухими ветками и ушли в убеждении, что полиция ни за что не отыщет столь тщательно замаскированную могилу, да еще в таком густом и темном лесу.
Однако на следующий день полиция все не шла у меня из головы, так как один из наших пациентов рассказал, что по городу ползут слухи о поединке и покойнике. У Уэста нашелся еще один повод для беспокойства: днем его вызвали к больной, и это посещение едва не кончилось трагически. У одной итальянки пропал ребенок, мальчик лет пяти. Он ушел еще утром и к обеду не вернулся. Мать сходила с ума от волнения, ее и без того слабое сердце явно сдавало. Ее страхи были смешны — мальчишка и раньше частенько пропадал, но итальянские крестьяне очень суеверны, и эту женщину более напугало некое предзнаменование, нежели сам факт исчезновения. К семи часам утра она скончалась, а ее обезумевший от горя муж набросился на Уэста, проклиная за то, что тот не сумел спасти его жену. Он размахивал кинжалом, друзья с трудом удерживали его, и Уэст ушел, сопровождаемый нечеловеческими воплями, ругательствами, проклятиями и обещаниями скорой расправы. Из-за новой беды несчастный, казалось, совсем забыл о ребенке, а тот все не появлялся, хотя приближалась ночь. Хотели начать поиски в лесу, но все близкие хлопотали вокруг покойной и убитого горем мужа. Понятно, что нервы Уэста были натянуты до предела. Мысли о полиции и о безумном итальянце одинаково не давали нам покоя.
Мы легли спать около одиннадцати часов, но сон мой был неглубок. В Болтоне, этом заштатном городишке, полиция работала отменно, и я не мог не понимать, какая начнется кутерьма, если всплывут события предыдущей ночи. Придется распрощаться с врачебной практикой, а то и сесть в тюрьму. Скверно, что по городу расползлись слухи о поединке. После трех часов ночи мне в глаза стал бить лунный свет, но я не опустил шторы, а просто повернулся на другой бок. Тогда-то и послышался шум у черного хода.
Я продолжал лежать в полусне, но вскоре в мою комнату постучал Уэст. Он был в халате и тапочках, в одной руке револьвер, в другой — электрический фонарик. Увидев оружие, я понял, что он больше опасается сумасшедшего итальянца, чем полиции.
— Лучше нам вместе посмотреть, кто там, — прошептал он. — Надо его проучить. Но вдруг это пациент? Есть ведь такие идиоты, что лезут с черного хода.
Мы спустились по лестнице на цыпочках, охваченные двойным страхом: и вполне объяснимым в таких обстоятельствах, и тем неподвластным разуму, что овладевает нами в роковые предутренние часы. Возня у дверей продолжалась, становясь все громче. Осторожно отодвинув засов, я распахнул дверь. Но как только луна осветила стоящего за дверью человека, Уэст повел себя странно. Не думая о том, что он может привлечь внимание полиции — чего, слава Богу, не произошло благодаря укромному расположению нашего дома, — мой друг неожиданно, в состоянии крайнего возбуждения, выпустил все шесть пуль в ночного посетителя.
А все дело в том, что гостем нашим был не итальянец и не полицейский. В призрачном свете луны неясно вырисовывалась огромная бесформенная фигура, какую можно увидеть разве что в кошмарном сне. Иссиня-черный призрак с остекленевшими глазами стоял на четвереньках, весь измазанный землей и запекшейся кровью с налипшими листьями и сухими стеблями. Но самое страшное — из его белоснежных зубов торчала детская ручка.
Глава 4
Вопль мертвеца
Истошный крик одного из наших мертвецов неожиданно вселил в мою душу несказанный ужас перед доктором Гербертом Уэстом, что омрачило последние годы нашей дружбы. Что уж тут говорить, крик, испускаемый покойником, может кого хочешь испугать до смерти, ощущение не из приятных, но я-то привык к подобным штучкам, и мое тяжелое состояние было вызвано особыми обстоятельствами этого дела. Кроме того, как я уже сказал, ужас во мне вызвал совсем не покойник.
Интересы Герберта Уэста, чьим другом и помощником я являлся, выходили за пределы обычных интересов провинциального врача. Поэтому, открывая практику в Болтоне, он поселился в уединенном доме неподалеку от кладбища для бедняков. Надо сказать, его единственной страстью было тайное изучение феномена жизни, ее естественного конца, а также возможностей воскрешения мертвых путем вливания стимулирующих растворов. Для этих мрачноватых экспериментов постоянно требовались свежайшие человеческие трупы, ведь хрупкие мозговые клетки разрушались почти мгновенно, а продолжать опыты на животных было бесполезно: каждый вид требовал качественно нового раствора. Невозможно счесть всех загубленных им кроликов и морских свинок, однако опыты на них ни к чему не привели. Полного успеха Уэст еще не добился: ему ни разу не удалось раздобыть достаточно сохранного покойника. Он мечтал испробовать свой раствор на теле, из которого только что ушла жизнь, а клетки все целы и готовы воспринять импульс к тому, чтобы снова восстановить свое функционирование. Чем черт не шутит, а вдруг вторая (искусственная) жизнь, возрожденная такими инъекциями, станет вечной? Вскоре мы, однако, выяснили, что живой человек практически не реагирует на наши вливания. Для создания искусственного движения молекул он должен быть мертв — должен быть трупом, но обязательно свежим.
Эти захватывающие опыты Уэст начал еще в нашу бытность студентами медицинской школы при Мискатоникском университете в Аркхеме, когда мы пришли к убеждению в механистической природе жизни. С тех пор прошло семь лет, но Уэст выглядел все таким же молодым — невысокого роста, чисто выбритый блондин в очках, с тихим голосом. Лишь изредка его голубые глаза загорались холодным огнем, говорившим о крепнущем фанатизме, что неудивительно при столь зловещем характере его деятельности. Наши эксперименты часто заканчивались леденящими душу сценами, весь ужас которых проистекал из неполного воскрешения, когда кладбищенские останки под воздействием различных модификаций нашего эликсира обретали чудовищное, противоестественное и бессмысленное подобие жизни.
Помнится, один из оживших мертвецов издал душераздирающий крик, другой пришел в страшную ярость, избил до бесчувствия нас обоих и сбежал в состоянии дичайшей необузданности (впоследствии его все же засадили в психушку), третий — мерзкое африканское чудище — каким-то образом выбрался из неглубокой могилы и тут же совершил зверское убийство, после чего Уэсту пришлось пристрелить его. Все эти неприятности случались из-за того, что нам были недоступны свежие трупы — разум не пробуждался в воскрешенных, и они совершали чудовищные злодеяния. Страшно было подумать, что кто-то из этих монстров все еще бродит на свободе; эта мысль преследовала нас до того самого момента, когда Уэст исчез при таинственных и жутких обстоятельствах. Но в то время, когда в лаборатории, расположенной в подвале уединенного болтонского дома, раздался тот истошный вопль, о котором я рассказываю, наши страхи значительно уступали желанию достать наисвежайшие трупы. Уэст прямо помешался на этом, и мне иногда казалось, что он плотоядно поглядывает на каждого живого и пышущего здоровьем человека.
В июле 1910 года проблема приобретения мертвецов нужной кондиции, казалось, была решена. Вернувшись из Иллинойса от своих родителей, у которых долго гостил, я нашел Уэста в несравненно лучшем настроении. Крайне возбужденный, он сообщил мне, что, по всей видимости, решил проблему свежести исходного материала, подойдя к ней с совершенно иной стороны, а именно — искусственного консервирования. Я знал, что Уэст работает над созданием принципиально нового бальзамирующего состава, поэтому сообщение меня не удивило. Однако когда он посвятил меня во все детали, я никак не мог уразуметь, чем это открытие нам может помочь: к тому моменту, когда мертвецы попадают нам в руки, они уже непригодны для экспериментов и никакое консервирование не улучшит положения. Но Уэст, оказывается, все учел и создал свой бальзам в надежде на будущее: а вдруг к нам попадет тело незахороненного, только что скончавшегося человека? Ведь случилось же подобное несколько лет тому назад, когда после боксерского матча нам досталось тело погибшего в поединке негра. И впрямь судьба оказалась к нам милостива: в подвале у нас уже лежал труп, которому не грозило тление. Уэст не делал прогнозов относительно того, как пойдет процесс воскрешения и можно ли надеяться на пробуждение разума и памяти покойного. Этому эксперименту надлежало стать важной вехой в наших трудах, посему Уэст сберег тело до моего возвращения, дабы и я мог, как обычно, принять участие в захватывающем действе.
Уэст рассказал мне, как ему удалось заполучить последний экземпляр. Это был с иголочки одетый мужчина в полном расцвете сил. Приехав в наш город для налаживания кое-каких дел на ткацкой фабрике, он проделал изрядный путь по улицам, и когда подошел к нашему дому, чтобы узнать дорогу к фабрике, то был уже изрядно уставшим — сердце так и выпрыгивало из груди. Отказавшись от лекарства, он неожиданно упал замертво.
Уэст не сомневался, что сами небеса ниспослали ему покойника. В краткой беседе незнакомец обмолвился, что о его приезде в Болтон никто не знает, а последующий осмотр карманов мертвеца позволил установить, что прозывался он Робертом Левиттом, прибыл из Сент-Луиса, семьи не имеет, и, следовательно, в случае исчезновения никто не будет его разыскивать. Даже если вернуть ему жизнь так и не удастся, все будет шито-крыто. Захороним останки в лесочке между нашим домом и кладбищем — и все тут. Если же, напротив, попытка наша увенчается успехом, то слава наша будет ослепительна и безгранична. Поэтому Уэст, не раздумывая, ввел незнакомцу в руку бальзам, который должен был сохранить труп в полной свежести до моего приезда. Я сомневался в удачном исходе предприятия, ведь незнакомец, судя по всему, страдал сердечной слабостью, но Уэста это, казалось, не беспокоило. Он рассчитывал добиться на этот раз того, что не удавалось ранее, — пробуждения рассудка и, возможно, воскрешения живого существа в его нормальном облике.
Итак, в ночь на 18 июля 1910 года мы с Гербертом Уэстом стояли в нашей подземной лаборатории и взирали на белое безмолвное тело, распластанное на столе под ярким светом ламп. Бальзам был поистине чудодейственным: труп пролежал целых две недели, однако не застыл и выглядел по-прежнему свежим. Я был в восхищении. Уэст же на всякий случай еще раз убедился в смерти незнакомца, применив нужный тест и напомнив мне о непременном и тщательном тестировании: животворный эликсир эффективен только в случае полной биологической смерти. Уэст занялся подготовкой к эксперименту, а я молча наблюдал, потрясенный грандиозностью стоявшей перед моим другом задачи. Эта задача была столь сложна, что он взял все в свои руки, не позволив мне даже прикоснуться к мертвому телу. Сначала он ввел какой-то состав покойнику в запястье рядом с точкой, оставшейся от предыдущего укола. По его словам, состав должен нейтрализовать действие бальзама и расслабить мышцы организма до обычного состояния, тогда животворный эликсир быстро сделает свое дело. Немного спустя, когда по мертвым членам прошла дрожь, Уэст с силой прижал к задергавшемуся лицу мертвеца что-то вроде подушки и держал ее до тех пор, пока тело не перестало сотрясаться. Уэст был бледен, но полон энтузиазма. Он еще несколько раз протестировал своего подопечного и, убедившись в полной его безжизненности, ввел наконец в его левую руку аккуратно отмеренное количество эликсира. Эликсир мы приготовили намного тщательнее, чем прежде, когда продвигались к цели еще на ощупь. Трудно описать перехватывающее дух волнение, с каким мы ждали признаков жизни у этого первого отвечающего всем необходимым условиям покойника. По возвращении к жизни от него можно было ожидать здравой речи, возможно, даже рассказа о том, что он видел по ту сторону бездны.
Уэст был материалистом, не верил в существование души, объяснял работу сознания исключительно физиологическими причинами и поэтому не ждал никаких откровений от человека, восставшего из мертвых. Я же, допуская, что теоретически он, может быть, и прав, тем не менее ощущал в себе неясные, интуитивные отголоски примитивной веры моих предков и поэтому взирал на труп с некоторой долей благоговения и с мистическим трепетом. Кроме того, я не мог забыть тот ужасный нечеловеческий вопль, который раздался в ночь нашего первого опыта на заброшенной ферме в Аркхеме.
Очень скоро я понял, что на этот раз разочарование не ждет нас. Бледные щеки покойника, а затем и все заросшее светлой щетиной лицо окрасилось румянцем; Уэст, державший руку на пульсе, кивнул мне со значением, а затем затуманилось и зеркальце, поднесенное к губам мертвеца. Последовало несколько судорожных сокращений мышц, дыхание становилось слышнее, грудь вздымалась. Мне казалось, что я различаю движение век. Затем покойник открыл глаза — серые, спокойные и живые, но мысль все еще отсутствовала в них, не было даже любопытства.
Мгновение спустя, наклонившись по странной прихоти к порозовевшему уху, я прошептал несколько вопросов, касавшихся других миров, о которых он, возможно, хранил воспоминание. Пережитый мной позже ужас стер большинство этих вопросов из моей памяти, однако я помню последний, который повторил несколько раз: «Где вы были?» Не знаю, получил ли я ответ на предыдущие, хотя мне кажется, что эти красиво очерченные губы не издали ни единого звука, но когда я задал последний вопрос, губы несчастного зашевелились, и он ответил нечто вроде «только теперь», если, конечно, ответ его был сознательным. При этих словах меня охватил восторг: великая цель достигнута — впервые возвращенный к жизни человек осмысленно произнес вразумительные слова. Все случившееся далее не оставляет сомнений: эликсир был приготовлен правильно и действовал, по крайней мере в течение какого-то времени, великолепно — он вернул мертвеца к психической и физической жизни. Но к восторгу, испытанному тогда мною, впервые примешался ужас; нет, я не испугался заговорившего покойника, ужас, который я пережил, породило само деяние, свидетелем которого я являлся, и человек, с которым я связал свою профессиональную судьбу.
Ведь несчастный, придя в себя и вспомнив последние минуты своего пребывания на земле, с искаженным от муки лицом и с выпученными в испуге глазами выбросил, как бы защищаясь, перед собой руки и, прежде чем снова и окончательно впасть в беспамятство, истошно выкрикнул слова, которые по сей день звучат в моем больном мозгу: «Помогите! Проклятый белобрысый дьявол, убери от меня свой шприц!»
Глава 5
Кошмар во мраке
Много ходило всяких рассказов об ужасных историях, приключившихся на фронтах мировой войны и не попавших на страницы газет. Некоторые из них доводили меня до полуобморочного состояния, другие заставляли испытывать глубокое тошнотворное отвращение, некоторые же вызывали дрожь и неосознанный порыв оглянуться, не таится ли что в темноте. Но тот ужасный, необъяснимо кошмарный случай, который довелось пережить лично мне, ни в какое сравнение, на мой взгляд, с этими историями не идет.
В 1915 году я служил в чине лейтенанта в канадских войсках, действовавших во Фландрии, и был одним из многих американцев, вступивших в гигантскую бойню прежде своего правительства. Я оказался в армии не по собственной воле, а вследствие того, что в ее рядах пребывал человек, чьим бессменным ассистентом я оставался долгие годы. Это был прославленный бостонский хирург доктор Герберт Уэст. Доктор Уэст жаждал применить в великой войне свой хирургический опыт и, как только случай представился, увлек за собой и меня, почти против моего желания. Я надеялся, что война разлучит нас: сотрудничество с Уэстом все больше тяготило меня, однако когда он, прибыв в Оттаву, получил при содействии друзей чин майора и властно потребовал, чтобы я непременно ассистировал ему и в новых условиях, у меня не хватило духу отказаться.
Стремление доктора Уэста попасть на войну вовсе не говорило о его особой воинственности или тревоге за судьбы цивилизации. Этот голубоглазый блондин в очках, все такой же худощавый, так и остался холодным как лед интеллектуалом-роботом. В глубине души он наверняка посмеивался над приступами военного патриотизма, время от времени одолевавшими меня, когда я был готов осуждать безучастный нейтралитет других. Однако в сражающейся Фландрии было нечто, в чем он нуждался и ради чего надел военную форму. Желания Уэста резко отличались от обычных, свойственных остальному человечеству желаний и были тесно связаны с той областью медицины, которую он тайно разрабатывал, достигнув в ней ошеломляющих и подчас пугающих результатов. Ему требовалось ни больше ни меньше как постоянно иметь под рукой свежие трупы разной степени расчленения.
В свежих трупах Герберт Уэст нуждался потому, что занимался проблемой воскрешения мертвых. Эта сторона его деятельности была сокрыта от высокопоставленной клиентуры, сделавшей его имя знаменитым вскоре после нашего приезда в Бостон, но зато хорошо известна мне, его старому другу и единственному ассистенту со времен нашего обучения на медицинском факультете Мискатоникского университета в Аркхеме. Именно тогда он начал проводить свои зловещие опыты — сначала на мелких животных, а потом на человеческих трупах, которые мы добывали самыми немыслимыми способами. Уэст изобрел специальный раствор, который вводил трупам в вену, и те, если их не коснулось разложение, реагировали по-разному, но всегда противоестественно. Всякий раз Уэст с трудом подбирал нужную формулу раствора: ведь для каждого организма годился лишь свой, особый состав. Страх одолевал его при воспоминании о неудачах, когда из-за неподходящего препарата или начавшегося трупного разложения мертвецы превращались в монстров. Некоторые из них остались в живых: одного поместили в психиатрическую лечебницу, другие же бродили неизвестно где, и, думая об их возможных, пусть и маловероятных деяниях, Уэст содрогался от ужаса, с трудом скрывая свою нервозность под привычной маской уверенного в себе врача.
Уэст скоро понял, что гарантией успешных экспериментов служит максимальная свежесть трупа, и начал прибегать к всевозможным ухищрениям, чтобы заполучить нужный материал. В колледже и позднее, когда мы работали врачами в фабричном городке Болтоне, я благоговел перед своим другом, но со временем его методы становились все жестче, и во мне поселился страх. Мне не нравился тот плотоядный взгляд, который он бросал на живых, пышущих здоровьем людей, а в один кошмарный вечер, когда мы, спустившись в подземную лабораторию, приступили к эксперименту, я узнал, что наш очередной подопечный, попав к Уэсту, был еще жив. Именно тогда Уэсту впервые удалось пробудить в ожившем мертвеце проблеск человеческой мысли, и этот обретенный такой дорогой ценой успех окончательно погубил его.
О том, что он делал в последующие пять лет, я предпочитаю помалкивать. Я не порывал с ним только из страха, хотя был свидетелем сцен столь отвратительных, что человеческий язык отказывается воспроизвести их. Герберт Уэст стал казаться мне еще более зловещим, чем его черное дело. Это случилось после того, как я осознал, что благородное желание ученого продлить жизнь человеку постепенно переродилось у него в нездоровое, отталкивающее любопытство и скрытую некрофилию. Его интерес переродился в извращенный, дьявольский интерес ко всякой, самой чудовищной патологии: он восхищался созданными им чудовищами, которые заставили бы любого нормального человека потерять сознание от страха и отвращения. Словом, за его рафинированной интеллигентностью, за маской утонченного Бодлера хирургии скрывался мертвенный лик Елагабамуса гробниц.
Опасность он встречал невозмутимо, преступления совершал равнодушно. Кульминацией в его перерождении явился, думаю, тот момент, когда он доказал, что жизнь разума может быть восстановлена, и стал искать новые области применения своей энергии, экспериментируя теперь с отдельными частями человеческого тела. Им овладела совершенно сумасшедшая идея о независимости жизненных свойств органических клеток и нервной ткани в отдельных частях организма, и он даже добился некоторого успеха, поддерживая жизнь в почти вылупившемся детеныше одной странного вида, не поддающейся описанию тропической рептилии. Он стремился разрешить два биологических вопроса: во-первых, могут ли сознание и разумные действия сохраняться без участия головного мозга, с помощью лишь спинного и различных нервных центров, а во-вторых, существует ли между отдельными частями того, что было прежде единым организмом, некая нематериальная, неуловимая связь? Ясно, что при такого рода работе требовалось большое количество свежерасчлененных трупов. За ними-то и отправился на войну Герберт Уэст.
В конце марта 1915 года, как-то ночью, в полевом госпитале неподалеку от линии фронта в Сен-Элуа, произошло фантастическое, незабываемое событие. Даже сейчас я не перестаю задавать себе вопрос: а не было ли все виденное мной дьявольским наваждением? Уэст располагал тогда личной лабораторией, расположенной в отдельном помещении временного госпиталя. Он получил ее, убедив начальство, что лаборатория необходима для работы над методикой лечения тяжелораненых, считавшихся безнадежными. Там, среди своих кровавых трофеев, он работал как мясник, а я так и не смог привыкнуть к той спокойной сосредоточенности, с какой он сортировал и раскладывал отдельные части человеческих тел. Временами он по-прежнему демонстрировал чудеса хирургического искусства, спасая солдат, но все же его главный, значительно менее филантропический интерес был сокрыт от человеческих глаз. Ему постоянно приходилось давать объяснения тем странным, даже в условиях военной мясорубки, звукам, доносившимся из его лаборатории. Среди этих звуков довольно частыми были выстрелы — привычные на поле сражения, они удивляли в стенах госпиталя. Но ожившие органы не предназначались для длительного функционирования и уж тем более для посторонних глаз. Помимо работы с человеческим материалом Уэст продолжал свои изыскания с мышечной тканью эмбриона рептилии. В ней было проще поддерживать жизнь, и мой друг на время целиком посвятил себя работе с ней. В темном углу лаборатории в необычного вида инкубаторе стоял вместительный бачок с эмбриональной тканью, постепенно росшей в объеме и поднимавшейся в бачке, как тесто, что производило на меня отталкивающее впечатление.
В ночь, о которой я говорю, нам повезло: в лабораторию доставили труп человека, который при жизни отличался прекрасными физическими данными и, кроме того, обладал высокой психической организацией, говорившей об утонченной нервной системе. По иронии судьбы это был тот самый офицер, который помог Уэсту получить данное место и которому предстояло стать нашим помощником. Более того, в прошлом он тайно изучал теорию воскрешения — в значительной степени под руководством Уэста. Сэр Эрик Морленд Клепем Ли (так его звали) был лучшим хирургом дивизии, майором по званию. Как только слухи о тяжелых боях в районе Сен-Элуа достигли штаба, его срочно направили нам в помощь. Он вылетел на аэроплане, пилотируемом бесстрашным лейтенантом Рональдом Хиллом, но прямо над нами самолет сбили. Ужасная катастрофа произошла у всех на глазах. Хилла искорежило до неузнаваемости; что касается талантливого хирурга, то его голова едва держалась на сухожилиях, тело же осталось неповрежденным. Уэст с жадностью вцепился в безжизненные останки прежнего своего друга и коллеги. Меня передернуло, когда я увидел, как он, окончательно отделив голову от туловища, поместил ее, чтобы сохранить для дальнейших опытов, в свой дьявольский чан с пухнущей эмбриональной тканью. Само же обезглавленное тело он оставил на операционном столе. Затем, влив в него новую кровь, он сшил порванные в области шеи вены, артерии и нервные волокна, а ужасное отверстие обшил куском кожи, взятой у неизвестного трупа в офицерской форме. Мне было понятно, чего добивался Уэст: он хотел знать, обнаружит ли этот высокоорганизованный организм, лишенный головного мозга, какие-либо признаки той умственной деятельности, которая так отличала сэра Эрика Морленда Клепема Ли. Изучавший при жизни теорию воскрешения, он сам стал теперь безжизненным обрубком и лежал, как бы предлагая себя в качестве ужасного практического пособия.
Я и сейчас вижу, как Герберт Уэст при мертвенном электрическом освещении вводит свой эликсир в руку обезглавленного тела. Мне трудно описать место действия — тошнота подступает к горлу при одной лишь попытке. Могу сказать только, что в этом помещении поселилось безумие: повсюду — рассортированные части тел, куски плоти просто валялись на скользком полу, образуя кровавое месиво, местами доходящее до щиколоток, а в темном углу булькали в чане чудовищные порождения эмбриональной ткани. Переполнив посуду, они, извиваясь, вытекали из нее, спускаясь прямо к голубовато-зеленому пламени горелки инкубатора.
Уэст еще раз обратил мое внимание на прекрасную нервную систему подопытного организма. Это позволяло многого ждать от эксперимента. Интерес Уэста возрастал, по мере того как в тканях все заметнее становились мышечные сокращения. Он ждал подтверждения своей гипотезы, в которую верил все больше: что сознание, разум и сама личность существуют независимо от головного мозга и что в человеке отсутствует объединяющее начало. По его мнению, человек является лишь механизмом, состоящим из большого количества нервных клеток. В таком механизме каждый орган существует сам по себе. Если бы наш эксперимент удался, то тайну жизни можно было бы перенести в категорию мифа. По телу мертвеца все активнее проходили судороги, и вот уже грудь его начала вздыматься. Мы смотрели на него завороженно. Руки беспокойно зашевелились, ноги вытянулись, отдельные мышцы сокращались, выкручиваясь при этом как-то до крайности отвратительно. Затем обезглавленное тело выбросило перед собой руки, — этот жест ясно говорил об отчаянии, осмысленном отчаянии, что подтверждало теорию Герберта Уэста. Значит, нервы сохранили память о последнем действии человека, который пытался выбраться из падающего аэроплана.
Что случилось дальше — с точностью сказать не могу. Возможно, это была галлюцинация, вызванная шоком от того, что здание, в котором мы находились, вдруг стало рушиться на наших глазах — начался артиллерийский обстрел, и в него попал немецкий снаряд. Теперь уже до истины не доискаться, ведь мы с Уэстом были единственными свидетелями. Уэст решил для себя, что это всего лишь галлюцинация, но иногда, незадолго до исчезновения, он говорил мне иное: странно ведь, когда сразу обоим чудится одно и то же. Сам по себе этот жутковатый случай был прост, но за ним стояло нечто необъяснимое.
Тело на столе зашевелилось и стало подниматься, ощупывая вокруг себя пустоту. И вот тут раздалось нечто такое, что язык не повернулся бы назвать голосом: слишком ужасен был звук. Впрочем, это нельзя счесть самым кошмарным, так же как и смысл услышанного нами: «Прыгай, Рональд, прыгай же, ради Бога!» Самым страшным был источник звука.
Он доносился из того самого чана, что стоял в темном углу.
Глава 6
Адские легионы
После исчезновения в прошлом году доктора Герберта Уэста полиция с пристрастием допрашивала меня. Они полагали, что я что-то утаиваю, а может, подозревали и кое-что похуже, но я так ничего и не рассказал им — услышь они правду, все равно не поверили бы. Они знали, что деятельность Уэста носила несколько необычный характер: его будоражащие воображение эксперименты по воскрешению мертвых велись так давно, что слухи о них не могли не просочиться. Однако финал всей этой истории был настолько ошеломляющим, а разразившаяся катастрофа носила столь демонический характер, что даже мне, много повидавшему, порой казалось, что я брежу.
Долгое время я был ближайшим другом Уэста, его единственным, посвященным во все тайны ассистентом. Мы познакомились еще будучи студентами-медиками, и я был участником его первых опытов. Ему удалось создать раствор, который при введении в вену недавно скончавшегося человека возвращал его к жизни. Подобное занятие требовало изобилия свежих трупов, что приводило иногда к противозаконным действиям. Результаты экспериментов ужасали: Уэст пробуждал к жизни куски омерзительной мертвечины, которая и ожив оставалась все той же отвратительной и неразумной плотью. Так повторялось постоянно: ведь для возрождения разума требовалось тело только что испустившего дух покойника, у которого процесс разложения еще не затронул чувствительнейшее вещество мозговых клеток.
Эта бесконечная потребность в свежих трупах и погубила Уэста. Достать их было трудно, и вот в один роковой день он заполучил тело живого и полного сил человека, после чего ввел ему сильнодействующий алкалоид, который убил его на месте. Тогда-то и произошел первый удачный эксперимент Уэста — на какое-то время сознание вернулось к покойному, но мой друг заплатил за успех дорогой ценой: душа его омертвела, я уловил это даже по жестокому выражению глаз. Порой он оценивающе посматривал на физически крепких людей, особенно если при этом они отличались тонкой душевной организацией. Со временем, ловя на себе заинтересованный взгляд Уэста, я и сам стал его побаиваться. Люди, не знавшие причин нового интереса ко мне, заметили мой страх, и после исчезновения Уэста этот факт стал источником нелепых подозрений.
По существу, Уэст был еще больше напуган, чем я: противоестественные деяния превратили его жизнь в сущий ад, он шарахался от каждой тени. С одной стороны, он опасался полиции, но по большей части его страх носил более глубокий и смутный характер и был порожден теми чудовищами, в которых он влил из своего шприца жизнь и которым затем каким-нибудь образом удалось улизнуть. Обычно его опыты заканчивались выстрелом из пистолета, но несколько раз Уэст оказался недостаточно расторопен. Однажды такой монстр сумел как-то выбраться из могилы; вскоре, правда, он снова туда приполз, оставив следы ногтей, разрывавших свежую землю. А один профессор из Аркхема после воскрешения заделался людоедом, его пришлось отловить и силой засадить в сефтонскую психиатрическую лечебницу, где он, так и не опознанный властями, в течение шестнадцати лет бился головой о стену. О других опытах Уэста даже затруднительно говорить — в последние годы энтузиазм ученого выродился в нездоровую, эксцентричную манию: все свое мастерство он вкладывал не в воскрешение людей, а в оживление отдельных частей человеческого тела, вживляемых им порой в другие организмы. Ко времени своего исчезновения Уэст уже переступил все границы дозволенного: о многих поистине дьявольских его экспериментах нельзя было даже упоминать в печати. Этим переменам в деятельности моего друга очень способствовала мировая война, в которой мы оба участвовали как хирурги.
Говоря, что Уэст испытывал смутный страх перед своими чудовищными творениями, я имел в виду прежде всего двойственную природу этого страха. Частично он проистекал от сознания, что кое-кто из этих безымянных монстров бродит на свободе, а частично — из опасения, что при определенных обстоятельствах они могут быть опасны для него самого. Усугублялась его тревога и отсутствием каких-либо сведений о них. Уэст знал судьбу лишь одного — жалкого узника психиатрической лечебницы. Еще один источник смутных волнений возник после совершенно фантастического эксперимента, который Уэст провел в 1915 году, когда служил в канадских вооруженных силах. В самый разгар сражения он воскресил майора Эрика Морленда Клепема Ли, военного хирурга и своего приятеля, который хорошо знал о наших опытах и мог бы сам участвовать в них. У него была отсечена голова, и Уэст имел возможность проверить свою гипотезу о наличии элементов сознания в туловище. Успех поджидал экспериментатора как раз в ту минуту, когда немецкий снаряд попал в здание, где мы ставили опыты. В движениях ожившего туловища явно присутствовала осмысленность, и, пусть это покажется вам невероятным, мертвец заговорил, хотя звуки членораздельной речи, как я с отвращением понял, издала отсеченная голова, лежавшая в чану в темном углу лаборатории. Снаряд подоспел, можно сказать, вовремя, хотя Уэст был не до конца убежден, что из-под обломков выбрались только мы двое. Иногда он строил ужасные предположения о том, сколько бед может натворить обезглавленный хирург, умеющий воскрешать мертвых.
Последним местом жительства Уэста был красивый старинный дом, окна которого выходили на кладбище первых поселенцев Бостона. Он остановил свой выбор на этом жилище по причинам чисто символическим: все захоронения на кладбище относились к колониальному периоду и поэтому не представляли интереса для ученого, который нуждался в свежайших покойниках. Расположенная в подвальном помещении лаборатория была выстроена рабочими-иммигрантами; в ней помещалась огромная кремационная печь, в которой быстро и без остатка уничтожались тела, их части, а также искусственные соединения, словом, все то, что оставалось после зловещих экспериментов — безнравственных утех хозяина дома. Рабочие, копая подвал, наткнулись на старинную кирпичную кладку; было ясно, что это ход на кладбище, однако он пролегал так глубоко, что не мог вести ни к какой из известных нам гробниц. Прикинув так и эдак, Уэст пришел к выводу, что ход связан с тайником под склепом семейства Эверилл, последнее захоронение в котором относилось еще к 1768 году. Я присутствовал при осмотре сырых, пропитанных селитрой стен туннеля, сделанного при помощи одних только лопат и мотыг, и приготовился пережить очередное острое ощущение, сочтя, что мой друг не замедлит покуситься на вековые тайны, сокрытые в гробнице. Но Уэст был уже не тот. Обретенная в последнее время опасливость пересилила природное любопытство, и он, преодолев искус, приказал рабочим ничего не трогать, а сам ход заложить и заштукатурить. Так этот тайник и оставался, вплоть до той самой ужасной ночи, в тесном соседстве со стенами секретной лаборатории.
Нужно понять, что когда я говорю о деградации Уэста, то прежде всего имею в виду его нравственный, сокрытый от глаз облик. Его внешний вид, напротив, был все тот же: уравновешенный, хладнокровный, худощавый блондин в очках, нисколько с возрастом не постаревший — ни годы, ни испытания, казалось, не отразились на нем. Он выглядел невозмутимым, и даже вспоминая изрытую когтями могилу или кровожадное существо, которое царапало и грызло решетки в Сефтоне, только непроизвольно оглядывался при этом по сторонам.
Тучи сгустились над Гербертом Уэстом однажды вечером, когда мы сидели в нашем общем кабинете. Читая газету, он иногда поглядывал на меня. На одной измятой странице его поразил заголовок — словно когти безымянного чудовища впились в него спустя шестнадцать лет: в сефтонской психиатрической лечебнице, расположенной в пятидесяти милях от нас, произошло событие невероятное и пугающее, которое потрясло местных жителей и озадачило полицию. Рано утром группа неизвестных в полном молчании вошла в лечебницу; один из них, очевидно, разбудил медицинский персонал. В военной форме, сурового вида, он говорил не разжимая губ, голос его словно бы исходил из большого черного портфеля, который он держал в руках. Его безжизненное лицо было ослепительно красивым, но когда на него упал свет, управляющий чуть не умер со страха: лицо у пришельца было восковым, а глаза — из цветного стекла. По-видимому, он перенес какую-то травму. За ним следовал настоящий гигант, отвратительный гориллоподобный субъект с синюшным лицом, обезображенным непонятной болезнью. Предводитель потребовал, чтобы им выдали привезенного шестнадцать лет назад из Аркхема монстра с каннибальскими наклонностями, а выслушав отказ, подал своей команде знак, и тут началось нечто несусветное. Дьявольские исчадья крушили все вокруг, избивали и рвали зубами тех служащих, которые не успели скрыться. Они освободили-таки ужасное чудовище и удалились, оставив после себя четыре трупа. Те из пострадавших, которые могли кое-как говорить, не впадая при этом в истерику, клялись, что нападавшие скорее были похожи не на людей, а на роботов, управляемых своим вождем с восковым лицом. Когда наконец подоспела помощь, ни предводителя, ни его безумную команду не удалось разыскать — их и след простыл.
Прочитав эту заметку, Уэст погрузился в глубокую прострацию. Ровно в полночь раздался звонок в дверь, чрезвычайно его напугавший. Слуги спали наверху, и открывать дверь пошел я. Позднее я рассказывал полиции, что на улице не было никакого экипажа, а у дверей стояли несколько странного вида субъектов с большим квадратным ящиком, который они внесли в холл. При этом один из них пробормотал каким-то неестественным голосом: «Экспресс подан». Они вышли из дома гуськом и направились, как мне показалось, к старому кладбищу, с которым соседствовал дом. Уэст спустился вниз и стал рассматривать ящик, когда я уже захлопнул за ними дверь. На ящике площадью около двух квадратных футов были написаны адрес и имя Уэста, а также имя и адрес отправителя: Эрик Морленд Клепем Ли, Сен-Элуа, Фландрия, — несомненно, тот самый доктор Клепем Ли, чье обезглавленное тело Уэст оживил шесть лет тому назад во Фландрии и чья отсеченная голова заговорила как раз в тот момент, когда в наш госпиталь попал немецкий снаряд.
Не могу сказать, что Уэст выглядел взволнованным. Его состояние было намного хуже. Он сказал торопливо: «Мне конец, но сначала нужно сжечь вот это». Взяв ящик, мы понесли его вниз, в лабораторию, прислушиваясь к малейшему шороху. Многого я не помню — неудивительно, если учесть обстановку, — но заявляю категорически: тело самого Герберта Уэста я не сжег, это чудовищная ложь. Вдвоем мы запихнули ящик в печь, так и не открыв его, закрыли заслонку и включили электричество. Из ящика не донеслось ни единого звука.
Уэст первым заметил, как со стены, за которой проходил подземный ход, посыпалась штукатурка. Я хотел было убежать, но он остановил меня. На моих глазах в стене образовалась дыра, из которой пахнуло ледяным холодом могилы и гнилостным запахом тления. В полной тишине отключился свет, и в отверстии, на фоне фосфоресцирующей преисподней, стали видны некие молчаливо трудившиеся существа, которые могла создать только извращеннейшая из фантазий. Некоторые своими очертаниями напоминали людей, другие напоминали их лишь частично, третьи вообще не напоминали никого. Более разношерстную компанию трудно было себе представить. Они безмолвно, камень за камнем, разбирали замурованную стену. Когда отверстие стало достаточно большим, один за другим они вошли в лабораторию во главе с вожаком, чья несравненной красоты голова была вылеплена из воска. Следовавшее за ним чудовище, во взгляде которого светилось безумие, набросилось на Уэста. Тот не сопротивлялся и не издал даже звука. Тут все они подскочили к нему и прямо у меня на глазах разорвали на куски, которые и унесли с собой в свой отвратительный подземный мир. Воскоголовый вожак в форме офицера канадской армии нес его голову. В голубых глазах моего друга навсегда застыл ужас.
Слуги нашли меня утром без сознания. Уэст исчез. В печи обнаружили непонятного происхождения пепел. Полицейские допрашивали меня, но что я мог сказать? Они не усматривали связи между сефтонской трагедией и исчезновением Уэста, не верили в ночной приход людей с ящиком. Я рассказал им о подземном ходе, но они со смехом указали мне на неповрежденную стену. Тогда я замолчал. Они решили, что я либо сумасшедший, либо убийца. Может, я и правда сошел с ума. Но этого не произошло бы, не будь эти дьявольские отродья такими молчаливыми.
СОБАКА
В моем измученном мозгу непрерывно звучит шум рассекаемого со свистом воздуха, хлопанье крыльев и отдаленный, глухой лай гигантской собаки. Это не сон и, боюсь, даже не безумие. Слишком много случилось за последнее время, чтобы можно было предаваться утешительным иллюзиям.
Сент-Джон теперь — изуродованный труп, и только я знаю, как все произошло. Это чудовищно, и я схожу с ума от страха, что и со мной случится такое же. Из таинственных и бесконечных коридоров непознаваемого медленно надвигается темная и бесформенная фигура Немезиды, которая неотвратимо толкает меня к самоубийству.
Боже, прости нашу глупость и нездоровое любопытство, приведшие нас к столь плачевной судьбе! Уставшие от скуки прозаического мира, где быстро приедаются даже любовные утехи и приключения, мы с Сент-Джоном с азартом включились в интеллектуалистскую жизнь, примыкая то к одному, то к другому эстетическому направлению в надежде одолеть завладевшую нами скуку. На некоторое время нас увлекли загадки символистов и экстазы прерафаэлитов, но со временем мы пресытились ими — они, как и многое другое, потеряли для нас интерес и новизну.
Оставалась надежда на мрачную философию декаданса, но и тут потребовалось все глубже погружаться в ее демонические тайны. Вскоре и Бодлер, и Гюисманс утратили для нас свою остроту, и тогда стало ясно, что удовлетворить нашу ненасытность может только собственный опыт в потусторонних сферах бытия. Эта склонность и привела нас к гнусному занятию, о котором я и сейчас, пребывая в состоянии непрерывного кошмара, вспоминаю со страхом и замиранием сердца. Мы дошли до предела человеческого падения, предавшись отвратительному пороку — грабежу и осквернению могил.
Я не могу поведать все подробности наших чудовищных экспедиций, так же как и перечислить, хотя бы частично, зловещие трофеи, разместившиеся в безымянном музее большого каменного дома, где мы жили вдвоем, обходясь без помощи слуг. Наш музей был богохульственным, не поддающимся описанию местом, где мы с сатанинским, невротическим искусством воссоздавали мир тления и ужаса, призванный будоражить наши угасающие чувства. Музей содержался в глубочайшей тайне и размещен был под землей. Там огромные крылатые демоны, выточенные из базальта и оникса, извергали из оскаленных пастей причудливый зеленовато-оранжевый свет, а скрытые пневматические трубы, обтянутые красным материалом и сплетенные в причудливые траурные узоры, прятались в тяжелых портьерах. По этим трубам к нам подавались соответствующие нашему настроению запахи. Иногда это был аромат увядших погребальных лилий, иногда — дурманящий запах восточных благовоний, воскуряемых в царственных усыпальницах, иногда — как тяжело вспоминать! — зловонный запах свежеразрытой могилы, от которого захватывало дух.
Вдоль стен зловещего зала стояли застекленные стенды с античными мумиями, чередовавшимися с благопристойными и жизнеподобными творениями современного таксидермиста, а также могильные камни со старейших кладбищ Земли. Ниши заполняли черепа и заспиртованные головы в разной стадии разложения. Здесь можно было увидеть и сгнившую лысую главу какой-нибудь знаменитости, и нежные, чистенькие головки младенцев.
Статуи и картины обязательно должны были нести в себе демоническое начало, некоторые из них являлись нашими собственными творениями. В папке из человеческой кожи хранились неизвестные широкой публике диковинные рисунки, которые, как гласила молва, нарисовал сам Гойя, не осмелившийся, однако, признаться в авторстве. Здесь же хранились и отталкивающего вида музыкальные инструменты — струнные, медные и деревянные духовые, — из которых мы с Сент-Джоном извлекали чудовищные, поразительной гнусности диссонансы. В многочисленных горках из черного дерева размещались наши трофеи, добыча из ограбленных могил — немыслимое собрание, следствие нашего безумия и извращенности. Впрочем, не стоит говорить об этой коллекции, слава Богу, у меня хватило мужества уничтожить ее задолго до того, как я решил покончить с собой.
Хищные набеги, принесшие эти сокровища, всегда обставлялись нами как незабываемое эстетическое действо. В отличие от заурядных кладбищенских воров, мы шли на дело при соответствующем настроении, когда нас удовлетворяли пейзаж, обстановка, погода, время года, насыщенность лунного света. Эти вечера являлись для нас изощреннейшей формой эстетического переживания, и мы тщательно продумывали мельчайшие детали предстоящей операции. Неурочное время, резкая вспышка света или липнущая к лопате сырая земля могли охладить экстатическое возбуждение, неизменно охватывавшее нас, когда земля отдавала нам свои зловещие тайны. Наша тяга к новым местам, к острым ощущениям становилась все более страстной и ненасытной. Сент-Джон был всегда заводилой, он-то впервые и упомянул об этом зловещем, проклятом месте, навлекшем на нас ужасную и неотвратимую кару.
Какой злой рок заманил нас на мрачное голландское кладбище? Начало, я думаю, положили темные легенды, в которых говорилось о похороненном там пятьсот лет назад человеке, тоже промышлявшем на кладбищах и укравшем из богатой гробницы могущественный талисман. Я хорошо помню последние мгновения перед тем, как мы вонзили лопаты в могильную землю. Стояла осень. Бледный свет луны освещал могилы, отбрасывая длинные жуткие тени. Призрачные деревья угрюмо клонились долу, почти касаясь нескошенной травы и вязкой грязи. Сонмища на редкость крупных летучих мышей носились в лунном свете. Старинная, заросшая плющом церковь устремляла свой шпиль ввысь, как указующий перст. А в отдалении, под тисом, светлячки плясали в воздухе, похожие на догорающие угольки. Ночной ветер доносил до нас вместе с запахом трав и могильной плесени дыхание дальних болот и моря. Но более всего тревожил отдаленный, глухой лай огромной собаки; мы ее не видели и не понимали, где она может находиться. Услышав леденящие душу звуки, мы вздрогнули, вспомнив рассказы крестьян: тот, кого мы разыскивали, погиб на этом самом месте, разорванный в клочья страшным зверем.
Помню, как мы разрывали могилу грабителя, взволнованные неповторимостью мгновения. Еще бы! Призрачный лунный свет, тревожные тени, пугающие контуры деревьев, огромные летучие мыши, танцующие во тьме угольки, тлетворные запахи, жалобный стон ветра и странный приглушенный лай, о котором мы с сомнением думали: не чудится ли он нам?
Наконец наши лопаты стукнулись о что-то твердое. Перед нами был сгнивший продолговатый ящик, покрытый твердой коркой из минеральных солей, отложившихся на нем за долгие годы пребывания в никем еще не потревоженной земле. Налет придавал ему массивность и прочность. Мы с неимоверным трудом открыли его и с любопытством впились взглядом в его содержимое.
Просто невероятно, до чего хорошо сохранился скелет мертвеца, несмотря на прошедшие пять веков: повреждения виднелись лишь в тех местах, где его коснулись мощные челюсти убийцы. Мы с восхищением разглядывали чистый череп со странно удлиненными белыми зубами, пустые глазницы — бывшее вместилище глаз, горевших тем же ненасытным огнем, что и наши. В гробу лежал также странный, экзотического вида амулет, который покойник, видимо, носил на шее. Это было гротескное изображение припавшей к земле крылатой собаки, или же сфинкса с полусобачьей мордой, выточенное в старинной восточной манере из небольшого кусочка зеленого нефрита. Отвратительные черты этого гнусного существа говорили о жестокости и злобе, в них таилась сама смерть. Понизу была выгравирована надпись на неизвестном ни Сент-Джону, ни мне языке, а на тыльной стороне вместо клейма мастера — зловещий череп с фантастическим орнаментом.
Лишь взглянув на амулет, мы уже знали, что он должен принадлежать нам. Не зря мы разрыли древнюю могилу, это сокровище стоило того. И хотя его символика была нам непонятна, мы все же решили оставить амулет себе. Впрочем, после тщательного осмотра кое-какие догадки у нас на сей счет появились. Об этой вещи, конечно, не найти ничего в том искусстве и той литературе, которыми интересуются добропорядочные и психически уравновешенные люди. Мы же признали в нем таинственный знак, о коем туманно говорит в своем «Некрономиконе» безумный араб Абдула Альхазред. Амулет указывал на принадлежность к культу пожирателей трупов в недоступном Ленге, расположенном в Центральной Азии. Зловещие контуры самого чудовища также соответствовали описанию старого арабского демонолога. По его словам, они соответствуют метафизической сущности душ тех людей, которые, презрев таинство смерти, пожирают мертвую плоть. Сняв с мертвеца амулет, мы бросили последний взгляд на его выбеленные временем кости и зияющие глазницы, а затем закидали могилу землей, постаравшись придать ей прежний вид. Сент-Джон положил украденный амулет в карман, и мы заторопились прочь от зловещего места. Но не успели мы удалиться, как летучие мыши стали усаживаться на оскверненную и ограбленную могилу, словно бы в поисках нечистой, проклятой пищи. Осенний свет луны был, впрочем, настолько тусклым, что нам могло померещиться.
Когда на следующий день мы отплывали из Голландии домой, до нашего слуха вновь донесся глухой далекий лай гигантской собаки. Но и в этом мы не были уверены, ведь осенний ветер завывал так заунывно, что смахивал на протяжный вой.
Меньше чем через неделю после возвращения в Англию в нашем доме стало происходить что-то странное. Надо сказать, жили мы как отшельники в старинном замке, расположенном в болотистом уединенном месте, без друзей и слуг, и посетители редко стучали в наши двери.
Теперь же по ночам нас часто беспокоили какие-то шорохи у дверей и за окнами, причем не только первого, но и второго этажа. Однажды при свете луны нам показалось, что огромное темное тело заслонило окно библиотеки, а в другой раз мы готовы были поклясться, что слышали неподалеку шум и хлопанье больших крыльев. Поиски каких-либо следов ни к чему не привели, и мы были склонны все приписать нашему расстроенному воображению, вспомнив, как на голландском кладбище нам послышался далекий глухой лай. Нефритовый амулет нашел себе пристанище в одной из ниш музея, иногда мы воскуряли там экзотические благовония. Из «Некрономикона» Альхазреда мы многое узнали о его свойствах, а также об отношении к нему духов, чью сущность он символизировал, и то, что мы узнали, наполнило наши души страхом. А затем наступил кошмар.
В ночь на двадцать четвертое сентября 19… года я услышал стук в свою дверь. Полагая, что это Сент-Джон, я пригласил его войти, но в ответ услышал резкий смех. В коридоре было пусто. Я разбудил Сент-Джона, который, конечно же, ничего не слышал, но встревожился так же, как и я. В эту ночь мы опять услышали глухой далекий лай, доносящийся с болот, и на этот раз никаких сомнений в его реальности у нас не возникло.
Спустя четыре дня, когда мы находились в музее, у единственной ведущей из библиотеки двери послышалось осторожное царапанье. А надо сказать, теперь у нас появился, помимо страха перед неведомым, еще один повод для беспокойства: наша чудовищная коллекция получила нежелательную огласку. Что-то метнулось от нас, и мы услышали удаляющийся скрип, хихиканье и довольно внятное бормотание. Что это: безумие, бред, явь? Случившееся повергло нас в полную растерянность, в одном лишь не приходилось сомневаться: в бормотании — о ужас! — ясно различались отдельные слова на голландском языке.
Все последующие дни мы жили в атмосфере постоянно нагнетаемого необъяснимыми явлениями страха. Оставалось гадать, не помутился ли у нас обоих рассудок из-за наших противоестественных утех. А может, нами все это время играл неумолимый и неотвратимый рок? Меж тем зловещие предзнаменования случались все чаще: в нашем уединенном замке несомненно поселилось некое злобное создание, чью природу мы никак не могли уяснить, а каждую ночь ветер доносил с болот все более отчетливый дьявольский лай. Двадцать девятого октября мы обнаружили под окном библиотеки следы неизвестного существа, хорошо отпечатавшиеся на сырой земле. Они чрезвычайно озадачили нас, так же как и неизвестно откуда взявшиеся стаи крупных летучих мышей, заполонивших в последнее время замок.
Этот кошмар достиг своего апогея восемнадцатого ноября, когда некий дикий кровожадный зверь напал на возвращавшегося поздно вечером с железнодорожной станции Сент-Джона и растерзал его. Услышав предсмертные вопли своего друга, я бросился на помощь, но успел увидеть лишь взметнувшийся в лунном свете темный, неясный силуэт и шум крыльев.
Мой друг умирал и не мог связно отвечать на мои вопросы. Только и прошептал: «Амулет… проклятый амулет».
Затем испустил дух — безжизненная груда истерзанной плоти.
В следующую полночь я похоронил Сент-Джона в нашем запущенном саду, пробормотав над телом его одно из тех дьявольских заклинаний, которыми он так увлекался при жизни. При последних словах с болота донесся глухой лай огромной собаки. Луна уже взошла, но я долго не осмеливался оглянуться в ту сторону, откуда слышался лай. Когда ж увидел, как в тусклом свете огромная неясная тень прыгает по болоту с кочки на кочку, зажмурился и упал лицом в траву. Не знаю, сколько я так пролежал, но когда, шатаясь и все еще дрожа от страха, вернулся в дом, то немедля дал себе перед амулетом из зеленого нефрита страшную клятву.
Жить одному в старинном замке на болотах мне было невмоготу, и на следующий же день я сжег бульшую часть наших чудовищных экспонатов, закопал остальные и тут же переехал в Лондон, захватив с собой амулет. Однако на третью ночь я вновь услышал лай, а с конца недели мне повсюду мерещились устремленные на меня чьи-то глаза. Однажды, совершая вечернюю прогулку по набережной Виктории, я увидел на воде большую темную тень. В тот же миг сильный вихрь пронесся рядом со мной, и я понял, что не миновать мне судьбы Сент-Джона.
На следующий день я тщательно упаковал нефритовый амулет и отплыл в Голландию. Кто знает, смогу ли я рассчитывать на прощение, но сердце подсказывало: испробуй и это. Неизвестно, что за собака преследует меня и почему, но ведь не случайно мы впервые услышали ее лай на старом кладбище, да и все последующие события, в том числе и предсмертные слова Сент-Джона, говорили о том, что павшее на нас проклятье связано с кражей. Можете представить себе мое отчаяние, когда, прибыв в Роттердам, я обнаружил, что воры похитили у меня амулет — единственное средство к спасению.
Ночью собака лаяла особенно грозно, а утром я прочитал в газетах о таинственном происшествии в городских трущобах. Воровская чернь была в смятении, эти служители зла никогда еще не оказывались свидетелями столь жестокого и кровавого преступления. В одном из воровских притонов неизвестный ночной гость разорвал на куски всю семью и скрылся, не оставив никаких следов. Соседи вспоминали, правда, что всю ночь им слышался глухой, отдаленный лай, принадлежащий, по-видимому, гигантской собаке.
И вот я наконец снова стою на этом жутком погосте. Бледная луна так же мертвенно освещает все вокруг, а голые деревья мрачно склоняются к покрытой инеем траве и застывшим комьям грязи. Увитая плющом церковь высокомерно устремляет свой шпиль в недружелюбное небо, а ветер дует с замерзших болот и холодного моря, завывая, как маньяк. Лай еле слышался, а когда я приблизился к старой могиле, и совсем умолк. Именно эту могилу мы недавно осквернили и, объятые страхом, бежали отсюда прочь, оставив за собой огромную стаю летучих мышей, с любопытством круживших над могильным холмом. Не знаю, почему я прибыл сюда, а не стал молиться у себя дома, каясь и испрашивая прощенья у покоящихся здесь безмолвных белых костей. Я бездумно вонзил лопату в полузамерзшую землю, во всех моих действиях почти отсутствовала воля — я как бы исполнял решение, принятое кем-то другим. Копалось легче, чем можно было предположить, и я отвлекся лишь однажды, когда из неприветливой небесной мглы стрелой спланировал худой как щепка ястреб и, смело усевшись на груду земли, начал что-то клевать. Я убил его ударом лопаты. Добравшись наконец до полусгнившего продолговатого ящика, отодвинул сырую, покрытую плесенью крышку. Это было мое последнее разумное действие.
Ограбленный нами скелет лежал в старом гробу, плотно окруженный чудовищной свитой из огромных, ширококрылых, крепко спящих летучих мышей. Теперь он не выглядел уже столь мирно, а был весь покрыт спекшейся кровью, кусочками мяса, вырванными клочьями волос. Скелет злобно глядел на меня светящимися во мгле пустыми глазницами, а потом ухмыльнулся, как бы предвидя мой неизбежный конец и обнажив при этом острые, выпачканные кровью клыки.
А когда из оскаленной пасти вырвался низкий злобный лай, который мог бы принадлежать крупной собаке, я увидел в мерзких зубах чудовища украденный и вновь обретенный амулет из зеленого нефрита. Я громко закричал и бросился как безумный прочь, и крики мои скоро перешли в истерический хохот.
Безумие разносится, как ветер… в течение веков клыки и зубы оттачиваются на трупах… кровью истекают жертвы среди вакханалии летучих мышей, живущих в руинах заброшенных храмов Велиара… Лай костлявого чудовищного мертвеца слышится все громче, все ближе шум и хлопанье проклятых крыльев, они как бы плетут паутину вокруг меня. Мне остается лишь поднести к виску пистолет — только он один может даровать забвение от того неведомого, чего никогда не познать человеку.
ГИПНОС
Что же касается сна, этого зловещего приключения, случающегося каждую ночь, то вызывала бы удивление та смелость, с какой люди раз за разом отдают себя в его власть, не будь она результатом неведения и непонимания опасности.
БодлерНаверное, меня хранят милосердные боги, если таковые действительно существуют, в те часы, когда ни сила воли, ни какие-либо изобретенные человеком средства не способны удержать от падения в пропасть сна. Смерть милосердна, ибо из ее владений нет возврата; но тот, кто возвращается из мрачнейших владений ночи, измученный и познавший, навсегда лишается мира и покоя. Я был глупцом, неистово стремящимся познать тайны, не предназначенные для человеческого рассудка. Глупцом или богом был мой единственный друг, который вел меня этим путем и которого в итоге постигла та ужасная участь, что должна была достаться мне.
Припоминаю, как мы впервые встретились на железнодорожной станции, где он оказался в центре внимания толпы пошлых зевак. Он лежал без сознания, облаченный в черный костюм, его тело свела судорога, придавшая ему удивительную строгость. Думаю, ему было тогда около сорока — об этом свидетельствовали глубокие морщины на бледном, со впалыми щеками, но овальном и красивом лице и легкая проседь в густых вьющихся волосах и аккуратной бородке, которая прежде была иссиня-черной. Высокий лоб был божественной формы и точно высечен из пентелийского мрамора. Мне, скульптору по профессии, он показался статуей фавна античной Греции, найденной в руинах храма и чудесным образом оживленную в наш удушливый век, для того лишь, чтобы подчеркнуть пронизывающий холод и груз напрасно прожитых лет. И когда он открыл свои крупные, горящие лихорадочным блеском черные глаза, я уже знал, что отныне он станет моим единственным другом — другом человека, у которого никогда не было друзей, — поскольку такие глаза, должно быть, видели великолепие и ужас царств, находящихся за пределами обыденного сознания и действительности; царств, о которых я мечтал в грезах, но напрасно искал наяву. Поэтому, разогнав толпу, я предложил ему пройти со мной, быть моим учителем и проводником в постижении удивительных тайн, и он согласился, не произнеся ни слова. Позднее я обнаружил, что его голос похож на музыку, в нем сливались глубокое звучание виол и легкий звон хрусталя. Мы часто беседовали и ночью, и днем, пока я вытачивал из слоновой кости его бюсты и миниатюрные головки, чтобы запечатлеть для вечности различные выражения его лица.
Не берусь описать словами суть наших изысканий — слишком уж мало они связаны с какими-либо представлениями людей о мире. Они имели отношение к огромной устрашающей Вселенной и познанию реальности, лежащий за пределами нашего понимания материи, времени и пространства, — той Вселенной, о существовании которой мы иногда догадываемся в тех особенных разновидностях сновидений, что неведомы заурядным представителям рода людского и лишь несколько раз в жизни являются человеку, одаренному воображением. Мир нашего бодрствующего сознания порожден из этой же Вселенной примерно как шут выдувает из трубочки мыльный пузырь и соприкасается с нею не больше, чем мыльный пузырь со своим творцом, когда этот шут втягивает его обратно по своей прихоти. Люди науки лишь смутно догадываются об этом, но по большей части стараются не замечать. Мудрецы как-то пытались толковать сны, и боги смеялись над ними. Один человек с восточными воззрениями сказал как-то, что время и пространство относительны, и люди подняли его на смех. Но этот человек с восточными воззрениями всего лишь высказал предположение. Я пытался сделать больше, чем просто предположение, и мой друг пытался — и отчасти преуспел. Затем мы стали пробовать вместе и с помощью экзотических наркотиков погружались в запретные глубины сновидений в моей башне-мастерской, пристроенной к старинному особняку в многовековом графстве Кент.
Одним из главных душевных терзаний тех дней была невыразимость. Невозможно записать или как-то еще сообщить то, что я узнал и увидел в часы тех нечестивых исследований, ибо ни в одном языке нет подходящих для этого слов и понятий. Наши впечатления от начала и до конца относились к области ощущений, которые нельзя сопоставить с реакциями нервной системы человека. И хотя это были ощущения, и они даже содержали некоторые подобия времени и пространства, я не могу сказать про них ничего четкого и определенного. Все, что возможно в пределах возможностей человеческой речи, это передать общий характер наших опытов, называя происходящее в них погружениями и полетами, ибо при каждом таком откровении какая-то часть нашего сознания отрывалась от всего реального и настоящего и воспаряла над темными, внушающими ужас безднами, иногда прорывалась сквозь хорошо различимые препятствия, которые можно описать как странные вязкие облака.
Мы совершали эти бестелесные полеты иногда поодиночке, иногда вместе. Когда мы были вдвоем, мой друг всегда сильно опережал меня, но, несмотря на бестелесность, я узнавал о его присутствии всплывающим в памяти зрительным образом: его лицо в странном золотом свете пугающе красивое, с удивительно юными чертами, с горящими глазами, изгибом бровей гордого олимпийского бога и чуть тронутыми сединой волосами и бородою.
За временем мы не следили: оно казалось нам всего лишь иллюзией. Должно быть, в этом была какая-то доля истины, ибо мы удивлялись тому, что совсем не старимся. Наши обсуждения были чудовищно богохульственны и амбициозны: ни боги, ни демоны не отважились бы на то, чего домогались мы. Меня и сейчас пробирает дрожь, когда я рассказываю о наших занятиях, и я не решаюсь говорить о них более подробно; впрочем, скажу, что однажды мой друг написал на листке бумаги желание, которое не осмелился произнести вслух, а я сжег этот листок и со страхом посмотрел на усыпанное звездами ночное небо за окном. Я намекну — только намекну, — что он замышлял обрести власть над всей видимой вселенной и даже большей областью, предполагал достичь того, чтобы Земля и все звезды перемещались в пространстве согласно его воле, и решать судьбы всех живущих. Клянусь, что у меня не было ничего даже близкого к подобным притязаниям, а если это противоречит каким-то словам или записям моего друга, то он, несомненно, глубоко заблуждался, ибо я не властный человек, чтобы рисковать совершить нечто крайне запретное ради великого достижения.
В ту ночь ветры неизведанных пространств неудержимо несли нас к безграничному вакууму за пределами мыслимого. Особые непередаваемые ощущения вызывали в нас безграничный восторг, но сейчас они почти стерлись из моей памяти, а то, что осталось, пересказать почти невозможно. Вязкие облака проносились мимо одно за другим, и наконец я почувствовал, что мы достигли области столь далекой, в какой не бывали никогда прежде.
Мой друг был далеко впереди, но, несмотря на это, когда мы нырнули в удивительный океан первозданного эфира, я заметил мрачное ликование, которым светилось его удивительно юное лицо. Вдруг его очертания исчезли, и в то же время я почувствовал, что оказался перед препятствием, которое не могу преодолеть. Оно было подобно тем, какие мне уже встречались, но оказалось неизмеримо плотнее; нечто вязкое и клейкое, если вообще возможно применять подобные описания свойств нематериального мира.
Барьер, остановивший меня, мой друг и наставник преодолел без труда. Новая попытка прорваться привела к тому, что я пробудился от наркотического сна и, открыв глаза, увидел мастерскую в башне и бледное все еще бесчувственное тело моего спутника напротив, мраморные очертания его лица, невероятно изможденного невыразимо прекрасного в золотистом лунном свете.
Вскоре тело в углу пошевелилось, и да хранят меня небеса от того, чтобы еще когда-либо увидеть или услышать подобное. Я не способен описать его крики и жуткие видения ада, отражавшиеся в его черных, обезумевших от страха глазах. Могу сказать лишь, что упал без чувств и пришел в себя лишь тогда, когда он, очнувшись, принялся меня трясти, желая избавиться от страха и одиночества.
Так завершились наши добровольные погружения в глубины грез. Упавший духом и вздрагивающий от дурных предчувствий, мой друг предостерег меня от возможных новых попыток исследования той области, где мы побывали. Он не решился рассказать, что именно там увидел, однако исходя из своего жизненного опыта решил, что нам теперь следует как можно меньше спать, даже если для этого придется использовать сильнодействующие лекарства. Довольно скоро я убедился в его правоте: невыразимый страх охватывал меня всякий раз, как только мною овладевал сон.
После каждого даже самого краткого и непродолжительного сна мне казалось, что я постарел, а мой друг дряхлел с пугающей быстротой. Было ужасным замечать, как на нем появляются морщины и седеют волосы. Наш образ жизни изменился полностью. Мой друг, прежде всегда бывший затворником — он даже не сообщил свое настоящее имя и откуда родом, — теперь панически боялся одиночества. По ночам он остерегался оставаться один, и даже компания в несколько человек его не успокаивала. Отрадой ему стали разнообразные шумные сборища и неистовые пирушки; немноголюдные мужские встречи нас не устраивали.
В большинстве случаев мы внешностью и возрастом настолько не соответствовали окружению, что это вызывало насмешки, и меня это больно ранило, но мой друг считал это меньшим злом, чем одиночество. Особенно опасался он оказываться под открытым небом, и когда такое случалось, то невольно часто боязливо посматривал вверх, будто за ним охотилось что-то чудовищное. Посматривал он не в какую-то определенную сторону — я заметил, что направление этих взглядов в разное время разное. Весенними вечерами он бросал взгляды на северо-восток. Летом он украдкой смотрел куда-то почти над головой. Осенью поглядывал на северо-запад. Зимой его осторожное внимание привлекала восточная часть небосклона, но только в предутренние часы.
Наиболее спокойным он казался зимними вечерами. Лишь по прошествии двух лет я понял, что этот страх связан с каким-то вполне конкретным местом; тогда я стал замечать, что поглядывает он всегда на одну и ту же точку звездного неба, где-то в области созвездия Северной Короны.
В то время мы занимали небольшую мастерскую в Лондоне, по-прежнему оставаясь неразлучными, но избегая разговоров о тех днях, когда пытались проникнуть в тайны нереального мира. Лекарственные препараты, беспорядочный образ жизни и нервное переутомление довольно заметно состарили нас, редеющие волосы и борода моего друга стали белыми как снег. Несмотря на это, мы умудрялись обходиться без долгого сна и крайне редко уделяли более одного-двух часов подряд на то беспамятство, что превратилось для нас в ужасную угрозу.
Наконец, в туманном и дождливом январе, наступил тот день, когда деньги у нас закончились и не на что было приобрести необходимые медицинские препараты. Я уже продал все свои статуи и резные головы из слоновой кости и не имел ни малейшего желания доставать материал и работать над новыми скульптурами. Положение наше было ужасным, и однажды ночью мой друг впал в странный тяжелый сон, из которого мне никак не удавалось его пробудить. Я и сейчас прекрасно помню эту сцену: запущенная мрачная каморка на чердаке, под самой крышей, по которой беспрерывно стучит дождь; мерно тикают настольные часы; воображаемо тикают карманные часы на туалетном столике; скрипят ставни в какой-то отдаленной части дома; звуки города, приглушенные туманом и расстоянием; но самое страшное — размеренное, глубокое, зловещее дыхание моего друга, ритмично отмеряющее мгновения сверхъестественного страха и агонии духа, блуждающего в невообразимых, немыслимо удаленных запретных сферах.
Напряжение моего бдения становилось невыносимым, дикая вереница мимолетных впечатлений и ассоциаций проносилась в моем слегка помутившемся сознании. Я услышал донесшийся откуда-то бой часов — наши часы этого не умели, — и моя возбужденная фантазия приняла его за отправную точку. Часы… время… пространство… безграничность… и затем мои мысли вернулись к настоящему, и, несмотря на туман и дождь, я вдруг ощутил, как на северо-востоке Северная Корона восходит над горизонтом. Созвездие, которого так опасался мой друг, нависает сверкающим полукольцом и простирает свои лучи сквозь неизмеримые бездны эфира. Вдруг мои уши уловили новый звук, прекрасно различимый сквозь общий шумовой фон — низкий монотонный вой, доносящийся издалека; жалобный, протяжный, насмешливый зов откуда-то с северо-востока.
Но не этот отдаленный вой лишил меня чувств и оставил на моей душе печать страха, от которой мне уже никогда не избавиться; не из-за него я так кричал и дергался в конвульсиях, что соседям и полиции пришлось выломать дверь. Дело было не в том, что я услышал, а в том, что увидел; ибо в темной, запертой и зашторенной комнате появился луч зловещего красно-золотистого света из северо-восточного угла — луч, который не рассеивал тьму вокруг, а подсвечивал только голову спящего, раздваивая видение его лица, так что я увидел светящееся и странно помолодевшее лицо моего друга, такое, каким я помнил его во время наших совместных блужданий по безднам пространства и раскрепощенного времени, когда он преодолел барьер и проник в тайную, самую сокровенную и запретную область ночных кошмаров.
Пока я в изумлении смотрел на это, голова приподнялась, черные, глубоко запавшие влажные глаза в ужасе раскрылись, а на тонких, бледных губах застыл крик, настолько пропитанный страхом, что не мог воплотиться в звуке. В этом мертвенно-бледном лице, сияющем и молодом, столь хорошо знакомом мне, я видел, что моего друга затопляет могучий, разрушающий мозг страх, не сравнимый ни с чем ни на земле, ни на небе.
Мы оба не произнесли ни слова, тогда как далекий вой нарастал, становясь все ближе и ближе; когда же я проследил за взглядом обезумевших глаз и лишь на миг увидел открывшееся ему — то, от чего шел звук и где начинался проклятый луч, — со мной случился сильнейший припадок эпилепсии, сопровождаемый криками, перебудившими всех соседей и заставившими их вызвать полицию. Я не раз пробовал, но мне не удается описать, что именно мне довелось там увидеть, а на застывшем лице моего несчастного друга, видевшего гораздо больше меня, уже ничто не прочтешь. Но с тех пор я стараюсь больше не поддаваться коварному и ненасытному Гипносу, повелителю снов, а также избегаю ночного неба, безумной жажды познания и философии.
Невозможно разобраться, что же все-таки случилось в ту ночь, ибо не только моего сознания коснулась ужасная тень, но и все окружающие вдруг стали проявлять забывчивость, более похожую на безумие. В один голос они утверждают, будто у меня вообще не было никакого друга и только искусство, философия и безумие заполняли мою трагическую жизнь. Той ночью соседи и полиция пытались утешить меня и даже вызвали доктора, который дал что-то успокоительное, но никто из них не поверил в увиденный мною кошмар. Участь моего несчастного друга не вызвала у них жалости, тогда как обнаруженное на кушетке в углу мастерской привело к восхвалениям, вызвавшим у меня отвращение, и принесло мне ту славу, которую я отвергаю в отчаянии и провожу многие часы, беспомощный и одуревший от лекарств, лысый, седобородый старик, молитвенно взывающий к обожаемому найденному ими предмету.
Они отрицают, что я продал все свои работы, и восторгаются тем безмолвным и окаменевшим, что порождено проклятым лучом. Это все, что осталось от моего друга; друга, который был моим проводником на пути к безумию и катастрофе; изумительная, богоподобная мраморная голова в стиле древнегреческих статуй, молодости которой бессильно повредить время, прекрасное лицо, обрамленное короткой бородой, чуть тронутые улыбкой губы, изгиб бровей гордого олимпийского бога и густые вьющиеся локоны, украшенные венком из полевых маков. Говорят, что моделью для нее послужил я сам в возрасте двадцати пяти лет, но на ее мраморном основании высечено лишь одно имя греческими буквами:.
ПРАЗДНИК
В ту пору я оказался далеко от дома. Меня не покидало очарование моря. В сумерках я слышал, как оно бьется о скалы, и знал наверняка, что море вон за тем холмом, на котором чернели в свете первых звезд причудливые силуэты ив. Я прибыл в древний город по зову предков и потому упрямо месил снежное крошево на дороге, что тянулась туда, где одиноко мерцал над деревьями Альдебаран, — в направлении старинного города, который я никогда не видел, но о котором так часто грезил.
Дело происходило в канун праздника, который люди именуют Рождеством, хотя в глубине души сознают, что он неизмеримо старше Вифлеема, Вавилона, Мемфиса и самого человечества. Да, в его канун добрался я наконец до старинного города у моря, где когда-то жили и справляли этот праздник мои предки… Они наказали нам блюсти родовой обычай: раз в сто лет мы должны были собираться на празднество и повторять друг другу слова древней мудрости. Мои предки прибыли сюда из южных краев, где цветут орхидеи; они говорили на чужом языке и лишь какое-то время спустя научились наречию голубоглазых рыбаков. С годами моя родня рассеялась по свету, объединяли нас теперь лишь семейные обряды и ритуалы, смысл которых был для постороннего непостижим.
С гребня холма я увидел Кингспорт, заиндевевший, заснеженный Кингспорт с его старинными флюгерами и шпилями, дымовыми трубами, пристанями и маленькими, будто игрушечными, мостиками; я различил кладбищенские ивы и величественную церковь, которой не посмело коснуться время. Мой взгляд заплутал в лабиринте узеньких улочек. Над выбеленными зимней стужей фронтонами и двускатными крышами парила на пыльных крыльях древность. В вечернем сумраке призывно светились фонари и окна, а в небе, окруженный вековечными звездами, сверкал Орион. В прогнившие доски причалов било море…
Поблизости от дороги возвышался еще один довольно-таки крутой холм. Приглядевшись, я понял, что на его вершине расположилось кладбище: черные надгробия выступали из-под снега призрачными когтями гигантского трупа. Дорога была пустынной, но иногда мне чудилось, будто я слышу негромкое поскрипывание — такое обычно издает виселица. К слову сказать, одного моего родича повесили где-то в окрестностях города за колдовство.
Дорога пошла под уклон. Я напряг слух, стараясь услышать отзвуки царящего в городе веселья, но все было тихо. Тут я вспомнил, какое на дворе время года, и решил, что местные жители могут праздновать Рождество по-своему — вдруг у них принято проводить праздничные вечера в молитвах у семейных очагов? Так что я бросил прислушиваться и поспешил вниз, мимо домиков, в окнах которых горел свет, мимо засыпанных снегом каменных стен, туда, где раскачивались на ветру вывески лавок и таверн, где мерцали в тусклом свечении, сочившемся в щели между оконными занавесками, диковинные молоточки на дверях.
Поскольку я предварительно изучил карту города, мне было известно наверняка, где стоит дом моих родственников. Я рассчитывал, что меня узнают и примут достаточно радушно — ведь в маленьких городках легенды живут долго. А потому я пересек единственную в Кингспорте мощеную улицу, прошел с тыльной стороны рынка и вышел в нужный мне переулок. Старые карты не подвели…
Из окон нужного мне дома, седьмого по счету на левой стороне улицы, пробивался свет. Верхний этаж нависал над узкой улочкой, едва ли не упираясь во фронтон дома напротив. Подойдя поближе, я словно очутился в пещере. На низком крылечке не было ни снежинки, к нему вела череда ступеней, дополненная железными поручнями. Общее впечатление было несколько странным; вдобавок я впервые попал в Новую Англию, а прежде ничего подобного мне видеть не доводилось. Сказать по правде, я бы чувствовал себя уверенней, если бы заметил хоть одного человека на городских улицах. Да и занавески на окнах, будем откровенны, не мешало бы раздернуть.
Притронувшись к архаичному дверному молотку, я испытал страх, которым был обязан отчасти собственным воспоминаниям, а отчасти — зимнему вечеру и неприветливой тишине, окутывавшей старый Кингспорт. Когда же на мой стук отозвались, я, признаться струсил окончательно, ибо не слышал никаких шагов — дверь распахнулась словно сама собой. Но страх мой тотчас улегся, ибо в дверном проеме появился добродушного вида старик в халате и домашних шлепанцах. Пояснив жестом, что он — немой, старик начертал стилом на восковой дощечке, которую держал в руке, слова древнего приветствия.
Он провел меня в освещенную свечами комнату с низким потолком и скудной обстановкой. Для меня будто ожило прошлое, которое было тут полновластным хозяином. Неподалеку от очага стояла прялка, за которой пристроилась сутулая старушка в старинной шляпке. В комнате ощущалась сырость, и я подивился тому, что в очаге не горит огонь. Напротив вереницы занавешенных окон располагалась скамья, на которой, похоже, что-то лежало… Все окружавшее меня мне не нравилось, не внушало доверия, и в сердце мое снова закрался страх. Этот страх усиливало то, что раньше сумело его унять, ибо чем пристальнее вглядывался я в лицо старика, тем сильнее оно меня пугало. Глаза на нем словно застыли в неподвижности, а кожа уж чересчур смахивала на воск. В конце концов я решил, что это вовсе не лицо, а искусно выполненная маска. Старик написал, что нужно немного подождать, а потом меня отведут на праздник.
Указав на табурет возле стола с грудой книг, он вышел из комнаты. Я сел и принялся рассматривать книги. Среди них мне попались омерзительная «Демонолатрия» Ремигия и неописуемый «Некрономикон» безумного араба Абдулы Альхазреда — книга, которой я до сих пор не видел, но о которой многажды слышал (и, надо признать, отзывы были не слишком лестными). Со мной никто не заговаривал… Если честно, во всем этом — книгах, комнате, людях — ощущалось нечто нездоровое, тревожное; однако в город моих предков меня привел стародавний обычай, а потому я не должен был ничему удивляться. Я попробовал почитать и вскоре с головой ушел в богомерзкий «Некрономикон», содержание которого было поистине отвратительным для любого человека в здравом уме и твердой памяти… Затянувшееся ожидание действовало на нервы, а книга в руках усиливала беспокойство. Когда старинные часы пробили одиннадцать, вернулся старик. Он подошел к большому резному шкафу и извлек оттуда два плаща с капюшонами. Один надел сам, второй накинул на старуху и направился к двери, поманив меня за собой.
Мы вышли в безлунную ночь. Огни в занавешенных окнах гасли один за другим. Сириус ухмылялся в вышине, взирая на фигуры в плащах, что выстраивались в вереницы и маршировали мимо скрипучих вывесок и допотопных фронтонов, по переулкам, где громоздились друг на друга развалины, по площадям, по церковным дворам, на которых огоньки фонарей вдруг превращались в призрачные подобия небесных созвездий.
Я следовал за своим безмолвным проводником, меня толкали и пихали. Я не видел ни единого лица, не слышал ни единого слова. Вверх, вверх, вверх — по крутым извилистым улочкам; я заметил, что люди со всех сторон стекаются к месту, которое являлось как бы фокусом улиц и переулков, — на вершину высокого холма в центре города. На холме стояла устремленная в небо белая церковь, которую я различил еще с дороги, когда смотрел на сумеречный Кингспорт. Над кладбищем на церковном дворе мельтешили голубые искорки, открывая взору печальные ряды надгробий. Над гаванью мерцали звезды, а город словно растворился во мраке, лишь изредка мигали на улицах фонари — это торопились догнать процессию, которая уже вползала в церковь, немногочисленные опоздавшие. Переступив за стариком порог, я обернулся, чтобы бросить последний взгляд на церковный двор, обернулся — и вздрогнул. Мне почудилось, будто на снегу не осталось ничьих следов, даже моих собственных.
Когда мои глаза привыкли к царившему в церкви полумраку, я рассмотрел, что фигуры в плащах одна за другой исчезают в раскрытом люке перед кафедрой проповедника. Следом за ними я спустился в подземелье. Впереди маячил хвост зловещей процессии, которая теперь вызывала у меня ужас. Участники неведомого обряда миновали ветхий склеп и направились к отверстию в каменном полу. Дождавшись своей очереди, я ступил на первую ступеньку винтовой лестницы. Со стен колодца капало, иногда сыпалась каменная крошка, воздух был спертым и отдавал гнилью. Спуск проходил в молчании. Больше всего меня тревожило то, что не слышалось ни шороха, что невозможно было уловить ни малейшего признака эха.
Вонь сделалась почти невыносимой. Тут впереди замерцал свет, и я услышал, как плещется вода. Меня снова пробрала дрожь, ибо ночные события нравились мне все меньше и меньше. Я горько пожалел о том, что внял наказу предков и явился в Кингспорт. Стены колодца разошлись, и я различил иной звук — тонкий, визгливый голосок свирели. Внезапно передо мной словно распахнулся занавес: я увидел, что нахожусь в обширной пещере. Моим глазам предстал столб тошнотворно-зеленого пламени на усеянном губками берегу маслянистой реки, что вытекала из черной бездны и впадала в вековечный океан Тьмы.
Фигуры в плащах образовали полукруг у огненного столба. Они готовились совершить старинный обряд, древностью превосходивший человеческий род и обреченный его пережить. Я видел, как они совершали этот обряд, как поклонялись зеленому пламени и пригоршнями швыряли в воду губки. Я лицезрел бесформенное существо, восседавшее чуть в сторонке и игравшее на свирели, к стенаниям которой примешивался глухой, зловещий клекот. Особенно сильно меня пугал огненный столб: пламя вырывалось из бездны, оно не отбрасывало тени; тепла от него не исходило, оно сулило лишь разрушение и смерть.
Старик, который привел меня сюда, подал знак дудочнику, и тот завел новую мелодию. Музыка повергла меня в неописуемый ужас. Я вжался в камень, ибо меня охватил страх, подобного которому испытать под луной просто невозможно; этот страх знаком лишь тем, кто бывал в холодных промежутках между звездами.
Неожиданно из неведомых глубин, что порождали тошнотворное пламя, из пучины, что принимала в себя маслянистые воды реки, появились, ритмично взмахивая крыльями, твари, один вид которых мог кого угодно свести с ума. Рассудок отказывался воспринимать их как живых существ. В них было что-то от ворон — и от кротов, от канюков, летучих мышей и муравьев… Словом, они выглядели как… Нет! Не хочу! Я не должен вспоминать! Они кружили над нами, поочередно садились на берег, дожидались, когда им на спины заберутся фигуры в плащах, и улетали вдоль по течению реки.
Старик жестом пригласил меня последовать примеру других. Я увидел, что дудочник куда-то исчез, а неподалеку переминаются с лапы на лапу две крылатые твари — видимо, они дожидались нас со стариком. Между тем старик написал на дощечке, что обряд необходимо завершить, а когда я не пошевелился — извлек из складок одежды наши семейные реликвии: перстень с печаткой и часы, как бы напоминая мне, зачем я здесь.
Крылатые твари в нетерпении царапали когтями лишайник на камнях; старик, судя по всему, тоже торопился. Одна из тварей попятилась к воде. Он повернулся к ней, чтобы остановить. От резкого движения капюшон слетел у него с головы, а восковая маска, скрывавшая лицо, упала на берег. И я бросился в подземную реку, нырнул в гнилостные испражнения земли прежде, чем мои истошные вопли созвали на берег тех, кто населял недра планеты.
В больнице мне рассказали, что меня нашли на рассвете в гавани Кингспорта. Я цеплялся за деревянный брус и был едва жив. По всей видимости, в темноте я сбился с пути, свернул на развилке не в ту сторону и упал с обрыва в море. Мне нечего было возразить, хотя я знал, что врачи ошибаются… Потом меня перевели в клинику Святой Марии в Аркхеме, где уход за больными был лучше. Тамошние врачи отличались широтой взглядов; они даже раздобыли для меня экземпляр «Некрономикона» из библиотеки местного университета. Я прочел одну главу — и задрожал от страха, ибо читал ее не впервые. Я видел эту книгу раньше, а где — о том лучше забыть.
Меня преследовали кошмары, в которых звучали цитаты из «Некрономикона». Я не смею их повторить… Нет! Ну разве что один отрывок…
«Глубин иного мира, — пишет безумный араб, — не измерить взором, их чудеса поистине диковинны и внушают трепет. Проклята земля, где мертвые оживают и обретают тела, зол разум, который лишен пристанища… Из гноя восстает омерзительная жизнь, грубые стервятники терзают ее и раздуваются, чтобы поглотить. В земных недрах прорыты длинные ходы; твари, рожденные ползать, научились бегать».
НЕМИНУЕМОЕ
В осенних сумерках мы сидели на запущенном надгробии семнадцатого века на старом аркхемском кладбище и рассуждали о неименуемом. Обратив взгляд на исполинскую иву с почти целиком вросшей в ствол древней могильной плитой, надпись на которой прочесть теперь не представлялось возможным, я стал фантазировать по поводу того, какого типа «питательные» вещества извлекают гигантские корни этого гигантского дерева из земли многовекового кладбища; мой приятель упрекнул меня в том, что я несу вздор, ибо здесь уже более ста лет никого не хоронят, а значит, в почве нет ничего особенного, чем могло бы питаться это дерево, помимо самых обычных веществ. И вообще, добавил он, все эти мои постоянные упоминания о различных «неименуемых» и «не произносимых вслух» вещах — пустой детский лепет, вполне в духе моих ничтожных успехов на ниве литературы. Я слишком увлекаюсь в рассказах всяческими кошмарными видениями и звуками, которые лишают моих персонажей не только мужества и дара речи, но и памяти, в результате чего они не могут внятно поведать о случившемся. Мы познаем все окружающее, заявил он, посредством своих пяти чувств и с помощью интуиции; следовательно, не может существовать таких предметов или явлений, которые не поддаются строгому описанию, основанному либо на достоверных фактах, либо на корректно выстроенных богословских доктринах — в качестве последних предпочтительны догматы конгрегационалистов в любой их модификации, вплоть до трактовки сэром Артуром Конан-Дойлем.
С этим другом, Джоэлом Мэнтоном, мы часто вели спокойные, размеренные споры. Он был директором Восточной средней школы, а родился и воспитывался в Бостоне, где и приобрел характерное для жителя Новой Англии самодовольство, отличающееся глухотой ко всем изысканным обертонам жизни. Он был убежден, что если что-то и имеет реальную эстетическую ценность, так это наш обыденный, повседневный опыт, а следовательно, задача создателя художественного произведения не в том, чтобы возбуждать сильные эмоции увлекательным сюжетом и глубокими переживаниями и страстями, но поддерживать в читателе спокойный интерес и воспитывать вкус к аккуратным, детальным описаниям будничных событий. Особое недовольство вызывала у него моя чрезмерная увлеченность мистическим и необъяснимым; ибо, несравнимо глубже меня веруя в сверхъестественное, он не выносил, когда потустороннее низводили до обыденного, делая его предметом литературного исследования. Ему, логичному, практичному и трезвомыслящему, было трудно понять, что именно в уходе от обыденности и вольном манипулировании образами и представлениями, которые в действительной жизни, как правило, вгоняются нашими ленью и привычкой в хорошо знакомые схемы, можно обрести величайшее наслаждение. Для него все предметы и ощущения имели раз и навсегда заданные свойства и параметры, причины и следствия; и хотя в глубине души он сознавал, что человеческое мышление иногда способно иметь дело с явлениями и ощущениями, не укладывающимися с геометрической строгостью в наши представления и опыт, но все же считал себя вполне компетентным для того, чтобы проводить условную черту и убирать из рассмотрения все, что не может быть познано и испытано среднестатистическим гражданином. А кроме того, он был почти уверен, что не может существовать действительно неименуемое — подобное казалось ему бессмыслицей.
Я прекрасно сознавал всю тщетность построенных на образах и метафизических аргументах в попытках переубедить этого самодовольного ортодоксального обывателя, но в обстановке этого послеобеденного диспута было нечто такое, что побуждало меня выйти за рамки обычных словопрений. Полуразрушенные серые плиты, деревья почтенного возраста, остроконечные крыши старинного городка, прибежища ведьм и колдунов — все это, обступающее кладбище со всех сторон, вдохновило меня встать на защиту своего творчества, и я кинулся в атаку, перейдя границу и вступив на территорию врага. Впрочем, начать контратаку не составило особого труда, поскольку я знал, что Джоэл Мэнтон почтительно относится ко всякого рода бабушкиным сказкам и суевериям, которые в наши дни не воспринимает всерьез ни один сколько-то образованный человек — таким, например, поверьям, что после смерти человек может появляться в весьма отдаленных местах или что лица стариков, долго глядящих в окна, запечатлеваются в самом стекле. Воспринимать всерьез то, о чем нашептывают деревенские старушки, заявил я, означает допускать посмертное существование неких бестелесных субстанций отдельно от их материальных эквивалентов. Но это означает признавать возможность явлений, не укладывающихся в рамки обычных представлений; ибо если мы допускаем, что видимый или осязаемый образ мертвеца может передаваться в пространстве через половину земного шара и во времени через века, то разве нелепы предположения, что заброшенные дома населены странными разумными существами или что на старых кладбищах скапливается бесплотный разум ушедших поколений? И если душа, во всех предписываемых ей свойствах, не подчиняется законам материального мира, то разве невозможно вообразить, что после физической смерти человека продолжает жить некая чисто духовная сущность, способная принимать такую форму — или отсутствие формы, — которая для наблюдателя окажется вызывающей крайнее отвращение и абсолютно неименуемой? «Здравый смысл», когда рассуждаешь о подобных вещах, дружески заверил я Мэнтона, означает попросту отсутствие воображения и гибкости ума.
Наступали сумерки, но мы не торопились завершать нашу беседу. Мои аргументы для Мэнтона, похоже, оказались недостаточно весомыми, и он продолжал оспаривать их с убежденностью в своей правоте, характерной для профессиональных преподавателей; я же держался пока вполне уверенно на своих позициях и не собирался сдаваться. Сумерки стали сгущаться, вдалеке в окнах замерцали огоньки, но мы уходить не собирались. Сидеть на надгробии оказалось вполне удобно, и моего прозаически настроенного друга нисколько не беспокоили ни глубокая трещина в древней кирпичной кладке прямо у нас за спиной, ни окружающее нас пятно тьмы, образовавшееся потому, что между надгробием, на котором мы расположились, и ближайшими уличными фонарями возвышался полуразрушенный необитаемый дом, построенный еще в семнадцатом веке. В этой непроглядной тьме, на запущенном надгробии вблизи заброшенного дома, мы продолжали обсуждать «неименуемое», и когда Мэнтон наконец перестал изрекать язвительные замечания, я рассказал ему об ужасных событиях, действительно имевших место и лежащих в основе того из моих рассказов, который казался ему наиболее нелепым.
Рассказ этот назывался «Окно мансарды» и был опубликован в январском выпуске «Уисперс» за 1922 год. Во многих местах Америки, в особенности на юге и на тихоокеанском побережье, журналы с этим рассказом даже убирали с прилавков, потакая требованиям слабонервных идиотов, и лишь в Новой Англии проявили невозмутимость и только пожимали плечами в ответ на жалобы на мою эксцентричность. Критиковали меня в первую очередь за то, что описанное существо было биологически просто невозможно; оно просто одна из версий расхожих деревенских сказок, которые Коттон Мэзер по причине чрезмерной доверчивости вставил в свои сумбурные «Великие деяния Христовы в Америке», причем происхождение этой небылицы настолько неопределенное, что он не решился указать место, где это произошло. И уж совсем не вписывалось ни в какие рамки то, как я развил и усложнил древний мистический сюжет, проявив себя бездумным и претенциозным графоманом. Мэзер действительно описал появление подобного существа, но кто, кроме дешевого охотника за сенсациями, мог бы поверить, что оно способно вырасти и станет, во плоти и во крови, шастать по ночам и заглядывать в окна домов, а днем прятаться в мансарде заброшенного дома, и будет делать это целое столетие, пока какой-то прохожий не увидит его в окне мансарды, а потом так и не сможет объяснить, отчего у него поседели волосы? Все это выглядело полнейшим вздором, притом совершенно безвкусным, и мой приятель не упустил возможность согласиться с последним утверждением. Тогда я рассказал ему о прочитанном в дневнике, датированном 1706–1723 годами, обнаруженном мною среди прочих бумаг семейного архива менее чем в миле от того места, где мы в тот момент беседовали. В дневнике описывались необычные шрамы на спине и груди одного из моих предков, и я заверил Мэнтона в подлинности этого документа. А также я рассказал ему о страшных историях, рассказываемых местным населением, передающихся из поколения в поколение, и о том, как вполне реально сошел с ума один паренек, осмелившийся в 1793 году войти в покинутый дом, чтобы посмотреть на некие следы, которые, предполагалось, там должны были быть.
История была жуткой — но какой впечатлительный человек не содрогнется, изучая пуританский период истории Массачусетса? Нам известно крайне мало о том, что скрывалось в глубине, за внешней стороной событий, но по тем отдельным чудовищным проявлениям, когда гной омерзительно прорывался наружу, можно судить о степени разложения. Охота на ведьм — это лишь ужасный луч, высвечивающий, что творилось в смятенных умах людей, но даже она — это лишь пустяк. В жизни отсутствовала красота; не было никакой свободы — мы можем судить об этом по архитектуре, сохранившимся предметам быта, а также по ядовитым проповедям тогдашних духовников. Но под ржавой железной смирительной рубашкой таились невероятные уродства, извращенные пороки и колдовство. Вот когда был действительно апофеоз Неименуемого!
В своей демонической 6-й книге, которую не рекомендуется читать после наступления темноты, Коттон Мэзер, разражаясь анафемой, называет все вещи своими именами. Сурово, словно библейский пророк, немногословно и бесстрастно, как не мог после него излагать уже никто, он поведал о твари, породившей на свет нечто среднее между нею и человеком, нечто с дурным глазом, и о безымянном пьянчуге, повешенном, несмотря на его крики, потому что у него был похожий глаз. На этом история Мэзера кончается, и он не сделал ни малейших намеков на то, что случилось потом. Возможно, он просто не знал, а может, знал, но не осмелился сказать. Другие, кто знал, тоже предпочли сохранить молчание, и потому до сих пор неизвестно, что же заставляло людей приглушать голос до шепота при упоминании о замке на двери, за которой скрывалась лестница на мансарду в доме бездетного, убогого и угрюмого старика, установившего на могиле, которую все обходили стороной, серую плиту без надписи, но сохранившиеся в избытке легенды таковы, что от них у смельчаков стынет самая пылкая кровь.
Обо всем этом я узнал из найденного мною древнего дневника; все осторожные намеки и не предназначенные для посторонних ушей истории о существах с дурным глазом, которых видели в окнах по ночам и на пустынных лесных опушках. Некая тварь напала на моего предка ночью на проселочной дороге и оставила следы рогов на его груди и следы когтей, подобных обезьяньим, на спине; на дорожной пыли удалось найти перемежающиеся четкие отпечатки копыт и чего-то похожего на лапы обезьяны. Один почтальон рассказывал, что, проезжая верхом через Медоу-Хилл незадолго до рассвета, при тусклом сиянии луны видел старика, догонявшего и окликавшего какое-то гадкое существо, убегавшее вприпрыжку, и многие поверили почтальону. Также точно известно, что в 1710 году, после похорон дряхлого бездетного старика, тело которого положили в склеп за его домом, рядом со странной плитой без надписи, в его доме раздавались какие-то голоса. Дверь на мансарду отпирать не стали, но оставили дом таким, какой он был, — мрачным и заброшенным. Когда же из покинутого дома доносились звуки, прохожие вздрагивали и шепотом успокаивали себя, что, наверное, замок на той двери достаточно прочный. Надежда эта не оправдалась, и случился кошмар в доме приходского священника, всех обитателей которого нашли наутро не просто бездыханными, но разодранными на части. Легенды более поздних лет уже более похожи на байки — полагаю, по той причине, что то существо, скорее всего, скончалось. Но память о нем сохранялась долго — вероятно потому, что истории передавались по секрету.
Пока я рассказывал все это, мой друг Мэнтон сделался малословным, и я понял, что история произвела на него глубокое впечатление. Когда я замолчал, он не рассмеялся, но вполне серьезно поинтересовался тем пареньком, что сошел с ума в 1793 году и стал прототипом главного героя моего рассказа. Я объяснил ему, зачем мальчишка забрался в мрачный, заброшенный дом, который все обходили стороной. Этот момент не мог не заинтересовать моего приятеля, поскольку он верил, что на окнах запечатлеваются лица людей, долго сидевших подле них. Наслушавшись рассказов о существах, появлявшихся в окнах упомянутой мансарды, паренек решил пойти и посмотреть на них и прибежал обратно обезумевший и непрестанно кричащий.
Пока я все это рассказывал, Мэнтон был погружен в глубокую задумчивость, но как только я закончил, к нему тут же вернулось обычное скептическое отношение. Согласившись, ввиду представленных аргументов, что какой-то необычный монстр действительно существовал, Мэнтон, однако, указал мне, что даже самые болезненные извращения натуры никак нельзя отнести к неименуемому, поскольку они довольно четко описываются средствами современной науки. Восхитившись его логике и настойчивости, я привел еще несколько свидетельств, услышанных мною от стариков. В этих более современных историях с призраками, пояснил я, упоминаются существа столь ужасные и отвратительные, что никак нельзя предположить, чтобы они были природными тварями: кошмарные призраки гигантских размеров и чудовищных очертаний, иногда видимые, иногда только осязаемые, в безлунные ночи как бы плавающие по воздуху, появляющиеся то в старом доме, то возле склепа сзади него, то над могилой, где рядом с плитой без надписи пустило корни молодое деревцо. Правда ли, что они душили и рвали людей на части, как утверждала молва, — не знаю, но во всяком случае эти призраки оставляли сильное и неизгладимое впечатление о себе; неспроста старейшие из местных жителей испытывали перед ними суеверный страх еще каких-нибудь два поколения назад, и лишь в последнее время о них почти не вспоминали, что, кстати, и могло послужить причиной их исчезновения. Наконец, если подойти к этой проблеме со стороны эстетической теории и вспомнить, какие гротескные, искаженные формы принимают духовные эманации человеческих существ, то вполне естественно, что вряд ли удается добиться связного и внятного описания в случаях, когда мы имеем дело с такой бесформенной призрачной мерзостью, как дух злобного, уродливого монстра, само существование которого уже было кощунством по отношению к природе. Такая химера, порожденная мертвым мозгом дьявольской помеси зверя и человека, разве не может оказаться во всей своей неприглядной наготе подлинно неименуемым?
Должно быть, уже настала ночь. Мимо на удивление бесшумно пролетела летучая мышь; она коснулась меня крылом, и Мэнтона, вероятно, тоже — я не видал его в темноте, но мне показалось, что он взмахнул рукой. Спустя некоторое время он снова заговорил:
— А сам этот дом с окном мансарды сохранился? И там по-прежнему никто не живет?
— Да, я видел его собственными глазами.
— И ты обнаружил там что-нибудь? Я имею в виду, в мансарде или еще где-то…
— В углу между крышей и полом лежали кости. Не исключено, что паренек увидел именно их. Слабонервному, чтобы свихнуться, этого могло оказаться вполне достаточно, ибо если все эти кости принадлежали одному существу, то оно было кошмарным чудовищем, какое может привидеться только в бреду. Я счел своим долгом избавить мир от этих костей, поэтому сходил за мешком и оттащил их к могиле за домом. Там оказалась щель, туда я их и свалил. Не думай, что это была просто причуда — видел бы ты тот череп! На нем были рога сантиметров десять длиной, а лицевые и челюстные кости примерно такие же, как у нас.
Наконец я почувствовал, что Мэнтона, который почти прижался ко мне, пробрала настоящая дрожь! Но его любопытство оказалось сильнее страха.
— А что же окна?
— Все они были без стекол. У одного окна даже выпала рама, а в остальных не осталось ни кусочка стекла. Это были… ну, с такой ромбовидной решеткой из небольших кусков стекла, какие были обычными до 1700 года. Думаю, стекла в них отсутствовали уже лет сто, не меньше. А может, их унес тот паренек?.. Об этом предание ничего не говорит.
Мэнтон снова затих и задумался.
— Я хотел бы увидеть этот дом, Картер, — произнес он наконец. — Где он? Есть там стекла или нет, мне интересен сам дом. И та могила, куда ты кинул кости, и другая могила, с плитой без надписи, — во всем этом, должно быть, есть что-то жуткое.
— Ты видел этот дом сегодня, пока не стемнело.
Некоторая театральность, с которой я произнес последнюю фразу, подействовал на моего приятеля куда сильнее, чем я мог ожидать, — он судорожно отпрянул от меня и удушливо выкрикнул, вложив в этот крик все накопившееся и сдерживаемое до сего момента напряжение. Это был очень странный крик, но самое ужасное заключалось в том, что на него последовал ответ. Словно отзываясь ему эхом, из кромешной тьмы донесся скрип, и я догадался, что это открывается одно из решетчатых окон в проклятом старом доме неподалеку от нас. Более того, поскольку все остальные рамы давным-давно рассыпались, я понял, что скрип издает жуткая пустая рама того самого окна мансарды.
Затем с той же стороны налетел порыв ледяного затхлого воздуха, и сразу же почти рядом со мной раздался пронзительный крик; он исходил из расколотого места упокоения человека и монстра. В следующее мгновение меня свалил удар чудовищной силы, нанесенный невидимым объектом громадных размеров и непонятной природы, и я растянулся на оплетенной корнями почве зловещего кладбища, а из могилы неслась такая адская какофония шумов и сдавленных хрипов, что мое воображение мгновенно заполнило окружающий беспросветный мрак мильтоновскими легионами безобразных демонов. Пронесся леденящий иссушающий вихрь, раздался грохот обваливающихся кирпичей и штукатурки, но прежде чем успел понять, что происходит, я милосердно лишился чувств.
Обладая меньшими габаритами, чем я, Мэнтон оказался более выносливым, и хотя в итоге он пострадал сильнее меня, очнулись мы почти одновременно. Наши койки стояли бок о бок, и через несколько секунд мы узнали, что находимся в больнице Св. Марии. Сиделки, собравшиеся вокруг нас, поведали нам о том, как сюда мы попали: какой-то фермер обнаружил нас в полдень на пустыре за Медоу-Хилл, примерно в миле от старого кладбища, на том самом месте, где когда-то, говорят, располагалась бойня. У Мэнтона были две серьезные раны на груди и несколько мелких резаных и колотых ран на спине. Я отделался легкими повреждениями, но зато все мое тело оказалось покрыто ссадинами и синяками удивительного происхождения — например, один из них был явно отпечатком копыта. Мэнтон явно больше меня знал о нашем приключении, однако ничего не рассказал озадаченным и заинтригованным врачам до тех пор, пока не выведал у них все подробности о наших ранах. Только после этого он сообщил, что на нас напал разъяренный бык — выдумка, на мой взгляд, неудачная, ибо откуда такой бык мог взяться?
Как только врачи и сиделки покинули нас, я повернулся к приятелю и шепотом, исполненным страхом, спросил:
— О Боже, Мэнтон, что же это было? Эти раны выглядят так… на что оно было похоже?
Я примерно представлял, что он скажет, но был слишком ошеломлен, чтобы ликовать, услышав его ответ.
— Нет, описать это невозможно. Оно было повсюду… какое-то желе… слизь, не имеющая формы… имеющая тысячи форм, столь кошмарных, что хочется скорее забыть о них. Я видел глаза, а в них — чистый порок! Это была бездна… пучина… воплощение крайней мерзости. Настолько неприличное, что я не могу описать… Картер, это было неименуемое!
ЗАТОЧЕННЫЙ С ФАРАОНАМИ
Часть I
Тайна тайну призывает. С тех пор как имя мое стало широко известно в качестве исполнителя необъяснимых свершений, мне пришлось сталкиваться со странными повествованиями и событиями, которые мое призвание заставило людей связывать с моими интересами и деятельностью. Некоторые из них оказывались тривиальными и незначительными, другие глубоко драматическими и увлекательными, третьи оставляли по себе странные и опасные переживания, а четвертые заставляли погружаться в широкие научные и исторические исследования. О многих из этих фактов я рассказывал и буду рассказывать очень свободно; однако среди них существует один, о котором я упоминаю с великими колебаниями и берусь теперь излагать лишь после самых настоятельных уговоров со стороны издателей этого журнала, слыхавших смутные слухи о нем от некоторых членов моего семейства.
Этот доселе сохранявшийся в тайне вопрос имеет отношение к моему несвязанному с профессиональными интересами пребыванию в Египте четырнадцать лет назад, упоминать о котором я избегал по нескольким причинам. В частности, я не расположен использовать кое-какие, несомненно реальные, факты и условия, явным образом неизвестные мириадам туристов, кишащих вокруг пирамид, и преднамеренно засекреченные каирскими властями, которые просто не могут не знать о них. Кроме того, мне не хочется воспоминать инцидент, в котором столь великую роль сыграла моя разыгравшаяся фантазия. То, что я видел — или мне, во всяком случае, казалось, что видел, — бесспорно, не имело места в реальности; и впечатления эти следует считать результатом моих тогдашних занятий египтологией и размышлений на эту тему, которые естественным образом провоцировало мое окружение. Эти воображаемые стимулы, преувеличенные волнением действительного, само по себе ужасного события, вне сомнения, способствовали великому ужасу той давней теперь ночи.
В январе 1910 года я завершил персональный ангажемент в Англии и подписал контракт на гастроль по театрам Австралии. Поскольку на поездку было отпущено достаточно времени, я решил совершить ее наиболее интересным для себя способом; и потому в обществе жены приятным образом пересек континент и в Марселе поднялся на борт парохода «Мальва» компании P & O[21], направлявшегося в Порт-Саид. Оттуда я намеревался посетить основные исторические местности нижнего Египта, прежде чем наконец отправиться в Австралию.
Путешествие происходило вполне удовлетворительным образом, и его оживляли многочисленные забавные случайности, выпадающие на долю иллюзиониста в свободное от работы время. Я намеревался спокойствия ради хранить свое имя в тайне; однако был вынужден явить себя благодаря стараниям собрата-фокусника, чье стремление изумить пассажиров обыкновенными трюками заставило меня повторить и превзойти его достижения в манере, гибельной для моего инкогнито. Я упоминаю об этом благодаря итоговому эффекту — который мне следовало предвидеть, прежде чем объявлять себя перед кораблем, полным туристов, намеревающихся вот-вот разъехаться по всей Нильской долине. Вследствие этого о персоне моей становилось известно повсюду, где бы мы впоследствии ни оказывались, что лишило нас тихой неизвестности, которой мы искали. Путешествуя в поисках достопримечательностей, я сам нередко превращался в некий курьез!
Мы прибыли в Египет в поисках живописных и впечатляющих мистикой мест, однако, когда корабль прибыл в Порт-Саид и выгрузил пассажиров на берег на небольших лодках, не обнаружили практически ничего. Невысокие песчаные дюны, бакены, раскачивающиеся на мелкой воде, и сонный европейский городок, лишенный каких-либо достопримечательностей, если не считать большого памятника де Лессепсу[22], заставили нас немедленно заняться поисками чего-либо более достойного нашего внимания. После некоторого обсуждения мы решили немедленно отправиться в Каир, к пирамидам, а потом вернуться в Александрию для посадки на австралийский корабль, — и ради всех греко-римских достопримечательностей, которыми может похвастаться древняя метрополия.
Железнодорожное путешествие оказалось достаточно сносным и заняло всего четыре с половиной часа. Мы увидели большую часть Суэцкого канала, вдоль которого доехали до самой Исмаилии, а потом вкусили от египетской древности, увидев восстановленный пресноводный канал Среднего царства. Затем перед нами возникли огоньки Каира, мерцавшие в наступавших сумерках; россыпь звездочек превратилась в ослепительное сияние, когда мы остановились на большом Gare Centrale — Центральном вокзале.
Однако здесь нас немедленно ожидало новое разочарование, ибо вокруг оказалось типично европейское зрелище, если не считать облика толпы и ее нарядов. Прозаичная подземка привезла нас на площадь, кишащую экипажами, такси, трамваями и блистающую великолепием электрических огней на высоких домах; в то время как сам театр, куда меня тщетно зазывали представлять и который я впоследствии посетил в качестве зрителя, был недавно переименован в «Америкен Космограф». Мы остановились в отеле «Шепардс», добравшись до него в такси, промчавшемся по широким, опрятно обстроенным улицам; и посреди идеального обслуживания в ресторане, лифтов и прочих англо-американских роскошеств таинственный Восток и незапамятная древность откатились в невесть какую даль.
Впрочем, следующий день восхитительным образом перенес нас в самое сердце атмосферы 1001 ночи; и Багдад Гарун-аль-Рашида заново ожил в кривых улочках и экзотических контурах Каира. Следуя указаниям нашего Бедекера, мы направились на восток мимо садов Езбекия прямо по Муски в поисках старого города и скоро оказались в руках шумного чичероне, который — невзирая на последующий поворот событий — безусловно был мастером своего дела.
Только потом я сообразил, что мне следовало бы запросить в отеле имеющего соответствующую лицензию гида. Этот человек, бритый, обладающий каким-то особо гулким голосом и относительно чистый, был похож на фараона и называл себя именем «Абдул Реис-эль-Дрогман», кроме того, он как будто бы обладал некоей властью над прочими представителями своего ремесла; хотя впоследствии полиция объявила, что такового не знает, и намекнула на то, что слово «реис» попросту означает начальника, а «дрогман» представляет собой неуклюжее искажение должности руководителя туристической группы — драгомана.
Абдул провел нас по таким чудесным местам, о которых мы прежде только читали и мечтали. Старый Каир сам по себе книга историй и грез, со своим сонным лабиринтом узких улочек, благоухающих тайной, узорчатыми открытыми и закрытыми балконами, едва не сходящимися над мостовыми, водоворотом восточного уличного движения с его странными криками, щелканьем кнутов, грохотом повозок и ослиными воплями, калейдоскопом пестрых одеяний, вуалей, тюрбанов и фесок; водоносами и дервишами, собаками и кошками, предсказателями и брадобреями; и поверх всего гама — стенаниями слепых нищих, скрючившихся в нишах, и звучным напевом муэдзинов, доносящимся с минаретов, изящно вырисовывающихся на фоне неизменно синего неба.
Не менее привлекательными казались и крытые, более спокойные базары. Пряности, духи, бусины благовоний, коврики, шелка и медь — старый Махмуд Сулейман сидит, скрестив ноги посреди своих липких бутылок, в то время как болтливые юнцы растирают горчицу в выдолбленной капители древней классической коринфской колонны римского времени, быть может, привезенной из соседнего Гелиополя, в котором Август разместил один из трех своих египетских легионов. К древности начала примешиваться экзотика. A затем были мечети и музей — мы побывали повсюду и постарались не позволить нашему арабскому пиршеству покориться мрачному очарованию Египта времен фараонов, которое источали бесчисленные сокровища музея. Этому мгновению предстояло сделаться вершиной нашей экскурсии, и потому мы сконцентрировали свое внимание на сарацинском великолепии халифов, чьи поразительные мечети-гробницы образуют блестящий и сказочный некрополь на краю арабской пустыни.
Наконец Абдул повез нас по Шариа Мохаммед-Али к древней мечети Султана Хасана и обрамленной башнями Бабель-Азаб, позади которой между крутых стен проход поднимается к могучей крепости, воздвигнутой самим Саладином из камней забытых пирамид. Мы осилили этот подъем уже на закате и, обогнув современную мечеть Мохаммеда-Али, получили возможность воззреть с отвесного парапета на таинственный Каир — Каир мистический с его резными куполами, неземными минаретами и полыхающими садами.
Вдали над городом возвышался громадный романский купол нового музея; а за ним — за полным загадок и тайн Нилом, отцом веков и династий, — прятались грозные пески Ливийской пустыни со своими неподвижными волнами, радужным блеском и злобой еще более древних арканов.
Багровое солнце опускалось все ниже, принося вместе с вечером непременную прохладу египетских сумерек; на мгновение остановившись на ободке мира подобно древнему богу Гелиополя — Ра-Хорахти, Солнцу, стоящему на горизонте, — оно обрисовало на фоне своего медного кипения черные контуры пирамид Гизе — палеогеновых гробниц, тысячелетних уже в те времена, когда Тутанхамон восходил на свой позолоченный трон в далеких Фивах. Тут мы поняли, что знакомство с Каиром сарацин для нас завершилось и пришла пора вкусить от глубоких тайн Египта первобытного — черной Кем Ра и Амона, Изиды и Осириса.
На следующее утро мы посетили пирамиды, проехав в виктории[23] по острову Хизерех среди массивных деревьев-леббакх и по узкому английскому мосту перебравшись на западный берег. Мы ехали по прибрежной дороге между рядами высоких леббакхов мимо просторного Зоологического сада к пригороду Гизе, там, где с тех пор построен новый мост в Каир. Затем, повернув от реки по Шариа-эль-Харам, мы пересекли несколько заполненных как бы остекленевшей водой каналов и неопрятных туземных деревенек, и вот наконец перед нами воздвиглась цель нашего путешествия, прорезавшая утренний туман и отбрасывавшая обращенные к нам вершинами отражения в придорожных лужах. Сорок веков, как говорил Наполеон своим солдатам, и в самом деле смотрели на нас. Дорога резко пошла в гору, и мы наконец добрались до места пересадки между трамвайной станцией и отелем Мена-хаус. Абдул Реис, толковым образом приобретший нам билеты на проход в пирамиду, похоже, находился в полном согласии с толпой вопящих и обидчивых бедуинов, населявших находившуюся чуть поодаль жалкую сырцовую деревеньку и словно саранча облеплявших каждого путешественника: он непринужденно удержал их в стороне от нас и раздобыл для нас пару великолепных верблюдов, усевшись при этом на осла и доверив предводительство нашими животными группе мужчин и мальчишек, скорее являвшихся напрасным расходом, чем полезных нам. Преодолеть следовало ничтожное расстояние, однако мы не стали сожалеть о приобретенном опыте передвижения по пустыне.
Пирамиды располагаются на высоком скальном плато, и эта группа их примыкает к самому северному из ряда царских и аристократических кладбищ, сооруженных в окрестностях былой столицы, города Мемфис, находившегося на том же самом берегу Нила несколько южнее Гизе и процветавшего между 3400 и 2000 годами до Р.Х. Самая большая из пирамид, находящаяся ближе всего к современной дороге, была построена царем Хеопсом или Хуфу около 2800 года до Р. Х; высота ее превышает 450 футов. Вдоль одной, направленной на юго-запад линии от нее последовательно выстроились Вторая пирамида, построенная в следующем поколении царем Хефреном, и несколько уступающая Первой по величине, но кажущаяся более высокой благодаря своему расположению на более высоком месте, и существенно меньшая Третья пирамида царя Микерина, построенная около 2700 года до Р.Х. Возле края плато точно на восток от Второй пирамиды находится чудовищный Сфинкс — немой, сардоничный и мудрый превыше всякой доступной человечеству и его памяти мудрости — колоссальный лик которого, вероятно, был изменен в подобие портрета своего царственного реставратора Хефрена.
Малые пирамиды и следы разрушенных малых пирамид обнаруживаются здесь в нескольких местах, и все плато буквально усеяно могилами людей знатных, но не имевших царственного ранга. О последнем первоначально свидетельствовали мастабы — каменные, похожие на скамейки сооружения, воздвигнутые над глубокими погребальными шахтами, подобные тем, что присутствуют на других мемфисских кладбищах, и примером им может служить гробница Пернеба, находящаяся в нью-йоркском музее Метрополитен. В Гизе, однако, все подобные видимые детали давно были снесены временем и мародерством; и только высеченные в скале шахты, либо заполненные песком, либо расчищенные археологами, свидетельствуют об их былом существовании.
С каждой из подобных гробниц соединялся небольшой храм, в котором священники и родственники потчевали пищей и молитвой парящий здесь ка — жизненный принцип покойного. В небольших гробницах заупокойные храмы находились прямо в каменных мастабах или надстройках, но посмертные святилища пирамид, в которых лежали царственные фараоны, представляли собой отдельные храмы, каждый из которых находился с востока от соответствующей пирамиды и был соединен мощеной дорогой с массивными пропилеями или привратным храмом у края каменного плато.
Привратный храм, ведущий ко Второй пирамиде, почти погребенный в сыпучих песках, зияет из-под земли к юго-востоку от Сфинкса. Существующая традиция настойчиво величает это сооружение «Храмом Сфинкса»; и его действительно можно было бы назвать таковым, если Сфинкс и в самом деле имеет отношение к строителю Второй пирамиды Хефрену. Существуют не очень приятные повествования о Сфинксе в предшествующие Хефрену времена, но каковыми бы ни были его прежние черты, монарх заменил их собственными, чтобы его люди могли взирать на колосса без страха.
Именно в огромном привратном храме была обнаружена диоритовая статуя Хефрена в полный рост, находящаяся теперь в Каирском музее; впервые узрев ее, я застыл перед нею в трепете. Не знаю, раскопано ли к настоящему времени все сооружение, но в 1910 году бульшая часть его еще была укрыта землей, а на ночь вход надежно запирался. Работой ведали немцы, и, возможно, их остановила война или нечто другое. С учетом пережитого мной, а также ходящих среди бедуинов слухов, не встречающих доверия или неизвестных в Каире, мне хотелось бы узнать, что было обнаружено в связи с неким колодцем в поперечной галерее, где были найдены статуи фараонов, любопытным образом противопоставленные изваяниям павианов.
Дорога, по которой несли нас верблюды, резко огибала расположенные слева деревянное здание полицейского участка, почту, аптеку и уходила на юг и восток полным поворотом, обращая нас лицом к пустыне с подветренной стороны Великой Пирамиды. Мимо циклопической кладки ехали мы, огибая восточный фас над долиной малых пирамид, за которой на востоке поблескивал вечный Нил, а на западе жаром мерцала столь же вечная пустыня. Над нами возвышались три великие пирамиды, самая крупная из которых давно была лишена внешней облицовки и являла ряды огромных камней кладки, однако на остальных участки ее облицовка кое-где сохранилась, напоминая о том законченном виде, который она имела в свой день.
Наконец мы спустились к Сфинксу и сели в безмолвии под жутким взглядом его незрячих глаз. На громадной каменной груди мы едва различили эмблему Ра-Хорахти, за изображение которого Сфинкса ошибочно принимали в позднее династическое время; и хотя песок засыпал плиту, находящуюся между огромными лапами, мы вспомнили, что начертал на ней Тутмос IV, и о сне, который он видел еще до восшествия на престол. Именно в этот момент улыбка Сфинкса начала смутно раздражать нас, напоминая про легенды о подземных переходах под чудовищным изваянием, уводящих вниз, вниз, вниз, в глубины непостижимые, намекающие на тайны куда более древние, чем раскопанный нами династический Египет, связанные с доселе влачащимся бытием необычайных обладателей звериных голов — богов древнего египетского пантеона. Тут я и задал себе праздный вопрос, точному значению которого предстояло проявиться лишь по прошествии многих часов.
Нас уже догоняли другие туристы, и потому нам пришлось перейти к находившемуся в пяти десятках ярдов к юго-востоку от нас засыпанному песком храму Сфинкса, который я выше назвал великими вратами дороги к погребальному храму Второй пирамиды. Бульшая часть его по-прежнему находилась под землей, и хотя мы спешились и спустились по современному ходу в ее алебастровый коридор и многостолпный зал, я почувствовал, что Абдул и местный немец-служитель не показали нам всего, что можно было увидеть.
После этого мы, как положено, совершили обход плато, осмотрев Вторую пирамиду и расположенные к востоку замечательные руины ее погребального храма, Третью пирамиду вместе с ее миниатюрными спутниками, разрушенный восточный храм, щербатые сооружения Четвертой и Пятой династий и знаменитую гробницу Кэмпбелла, чья темная шахта опускается отвесно на пятьдесят три фута к зловещему саркофагу, который один из наших верблюжьих погонщиков очистил от лишнего песка, ловко спустившись к нему по веревке.
Теперь до нашего слуха донеслись вопли от Великой Пирамиды, где бедуины осаждали группу туристов предложениями ускорить индивидуальный подъем и спуск обратно. Говорят, что подобное мероприятие можно проделать за семь минут, однако многочисленные алчные шейхи и сыновья шейхов уверяли нас в том, что они могут урезать это время до пяти минут, если посодействовать для этой цели щедрым бакшишем. Стимула этого они не получили, но Абдул повел нас наверх, таким образом открывая перед нами полный беспрецедентного великолепия вид, одаривший нас не только зрелищем далекого сверкающего Каира с венчающей его цитаделью на фоне золотисто-фиолетовых холмов, но и на все пирамиды мемфисского района, от Абу Роаш на севере до Дашура на юге. Очертания ступенчатой пирамиды Саккары, отмечающей собой этап эволюции невысокой мастабы к подлинной пирамиде, заманчиво маячили в песчаной дали. Знаменитая гробница Пернеба была обнаружена ближе к этому этапному сооружению — более чем в четырех сотнях миль к северу от фиванской скалистой долины, в которой почивает Тутанхамон. И вновь благоговейный трепет заставил меня замолчать. Перспектива подобной древности и тайны, которыми был полон каждый задумчивый монумент, наполнили меня почтением и таким ощущением величия, как ничто другое.
Утомленные подъемом и назойливыми бедуинами, поступки которых во всем противоречили правилам хорошего тона, мы отказались от тяжелого и многотрудного дела посещения внутренностей пирамид, хотя успели заметить нескольких среди самых закаленных туристов, готовящихся к удушливому путешествию по недрам великого мемориала Хеопса. Переплатив нашему местному телохранителю и отпустив его, мы возвращались в Каир под вечерним солнцем в обществе Абдула Реиса, уже едва не сожалея о своем отказе — такие удивительные слухи ходили о коридорах под пирамидами, не обозначенных в путеводителях, — ходах, спешно заложенных и сокрытых неразговорчивыми археологами, обнаружившими и эксплуатировавшими их.
Конечно, по правде говоря, шепотки эти были во многом безосновательными; однако любопытство вызывал уже тот факт, что туристам настойчиво запрещалось посещать пирамиды по ночам, а также спускаться в нижние ходы и крипту Великой Пирамиды. В последнем случае власти, быть может, опасались психологического эффекта — когда человек мог почувствовать себя раздавленным целым миром твердого камня, оставаясь соединенным с известным ему миром узким ходом, по которому можно только ползти и который легко может перекрыть несчастный случай или злой умысел.
Вопрос этот показался нам настолько интересным, что мы решили нанести еще один визит к пирамидам при первой же возможности. И возможность эта посетила меня много раньше, чем я ожидал.
В тот вечер члены нашей группы ощутили утомление после напряженной дневной программы, а я в компании Абдула Реиса отправился на прогулку по живописному арабскому кварталу. Хотя я успел повидать его днем, мне было интересно познакомиться с переулками и базарами в сумерках, когда густые тени и сочные проблески света добавляют очарования фантастической иллюзии. Туземная толпа редела, однако по-прежнему оставалась очень шумной и многочисленной, когда мы наткнулись на кучку веселящихся бедуинов, расположившихся на Сукен-Наххасин, или базаре медников. Явный глава этой группы, высокомерный юноша с тяжелыми чертами лица и в дерзко сдвинутой феске, обратив на нас некоторое внимание, без особой приязни узнал моего компетентного, но явно надменного и склонного к насмешке проводника.
Быть может, подумал я, ему не понравилась странная копия почиющей на лице Сфинкса полуулыбки, которую я частенько отмечал с удивлением и некоторым раздражением; или же ему не понравились отголоски гулкого и замогильного голоса Абдула. Во всяком случае, оскорбительный обмен словами быстро обретал ярость; и как только Али-Зиз, так мой проводник называл незнакомца в промежутке между оскорбительными эпитетами, яростно вцепился в одеяние Абдула, тот немедленно последовал данному примеру, и в результате начавшейся стычки оба соперника потеряли свои освященные обычаем головные уборы и, наверно, перешли бы к еще более жесткому противостоянию, если бы я не вмешался и не разделил их с помощью силы.
Мое вмешательство, поначалу воспринятое как нежелательное обеими сторонами, тем не менее привело к заключению перемирия. Оба угрюмых воителя сдержали свой гнев, поправили одеяния и с выражением достоинства столь же глубокого, сколь и внезапного, заключили любопытный и наполненный фигурами высокой дипломатиипакт, который, как я скоро узнал, уходит своими корнями в весьма древние времена и требует улаживания разногласий ночным кулачным поединком на вершине Великой Пирамиды после того, как окрестности ее покинет последний любитель лунного света. Каждый дуэлянт имел право привести с собой отряд секундантов, и самым цивилизованным образом предусматривавшее несколько раундов действо должно было начаться в полночь. Во всем предстоящем событии было нечто, весьма заинтересовавшее меня. Уникальный характер предстоящей драки сулил зрелищность; в то же время мысль, что все это будет происходить под бледной убывающей луной на седой глыбе, возвышающейся над допотопным плато Гизе, будила в моей душе все фибры воображения. Высказанная мной просьба позволила установить, что Абдул просто мечтал включить меня в свой отряд секундантов; так что все начало вечера я сопровождал его по различным притонам в самой беззаконной части города — по большей части к северо-востоку Езбекие, — где он собрал по одному внушительную шайку избранных и родственных ему головорезов, готовых послужить фоном для кулачного поединка.
Сразу же после девяти наш отряд, водрузившись на ослов с такими царственными или значимыми для туристов именами, как Рамзес, Марк Твен, Джи-Пи Морган и Миннегага, протиснулся по узким уличным лабиринтам как восточного, так и западного образца, пересек мутный Нил, над которым поднимался лес мачт, и философической рысью между рядами леббакхов потрусил по дороге к Гизе. На путешествие ушло чуть более двух часов, и, завершая его, мы наткнулись на последнюю группу возвращавшихся от пирамид туристов, отсалютовали последнему трамваю и остались наедине с ночью, прошлым и призрачной луной.
Тут наконец в конце дороги показались гигантские пирамиды, призрачные, чреватые некоей неявной атавистической угрозой, которой в дневное время я не заметил. Даже в самой малой из них угадывался намек на нечто жуткое — ибо разве не в ней заживо похоронили царицу Нитокрис во времена Шестой династии… хитроумную царицу Нитокрис, пригласившую однажды всех своих врагов на пиршество в подземный, расположенный под Нилом храм и утопившую их, открыв водяные затворы? Я вспомнил, что арабы разное рассказывали о Нитокрис, и при некоторых фазах луны избегали посещать Третью пирамиду. Должно быть, о ней размышлял Томас Мур, записавший предание мемфисских лодочников: «Подземная нимфа, чей дом в славе и злате сокрыт, не ведающая солнца госпожа Пирамид!»
При всем том, что мы не медлили, Али-Зиз и его спутники опередили нас; и мы увидели очертания их ослов на фоне пустынного плато у Кафрель-Харам, нищего, соседствующего со Сфинксом арабского поселения, к которому мы отклонились вместо традиционного маршрута, следующего к дому Мины, около которого сонные и бездеятельные полицейские могли бы заметить и остановить нас. Здесь, пока грязные бедуины размещали своих верблюдов и ослов в каменных гробницах придворных Хефрена, нас повели вверх по скалам и по песку к Великой Пирамиде, на истертых временем сторонах которой уже копошились арабы, и Абдул Реис предложил мне помощь, в которой я не нуждался.
Как известно большинству путешественников, подлинную вершину этого сооружения давно уже съело время, оставив относительно плоскую платформу в виде квадрата со стороною двенадцать ярдов. На этой жуткой площадке образовался кружок, и через несколько мгновений ехидная пустынная луна с усмешкой уставилась на баталию, которая, если не считать качества воплей «секундантов», вполне могла бы происходить в одном из мелких американских атлетических кружков. И наблюдая за ней, я ощутил, что в происходящем присутствуют и некоторые из наших наименее желанных институций; ибо каждый удар, выпад и защита казались ошеломляющими для моего неопытного взгляда. Поединок завершился с достаточной быстротой, и, невзирая на известную неприязнь к методам, я ощутил некую гордость собственника, когда Абдула Реиса провозгласили победителем.
Примирение оказалось феноменально быстрым, и посреди пения, братания и общей выпивки мне было трудно даже вспомнить о том, что все началось с ссоры. Как ни странно, я в большей степени ощущал себя центром внимания, чем былые бойцы; и если доверять моему знанию арабского, они обсуждали мои профессиональные выступления и умение избавляться от всякого рода оков и выбираться из тесных помещений в манере, не только обнаруживавшей удивительное знание моих достижений, но и заметную враждебность и сомнение в моих талантах. И мне постепенно стало понятно, что древняя магия Египта исчезла не без следа и что обрывки неведомых и тайных познаний и жреческих культовых практик таинственным образом сохранились в среде феллахов в такой степени, которая позволяла им сомневаться в способностях странного волшебника-хахви и оспаривать их. И я припомнил, что мой гулкоголосый Абдул Реис похож на древнеегипетского жреца, а может быть, на фараона или улыбающегося Сфинкса… и крепко задумался.
И тут произошло нечто такое, что в мановение ока доказало правильность моих подозрений и заставило обругать себя за тупость, с которой я позволил себе воспринимать события этой ночи не как злоумышленный спектакль, которым они на деле являлись. Без всякого предупреждения и, вне сомнения, по тайному знаку, данному Абдулом, вся банда бедуинов набросилась на меня; после чего, достав из-под одеяний крепкие веревки, они связали меня настолько надежно и прочно, как мне никогда не случалось быть связанным во всей своей жизни — как на сцене, так и вне ее.
Сперва я сопротивлялся, однако скоро понял, что один человек не в состоянии противостоять банде более чем из двадцати жилистых варваров. Руки мои оказались связанными за спиной, колени прижали к груди, a запястья и лодыжки скрутили неподатливыми веревками. В рот мой втиснули удушающий кляп, a на глазах затянули плотную повязку. После этого арабы взвалили меня на плечи и начали неловкий спуск с пирамиды, и я услышал полные ехидства словеса моего так называемого проводника Абдула, с насмешкой и явным довольством в голосе уверявшего меня в том, что мои «магические» способности скоро будут подвергнуты высшему испытанию, которое собьет с меня всю спесь, накопившуюся за время триумфальных выступлений в Европе и в Америке.
Египет, напомнил он мне, очень стар и полон глубинных мистерий и древних сил, непостижимых даже для знатоков века сего, чьи ухищрения так и не смогли уловить меня.
В каком направлении и долго ли меня несли, сказать не могу, ибо мое положение никак не способствовало формированию сколь-нибудь точного суждения. Понятно мне только то, что далеко унести меня не могли, поскольку несшие меня люди ни разу не ускорили шаг, и все же держали меня на руках совсем недолго. И эта возмутительная краткость смущает меня более всего, когда я думаю о Гизе и этом плато — ибо мороз пробирает по коже при мысли о том, насколько близко находится то, что могло существовать и поныне существует, от повседневных туристических маршрутов…
Чудовищная аномалия, о которой я говорю, проявила себя не сразу.
Опустив меня на поверхность, в которой я признал скорее песок, чем камень, похитители обхватили мою грудь веревкой и проволокли несколько футов до неровного отверстия в земле, в которое меня и спустили без особого почтения к моей персоне. Целую вечность бока мои ударялись о неровные камни узкого колодца, который я принял за одну из многочисленных погребальных шахт плато, пока наконец невероятная, почти невозможная глубина его не лишила меня любых оснований для сравнения.
Ужас происходящего с каждой секундой приобретал новую силу. Представление о том, что спуск в недра прочной скалы может длиться очень долго, но так и не достичь центра самой планеты Земля или что сделанная человеком веревка может казаться настолько длинной, чтобы опустить меня в нечестивые и бездонные недра нечистой земли, казалось настолько гротесковым, что легче было усомниться в свидетельствах моих возбужденных чувств, чем признать его. Даже теперь я не испытываю уверенности, ибо знаю, насколько искажается восприятие времени, когда ты находишься в столь затруднительном положении. Однако я уверен лишь в том, что в то время еще сохранял логическое сознание и не добавил к и без того жуткой реальной картине призраков, рожденных разгулявшимся воображением и объясняющихся мозговой иллюзией, граничащей с подлинной галлюцинацией.
Однако не это стало причиной моего первого обморока. Жуткое испытание только начиналось, и предчувствие грядущих ужасов становилось все более четким по мере спуска. Невероятно длинную веревку, на которой я висел, разматывали теперь очень быстро, и при движении вниз я жестоко ссаживал кожу об узкие и неровные стены шахты в своем стремлении вниз. Одежда моя порвалась, во многих местах я ощущал кровь на теле, а кроме того, острую и все возраставшую боль. Ноздрям моим докучала тем временем непонятная угроза: ползучий запах, сырой и затхлый, странным образом не похожий на все, которые мне приводилось ощущать прежде, но несущий в себе обертоны специй и благовоний, отдававших явной насмешкой.
И тут произошел умственный катаклизм. Жуткий, ужасный, неописуемый, ибо он целиком совершался в душе, не допускавший малейших деталей экстаз кошмарного призыва к бесам. Внезапность его была сразу апокалиптичной и демоничной — только что я несся вниз по узкому каменному жерлу, словно терзавшему меня миллионом зубов, а в следующий миг уже парил на перепончатых крыльях над безднами ада, свободно переносясь сквозь беспредельные мили безграничного и затхлого пространства, взмывая к не знающим измерения башням леденящего эфира, а затем обрушиваясь к вязким топям надиров жадного и тошнотворного нижнего вакуума… Благодарю Бога за милосердие, с которым Он отослал меня в забвение, избавившее меня от этих фурий сознания, едва не повредивших мой рассудок и подобно гарпиям терзавших мой дух!
Забвение это, при всей его краткости, вернуло мне силы и здравый смысл, позволившие выдержать те еще большие приступы космической паники, уже таившиеся и несшие свою околесицу впереди.
Часть II
После бесовского полета через стигийское пространство сознание возвращалось ко мне очень постепенно. Процесс этот оказался бесконечно болезненным и раскрашенным фантастическими видениями, которым особо способствовало состояние моего тела — связанного и лишенного голоса. Точная натура этих видений была очень очевидной в момент переживания их, однако почти сразу после этого затуманилась в моей памяти, a вскоре от нее вообще осталось только воспоминание цепочки ужасных событий, воображаемых или реальных. Мне казалось, будто я побывал в жуткой огромной лапе; желтой, пятипалой и волосатой, высунувшейся из земли, чтобы захватить и раздавить меня. A когда я остановился, чтобы понять, что представляет собой эта лапа, мне показалось, что это Египет. В забвении я перенесся к событиям предшествовавших недель и увидел, как меня понемногу обольщает тонкими и коварными кознями некий адский упырь, дух древнего египетского колдовства, дух, пребывавший в Египте до появления на земле человека и который останется здесь, когда человека не будет более.
Я увидел весь ужас и нечестивую древность Египта, тот грязный союз, в котором он пребывал всегда с гробницами и храмами мертвых. Я увидел призрачные процессии жрецов с головами быков, соколов, котов и ибисов; беспрепятственно проходящие по подземным лабиринтам и перспективам титанических пропилей, рядом с которыми человек уподобляется мошке; фантомные шествия, возносящие неназываемые приношения неописуемым богам. Каменные колоссы шествовали посреди бесконечной ночи, гоня перед собой стада ухмыляющихся человекосфинксов вниз, к берегам беспредельных рек стоячего дегтя. И за всем этим угадывалась несказуемая скверна первобытной некромантии, черной, аморфной, жадно шарящей по тьме за моей спиной в стремлении удушить дух, посмевший подразнить ее подражанием.
В спящем мозгу моем сложилась мелодрама злобной ненависти и погони, и я увидел черную душу Египта, выделившую меня среди прочих и зовущую к себе неслышными шепотами; призывающую и завлекающую меня, проводящую меня по блеску и великолепию сарацинской поверхности, но неизменно увлекающую вниз — в безумной древности катакомбы, к ужасам его мертвого, канувшего в бездну фараонического сердца.
Затем лики видения приняли человеческий облик, и я увидел своего проводника Абдула Реиса в царственном облачении и с насмешкой Сфинкса на лице. Тут я понял, что черты его были чертами самого Великого Хефрена, придавшего лику Сфинкса черты собственного лица и построившего Вторую пирамиду и тот титанический храм с мириадами коридоров, которые археологи якобы выкопали из таинственного песка и неразговорчивой скалы. И я посмотрел на длинную и худую, сухую руку Хефрена; длинную, тонкую и сухую руку диоритовой статуи, которую видел в Каирском музее, — статуи, которую нашли в том жутком привратном храме, — и удивился тому, что не закричал, увидев ее у Абдула Реиса… Эта рука! Жутко холодная, она давила меня; в ней ощущался хлад и тяжесть саркофага, весь холод и утеснение незапамятного Египта… Это был сам ночной, кладбищенский Египет… та желтая лапа… о Хефрене поговаривают такое…
Однако в данном месте я начал пробуждаться — или хотя бы входить в состояние менее сонное, чем то, что предшествовало ему. Я вспомнил поединок наверху пирамиды, коварных бедуинов и их нападение, жуткий спуск на веревке в недра бесконечной скалы и безумное погружение в хладную пустоту, благоухающую ароматичным тленом. Я ощутил, что лежу теперь на сыром каменном дне и что оковы мои, как и прежде, врезаются в мою плоть с неслабеющей силой. Было очень холодно, и я как будто бы почувствовал слабый ток докучливого ветерка, коснувшегося моего тела. Ссадины и ушибы, заработанные во время спуска по неровному жерлу, болели неимоверно, ощущение это усиливалось некоей колкой или жгучей ноткой в слабом сквозняке, и одного стремления просто перекатиться на другой бок было достаточно, чтобы тело мое пронзила невероятная боль.
Поворачиваясь, я ощутил сопротивление сверху и заключил, что веревка, на которой меня спустили вниз, по-прежнему связывает меня с поверхностью. Не знаю, держали ли ее арабы в своих руках или нет; не имею и малейшего представления о том, насколько глубоко в недра земли меня опустили. Я ощущал, что меня окружала полная или почти полная тьма, поскольку повязку на глазах моих не пронзал ни единый лучик лунного света; однако я недостаточно доверял своим чувствам, чтобы без сомнений принять их свидетельство в том, что нахожусь на чрезвычайной глубине, как и в том, что спуск мой имел огромную длительность.
Во всяком случае, зная, что я нахожусь в пространстве, значительно удаленном от отверстия в поверхности земли наверху, я с некоторым сомнением пришел к выводу о том, что тюрьмой моей, должно быть, явился подземный храм старого Хефрена — Храм Сфинкса — или, быть может, какие-то внутренние коридоры его, которые мои проводники не показывали мне во время утреннего посещения и откуда я мог бы отыскать путь к спасению и выбраться на поверхность. Итак, меня ожидало скитание по лабиринту, впрочем, не более сложному, чем те, из которых мне уже случалось находить выход.
Первым делом следовало освободиться от веревок, кляпа и повязки на глазах, что, как я уже знал заранее, не должно было составить для меня особенного труда, поскольку более искусные знатоки, чем эти арабы, успели опробовать на мне всякие путы в течение моей долгой и разнообразной карьеры эскаписта, но так и не смогли преуспеть в опровержении моих методов.
Затем мне пришло в голову, что арабы могли приготовиться к новому нападению возле выхода из подземелья в случае моего вероятного избавления из пут, если его засвидетельствует веревка, которую они, вероятно, не выпускали из рук. Конечно же, при условии, что местом моего заточения и в самом деле был созданный Хефреном Храм Сфинкса. Прямое отверстие в своде пещеры, в каком бы укромном месте оно ни располагалось, не могло далеко отстоять от современного входа, находящегося вблизи Сфинкса; ни о каких существенных расстояниях не могло быть и речи, поскольку полную поверхность доступного посетителям участка трудно назвать колоссальной. Во время дневной экскурсии я не заметил ничего подобного, однако в сыпучих песках проглядеть такое нетрудно.
Обдумывая эти материи, оставаясь скрюченным и связанным на каменном полу, я почти забыл об ужасном спуске в преисподнюю, который недавно чуть не поверг меня в кому. Я думал только о том, чтобы перехитрить арабов и соответствующим образом освободиться, по возможности быстро, стараясь не потянуть за спущенную сверху веревку, способную засвидетельствовать об успешной или напрасной попытке освобождения.
Однако составить план действий оказалось много легче, чем освободиться. Несколько предварительных попыток показали, что без сильных движений не обойдешься; и после одной особенно энергичной из них я почувствовал, что вокруг меня и на меня начали падать сверху кольца веревки. Очевидным образом я решил, что бедуины заметили мои движения и сбросили вниз свой конец веревки, заторопившись, конечно, к подлинному входу в храм, чтобы залечь возле него с кровожадными намерениями в отношении меня.
Перспектива особой радости не сулила — однако в свое время мне приходилось без трепета встречать и худшие ситуации, и потому я не дрогнул. Сперва следовало выбраться из пут, а затем довериться собственной изобретательности, чтобы невредимым ускользнуть из храма. Забавно, как мне удалось убедить себя в том, что я пребываю в старом храме Хефрена, что находится возле Сфинкса не столь уж глубоко под землей.
Вера в это была разбита обстоятельством, ужас и значительность которого возрастали уже тогда, когда я составлял свой философический план, заново рождая все явные предчувствия противоестественной смерти и демонической тайны. Я уже говорил о том, что падающая веревка громоздилась на мне и вокруг меня. Теперь я увидел, что веревочная груда продолжала расти со скоростью, недоступной любой обыкновенной веревке. Падение ее ускорялось, превращаясь в пеньковую лавину, и скоро я оказался почти погребенным под быстро умножающимися и грудящимися все выше и выше кольцами. Вскоре я уже полностью утопал под ними и только пытался восстановить дыхание под новыми и новыми валящимися сверху петлями, погребавшими и удушавшими меня.
Тут чувства мои вновь пошатнулись, и я попытался отразить сразу и опасную и неизбежную угрозу. Дело было не просто в том, что меня мучили за пределами всякой человеческой меры, не в том, что из меня медленно выдавливали жизнь и дыхание, но в понимании того, что именно подразумевала эта сверхъестественная длина веревки, в осознании того, какие неведомые и неизмеримые земные бездны в данный момент окружают меня. Итак, мой бесконечный спуск и полет через это гоблинское пространство оказались реальными, и значит, в сей миг я лежал беспомощным в безымянной каверне, в глубинах мира. Столь внезапное подтверждение предельного сего ужаса было непереносимым, и я во второй раз погрузился в милосердное забвение.
Впрочем, забвение это не означало отсутствия сновидений. Напротив, исход мой из мира сознания сопровождался видениями, полными самой несокрушимой жути. Бог мой!.. Если бы только я не был настолько начитан в египтологии, прежде чем прибыть в эту землю, являющуюся источником всякой тьмы и ужаса! Этот второй обморок заново наполнил мое спящее сознание трепетным пониманием этой страны и ее древних секретов, и посредством некоего проклятого обстоятельства видения мои обратились к древним представлениям об усопших и их пребывании в душе и теле за пределами тех таинственных гробниц, которые являются скорее домами, чем могилами. Я вспомнил во всех подробностях видения, которые, к счастью, с тех пор забыл, причудливые особенности гробниц Египта и чрезвычайно тонкие и жуткие учения, определившие их конструкцию.
Все эти люди думали только о смерти и об усопших. Они верили в буквальное воскресение тела, что заставляло их мумифицировать плоть усопших со всей возможной осторожностью и сохранять их жизненно важные органы в кувшинах-канопах, находящихся возле тела, помимо которого, по их мнению, сохранялись два других элемента: душа, которая после взвешивания и одобрения Осирисом обитала в блаженном краю, и таинственный и удивительный жизненный принцип ка, жутким образом скитающийся между верхним и нижним мирами, требуя иногда доступа к сохраняемому телу, потребляя жертвенную пищу, приносимую жрецами и благочестивыми родственниками в погребальный храм, a иногда — как шептали люди — овладевая телом покойного или его деревянным двойником, которого всегда хоронили рядом, чтобы зловещим образом скитаться по делам особенно отвратительным.
Тысячи лет тела эти пребывали в великолепном покое своих гробов, обратив незрячий взор к небу, когда их не посещал ка, ожидая того дня, когда Осирис заново соединит ка и душу и изведет окоченевшие легионы усопших из подземных домов сна. Ожидалось славное возрождение — однако одобрения удостаивались не все души, не оставались в целостности и все гробницы, а посему следовало ожидать неких гротескных ошибок и адских аномалий. Даже в наши дни арабы шепчутся о неосвященных сборищах и святотатственном поклонении, творящихся в забытых потусторонних безднах, которые невозбранно могут посещать только незримые крылатые ка и бездушные мумии.
Должно быть, самые зловещие, самые створаживающие кровь легенды связаны с некоторыми извращенными продуктами впадшего в упадок жречества — составными мумиями, произведенными посредством искусственного соединения человеческих тел с головами животных в подобии древних богов. Священных животных мумифицировали на всех стадиях истории, и посему освященные быки, коты, ибисы, крокодилы и подобные им могли возвратиться однажды в великой славе. Но только в период упадка смели жрецы смешивать в одной мумии человеческое и животное — только в период упадка, когда перестали они понимать права и обязанности ка и души.
О том, что случилось с этими составными мумиями, не рассказывают — по крайней мере на людях, — и не стоит удивляться тому, что пока ни один египтолог никогда не находил таковых. Впрочем, среди арабов ходят дикие шепотки, которым не следует доверять. Они даже намекают на то, что старый Хефрен — создатель Сфинкса, Второй пирамиды и зияющего подземного храма — живет в недрах земли в браке с упыркой-царицей Нитокрис и правит мумиями, которые не являются ни людьми, ни животными.
И именно их — Хефрена, его супругу и его странное войско составных мертвецов — видел я в своем видении, и вот почему я рад тому, что точные очертания их исчезли из моей памяти. Но самое жуткое видение было связано с праздным вопросом, который я задал себе вчера, когда рассматривал великую загадку пустыни и гадал, с какими неведомыми глубинами может быть тайно связан соседствующий с ней храм. Этот вопрос тогда, настолько невинный и причудливый, принял в моем видении облик френетического и истерического безумия: чьим огромным и скверным подобием первоначально являлся Сфинкс?
Второе мое пробуждение — если только можно назвать его таковым — явило мне картину откровеннейшей жути, с которой мне просто нечего сравнить, за исключением той, другой, увиденной мною позже; a ведь жизнь моя была полна приключений, недоступных большинству мужчин. Вспомните, что я потерял сознание, ощутив себя погребенным под каскадом свалившейся сверху веревки, своим долгим падением открывшей мне катаклизмические глубины моего тогдашнего положения. Однако, когда восприятие вернулось ко мне, я ощутил, что тяжесть исчезла, а перекатившись на бок, оставаясь связанным, с кляпом во рту и повязкой на глазах, понял, что некая сила полностью удалила почти удушившую меня пеньковую груду. Значение этого факта, конечно, дошло до меня лишь постепенно; но даже при этом мне кажется, что я мог бы снова лишиться сознания, если бы к этому времени не достиг такого уровня эмоционального истощения, что новые ужасы стали для меня попросту безразличны. Я оставался в одиночестве… но перед чем?
Однако прежде чем мне представилась возможность извести себя новыми размышлениями или приступить к новой попытке избавления от уз, обнаружилось дополнительное обстоятельство. Неизведанная прежде боль сотрясала мои руки и ноги, и я как бы ощутил на себе коросту засохшей крови, которая просто не могла вытечь из всех моих ссадин и ран. Казалось также, что грудь моя пронзена сотней ударов, — как если бы ее клевал злобный титанический ибис. Бесспорно, тот, кто удалил веревку, был враждебно настроен ко мне и, обнаружив сопротивление, начал наводить на меня жуткие мучения. Тем не менее ощущения мои были прямо противоположны тому, что можно было бы ожидать. Вместо того чтобы погрузиться в бездонную яму отчаяния, я был побужден к новой отваге и действию; ибо теперь я ощущал, что злые силы имеют физическую природу, с которой бесстрашный человек может сражаться на равных.
Сила этой мысли заставила меня вновь заняться своими узами и воспользоваться всем искусством высвобождения себя, к которому я так часто прибегал в своей жизни посреди прожекторов и аплодисментов толпы. Знакомые детали процесса освобождения захватили меня, и теперь, когда длинная веревка исчезла, я почти убедил себя в том, что высшие ужасы были галлюцинацией и никогда не было ни этой ужасной шахты, ни неизмеримой пропасти, ни бесконечной веревки. Нахожусь ли я в привратном храме Хефрена, что возле Сфинкса, и не арабы ли похитили меня, чтобы мучить здесь, беспомощного? В любом случае мне следует освободиться. Дай только встать, высвободиться, вынуть кляп и открыть глаза, чтобы уловить хотя бы лучик света от любого источника, и тогда я испытаю восторг в сражении со злыми и коварными врагами!
Не могу сказать, насколько долго я выпутывался из своих уз. Должно быть я потратил на это много больше времени, чем в своих публичных выступлениях, потому что был изранен, утомлен и до предела взволнован перенесенными переживаниями. Наконец освободившись, вдыхая полной грудью прохладный воздух, сырой и пропахший злыми ароматами, сделавшимися еще более ужасными без повязок на рту и глазах, я обнаружил, что тело мое слишком затекло и утомлено, чтобы можно было немедленно приступить к действиям. Неизвестное для себя время я просто лежал, пытаясь расправить члены, приспособить свои глаза к поискам лучика света, способного намекнуть мне на истинное положение дел. Сила и гибкость постепенно вернулись к моему телу, однако глаза так ничего и не увидели. Поднявшись на нетвердые ноги, я принялся старательно вглядываться во все стороны, обретая лишь чернильную тьму, ничем не отличавшуюся от той, которую наводила повязка. Я переступил ногами, покрытыми засохшей кровью под разодранными брюками, и обнаружил, что способен ходить, и все же никак не мог выбрать направление. Очевидным образом, мне не следовало брести наугад, быть может, удаляясь от искомого выхода; поэтому я помедлил, пытаясь уловить различия в сыром и прохладном, пропахшем содой дуновении, которое не прекращал ощущать. Посчитав источник этого запаха местом возможного входа в пропасть, я попытался направить стопы к этому ориентиру.
У меня был при себе коробок спичек и даже небольшой электрический фонарик; однако в карманах моей всклокоченной и разодранной одежды давно не осталось никаких тяжелых предметов. Итак я осторожно продвигался во тьме, сквозняк становился все более сильным и неприятным, и наконец я стал воспринимать его просто как струю осязаемых испарений, истекавшую из неведомого отверстия подобно превращающейся в джинна струйке дыма из выловленного рыбаком кувшина в восточной сказке. Восток… Египет… поистине, эта мрачная колыбель цивилизации является источником несказуемых ужасов и чудес!
Чем дольше я размышлял о природе дующего по подземелью ветра, тем более глубоким становилось мое беспокойство; ибо несмотря на этот запах, источник которого я посчитал косвенным указанием на путь к наружному миру, теперь с очевидностью понимал, что эта мерзкая эманация никак не может быть примесью к чистому воздуху ливийской пустыни, но изрыгнута из зловещих глубин. Словом я брел в ошибочном направлении!
После недолгого размышления я решил не возвращаться обратно по собственным стопам. Удалившись от сквозняка, я не найду другого ориентира, ибо грубая поверхность скалы под ногами была лишена каких-либо отличительных признаков. Однако если я пойду на странный запах, то, вне сомнения, приду к какому-нибудь отверстию, от врат которого, вероятно, сумею пройти вдоль стены на противоположную сторону этого циклопического и другими способами непреодолимого зала. Я вполне понимал, что могу потерпеть неудачу. Мне было ясно, что я нахожусь не в той части привратного храма Хефрена, которая известна туристам; более того, похоже было, что этот зал не известен даже археологам и о нем знают только захватившие меня любознательные и злые арабы. В таком случае, существует ли для меня спасительная дверь, выводящая в известные части храма или наружу, на воздух?
Впрочем, какими я располагал свидетельствами того, что нахожусь в привратном храме? На мгновение я припомнил все свои самые буйные фантазии и подумал, что вся эта яркая смесь впечатлений — спуск, ощущение парения в пространстве, веревка, мои раны и видения, откровенно говоря, были грезами. Но неужели моей жизни пришел конец? И если уж его не избежать, окажется ли он милостивым ко мне? Я не мог ответить ни на один из этих вопросов, а посему просто погрузился в размышления, пока судьба в третий раз не повергла меня в забвение.
На сей раз видений не было, ибо внезапный характер случившегося избавил меня от всего сознательного и подсознательного. Оступившись на неожиданно оказавшейся под ногами нисходящей ступеньке — в том самом месте, где дуновение стало достаточно сильным, чтобы оказывать реальное физическое сопротивление, — я покатился вниз по огромной каменной лестнице в водоворот мерзости несказанной.
То, что я сумел снова вздохнуть, объясняется лишь крепостью, присущей здоровому человеческому организму. Часто обращаясь памятью к событиям этой ночи, я ощущаю известную долю юмора в повторных обмороках, последовательность которых в то время напомнила мне не о чем ином, как о примитивных кинематографических мелодрамах той поры. Конечно, вполне возможно, что повторные обмороки просто не существовали; что все подробности этого подземного кошмара посетили меня в порядке видений длинного забвения, начавшегося с шока, вызванного спуском в ту самую бездну, и закончившегося целительным бальзамом свежего воздуха и лучами зари, заставшей меня распростертым на песках Гизе перед сардоническим утренним ликом Великого Сфинкса.
Насколько мне это удается, я предпочитаю верить в последнее объяснение и потому с радостью узнал, что ограждение храма Хефрена оказалось нарушенным и что в еще не раскопанной части существует значительная расселина. Радовался я и когда врачи заключили, что раны были нанесены мне исключительно при захвате, наложении повязок и кляпа, спуске, высвобождении из пут и падении с небольшой высоты — быть может, в углубление во внутренней галерее храма, — продвижении ползком к внешней ограде и преодолении ее и тому подобное… весьма утешительный диагноз. И тем не менее я знаю, что за ним кроется нечто более глубокое, чем может показаться с поверхности. Тот непомерный спуск слишком памятен мне, чтобы его можно было забыть… кроме того, чрезвычайно странно, что никто так и не сумел отыскать человека, отвечающего описанию внешности моего проводника, Абдула Реиса-эль-Дрогмана, наделенного замогильным голосом, улыбавшегося, как царь Хефрен, и похожего на него внешне.
Но я отклонился от своего связного повествования — быть может, в тщетной надежде избежать рассказа о последнем эпизоде — эпизоде, который почти наверняка является галлюцинацией. Однако я обещал рассказать его, а своих обещаний я не забываю. Придя в чувство после падения с черной каменной лестницы — реального или действительного, — я обнаружил, что нахожусь, как прежде, в одиночестве и в полной тьме. Вонючий сквозняк, и без того разивший скверной, сделался воистину адским; тем не менее я успел настолько привыкнуть к нему, чтобы переносить стоически. Ошеломленный падением, я пополз прочь от места, откуда исходил мерзкий ветер, кровоточащими руками ощущая под собой колоссальные плиты огромного пола. И только когда голова моя уткнулась в твердый объект, я понял, что это основание колонны — колонны немыслимой, невыразимой величины, поверхность которой покрывали вырубленные огромные иероглифы, открытые для моего осязания.
Я пополз дальше, натыкаясь на другие титанические колонны, отделенные от первой непостижимым для меня расстоянием; когда внимание мое вдруг было захвачено пониманием натиска на слух, который подсознание ощутило раньше, чем слуховые органы.
Из какой-то еще более низкой бездны в недрах земли исходили некие звуки, ритмичные и отчетливые, подобных которым мне слышать никогда не приходилось. Почти интуитивно я осознал их древнюю и церемониальную природу; а начитанность в египтологии заставила меня связать эти звуки с флейтой, самбукой, систром и тимпаном. В их ритмичном писке, жужжании, перестуке и ударах я ощущал прикосновение ужаса, превосходящего все ужасы земли, — ужаса, странным образом не связанного с личным страхом, принимающего форму объективной жалости к нашей планете, вынужденной держать в своих недрах те ужасы, которые способны скрываться за сими эгипаническими[24] какофониями. Громкость звуков возрастала, и я ощутил, что они приближаются. Тут — и пусть все боги всех пантеонов впредь защищают мой слух от подобных звуков — я начал воспринимать негромкий, доносящийся издалека жуткий тысячелетний топот приближающихся марширующих тварей.
Жутко было уже то, что столь различные шаги могли двигаться в столь идеальном ритме. Отданные учениям тысячелетия звучали в этом марше чудовищ, населявших самые внутренности земли… топанье, плюхание, цоканье, шаги легкие и тяжкие, величественные и неуклюжие, грохочущие… раздавались под отвратительную дисгармонию насмешливых инструментов. А за нею — Боже, изгони память об этих арабских легендах из моей головы! — лишенные души мумии — место встречи скитающихся ка… орды фараонических, проклятых дьяволом мертвецов, расставшихся с жизнью сорок столетий назад… составные мумии, ведомые сквозь предельную ониксовую пустоту царем Хефреном и его упыркой-царицей Нитокрис.
Топот близился — Небо, избави меня от звука поступи этих ног, копыт, лап, когтей, делавшейся теперь различимой! Вниз с бесконечной, лишенной солнца мостовой в вонючем ветре просияла искорка света, и я скрылся за колоссальной окружностью циклопической колонны, чтобы хоть на мгновение спрятаться от ужаса, который топотом миллионов ног подбирался ко мне по гигантскому гипостилю, полному нечеловеческого страха и болезненной сумасшедшей древности. Мерцания умножались в числе, топот и диссонирующий ритм обрели болезненную громкость. Трепещущий оранжевый свет выхватил из тьмы сцену, полную такого каменного величия, что я охнул от чистейшего изумления, способного одолеть и страх, и отвращение. Надо мною возвышались монолиты колонн, середины которых оставались за пределами человеческого взора, каждая из которых повергла бы в ничтожество Эйфелеву башню… покрытые иероглифами, выбитыми неведомыми руками в пещере, где память о дневном свете могла сохраниться только в стариннейшей из легенд…
Я не хотел смотреть на марширующих тварей. И потому отвернулся, услышав скрип суставов и едкое дыхание поверх мертвой музыки и топанья мертвяков. По милости Господней они не разговаривали… но Боже! Эти безумные факелы начали отбрасывать тени на поверхность ошеломляющих колонн. У бегемотов не должно быть человеческих рук, им не положено ходить с факелами… у людей не может быть крокодильих голов…
Я попробовал отвернуться и от них, но тени, звуки и вонь окружали меня. А потом вспомнил правило, которым пользовался еще в неосознанных детских кошмарах, и начал повторять про себя: «Я во сне! Вокруг меня — сон!» Однако это было бесполезно, и мне оставалось только закрыть глаза и молиться… по крайней мере, мне кажется, что именно так я и поступил, хотя в видениях ни в чем нельзя быть уверенным, а, насколько мне известно, именно таковым и может оказаться все случившееся со мной. Я подумал о том, что едва ли сумею попасть на поверхность земли, и временами чуть приоткрывал глаза, чтобы попробовать различить какую-нибудь черту этого места, помимо пряного тлена и безверхих колонн. Трескучий свет все умножавшихся факелов теперь слепил глаза, и если только адское угодье это не было полностью лишено стен, я не мог не попытаться увидеть какой-нибудь предел или границу ему. Впрочем, мне пришлось снова прикрыть глаза, когда я понял, сколько же тварей собралось… и еще потому, что, приоткрыв их, я увидел некий объект, внушительно и торжественно топающий без всякого торса над поясницей.
Бесовское воющее трупное булькание или смертный грохот теперь раскалывал саму атмосферу — атмосферу склепа, отравленную запахами нефти и битума — единым согласованным хором мерзкого легиона богохульно искаженных созданий. Глаза мои, извращенно открывшиеся на мгновение, впитывали зрелище, которого не в силах представить себе человек, не испытывая при этом паники, страха и физического изнеможения. Церемонным маршем твари направлялись в одну сторону, следуя направлению докучливого ветра, где свет факелов выхватывал их склоненные головы — точнее склоненные головы таковых, кто имел головы. Так они почитали огромное, извергавшее черное зловоние отверстие, тянувшееся вверх за пределы взгляда и которое, насколько я мог видеть, под прямыми углами окаймляли две гигантские лестницы, концы которых терялись в далеких тенях. С одной из них я вне сомнения и свалился.
Размеры дыры полностью соответствовали высоте колонн — обычный дом полностью потерялся бы в ней, a среднее общественное сооружение можно было бы и внести в нее, и вынести. Поверхность ее казалась настолько огромной, что охватить ее взором было не так-то просто… такой огромной, столь ужасающе черной и так смердящей, невзирая на все благовония. Непосредственно перед этой разверзшейся полифемовой дверью твари бросали наземь какие-то предметы — жертвоприношения, явно носившие религиозный характер, если судить по их жестам. Хефрен находился во главе их; пренебрежительно ухмыляющийся царь Хефрен или проводник мой Абдул Реис, увенчанный золотым пшентом[25] и нараспев твердивший бесконечные формулы гулким замогильным голосом. Возле него преклоняла колена прекрасная царица Нитокрис, обратившаяся ко мне профилем на мгновение, за которое я успел заметить, что правая половина ее лица объедена крысами или другими упырями. И я вновь зажмурил глаза, когда рассмотрел, что именно представляют собой предметы, предлагаемые в жертву скверной дыре или ее местному божку. Мне пришло в голову, что, учитывая вычурность церемонии, затаившееся божество может обладать существенным значением. Был ли то Осирис, Исида, Гор, или Анубис, или некий еще более высший и могущественный, но неведомый Бог Усопших? Существует легенда о том, что жуткие алтари и страшных колоссов посвящали неведомому Богу еще до того, как начали почитать богов известных.
Теперь, когда я принудил себя наблюдать за глубоким замогильным обрядом почитания, свершавшимся этими безымянными тварями, в голову мою скользнула мысль о спасении. В зале было сумрачно, колонны отягощала тьма. При том, что всякая тварь из этого кошмара пребывала погруженной в мерзкий экстаз, существовала некая возможность того, что я сумею пробраться незамеченным к дальнему концу одной из лестниц и подняться по ней, с тем чтобы судьба и собственное мастерство позаботились обо мне далее. Я не знал, где находился в тот миг, да и не задумывался сколько-нибудь серьезно об этом — и на какое-то мгновение мне показалось забавным то, что я начал всерьез составлять план спасения из того, что могло быть только скверным кошмарным сном. Находился ли я в некоем потайном и никому неведомом нижнем помещении привратного храма Хефрена — храма, который из поколения в поколение именуется храмом Сфинкса? Этого определить я не мог и все же решился вернуться к жизни и сознанию, если разум и мышцы в состоянии помочь мне в этом.
Распростершись на животе, я начал опасный путь к подножию левой лестницы, которая показалась мне наиболее доступной из двух. Не могу описать вам свои тогдашние впечатления и переживания, однако о них несложно догадаться, если заставить себя помыслить о том, за чем именно приходилось мне постоянно следить в злобном, колеблемом ветром свете факелов, стараясь, чтобы меня не заметили. Нижние ступени лестницы, как я уже говорил, тонули в глубокой тени, далее она, не перегибаясь, поднималась к головокружительной, окруженной парапетом площадке над титаническим отверстием. Таким образом, последние стадии моего движения уводили меня на существенное расстояние от шумного стада, хотя само зрелище по-прежнему повергало меня в ужас даже на таком удалении.
Наконец мне удалось подняться по ступеням и приступить к подъему, держась поближе к стене, на которой нетрудно было заметить украшения самого жуткого толка, и оставаясь незамеченным благодаря увлеченному экстатичному вниманию, с которым чудища взирали на дышащее смрадом отверстие и возмутительные предметы, которые они бросали на мощеный пол перед нею. Хотя лестница оказалась огромной и крутой, сложенной из порфировых блоков под стать ногам гиганта, подъем показался мне практически бесконечным. Ужас перед перспективой быть замеченным и боль, которую вновь пробудило в моих ранах физическое напряжение, превратили этот подъем ползком в предмет мучительного воспоминания. Достигнув площадки, я намеревался продолжить подъем по любой из ведущих вверх лестниц, которая могла начинаться там, не останавливаясь ни на миг для того, чтобы бросить последний взгляд на трупные мерзости, топавшие и преклонявшие колена в семидесяти или восьмидесяти футах подо мной — однако внезапный взрыв громогласного трупного булькания и хорального смертного треска, случившийся как раз тогда, когда я достиг вершины пролета, и своим церемониальным ритмом указывавший на то, что вызван не тем, что меня заметили, заставил меня остановиться и осторожно выглянуть из-за парапета.
Чудовища приветствовали нечто, высунувшееся из тошнотворного отверстия, чтобы потребить принесенные приношения. Существо это, насколько я мог судить с высоты, оказалось внушительным; желтое и волосатое, оно продвигалось какими-то нервными рывками. Величиной оно было с хорошего гиппопотама, однако имело весьма причудливые очертания. У него как будто бы вообще не было шеи, и пять отдельных косматых голов торчали в рядок из почти цилиндрического тела; первая была совсем невелика, вторая имела размер вполне приличный, третья и четвертая были равными и крупнейшими среди всех, a пятая вновь была невелика, но не настолько как первая.
Из голов этих метнулись вперед странного вида жесткие щупальца, с жадностью схватившие великое количество предложенной этой твари несказуемой пищи, оставленной перед отверстием. Время от времени тварь дергалась вверх или странным образом отступала в свое логово. Движение это казалось настолько необъяснимым, что я смотрел на тварь словно завороженный, внутренне желая, чтобы она побольше выдвинулась из своего расположенного подо мной мерзкого логова.
Тут она и впрямь высунулась… высунулась, и вид этот заставил меня обратиться вспять и бежать во тьме вверх по лестнице, оказавшейся за моей спиной; без оглядки бежать по невероятным ступеням, пролетам и пандусам, руководствуясь чем угодно, кроме человеческого зрения или логики, и подтверждение моему бегству следует искать в мире видений. Действительно, все это было всего лишь сном, иначе рассвет не застал бы меня дышащим на песках Гизе перед сардоническим, озаренным лучами зари ликом Великого Сфинкса.
Великий Сфинкс! Боже! — этот праздный вопрос я задавал себе всего лишь благословенным солнцем вчерашним утром… какую же огромную и мерзкую аномалию изображала первоначально его фигура?
Будь проклято зрение, в видении или бодрствовании открывшее мне этот высший ужас — неведомого Бога Мертвых, пожирающего свой корм в неведомой бездне, потребляющего эти непотребные куски, приносимые невозможными тварями, не имеющими права существовать. Явившийся из тьмы пятиголовый монстр… пятиголовый монстр величиной с гиппопотама… этот пятиголовый монстр был всего лишь передней лапой…
Но я остался в живых и потому знаю, что это был всего только сон.
ОН
Я увидел его в бессонную ночь, сквозь которую брел в отчаянии, пытаясь спасти собственную душу и зрение. Мой приезд в Нью-Йорк оказался ошибкой; ибо если искал я пронзающего душу удивления и вдохновения в несметных лабиринтах старинных улочек, вьющихся бесконечно от забытых дворов, площадей и набережных к дворам, площадям и набережным, равно забытым, и в циклопических современных башнях и башенках, черным Вавилоном вырастающих под ущербными лунами, то обрел только ужас и уныние, грозившие овладеть мной, парализовать и уничтожить меня.
Разочарование пришло постепенно. Впервые выйдя в город, я смотрел на него на закате с моста, на величественный город над водами, высящийся своими шпилями и пирамидами и словно изящный цветок раскрывающийся над озерцами сиреневого тумана, чтобы играть с пылающими облаками и первыми вечерними звездами. После он осветился — окно за окном — над искрящимися потоками, над которыми плясали и скользили фонари, низкие голоса рожков выпевали причудливую мелодию, превращаясь в усыпанную звездами твердь, исполненную музыки фейри, единую с чудесами Каркасонна, Самарканда и Эльдорадо и со всеми чарами славных и полусказочных городов. Вскоре после этого меня провезли по его старинным дорогам, столь дорогим для моей фантазии узким и кривым переулкам и проездам, где уложенные в георгианском стиле[26] ряды красных кирпичей подмаргивали крохотными слуховыми окошками над поддерживаемыми колоннами порталами входов, глядевших на позолоченные седаны и обшитые панелями экипажи — и в первом порыве восхищения этими давно желанными для меня предметами я думал, что воистину лицезрею такие сокровища, которые по прошествии времени сделают меня поэтом.
Однако удача и счастье не были суждены мне. Яркий дневной свет озарил всего лишь нищету, отчуждение и отвратительный элефантиаз растущего, ползущего во все стороны камня, над которым луна намекала на очарование и древнюю магию; a по желобам улиц текли толпы приземистых и коренастых мужчин с жесткими лицами и прищуренными глазами, проницательных, не знающих мечты незнакомцев, чуждых тому, что их окружало, не знавших родства с синеглазыми парнями из предшествующих поколений, в сердце своем наделенных любовью к прекрасным зеленым полянам и белым деревенским колокольням Новой Англии.
Посему вместо стихов, на которые я надеялся, явилась зябкая чернота, a с ней и несказанное одиночество; и я наконец познал жуткую истину, которую никто не посмел произнести до меня — неизреченную истину, тайну тайн, — гласившую, что город сей, сложенный из камня и шума, не является живым продолжением Старого Нью-Йорка, как Лондон является продолжением Старого Лондона и Париж — Старого Парижа, но на самом деле умер, и распростертое его тело плохо забальзамировано и заражено странными одушевленными тварями, не имеющими ничего общего с ним, каким он был при жизни. Совершив сие открытие, я потерял сон; и хотя некая часть отрешенного спокойствия вернулась назад, после того как я постепенно выработал привычку днем держаться подальше от улиц и выходить только по ночам, когда тьма наделяет жизнью те немногие призраки прошлого, что еще парят в окрестности, а белые старые двери вспоминают те доблестные фигуры, что некогда проходили сквозь них. Добившись подобного облегчения, я даже написал несколько стихотворений, однако воздерживался от возвращения домой, чтобы не явиться к родным униженным и потерпевшим поражение человеком.
А затем, гуляя бессонной ночью, я встретил его. Это случилось в абсурдном и неприметном дворике, находящемся в гринвичском квартале, в котором по своему невежеству поселился я, услыхав о том, что его называют прибежищем поэтов и художников. Старинные проулки и дома, неожиданные площади и дворики воистину восхищали меня, и, обнаружив, что поэты и художники всего лишь громкоголосые претенденты, чья необычная привлекательность не что иное, как мишура, а образ жизни является отрицанием всей чистой красоты, которая присутствует в поэзии и живописи, остался там исключительно из любви к этим почтенным предметам. Я представлял эти улочки такими, какими они были в пору расцвета, когда Гринвич еще оставался тихой деревней, не поглощенной городом; и в предрассветные часы, когда утихомиривались все гуляки, любил скитаться в одиночестве по загадочным мостовым и размышлять над любопытными арканами, которых не могло не оставить здесь предшествующее поколение. Так я сохранил живой свою душу и получил немногие сны и видения, которых так алкал поэт, обитающий в недрах моей души.
Человек этот попался навстречу мне около двух часов облачной августовской ночи, когда я проходил через уединенные дворики, ныне доступные только через темные коридоры прилегающих зданий, но прежде бывших частями непрерывной сетки живописных аллей. До моих ушей доносились о них смутные слухи, и я понимал, что их не может быть ни на какой сегодняшней карте; но то, что они забыты, лишь делало их более дорогими в моих глазах, и посему я искал их, удвоив обыкновенное рвение. Но и отыскав их, я лишь удвоил свой пыл; ибо нечто в их расположении смутно намекало, что они могли оказаться только немногими из множества подобных схожих, темных и немых переулков, зажатых между высокими глухими стенами и заброшенными задними постройками или в темноте таящихся за подворотнями, о которых не ведают орды чужаков, или же охраняющихся нечистыми на руку и необщительными художниками, чьи обычаи не были рассчитаны на известность или дневной свет.
Он заговорил со мной без приглашения, отметив мое настроение и взгляды, с которыми я обозревал снабженные дверными молоточками двери над ступенями с железными перилами в бледном свете узорчатых фрамуг, едва освещавшем мое лицо. Его лицо находилось в тени, голову прикрывала широкополая шляпа, удивительным образом идеально сливавшаяся с подчеркнуто вышедшим из моды плащом; впрочем я чуть встревожился еще до того, как он обратился ко мне. Сложения он был очень хилого, тощий почти как пугало; но голос его оказался на удивления мягким и гулким, хотя и не особенно глубоким. Он сказал, что несколько раз замечал меня в моих скитаниях по городу и сделал вывод о том, что я похож на него в своем интересе к останкам минувших лет. Не нужно ли мне руководство человека, поднаторевшего в подобных исследованиях и обладающего местной информацией, несравненно более глубокой, чем та, которую может приобрести любой чужак, посетивший эти края?
Пока он говорил, в желтом свете, падающем из одинокого чердачного окна, я сумел разглядеть его лицо, оказавшееся лицом пожилого и благородного, даже симпатичного человека и даже несшее на себе следы благородного происхождения и утонченности, необычных для сего века и места. Тем не менее некое качество в нем встревожило меня почти в той же мере, как понравились мне черты, — быть может, потому, что оно было слишком белым, или слишком бесстрастным, или слишком не соответствовало окрестностям, чтобы я мог чувствовать себя легко и непринужденно. Однако я последовал за ним; ибо в те томительные дни лишь поиск старинных красот и тайн сохранял в живых мою душу, и я посчитал милостью Судьбы возможность присоединиться к тому, чьи родственные изыскания позволили проникнуть в недоступные мне глубины.
Нечто, присутствовавшее в ночи, принуждало человека в плаще к молчанию, и долгий час он вел меня вперед, воздерживаясь от бесполезных слов, делая кратчайшие из комментариев, называя старинные имена и даты, направляя мое продвижение в основном жестами, пока мы протискивались сквозь щели, на цыпочках проходили по коридорам, перелезали через кирпичные стенки, a однажды проползли на руках и коленях по невысокому сводчатому проходу, чьи немыслимая длина и мучительные изгибы стерли наконец в моей голове всякое понятие о географическом положении, которое я до сих пор умудрялся сохранять.
В редких и случайных лучах света рассматривали мы предметы старинные и чудесные, или, во всяком случае, казавшиеся таковыми, и я никогда не забуду покосившиеся ионические колонны, и желобчатые пилястры, и увенчанные урнами железные заборные столбы, и распахнутые кверху поперечины окон, и декоративные окошки над дверями, становившиеся все более причудливыми и странными по мере нашего погружения в этот неистощимый лабиринт неведомой старины.
Мы никого не встречали, и с течением времени освещенных окон становилось все меньше и меньше. Сперва нам попадались масляные уличные фонари на старинных подвесках. Потом я заметил в некоторых из них свечи; и наконец мы пересекли жуткий и неосвещенный двор, где моему проводнику пришлось подвести меня своей облаченной в перчатку рукой сквозь кромешную тьму к деревянной калитке в высокой стене, за которой оказался недлинный переулок, освещенный только фонарями перед каждым седьмым домом — немыслимо колониальными оловянными фонарями с коническими крышками и дырками, проделанными в боках. Переулок этот уводил круто в гору — много более крутую, чем, на мой взгляд, было возможно в этой части Нью-Йорка — и в верхней части своей был перегорожен заросшей плющом стеной частного поместья, за которой я мог видеть бледный купол и верхушки деревьев, раскачивавшихся на фоне расплывчатого светлого пятна на небе. В стене этой, под невысоким сводом, оказалась калитка из утыканного гвоздями черного дуба, которую мой спутник отпер внушительного размера ключом. Впустив меня внутрь, в полнейшей темноте он направил наше движение как будто бы по усыпанной гравием дорожке и наконец по каменным ступеням к двери дома, которую отомкнул и открыл передо мной.
Мы вошли, и мне немедленно стало дурно от встретившей нас бесконечной затхлости, должно быть, рожденной веками нечистого тления. Хозяин дома как будто бы не заметил этого, а я из любезности смолчал, пока он вел меня вверх по изогнутой лестнице, по коридору и в комнату, дверь которой, как я слышал, запер за нашими спинами. Затем он задернул занавески трех небольших перегородчатых окон, едва заметных на фоне уже светлевшего неба; после чего перешел к камину, ударил сталью о кремень, зажег две свечи на канделябре о двенадцати подсвечниках и сделал жест, приглашая к негромкому разговору.
В слабом свете я видел, что мы находимся в просторной, хорошо обставленной и обшитой панелями библиотеке, по виду относящейся к первой четверти восемнадцатого столетия, с отменными дверными фронтонами, восхитительным дорическим карнизом и великолепным резным украшением над камином, увенчанным свитком и урной. Над плотно уставленными книжными шкафами в пролетах вдоль стен располагались хорошей работы семейные портреты; потемневшие, образуя загадочную дымку, и имеющие несомненное сходство с человеком, который жестом предложил мне сесть в кресло возле изящного чиппендейловского стола. Прежде чем усесться за него напротив меня, хозяин дома как бы в смущении замер на мгновение; а потом, неохотно стянув перчатки, сняв широкополую шляпу и плащ, остался в полном наряде георгианских времен, начиная от заплетенных в косу волос и гофрированного воротника и вплоть до бриджей, шелкового галстука, шелковых лосин и туфель с пряжками, которых я ранее не заметил. Медленно опускаясь в кресло с изогнутой спинкой, он продолжал пристально рассматривать меня.
Без шляпы он показался мне чрезвычайно старым, что ранее просто не было заметно, и я подумал, не это ли не замеченное доселе чрезвычайное долголетие стало одной из причин моего беспокойства. Когда он заговорил наконец, мягкий, гулкий и старательно приглушенный голос его нередко дрожал, и мне то и дело приходилось напрягаться, чтобы разобрать его слова с трепетом удивления и наполовину отрицаемой тревоги, возраставшей с каждым мгновением.
— Сэр, вы имеете дело, — начал хозяин дома, — с человеком весьма эксцентричным в своих обычаях, за одеяние которого нет нужды приносить извинения человеку, наделенному вашим умом и привычками. Размышляя о лучших временах, я не поленился позаимствовать их обычаи, усвоить их обычаи и манеры, и привычка эта недостойна осуждения, если не практиковать ее напоказ. Мне повезло в том, что я унаследовал сельскую обитель собственных предков, хотя она и была поглощена двумя городами: сперва Гринвичем, дотянувшимся сюда после 1800 года, а потом Нью-Йорком, присоединившимся к нему около 1830 года. В нашем семействе существовало много причин содержать этот дом без огласки, и я не стал пренебрегать подобной условностью. Сквайр, унаследовавший дом в 1768 году, изучал некие искусства и сделал кое-какие открытия, связанные в основном с влияниями, присутствующими на данном участке земли и в высшей степени достойными внимательной охраны. Некоторые любопытные эффекты этих искусств и открытий я намереваюсь показать вам при условии соблюдения строжайшей секретности; и полагаю, что могу положиться на собственное понимание людей, чтобы не обнаружить недоверия, как к вашему интересу, так и верности слову.
Он сделал паузу, однако я мог только кивнуть в ответ головой. Я уже говорил, что был встревожен, тем не менее для души моей не было ничего более смертоносного, чем материальный мир дневного Нью-Йорка, и вне зависимости от того, кем был этот человек: безобидным эксцентриком или адептом опасных искусств, — у меня не было иного выхода кроме как последовать за ним и утолить свою жажду чудес тем, что может он предложить. Поэтому я стал слушать.
— С точки зрения моего предка, — негромко продолжил он, — в воле человечества присутствовали некие весьма примечательные качества — качества, обнаруживавшие свою неожиданную власть не только над поступками того или иного человека, но и над всем разнообразием сил и субстанций в Природе, и над многими стихиями и измерениями, более универсальными, чем она сама. Могу ли я сказать, что он отказал в святости таким великим предметам, как пространство и время, а также обратил к странному применению обряды неких полукровок — индейских краснокожих, — некогда останавливавшихся на этом холме? Эти индейцы кипели возмущением, пока строился дом, a потом словно чума липли, добиваясь разрешения посетить окружающую его землю в полнолуние. Год за годом они каждый месяц при удобном случае перелезали через ограду и украдкой производили некие действия. А потом, в 68-м, новый сквайр застал их при совершениие оных и был ошеломлен тем, что увидел. Посему он заключил с ними сделку в обмен на право свободного посещения его владений, выговорив себе точное знание о том, что они творили, и узнав, что одну часть своего обряда они унаследовали от краснокожих предков, а другую — от старого голландца во времена Генеральных Штатов. Увы, гнилая язва в бок этому сквайру, боюсь, что он напоил индейцев чудовищно скверным ромом — ибо через неделю после того, как он узнал секрет, сквайр этот остался единственным среди живых, кто знал помянутую тайну. И вы, сэр, стали первым чужаком, узнавшим, что таковая существует, и я лопнул бы, если бы рискнул на подобное неуважение к «силам» — не проявляй вы столько любопытства к прошлому.
По мере того как он становился разговорчивее — с выговором давних времен, — кожу мою пробирал озноб. Но он продолжал:
— Однако вам следует узнать, сэр, что то, что сквайр узнал от этих диких дворняг, составляло всего лишь часть того знания, которое ему удалось получить. Он не без толку проводил время в Оксфорде и не о пустяках разговаривал в Париже с древним годами алхимиком и астрологом. Короче, до него донесли, что весь мир есть не что иное, как дым, испускаемый нашими разумами; незаметный для вульгарного разумения, но доступный мудрым, чтобы те затягивались им и выдыхали, наслаждаясь, как облачком дымка первосортного виргинского табака. Чего мы хотим, то и можем сделать около себя; a чего не хотим, от того можем и отмахнуться. Не могу сказать, что все это подлинно и телесно, однако достаточно верно для того, чтобы можно было время от времени учинить милый спектакль. Вам, насколько я понимаю, будет интересно разглядеть некие иные годы, причем так, как никогда не покажет фантазия; посему будьте любезны сдержать всякий испуг при виде того, что я намереваюсь показать. Подойдите к окну и молчите.
Тут хозяин дома взял меня за руку, чтобы подвести к одному из двух окон, находившихся на длинной стороне зловонной комнаты, и от первого же прикосновения его пальцев меня пробрал холод. Плоть его, будучи твердой и сухой, во всем прочем напоминала лед; и я едва не вырвал из его ладони свою руку. И все же снова подумал о пустоте и жути реальности и отважно приготовился следовать за ним, куда бы он ни повел меня. Оказавшись возле окна, старик раздвинул желтые шелковые шторы и велел мне смотреть во тьму за окном. Какое-то мгновение я не видел ничего, кроме мириады огоньков, заплясавших где-то далеко-далеко от меня. Затем, словно бы отвечая на хитрое движение руки хозяина дома, над сценой промелькнула зарница, и я увидел перед собой море роскошной листвы… листвы безупречно чистой, а не море крыш, которое рассчитывал бы увидеть всяк пребывающий в здравом уме. По правую от меня руку озорничали воды Гудзона, a впереди вдали мерцал нездоровый отблеск большого соленого болота, пересыпанный звездочками вспышек нервных светляков. Вспышка погасла, и на восковое лицо древнего некроманта легла злобная улыбка.
— Это было до меня… то есть до нового сквайра. Давайте попробуем еще разок.
Я сделался слаб, еще более слаб, чем когда одолевала меня ненавистная современность этого проклятого города.
— Боже мой! — прошептал я, — неужели вы способны делать это раз за разом?
И когда он кивнул, обнажая бурые пеньки некогда желтых клыков, я вцепился в занавески, чтобы не упасть. Однако хозяин дома удержал меня на ногах своей жуткой ледяной хваткой и вновь произвел тот хитроумный жест.
И вновь вспыхнула молния — но на сей раз она озарила не совсем незнакомую мне сцену. Это был Гринвич, привычный Гринвич, там и сям можно было видеть привычную ныне кровлю или рядок домов, и все же заметны были и очаровательные аллеи, и поля, и поросшие травой лужайки. За ними по-прежнему поблескивало болото, но вдали я заметил шпили тогдашнего Нью-Йорка; церкви Тринити, Святого Павла и Кирпичная доминировали над своими сестрами, и слабый полог печного дыма прикрывал сцену. Я тяжело вздохнул, однако не столько от самого зрелища, сколько от тех возможностей, которые предлагало мне пришедшее в ужас воображение.
— Можете… смеете ли вы… обратиться к дальним краям? — проговорил я с трепетом, который как будто бы на секунду разделил и старик, однако злобная улыбка вернулась.
— К дальним краям? Да того, что я видел, хватит, чтобы превратить тебя в безумное каменное изваяние! Назад, назад… вперед, вперед… зри, о скулящий недоумок!
И негромко прорычав эту фразу, он сделал новый жест, вызвав на небо новую молнию, куда более ослепительную, чем прежние. Полные три секунды взирал я на это пандемоническое зрелище, и за секунды эти разглядел перспективу, которой суждено будет впоследствии всегда мучить меня во снах. Я увидел небеса, кишащие странными летучими тварями, а под ними адский черный город с гигантскими каменными террасами и богохульными пирамидами, взметнувшимися в дикарском порыве к луне, и дьявольские огни, горящие в бесчисленных окнах. A на воздушных галереях роились желтые, косоглазые люди этого города в каких-то жутких оранжевых и красных нарядах, безумно плясавшие под лихорадочный грохот литавр, непристойное брякание кроталов[27] и глухие стоны рогов, непрестанные траурные панихиды которых вздымались и опадали волнами порочного битумного океана.
Итак, я видел эту перспективу и словно бы внутренним ухом слышал богохульную подводную и потустороннюю какофонию, властвовавшую над ней. Визжащим ужасом воплощались в ней все страхи, которые город-труп расшевелил в душе моей, и, позабыв, о приказе молчать, я вопил, визжал, выл, надрывался, ибо нервы мои сдали и стены ходуном ходили вокруг меня.
Затем, когда вспышка погасла, я увидел что трепещет и хозяин дома; ужасное потрясение изгнало с его лица змеиную ненависть, которую вызвали мои вопли. Он пошатнулся, вцепился в занавески, как только что сделал я, и буйно замотал головой, как пойманное в ловушку животное. Видит Бог, у него была на это причина, ибо едва стихли отголоски моего воя, как послышался другой звук, настолько адски красноречивый, что только отупение чувств позволило мне сохранить рассудок и остаться в сознании. Ступени лестницы за закрытой дверью ровно скрипели под осторожной поступью босой или обутой в кожу орды; наконец осторожно и осмысленно брякнула медная задвижка, ясная в свете свечи. Старик ткнул в меня рукой, плюнул сквозь наполненный тленом воздух и гортанно взвыл, шатаясь и вцепившись рукой в желтую штору:
— Полнолуние… проклятый… проклятый воющий пес… ты призвал их, и они идут за мной! Ноги в мокасинах… мертвецы… Бог да погубит вас, краснокожие черти, только я не подливал отраву в ваш ром… и разве не сохранил в порядке вашу гнилую магию?.. Вы сами допились до чумы, проклятые дьяволы, и все хотите обвинить в этом сквайра… прочь ступайте, поганые! Отпустите засов… Здесь для вас ничего нет…
В это мгновение три неторопливых и размеренных удара сотрясли дверную панель, и белая пена появилась на губах отчаявшегося чародея. Ужас его, превращавшийся в нерушимое отчаяние, оставлял место для ярости против меня; и он сделал шаткий шаг в сторону стола, за край которого я держался. Левая рука протянулась ко мне, шторы, зажатые в правой, натянулись и наконец вырвались из своих высоких защепок, пропуская в комнату весь лунный свет, который могло дать посветлевшее небо. Зеленоватые лучи заставили померкнуть свечи, и пелена тлена заново легла на пропахшую гнилью комнату с ее источенными червями панелями, проваливающимся полом, потрескавшейся каминной доской, шаткой мебелью и истрепавшимися драпировками. Она распространилась и на старика, из того же источника или благодаря его страху и ядовитой злобе, и, съежившись и почернев, он рванулся вперед, чтобы разодрать меня пальцами, превратившимися в ястребиные когти. Только глаза его оставались прежними, и их наполняло растворенное движущее свечение, становившееся все ярче по мере того, как обугливалось и съеживалось его лицо.
Стук повторялся теперь с большей настойчивостью, и в нем даже появилась металлическая нотка. Только что стоявшая передо мной черная тварь превратилась в одну только голову с глазами на ней, бессильно пытавшуюся переползти по шатким половицам в мою сторону и только изредка извергавшую крохотные и беспомощные плевки, полные бессмертной злобы. Теперь на гнилые панели обрушился град сильных и умелых ударов, и в показавшейся в двери трещине промелькнуло лезвие томагавка. Я не шевельнулся, потому что не имел сил для этого, и только завороженно смотрел на то, как рухнула и рассыпалась на куски дверь, как в нее хлынул могучий, но бесформенный поток субстанции, в котором злыми звездами сверкали глаза. Подобный нефти, хлынувшей из лопнувшей прогнившей цистерны, поток перевернул кресло, затек под стол и ручейком метнулся в ту сторону, откуда на меня до сих пор глядели полные ярости глаза почерневшей головы. Сомкнувшись над головой и полностью поглотив ее, поток в то же мгновение начал отступать; унося с собой свою невидимую добычу, не касаясь меня, он втек обратно в черный дверной проем и хлынул вниз по невидимой лестнице, вновь заскрипевшей как бы под ногами, но уже в обратном порядке.
Тут пол наконец подался под моими ногами, и, ошеломленный, я рухнул в темную палату внизу, едва не теряя сознание от ужаса и задыхаясь от окутавшей меня паутины. Лучи зеленой луны, пробивающиеся сквозь разбитые окна, обрисовали передо мной полураскрытую дверь; и, поднявшись с усыпанного кусками штукатурки пола, выпроставшись из досок сгнившего потолка, я увидел, как за ней скользит поток жуткой тьмы, в котором сверкают полные злобы глаза. Поток устремился к двери в погреб и, отыскав ее, исчез где-то внизу. Пол нижней комнаты теперь прогибался под моими ногами, как только что было на верхнем этаже, и после раздавшегося наверху треска мимо западного окна промелькнуло нечто похожее на купол. Высвободившись на мгновение из обломков, я бросился через холл к входной двери и, не сумев открыть ее, схватил кресло и, разбив окно, лихорадочными движениями выбрался на неухоженную лужайку, заросшую высокой, в ярд, травой, над которой плясал лунный свет. Стена была высокой, все ворота оказались запертыми, однако, сдвинув оказавшуюся в углу стопку ящиков, я сумел добраться до верха стены и вцепиться в стоявшую там огромную каменную урну.
Измученный взор мой видел вокруг себя только странные стены, невозможные окна и старинные мансардные крыши. Крутой улочки, по которой я пришел сюда, нигде не было видно, и то немногое, что я мог еще видеть, неумолимо и скоро растворялось в тумане, накатывавшем от реки вопреки ясному лунному свету. И вдруг затрепетала та самая урна, за которую я держался, словно бы восприняв от моего тела охватившую меня смертную слабость, и через какое-то мгновение тело мое рухнуло вниз, навстречу неведомой судьбе.
Нашедший меня человек утверждал, что, несмотря на переломанные кости, я прополз достаточно далеко, ибо кровавый след тянулся за мной насколько он смел взглянуть. Собравшийся дождь скоро смыл этот след, связанный с местом моего сурового испытания, и газетчики могли только упомянуть, что я появился из неведомого места на входе в темный маленький дворик возле Перри-стрит.
Я никогда более не возвращался к этим зловещим лабиринтам, и никогда не направил бы туда здравомыслящего человека. Кем или чем было то дряхлое создание, не имею ни малейшего представления, но повторю еще раз: город сей мертв и полон нежданных ужасов. Куда сгинул старец, не знаю; но сам я вернулся домой, на чистые аллеи Новой Англии, над которыми вечерами реют благоуханные морские ветры.
КОШМАР В РЕД-ХУКЕ
В каждом из нас стремление к добру уживается со склонностью к злу, и, по моему глубокому убеждению, мы живем в мире, почти неведомом нам, изобилующем провалами, тенями и сумеречными созданиями. Неизвестно, вернется ли когда-нибудь человечество на путь эволюции, но нет сомнений, что изначальное зло до сих пор не изжито.
Артур МейченГлава 1
Несколько недель тому назад внимание зевак, стоявших на углу одной из улиц Паскоуга, небольшой деревушки в Род-Айленде, привлекло необычное поведение высокого, крепко сложенного, вполне здорового вида человека. Он спускался с холма по дороге из Чепачета и поворачивал на главную улицу в сторону центрального квартала, образуемого несколькими ничем не примечательными кирпичными строениями, главным образом лавками и складами, которые делали поселок подобием городка. Именно в этом месте, без всякой видимой причины, незнакомец позволил себе странную выходку: он замер, пристально всматриваясь в самое высокое из зданий перед собой, а затем, издав серию пронзительных, истерических вскриков, бросился бежать, но на ближайшем перекрестке споткнулся и упал. Когда заботливые прохожие помогли ему подняться на ноги и отряхнуть от пыли костюм, оказалось, что он в здравом рассудке, ничего не переломал и полностью оправился от нервного срыва. Смущенно пробормотав извинения за неадекватное поведение, ссылаясь на пережитый стресс, незнакомец повернулся и, ни разу не оглянувшись, ушел обратно по чепачетской дороге. Подобного рода происшествие с таким крупным, сильным и вполне здорового вида мужчиной, каким был этот пострадавший, казалось странным, и удивление наблюдавших за ним ничуть не уменьшилось от того, что один из свидетелей этого происшествия сказал, что узнал в нем постояльца известного в округе молочника из предместья Чепачет.
Этим человеком был, как выяснилось потом, нью-йоркский детектив Томас Ф. Мелоун, находящийся в длительном отпуске по состоянию здоровья, перетрудившись от непомерного объема работы во время расследования одного дела, которому ужасный несчастный случай придал трагическое завершение. Во время рейда, в котором он принимал участие, обрушились несколько старых кирпичных домов, и под обломками погибли как задержанные, так и несколько сослуживцев Мелоуна, и это глубоко потрясло детектива. С тех пор вид зданий, хотя бы отдаленно напоминающих обрушившиеся, вызывает у него ужас, поэтому специалисты по умственным расстройствам запретили ему на неопределенный срок находиться в городе. Полицейский врач, у которого родственники жили в Чепачете, небольшом поселке, состоящем из двух десятков домов в колониальном стиле, предложил ему этот сельский уголок в качестве места для исцеления душевных ран; туда и отправился наш страдалец, пообещав держаться подальше от главных улиц более крупных поселений до особого на то позволения врача из Вунсокета, под наблюдение которого он поступал. Эта прогулка в Паскоуг за журналами была явной ошибкой, за которую несчастный пациент поплатился испугом, синяками и стыдом.
Вот все, что было известно по сплетням в Чепачете и Паскоуге; примерно столько же знали и занимавшиеся Мелоуном весьма образованные специалисты. Последним, впрочем, детектив пытался рассказать значительно больше, но не сделал этого из-за откровенного недоверия, с которым воспринимались его слова. Тогда он решил не тратить лишних нервов и ни единым словом не выразил несогласия с вердиктом, что его психическое равновесие пошатнулось из-за внезапного обвала нескольких дряхлых кирпичных домов в бруклинском Ред-Хуке и случившейся в результате этого гибели отважных блюстителей закона. Он затратил чрезмерно много усилий, сказали ему, пытаясь справиться с этим рассадником преступности и порока — и действительно, там творились жуткие дела, — а внезапная трагедия оказалась последней каплей. Это было простое объяснение, доступное каждому, и поскольку Мелоун был отнюдь не прост, он решил, что лучше будет им ограничиться. Намекать лишенным воображения людям на существование ужаса, превосходящего человеческие представления, — ужаса, проникающего к нам из более древних миров и поражающего, как проказа, дома, кварталы, а то и города, — означало вместо оздоровительного отдыха в деревне отправиться в обитую войлоком палату психиатрической лечебницы; но Мелоун был благоразумным человеком, если не принимать во внимание некоторую склонность к мистицизму. Он обладал кельтским видением страшных и потаенных сторон бытия, но при этом имел присущую логикам способность подмечать сомнительные взаимосвязи; именно это сочетание и послужило причиной того, что в свои сорок два года он оказался далеко от родного дома и занялся необычным делом для выпускника Дублинского университета, появившегося на свет в георгианском особняке возле Феникс-парка.
Так что сейчас, пробегая мысленно по тому, что ему довелось видеть, слышать или о чем удалось догадаться, Мелоун был даже доволен, что остался единственным хранителем тайны, способной превратить бесстрашного бойца во вздрагивающего от каждого шороха невротика, — способной превратить старые кирпичные трущобы и множество смуглых, неотличимых друг от друга лиц в ночной кошмар и жуткое воспоминание. Уже не в первый раз Мелоун скрывал истинные мотивы своих действий — ибо разве не считали знавшие детектива люди его добровольное погружение в многоязычную бездну нью-йоркского дна чудачеством, не поддающимся разумному объяснению? Но разве мог он поведать заурядным горожанам о древних колдовских обрядах и омерзительных культах, следы которых его чуткий взор углядел в этом бурлящем котле вековой нечисти, куда самые подонки минувших развращенных эпох влили свою долю отравы и гнусного ужаса? Он видел отсветы зеленоватого адского пламени во всей этой мешанине, пронизанной алчностью и крайним богохульством, и лишь едва заметно улыбался знакомым ньюйоркцам на насмешки над его нововведениями в полицейскую практику. Высмеивая его фантастическую погоню за призраками и непостижимыми загадками, они остроумно и цинично заверяли, что в наше время в Нью-Йорке и нет ничего помимо примитивности и пошлости. Один из его приятелей даже готов был спорить на крупную сумму, что как бы ни нахваливало его «Дублин Ревю», детективу не удастся написать по-настоящему интересный рассказ о жизни нью-йоркских трущоб, и сейчас, вспоминая об этом, Мелоун не мог не удивляться иронии мироздания, обратившего слова насмешливого пророка в явь, хотя и вразрез с их изначальным смыслом. Ужас, навсегда отпечатавшийся в его сознании, не мог быть описан, потому что, наподобие упомянутой Эдгаром По книги, «es lässt sich nicht lesen — не позволяет себя прочесть».
Глава 2
Мелоун во всем ощущал скрытые тайны бытия. В юности он во всем находил скрытую красоту и высший смысл, что служило ему источником поэтического вдохновения, но нужда, страдания и скитания вынудили его обратить взор в другую сторону, и сейчас он с ужасом находил многообразие ликов зла в окружающем его мире. Его повседневная жизнь превратилась в фантасмагорический театр теней, в котором он с интересом взирал то на скрытый порок в духе лучших работ Бердслея, то на угадывающийся за самыми невинными формами и предметами ужас в духе наиболее изощренных гравюр Гюстава Доре. Он не раз подмечал, что насмешливое отношение людей высшего интеллекта ко всякого рода сокровенным знаниям — это благо для остального человечества, ибо приложение высшего разума к тайнам древних и современных культов способно угрожать не только нашему миру, но, возможно, и целостности Вселенной. Безусловная мрачность всех подобных рассуждений в Мелоуне компенсировалась здравым смыслом и тонким чувством юмора. Его вполне устраивало, чтобы эти полуразгаданные тайны оставались лишь объектом абстрактных умозаключений; но когда выполнение служебного долга привело его к столкновению со слишком неожиданным и ужасающим откровением, этот баланс нарушился и случился нервный срыв.
Расследование в Ред-Хуке впервые привлекло внимание детектива, когда он оказался временно командирован в полицейский участок на Батлер-стрит в Бруклине. Ред-Хук — это лабиринт из на редкость убогих строений на месте старых портовых кварталов напротив Губернаторского острова, который прорезают несколько опасных для посещения улиц, берущих начало от доков и уходящих вверх по холму, чтобы в итоге соединиться с некогда процветающими, а ныне трущобными Клинтон-стрит и Корт-стрит, ведущими далее в сторону Боро-Холл. Здесь преобладают кирпичные здания, построенные между первой четвертью и серединой прошлого столетия, и некоторые наиболее темные улочки и переулки до сих пор сохраняют своеобразный мрачный колорит того времени, в литературной традиции называющийся «диккенсовским». Состав населения Ред-Хука — загадка и неразрешимая головоломка для многих поколений статистиков: постоянно враждующие между собой группы сирийцев, испанцев, итальянцев и негров разделены прослойками скандинавов и коренных американцев. Вавилонское столпотворение языков и всяческих подонков, из которого порой вырываются весьма странные крики, вплетающиеся в плеск покрытых мазутной пленкой волн о мрачные причалы и чудовищную органную литанию пароходных гудков. Однако в давние времена Ред-Хука картина была совсем иной: на улицах возле причала жили честные трудяги-моряки, а выше, на склоне холма, располагались особняки более состоятельных хозяев. Следы былого благополучия можно увидеть в основательной архитектуре старых домов и в красоте некоторых церквей, а также в некоторых разбросанных по всему району мелких свидетельствах: роскошные лестничные пролеты, покосившиеся, а то и сорванные с петель величественные двери, изъеденные червями декоративные пилястры, сложного профиля двери в подъездах или безжалостно вытоптанные лужайки с поваленным ржавым ограждением. Дома обычно стоят кучками, а окна-фонари некоторых домов напоминают о временах, когда домочадцы капитанов и судовладельцев высматривали в море их корабли.
Из этой морально и физически разлагающейся клоаки к небу возносятся самые изощренные проклятия на сотне языков и диалектов. По улицам бродят толпы подозрительного вида бродяг, запевающих и бранящихся на все лады, и если забредает кто-то посторонний, то какие-то руки задергивают шторы и гасят за ними свет, а за плотными занавесками торопливо скрываются лица, отмеченные печатью порока. Полиция давно уже отчаялась навести порядок и лишь старается оградить внешний мир от этой заразы. При появлении на улицах патруля воцаряется мрачное, напряженное молчание, а задержанные в Ред-Хуке преступники не дают никаких показаний. Состав преступлений по своей пестроте не уступает этническому, начиная от контрабанды рома и нелегального проживания иностранцев и заканчивая зверскими убийствами и разбойными нападениями. И если формально уровень преступности в Ред-Хуке не выше, чем в примыкающих районах, то это заслуга не полиции, а той ловкости, с какой здесь умеют обстряпывать грязные дела. Достаточно заметить, что далеко не все люди, попадающие в Ред-Хук, возвращаются обратно по суше, и больше шансов вернуться — у тех, кто умеет держать язык за зубами.
В такой вот сложившейся ситуации Мелоун уловил признаки некой тщательно оберегаемой, ужасной тайны, несравненно хуже любого из тех грехов, которые осуждают добропорядочные граждане и столь охотно бросаются исцелять священники и филантропы. Он хорошо сознавал, совмещая в себе пылкое воображение со строгим научным подходом, что современный человек в условиях беззакония неумолимо скатывается к тому, что в своей повседневной и религиозной практике начинает руководствоваться не разумом, а темными, полуживотными инстинктами; поэтому с интересом антрополога наблюдал за горланящими и сыплющими ругательствами группками молодых людей с обезображенными оспинами лицами и одурманенными глазами, попадавшимися ему в предрассветные часы на замусоренных улицах Ред-Хука, хотя и вздрагивал всякий раз от отвращения. Они были здесь повсюду: то приставали к прохожим на перекрестках, то наигрывали на примитивных музыкальных инструментах в дверях домов, то одурманенно дремали и ругались за столиками кафетериев в Боро-Холл, а то заговорщицки шептались возле побитого такси, припаркованного у парадного подъезда полуразвалившегося дома с заколоченными окнами. Они вызывали у Мелоуна значительно больший интерес, чем он готов был признаться своим товарищам по службе, ибо за ними скрывалась какая-то чудовищная сила, ведущая свое начало из неведомых глубин времени, нечто непостижимое и бесконечно древнее, в своих проявлениях не имеющее ничего общего с бесконечным списком деяний, примет и притонов преступного мира, с таким тщанием составляемым полицией. Он испытывал внутреннюю убежденность, что эти молодые подонки — носители какой-то жуткой доисторической сущности, хранители разрозненных обломков культов и обрядов, более древних, чем само человечество. Слишком уж согласованными и продуманными оказывались их действия, и слишком уж строгий порядок чувствовался за их внешней распущенностью и неряшливостью. Мелоун не стал бы попусту тратить время на чтение книжонок типа «Культ ведьм Западной Европы» мисс Мюррей; он знал, что и поныне среди крестьян и суеверных простолюдинов сохранился древний обычай устраивать нечестивые тайные сборища и оргии, восходящий к темным религиозным культам доарийского периода и упоминающийся просторечно как «черная месса» или «шабаш ведьм». Он нисколько не сомневался, что зловещие порождения турано-азиатской магии и культов плодородия дожили до наших дней, и лишь иногда с содроганием задумывался, насколько же древнее и ужаснее они своих самых древних и самых ужасных описаний.
Глава 3
В гуще событий в Ред-Хуке Мелоун оказался из-за дела Роберта Суидема. Этот высокообразованный потомок древнего голландского рода получил наследство, позволявшее жить праздно, и с тех пор проживал отшельником в просторном, но уже пострадавшем от времени особняке, построенном его дедом во Флэтбуше во времена, когда эта деревушка представляла собой живописную группу особняков в колониальном стиле, окружающих увенчанную шпилем и увитую плющом реформатскую церковь с небольшим нидерландским кладбищем. Суидем провел в этом отдельно стоящем здании в глубине Мартенсе-стрит, в окружении почтенного возраста деревьев, за книгами и размышлениями без малого шестьдесят лет и отлучался лишь однажды, лет тридцать назад, отплыв к берегам Старого Света, где пребывал целых восемь лет. Прислуги у него не было, и он мало кому позволял нарушать свое добровольное затворничество; связей со старыми друзьями не поддерживал, а редких визитеров принимал в одной из тех трех комнат первого этажа, которые поддерживал в относительном порядке — просторной, с высоким потолком, заставленной по стенам стеллажами от пола до потолка, на которых были навалены кипы пухлых, замшелых от древности и отталкивающих с виду томов. Расширение границ города и последующее поглощение Флэтбуша районом Бруклин прошло для Суидема незамеченным, да и город замечал его все меньше и меньше. Если пожилые обитатели квартала при редких встречах на улице узнавали его, то для молодого поколения он был всего лишь толстым старикашкой, чей забавный облик — неопрятная седая шевелюра, всклокоченная бородка, лоснящийся черный костюм и старомодная трость с позолоченным набалдашником — заслуживал лишь мимолетного удивленного взгляда. Пока этого не потребовалось по службе, Мелоуну не доводилось встречаться с ним лично, однако он не раз слышал о голландце как о крупнейшем авторитете в области средневекового оккультизма и даже как-то собирался изучить написанную им брошюру о влиянии Каббалы на легенду о докторе Фаусте, которую один из друзей детектива часто цитировал наизусть.
Дело Суидема началось с того, как какие-то его отдаленные и чуть ли не единственные родственники потребовали вынесения судебного решения о его невменяемости. Требование это со стороны могло бы показаться неожиданным, но стало результатом длительных наблюдений и горестных обсуждений. Основанием для него послужили высказывания и поступки почтенного патриарха: странные упоминания о каких-то чудесных переменах, которые вот-вот должны явиться миру, и недостойное пристрастие к подозрительным бруклинским притонам. С годами он все меньше уделял внимания своему внешнему виду, и теперь его вполне можно было принять за нищего, а друзья не раз с ужасом замечали его на станции подземки или на скамейке возле Боро-Холл беседующим с какими-то подозрительными темнокожими. Речь его стала малопонятной, он говорил о неограниченной силе, которой скоро будет наделен, и через слово вставлял мистические понятия и имена, такие как «Сефирот», «Асмодей» или «Самаэль». В ходе судопроизводства было установлено, что почти весь свой годовой доход как рантье Суидем тратил на приобретение старинных фолиантов, которые ему доставляли из Лондона и Парижа, и на содержание убогой квартиры в цокольном этаже одного из домов в Ред-Хуке, где он чуть ли не каждый вечер встречался со странными делегациями, состоящими из всяких подозрительных личностей и иностранцев, и проводил там за наглухо зашторенными окнами какие-то обряды. Следившие за ним частные детективы сообщали о странных воплях и песнопениях, а также, судя по звукам, обрядовых плясках, происходивших на этих ночных сборищах, и удивлялись экстазу и разнузданности на них, необычных даже для такого привычного к оргиям района, как Ред-Хук. Однако на судебном слушании Суидему удалось отстоять свою свободу. В зале суда он продемонстрировал изящные манеры, ясную, убедительную речь и без труда разъяснил странности своего поведения и необычность высказываний глубокой погруженностью в своеобразное научное исследование. Он утверждал, что в последнее время занимается исследованием некоторых аспектов европейской культуры, для чего требуется тесное общение с различными группами иностранцев, а также непосредственное ознакомление с народными песнями и танцами. Что же до нелепого предположения, что на его деньги содержится некое примитивное тайное общество, — оно лишь показывает, с каким ему приходится сталкиваться отношением к нему и его исследованиям. Благодаря этим спокойным и обстоятельным объяснениям вердикт суда оказался в его пользу, и он удалился с гордостью и достоинством, чего нельзя было сказать о пристыженных частных детективах, нанятых Суидемами, Корлеарами и Ван Брунтами.
Вот тогда-то к делу и подключились федеральные агенты и полицейские детективы, в числе которых оказался Мелоун. Органы правопорядка присматривались к деятельности Суидема со все возрастающим интересом и уже не раз приходили на помощь частным детективам. В результате такого сотрудничества было установлено, что новые знакомые Суидема относятся к числу самых отъявленных и закоренелых преступников темных закоулков Ред-Хука и что по меньшей мере треть из них неоднократно привлекались за воровство, хулиганство и ввоз нелегальных эмигрантов. Пожалуй, не будет сильным преувеличением сказать, что круг лиц, в котором ныне вращался пожилой ученый, включал в себя одну из самых опасных преступных группировок, промышлявшую контрабандой живого товара, в основном безродных азиатских иммигрантов, которых благоразумно заворачивали назад на Эллис-Айленде. В перенаселенных трущобах квартала, в те времена называвшегося Паркер-Плейс, где располагались полуподвальные апартаменты Суидема, образовалась весьма необычная колония никому неведомого узкоглазого народа, использующего арабский алфавит, родство с которым отрицалось всеми сирийцами, проживавшими на Атлантик-авеню и соседних улицах. Вероятно, что всех их следовало бы депортировать ввиду отсутствия удостоверений личности, но машина исполнительной власти прокручивается медленно и старается не тревожить лишний раз Ред-Хук, если к тому не принуждает общественное мнение.
Все эти странные личности устраивали собрания в полуразвалившейся каменной церкви, по средам используемой в качестве танцевального зала, готические контрфорсы которой украшали самую отвратительную часть портового квартала. Номинально она считалась католической, но все бруклинские священники единогласно отрицали ее принадлежность к христианству, что подтверждали и сотрудники полиции, дежурившие в этом районе по ночам и не раз слышавшие доносившиеся из ее недр странные звуки. Мелоуну, когда он стоял возле этой церкви, пустой и неосвещенной, показалось, что он слышит зловещие басовые ноты установленного в каком-то тайном подземном помещении расстроенного органа, другие же докладывали о жутких воплях и барабанном бое, сопровождающем таинственные службы. Давая по этому поводу пояснения в суде, Суидем заявил, что, по его мнению, эти не совсем обычные ритуалы представляют собой обряды несторианской церкви с примесью тибетского шаманства. Он полагал, что большинство участников этих сборищ относились к монголоидной расе и происходят из Курдистана и ближайших окрестностей — и Мелоун не мог не вспомнить, что Курдистан — место обитания йезидов, последних уцелевших персидских дьяволопоклонников. Как бы там ни было, в ходе расследования дела Суидема оказалось установлено, что волна нелегальных иммигрантов захлестнула Ред-Хук; при активном содействии контрабандистов и по недосмотру таможенников и портовой полиции они уже заселили Паркер-Плейс и заселяют кварталы выше, поскольку вновь прибывшим азиатам помогают их уже успевшие обжиться в новых условиях собратья. Довольно характерные узкоглазые физиономии и приземистые фигуры, на которых современные американские наряды смотрелись гротесково, все чаще попадались в полицейских участках среди взятых с поличным на Боро-Холл воришек и налетчиков; и наконец было решено произвести их перепись, установить, откуда они прибывают и чем занимаются, и передать все это в ведение иммиграционных властей. Федеральная и городская полиция совместно поручили это дело Мелоуну, и вот тогда-то, начав изучение Ред-Хука, он почувствовал, что покачивается на краю бездны, имя которой — ужас, а противостоит ему неопрятный, жалкий на вид Роберт Суидем.
Глава 4
Методы работы полиции хитроумны и разнообразны. Мелоун, со скучающим видом бродя по улицам, через ненавязчивые беседы во время прогулки при «случайной» встрече, благодаря своевременно извлеченной из заднего кармана фляжке с крепким спиртным, а иногда и при суровом допросе перепуганного задержанного полицией узнал немало разрозненных фактов об организации, выглядящей все более угрожающей. Иммигранты оказались действительно курдами, однако говорили на неведомом современной лингвистике диалекте. Те немногие из них, что зарабатывали на пропитание честным трудом, в основном работали на подхвате в доках или торговцами всякой мелочью без лицензии, хотя их можно было увидеть и за плитой греческого ресторанчика, и в газетном киоске. Но большинство из них не имели никакой работы и очевидным образом были связаны с преступным миром; самыми безобидными из их занятий были контрабанда и бутлегерство. Все эмигранты прибывали на пароходах, трамповых сухогрузах, и безлунными ночами втихую переправлялись на шлюпках к какой-то пристани, от которой потайной канал вел в небольшое подземное озеро, расположенное под каким-то из домов. Мелоуну не удавалось узнать, что это были за пристань, канал и дом, поскольку у всех его собеседников сохранились лишь смутные воспоминания о своем прибытии, к тому же они излагали их на таком наречии, что даже лучшим переводчикам не всё удавалось интерпретировать. Непонятной оставалась и цель их прибытия сюда. На любые вопросы относительно их прежнего места обитания и об агентстве, предложившем им отправиться в плавание за океан, ответом было молчание. Однако стоило поинтересоваться, что же побудило их переселиться сюда, на лицах появлялось выражение неприкрытого ужаса. Такими же неразговорчивыми оказались и гангстеры других национальностей, и все, что удалось в конце концов узнать об этом, было смутными упоминаниями, что какой-то бог или великий жрец пообещал неслыханное могущество, сверхъестественные возможности и власть в чужой стране.
И вновь прибывшие иммигранты, и бывалые бандиты продолжали регулярно принимать участие в тщательно охраняемых ночных сборищах Суидема, а вскоре полиция узнала, что бывший отшельник арендовал еще несколько квартир, где можно было переночевать, если знаешь пароль; в совокупности эти жилища занимали целых три дома и служили пристанищем для странных друзей Суидема. В своем особняке во Флэтбуше он появлялся редко, в основном лишь затем, чтобы взять или положить обратно какую-нибудь книгу, а внешний облик старого голландца постепенно становился еще более диким. Мелоун дважды пытался поговорить с ним, но оба раза разговор заканчивался резким требованием убираться восвояси. Суидем утверждал, что ничего не знает ни о каких заговорах и организациях; понятия не имеет, откуда в Ред-Хуке берутся курды и зачем они здесь. Он занимается исключительно изучением в по возможности наиболее подходящей обстановке фольклора всех иммигрантов в этом районе, и к этой деятельности у полиции нет никаких претензий. Мелоун попытался польстить Суидему, отозвавшись с восхищением о его брошюре, посвященной Каббале и древним европейским мифам, но старик смягчился совсем ненадолго. Сами расспросы ему не нравились, и он недвусмысленно намекнул гостю, чтобы тот убирался куда подальше. Мелоун покинул его чрезвычайно раздраженный и решил обратиться к иным источникам информации.
Что удалось бы раскопать Мелоуну, если бы его работу над этим делом не прервали, теперь остается только догадываться. Случилось так, что глупый конфликт между городской и федеральной властью приостановил расследование на долгие месяцы, и Мелоун оказался занят другими делами. Но он не терял интереса к этому делу, и потому тоже был удивлен происходящей с Робертом Суидемом переменой. Как раз тогда, когда весь Нью-Йорк был взбудоражен прокатившейся по городу волной похищений детей и таинственных исчезновений, с неопрятным ученым произошла загадочная и удивительная метаморфоза. Однажды он был замечен возле Боро-Холл с чисто выбритым лицом, аккуратно подстриженными волосами и в безупречно подобранном костюме, и с тех пор с каждым днем он демонстрировал все большую утонченность вкуса. Вскоре у него появилась живость в глазах, речь стала более светской, он начал терять портивший его фигуру лишний вес. Обретя снова пружинистость походки, жизнерадостность манер и, как ни удивительно, более темный цвет волос, явно без использования красителей, он стал выглядеть гораздо моложе своих лет. Одеваться он стал все менее консервативно, и наконец просто сразил своих друзей тем, что отремонтировал и украсил свой особняк во Флэтбуше, а затем устроил серию приемов, приглашая на них всех, кого смог припомнить, проявляя особое внимание к своим полностью прощенным родственникам, не так давно пытавшимся объявить его недееспособным. Некоторые из гостей появились на приемах из любопытства, другие из чувства долга, но любезность и учтивость бывшего отшельника очаровала и тех, и других. Он заявил, что почти закончил работу всей своей жизни и недавно получил наследство от почти забытого друга из Европы, поэтому собирается провести остаток своих дней как более яркую вторую молодость, ставшую возможной благодаря материальному благополучию, тщательному уходу за собой и диете. Его все реже видели в Ред-Хуке и все чаще в том обществе, для которого он был предназначен от рождения. Полицейские отметили, что бандиты, ранее собиравшиеся в полуподвальном помещении на Паркер-Плейс, теперь устраивают сборища в старой каменной церкви, используемой иногда в качестве танцевального зала, но и старый адрес не совсем забыт: там и в ближайших домах по-прежнему бурлит всяческая нечистая деятельность.
Затем случились два вроде бы ничем не связанных между собой, но очень важных с точки зрения Мелоуна события. Первое — формальное объявление в «Игл» о помолвке Роберта Суидема и проживающей в Бейсайде мисс Корнелии Герритсен, дальней родственницы новоиспеченного жениха, молодой дамы, вращающейся в самых высших слоях общества; второе — полицейский рейд в старую церковь, служившую танцевальным залом, после того как кто-то сообщил, что видел в одном из полуподвальных окон здания лицо похищенного ребенка. Мелоун, принимавший участие в этом рейде, воспользовался случаем и внимательно изучил внутреннюю обстановку церкви. Найти ничего не удалось — более того, в здании вообще никого не оказалось, — но обостренное эстетическое восприятие кельта не могло не среагировать на некоторые довольно подозрительные, крайне неуместные в церкви вещи. Его покоробили грубые росписи на панно на стенах — на этих панно у лиц святых были такие мирские и сардонические выражения, что, пожалуй, не понравились бы любому мирянину. Да и греческая надпись на стене над кафедрой проповедника вызывала в нем не самые приятные ассоциации — это было древнее колдовское заклинание, попадавшееся ему еще в те времена, когда он учился в дублинском колледже, означавшее в буквальном переводе следующее:
«О друг и товарищ ночи, ты, восторгающийся собачьим лаем и льющейся кровью, крадущийся в тени надгробий, забирающий кровь и приносящий смертным ужас, Горго, Мормо, тысячеликая луна, обрати благосклонный взгляд на наши скромные подношения!»
Прочитав эту надпись, он вздрогнул и вспомнил звуки расстроенного органа, доносившиеся по ночам откуда-то из-под этой церкви. Он вздрогнул еще раз, когда, обследуя алтарь, он обнаружил металлическую чашу, по краю которой проходила темная, похожая на ржавчину полоска, и в этот момент ему в нос ударила удушливая волна смрада, налетевшая невесть откуда, из-за чего он на несколько секунд застыл на месте от ужаса и отвращения. Память о звуках органа не давала Мелоуну покоя, и он внимательно осмотрел все подвальные помещения, но так ничего и нашел. Это место казалось ему крайне неприятным, но ведь, в конце концов, богохульные панно и надпись — всего лишь грубые творения невежд.
Ко времени свадьбы Суидема похищения детей стали настоящей эпидемией и постоянной темой первых газетных полос. Почти все жертвы этих странных преступлений были из беднейших семей, но все возрастающее число исчезновений вызвало у общественности сильнейшую ярость. Газетные заголовки призывали полицию к решительным действиям, и с полицейского участка на Батлер-стрит снова устроили рейд в Ред-Хук для поиска возможных улик и поимки потенциальных преступников. Мелоун обрадовался возможности вернуться к прежнему делу и с готовностью поучаствовал в осмотре одного из домов Суидема на Паркер-Плейс. Похищенных детей там, конечно, не нашли, несмотря на сообщения о доносившихся из дома криках и найденном на заднем дворе маленьком шарфике; но грубая роспись и надписи на облупившихся стенах почти во всех комнатах, а также примитивная химическая лаборатория в мансарде утвердили Мелоуна во мнении, что он на пути к какой-то важной тайне. Мазня на стенах была устрашающего вида — самые разнообразные чудовища и неописуемые пародии на человеческие тела. Многочисленные надписи были нанесены чем-то красным и представляли собою смесь арабских, греческих, латинских и древнееврейских букв. Мелоун не смог толком разобраться ни в одной из надписей, но то, что уловил, было зловеще каббалистическим. Несколько раз повторявшаяся надпись, смесь греческого и древнегреческого, представляла собой самое страшное взывание к демонам времен упадка Александрии:
«HEL · HELOYM · SOTHER · EMMANVEL · SABAOTH · AGLA · TETRAGRAMMATON · AGYROS · OTHEOS · ISCHYROS · ATHANATOS · IEHOVA · VA · ADONAI · SADAY · HOMOVSION · MESSIAS · ESCHEREHEYE».
Круги и пентаграммы, встречавшиеся здесь повсеместно, недвусмысленно указывали, кому поклоняются обитатели этого запущенного жилища. В подвале этого дома полицейские обнаружили нечто совершенно невообразимое: груду самых настоящих золотых слитков, небрежно накрытую куском мешковины, блестящую поверхность которых украшали такие же загадочные надписи, что были на стенах. Во время этого рейда полиции не пришлось столкнуться со сколько-нибудь заметным сопротивлением: узкоглазые азиаты, которых оказалось здесь неисчислимое количество, толпились у каждой двери, но вели себя довольно пассивно. Не найдя никаких интересовавших ее улик, полиция ничего не изъяла и никого не задержала, но отвечающий за эту территорию капитан послал позднее записку Суидему, в которой рекомендовал ему быть более разборчивым в отношении своих жильцов и протеже ввиду нарастающего протеста общественности.
Глава 5
В июне случилась свадьба и великая сенсация. Через час после полудня Флэтбуш блистал праздничным убранством, а улицы возле старой голландской церкви были заполонены роскошными автомобилями, украшенными флажками. Никакое другое местное событие не могло затмить бракосочетание Суидема и Герритсен ни по величию, ни по размаху, и гости, сопровождавшие новобрачных к пристани «Кунарда», если и не были сливками нью-йоркского светского общества, то по меньшей мере занимали в нем значимое положение. В пять часов дня, после прощального махания руками, тяжелый лайнер медленно отчалил от длинного пирса и, развернувшись носом на восток, двинулся в океан, к чудесам Старого Света. Вечером над нью-йоркской гаванью не было ни облачка, и пассажиры лайнера имели возможность полюбоваться на звезды над незагрязненным океаном.
Сейчас уже никто не сможет сказать, что первым нарушило спокойствие на судне: гудок догоняющего их сухогруза или жуткий вопль, донесшийся из одной из кают. Возможно, они прозвучали одновременно, но сейчас это уже совершенно не важно. Крик донесся из каюты Суидема; матрос, высадивший дверь этой каюты, вероятно, мог бы рассказать, какие ужасы там увидел, если бы не сошел немедленно с ума и вопил после этого громче, чем первые жертвы, а потом носился по палубе, пока его не поймали и не приковали. Корабельный врач, вошедший в каюту минутой позже и включивший свет, не сошел с ума, но никому не рассказывал об увиденном до того момента, как отправил отчет об этом происшествии Мелоуну в Чепачет. В каюте, без сомнения, произошло убийство, однако несомненно, что к нему не был причастен ни один человек, о чем свидетельствовали глубокие следы когтей на шее миссис Суидем, которые не могли быть оставлены рукой ее супруга, да и вообще никакой человеческой рукой. На белой стене каюты некоторое время мигала кроваво-красная надпись, восстановленная впоследствии доктором по памяти, представлявшая собой записанное халдейскими буквами слово «ЛИЛИТ». Умолчать о надписи было просто: через несколько минут она пропала без следа; что же касается самих жертв, врач поспешил запереть каюту с намерением никого туда не впускать. Описывая впоследствии эти события, доктор особо отметил Мелоуну, что не видел ЭТО. Иллюминатор каюты был открыт, и за секунду до того, как доктор включил свет, он заметил в нем какое-то фосфоресцирующее свечение, сопровождавшееся, казалось, отголоском дьявольского глумливого смешка, но ничего более определенного не увидел. Доказательство этому, как утверждал доктор, — то, что он не спятил.
Несколько минут спустя все внимание оказалось обращено на подошедший вплотную сухогруз. С него была спущена шлюпка, и вскоре толпа темнокожих и наглых бандитов, облаченных в потрепанную форму моряков, забралась на борт лайнера компании «Кунард». Вновь прибывшие тут же потребовали выдать им Суидема или его тело — они знали, что он отправился в путешествие, и по какой-то причине были уверены, что он умрет. На капитанском мостике в этот момент было полное смятение; два таких события, как доклад перепуганного доктора об увиденном им в каюте и последовавшее тут же дикое требование наглых грубиянов, могли поставить в тупик и мудрейшего из мудрецов. Видя нерешительность капитана, предводитель назойливых визитеров, араб с негроидными вывороченными губами, протянул ему грязный и помятый листок бумаги. В записке, подписанной Робертом Суидемом, и содержалось следующее загадочное сообщение:
«При внезапном или необъяснимом несчастном случае или смерти с моей стороны прошу беспрекословно передать меня или мое тело подателю сего и сопровождающим его лицам. От выполнения этого требования полностью зависит моя, а может быть, и ваша дальнейшая судьба. Все объяснения будут даны позже, а пока прошу лишь исполнить мою волю!
Роберт Суидем».
Капитан и доктор обменялись взглядами, и последний что-то прошептал ему на ухо. После чего оба беспомощно пожали плечами и повели непрошеных гостей к каюте Суидема. Отпирая дверь каюты, доктор посоветовал капитану не заглядывать внутрь, и сам свободно вздохнул только после того, как все эти странные моряки, после необъяснимо долгого периода подготовки, двинулись наружу, унося на плечах плотно завернутое в простыню тело. Доктор порадовался, что оно обвернуто так, что контуры не проступают, и что им хватило ловкости не уронить его по дороге к ожидавшей их возле борта шлюпке. Лайнер «Кунард» взял прежний курс, а доктор с корабельным гробовщиком отправились в каюту Суидема, чтобы оказать последние услуги остававшейся там мертвой женщине. Снова врачу пришлось прибегнуть к сокрытию фактов и даже к прямой лжи, поскольку вскрылось еще одно ужасное обстоятельство. Когда гробовщик поинтересовался, для чего доктор выпустил всю до последней капли кровь из тела миссис Суидем, тот не признался, что не имел ни малейшего отношения к этому злодеянию, как и не стал обращать внимание своего спутника на пустые ячейки в стойке для бутылок и на резкий запах спиртного из слива умывальника, куда, несомненно, и было вылито их изначальное содержимое. Доктор припомнил, что карманы тех людей — если они вообще были людьми — по дороге обратно к шлюпке заметно оттопыривались. Два часа спустя на берег была отправлена радиограмма, извещающая мир о том, что ему полагалось знать об этой трагедии.
Глава 6
В тот самый июньский вечер Мелоун, еще не знавший ничего о происшествии на судне, носился по охваченным возбуждением узким улочкам Ред-Хука. Район возбужденно бурлил, как будто «сарафанное радио» передало сигнал тревоги, местные жители собирались толпами возле старой церкви, служившей танцевальным залом, и зданий на Паркер-Плейс. Совсем недавно исчезли сразу три ребенка — дети голубоглазых норвежцев, населявших бруклинский район Гованус, и в толпе поползли слухи, что разъяренные викинги формируют ополчение. Мелоун уже несколько недель пытался убедить начальство в необходимости навести порядок в здешних местах, и наконец, под давлением обстоятельств, более убедительных для них, чем домыслы дублинского мечтателя, руководство городской полиции все-таки решилось на проведение общей облавы. Накаленная обстановка, сложившаяся в Ред-Хуке в тот вечер, ускорила события, и около полуночи сводный отряд из сотрудников трех близлежащих полицейских участков окружил Паркер-Плейс и прилегающие улицы. Полиция стучала в двери, задерживала всех подозрительных лиц, и освещаемые свечами комнаты исторгли невероятное количество иностранцев в диковинных одеждах, носящих митры и другие ритуальные костюмы. В общей суматохе очень много улик было утрачено, ибо арестованные успевали выбросить какие-то предметы в неожиданно обнаружившиеся колодцы, а запахи уничтожались поспешно примененными благовониями. Но повсюду была разбрызгана кровь, и Мелоун содрогался от отвращения всякий раз, когда находили очередной алтарь с еще идущим от жаровни дымком.
Ему хотелось успеть сразу повсюду, но после того, как ему сообщили о том, что старинная церковь, служившая иногда танцевальным залом, пуста, он тут же направился к полуподвальной квартире Суидема на Паркер-Плейс. Он надеялся, что сможет найти там ключ, позволяющий проникнуть в самое сердце таинственного культа, центральной фигурой которого, теперь это уже не вызывало сомнений, был пожилой ученый-мистик. С таким предвкушением он рылся в сырых, затхлых комнатах, пролистывал диковинные древние книги, рассматривал странные приборы, золотые слитки и небрежно расставленные где попало пузырьки, закупоренные стеклянными пробками. Пока он занимался этим, под ногами у него начал виться тощий, черный с белыми пятнами кот, и Мелоун, споткнувшись, сбил стоявшую на полу мензурку с какой-то темно-красной жидкостью. Его это здорово напугало, он и по сей день не уверен, что именно увидел тогда; иногда он снова видит во сне, как кот, удирая, превращается на ходу в какое-то чудовище. Затем он наткнулся на запертую дверь подвала и принялся искать, чем бы ее выбить. Неподалеку нашелся тяжелый табурет, и ветхая дверь не устояла под ударами его основательного сиденья. По ней пошла трещина, а затем она рухнула вся целиком — но под давлением с другой стороны; оттуда дунуло ледяным ветром, пропитанным зловонием ада; этот ветер обвил парализованного страхом детектива ледяными кольцами и потянул через порог подвала вниз, в необъятное сумеречное пространство, наполненное шепотами, криками и взрывами глумливого смеха.
Конечно, ему это всего лишь привиделось. Так уверяли все врачи, и ему нечего было им возразить. Конечно, для него самого было бы лучше поверить им, тогда старые кирпичные трущобы и смуглые лица иностранцев не повергали бы его в такой ужас. Но в тот момент это было абсолютно реально, и никакая сила на свете не может вытравить из его памяти те мрачные подземные склепы, гигантские аркады и бесформенные тени адских тварей, беззвучно проходящих мимо, сжимая в когтях полуобглоданных, но все еще живых жертв, молящих о пощаде или издающих безумные смешки. Аромат благовоний смешивался с запахом гниения, и во мраке, пропитанном этим тошнотворным сочетанием, копошились бесформенные сущности, обладающие глазами. Где-то там темные маслянистые волны бились об ониксовую пристань, и в какой-то момент в их мерный шум вплелся звонкий дребезг серебряных колокольчиков, приветствовавший голую и фосфоресцирующую, которая, идиотски хихикая, выплыла из клубившегося над водой тумана, выбралась на берег и забралась на стоящий чуть поодаль резной золотой пьедестал, где и уселась на корточки, с ухмылкой поглядывая по сторонам.
Отсюда во все стороны расходились туннели кромешного мрака, так что вполне можно было предположить, что именно в этом месте пустила корень ужасная зараза, которая в определенный час расползется по всему свету и поглотит города и целые страны. Здесь укрепился космический грех, здесь он гноился благодаря нечестивым ритуалам, прорвался, как нарыв, готовясь возглавить процессию смерти, которая должна была обратить всех живущих на земле в гниющую плесень, недостойную захоронения. Здесь расположился вавилонский двор сатаны, и в непорочной детской крови омывала свои пораженные проказой ноги фосфоресцирующая Лилит. Выли инкубы и суккубы, вознося хвалу Гекате, и блеяли в честь Великой Матери безголовые придурки. Козлы плясали под гнусавую мелодию флейт, а эгипаны, оседлав прыгавшие словно огромные лягушки валуны, гонялись за уродливыми фавнами. Конечно, не обошлось без Молоха и Астарты, ибо среди этой квинтэссенции всего проклятого границы человеческого сознания исчезали и взору представали все ипостаси зла и все его запретные аспекты, когда-либо являвшиеся или прозревавшиеся на земле. Мир и сама Природа оказывались бессильны противостоять натиску порождений ночи, рвущихся из отворенного колодца, и ни крест, ни молитва не были способны обуздать вальпургиев разгул ужасов, начавшийся из-за того, что мудрецу с ключом довелось случайно встретиться с ордой, получившей в наследство от предков сундук, наполненный демонической премудростью.
Внезапно этих фантомов пронзил луч света, и сквозь гвалт богомерзких тварей Мелоун расслышал плеск весел. Вскоре на мутной поверхности озера появилась лодка с фонарем на носу, спешно пришвартовалась у массивного кольца, вделанного в осклизлый булыжник причала, и изрыгнула группу темнокожих людей, тащивших на плечах что-то тяжелое, завернутое в простыню. Они бросили это у подножия резного золотого пьедестала с голой фосфоресцирующей тварью, и та довольно захихикала и тронула простыню лапой. Тогда вновь прибывшие развернули простыню и поставили перед ней полуразложившийся труп толстого старика с щетинистой бородкой и всклокоченными седыми волосами. Фосфоресцирующая тварь издала еще один идиотский смешок, и тогда эти люди достали из карманов какие-то бутыли и, окропив ее ноги наполнявшей их красной жидкостью, передали их твари, чтобы она могла из них выпить.
Внезапно из одного из уходящих вдаль туннелей стали доносится демонические звуки богохульного органа, играющего надтреснутым басом нечестивые пародии на гимны. Все вокруг тут же пришло в движение, словно подпитанное электричеством: козлы, сатиры, эгипаны, инкубы, суккубы, лемур, пародии на лягушек и бесформенные твари, ревущее чудовище с собачьей головой и еще одно, молчаливое, — все это кошмарное сборище выстроилось в своего рода процессию под предводительством отвратительной фосфоресцирующей твари, что прежде сидела, хихикая, на золотом троне, а теперь важно шествовала, держа в руках окоченевший труп дородного старика, в ту сторону, откуда доносились холодящие душу звуки. Странные темнокожие люди приплясывали в хвосте процессии, и вся колонна скакала и кривлялась в дионисийском исступлении. Мелоун сделал было несколько неуверенных шагов вслед за ними, не вполне сознавая, на каком он свете: на этом или на том. Затем он повернул в сторону и, дрожа и задыхаясь, повалился на мокрый холодный булыжник пристани; демонический орган продолжал хрипеть и квакать, а визг, вой и стук удаляющейся процессии становились тише.
До него приглушенно доносились обрывки непристойных песнопений и невнятное кваканье голосов. Время от времени вся компания принималась выть и стонать в богохульственном экстазе, но вскоре все эти звуки сменились мощным, исторгаемым из тысячи глоток речитативом, в котором Мелоун узнал греческое заклинание, записанное над кафедрой старой церкви, служащей танцевальным залом.
«О друг и товарищ ночи, ты, восторгающийся собачьим лаем (в этом месте сборище испустило мерзкий вой) и льющейся кровью (здесь последовали неподдающиеся описанию звуки вперемешку с душераздирающими воплями), крадущийся в тени надгробий (глубокий свистящий выдох), забирающий кровь и приносящий смертным ужас (короткие сдавленные вопли, исходящие из неисчислимого множества глоток), Горго (повторенное эхом), Мормо (повторенное в исступлении экстаза), тысячеликая луна (вздохи и мелодия флейты), обрати благосклонный взгляд на наши скромные подношения!»
Когда заклинание завершилось, все разразились криками, почти заглушив надтреснутое кваканье басов органа. Затем из бесчисленных глоток собравшихся там вырвался вопль восхищенного изумления, после чего все они выкрикнули, пролаяли и проблеяли слова: «Лилит, Великая Лилит, сё твой Жених!» Снова раздались вопли и гулко отдающиеся в туннеле звуки влажных шлепков, как если бы кто-то бежал по нему босиком. Эти звуки явно приближались, и Мелоун приподнялся на локте, чтобы увидеть бегущего.
Мрак этого подземелья немного рассеялся, и в дьявольском свете исходившего от стен призрачного свечения глаза Мелоуна углядели силуэт бегущего по туннелю существа, которое по всем законам Божьим не могло ни бегать, ни чувствовать, ни дышать — полуразложившийся труп старика с остекленевшими глазами, не нуждающийся теперь в поддержке, оживленный дьявольским воздействием только что проведенного ритуала. За ним гналась голая фосфоресцирующая тварь, прежде сидевшая на резном пьедестале, за ней, тяжело дыша, едва поспевали смуглые люди с лодки, а за ними — вся остальная омерзительная компания. Труп пытался оторваться от своих преследователей, напрягая каждый прогнивший мускул, явно торопясь к резному золотому пьедесталу, обладавшему, очевидно, неудержимо влекущей магической силой. В следующий момент он достиг своей цели, при виде чего догоняющая его толпа взвыла и прибавила скорости. Но они опоздали, поскольку, собрав последние силы, труп того, кто был некогда Робертом Суидемом, мощным рывком, от которого некоторые сухожилия лопнули и некоторые части его тела студенистой массой упали на пол, одолел последние несколько метров, отделявшие его от пьедестала, и со всего размаха налетел на предмет, к которому стремился. От этого удара все тело честолюбца лопнуло и обратилось в бесформенную массу, а сам пьедестал наклонился, побалансировал немного на краю пристани и соскользнул со своего ониксового основания в мутные воды озера; блеснув на прощание золотом, он отправился в немыслимую бездну нижнего Тартара. В следующий момент все вокруг содрогнулось в громовом раскате, милосердная тьма сокрыла от взора Мелоуна уничтожение окружающей его вселенной, и он потерял сознание.
Глава 7
Видение Мелоуна, не подозревавшего о смерти Суидема и передаче его тела странным морякам, имеет удивительные совпадения с обстоятельствами его смерти. Впрочем, это еще не значит, что его надо воспринимать всерьез. Во время этого рейда без всякой видимой причины обрушились три старых, давно прогнивших до основания дома на Паркер-Плейс, погребя под собой половину участвовавших в операции полицейских и большую часть задержанных. Спастись удалось лишь тем, кто в момент обрушения находился в подвале, и Мелоуну повезло оказаться в самом глубоком подземелье под домом Суидема. Никто не может отрицать, что он действительно был там. Его нашли в состоянии глубокого обморока на берегу черного как деготь водоема рядом с разлагающейся массой плоти и костей, по работе дантиста опознанной как тело Роберта Суидема. С точки зрения властей все было очень просто: сюда вел подземный канал контрабандистов, которые остановили лайнер, забрали тело Суидема и доставили его домой. Правда, самих этих контрабандистов не нашли — во всяком случае, среди найденных тел похожих не оказалось; да и судовой врач не очень верит в это простое объяснение.
Судя по всему, Суидем возглавлял довольно разветвленную организацию контрабандистов, так как ведущий к его дому туннель был частью густой сети подземных каналов и туннелей, пронизывающей всю округу. Один из таких туннелей соединял его дом с огромным подземным залом под старой церковью, куда из последней можно было попасть лишь через узкий потайной проход, имевшийся в северной стене. В этом зале были найдены странные и весьма необычные предметы, в том числе расстроенный орган, длинные ряды скамеек и алтарь странной формы. Здесь также имелись тесные кельи, к которым вели очень узкие проходы, и в семнадцати из них были обнаружены скованные по рукам и ногам узники, пребывавшие в состоянии полного умопомрачения; среди них оказались четыре женщины с новорожденными младенцами странного вида. Все младенцы умерли вскоре после того, как их вынесли на свет, и врачи сочли это обстоятельство милосердным. Однако из видевших их никто, кроме Мелоуна, не вспомнил мрачный вопрос старика Дельрио: «An sint unquam daemones incubi et succubae, et an ex tali congressu proles nasci queat?»
Прежде чем засыпать подземные каналы, их осушили и тщательно обследовали дно. Было обнаружено огромное количество костных обломков различной величины. Стало очевидно, что именно отсюда исходила зловещая эпидемия похищений детей, будоражившая весь город; хотя только двое из выживших задержанных могли иметь к этому отношение. Сейчас они пребывают в тюрьме, поскольку не было найдено прямых доказательств их участия в убийствах. Резной золотой пьедестал или трон, представлявший собой, по словам Мелоуна, первостепенную важность для членов мерзкой секты убийц, найти так и не удалось. Правда, в одном месте под домом Суидема оказалась слишком глубокая впадина для осушения. Ее жерло закупорили и залили сверху бетоном, чтобы оно не мешало закладке фундаментов новых домов, но Мелоун иногда задумывается над тем, что же находится в ее глубине. Полиция, довольная тем, что удалось разгромить опасную банду религиозных маньяков и контрабандистов, передала федеральным властям тех курдов, что оказались непричастными к преступным деяниям, и при депортации их попутно выяснилось, что все они йезиды-дьяволопоклонники. Сухогруз и его смуглая команда так и остались неуловимой тайной, хотя циничные сыщики заверяют, что всегда готовы достойно встретить этих контрабандистов. Мелоун же полагает, что они тем самым демонстрируют ограниченность своего кругозора, не проявляя интереса к бесчисленному количеству необъяснимых улик под самым их носом и наводящим на размышления мрачным обстоятельствам этого дела; столь же критически он настроен и по отношению к газетам — они увидели в этом деле только сенсацию и смаковали подробности мелкого садистского культа, тогда как могли бы обратить внимание публики на кошмар, поражающий сердце вселенной. Но он смирился со спокойным отдыхом в Чепачете, успокаивающим расшатанную нервную систему, и надеялся, что со временем это вытеснится из случившегося в реальной жизни в область причудливого, невероятного вымысла.
Роберт Суидем покоится рядом со своей невестой на Гринвудском кладбище. Его останки зарыли в землю без обычной для таких случаев церемонии, а родственники молодоженов рады тому, что это происшествие постигло быстрое забвение. Причастность пожилого ученого к кошмарным убийствам не была доказана юридически: его смерть опередила расследование, которого, в противном случае, было бы не избежать. О кончине его в газетах почти не упоминалось, и родственники его надеются, что последующие поколения будут помнить о нем лишь как о тихом затворнике, баловавшемся безобидной магией и фольклором.
Что же касается самого Ред-Хука, то он нисколько не изменился. Суидем пришел и ушел; ужас сгустился и развеялся; но зловещий дух нищеты и убожества по-прежнему живет среди скопищ старых кирпичных домов, а группки молодых подонков все так же снуют под окнами, в которых время от времени внезапно появляются и исчезают странный свет и искаженные страхом лица. Сохраняющийся века ужас неистребим, как тысячеголовая гидра, а темные культы берут свои истоки в безднах святотатства, которые поглубже демокритова колодца. Дух зверя вездесущ и всегда побеждает, а потому горланящие и сыплющие ругательствами группки молодых людей с обезображенными оспинами лицами будут продолжать появляться в Ред-Хуке, ибо они движутся от бездны к бездне, не ведая, куда идут и откуда, движимые слепыми законами биологии, которых, вероятно, никогда не постигнут. Как и прежде, сегодня далеко не все, попадающие в Ред-Хук, возвращаются обратно по суше, и уже ходят слухи о новых подземных каналах, прорытых для контрабанды спиртного и для кое-чего другого, о чем лучше умолчать.
Старая церковь, иногда служившая танцевальным залом, теперь просто танцевальный зал, но по ночам за ее окнами иногда мелькают странные лица. Недавно полиция заподозрила, что засыпанный подземный зал раскопан и снова используется для неведомых целей. Но кто мы такие, чтобы сражаться со злом, более древним, чем само человечество? Обезьяны в Азии совершали ритуалы, чтобы умилостивить его, и оно проявляется, подобно раковой опухоли, везде, где в кирпичных домах заводится сырость.
Мелоун вздрагивает от страха вовсе не без причины: на днях один из патрульных полицейских слышал, как в подворотне смуглая косоглазая ведьма учила девочку какому-то распеву на своем наречии. Ему показалось странным, что они повторяли много раз одно и то же: «О друг и товарищ ночи, ты, восторгающийся собачьим лаем и льющейся кровью, крадущийся в тени надгробий, забирающий кровь и приносящий смертным ужас, Горго, Мормо, тысячеликая луна, обрати благосклонный взгляд на наши скромные подношения!»
СТРАННЫЙ ДОМ В ТУМАНЕ НА ВЕРШИНЕ ГОРЫ
К северу от архаического Кингспорта карабкаются к небу высокие и необычные с виду утесы, громоздя друг на друга террасу за террасой, пока самый северный из них не повисает в небе замерзшим серым облаком. Одинокая безрадостная вершина вонзается в бесконечное пространство, ибо там берег резко поворачивает в месте, где великая река Мискатоник вытекает из распростершихся за Аркхемом равнин, принося с собой лесные легенды и коротенькие, но необычайные воспоминания холмов Новой Англии. Мореходы Кингспорта взирают снизу вверх на этот утес, как мореходы прочих краев на полярную звезду, и отмеряют ночные вахты по тому, как он закрывает и потом открывает созвездия Большой Медведицы, Кассиопеи и Дракона. Среди звезд он на равных присутствует на тверди небесной, хотя и скрывается, когда туман укутывает звезды или солнце.
Некоторые из утесов мореходы любят, как тот причудливый камень, который именуют Нептуном-батюшкой, или тот, чьи столповидные ступени называют Мощеной Дорогой; но вот этого они опасаются — потому что он так близок к небу. Приближающиеся к берегу португальские моряки, завидев его, осеняют себя крестным знамением, a старики-янки твердо уверены в том, что подняться на него можно только ценой жизни, если таковое вообще возможно. Тем не менее на вершине утеса находится старинный дом, и вечерами люди видят огни за мелкими переплетами окон.
Дом сей находился здесь всегда, и как говорили люди, в нем обитал Тот, кто беседует с утренними туманами, поднимающимися из глубин, и, быть может, видит необычайные вещи в океане в те мгновения, когда кромка утеса становится краем всей земли и торжественные колокола бакенов вызванивают в белом неземном эфире. Так говорят они понаслышке, ибо на сем запретном утесе никого не бывает, a местные жители не любят наводить на него свои подзорные трубы. Летние гости-дачники, впрочем, исследовали его через собственные не знающие опаски бинокли, но никогда не видели ничего другого, кроме старинной, крытой седой дранкой островерхой кровли, карнизы которой спускаются почти до серого фундамента, и тусклых желтых огоньков в крохотных окошках, в сумерки выглядывающих из-под карнизов. Летние жильцы эти не верят в то, что Тот обитает в этом древнем доме уже сотни лет, однако не способны убедить в своей ереси ни одного природного жителя Кингспорта. Даже Жуткий Старец, беседующий со свинцовыми маятниками в бутылках, оплачивающий свой провиант столетней давности испанскими золотыми и хранящий каменных идолов во дворе своего допотопного дома на Водной улице, может сказать на сей счет лишь то, что так было уже, когда его дед был мальчишкой, то есть в непостижимой древности, когда губернатором Его Величества провинции Массачусетс-бей был то ли Белчер, то ли Ширли, то ли Паунолл, то ли Бернард.
Но однажды летом в Кингспорт прибыл философ. Звали его Томасом Олни, и он преподавал нудные предметы в колледже возле Наррангасет-бей. Прибыл он с дородной женой и резвыми ребятишками, утомленный лицезрением одного и того же в течение многих лет и обдумыванием одних и тех же старательно вышколенных мыслей. Он взирал на туманы от венца Нептуна-батюшки и пытался войти в мир их белых тайн по титаническим ступеням Мощеной Дороги. Утро за утром проводил он, возлежа на утесах и заглядывая за кромку мира, тающую в непостижимом эфире, внимая призрачным колоколам и диким крикам — вполне возможно, что просто чаек. Позже, когда туман рассеивался и перед глазами его оказывалось прозаическое море с дымками пароходов, он вздыхал и спускался в город, в котором любил бродить по старинным узеньким улочкам, спускающимся с холмов и поднимающимся на другие холмы, исследуя попутно великолепные, но ветхие щипцы и необычайные стойки дверей, за которыми укрывались от непогоды столько поколений крепкого морского народа. Он даже разговаривал с Жутким Старцем, не испытывавшим симпатии к чужакам, и даже заслужил приглашение в его жутко древний домишко, в котором низкие потолки и источенные древоточцем панели насквозь пропитались отголосками беспокойных монологов, произносимых в темные полуночные часы.
Вполне естественным и неизбежным образом Олни заметил находящийся в небе над головой серый дом, в котором не бывает гостей, вросший в землю на том самом утесе, что сливается воедино с туманами и с твердью небесной. Всегда этот дом возвышался над Кингспортом, и о тайне его всегда перешептывались на кривых улочках этого города.
Жуткий Старец прохрипел историю, которую слышал от собственного отца: как однажды ночью молния ударила из этого домика ввысь, в облака высокого неба; a Бабуся Орн, чей крохотный домишко под мансардной крышей на Корабельной улице доверху зарос мхом и плющом, проворчала, что, дескать, ее бабушка рассказывала ей с чужих слов о силуэтах, хлопая крыльями влетавших из восточных туманов прямо в узкую дверь сего недостижимого места, ибо дверь та обращена к океану и настолько близка к краю утеса, что ее видно только с находящихся в море кораблей.
Наконец, устремившись к новому для себя и непознанному, не находя препон в виде страха кингспортцев и обычной для летних дачников лени, Олни пришел к жуткому решению. Вопреки консервативному образованию, a может быть, и благодаря ему, ибо скучная жизнь порождает томительное стремление к неизвестному, он принес великую клятву подняться на северный заповедный утес и побывать в необычайно древнем сером доме у подножия неба. Вполне понятным образом здравая часть его души твердила, что домик этот населен жильцами, которые попадают в него со стороны суши более легким путем: по гребню, вытянувшемуся вдоль эстуария Мискатоника. Возможно, они работают в Аркхеме, зная, насколько мало в Кингспорте любят их место жительства, или просто потому, что не могут одолеть склон со стороны этого города. Олни прошел вдоль малых скал до того места, где великий утес надменно вздымался ввысь, сочетаясь с предметами небесными, и вполне убедился в том, что ни одна человеческая нога не способна ни спуститься, ни подняться по нависающему южному его склону. На востоке и севере утес на тысячи футов перпендикулярно поднимался из воды, так что доступной могла оказаться только его западная сторона, обращенная к суше и Аркхему.
Итак, однажды августовским утром Олни отправился искать путь к недоступной вершине. Он шел на северо-запад по проселочным сельским дорогам, мимо Хуперова Пруда и старого кирпичного порохового заводика к пастбищам, поднимающимся к гребню над берегом Мискатоника, откуда открывается очаровательный вид на белые георгианские шпили Аркхема, поднимающиеся за лигами лугов и воды. Здесь он обнаружил уводящую в Аркхем тенистую дорогу, однако так и не обрел нужной ему тропы, ведущей в сторону моря. Леса и поля теснились к высокому берегу над речным устьем, не обнаруживая никаких признаков человеческого присутствия; вокруг не было даже каменной изгороди или отбившейся от стада коровы, — лишь высокая трава, великанские деревья и чащобы колючих кустарников, которые могли видеть еще первые из индейцев. Неторопливо поднимаясь к востоку, оказываясь все выше и выше над эстуарием и все ближе и ближе к морю, он обнаружил, что путь дается ему со все большим, и большим, и большим трудом, и подивился тому, как обитатели этого немилого места ухитрялись сообщаться с внешним миром, и решил, что даже на рынке в Аркхеме они бывают нечасто.
Потом деревья вокруг поредели, и далеко внизу под собой он заметил холмы, старинные крыши и шпили Кингспорта. С такой высоты казалась гномом даже Центральная Горка, и он различил очертания древнего кладбища возле Конгрегационалистского Госпиталя, под которым, согласно молве, существовали некие ужасные пещеры или ходы. Впереди тянулись заросли травы и кустиков черники, a за ними на голой скале уже маячил тонкий гребень крыши страшного серого коттеджа. Здесь гребень скалы сужался, и у Олни начинала кружиться голова от собственного одиночества в небе над пропастью, обрывавшейся к югу над Кингспортом, и над вертикальным обрывом, почти на милю возвышавшимся на севере над устьем Мискатоника. Вдруг перед ним появилась глубокая, в десять футов расселина, так что ему пришлось с помощью рук спуститься вниз на наклонное дно, a затем не без труда и риска вскарабкаться на природный откос на противоположной ее стороне. Так вот как совершают свой путь между землей и небом жители этого зловещего дома!
Когда он выбрался из расселины, еще собирался утренний туман, однако впереди были отчетливо видны высокие стены обители порока, серые словно скала; и высокий конек отважно вонзался в молочную белизну морского тумана. Тут он заметил, что в обращенной к суше стороне дома нет никакой двери, только маячит пара мрачных решетчатых окошек, застекленных круглыми панелями на манер окон семнадцатого века. Вокруг него царил облачный хаос, и Олни ничего не видел за пределами белого безграничного пространства. Он остался один в небе перед сим странным и смущающим душу домом; и когда, бочком, украдкой подобравшись к передней части дома, заметил, что стена стоит вровень с краем утеса, так что к единственной узкой двери можно было добраться только из пустого эфира, ощутил укол такого ужаса, который нельзя было полностью объяснить одним положением двери. Крайне странным было уже и то, что столь источенная дранка еще лежит на крыше и изъеденный непогодой кирпич еще способен сохранять форму трубы.
Туман сгущался, и Олни попробовал подобраться к окнам на северной, западной и южной сторонах дома, однако все они оказались запертыми. И он был отчасти рад тому, что они заперты, ибо чем более осматривал этот дом, тем менее ему хотелось попасть внутрь. Тут его приковал к месту звук. Брякнул замок, скрипнул засов и послышался долгий скрежет, как если бы кто-то долго и с опаской открывал тяжелую дверь. Звук раздался на невидимой для Олни, обращенной к океану стороне дома, где узкий портал открывался в тысячах футов над волнами туманного моря.
Потом внутри дома раздалась тяжелая, целеустремленная поступь, и Олни услышал, как открываются окна, сперва напротив обращенной к нему северной стороны дома, a потом на западной, как раз за углом. Далее последовали южные окна, под длинными и низкими карнизами, возле которых он стоял; и следует отметить, что ему стало более чем неуютно при мысли о том, что по одну сторону от него находится отвратительный дом, а по другую — зияет пустота. Когда застучали ближайшие к нему оконные створки, Олни снова перебрался на западную сторону, припав к стене возле уже открытых окон. Было очевидно, что хозяин дома вернулся домой, однако не по суше и не с помощью воздушного шара или любого мыслимого воздушного корабля. Шаги прозвучали снова, и Олни бочком скользнул на север; однако прежде чем он мог отыскать укромное местечко, прозвучал негромкий голос, и он понял, что встречи с хозяином дома уже не избежать.
Из западного окна выставилась широкая чернобородая физиономия, в глазах которой светился отпечаток зрелищ доселе незнаемых. Однако голос был мягок и отдавал непривычно старинным обращением, так что Олни не затрепетал, когда из окна высунулась загорелая рука, чтобы помочь ему перебраться через подоконник — в низкую комнату, обитую черными дубовыми панелями и обставленную резной тюдоровской мебелью. Человек этот был облачен в весьма древние одеяния, и его осенял не знающий места и времени ореол мореходных наук и высоких галеонов. Олни не запомнил многие из чудес, о которых поведал ему незнакомец; не запомнил он и того, кем был хозяин дома; однако говорил, что держался тот со странной любезностью, в которой ощущалась наполнявшая ее магия неизмеримых пучин пространства и времени. Небольшая комнатка была залита зеленым и неярким глубинным светом, и Олни заметил, что выходившие на восток окна не открыты, но отгорожены от туманного эфира тусклыми панелями, напоминавшими донца старых стеклянных бутылей.
Из того, что бородатый хозяин казался молодым, однако в глазах его светилось знание древних мистерий, a также из поведанных им повестей о чудесных древних предметах и тварях можно было догадаться, что деревенские правильно утверждали, что он общался с морскими туманами и небесными облаками все то время, пока внизу стояло селение, из которого, с нижней равнины, можно было наблюдать за его безмолвной обителью. День близился к концу, a Олни все слушал и слушал сказания о давних временах и краях далеких: о том, как короли Атлантиды боролись со скользкими богопротивными мерзостными тварями, полезшими из щелей в океанском дне, и о том, что многоколонный и заросший водорослями храм Посейдона до сих пор можно увидеть в полночь с борта сбившегося с пути корабля, и что увидевшие этот храм на таком корабле понимали, что обратно не выплыть. Хозяин вспомянул время Титанов, однако с большой сдержанностью повествовал о сумеречном первом веке хаоса, предшествовавшего богам и даже рождению Старших из них, и о том, когда другие боги явились, чтобы плясать на вершине Хатег-Кла, что высится в каменистой пустыне возле Ултара за рекой Скай.
В этот миг раздался стук в дверь — в древнюю, обитую гвоздям дубовую дверь, за которой лежала только бездна с белыми облаками в ней. Охваченный ужасом Олни вздрогнул, однако бородач жестом приказал ему оставаться на месте, а сам на цыпочках подошел к двери, чтобы заглянуть в крохотный глазок. Увиденное ему не понравилось, и потому он приложил палец к губам и на цыпочках пошел вокруг, закрывая и запирая все окна, прежде чем возвратиться на древнюю скамью возле Олни, который по очереди узрел в прозрачных квадратах каждого из крохотных подслеповатых окошек весьма причудливый черный силуэт нового гостя, из любопытства явно пустившегося вокруг дома, прежде чем отбыть восвояси, и возрадовался тому, что хозяин дома не впустил его, ответив на стук. Ибо странные твари существуют в великой бездне, и искателю видений следует постараться не растревожить нечистые и сомнительные.
А потом начали собираться тени; сперва чуточку смутные, под столом, а затем более смелые в темных уголках возле панелей. Тогда бородач произвел загадочные жесты молитвы и зажег высокие свечи в причудливой работы медных подсвечниках. При этом он часто поглядывал на дверь, словно бы ожидая кого-то, и наконец взгляду его ответил какой-то особый стук, видимо, следовавший какому-то весьма древнему и тайному коду. На сей раз он даже не заглядывал в глазок, но сразу отодвинул громадный дубовый засов и вынул болт, отперев тяжелую дверь и настежь распахнув ее перед звездами и туманом.
A затем под звуки забытых гармоний потекли в комнату из глубин все грезы и воспоминания Могущественных потонувшей земли. И золотые пламена играли на жидких локонах так, что ошеломленный Олни почтительно склонился перед ними. Тут был и Нептун со своим трезубцем, и спортивного вида тритоны с фантастическими нереидами, и на спинах дельфинов была пристроена огромная зубастая раковина, в которой ехал одновременно веселый и жуткий первобытный Ноденс, Владыка Серой Бездны. И таинственно вострубили тритоны, и загадочным образом вторили им нереиды, ударяя в причудливые звонкие раковины, неведомые людям хозяева которых обитают в черных подводных пещерах. А потом убеленный сединами Ноденс протянул свою морщинистую руку и принял Олни вместе со своей свитой в свою просторную раковину, под буйный и вселяющий трепет ропот раковин и гонгов. И в беспредельный эфир отправился этот сказочный поезд, звонкие голоса которого растворялись в раскатах грома.
Всю ночь из Кингспорта наблюдали за своим высоким утесом, когда позволяли это гроза и туманы, и когда чуть за полночь небольшие тусклые окошки погасли, за ними шептались об ужасе и несчастье. A дети Олни и его упитанная жена молились ласковому и благопристойному богу баптистов, и надеялись на то, что их странник сумеет одолжить зонт и галоши, если только дождь не прекратится к утру. Наконец насквозь промокший рассвет выбрался на берег из покрытых туманом волн, a бакены торжественно вызванивали свое в водоворотах белого эфира. A в полдень чудесные трубы пропели над океаном, когда Олни, сухой и легконогий, спустился с утеса в древний Кингспорт, и отсветы дальних мест играли в его глазах. Он не мог припомнить того, что грезилось ему в пристроившейся на краю неба хижине по-прежнему безымянного отшельника, не мог рассказать и того, каким образом сумел спуститься с этого утеса, на который не ступала нога человека. Не мог он даже разговаривать на эти темы — иначе как с Жутким Старцем, который впоследствии бормотал ужасные вещи в свою длинную белую бороду, клятвенно утверждая, что с утеса спустился не совсем тот человек, который поднялся на него, и что где-то под серой остроконечной крышей или среди непостижимых просторов, укрытых зловещим белым туманом, до сих пор обретается потерянная душа того, кто был Томасом Олни.
Всю оставшуюся жизнь, все тусклые и тягучие годы, полные серой усталости, философ трудился, ел, спал и без жалоб исполнял все положенные гражданину обязанности. Более не томился он по чарам далеких холмов и не вздыхал о тайнах, подобием зеленых рифов выступающих из бездонного моря. Тождество дней жизни более не угнетало его, и воображение удовлетворялось вышколенными мыслями. Добрая жена его становилась все упитанней, а дети его взрослели, делались более прозаичными и полезными, и он никогда не забывал с гордостью улыбнуться, когда ситуация требовала этого. Во взгляде его более не было того беспокойного света, и он вслушивался в торжественный звон колоколов только по ночам, когда на свободе бродили прежние грезы. С тех пор он никогда не бывал в Кингспорте, ибо домашним его не понравились забавные старинные дома, да еще они жаловались на то, что канализация там невозможно плоха. Теперь у них есть домик на Бристольском нагорье, над которым не возвышаются никакие утесы, а все соседи — люди городские и современные.
Однако по Кингспорту ходят странные слухи, и даже Жуткий Старец признает вещи, неслыханные его дедом. Ибо теперь, когда горластый и буйный ветер задувает с севера мимо того старинного и древнего дома, что сливается с твердью, нарушается наконец то зловещее и задумчивое молчание, прежде бывшее проклятьем морских крестьян Кингспорта. И старики рассказывают о доносящихся оттуда поющих чудесных голосах, и о смехе, полном радости, превосходящей все земные блаженства; и говорят, что по вечерам невысокие и крохотные окошки светятся ярче, чем в прежние времена. Они также рассказывают, что яркие северные сияния стали чаще посещать это место и играют на севере переливами замерзших миров, а утес и венчающий его дом кажутся черными фантастическими тенями на фоне фантастических сполохов. Гуще стали и рассветные туманы, и моряки не вполне уверены в том, что доносящийся с моря глухой перезвон создают одни только печальные бакены.
Хуже всего, однако, то, что прежние страхи съежились в сердцах молодых людей Кингспорта, обнаруживших склонность прислушиваться по ночам к слабым дуновениям северного ветра. Они клянутся в том, что никакого зла или боли не может обретаться в доме с остроконечной кровлей, ибо новые голоса пульсируют счастьем и слышны в них переливы смеха и музыки. Не ведомо им, какие повести могут принести морские туманы на эту населенную призраками северную вершину, однако томятся они, желая увидеть хотя бы намек на те чудеса, которые стучатся в закрытую над пропастью дверь, когда небо укутывают самые плотные облака. И патриархи боятся того, что однажды, один за одним, молодые люди отправятся на неприступный, исчезающий в небе утес и узнают те вековые секреты, что таятся под крутой, крытой дранкой крышей, давно ставшей частью скал и звезд и древних страхов Кингспорта. В том, что эти предприимчивые юнцы вернутся назад, старики не сомневаются, однако они полагают, что свет может оставить молодые глаза, а воля — сердца. И они не хотят, чтобы старомодный и изящный Кингспорт с его крутыми улочками и старинными крышами бесцельно влачил свои дни, пока голос за голосом смеющийся хор становится все громче и энергичней в этом ужасном и жутком орлином гнезде, где туманы и грезы туманов останавливаются передохнуть на своем пути от моря на небо.
Они не хотят, чтобы души молодых людей покидали милые очаги и таящиеся под мансардными кровлями таверны старого Кингспорта, как не хотят они и того, чтобы смех и песня на высокой скале делались громче. Ибо если пришедший голос приносит с собой свежий туман с моря и свежий сполох с севера, говорят они, то другие голоса принесут еще больше туманов и еще больше сполохов, или, быть может, старые боги (на существование которых они намекают только шепотком, чтобы не услышал проповедник Конгрегационалистской церкви) появятся из глубин моря и из неведомого Кадата, что в холодной пустыне, и поселятся на сей страшно подходящей для этого скале, столь близко к тихим холмам и долинам простого и бесхитростного рыбацкого люда. Этого не хотят они, ибо простые люди не рады вещам неземным; и к тому же Жуткий Старец часто вспоминает, что именно рассказывал ему Олни о стуке, напугавшем одинокого отшельника, и о черном любопытствующем силуэте, который он заметил в тумане через странные прозрачные круглые стекла в окнах со свинцовыми переплетами.
Впрочем, рассудить все это могут только сами Древние; а тем временем утренний туман, как и прежде, восходит вдоль головокружительного обрыва к островерхому старинному дому… дому седому, с низкими карнизами, возле которого не видно людей, а в окнах каждый вечер зажигаются неяркие огоньки, а северный ветер рассказывает странные повести. Белым перышком возносится он из глубин к братьям своим облакам, полный грез о влажных пастбищах и пещерах левиафана. И когда повести густо роятся в гротах тритонов и раковины в подводных городах трубят бурные мелодии, усвоенные от Древних, тогда великие и ревностные туманы устремляются к небу, нагруженные знанием; и Кингспорт, неловко гнездящийся на своих малых утесах под вселяющим трепет каменным часовым, видит над океаном только таинственную белизну, как если бы край утеса был краем всей земли, и торжественные колокола бакенов вызванивают свою песню в чудесном эфире.
В СТЕНАХ ЭРИКСА
Перед тем как немного отдохнуть, я хочу сделать эти записи для будущего отчета. То, с чем я встретился, так удивительно, так не похоже на все виденное мною раньше и так превосходит все наши представления, что заслуживает самого тщательного описания.
Я приземлился на главную посадочную площадку Венеры 18 марта по земному календарю и VI, 9 — по местному. Меня включили в основную, возглавляемую Миллером группу, выдали все необходимое, в том числе часы, учитывающие более ускоренное, по сравнению с Землей, вращение Венеры, и заставили пройти обычную серию тренировок в шлеме. Через два дня я был признан годным для исполнения своих обязанностей.
Покинув на рассвете VI, 12 центр компании по заготовке кристаллов в Терра-Нова, я направился по южному маршруту, разработанному Андерсоном из космоса. Идти было трудно — после дождя джунгли здесь почти непроходимы. Должно быть, именно влага придает всем этим ползучим и вьющимся растениям прочность кожи — даже с помощью ножа с ними меньше чем за десять минут не управишься. К полудню немного подсохло, растения стали нежнее и гибче, но и тогда я продвигался вперед медленно. Эти кислородные маски Картера неимоверно тяжелы, даже с половинным запасом нетренированный человек далеко не уйдет. Маски Дюбуа с их губчатой структурой резервуара — вместо трубчатой Картера — дают при том же весе в два раза больше воздуха.
Прибор для обнаружения кристаллов работал отлично, подтверждая направление, разработанное Андерсоном. Любопытно, как хорошо действует на практике принцип структурной близости — без всяких накладок, которые то и дело случаются, когда имеешь дело с «волшебной лозой» у себя на планете. Здесь в радиусе двадцати миль должны быть большие залежи кристаллов, хотя, думаю, эти чертовы люди-ящеры здорово их стерегут. Возможно, они считают, что мы зря торчим на Венере из-за кристаллов, так же как и мы думаем, что они не от большого ума лезут в грязь, где только ее ни увидят, или держат на пьедестале в своем храме груду камней. Им стоило бы завести новую религию — они ведь не видят в кристаллах никакого другого проку, кроме как молиться на них. За исключением этих своих религиозных символов, ящеры готовы поделиться с нами всем остальным, но даже если бы они и поняли подлинную ценность своих камней, то все равно их хватило бы на обе наши планеты. Мне, во всяком случае, надоело обходить охраняемые крупные скопления кристаллов, выискивая отдельные экземпляры в зарослях по берегам рек. Иногда мне хочется, чтобы с родины прибыли отборные воинские части и уничтожили всех этих чешуйчатых недотеп. На всю операцию хватило бы двадцати кораблей с солдатами. Ведь, несмотря на все их города и башни, никому и в голову не придет считать этих ублюдков людьми. Они умеют только строить жилища, да еще метать отравленные стрелы и биться мечами, и я не думаю, что их так называемые «города» чем-то отличаются от муравейников или поселений бобров. Сомневаюсь, что у них есть настоящий язык. Все эти предположения о телепатической связи посредством щупалец, расположенных у них на груди, кажутся мне чистым бредом. Просто всех вводит в заблуждение их прямая осанка — чисто случайное сходство с земным человеком.
Хотелось бы хоть раз пройти через джунгли и не угодить по дороге в их засаду, не попасть под град дротиков. Может, они были и ничего поначалу, когда мы еще не отбирали у них кристаллы, но теперь как с цепи сорвались — то стрелами забросают, а то норовят перерубить водный шланг. Я начинаю приходить к выводу, что у них есть что-то вроде шестого чувства. Никто из них не нападает на человека — разве что издали метнет дротик, — если у того нет при себе кристалла.
Около часу дня пущенная стрела чуть не снесла у меня с головы шлем, и на какой-то момент я решил, что порвана одна из кислородных трубок. Эти хитрые бестии двигались совершенно бесшумно, и трое из них окружили меня. Их трудно было различить в зарослях, цветом они с ними сливались, но по шорохам и по еле заметному покачиванию лиан я все-таки выследил их и уложил всех разом из огнемета. Один оказался восьми футов роста, с хоботом, как у тапира, двое других были середнячками, футов по семи. Они держатся только благодаря своему численному превосходству, а так один взвод с огнеметами мог бы основательно потрепать этот народец. Странно, однако, что именно они стали хозяевами планеты. Остальные — акманы и скоры, из пресмыкающихся, и летающие тюкасы, которые живут на другом континенте, — значительно уступают им в интеллекте. Впрочем, возможно, в норах на Дионеанском плоскогорье скрываются еще какие-нибудь существа.
Около двух часов стрелка моего детектора отклонилась на запад, указывая местонахождение единичных кристаллов. Это совпадало с расчетами Андерсона, и я соответственно изменил направление. Идти стало труднее — путь шел в гору, и еще потому, что вокруг кишмя кишели разные животные. Я бил ножом угратов и давил скор, а мой кожаный комбинезон был весь усыпан семенами лопающегося при малейшем прикосновении дароха, который прямо-таки устилал мне путь. Туман едва пропускал солнечный свет, и потому грязь не высыхала. Ноги при ходьбе погружались на пять-шесть дюймов, каждый раз приходилось их с хлюпаньем вытаскивать. В таком климате, конечно, следовало бы носить костюмчик не из кожи. Обыкновенная материя здесь бы сгнила; тонкая металлическая нервущаяся ткань — вот что здесь нужно.
В три часа тридцать минут я поел, хотя какая уж тут еда, просто проглотил чертовы таблетки. Вскоре я отметил, что пейзаж вокруг меня резко переменился, появились яркие, видимо, ядовитые цветы, постоянно меняющие цвет и время от времени принимающие призрачные очертания. Все вокруг мерцало, и яркие вспышки света появлялись то там, то тут, как бы танцуя в замедленном, но четком ритме. Температура в унисон с ритмической вибрацией также начала колебаться.
Глубокая, равномерная пульсация, казалось, сотрясала все вокруг, заполняя каждый уголок пространства и проникая во все клетки тела и мозга. Я утратил чувство равновесия и брел вперед, пошатываясь как пьяный. Попытался было закрыть глаза и прикрыть руками уши, но легче не стало. Сознание у меня, однако, оставалось ясным, и спустя некоторое время до меня дошло, в чем тут дело.
Я встретил наконец одно из тех необычных растений-миражей, о которых много рассказывали мои товарищи. Андерсон тоже предупреждал меня и описал их внешний вид довольно точно: шершавый стебель, колючие листья, пестрые цветы. Их вызывающий галлюцинации аромат проникает сквозь любую защитную маску.
Помня, что приключилось три года назад с Бейли, я впал в панику и рванулся изо всех сил вперед, хотя еле держался на ногах в этой тяжелой, погружающей в безумие атмосфере. Затем здравый смысл вернулся ко мне, и я понял, что нужно просто свернуть в сторону от опасных цветов, уйти от источника пульсации и, резко сменив направление, постараться идти как ни в чем не бывало, пока не окажусь вне радиуса действия растений.
Все в глазах у меня кружилось с бешеной скоростью, но я постарался выбрать нужное направление и начал прорубать себе путь. Видимо, далеко не прямой, потому что, как мне показалось, миновали часы, прежде чем я освободился от всепроникающего удушливого аромата. Постепенно танцующие огоньки исчезали, прекратилась и пульсация, мир вновь обрел устойчивость. Почувствовав себя в безопасности, я взглянул на часы и с удивлением увидел: четыре часа двадцать минут. Мне казалось, что прошла вечность, а на самом деле мое приключение продолжалось немногим более получаса.
Любое промедление было, однако, нежелательным, ведь я и так потерял время, спасаясь от этих растений. Собрав все свои силы, я решительно устремился вверх по склону холма, куда указывал детектор. Пробираться сквозь заросли было по-прежнему трудно, но живности попадалось меньше. Только один раз плотоядное растение обхватило мою правую ногу и держало так цепко, что мне пришлось высвобождаться с помощью ножа, изрубив кровожадный стебель в клочья.
Примерно через час заросли поредели, а к пяти часам я пересек рощу гигантских древовидных папоротников с небольшим подлеском и вышел на открытое, заросшее мхом плато. Я шел быстро — детектор показывал, что разыскиваемый мною кристалл где-то поблизости. Странное дело, ведь большинство этих одиночных яйцеобразных сфероидов отыскивалось по берегам речушек в самой глубине джунглей и уж никак не на равнине, лишенной всякой растительности.
Плато медленно поднималось вверх, увенчиваясь скалистым гребнем. Вершины я достиг в пять часов тридцать минут и увидел перед собой довольно большую поляну, окаймленную вдали леском. Это было явно то плоскогорье, которое пятьдесят лет назад заметил из космоса и нанес на карту Матсугава, назвав его Эриксом. Почти в центре его находился предмет, при виде которого у меня от радости сильно забилось сердце. Он ярко сверкал, несмотря на довольно плотный туман, и, казалось, целиком поглотил всю интенсивность света, которую туман похитил у солнечных лучей. Да, это, несомненно, был тот самый кристалл, который я разыскивал, — не больше куриного яйца, но в нем столько энергии, что ее на год хватит для обогрева целого города. Неудивительно, думал я, созерцая отдаленный блеск, что эти жалкие люди-ящеры поклоняются кристаллам, хотя и не имеют ни малейшего понятия об энергии, которая таится в них.
Я перешел на бег, стремясь как можно скорее завладеть долгожданным призом, и меня очень раздосадовало, что плотный мох уступил вскоре место вязкому месиву, в котором изредка проступали кочки, заросшие травой и вьюнками. Но я шлепал прямо по грязи, не раздумывая и не остерегаясь людей-ящеров. На таком открытом пространстве они вряд ли устроят засаду. По мере моего приближения блеск кристалла все возрастал, — похоже, мне попалось нечто уникальное, превосходнейший экземпляр! Перепрыгивая с кочки на кочку, я ликовал.
С этого момента мне надо особенно тщательно обдумывать записи для будущего отчета, потому что придется излагать события совершенно невероятные, которые, к счастью, легко доказать. В превосходном расположении духа я спешил вперед; до кристалла, лежавшего среди мерзкой жижи (не странно ли?) на некоем возвышении, оставалось каких-то сто ярдов, когда внезапно страшная сила ударила меня в грудь и отшвырнула прямо в грязь.
С минуту я лежал на спине, не шевелясь и ничего не соображая от неожиданного потрясения. Потом с трудом поднялся на ноги и почти бессознательно начал счищать с комбинезона налипшую грязь.
Я не понимал, что со мной случилось. Что меня откинуло с такой силой? Передо мной ничего не было. Может, я сам шлепнулся в грязь? Однако в кровь разбитые фаланги пальцев и ноющая грудь убеждали в другом. А может, все случившееся — просто галлюцинация, вызванная где-то притаившимся растением-миражом? Но нет, маловероятно, обычных симптомов отравления я не ощущал, а кроме того, на таком открытом месте это яркое и ни на что не похожее растение бросалось бы в глаза. Будь я сейчас на Земле, мог бы предположить, что здесь установили барьер системы «N», загораживающий запретную зону, но в этом Богом забытом месте такое даже предполагать было нелепо.
Собравшись с духом, я решил осторожно обследовать все вокруг. Держа в вытянутой руке нож, чтобы он первым встретил препятствие, я снова направился к сверкающему кристаллу, ступая шаг за шагом с величайшей осторожностью. На третьем шаге мой нож наткнулся на твердую поверхность, которую глаза мои не видели.
После минутного замешательства я осмелел. Вытянув вперед левую руку в перчатке, я убедился, что передо мной плотное невидимое препятствие. Или же это тактильная галлюцинация? Проведя рукой по преграде, я убедился, что она уходит в обе стороны — сплошная, гладкая, без всяких стыков плоскость. Раздираемый любопытством, я снял перчатку и обследовал преграду голой рукой. Она в самом деле была твердой и гладкой, как стекло, а по контрасту с теплым воздухом — холодной, как лед. Я до предела напряг зрение, тщетно стараясь различить хоть какие-то признаки материала, из которого сделана эта странная конструкция. Судя по пейзажу впереди, здесь не действовал закон преломления света. Не отражала эта плоскость и солнечных лучей.
Любопытство мое возрастало, вытесняя все прочие эмоции, и я возобновил свои эксперименты. На ощупь установил, что невидимая преграда начинается у самой земли и уходит вверх, высоту ее мне не удалось установить. И в длину она тянулась в обе стороны на неопределенное расстояние. Следовательно, это стена, хотя и неясно, из какого она материала и каким служит целям. Я опять подумал о растении-мираже, но, поразмыслив, окончательно выбросил это предположение из головы.
Постукивая по барьеру рукояткой ножа и носками тяжелых ботинок, я старался по звуку догадаться о природе материала. Особый бетон? Похоже, хотя на ощупь вещество больше всего напоминает стекло или металл. Несомненно, я встретился с чем-то необычным, что не вписывается в рамки моего предыдущего опыта.
Следующим логическим действием стала попытка выяснить размеры стены. Труднее всего будет определить ее высоту, может, это вообще не удастся. Легче разобраться с длиной и формой. Я начал осторожно продвигаться влево и уже через несколько шагов понял, что стена не прямая, а скорее всего идет огромным кругом или эллипсом. Но тут мое внимание переключилось на другой объект, связанный с кристаллом, до которого я так до сих пор и не добрался. Как я уже говорил, издали казалось, что сверкающий предмет занимает какое-то странное положение, будто лежит на большом возвышении, выступающем из грязи. Теперь, находясь от него на расстоянии в сотню ярдов, я смог сквозь туман различить, что же это за возвышение. Это было тело человека в кожаном комбинезоне. Он лежал на спине, а немного поодаль, в грязи, валялась кислородная маска. В правой руке, судорожно прижатой к груди, он держал приведший его сюда кристалл — необычайно крупный сфероид, настолько большой, что еле помещался в руке мертвеца. Даже издалека было видно, что человек умер недавно. Следов разложения почти не заметно, а в здешнем климате это означает, что смерть наступила не более чем сутки назад. Скоро на труп налетят мерзкие мухи-фарноты. Интересно, кто этот человек? Он прилетел со мной. Наверняка один из старожилов, отправился в долгую заготовительную экспедицию и забрел сюда случайно, ничего не зная об исследованиях Андерсона. Теперь же все проблемы для него закончились, и он спокойно лежит, зажав в окоченевшей руке сверкающий кристалл.
Я постоял так минут пять, озадаченно глядя на труп. Мной овладела смутная тревога, невыносимо хотелось бежать отсюда прочь. Причиной смерти не могли быть люди-ящеры, ведь кристалл по-прежнему оставался у мертвеца. Есть ли здесь какая-нибудь связь с невидимой стеной? Где он нашел кристалл? Прибор Андерсона зарегистрировал наличие в данном районе кристаллов задолго до того, как этот человек погиб. Теперь невидимая стена казалась мне чем-то зловещим, и я с содроганием отшатнулся от нее. Но деваться некуда — нужно разгадать эту тайну как можно скорее, причем, помня о недавней трагедии, вести себя очень осторожно.
Прикидывая так и эдак, я догадался, как проще всего определить высоту стены или хотя бы понять, можно ли вообще это сделать. Захватив пригоршню грязи и подождав, пока она немного обсохнет, я швырнул ее в прозрачную стену, целясь как можно выше. На высоте около четырнадцати футов ком глухо стукнулся о невидимую преграду, расползся и потек вниз густым месивом, которое почему-то исчезало на глазах. Ясно, стена высокая. Второй ком, брошенный уже на высоту восемнадцати футов, опять стукнулся о невидимую поверхность и так же быстро исчез, как и первый.
Собравшись с силами, я решил бросить третий ком еще выше. Отжал его покрепче и дал получше обсохнуть. Затем швырнул вверх под таким острым углом, что он мог бы и не долететь до стены. Однако он благополучно долетел и даже перелетел, шлепнувшись с гулким плеском в грязь на другой стороне. Теперь я приблизительно представлял себе высоту преграды — что-то около двадцати футов.
Не стоило даже пробовать взобраться на вертикальную, абсолютно гладкую стену такой высоты. Следовательно, надо идти вдоль нее в надежде отыскать вход, отверстие или что-либо в этом роде. Какой она формы — в виде круга, замкнутой фигуры, а может, всего лишь дуги или полукруга? Приняв решение идти вдоль стены, я зашагал влево, водя руками по невидимой поверхности на тот случай, если нащупаю окно или другое отверстие. Перед тем как отправиться в путь, я попытался как-то обозначить отправную точку — вырыл ногой в грязи ямку, однако она тут же затекла. И все же я запомнил это место, приметив в леске вдали высокий сайкад, который находился на одной прямой со сверкающим кристаллом. Теперь, если стена окажется замкнутой, можно будет это определить, очутившись снова на том же месте.
Немного пройдя вдоль стены, я решил, что она, скорее всего, образует окружность диаметром около ста ярдов. Неужели этот человек лежит внутри замкнутого пространства? Это мне предстояло вскоре узнать.
Описав полукруг, я пришел к выводу, что труп действительно внутри. Вгляделся в лицо мертвеца с близкого расстояния и понял, что человек был сильно испуган, это запечатлелось в его остекленевших глазах. Внешне он напомнил мне Дуайта, ветерана, с которым я лично не был знаком, но видел в прошлом году в центре. Кристалл, который он сжимал в руках, был поистине прекрасен — крупнейший из всех виденных мною.
Как раз в тот момент, когда я очутился так близко от тела, что мог, не будь стены, до него дотянуться, моя рука, продолжая скользить по невидимой поверхности, вдруг наткнулась на острую грань. Очень скоро мне удалось определить, что это край отверстия шириной в три фута; проем начинался у самой земли и кончался где-то выше моего роста. Никакой двери не было — ни сейчас, ни, видимо, раньше: по краям отверстия отсутствовали петли. Не раздумывая, вошел я внутрь и сделал два шага к распростертому в грязи телу, которое лежало поперек невидимого коридорчика. Любопытная подробность — пространство и внутри оказалось разделенным прозрачными перегородками. На теле трупа не было следов насилия. Это не удивило меня: кристалл находился на месте, следовательно, квазирептилии-аборигены тут ни при чем. Озабоченный загадкой этой смерти, я опять обратил внимание на лежащую у ног мертвеца кислородную маску. Это уже что-то. Без нее ни один человек не может дышать атмосферой Венеры дольше тридцати секунд. Дуайт — если это он, — очевидно, потерял маску. Может, плохо ее застегнул и ремешки не выдержали веса трубок? С маской Дюбуа такого бы не случилось. А с этой за тридцать секунд поломку не исправишь. Да и цианогена могло быть в атмосфере больше обычного. Вполне возможно, что он залюбовался кристаллом. Вынул его, наверное, из кармана — вот и клапан расстегнут.
Пытаясь освободить кристалл из окостеневших рук мертвого старателя, я понял, что задача эта не из легких. Сам сфероид был больше человеческого кулака и переливался, как живой, в красноватых лучах заходящего солнца. Дотронувшись до сверкающей драгоценности, я непроизвольно вздрогнул: показалось, что, взяв ее, я как бы приобщаюсь к трагической судьбе ее прежнего владельца. Впрочем, сомнения скоро рассеялись, и я положил кристалл в карман моего кожаного комбинезона.
Закрыв шлемом лицо мертвеца с устремленными в пустоту глазами, я выпрямился и вошел через невидимый проем в коридорчик.
Меня обуревало любопытство. С какой целью построено это сооружение, кем и из какого материала? Ясно одно — это не произведение человеческих рук. Наши космические корабли впервые сели на Венеру только семьдесят два года назад, и единственный форпост на планете был в Терра-Нова. Кроме того, люди не умеют изготавливать полностью прозрачные материалы, вроде того, из которого построено это сооружение. Посещение Венеры в доисторические времена тоже исключалось, и, следовательно, оставалось лишь предположить, что сооружение воздвигнуто местными строителями. Может, до людей-ящеров на Венере жили высокоорганизованные существа? Что касается нынешних хозяев планеты, то, несмотря на их аккуратненькие постройки, трудно предположить наличие у них таких выдающихся способностей. Скорей всего, в древности на Венере существовала другая цивилизация, последним памятником которой и осталось это чудо. А может, будущие экспедиции найдут здесь и другие памятники исчезнувшей цивилизации? Цели, которые преследовались при строительстве таких конструкций, могли быть самыми разными, но странный и непрактичный материал наводит на мысль: это что-то связанное с религиозным культом.
Понимая, что в одиночку эти загадки не разгадать, я решил хотя бы немного изучить невидимую структуру. Надо полагать, поверх этой девственной грязи раскинулся невидимый лабиринт из множества комнат и коридоров; стоило разобраться в его плане. Итак, запомнив положение выхода по отношению к трупу, я начал продвигаться по коридору к центру лабиринта, где, возможно, побывал и покойник. Помещение у выхода я решил обследовать позже.
Несмотря на пробивающийся сквозь туманную дымку солнечный свет, приходилось продвигаться вперед на ощупь, вслепую. Коридор вскоре резко свернул в сторону и пошел дальше, к центру, закручиваясь спиралью, витки которой становились все короче. Иногда я нащупывал боковые тупиковые помещения, попадались мне также и разветвляющиеся ходы. Каждый раз я выбирал по возможности центральный коридор, который казался продолжением изначально выбранного маршрута. Обследовать боковые ходы можно будет позже, когда я дойду до центра и поверну назад. Все происходящее было точно сон — я шел невидимыми коридорами по невидимому сооружению, созданному неведомо кем на чужой планете.
Наконец, все так же пробираясь ощупью и спотыкаясь, я попал в просторное помещение. Обойдя его, я установил, что это круглая комната футов десяти шириной, а сопоставив положение лежащего трупа с высоким деревом, убедился, что нахожусь в центре невидимой конструкции. Из центрального помещения вели пять коридоров, не считая того, которым я пришел. Вход в этот последний коридор я запомнил накрепко, также соотнеся его расположение со своими главными ориентирами.
Пространство внутри этого помещения было абсолютно пустым — только грязь под ногами вместо пола. Желая узнать, есть ли надо мной крыша, я повторил эксперимент с комом грязи и убедился, что нету. Если она и была прежде, то, видимо, обрушилась; впрочем, мне ни разу не попались обломки. Странно, за многие годы в такой древней постройке не обвалилась стена, не образовались пробоины — словом, никаких признаков обветшания…
Что же это все-таки такое? Откуда взялось? Из чего сделано? Почему на исключительно гладких стенах нет следов соединения отдельных секций? Почему отсутствуют двери, как внутри, так и снаружи? Ясно только одно — я нахожусь в круглой постройке без крыши и дверей, стены которой изготовлены из плотного, гладкого, абсолютно прозрачного материала. Диаметр постройки сто ярдов, а в центре ее находится небольшой зал, к которому ведет множество коридоров. Вот все, что мне удалось пока выяснить.
Солнце — раскаленный диск в оранжево-алом нимбе, плывущий над затянутым дымком лесом, — почти село на западе. Мне следовало поторопиться, чтобы устроиться на ночлег на твердой земле до наступления темноты. Я еще прежде решил устроить привал на мшистом плато вблизи от вершины, где впервые увидел далекое сияние кристалла. Рассчитывал, что мне, как всегда, повезет, и люди-ящеры не спугнут мой сон. Вообще-то положено отправляться в подобные экспедиции группами не менее двух человек, чтобы ночью обязательно был дежурный, но ночные нападения случаются редко, и компания смотрит на несоблюдение правил сквозь пальцы. Эти чешуйчатые ублюдки ничего не видят ночью даже в двух шагах, несмотря на все свои дикарские факелы.
Найдя свой коридор, я отправился в обратный путь. Дальнейшее изучение можно продолжить завтра. Я опять продвигался на ощупь, полагаясь на свои руки, общее представление о конструкции, память, а также на приблизительные ориентиры в виде растущих там и сям чахлых пучков травы. Вскоре я оказался снова в непосредственной близости от трупа. Над покрытым шлемом лицом вились два фарнота — это означало, что труп начал разлагаться. Чувствуя непреодолимое отвращение, я инстинктивно поднял руку, чтобы прогнать этих первых могильщиков, и тут произошло нечто неожиданное: рука моя стукнулась о невидимую преграду. Значит, несмотря на всю мою осторожность, я вышел не в тот коридор, где лежал мертвец. Этот идет параллельно, следовательно, я где-то ошибся, свернув не туда.
Надеясь отыскать-таки проход, я продолжил путь, но скоро опять уперся в прозрачную стену.
Надо было возвращаться в центральный зал и начинать все заново. Трудно сказать, где я допустил ошибку. Я оглядел землю: не остались ли чудом мои следы, но нет, любая вмятина в этой грязи тут же затягивалась. Попасть в центральное помещение было нетрудно, я вернулся и стал тщательно обдумывать обратный путь. Видимо, в прошлый раз взял чересчур вправо. Надо пойти коридором, расположенным левее, а где ошибся, пойму по ходу дела.
Теперь, продвигаясь ощупью, я был совершенно в себе уверен и свернул налево там, где раньше сбился с пути. Приходилось тщательно следить за круговоротами спиралевидного коридора, чтобы не угодить в боковые ответвления. И все же вскоре я с горечью убедился, что на этот раз труп оказался еще дальше от меня, чем прежде, — коридор закончился у внешней стены. В надежде отыскать новый выход наружу, я медленно продвигался вперед, прижавшись к невидимой стене, но неожиданно уперся в твердую перегородку. Конструкция здания была явно сложнее, чем представлялось мне поначалу.
Что делать: отправиться ли вновь к центру или же попробовать поискать смежные коридоры, которые могут привести к телу? В последнем случае, если не придумаю способа оставить следы, могу совсем сбиться с пути. Но как это сделать? Голова моя лихорадочно работала. У меня при себе нет ничего подходящего — ничего, что можно рассыпать или раскидать.
Ручка не оставляла на невидимой стене следов. Были, правда, еще пищевые таблетки, но их нужно поберечь. Если бы я и решился потратить таблетки, их все равно не хватило бы, да и жидкая грязь, скорее всего, засосет их. Я поискал в карманах старомодную записную книжку, к которой часто прибегал на Венере, хотя во влажной атмосфере бумага быстро сырела. Можно разорвать листки на мелкие клочки и раскидать по пути. Но книжки я не нашел, а разорвать то, что ее заменяло — тонкие и прочные металлические вращающиеся пластины для заметок, не было никакой возможности. То же самое относилось и к одежде. В необычной атмосфере планеты без непроницаемого кожаного комбинезона и специального нижнего белья не обойтись.
Я попытался размазывать по стенам хорошо отжатую грязь, но она исчезала на невидимой поверхности почти мгновенно, как и те комья, которые я бросал, чтобы определить высоту перегородки. Наконец, вытащив нож, я стал царапать гладкую стену, стараясь оставить на ней хоть какой-то след, который впоследствии можно будет если не увидеть, то хоть нащупать рукой. Все бесполезно — нож только скользил по диковинному материалу.
Отчаявшись в попытках как-то пометить свое передвижение, я снова направился в центральный зал. Попасть туда всякий раз бывало почему-то проще, чем выбраться обратно, и возвращение мое много времени не заняло. На этот раз я отмечал на записывающем устройстве каждый поворот, составив предположительный чертеж пути и отметив на нем все расходящиеся коридоры. Чертовски медленно это у меня получалось: все определялось на ощупь, да и возможность ошибки была велика. Но мои старания не могли не окупиться.
Сумерки, которые на Венере длятся долго, уже сгущались, когда я снова оказался в центральном зале, все еще не теряя надежды до темноты выбраться наружу. Сравнив составленный по пути чертеж с прошлыми маршрутами, я решил, что обнаружил ошибку, и уверенно направился обратно по невидимым переходам. Взял еще левее, чем в прошлый раз, и, чтобы не заблудиться, сверял с пластинами каждый свой поворот. В полутьме нечетко обрисовывался силуэт мертвеца, теперь уже основательно облепленного фарнотами. Еще долго эти грязные твари будут прилетать сюда с равнины, чтобы творить свое мерзкое дело. С отвращением приблизившись к трупу, я собрался было пройти мимо, как вдруг ударился о стену — меня снова угораздило сбиться.
С болью в душе я понял, что окончательно заблудился. Устройство здания было слишком сложным, чтобы принимать скоропалительные решения, и мне следовало все тщательно выверить, прежде чем забираться в него. Так или иначе, нужно попасть на твердую почву до наступления полной темноты, и я опять направился в центр здания. Шел я теперь уже по интуиции, ошибаясь и путаясь, возвращаясь назад, и, сверяя маршрут с записями, начинал свой путь заново. Включая фонарик, я с интересом отметил, что его свет никак не отражается на невидимых стенах. Впрочем, меня это не особенно удивило — ведь и само солнце не отражалось в этом странном материале.
Уже совсем стемнело, а я все еще блуждал по лабиринту. Плотный туман скрывал большинство звезд и планет, но Земля отчетливо вырисовывалась в юго-западной части неба в виде мерцающей голубовато-бирюзовой звездочки. Она только что вышла из противостояния и была превосходно видна в подзорную трубу. Когда туман немного расходился, я просматривал в трубу даже Луну.
Мрак поглотил мой единственный ориентир — труп, и я, спотыкаясь, снова побрел в центральный зал. Несколько раз сбившись с пути, я наконец нашел его. Пришлось отказаться от мысли ночевать на твердой земле, делать нечего, надо до рассвета хотя бы отдохнуть. Неприятно, конечно, спать прямо в грязи, но в наших кожаных комбинезонах это все-таки возможно. Мне приходилось спать и в худших условиях, а преодолеть естественное отвращение поможет страшная усталость.
В настоящий момент я сижу на корточках в центральном зале, по щиколотку в грязи, и делаю эти записи при свете фонарика. В моем странном положении есть что-то комичное. Заблудиться в здании без дверей — в здании, которого даже не вижу! Несомненно, уже рано утром я выберусь отсюда и во второй половине дня буду в Терра-Нова с кристаллом. Он великолепен и царственно блистает даже при слабом свете фонаря. Только что опять им любовался. Несмотря на усталость, сон не приходит, так что я довольно подробно записываю все случившееся. Однако пора кончать. Хорошо еще, что здесь можно не опасаться визита проклятых аборигенов. Неприятно, конечно, близкое соседство с трупом, но, к счастью, кислородная маска предохраняет от самого худшего. Надо экономно пользоваться запасами кислорода. Сейчас приму две пищевые таблетки и буду спать. Остальное потом.
Глава 1
На следующий день — после полудня, VI, 13
Все оказалось сложнее, чем мне представлялось. Я все еще в здании, и придется основательно попотеть, чтобы выбраться сегодня на твердую землю. Вчера долго не мог уснуть и пробудился чуть ли не в полдень. Мог бы спать и дольше, но меня разбудил солнечный свет, пробившийся сквозь туман. Труп выглядит ужасно — над ним уже трудятся червеобразные сификлы, вьются облаком фарноты. Шлем свалился с лица, на которое лучше не смотреть. Я еще раз порадовался, что у меня есть кислородная маска.
Отряхнувшись и досуха обтеревшись, я принял пару таблеток и вставил новый кубик хлората калия в электролизатор маски. Кубики расходовались мною экономно, и все же хорошо бы их было больше. После сна я чувствовал себя лучше и надеялся быстро выбраться из здания.
Тщательно просмотрев все свои записи и чертежи, я был потрясен сложным переплетением коридоров и стал опасаться, что ошибся в чем-то главном. Из шести коридоров, ведущих из центрального помещения, я выбрал тот, по которому, судя по всему, пришел. Выбрал, учитывая зрительный ориентир. Когда смотришь из этого коридора, труп, находящийся в пятидесяти ярдах, лежит на одной линии с громадным лепидодендроном из отдаленного леса. Теперь этот ориентир показался мне не таким уж надежным: мертвец все же довольно далеко от меня и из соседнего коридора его положение по отношению к дереву выглядит почти так же. Да и дерево не слишком уж отличается от других лепидодендронов, виднеющихся на горизонте.
Все взвесив, я, к своему величайшему сожалению, понял, что не могу ответить, какой коридор ведет к цели. Вступал ли я каждый раз в новую часть лабиринта или все коридоры соединены между собой? Надо проверить. Жаль, что нельзя оставлять по дороге какие-нибудь следы, одна вещь в запасе у меня для этого есть. Костюм трогать не следует, но вот шлем, благо шевелюра у меня густая, можно использовать. Достаточно большой и светлый, он не затеряется в грязи. Сняв свой полусферический головной убор, я положил его у входа в самый правый из трех намеченных мною для проверки коридоров.
Я собирался отправиться сначала по этому маршруту, сворачивая там, где считал нужным, и сверяясь при этом со своим планом. Если путь окажется ошибочным, придется испробовать все другие варианты маршрута. Предположим, что и здесь меня ждет неудача. Тогда я проделаю то же самое со вторым маршрутом, а в случае необходимости — и с третьим. Нужно только сохранять спокойствие, и верный путь найдется. Даже если мне долго не будет везти, все же я непременно выберусь к концу дня на плато и заночую наконец на сухом месте.
Первые результаты не обнадеживали, хотя мне удалось изучить избранный маршрут немногим более чем за час. Все его коридоры оказались тупиками и заканчивались у внешней стены далеко от трупа. Вчера я на них ни разу не выходил. Однако, как и раньше, никакого труда не составляло найти дорогу в центральный зал.
Около часу дня я передвинул шлем ко второму входу и начал изучать систему его коридоров. Поначалу отдельные ответвления показались мне знакомыми, но вскоре я понял, что попал в неизвестную часть лабиринта. До трупа было далеко, и в центральное помещение я теперь уже не мог попасть, хотя фиксировал каждый поворот. Некоторые ходы и их пересечения были как бы неуловимы и не попадали в мой вчерне составленный план. Во мне нарастали одновременно ярость и уныние. Но терпение в конце концов обязательно победит, хотя поиски обещают быть долгими и трудными.
Было уже два часа, а я все еще бродил незнакомыми коридорами, нащупывая путь руками и делая тщательные пометки в своем плане. Я проклинал глупость и праздное любопытство, завлекшие меня в чертов лабиринт. Ведь возьми я кристалл и уйди с этого проклятого места, быть бы мне давно целым и невредимым в Терра-Нова.
Неожиданно мне пришло в голову: а не попытаться ли сделать ножом подкоп под невидимой стеной? Так будет легче выйти наружу или хотя бы в примыкающий к выходу коридор. Знать бы только, на какую глубину уходит фундамент здания. Впрочем, повсеместная грязь говорит о том, что другого основания, кроме земли, у него нет. Я стал яростно копать своим широким острым ножом, а прямо передо мной лежал труп, с каждым часом превращаясь во все более жуткое зрелище.
Почва на шесть дюймов в глубину была сплошным месивом, но глубже обретала исключительную твердость. Отличалась она и цветом — серая глина, похожая на ту, что встречается у северного полюса Венеры. По мере приближения к невидимой стене грунт становился все тверже. Жидкая грязь тут же заливала вырытую ямку, но, несмотря ни на что, я продолжал работу. Если удастся сделать подкоп, никакая грязь не помешает мне выбраться.
На глубине трех футов почва оказалась настолько плотной, что рыть стало невозможно. С подобным сопротивлением материала я еще не встречался, даже на этой планете, — плотность была совершенно уникальная. Мой нож отсекал и дробил мельчайшие частицы этой невиданной глины, которые больше напоминали кусочки камня или металлическую стружку. Наконец нож и вовсе перестал справляться, пришлось отступить, так и не добравшись до основания стены.
Эта часовая работа была не только бесполезной, но и вредной: я израсходовал много энергии, проголодался и был вынужден принять лишнюю таблетку, а также положить еще один кубик в кислородную маску. В обследовании лабиринта наступила большая пауза — я очень устал и не мог даже двигаться. Немного отчистив руки и привалившись к невидимой стене, так, чтобы не видеть трупа, я сел писать эти заметки.
Тело теперь представляет сплошную копошащуюся массу: видимо, запах гниения привлек акманов из отдаленного леса. Растущие на кочках эфьи тоже тянут к трупу свои прожорливые щупальца, но его защищает стена. Я мечтаю о появлении какого-нибудь хищника, вроде скоры, который мог бы почувствовать мой запах и пробраться в лабиринт. Такие существа прекрасно ориентируются. Можно проследить его путь и занести в план. А когда доберется до меня — пристрелить, с моим пистолетом это не проблема.
Но на это вряд ли стоит надеяться. Сейчас закончу писать, немного отдохну, а потом продолжу поиски. Вернувшись в центральный зал — это будет нетрудно, — пойду левым коридором. Может, выберусь до темноты…
Глава 2
Ночь — VI, 13
Новое затруднение. Выбраться отсюда будет хлопотно — возникли совершенно непредвиденные обстоятельства. Еще одна ночь в грязи, а завтра — бой.
После неудачного подкопа я немного отдохнул и в четыре часа снова отправился в путь. Приблизительно минут через пятнадцать достиг центрального зала и переложил шлем к последнему выходу. Продвигаясь ощупью по этому маршруту, я, казалось, узнавал знакомые места, но уже минут через пять был вынужден остановиться: открывшееся моим глазам зрелище насторожило меня.
Четверо или пятеро гнусных людей-ящеров вышли из дальнего леса. На таком большом расстоянии я плохо их различал, но мне почудилось, что, увидев меня, они остановились и, повернувшись к лесу, начали делать какие-то знаки, после чего к ним присоединилась еще дюжина сородичей. Все вместе они направились к невидимому зданию, а я тем временем рассматривал их. Раньше мне доводилось видеть этих ящеров только издали — в туманной дымке джунглей.
Сходство с пресмыкающимися поразительное, хотя, должен сказать, чисто внешнее. Когда они приблизились, стало заметно, что с рептилиями их роднит только наличие плоской головы да зеленая кожа, подобная лягушачьей. Они передвигались, держась исключительно прямо на своих забавных толстых лапах, а каждый их шаг по грязи сопровождался громким чавканьем. Все они были среднего роста — около семи футов, с четырьмя длинными щупальцами на груди. Движения щупалец говорили (если верить теориям Фогга, Экьерга, Джэнета, а я теперь начинаю им верить) о том, что существа возбужденно переговариваются между собой.
Я вытащил огнемет и приготовился к тяжелому бою. Силы были неравные, но оружие давало мне некоторое преимущество. Если ящеры знают план здания, они могут проникнуть ко мне и таким образом указать путь наружу — то, чего я ждал от плотоядных скор. Вероятность нападения была велика: они всегда чувствуют, есть ли у тебя кристалл.
Однако, к моему удивлению, они не делали никаких попыток напасть, а вместо этого окружили меня с разных сторон. Расстояние между нами показывало, что они стоят вплотную к невидимой стене. Эти странные существа молча, с любопытством разглядывали меня, иногда кивая головой и жестикулируя верхними конечностями. Немного спустя я увидел, что из леса вышли новые особи и, подойдя, присоединились к группе любопытствующих. Те, кто был ближе к трупу, мельком взглянув на него, не делали никаких попыток его убрать. Зрелище ужасное, но люди-ящеры, казалось, не обращали внимания. Время от времени кто-нибудь отгонял лапой фарнота или давил извивающегося сификла, акмана или пытающихся дотянуться до трупа эфий.
Разглядывая этих диковинных непрошеных гостей и размышляя с беспокойством, отчего они не нападают на меня, я на время утратил волю и нервную энергию, так необходимые в моих поисках. Вместо этого я привалился к невидимой стене коридора и предался самым фантастическим размышлениям. Сотни тайн, ставивших меня ранее в тупик, вдруг наполнились новым, зловещим смыслом, и, попытавшись постичь его, я испытал неведомый мне прежде ужас.
Теперь, кажется, до меня дошло, почему эти отвратительные существа столпились в ожидании вокруг меня. Мне открылся, кажется, наконец и секрет прозрачной конструкции. Желанный кристалл, который я сжимал в руке, труп человека, владевшего им прежде, — все вдруг обрело страшный и зловещий смысл.
То, что я заблудился в этом хитроумном переплетении невидимых, лишенных крыши коридоров, представлялось мне ранее простым невезением. Но это далеко не так. Несомненно, это западня, специально устроенная этими адскими тварями, чье умение и интеллект я, к сожалению, недооценил. Почему я, зная об их изощренном архитектурном мастерстве, не заподозрил подвоха? Лабиринт — это капкан для людей, а кристалл играет роль приманки. Эти рептилии в стремлении уберечь от нас свои драгоценности избрали новую стратегию, обратив против нас нашу же алчность.
Дуайт — если только этот гниющий труп был прежде им — стал жертвой такой стратегии. Заблудившись в лабиринте, он не сумел найти выход. Его, очевидно, мучила жажда, да и запас кислорода наверняка был на исходе. Вряд ли он потерял маску, все это больше смахивает на самоубийство. Не желая ждать приближения неминуемой смерти, он сам сорвал маску и глотнул ядовитый воздух планеты. Чудовищная ирония заключалась в том, что он находился всего в нескольких шагах от спасительного выхода, до которого так и не добрался. Если бы он еще на минуту продолжил борьбу, то был бы спасен.
Теперь в том же положении оказался и я — в ловушке, окруженный любопытными зеваками, потешающимися над моими мучениями. Эта нестерпимая мысль, овладев моим разумом, затуманила его, и я, охваченный паникой, стал бестолково сновать по невидимым коридорам, спотыкался, падал, бился о невидимые стены и наконец, обессиленный, свалился в грязь. Окровавленный, задыхающийся кусок безумной плоти — вот что я собой представлял.
Падение несколько отрезвило меня; поднявшись на ноги, я снова обрел способность видеть и размышлять. Стоящие вокруг наблюдали и как-то необычно, без всякой системы размахивали щупальцами — похоже, они от всей души хохотали над моими страданиями. Я погрозил им кулаком. Этот жест, казалось, лишь добавил им веселья, а некоторые попытались мне подражать, делая это своими зелеными верхними конечностями крайне неуклюже. Пристыженный, я попытался собраться с мыслями и оценить ситуацию.
Ситуация у меня лучше, чем у Дуайта. Во всяком случае, я знаю, что к чему, а знание — большая сила. У меня есть неоспоримые доказательства, что выход достижим, и поэтому я не впаду, как он, в отчаяние. Труп, или скорее уже скелет, — мой неизменный ориентир, указывающий направление, и, проявив упорство и смекалку, можно добиться своего.
Плохо, что меня окружили эти проклятые рептилии. Теперь, когда мне понятен и смысл ловушки, и то, что лабиринт сооружен из неизвестного невидимого материала, превосходящего по уровню обработки все земные технологии, недооценивать их разум и способности уже невозможно. Даже с огнеметом мне придется нелегко, понадобится максимум смелости и ловкости.
Но сначала нужно выбраться наружу, иначе кто-нибудь из ящеров может соблазниться и проникнуть в лабиринт. Когда я проверял оружие и количество боеприпасов, меня вдруг осенило: что, если попробовать действие оружия на стене? Может, здесь лежит путь к спасению? Химический состав материала, из которого изготовлена стена, мне неизвестен, кто знает, вдруг пламя разрежет его, как бумажный лист? Выбрав часть стены поближе к трупу, я с близкого расстояния разрядил в нее всю обойму, а затем стал проверять ножом, не появилось ли отверстия. Увы, ничего подобного. Пламя расстилалось по стене и гасло, так что мои надежды оказались напрасны. Только долгие, утомительные поиски выхода могли принести спасение.
Итак, проглотив пищевую таблетку и положив новый кубик в электролизатор, я решил возобновить свои попытки и, вернувшись в центральный зал, начал все заново. При этом постоянно заглядывал в свои записи и чертежи и делал новые, а сбиваясь с пути, возвращался назад. Так я бродил до темноты. Упорно продолжая поиски, я время от времени поглядывал на молчаливый круг потешавшихся надо мной зевак и заметил, что их состав постоянно обновляется. Кто-то возвращается в лес, кто-то занимает опустевшее место. Чем больше мысли мои занимало такое мельтешение, тем меньше все это мне нравилось: я догадывался об истинных мотивах их тактики. Эти чертовы куклы могли добраться до меня в любое время, но вместо этого предпочитали следить за моими мучениями. Они, видимо, наслаждались зрелищем, а меня их интерес приводил в содрогание. Что угодно — только бы не попасть к ним в лапы!
С наступлением темноты я прекратил поиски и уселся в грязь отдохнуть. Теперь пишу при свете фонарика и вскоре постараюсь заснуть. Надеюсь, завтра мне повезет, потому что моя фляга почти пуста, а таблетки лакола — плохой заменитель воды. Вокруг много влаги, но вряд ли я решусь ее попробовать: вода здесь годна для употребления только после дистилляции. Вот почему мы тянем шланги в дальние районы, где вода лучше, или заготавливаем дождевую, когда эти чертовы твари перерубают наши шланги. Запас кислорода у меня тоже невелик — нужно во всем подсократиться. Много кислорода я потерял утром, когда делал подкоп, и позже, когда впал в панику. Завтра постараюсь ограничить физическое напряжение — буду беречь силы для встречи с рептилиями. Кроме того, кислород нужен мне на обратный путь в Терра-Нова. Мои враги не покидают свой пост: видно, как они стоят кругом, держа в лапах горящие факелы. Свет этих факелов пугает меня и не дает уснуть.
Глава 3
Ночь — VI, 14
Еще день поисков — и опять неудача! Меня беспокоит отсутствие воды — фляга пуста с полудня. Во второй половине дня пошел дождь, и я, вернувшись в центральный зал, набрал в шлем стакана два. Большую часть выпил, а остатки вылил во флягу. Таблетки лакола мало помогают от жажды — хорошо бы ночью пошел дождь. Я опять выставил шлем в надежде, что какая-то малость туда накапает. Пищевых таблеток тоже осталось немного. Надо вдвое сократить рацион. Но особенно меня беспокоят мои кубики — даже без больших физических усилий скитания по лабиринту требуют значительных кислородных затрат. От постоянной жажды и экономии кислорода кружится голова. Представляю, что будет, когда я сокращу питание.
В этом лабиринте есть какая-то загадка, какая-то неразъяснимая тайна. На своих чертежах я отметил некоторые повороты как тупиковые, но с каждым новым путешествием все как будто выглядит чуть-чуть иначе. Никогда раньше не задумывался, насколько мы зависим от зрения. Слепой наверняка преуспел бы больше меня, но для большинства людей зрение — царь чувств. После бесплодных блужданий по лабиринту в моей душе поселилось глубокое отчаяние. Представляю себе, что пережил бедняга Дуайт. Его труп теперь полностью превращен в скелет, а потрудившиеся над этим сификлы, акманы и фарноты исчезли. Эфьи растаскивают по кусочкам кожаный костюм — они, оказывается, растут быстрее, чем я думал, и могут достичь невероятной длины. У стены по-прежнему дежурят сменяющие друг друга зеваки, они злорадно посматривают на меня, наслаждаясь моим несчастным видом. Еще сутки, и я сойду с ума, если только прежде не свалюсь замертво от усталости.
Однако делать нечего — надо продолжать поиски. Если бы Дуайт продержался еще минуту, то был бы спасен. Возможно, власти из Терра-Нова будут искать меня, хотя на это надежды мало — я отсутствую лишь третий день. Страшно ломит тело — лежа в этой мерзкой грязи, совершенно не отдыхаю. Прошлой ночью, несмотря на чудовищную усталость, спал урывками, и сегодня, похоже, будет то же самое.
Я существую в каком-то нескончаемом кошмаре — между сном и явью — и никогда не могу с уверенностью сказать, сплю я или бодрствую. Сильно дрожат руки — больше писать не могу. И эта ужасная толпа за стеной, это дрожащее пламя факелов…
Глава 4
После полудня — VI, 15
Крупная удача! Все вроде идет неплохо. Чувствую себя очень слабым и до утра плохо спал. Потом крепко заснул и спал до полудня, но, проснувшись, не почувствовал себя отдохнувшим. Дождя нет, и меня очень мучает жажда. Чтобы прибавить сил, проглотил лишнюю пищевую таблетку, но без воды она особой пользы не принесла. Попробовал было отжать воду из кома грязи, но меня тут же затошнило, а пить захотелось еще сильнее. Экономлю кубики и поэтому чуть ли не задыхаюсь. Долго идти не могу и порой ползу на коленях. Около двух часов дня показалось, что узнаю некоторые коридоры, и действительно — я оказался к трупу, или, точнее, скелету, ближе, чем за все дни моих злоключений. Лишь раз забрел в тупик, но с помощью своего плана и записок снова выбрался в главный коридор. Пометок и уточнений становится все больше — в них трудно разобраться. Они занимают уже три пластины, и я вынужден подолгу копаться в них. От жажды, удушья и усталости плохо соображаю и не всегда ориентируюсь в своих же записях. А эти чертовы ящеры по-прежнему глазеют на меня и хохочут, обмениваясь красноречивыми жестами — видимо, смачно шутят в мой адрес.
Успех пришел в три часа. Я достиг коридора, в котором, согласно моим заметкам, еще не бывал, и когда ползал по нему, то понял, что двигаюсь окольным путем к скелету. Коридор был спиралевидный и напоминал тот, по которому я впервые достиг центрального зала. Каждый раз, выбирая, куда свернуть, я направлялся туда, где, как мне казалось, проходил раньше. По мере приближения к моему мрачному ориентиру среди наблюдателей по ту сторону стены усилились злорадный смех и жестикуляция. Они явно видели в моем успехе какую-то оборотную сторону, и это их очень веселило. Наверное, видя, в каком плачевном состоянии я нахожусь, рассчитывали легко расправиться со мной. Что ж, не стану выводить их из приятного заблуждения: я, конечно, очень слаб, но уверен в своем огнемете, тем более при таком количестве зарядов.
Несмотря на ожившую надежду, на ноги я не встал. Лучше уж ползти, сберегая силы для предстоящей встречи с людьми-ящерами. Боясь угодить в тупик, я продвигаюсь вперед очень медленно, однако, несомненно, приближаюсь к желаемой цели. Предчувствие влило в меня новые силы, и на какое-то время забылись и боль, и жажда, и то, что кислород на исходе. Существа столпились теперь у входа, они жестикулируют, подпрыгивают и смеются своими щупальцами. Скоро я, кажется, встречусь лицом к лицу со всей этой ватагой, а может, к тому времени из леса подоспеет и подкрепление.
Я нахожусь всего в нескольких ярдах от скелета и остановился только для того, чтобы сделать эти записи. Сейчас встану и прорвусь сквозь эту мерзкую свору. Уверен, что мне хватит сил обратить их в бегство, несмотря на многочисленность, — у моего оружия неисчерпаемые возможности. А потом отдых на сухом плато и утром — обратное путешествие через джунгли в Терра-Нова. Нелегкий путь, но в конце его меня ждет желанная встреча с людьми, отдых в человеческом жилище. Однако как жутко поблескивает этот череп! Как страшен его оскал!
Глава 5
К концу дня — VI, 15
Снова ловушка! Сделав предыдущую запись, пополз дальше к скелету, но неожиданно наткнулся на стену. И на этот раз я, видимо, ошибся, оказавшись там, где был три дня назад, когда впервые безуспешно пытался выбраться из лабиринта. Не помню, кричал ли я в отчаянии — должно быть, нет: слишком ослаб, чтобы издать хотя бы звук. Просто валялся, убитый горем, в грязи, в то время как зеленые твари прыгали и веселились снаружи.
Наконец сознание вернулось ко мне. Вернулось вместе с острой жаждой, слабостью и удушьем. Собрав последние силы, я положил в электролизатор последний кубик. Сделал это, не отдавая себе отчета и не думая о том, как доберусь до Терра-Нова. Приток кислорода слегка оживил меня, и я более осмысленно огляделся вокруг.
Я был вроде подальше от бедняги Дуайта, чем в тот раз, когда впервые испытал разочарование. Возможно, если проползти еще немного, попаду в какой-нибудь смежный коридор. Со слабой надеждой я снова двинулся вперед, но через несколько футов, как и прежде, оказался в тупике.
Итак, это конец. За несколько дней я не нашел никакого выхода, и силы мои иссякли. Жажда сводит меня с ума, а запаса кислорода уже не хватит на то, чтобы вернуться в Терра-Нова. Интересно, почему эти чудовища столпились именно у входа, потешаясь надо мной? Наверное, самое забавное — внушить мне, что я приближаюсь к цели.
Долго мне не продержаться. Хотя я и решил не торопить события, как Дуайт. Оскалившийся череп повернут теперь в мою сторону, это сделали эфьи, пожирающие кожаный костюм. Ужасный провал пустых глазниц — такой взгляд пострашнее злорадства гнусных ящериц. Он придает мертвому оскалу белых зубов еще более зловещий вид.
Буду спокойно умирать в грязи, сберегая до конца силы. Моя металлическая книжка заканчивается. Надеюсь, кто-нибудь отыщет эти записи после моей смерти. Сейчас кончу писать и немного отдохну. Затем, когда темнота сгустится и эти пугала перестанут что-либо различать, соберусь с силами и швырну книжку через стену. Брошу ее левее, чтобы она не упала рядом с этими веселящимися извергами. Она может, конечно, утонуть в грязи, но может и упасть на одну из заросших травой кочек, где ее найдет человек.
Люди, если мои записи дойдут до вас, знайте — это не только предупреждение о западне. Надеюсь, моя судьба послужит уроком для других. Не надо собирать сверкающие кристаллы. Они принадлежат Венере. На нашей планете можно обойтись без них. Похищая сокровища, мы, очевидно, нарушаем какие-то таинственные законы, идущие из самых глубин космоса. Откуда нам знать, какие темные, могущественные и вездесущие силы стоят за этими рептилиями, охраняющими свои сокровища таким странным способом. Дуайт и я расплатились за все сполна, так же как прежде платили другие и кто-то заплатит в будущем. А может, эти отдельные смерти — пролог к грядущему возмездию? Оставьте Венере то, что ей принадлежит.
Смерть все ближе, боюсь, мне не хватит сил перебросить книжку через стену. Тогда ее найдут люди-ящеры и, возможно, поймут, что это такое. Они никогда не узнают, к чему я призывал своих соплеменников, и поэтому уничтожат записи, не желая выдать тайну лабиринта. Перед смертью я стал лучше относиться к этим существам. Нам не дано знать, кто из нас по космическим критериям совершеннее или ближе к некоей органичной норме — мы или они.
Вынул из кармана кристалл, чтобы полюбоваться им в последние мгновения. В огненных лучах заходящего солнца он сверкает ярко и зловеще. Беспокойная ватага заметила его, и их жестикуляция как-то странно изменилась. Почему они толкутся у входа, а не подойдут ближе и не встанут у прозрачной стены?
Я коченею и больше писать не могу. Кружится голова, но сознание еще присутствует. Смогу ли перебросить через стену книжку? Кристалл ослепительно сверкает, но тьма сгущается.
Темно. Страшная слабость. Они все еще смеются и прыгают у входа, освещая факелами темноту.
Они уходят? Мне послышался какой-то звук… легкий звук в небе.
Донесение Уэсли П. Миллера из группы розыска «А». «Винес кристалл компани»
(Терра-Нова, VI, 16)
Наш сотрудник А-49, настоящее имя Кентон Дж. Стэнфилд, проживающий по адресу: Виргиния, Ричмонд, улица Маршалла, 5317, покинул Терра-Нова рано утром VI, 12, отправившись за кристаллом, местонахождение которого указывал детектор. Должен был вернуться тринадцатого или четырнадцатого. Он не появился и вечером пятнадцатого, и тогда на розыски был послан поисковый самолет ФР-58 с группой из пяти человек под моим командованием. Мы вылетели в восемь часов пополудни, имея с собой детектор. Его стрелка показывала, что местоположение кристалла не изменилось.
До плато Эрикса мы летели, следуя указаниям детектора и посылая сильные световые лучи во все стороны. С нами были дальнобойные огнеметы и радиоактивные излучатели типа «Д», способные подавить бунт аборигенов или нападение хищных скор.
Пролетая над плато Эрикса, мы заметили скопление огней — это оказались обитатели планеты с горящими факелами. Когда мы снизились, они — числом около сотни — скрылись в лесу. Детектор указывал, что кристалл находится в том районе, где они только что толпились. Мы опустились еще ниже, и тогда наши прожекторы осветили то, что лежало на земле. Это был скелет, опутанный эфьями, а в десяти футах виднелось человеческое тело. Когда мы приземлялись, невидимая преграда повредила крыло самолета.
Направившись к обнаруженным останкам, мы неожиданно наткнулись на гладкую невидимую стену.
Идя ощупью вдоль нее, мы добрались до отверстия, за которым было обширное пространство, нечто вроде холла, окруженного такими же невидимыми стенами. В одной из них мы обнаружили ход, который привел нас к скелету. Рядом с несчастным, одежду которого разорвали хищные растения, лежал шлем с указанием его данных. Это был служащий отдела Кенига Фредерик Н. Дуайт, номер В-9, отправившийся в долгосрочную заготовительную экспедицию и отсутствующий уже два месяца.
Хотя между скелетом и телом тоже была невидимая стена, мы сразу же узнали Стэнфилда. В левой руке он держал металлическую книжку, а в правой — ручку — видимо, писал в момент смерти. Кристалла видно не было, но детектор указывал, что рядом со Стэнфилдом должен находиться очень крупный экземпляр.
Мы с большим трудом добрались до Стэнфилда. Тело было еще теплым; рядом, утопая в грязи, лежал огромный кристалл. Прочитав оставленные им записи, мы решили следовать советам покойного. Текст этих записей прилагается к настоящему донесению, его наблюдения проверены и полностью подтвердились. Они дают достоверное объяснение разыгравшейся трагедии. Его заключительные выводы говорят об ослаблении интеллекта и потому могут быть оставлены без внимания, но это не повод, чтобы подвергать сомнению все остальное. Стэнфилд умер от совокупности причин: жажды, удушья, сердечной слабости и глубокой депрессии. Он до конца оставался в маске, которая продолжала в небольшом количестве подавать кислород.
В связи с поломкой самолета мы вызвали по рации Андерсона из ремонтного отдела и попросили выслать аварийную группу, снабдив ее также взрывчаткой. Утром прилетел ФХ-58, который вел сам Андерсон, забрал мертвых, кристалл и вернулся на базу. Дуайта и Стэнфилда похоронят на кладбище компании, а кристалл отправят в Чикаго на ближайшей ракете. Мы, конечно, последуем совету Стэнфилда, данному им еще в здравом уме, и пришлем сюда военных, чтобы полностью уничтожить аборигенов. Без них можно будет беспрепятственно добывать кристаллы.
После полудня мы с большими предосторожностями, пользуясь длинной бечевой, обследовали здание и составили подробный план лабиринта для наших архивов. Конструкция не имеет аналогов; что же касается материала, то нами был взят образец для химического анализа. Результаты исследования могут понадобиться при уничтожении поселений аборигенов. Наши буры с алмазными головками просверлили неизвестное вещество, и рабочие закладывают сейчас в отверстие динамит. Следует навести здесь порядок, поскольку здание представляет большую опасность для наземного и воздушного транспорта.
Рассматривая план лабиринта, мы были потрясены иронией судьбы, сыгравшей злую шутку и с Дуайтом, и со Стэнфилдом. Пытаясь пройти к Стэнфилду от скелета, мы потеряли коридор, который привел нас сюда, но потом Маркхейм отыскал проход из ближнего ко входу холла; Дуайт лежал футах в пятнадцати от него, а Стэнфилд — в четырех-пяти. Проход ведет еще в один холл, который мы не обследовали, а правое его ответвление привело нас прямо к телу. Стэнфилд находился от выхода из лабиринта футах в двадцати двух — двадцати трех, не более, коридор начинался у него за спиной, но из-за усталости и отчаяния он проглядел его.
ЗЛОЙ СВЯЩЕННИК
В комнату на чердаке меня провел серьезный, интеллигентного вида человек в скромной одежде и со стального цвета бородой, заговоривший со мной следующим образом:
— Да, он жил здесь, но я не советую вам что-либо предпринимать. Любопытство делает вас безответственным. Мы никогда не приходим сюда по ночам, и делаем так только благодаря его завещанию. Вам известно, чем он занимался. Это отвратительное общество наконец одержало верх, и мы не знаем, где он погребен. Ни закон, ни что-либо другое не могло повлиять на это общество.
— Надеюсь, что вы не станете оставаться здесь после наступления темноты. И умоляю оставить в покое эту похожую на спичечный коробок вещицу, что лежит на столе. Нам неизвестно, что это такое, однако мы подозреваем, что предмет этот как-то связан с его занятиями. Мы даже стараемся не смотреть на него пристально.
Спустя некоторое время этот человек оставил меня в одиночестве. Чердачная комната показалась мне очень мрачной, пыльной и весьма скудно обставленной, и все же она выглядела опрятно, указывая тем самым на то, что не является обителью трущобного жителя. На книжных полках теснились друг к другу теологические и классические книги, другой книжный шкаф занимали трактаты по магии — Парацельса, Альберта Великого, Тритемия, Гермеса Трисмегиста, Бореля[28], с которыми соседствовали другие, написанные незнакомыми мне буквами. Мебель была очень простой. Единственная дверь в комнате открывалась в чулан. Входом и выходом же служило отверстие в полу, к которому вела грубая и крутая лестница. Круглые окошки и почерневшие дубовые балки свидетельствовали о невероятной старине. Дом этот явно принадлежал к Старому Свету. Кажется, я знал, где нахожусь, но не могу вспомнить того, что знал тогда. Бесспорно, город этот не был Лондоном. Скорее я находился в небольшом морском порту.
Небольшой предмет на столе приковывал мое внимание. Я явно знал, что нужно с ним делать, ибо достал из кармана электрический фонарик — во всяком случае нечто похожее на него — и нервным движением опробовал его. Свет оказался не белым, но фиолетовым, и напоминал истинный свет не более чем радиоактивное излучение. Помнится, я и не считал этот фонарик обыкновенным — обыкновенный-то находился у меня в другом кармане.
Уже темнело, и древние крыши и колпаки дымовых труб снаружи казались очень странными в круглых проемах окон. Наконец я набрался отваги и поставил небольшой предмет на столе торчком возле книги — и затем посветил на него таинственными фиолетовыми лучами. Свет казался теперь скорее дождем или градом, потоком капель, а не лучом. Попадая на стеклянную поверхность в центре странного устройства, он производил треск, несколько напоминавший шипение вакуумной трубки, сквозь которую пролетают искры. Темная стеклянистая поверхность начинала светиться розоватым светом, и в середине ее уже как бы формировался некий белый силуэт. Тут я заметил, что нахожусь в комнате не один, и опустил лучевой проектор в карман. Однако пришедший не заговорил — более того, я не услышал ни звука во все непосредственно последовавшие мгновения. Все вокруг приобрело облик сумрачной пантомимы, рассматриваемой издали через некую промежуточную дымку — хотя, с другой стороны, новопришедший и все последовавшие за ним казались рослыми и близкими, точнее, одновременно близкими и далекими, согласно некоей аномальной геометрии.
Новопришедший оказался тощим и темноволосым человеком среднего роста в священническом облачении англиканской церкви. С виду ему было лет тридцать, желтовато-оливковая кожа покрывала достаточно правильные черты, которые дополнял ненормально высокий лоб. Черные волосы его были хорошо подстрижены и аккуратно причесаны, синел густым волосом хорошо выбритый подбородок. На носу его сидели очки без оправы со стальными дужками. Сложение и лицо его ничем не выделялись в ряду всех виданных мной священников, разве что куда более высоким лбом, однако лицо было несколько смуглее и интеллигентнее — но также и более закосневшим в тонко скрываемой злобе.
В это самое мгновение — только засветив неяркую керосиновую лампу — он казался нервозным и, прежде чем я успел что-то сообразить, принялся швырять все свои магические книги в незамеченный мною прежде камин, находившийся в комнате со стороны окна (там, где стена резко наклонялась). Пламя с жадностью принялось пожирать фолианты — вспыхивая странными красками и источая неописуемо гнусные оттенки зловония, пока исписанные непонятными иероглифами страницы и источенные червем фолианты покорялись всеразрушающей стихии. Тут я немедленно заметил, что в комнате присутствуют и другие лица — серьезные с виду мужчины в священнических одеяниях, на одном из которых были ленты и бриджи епископа. Хотя я и не мог ничего слышать, мне было ясно, что явились они с решением высшей важности для первопришедшего. Они одновременно и ненавидели его, и боялись, и он явно разделял эти чувства по отношению к ним. На лице его застыло угрюмое выражение, но я видел, как трясется его правая рука, которой он пытался опереться о спинку стула. Епископ указал рукой на опустевший ящик и на камин (где язычки пламени уже гасли на обугленной, бесформенной груде), явно наполняясь при этом особенным отвращением. Пришедший первым тут сухо улыбнулся и протянул левую руку к находившемуся на столе небольшому предмету. Всех охватил испуг. Процессия клириков по одному начала спускаться вниз по крутой лестнице через люк в полу, поворачиваясь к пришедшему первым и грозя ему. Епископ ушел последним.
Пришедший первым теперь подошел к шкафу, находившемуся на внутренней стороне комнаты, и извлек из него моток веревки. Став на кресло, он привязал конец веревки к крюку на толстой серединной балке черного дуба и начал вязать удавку на другом ее конце. Осознав, что он намеревается повеситься, я шагнул вперед, чтобы отговорить и спасти его. Увидев меня, он прекратил свои приготовления, поглядев на меня с победоносным видом, чем немало озадачил и даже смутил меня. Ступив вниз с кресла, он скользнул ко мне с чисто волчьим выражением на смуглом, тонкогубом лице.
Каким-то образом я ощутил, что нахожусь в смертельной опасности, и извлек из кармана свой лучевой проектор, чтобы воспользоваться им в качестве средства обороны. Не знаю, почему я решил, что это орудие способно помочь мне. Включив его, я направил проектор прямо ему в лицо, и смуглая кожа осветилась сперва фиолетовым, а потом розовым светом. Волчий восторг начал сползать с его лица, сменяясь выражением глубочайшего страха, впрочем, не до конца вытеснившего восторг. Он замер на месте — а потом, отчаянно размахивая руками в воздухе, отшатнулся назад. Я заметил, что за спиной его находится в полу открытый лестничный люк, и попытался выкрикнуть предостережение, однако он не слышал меня. Еще через мгновение он шатнулся в отверстие и скрылся из виду.
Не без труда я заставил себя подойти к люку, однако, сделав это, не увидел внизу никакого искалеченного падением тела. Напротив, внизу затопали люди, поднимавшиеся наверх с фонарями, ибо легшая на комнату фантастическая тишина разлетелась вдребезги и я снова услышал звуки и увидел нормальные трехмерные силуэты. Итак, нечто привлекло сюда толпу. Неужели это был звук, которого я не услышал?
Наконец двое из них (простые крестьяне с вида), далеко опередившие остальных, заметили меня и замерли как вкопанные. Один из них громко и звонко вскрикнул:
— Ахти мне!.. Ён, видишь? Снова?
Тут все они повернулись и ударились в бегство. То есть все, кроме одного. Когда толпа растворилась, я увидел степенного бородатого человека, который провожал меня к этому месту, стоявшего в одиночестве с фонарем в руках. Он смотрел на меня завороженным и изумленным взглядом, но не был испуган. Поднявшись по лестнице, он присоединился ко мне и сказал:
— Итак, вы не оставили этот предмет в покое! Жаль. Мне известно, что с вами случилось. Такое уже было здесь прежде, однако тот человек испугался и застрелился. Вам не следовало позволять ему вернуться. Вам известно, чего он хочет. Однако вам не обязательно пугаться, как тому человеку, которого он забрал. С вами произошло нечто очень странное и жуткое, однако случившееся не зашло настолько далеко, чтобы повредить вашему уму и личности. Если вы будете сохранять спокойствие и признаете необходимость радикальных изменений в собственной жизни, то сможете по-прежнему наслаждаться жизнью и плодами собственной учености. Однако жить здесь вам нельзя, и я сомневаюсь в том, что вы хотите вернуться назад в Лондон. Советую перебраться в Америку.
— Но не смейте вновь баловать с этой… вещью. Теперь уже ничего нельзя повернуть назад. Если попробуете что-либо сделать или… вызвать нечто, станет только хуже. Вы отброшены не так далеко, как могло быть, но отсюда вам надо убираться немедленно и никогда не возвращаться обратно. Лучше благодарите Небо за то, что процесс не зашел дальше…
— Хочу предупредить вас со всей откровенностью: в вашей внешности произошла… некоторая перемена. Он всегда производит их. Однако в новой стране вы привыкнете. В дальнем конце комнаты есть зеркало, и я намереваюсь подвести вас к нему. Вас ждет потрясение, хотя вы не увидите ничего отвратительного.
Смертный страх сотрясал теперь мое тело, и бородачу пришлось поддерживать меня на пути к зеркалу со слабой лампой (той, что прежде находилась на столе, а не еще более слабой, которую он принес с собой) в свободной руке. И вот что я увидел в стекле: худощавого и смуглого человека, облаченного в одеяния священника англиканской церкви, тридцати примерно лет от роду, в лишенных оправы очках со стальными дужками, поблескивавшими под оливково-желтым, необычайной высоты лбом.
Облик безмолвного незнакомца, сжигавшего свои книги.
И всю свою жизнь внешне мне предстояло быть этим человеком!
ЗВЕРЬ В ПОДЗЕМЕЛЬЕ
Ужасный вывод, назойливо крутящийся в моем смущенном, но еще слабо сопротивляющемся ему сознании, обретал ужасную несомненность. Я заблудился, окончательно и безнадежно, в лабиринте Мамонтовой пещеры. Хотя я напряженно вглядывался во все стороны, нигде не открылся мне знак, подсказавший бы путь к спасению. Не видеть мне больше никогда благословенного дневного света, не будут ласкать мой взор милые холмы и долины прекрасного мира снаружи, такого недоступного, что мое сознание отвергало даже малейшее неверие в это. Надежда покинула меня. Однако жизнь давно сделала меня философом, и я испытал немалое удовлетворение от бесстрастности своего собственного поведения; ибо мне доводилось читать о яростном бешенстве, в которое впадают жертвы подобных обстоятельств, однако я не испытывал ничего даже близкого к этому и оставался совершенно невозмутимым с того самого момента, как осознал, что не имею шанса найти выход наружу.
Мысль о том, что я, должно быть, покинул ту часть пещеры, где водят экскурсии, ни на секунду не лишила меня самообладания. Если меня ждет смерть, рассуждал я, то эта ужасная, но величественная пещера столь же достойное место для успокоения, как и кладбище, — концепция, несущая больше спокойствия, чем отчаяния.
Я нисколько не сомневался, что впереди меня ждет последний знак свершившейся судьбы — голод. Я знал, что при подобных обстоятельствах многие сходили с ума; но чувствовал — меня ждет другой конец. В случившемся со мной виноват был исключительно я сам, поскольку без ведома гида я покинул ряды послушных ему любителей поглазеть на достопримечательности и уже более часа блуждал по запрещенным для туристов ответвлениям, и теперь уже невозможно отыскать в этом лабиринте тот путь, по которому я покинул своих спутников.
Мой факел уже догорает; близился момент, когда меня окутает кромешная тьма земных недр. Стоя посреди тающего круга неверного света, я праздно пытался нарисовать себе точную картину приближающейся смерти. Я припомнил доклад о колонии больных туберкулезом, поселившихся здесь в гигантском гроте, надеясь вернуть здоровье целебным климатом подземного мира, с его неизменной температурой, чистым воздухом и умиротворяющим покоем, но обрели лишь смерть и были найдены окоченевшими в странных и ужасных позах. Грустные останки их сделанных наспех домишек я видел, проходя мимо них вместе с группой, и теперь задавался вопросом, какое причудливое влияние окажет долгое пребывание в огромной и тихой пещере на такого здорового и крепкого человека, как я. Ну, зловеще заметил я себе, если голод не оборвет мою жизнь чересчур поспешно, то разрешение этой загадки мне предстоит на практике.
Когда свет моего факела свело последней судорогой, и все вокруг поглотил мрак, я решил не пренебрегать никакой возможностью спасения, и потому во всю мощь своих легких и напрягая голосовые связки издал серию глухих криков в надежде привлечь внимание проводника. Но при этом в глубине души я был уверен, что мои крики не достигнут цели, и мой голос, гулкий, отраженный бесконечными изломами поглотившего меня черного лабиринта, не достигнет ушей кого-либо, кто мог бы спасти меня.
Однако внезапно мой обострившийся слух услышал что-то — мне вдруг показалось, что я улавливаю приближающийся звук мягких шагов по каменному полу пещеры.
Неужели мое спасение наступило так быстро? Может, вопреки моему ужасному предчувствию, проводник заметил мое недозволенное отсутствие в группе и двинулся по моим следам, чтобы найти меня в этом известняковом лабиринте? Пока эти радостные вопросы проносились в моем сознании, пока я собирался возобновить крики, чтобы приблизить минуту спасения, мой восторг вдруг сменился ужасом; мой чуткий слух, еще более обострившийся из-за полного безмолвия пещеры, донес до оцепенелого сознания, что эти шаги не похожи на шаги человека. В неземной тиши подземного мира шаги проводника звучали бы как четкие регулярные стуки. Этот звук шагов был мягким, по-кошачьи крадущимся. Кроме того, прислушавшись, я различил в походке четыре такта вместо двух.
Теперь я не сомневался, что своими криками разбудил какого-то дикого зверя, может быть, пуму, случайно забредшую в пещеру. Возможно, подумал я, Всевышний избрал для меня не голод, а другую, более быструю и милосердную смерть? И все же инстинкт самосохранения шевельнулся в моей груди, и хотя надвигающаяся опасность несла избавление от медленного и жестокого конца, я решил, что расстанусь с жизнью только по самой высокой цене. Хотя это может показаться странным, мой ум отметил, что пришелец пока что не заслужил никакими своими действиями такой враждебности с моей стороны. Осознав это, я затаился, надеясь, что неизвестное животное, перестав слышать звуки, потеряет ориентацию, как это случилось со мной, и пройдет мимо. Однако моя надежда не оправдалась; странная поступь неотвратимо приближалась — наверное, зверь чуял мой запах, который в чистейшей атмосфере пещеры разносился наверняка на большое расстояние.
Пошарив рядом с собой в поисках, чем бы вооружиться для защиты от нападения невидимого в пещерном мраке противника, я взял в каждую руку по крупному камню из тех, что валялись тут повсюду, готовясь к отпору несмотря на неизбежный исход схватки. Между тем мерзкая поступь лап звучала уже совсем близко. Впрочем, повадки этой твари были странными. Большую часть времени у меня не вызывало сомнения, что это звук четвероногого существа, с характерным перебоем между задними и передними лапами; но время от времени, в короткие интервалы, мне казалось, что это походка двуногого. Я терялся в догадках, что за животное может приближаться ко мне; должно быть, подумал я, это несчастное существо расплачивается за свое любопытство, толкнувшее его исследовать вход в мрачную пещеру, пожизненным заточением в бесконечных проходах и разветвлениях. Ему приходится питаться незрячими рыбинами, летучими мышами и крысами и, может быть, рыбешкой, которая может оказаться здесь во время паводков Грин-ривер, воды которой каким-то непостижимым образом сообщаются с водами пещеры. Я скрашивал мрачное ожидание приближающегося существа догадками, какие изменения в его теле произошли из-за долгого пребывания, вспомнив об ужасных уродствах умерших здесь туберкулезников, причиной которых жители окрестных поселков называли именно продолжительную подземную жизнью. Затем я осознал, что даже если мне удастся победить в схватке с противником, я никогда не увижу его облика, поскольку мой факел уже давно погас, а спичек у меня с собой не было. Мой мозг был напряжен до предела. Взбудораженное воображение рисовало пугающие силуэты в окружающей тьме, сдавливающей меня все сильнее. Все ближе и ближе раздавались ужасные шаги. Из меня пытался вырваться наружу пронзительный вопль, но казалось, что даже если я решусь крикнуть, вряд ли голос послушается меня. Я окаменел от ужаса. Я не был уверен, что правая рука послушается меня, когда придет момент кидать камень в надвигающееся чудище. Равномерная поступь звучала уже рядом, совсем близко. Я расслышал тяжелое дыхание зверя и, несмотря на испуг, осознал, что он добрался издалека и изнурен. Паралич внезапно исчез. Моя правая рука, безошибочно направляемая слухом, метнула со всей силы кусок известняка с многочисленными острыми углами, который сжимала, в то место темноты, где был источник дыхания, и мой снаряд почти достиг цели: я услышал, как после легкого шлепка камень стукнулся о пол пещеры где-то вдалеке.
Сосредоточившись, чтобы кинуть точнее, я метнул второй камень, и на этот раз результат превзошел все мои ожидания; я с радостью услышал, как существо рухнуло всей своей тяжестью и замерло. Едва удержавшись на ногах от навалившегося на меня облегчения, я оперся на стену. Звуки дыхания продолжали доноситься до меня — тяжелые вдохи и выдохи, — и я вдруг осознал, что не более чем ранил зверя. Но у меня уже не было прежнего желания выяснить, кто есть этот некто. Нечто типа беспричинного суеверного страха поразило меня, и я не решался приблизиться к телу, но вместе с тем не решался и продолжать кидать камни, чтобы добить его окончательно. Вместо этого я бросился со всей скоростью, на какую был еще способен, в ту сторону, откуда, как мне казалось, я пришел. Вдруг я уловил звук или, точнее, регулярную последовательность звуков. Через мгновение она перешла в острые металлические постукивания. На сей раз сомнений не было. Это проводник. А затем я закричал, завопил, даже завыл от восторга, когда заметил вдали под сводами мерцающие блики, которые, насколько я понимал, не могли быть ничем иным, кроме как отсветами приближающегося факела. Я бежал навстречу бликам и затем, не вполне сознавая, как это произошло, оказался простертым у ног проводника, прильнув к его ботинкам, изливая на ошеломленного слушателя, отринув свою обычную сдержанность и путаясь в словах, свою ужасную историю вперемешку с высокопарными изъявлениями благодарности. Через какое-то время я наконец пришел в себя. Проводник заметил мое отсутствие, только когда группа покидала пещеру, и, полагаясь на интуицию, углубился в лабиринт проходов от того места, где он последний раз разговаривал со мной; ему удалось найти меня после четырех часов поиска.
Когда он изложил это мне, я, ободренный наличием света и тем, что уже не один, задумался о странном существе, раненном мной, которое, скрытое мраком, лежало неподалеку от нас, и предложил, чтобы мы установили, что же за тварь стала моей жертвой. Развернувшись в обратную сторону, уже с храбростью, порожденной присутствием рядом товарища, я двинулся снова к месту моего ужасного испытания. Вскоре мы заметили на полу пещеры нечто белое — заметно белее, чем известняк вокруг. Осторожно приблизившись, мы практически одновременно вскрикнули от изумления, поскольку из всех необычных монстров, каких доводилось видеть каждому из нас, этот был самым странным. Он выглядел как большая человекообразная обезьяна, отбившаяся, должно быть, от передвижного зверинца. Шерсть ее была белоснежной, выбеленной, без сомнения, чернильной чернотой пещерного подземелья, и удивительно редкой, но при этом на голове она росла роскошной копной и ниспадала на плечи. Черты лица этого существа, лежащего ничком, были скрыты от нас. Его конечности были неестественно вывернуты — впрочем, в них таилась разгадка смены поступи, на которую я обратил внимание раньше: очевидно, животное при передвижении использовало то все четыре, то лишь две опоры. Над подушечками пальцев нависали длинные, подобные крысиным когти. Конечности не выглядели цепкими — этот факт, как и безукоризненную белизну шерсти, можно объяснить долгим обитанием в пещере, о чем я уже упоминал. Хвоста у этого существа не было.
Его дыхание становилось все слабее, и проводник взялся за пистолет, чтобы прикончить зверя, но тот неожиданно издал звук, заставивший опустить оружие. Этот звук трудно описать. Он не походил на обычные звуки, издаваемые обезьянами, и возможно, объяснялся долгим воздействием безграничной и могильной тишины, потревоженной теперь бликами света, который странное существо не видело, вероятно, с тех пор, как забрело в пещеру. Более всего он напоминал невнятное бормотание.
Вдруг едва заметный спазм пробежал по его телу. Передние конечности дернулись, задние свело судорогой. Из-за этого белое тело перевернулось, и лицо существа оказалось обращено к нам. Ужас, застывший в его глазах, настолько поразил меня на какое-то время, что я не замечал ничего другого. Черные как смоль, эти глаза жутко контрастировали с белизной тела. Как у всех обитателей пещер, они были лишенные радужной оболочки и глубоко запали. Приглядевшись внимательнее, я обратил внимание, что челюсти менее выдаются вперед, чем обычно у приматов, и лицо почти без следов шерсти. Нос был совсем не как у обезьяны. Пока мы смотрели, словно завороженные, на это зрелище, толстые губы разжались, выпустив еще несколько звуков, после чего существо на полу пещеры успокоилось навсегда.
Проводник вцепился в рукав моего пальто и вздрагивал так сильно, что от его факела на стенах плясали причудливые тени. Я же неподвижно, но твердо стоял на месте, уставившись на пол пещеры.
Страх ушел, сменившись изумлением, благоговением и состраданием; ибо звуки, изданные сраженной мною жертвой, простертой перед нами на камнях, открыли удивительную истину. Странное создание, которое я убил, обитатель жуткого подземелья, было, во всяком случае когда-то давно, человеком!
АЛХИМИК
На небольшом возвышении на самой вершине покатой горы, склоны которой поросли густым, дремучим лесом, словно венчающая гору корона стоит замок моих предков. Многие века его величественный силуэт служит неизменной частью пейзажа всей окружающей сельской местности, а сам замок — дом старинного рода, прямая линия которого даже древнее, чем поросшие мхом стены. Древние башни, пережившие многие поколения, но рушащиеся под неуклонным давлением времени, в эпоху феодализма представляли одну из самых грозных и величественных крепостей Франции. Из бойниц и укрытий на стенах не раз видели баронов, графов и даже королей, готовых штурмовать до последнего, но никогда в просторных залах замка не звучало эхо шагов завоевателей.
Но с той героической поры все переменилось. Бедность, хотя и не дошедшая до крайней нужды, и гордость, не позволившая носителям славного имени осквернить его коммерцией, воспрепятствовали поддержанию великолепия древнего родового владения; и сейчас все здесь — выпадающие из стен камни, запущенная буйная растительность в парке, пересохший пыльный ров, щербатые внутренние дворики, осыпающиеся башни, а также покосившиеся полы, изъеденные червями стенные панели и поблекшие гобелены в них — рассказывает печальную повесть об увядшем величии. Одна из главных башен рассыпалась от времени, затем это же произошло с другой, и наконец у крепости осталась лишь одна башня, в которой вместо могущественного лорда пребывал его обнищавший потомок.
Именно в одной из просторных и мрачных палат оставшейся башни замка, я, Антуан, последний из несчастного и проклятого рода графов де К., впервые увидел свет долгих девяносто лет назад. В этих стенах и на склонах горы, покрытых темными мрачными чащами и изрезанных ущельями и гротами, прошла вся молодость моей безрадостной жизни. Своих родителей я не знал. Мой отец умер в возрасте тридцати двух лет, за месяц до моего рождения; его убил камень, сорвавшийся с полуразрушенного парапета. Моя мать умерла в родах, и я оказался на попечении слуги, человека, достойного доверия и наделенного к тому же недюжинным умом, которого звали, если мне не изменяет память, Пьер. Я был единственным ребенком в замке, и нехватка товарищей для игр усугублялась стараниями моего воспитателя, всячески препятствующего любому моему общению с крестьянскими детьми, семьи которых обитали по всей окружающей гору равнине. Свой запрет Пьер тогда объяснял тем, что отпрыску благородного рода не следует водить дружбу с плебеями. Теперь я знаю, что истинная причина была другой: он хотел уберечь мои уши от праздных историй о роке, преследующем многие поколения мой род, которые, щедро приукрашенные, рассказывались поселянами на досуге по вечерам перед жарко растопленным очагом.
Поэтому, одинокий и предоставленный самому себе, свое детство я проводил, изучая старинные фолианты, коими была заполнена полумрачная библиотека замка, и бесцельно странствуя по не тронутому многие века фантастическому лесу, покрывавшему гору до самого подножия. Подобное времяпрепровождение, вероятно, и стало причиной того, что меланхолия стала частью моей натуры. Занятия и исследования, связанные с мрачной таинственностью дикой природы, имели для меня особую притягательность.
Однако мне было позволено узнать очень мало об истории окружающей местности, и это крайне удручало меня. Возможно, изначально очевидное нежелание моего престарелого воспитателя углубляться в историю моих предков положило начало тому ужасу, который я испытывал при каждом упоминании о моем доме, но на исходе детства я сумел соединить бессвязные недомолвки, слетавшие с языка заговаривающегося старика, относящиеся к неким обстоятельствам, с годами превратившимся для меня из странных в вызывающие страх. Обстоятельства, которые я имею в виду, — это то, что все наследные графы моей семьи умерли в раннем возрасте. Сначала я объяснял себе их безвременную кончину естественными причинами, полагая, что происхожу из семьи, в которой мужчины живут не долго, однако со временем стал соединять это с бессвязными старческими бормотаниями, в которых речь часто шла о проклятии, отмерившем носителям графского титула срок жизни в тридцать два года. В день, когда мне исполнился двадцать один год, престарелый Пьер вручил рукописную книгу, переходившую, по его словам, от отца к сыну на протяжении многих поколений и дописывавшуюся каждым новым обладателем. Она содержала поразительные записи, и их внимательное изучение подтвердило мои самые мрачные предположения. Мне следовало бы более критически отнестись к изложенному там, но в то время вера во все мистическое глубоко укоренилась в моей душе.
Начиналась она с рассказа о событиях тринадцатого века, когда замок, где я родился и вырос, был грозной и неприступной крепостью. В наших владениях появился некий весьма примечательный человек, низкого положения, но все же не крестьянин, по имени Мишель, впрочем, более известный как Мове, что означает «злой», поскольку о нем шла зловещая слава. Свою жизнь он посвятил поискам философского камня и эликсира молодости и слыл искушенным в черной магии и алхимии. У Мишеля Злого был сын по имени Карл, юноша, столь же сведущий в тайных науках, сколь и отец, и которого прозвали поэтому Ле Сорсье, или Колдун. Порядочные люди сторонились этой пары, подозревая, что отец и сын делают что-то нечестивое. Поговаривали, что Мишель заживо сжег свою жену, принеся ее в жертву дьяволу, что именно он и его сын виновны в необъяснимых исчезновениях крестьянских детей. Тьму, окутывающую этих двоих людей, прорезал лишь один луч искупительного света: ужасный старик беззаветно любил своего отпрыска, и тот испытывал к нему чувство, намного превосходившее обычную сыновнюю преданность.
Однажды ночью в замке на горе наступило смятение из-за исчезновения юного Годфри, сына Генриха, графа де К. Группа, отправившаяся для поисков юного графа, во главе с обезумевшим отцом ворвалась в небольшой домик, где жили колдуны, и застала там старого Мишеля Злого, хлопотавшего возле большого кипящего котла. Не в силах сдержать себя от ярости и отчаяния, граф бросился на колдуна, и несчастный старик испустил дух в его смертоносных объятиях. Тем временем слуги нашли молодого Годфри в дальних, не использовавшихся в тот момент покоях огромного замка, но радостная весть пришла уже после того, как Мишель оказался убит. Когда граф со своими людьми покидал скромное жилище алхимика, со стороны леса показался силуэт Карла Колдуна. Болтовня взбудораженных слуг сообщила ему о судьбе его отца, и на первый взгляд могло показаться, что он бесстрастно отнесся к его участи. Но затем, медленно надвигаясь на графа, Карл монотонным и при этом ужасным голосом произнес проклятие, преследовавшее с того момента представителей рода графа де К.
Не сможет ни один его прямой потомок Превысить возраст этого убийцы, —изрек он, а затем, прежде чем метнуться в сторону темного леса и скрыться за чернильным занавесом ночи, быстрым движением выхватил из складок своего платья склянку с бесцветной жидкостью и выплеснул ее в лицо убийцы. Граф упал и вскоре, не приходя в сознание, скончался, на следующий день его похоронили, а с того момента, как он появился на свет, и до его смерти прошло немногим более тридцати двух лет. Группы крестьян проводили поиски в окружающих лесах и полях, но убийца графа исчез бесследно.
Время и запрет на упоминания об этом происшествии стерли проклятие из памяти семьи графа, так что когда Годфри, невольный виновник трагедии и наследник графского титула, пал от стрелы во время охоты в возрасте тридцати двух лет, никто не связал его смерть с давними событиями. Но когда годы спустя Роберт, следующий граф, был найден в соседней области мертвым по непонятной причине, крестьяне шепотом стали поговаривать, что смерть нашла их господина вскоре после того, как ему исполнилось тридцать два. Луи, сын Роберта, достигнув рокового возраста, утонул в крепостном рву; скорбный список пополнялся поколение за поколением: жизни Генрихов, Робертов, Антуанов и Арманов, жизнерадостных и добродетельных, обрывались, стоило им достичь возраста их далекого предка в тот момент, когда он совершил убийство.
Из прочитанного я понял, что дальнейшего существования мне отмерено самое большее одиннадцать лет, а может, и меньше. Жизнь, не имевшая прежде в моих глазах особой ценности, с каждым днем становилась все милее, тогда как загадочный мир черной магии затягивал меня все глубже и глубже. Я жил отшельником, и современная наука нисколько не интересовала меня; изучал я лишь средневековую и старался, подобно старику Мишелю и юноше Карлу, овладеть таинствами колдовства и алхимии. Но все же мне никак не удавалось постичь природу странного проклятия, поразившего мой род. Иногда, отбрасывая мистицизм, я пытался найти рациональное объяснение смерти моих предков — например, банальной расправой, начатой Карлом Колдуном и продолженной его потомками. Убедившись в результате долгих изысканий, что род алхимика не имел продолжения, я вернулся к своим исследованиям, посвященным поиску заклинания, способного освободить мой род от бремени ужасного проклятия. Лишь в одном отношении я был непоколебим: мне следует остаться холостым, ибо моя смерть прервет и само проклятие.
Мне было почти тридцать, когда Господь призвал к себе Пьера. Я один похоронил старого слугу во внутреннем дворике, где он любил прогуливаться. Таким образом, я остался единственным живым существом, обитающем в крепости, и мой тщетный протест против надвигающегося рока стал ослабевать, сменяясь смирением с тем, что я должен разделить судьбу моих предков. Большую часть времени я проводил, исследуя покинутые и разрушающиеся залы и башни старого замка, куда раньше, будучи подростком, заходить не решался; стал проникать в такие закоулки, где, по словам старого Пьера, нога человека не ступала уже более четырехсот лет. Повсюду мне попадались странные и удивительные предметы. Мебель, покрытая пылью веков, осыпалась трухой от давно воцарившейся сырости. Все обильно покрывала густая паутина; огромные летучие мыши хлопали странными костистыми крыльями в давно необитаемом мраке.
Я стал отслеживать свой точный возраст, с точностью до дня и часа, ибо каждое движение тяжелого маятника часов в библиотеке отсчитывало заметную часть остатка моего обреченного существования. С мрачным предвкушением я дожидался того момента, который неотвратимо приближался. Проклятие обрывало жизни моих предков незадолго до того, как они достигали возраста, в котором погиб граф Генрих, и теперь я ежесекундно ждал неведанной смерти. Я не знал, в каком обличии она предстанет передо мной, но решил, что ей не встретить в моем лице малодушной дрожащей жертвы. А тем временем с возросшим энтузиазмом продолжал исследовать закоулки старого замка.
Во время одной из самых долгих вылазок в полуразрушенное крыло замка, менее чем за неделю до рокового часа, отмечающего предел моего земного бытия, произошло главное событие всей моей жизни. Почти все утро я пробирался по коридорам и полуразрушенным лестницам в одной из самых потрепанных временем древних башен замка. В начале дня я искал, как спуститься на более низкие уровни, туда, где в Средние века, по всей видимости, была тюрьма, а затем склад для хранения пороха. Когда я, спустившись по одной из лестниц, осторожно двигался по пропитанному селитрой проходу, настил под ногами становился все более хлипким, и вскоре мой мерцающий факел высветил голую, сочащуюся водой стену. Разворачиваясь, ибо дальше идти было некуда, я случайно заметил на полу рядом с ногами неприметную крышку люка с кольцом. После долгой, с перерывами, возни мне удалось ее приподнять; от пахучего дыма, вырвавшегося из черного провала, пламя факела заметалось с шипением, позволив мне, однако, рассмотреть ведущие в глубину каменные ступени.
Как только факел, опущенный в смердящую бездну, стал гореть спокойно и устойчиво, я начал спуск. После долгого спуска по ступеням я оказался в узком каменном проходе, проложенном, судя по всему, глубоко под землей. Проход этот оказался довольно длинным и привел к сырой и древней массивной дубовой двери, оказавшей сопротивление всем моим попыткам открыть ее. Через какое-то время, отчаявшись, я повернул назад, к лестнице, но не успел сделать и нескольких шагов, как пережил одно из самых сильных и глубоких впечатлений, какое может выпасть на долю человека. Я вдруг услышал, как скрипят ржавые петли медленно отворяющейся за моей спиной тяжелой двери. Мои чувства в тот момент описать невозможно. Само по себе наличие в давно опустевшем старом замке очевидных свидетельств присутствия человека или духа вызвало у меня шок. Когда я обернулся и уставился на то, что было причиной звука, мои глаза, должно быть, вылезли от увиденного из орбит.
В древнем, готического вида дверном проеме стоял человек с шапочкой на голове и в длинном черном средневековом платье. Его длинные волосы и ниспадающая борода были очень густыми и отливали чернотой. Мне никогда не доводилось встречать человека с таким высоким лбом и так глубоко запавшими щеками, обрамленными суровыми морщинами; а его руки, длинные, узловатые, похожие на клешни, имели такую смертельную, подобную мрамору белизну, какой я никогда не видел у человека. Костлявое, аскетическое до истощения тело странно и уродливо контрастировало с просторностью его специфического одеяния. Но самым странным были его глаза — два бездонных черных колодца, глубоко понимающие, но при этом полные нечеловеческой злобы. Уставленный на меня их пристальный взгляд был преисполнен такой ненависти, что я словно прирос к полу.
Наконец человек заговорил, и его резкий голос, в котором звучало откровенное презрение и скрытая недоброжелательность, лишь усилил мой ужас. Язык, на котором он изъяснялся, оказался той формой латыни, которой пользовались просвещенные люди в Средние века, и был мне отчасти знаком благодаря изучению трудов древних алхимиков и магов. Он повел речь о проклятии, висящем над моим родом, о том, что мне недолго осталось жить, и подробно описал преступление, совершенное моим предком, и со злорадством перешел к мести Карла Колдуна. Карл скрылся в ночи, но спустя годы вернулся, когда наследник, Годфри, приблизился к тому возрасту, в каком был его отец в роковую ночь, чтобы выпустить стрелу в его сердце. Затем он тайком пробрался в замок и поселился в том самом заброшенном подземелье, у входа в которое стоял сейчас зловещий рассказчик, но покидал его, чтобы подстеречь Роберта, сына Годфри, когда тому минуло тридцать два года, и силой заставить того проглотить яд, чтобы продолжилось мщение, предсказанное в проклятии. Предоставив мне гадать далее над самой главной загадкой — почему проклятие не исчезло вместе со смертью Карла Колдуна, который рано или поздно должен был найти успокоение, — он пустился в долгий рассказ об алхимии и об исследованиях этих двух колдунов, отца и сына, особенно обратив внимание на то, что Карл пытался получить эликсир, дарующий отведавшему его вечную жизнь и неувядаемую молодость.
Воодушевление рассказчика, казалось, вымыло из его взгляда жгучую недоброжелательность, ошеломившую меня поначалу, но вдруг в его глазах снова вспыхнул дьявольский блеск, и с шипением, похожим на змеиное, он высоко поднял склянку с очевидным намерением прервать мою жизнь тем же способом, каким шесть столетий назад Карл Колдун расправился с моим предком. Движимый инстинктом самосохранения, я вырвался из оцепенения, уже долго удерживавшего меня на одном месте, и запустил в существо, угрожающее моей жизни, гаснущим факелом. Я услышал, как склянка разбилась о камень в дверном проходе, и в тот же момент платье странного человека вспыхнуло, осветив подземный проход странным, неприятным сиянием. Испуганный вопль моего несостоявшегося убийцы, полный бессильной злобы, оказался последней каплей для моих истерзанных нервов, и я без сознания повалился на склизкий пол.
Когда чувства наконец вернулись ко мне, вокруг была глубочайшая тьма, и разум, потрясенный пережитым, отказывался от попыток узнать чего-либо еще, но любопытство все же одержало верх. «Кто же был этот злобный человек? — думал я. — Как он проник в замок? Почему он жаждал отомстить за смерть Мишеля Злого и как могло получиться, что со времен Карла Колдуна проклятие в течение долгих столетий неумолимо настигало очередную жертву?» Я оказался свободен от давившего на меня страха, ибо сразил того, кто призван был стать в отношении меня орудием проклятия, и теперь горел желанием лучше разобраться в том, что века преследовало мою семью и превратило мою юность в один долгий кошмарный сон. Набравшись решимости продолжить исследование, я нашарил в кармане огниво и кремень и запалил запасной факел.
Первое, что я увидел, было изуродованное почерневшее тело загадочного незнакомца. Ужасные глаза оказались закрыты. Преодолевая отвращение, я прошел в покои за готической дверью. То, что там оказалось, более всего напоминало лабораторию алхимика. В одном углу высилась груда ярко-желтого металла, искрящегося в свете факела. Вероятно, это было золото, но я не стал тратить время на проверку этого предположения, поскольку был еще не в себе от недавних событий. В дальнем конце покоя оказался выход в одно из ущелий посреди дикого леса. С изумлением я понял, каким образом незнакомец проник в замок, и двинулся обратно. Я не собирался разглядывать останки моего врага, но когда приблизился к телу, мне показалось, что он издал едва слышный стон, словно жизнь в нем еще не совсем потухла. Ошеломленный, я повернулся к обгорелому скорченному телу на полу.
Внезапно эти ужасные глаза, с чернотой более глубокой, чем обгорелые черты лица, раскрылись и уставились на меня с выражением, которое я был не способен истолковать. Потрескавшиеся губы силились произносить какие-то слова, но я их не вполне понял. Когда я различил среди них имя Карла Колдуна, мне затем показалось, что прозвучали слова «годы» и «проклятие», но общий смысл речи уловить не удавалось. При виде недоумения в моих глазах смоляные глаза незнакомца окатили меня такой злобой, что я задрожал, забыв о беспомощном состоянии моего противника.
На последней волне утекающей силы несчастный приподнялся немного на сырых склизких камнях. Я хорошо запомнил, как в предсмертной тоске он вдруг обрел голос и выплеснул на остатках дыхания слова, которые преследуют меня с тех пор днем и ночью.
— Глупец! — выкрикнул он. — Неужели ты не догадался, в чем мой секрет? Безголовый придурок, не способный понять, каким образом проклятие над твоим родом могло исполняться на протяжении шести веков! Разве я не рассказал тебе о великом эликсире вечной жизни? Разве ты не знаешь, что великая задача алхимии оказалась решена? Тогда скажу тебе прямо — это был я! Я! Я! Прожил шестьсот лет, чтобы исполнять свою месть, ибо я — Карл Колдун!
БОГИ И ПОЭЗИЯ
Сумрачным послевоенным апрельским вечером Марсия сидела в одиночестве, погруженная в смутные мысли. Невысказанные желания блуждали в роскошной современной гостиной и устремлялись из дома прочь, на восток, к оливковым рощам далекой Аркадии, которую Марсия до сих пор видела только в мечтах. В задумчивости она выключила верхний свет и расположилась на мягкой тахте под уютной лампочкой, которая заливала журнальный столик приглушенным зеленоватым светом, словно лунное сияние, просачивающееся сквозь листву, оплетающую античные руины.
В простом элегантном черном платье со смелым декольте Марсия выглядела истинной дочерью своей эпохи; но этим вечером девушка ощущала неизмеримую пропасть, отделяющую ее душу от прозаического окружающего мира. Возможно, виною тому была атмосфера чужого дома, в котором она жила, дома, где царил холод, и отношения были натянуты до того, что все вели себя друг с другом как посторонние. А может быть, дело не в доме, а в том, что, перемещаясь в пространстве, ее душа ошиблась временем и местом, и она должна была родиться гораздо позже, или гораздо раньше, или вовсе другой сущностью, не пытающейся сейчас примириться с неприглядной действительностью.
Чтобы рассеять мрачное настроение, затягивающее с каждой минутой все глубже, Марсия стала просматривать лежащий на столике журнал в надежде наткнуться на стихи, которые принесли бы хоть чуточку утешения. Поэзия, как ничто другое, всегда действовала на нее целительно, хотя механизм этого действия был непонятен ей самой. В свете великих стихов безобразие и уродство современности застывали пылью на оконном стекле, сквозь которое видишь прекрасный закат.
Она беспокойно пролистывала страницу за страницей, словно искала воображаемое сокровище, и тут взгляд наткнулся на нечто, мигом прогнавшее тоску. Если бы некий сторонний наблюдатель прочел сейчас мысли Марсии, он сказал бы, что наконец ее мечты осуществились. Всего несколько строчек, написанных верлибром, этим жалким компромиссом между прозой и божественной мелодикой стиха, когда, пытаясь возвыситься над одной, поэт не дотягивается до другой. Но тут звучал живой непринужденный голос поэта, застывшего в экстазе перед обнаженной красотой. В этих лишенных строя стихах пела гармония сфер, возникали из ниоткуда не сдерживаемые рифмой нужные слова — с такой неограниченной свободой стиха Марсия до сей поры не сталкивалась. По мере чтения окружающие предметы растворялись, и вскоре все вокруг превратилось в фантастический морок, в доисторическую синеву усыпанного звездами Млечного пути, куда ступают лишь боги и мечтатели.
Лунный свет над Японией, Белый свет-мотылек! Будда спит, так глубок этот сон, Убаюканный зовом кукушки… Россыпь крошечных крылышек — свет Укрывает мерцающий город, На мгновенье мигнув в тишине фитильками поющих фонариков в женских ладонях, Сияет над тропиками Белый бутон луны Медленно распускает лепестки в колыбели небес… . Воздух набит ароматами, Ленивыми теплыми звуками… Гудящие хоботки наполняют музыкой ночь Под огромным небесным цветком. Над Китаем устало луна Проплывет по небесной реке. Только блики на ветках деревьев резвятся, как стаи серебряных рыбок В темной толще воды; Лунной рябью подернулись камни гробниц и таинственных храмов Под чешуйчатым облачным небом драконьей расцветки[29].Из глубины своей мечты юная читательница воззвала к звездным хорам, в восторге предчувствуя новую эпоху поэзии и возрождение бога Пана. Прикрыв глаза, она все повторяла строки, их мелодии были спрятаны глубоко, словно алмазы на дне горного потока, случайными вспышками приветствующие рождение нового дня.
Лунный свет над Японией, Белый свет-мотылек! Сияет над тропиками Белый бутон луны, Медленно распускает лепестки в колыбели небес… Воздух набит ароматами, Ленивыми теплыми звуками… Над Китаем устало луна Проплывет по небесной реке…Из тумана выступил богоподобный юноша с кадуцеем в руках, в крылатой шляпе и сандалиях, небесная красота его была несравнима ни с одним существом на земле. Юный бог трижды взмахнул жезлом, полученным когда-то от Аполлона в обмен на девятиструнную владычицу звуков, и возложил на чело спящей девушки венок из роз и лавровых листьев. Поклонившись, Гермес произнес:
«О нимфа, что прекраснее златокудрых сестер Кирены и бессмертных Плеяд, возлюбленная Афродитой и благословленная Афиной, ты и впрямь сумела постичь тайну богов, и тайна эта заключена в красоте песен. О прорицательница, превзошедшая избранницу Аполлона, сивиллу из Кум, провозвестница новой эры, слава твоя достигла города Менал, Пан вздыхает и ворочается во сне, готовый пробудиться и узреть маленьких фавнов в венках из роз и древних сатиров. В своей жажде прекрасного ты постигла то, что недоступно помнить ни одному смертному, кроме немногих отвергнутых этим миром, так узнай же: боги не умирают, они засыпают великим сном и видят сны среди лотосов в садах Гесперид по ту сторону золотого заката. Но близится время их пробуждения, и отступит холод и мрак, и Зевс снова воссядет на Олимпе. Море у подножия Пафоса вскипает первозданной пеной, какую видели лишь древние небеса, и в эту ночь пастухи на горе Геликон уже слышат странный шепот и полузабытое пение из-под земли — это пробуждаются родники муз. Бледные изменчивые формы заполнили в сумерках леса и поля, и сам древний океан чертит на своей поверхности загадочные знаки под тонкой луной. Боги терпеливы, сон их долог, но ни людям, ни титанам не дано бросать вызов богам. Корчатся титаны в недрах Тартара, и, придавленные огненной Этной, стонут порожденные Ураном и Геей гиганты. Подступает новый день, когда людям предстоит ответить за то, что отринули богов на многие столетия, но за время долгого сна боги стали добрее, и человеку не грозят бездны, куда отправляют отвергнутых. Вместо мести, что ввергнет людской род в кромешную тьму, заблуждения и пороки, как некогда под властью брадатого Кроноса, боги снова даруют смертным мир и процветание. И этой ночью да узнаешь ты милость богов, и позволено тебе будет взойти на Парнас и узреть сны бессмертных, что достигают земли сквозь столетия. Ибо поэты — это сны богов, и в каждую эпоху рождается поэт, кому предназначено, хоть он сам о том не догадывается, нести людям весть из лотосовых садов по ту сторону заката».
И Гермес ринулся в небесную высь, бережно неся на руках спящую девушку. Овеваемые легкими ветрами из башни Эола, они летели высоко над теплыми душистыми морями, пока не достигли Зевса, утвердившегося на двухвершинном Парнасе. Справа от его золотого трона расположился Аполлон со своими музами, слева — увенчанный листьями плюща Дионис в окружении жизнерадостных вакханок. Подобного великолепия Марсии не доводилось видеть ни в жизни, ни во сне, а ведь это был всего лишь щадящий блеск Парнаса — высокий Олимп и вовсе ослепил бы ее, но был скрыт от ее взора Всемогущим, не желавшим являться смертным во всей мощи своей славы. Перед увитой лавром Киликийской пещерой сидели в ряд шестеро смертных, но эти смертные величием были равны богам. Узнать их было легко, ведь она уже встречала их изображения: божественный Гомер, и подземный странник Данте, и величайший из смертных — Шекспир, и постигший первозданный хаос Мильтон, и вселенский Гёте, и мистический Китс. Это и были те посланцы, которых боги отправляли на землю передать смертным, что Пан не умер, а только спит, — лишь с помощью поэзии боги могут говорить с людьми.
Наконец заговорил Громовержец:
«О дочь моя, дитя из бесконечной череды поколений моих потомков! Дитя мое, вот на тронах из слоновой кости сидят благородные посланцы богов на земле, в слове и букве несущие людям отражение небес. Многим поэтам смертные по праву воздают почести, но лишь тех, кого ты видишь перед собой, наградил сам Аполлон, только их усадил я подле себя — смертных, сумевших заговорить на языке богов. Долго пребывали мы в сонном покое лотосовых садов за пределами заката и обращались к смертным лишь во снах; но пришло время, когда мы будем говорить и наяву. Пришло время пробуждения и перемен.
Вижу, как новый круг проехал Фаэтон на своей колеснице, опалил поля и иссушил источники. По всей Галлии одинокие нимфы, растрепав свои прекрасные волосы, плачут перед иссякшими родниками, а леса над реками обагрились кровью смертных. Арес со своей свитой первым обрушил на землю ярость богов и призвал ужасных Деймоса и Фобоса насытиться кровавой жатвой. Тонет в слезах многострадальная Теллус, лица мужей обернулись оскалами эриний, и в страхе скрывается в небесах Астрея, когда волны проклятий захлестывают землю, не дойдя лишь до подножия этой высокой горы. Явится из хаоса вестник, и пусть скрыто его прибытие до поры до времени, он уже предугадывает грядущее, и ведомо ему все, о чем мечтали его предшественники. Он — избранный, он рожден для того, чтобы вобрать всю красоту мира, красоту невиданной силы, и творить строки, в которых отразится вся мудрость и очарование ушедших времен. Он — тот, кто возвестит о нашем возвращении и приблизит дни, когда рощи снова наполнятся звонкими голосами фавнов и дриад, возвращающихся в свои охотничьи угодья. Направлен наш выбор был теми, кто сидит ныне среди нас на роскошных тронах у Киликийского грота, в их песнях можешь ты уловить грядущее величие, все великолепие которого узнаешь с приходом вестника богов. Слушай же собравшихся здесь поэтов, что обратятся один за другим к тебе. Каждую их ноту снова услышишь ты когда-нибудь в голосе грядущего поэта, и принесет его поэзия мир и усладу душе — хотя поиски могут занять годы. Внимай этим звукам, и пусть тонкими струнами задрожат они в тайниках души твоей и появятся перед тобой вновь по возвращении на землю — так внезапно пробившийся кристальный родник на далекой Сицилии напоминает о поющих ручьях Алфея в самом сердце Эллады».
И встал со своей лирой старейший из поэтов, Гомер, и восславил гимном Афродиту. Марсия не знала ни слова на древнегреческом, однако душой постигала каждую строчку: таинственная гармония этих звуков была понятна и смертному, и богам и не нуждалась в переводе.
И также легко и с восторгом она воспринимала небесную музыку стихов Данте и Гёте на незнакомых языках. Но наконец-то до ее слуха долетели понятные ей слова. То был Шекспир, бард Эйвона, некогда бог среди людей, ныне же — бог среди богов.
…Пишите ж: пусть супруг мой дорогой, Ваш сын, спешит с полей кровавой битвы, С благословеньем вступит в дом родной, Издалека — о нем мои молитвы.[30]Еще более знакомыми слуху показались слова Мильтона. Он не был больше слепым, а стихи его все так же звучали бессмертной музыкой:
…Иль, позабыв уют домашний, С вершины одинокой башни Следить созвездья в вышине; С Гермесом быть наедине; Внимать учению Платона И размышлять уединенно: Где он теперь, в каких мирах Живет, земной покинув прах? . Пусть о сраженьях справедливых, О Трое, о Прекрасных Фивах Трагедия ведет рассказ, Ко мне сойдя в урочный час…[31]Последним вступил юный голос Китса, в своей поэзии он ближе всех подошел к прекрасному племени фавнов:
Напевы, слуху внятные, нежны — Но те, неслышные, еще нежней; Так не смолкайте флейты… . Когда и мы, дар жизни расточив, Уйдем бесследно — и на смену нам Придет иная скорбь и маета, Тогда, не помня о минувшем зле, Скажи иным векам и племенам: «В прекрасном — правда, в правде — красота; Иного знать не нужно на земле».[32]Как только певец умолк, на крыльях ветра принеслась Эос из далекого Египта, там, у берегов Нила, ночами оплакивала она погибшего Мемнона. Розовоперстая богиня подлетела к трону Громовержца и, преклонив колени у подножия, воззвала: «Владыка, время открывать Восточные Врата». И златокудрый Феб, передав лиру музе-избраннице Каллиопе, приготовился отбыть в свой сияющий высокий чертог, где ожидали украшенные взнузданные кони, запряженные в золотую колесницу нового дня. Спустился Зевс со своего трона и, положив руку на голову Марсии, произнес:
«Дитя мое, ночь угасает, успей вернуться домой до пробуждения смертных. Не плачь о бренности бытия, ибо рассеется вскоре морок неверия, и боги снова появятся среди людей. Неустанно ищи посланника небес, он принесет мир и покой, и даруют тебе счастье услышанные от него слова, и в его мечтах о прекрасном обретет твоя душа то, о чем так страстно молилась». Когда Зевс договорил, юный Гермес нежно подхватил девушку и понес к угасающим в свете зари звездам — обратно, на запад, над незримыми морями.
Прошло много лет с тех пор, как Марсии грезились боги, собравшиеся на высоком Парнасе. Этим вечером она сидит в той же роскошной гостиной, но на этот раз не в одиночестве. Ее искания завершились, поскольку рядом с ней тот, чье имя гремит по свету, и весь мир у ног этого молодого поэта, величайшего из поэтов. Стихи, которые он читает ей, еще никто никогда не слышал, но когда люди услышат, к ним начнут возвращаться мечты и фантазии, забытые много веков назад, когда Пан в Аркадии погрузился в дрему и великие боги уснули в лотосовых садах, в том краю, где кончаются владения Гесперид. Марсия слушает поэта, под нежный ритм и таинственную мелодию стихов ее душа впервые обретает покой, она узнает в них эхо дивных нот фракийского Орфея, что приводили в движение скалы и леса на склонах Эвроса. Певец смолк в напряженном ожидании вердикта, но что еще могла бы вымолвить потрясенная Марсия, кроме того, что его поэзия достойна богов?
И как только она произнесла это, перед ее взором возник Парнас, и далекий раскатистый голос повторил: «И даруют тебе счастье услышанные от него слова, и в его мечтах о прекрасном обретет твоя душа то, о чем так страстно молилась».
УЛИЦА
Некоторые уверяют, что у предметов, которыми мы пользуемся, и мест, в которых мы бываем, есть души, впрочем, встречаются и такие, кто заявляет, что ни у мест, ни у предметов души не бывает; я не отваживаюсь сам судить об этом, но просто расскажу вам про Улицу.
Мужи силы и чести проложили своими стопами эту Улицу, отважные мужчины нашей крови, прибывшие с Благословенных островов, переплыв море. Изначально Улица была лишь тропой, протоптанной водоносами от лесного ручья к кучке домов возле побережья. Затем, когда прибыли новые поселенцы и стали подыскивать место для житья, они поставили свои лачуги вдоль северной стороны тропы; лачуги из прочных дубовых бревен и обложенные камнями со стороны леса, в котором скрывались индейцы с зажигательными стрелами. А через несколько лет появились дома и на южной стороне Улицы.
Обычно по Улице проходили серьезные мужи в конических шляпах, редко расстававшиеся с мушкетами и силками. А также прогуливались их жены в дамских шляпках и послушно ведущие себя дети. По вечерам те мужи со своими женами и детьми рассаживались возле очагов и читали и беседовали. То, о чем они читали или беседовали, было бесхитростным, но питало их мужество и добродетель, давало поддержку в освоении лесов и возделывании полей. И дети, слушая, узнавали о законах и деяниях предков, о той славной Англии, которую никогда не видели или уже не помнили.
Затем случилась война, и индейцы после более не беспокоили Улицу. Те мужи, что прилежно трудились, достигли процветания и были счастливы в полную меру своих представлений об этом. Дети росли, ни в чем не нуждаясь, и со старой родины прибывали новые семьи, чтобы поселиться на Улице. И дети прежних детей, и дети новоприбывших становились взрослыми. Городок стал городом; лачуги одна за другой сменялись домами — незатейливыми замечательными зданиями из кирпича и дерева, с каменными ступенями и железными поручнями у входа и фонарями над парадной дверью. Дома эти строились основательно, с расчетом, что они будут служить многим поколениям. Внутри них изгибались изящные лестницы, выступали резные каминные полки и была со вкусом подобранная обстановка, фарфор и серебро, привезенные с прежней родины.
В то время Улица была напоена мечтами молодого поколения и радостью от того, что ее обитатели становились все более элегантны и счастливы. Где прежде обитали лишь сила и честь, теперь обосновались изящный вкус и ученость. Книги, картины и музыка поселялись в домах, и молодежь потянулась в университет, выросший на равнине к северу. Конические шляпы и шпаги, кружева и белоснежные парики сменились стуком копыт по булыжным мостовым и грохотом множества позолоченных экипажей; вдоль выложенных кирпичом тротуаров появились стойла и навесы для лошадей.
Вдоль Улицы росло немало деревьев: вязы и дубы и благородные клены, и потому летом Улица наполнялась нежной зеленью и птичьими трелями. И за домами разбили розовые сады с солнечными часами и живой изгородью, в которых по вечерам очаровательно сияют луна и звезды и искрятся от росы благоухающие цветы.
Таким образом, после войны, бедствий и перемен, Улица погрузилась в прекрасный сон. Однажды большинство молодых людей покинули ее, и некоторые уже не вернулись. Это было в том же году, когда свернули старый флаг и подняли новый, звезднополосатый. Но хотя люди говорили о значительных переменах, Улица их не ощущала, ибо ее обитатели остались теми же, обсуждали те же семейные дела в прежних родовых поместьях. И деревья надежно укрывали певчих птиц, а по вечерам очаровательно сияли луна и звезды и искрились от росы благоухающие цветы в садах с живой изгородью.
Со временем на Улице перестали встречаться шпаги, треуголки и парики. Как странно смотрелись теперь некоторые ее обитатели — с тросточками, невероятными бородами и коротко остриженными головами! Издали стали доноситься новые звуки — сперва со стороны реки, проходящей в миле от Улицы, раздались странное пыхтение и скрежет, и через несколько лет странное пыхтение и скрежет, а то и грохот слышались с самых разных направлений. Воздух не был уже так чист, как прежде, но дух этого места не изменился. Кровь и души предков лежали в основе Улицы, под тротуарами и мостовой. Дух не изменился, даже когда землю разрыли, чтобы проложить странные трубы, и когда установили высокие столбы с непонятной проволокой. На Улице было так много древнего, что забыть о прошлом оказалось непросто.
Но время невзгод наступило, и многие, издавна жившие на Улице, покинули ее, а множество не живших на Улице прежде — поселились здесь, их произношение было грубым и резким, а лица казались неприятными. Мысли их тоже вступали в противоречие с мудрым, справедливым духом Улицы, и Улица молча изнемогала, в то время как дома разрушались, деревья вымирали одно за другим, а в садах буйно разрастались сорняки и копился мусор. Но однажды Улица снова ощутила чувство гордости, когда по ней промаршировали молодые мужчины, некоторые из которых затем никогда не вернулись. Молодые мужчины в голубых мундирах.
Со временем участь Улицы становилась все более тяжелой. Она лишилась деревьев, а на месте садов оказались задние дворы дешевых, уродливых, новых зданий на параллельных улицах. Дома еще стояли, несмотря на разрушительное действие лет, бурь и червей, ведь они строились с расчетом, что будут служить многим поколениям. Новая разновидность лиц появилась на Улице: смуглые, зловещие лица с хитрыми глазами и странными чертами, владельцы которых произносили незнакомые слова и развесили на многих обветшалых домах вывески, содержащие как знакомые, так и незнакомые буквы. Мусор с ручных тележек переполнил сточные канавы. Противное, трудноопределимое зловоние поселилось в этих местах, а древний дух уснул.
Однажды великое волнение взбудоражило Улицу. Далеко за морями бушевала война и революция, гибли династии, их выродившиеся представители перебрались с сомнительными целями на земли Запада. Много таких оказалось среди поселившихся в обветшалых домах, что когда-то знали птичье пение и аромат роз. Однако земли Запада тоже пробудились и присоединились к титанической борьбе прежней родины за цивилизацию. Над городами снова взвился старый флаг, правда, в сопровождении флага нового — трехцветного, незамысловатого, но приятного на вид. Но на Улице флагов было мало, ибо там обитали лишь страх, ненависть и безразличие. Снова по ней промаршировали молодые мужчины, но не похожие на тех, прежних. Что-то оказалось потеряно. Сыновья молодых мужчин прежних времен, одетые в оливково-серую форму и несущие истинный дух своих предков, прибыли сюда из отдаленных земель и не знали ни Улицу, ни древнего духа этих мест.
За морями была одержана великая победа, и большинство этих юношей с триумфом вернулись. Те, кто прежде нуждался, теперь не прозябали в нужде, однако страх, ненависть и безразличие по-прежнему обитали на Улице, ибо многие пришлые так и продолжали жить здесь, и множество чужаков приехали из далеких мест и поселились в древних домах. А те молодые мужчины, что вернулись, не желали более жить в этом месте. Смуглы и зловещи были лица большинства чужаков, но все же изредка среди них попадались такие же, как основатели Улицы, создавшие ее дух. Похожие и в то же время непохожие, ибо у всех в глазах жил сверхъестественный нездоровый блеск жадности, амбиций, мстительности или странно устремленного усердия. Тревога и предательство поселились среди озлобленных людей, плетущих интриги, чтобы нанести смертельный удар по землям Запада и захватить власть над руинами, и в то же время фанатики-убийцы стекались в ту несчастную, морозную страну, откуда были родом большинство чужаков. Сердцем этого заговора стала Улица, обшарпанные дома которой кишели чужаками, сеятелями беспорядка, вынашивающими планы и жаждущими наступления назначенного дня крови, огня и смертоубийства.
По отношению к различным группам, обосновавшимся на Улице, Закон мог сказать очень много, но мало что мог сделать. С величайшей осмотрительностью люди с тайными опознавательными знаками засиживались и беседовали в «Пекарне Петровича», в убогой «Школе современной экономики Рифкина», в «Клубе для встреч» и в кафе «Свобода». Там собирались в большом количестве зловещие люди и почти всегда говорили речи на иностранном языке. Тем не менее старинные дома продолжали стоять, сохраняя в себе забытые знания о благородстве минувших веков, о солидных колонистах и цветах, искрящихся от росы в лунном свете. Иногда какой-нибудь поэт или путешественник обращал на них внимание и пытаться описать их в свете минувшей славы, но таких путешественников и поэтов было немного.
Широко распространился слух, что в этих зданиях засели главари огромной банды террористов, планирующих начать в назначенный день оргию кровопролития ради разрушения Америки и всех тех старых добрых традиций, которые любила Улица. Листовки и прокламации падали, кружась, в грязные сточные канавы — листовки и прокламации, на множестве языков и множеством алфавитов призывающие к преступлениям и бунту. Эти тексты призывали людей отринуть законы и добродетели, возвеличенные нашими отцами, растоптать душу старой Америки — душу, сохраняющую в себе полуторатысячелетнюю англосаксонскую свободу, справедливость и терпимость. Люди говорили, что темнокожие, поселившиеся на Улице и проводящие собрания в ее гниющих зданиях — мозговой центр ужасной революции, протянувшей свои гадкие щупальца в трущобы тысяч городов, что по их приказу миллионы безмозглых, одурманенных созданий бросятся сжигать, убивать и разрушать, пока от земли наших отцов ничего не останется. Об этом не раз говорилось и повторялось, и многие со страхом ждали четвертого дня июля, на который часто намекали странные тексты; тем не менее не удавалось найти ничего, что можно было бы вменить в вину. Никто не мог сказать, кого надо арестовать, чтобы пресечь на корню этот проклятый заговор. Много раз появлялись на Улице отряды одетой в синее полиции и обыскивали обветшалые здания, но в конце концов они перестали приезжать сюда, ибо сами тоже слишком устали от законности и порядка и предоставили город его судьбе. И тогда здесь появились люди в оливково-сером, вооруженные мушкетами, и казалось, что это грустный сон Улицы, призрачное видение из прошлого, когда вооруженные мушкетами люди в конических шляпах прогуливались по Улице от лесного ручья к кучке домов возле побережья. Но уже ничего нельзя было сделать, чтобы остановить надвигающийся катаклизм, ибо смуглые, зловещие люди были умудрены в коварстве.
Так Улица пребывала в тревожном оцепенении, пока одним вечером не собрались повсюду — и в «Пекарне Петровича», и в «Школе современной экономики Рифкина», и в «Клубе для встреч», и в кафе «Свобода», и в других подобных местах — огромные толпы людей, в глазах которых горело предвкушение триумфа и ожидание. По тайным каналам передавались странные сообщения и великое множество странных сообщений передавалось просто на словах, но большинство из них удалось разгадать лишь после того, как земли Запада оказались спасены от заговора. Люди в оливково-сером не могли сказать ни что происходит, ни чего следует делать, ибо смуглые зловещие люди были искушенными в конспирации.
Но тем не менее люди в оливково-сером будут долго помнить ту ночь и рассказывать об Улице своим внукам, ибо многим из них пришлось поутру исполнять миссию совсем не ту, какую они ожидали. Всем было известно, что кварталы, где разместилось гнездо анархии, состоят из старых домов, испытавших на себе разрушительное действие лет, бурь и червей, и все же случившееся той летней ночью изумляет невероятным единообразием. Это было действительно необычайное происшествие, хотя и вполне объяснимое. Ибо в ту ночь вдруг, где-то в первый час после полуночи, накопившееся разрушительное действие лет, бурь и червей привело к ужасной катастрофе: стены всех зданий на Улице обрушились и остались стоять только две древние дымовые трубы и кусок кирпичной кладки. Среди руин не оказалось ни одного живого человека. Среди огромной толпы, пришедшей поглазеть на происшедшее, оказались поэт и путешественник, поведавшие затем довольно странные истории. Поэт рассказал, что в течение всего остававшегося до рассвета времени, рассматривая невзрачные руины в ярком электрическом свете, он повсюду замечал, что над ними смутно проглядывает иная картина: струящийся лунный свет, замечательные дома, вязы, дубы и благородные клены. А путешественник уверял, что вместо обыкновенного для того места зловония он ощущал тонкий аромат цветущих роз. Но разве поэты не склонны к мечтаниям, а путешественники — к сочинению мнимых подробностей?
Некоторые уверяют, что у предметов, которыми мы пользуемся, и мест, в которых мы бываем, есть души, впрочем, встречаются и такие, кто заявляет, что ни у мест, ни у предметов души не бывает; я не отваживаюсь сам судить об этом, но просто рассказал вам про Улицу.
ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЕ ХУАНА РОМЕРО
У меня нет желания рассказывать о событиях, произошедших восемнадцатого и девятнадцатого октября 1894 года на руднике Нортона. Но долг перед наукой понуждает меня мысленно вернуться на закате жизни к событиям, внушающим мне ужас, нестерпимый по той причине, что я не в силах объяснить его. Полагаю, прежде чем покинуть этот мир, я должен рассказать все, что мне известно о перевоплощении — назовем это так — Хуана Ромеро.
Мое имя и происхождение потомкам знать вовсе не обязательно; к тому же лучше не тащить их в будущее; ведь эмигрант, переселившийся в Штаты или в какую-то из колоний, несомненно, сделал это, чтобы расстаться со своим прошлым. К тому же моя прежняя жизнь имеет крайне слабое отношение к настоящей истории; отмечу лишь, что во времена службы в Индии я проводил больше времени с мудрыми седобородыми наставниками, чем со своими собратьями-офицерами. Я был уже всерьез увлечен древними восточными учениями, когда несчастье перевернуло всю мою жизнь, и пришлось начать строить ее заново на просторах американского Дикого Запада, приняв мое теперешнее имя, весьма распространенное и ничем не примечательное.
Лето и осень 1894 года я провел на мрачных склонах Кактусовых гор, устроившись рядовым землекопом на знаменитый рудник Нортона, открытый пожилым старателем за несколько лет до этого — благодаря нему близлежащая местность перестала напоминать безлюдную пустыню и превратилась в котел, бурлящий убогой жизнью наемных рабочих. Обнаружение золотоносных пещер, расположенных глубоко под горным озером, обогатило почтенного старателя сверх всякой меры, и корпорация, которой это месторождение было в итоге продано, стала прокладывать дополнительные туннели. Вскоре добыча золота еще более выросла, так как были обнаружены новые пещеры; и гигантская разношерстная армия рудокопов день и ночь трудилась не покладая рук в многочисленные проходах и горных пустотах. Управляющий рудником, мистер Артур, любил подискутировать об особенностях местных геологических образований и строить предположения о наличии длинной цепи пещер и о будущем этого грандиозного предприятия по добыче золота. Он не сомневался, что золотоносные каверны возникли в результате действия воды, и твердо верил, что почти все каверны в этом районе уже найдены.
Хуан Ромеро появился на руднике Нортона вскоре после того, как я устроился туда. Он прибыл среди толп полудиких мексиканцев, стекавшихся на рудник из соседних областей, но выделялся своей необычной внешностью: будучи типичнейшим индейцем, он имел более бледный цвет кожи и изысканную стать, делавшую его совсем непохожим ни на местных «мексикашек», ни на пайютов. Но, как ни странно, отличаясь от большинства индейцев, как испанизированных, так и коренных, Ромеро не имел внешних признаков родства с белой расой. Когда этот молчаливый рабочий, поднявшись рано утром, протягивал руки навстречу солнцу, выползающему из-за холмов к востоку, словно исполняя древний ритуал, смысл которого не понимал и сам, то напоминал не кастильского конквистадора или американского первопоселенца, а скорее древнего и благородного ацтека. Однако в лице Ромеро никаких признаков благородства не наблюдалось. Невежественный и чумазый, он был своим среди мексиканцев, а происхождения (как я узнал позже) был самого низкого. Его нашли ребенком в сырой хижине в горах: он оказался единственным, кто пережил эпидемию, свирепствовавшую в тех местах. Рядом с этим убогим жилищем, возле необычного горного разлома, лежали два скелета — вероятно, останки его родителей, очищенные стервятниками. Об этих людях никто ничего не знал, и вскоре о них забыли. Глиняная хижина рассыпалась, а разлом засыпало лавиной, так что даже от самого места, где его нашли, ничего не осталось. Воспитанный в семье мексиканца, промышлявшего угоном крупного скота, который и дал ему имя Хуан, он мало чем отличался от остальных рабочих.
Привязанность, которую испытывал ко мне Ромеро, скорее всего не могла бы возникнуть, не будь у меня старинного индийского перстня необычного вида. О происхождении перстня и о том, как он ко мне попал, я не буду рассказывать. Это была единственная связь с предшествующей главой моей жизни, закрытой навсегда, и я весьма дорожил им. Я заметил, что странного вида мексиканец заинтересовался им, но в глазах его, когда он смотрел на перстень, была не алчность, а обожание. Древние тайные знаки на перстне словно бы вызывали какой-то смутный отклик в его не пробужденном, но уже и не спящем разуме, несмотря на то, что ему, без сомнения, не доводилось видеть их раньше. Через несколько недель после появления на руднике Ромеро стал для меня преданным слугой, несмотря на то, что сам я был обычным шахтером. Наше общение вынужденно ограничивалось самыми простыми фразами. Хуан знал лишь несколько английских слов, а я обнаружил, что мой оксфордский испанский сильно отличается от диалекта наемных рабочих из Новой Испании.
Ничто не предвещало тех событий, о которых я собираюсь рассказать. Хотя странный человек Ромеро заинтересовал меня, а мой перстень занимал его воображение, однако до тех взрывных работ ни у меня, ни у него не было предчувствий. Ввиду геологических особенностей понадобилось углубить шахту в той ее части, что располагалась ниже всех горизонтальных проходов, и поскольку управляющий рудником был убежден, что в этом месте почти несокрушимая скала, был заложен мощный заряд динамита. Ни мне, ни Ромеро не довелось принимать участие в этой работе, так что обо всем этом мы услышали от других. От взрыва, оказавшегося мощнее, чем предполагалось, вся гора содрогнулась. Окна в лачугах на ее склонах повылетали, а рудокопов, работавших в близлежащих туннелях, сбило с ног. В озере Джевел, расположенном выше места взрыва, воды вздыбились, как во время бури. После обследования места взрыва выяснилось, что под землей разверзлась пропасть столь чудовищно глубокая, что ни одна веревка не доставала до ее дна и свет фонарей не добивал до него. Озадаченные землекопы явились к управляющему рудником, и тот приказал взять сколько угодно самых длинных канатов, связать их и измерить глубину.
Вскоре побледневшие рабочие вернулись и сообщили управляющему рудником, что его план провалился. Вежливо, но твердо они не только отказались вернуться к пропасти, но и заявили, что не будут работать в шахтах, пока провал остается незапечатанным. Наличие рядом чего-то непостижимого, очевидно, пугало их. Управляющий не стал их за это упрекать. Вместо этого он глубоко задумался над тем, что делать завтра. В тот вечер ночная смена не вышла на работу.
В два часа ночи в горах зловеще завыл одинокий койот. Откуда-то с территории прииска то ли ему в ответ, то ли кому-то другому вторила собака. Над вершинами гор собиралась буря, и облака причудливой формы неслись возле чернильного лоскута на звездном небе, по краю которого лунный свет с трудом прорывался сквозь их перисто-слоистую толщу. С лежака надо мной, где обычно спал Ромеро, донесся голос, возбужденный, напряженный, пронизанный непонятным мне смутным ожиданием.
— Madre de Dios!.. el sonido… ese sonido… oiga Vd! lo oye Vd?.. señor, этот звук!
Я прислушался, стараясь понять, о каком звуке он говорит. Хорошо различался вой койота, собаки и звуки бури — особенно бури, уже заглушавшей все прочие звуки, поскольку ветер разошелся в полную силу. За окнами сверкали молнии. Я попытался уточнить у взволнованного мексиканца, перечисляя звуки, которые слышал:
— El coyote?.. El perro?.. El viento?..
Ромеро замолчал. Затем до меня донесся его благоговейный шепот:
— El ritmo, señor… el ritmo de la tierra… что-то пульсирует под землей!
Теперь я тоже услышал, и это заставило меня вздрогнуть по непонятной причине. Откуда-то из глубины земли доносился звук — пульс, как сказал мексиканец, — и этот ритм, хотя и негромкий, уже ощущался отчетливее воя койота, собаки и усиливающейся бури. Пытаться описывать этот звук бесполезно — он не поддается описанию. В нем было что-то от пульсаций мощного двигателя, зарождающихся в чреве большого лайнера и доносящихся до верхней палубы, однако без ощущения мертвенности и неодушевленности звука работы механизма. Из всех его качеств более всего меня поразило ощущение придавленности толщей земли. Мне тогда сразу припомнилась цитата из Джозефа Гленвила, использованная для эпиграфа Эдгаром По: «необъятность, неисчерпаемость и непостижимость его деяний, глубина коих превосходит глубину Демокритова колодца».
Внезапно Ромеро спрыгнул со своей койки и замер рядом со мной, завороженно глядя на перстень, загадочно мерцающий при вспышках молний, а затем уставился в сторону шахты. Я тоже поднялся, и мы некоторое время неподвижно вслушивались в странный ритмичный звук, который рос и, казалось, становился все более одушевленным. Затем, словно подчиняясь чужой воле, мы двинулись к двери, с дребезжанием сдерживавшуей бушующую снаружи бурю. Пение где-то в глубине — а именно на пение стал походить звук — становилось словно бы более глубоким и объемным, и нас неодолимо влекло выйти в бурю и заглянуть в зияющую черноту шахты.
По пути мы не встретили ни души, поскольку рабочие ночной смены ввиду неожиданного выходного наверняка засели в «Сухом ущелье» и скармливали там сонливому бармену зловещие слухи. Только в сторожке светился желтый квадрат окна, словно недреманное око. Я рассеянно задался вопросом, остался ли сторож равнодушным к странному звуку, но Ромеро ускорил шаг, и я не стал пытаться выяснить это.
Мы начали спускаться в шахту, звук стал сложным, с отчетливо различимыми составляющими. Мне он показался подобием музыкального сопровождения восточных церемоний, с боем барабанов и многоголосым пением. Как вам известно, я много лет жил в Индии. Мы с Ромеро решительно спускались по наклонным проходам и лестницам в манящую глубь, к тайне, которая нас неудержимо влекла. В какой-то момент я решил, что сошел с ума — это было тогда, когда я осознал, что идем мы не в кромешной тьме, но старинный перстень на моей руке излучает жуткое сияние, прорезающее влажный тяжелый воздух вокруг нас.
После очередного спуска по веревочной лестнице Ромеро вдруг бросился бежать, оставив меня в одиночестве. Должно быть, очередное изменение в звучании барабанного боя и пения, для меня оказавшееся просто заметным, подействовало на него многократно сильнее; испустив страшный вопль, он припустился наугад во мрак пещеры. Я слышал его последующие выкрики и стоны, когда он спотыкался о камни, задевал обо что-то и неуклюже спускался по шаткой лестнице. Будучи напуганным, я все же сообразил, что перестал понимать его слова, хотя отчетливо слышал их. Грубые, выразительные многосложные слова сменили его обычную смесь из плохого испанского и чудовищного английского; лишь многократно повторенное им слово «Уицилопочтли» показалось мне знакомым. Позже я осознал, что встречал это слово в трудах великого историка, и содрогнулся от возникшей при этом ассоциации.
Кульминация событий этой ужасной ночи, непонятная и стремительная, произошла, когда я достиг последней пещеры, где заканчивалось наше путешествие. Из темноты впереди донесся последний вопль мексиканца, подхваченный диким хором, подобного которому мне не доводилось слышать за всю мою жизнь и надеюсь, что более не доведется. В тот момент мне показалось, что все земные чудовища и вся прочая нечисть разом отверзли глотки, готовясь погубить человеческий род. В ту же секунду свет, который испускал мой перстень, погас, и я увидел другой свет — от зарева в нескольких ярдах впереди меня. Вскоре я приблизился к светящейся пропасти, поглотившей, очевидно, несчастного Ромеро. Осторожно заглянув через край, ничем не огороженный, я увидел кромешный ад, бурливший огнями и звуками. Сначала я видел лишь бурление пятен света, но затем из месива стали выплывать смутные очертания, и я различил… Хуан Ромеро?.. но Боже!.. не осмеливаюсь сказать, что я увидел там!.. Затем само небо пришло мне на помощь, все накрыл жуткий грохот, словно столкнулись две вселенные. Хаос, мельтешивший в моих глазах, исчез, и я познал покой забвения.
Ввиду этих обстоятельств мне трудно продолжить этот странный рассказ, но все же постараюсь изложить, что было дальше, не пытаясь разобраться, где грань между реальностью и очевидным. Очнулся я целым и невредимым в своей постели, в окно пробивался красный отблеск рассвета. На столе в нашей комнате в окружении мужчин, среди которых был и лекарь прииска, лежало безжизненное тело Хуана Ромеро. Они обсуждали странную смерть мексиканца, словно погрузившегося в глубокий сон; судя по всему, эта смерть была как-то связана с необычной молнией чудовищной силы, ударившей в гору и сотрясшей ее. Причина смерти была непонятной, и вскрытие не пролило на это света, ибо не выявило ничего, что препятствовало ему продолжать жить. Из доносившихся до меня обрывков бесед следовало, что ни я, ни Ромеро не уходили никуда ночью во время бури, пронесшейся над Кактусовыми горами. Рабочие, рискнувшие спуститься в шахту, сообщили, что из-за бури произошел обвал, запечатавший ту пропасть, что произвела днем раньше на всех такое ужасное впечатление. Когда я поинтересовался у сторожа, слышал ли он какие-нибудь особенные звуки перед необычно мощным разрядом молнии, он упомянул завывания койота, собаки и ветра в горах — и ничего более. Я нисколько не сомневаюсь в его словах.
Когда работы возобновились, управляющий рудника, мистер Артур, собрал из наиболее смелых группу, которая обследовала ту область, где разверзлась пропасть. Занявшись этим без особого энтузиазма, они просверлили глубокую скважину. Результат оказался крайне любопытным. Следовало бы ожидать, что свод над пустотой не окажется толстым, однако бур наткнулся на крепкую и толстую скалу. Не найдя там более ничего, даже золота, управляющий оставил попытки исследований, но после этого не раз на его лице бывало недоумение, когда он сидел, задумавшись, за своим столом.
И еще кое-что любопытное. Вскоре после того, как я очнулся в то утро после бури, я заметил необъяснимое отсутствие индийского перстня на моей руке. И хотя я очень дорожил им, обнаружив исчезновение, я ощутил облегчение. Если его присвоил кто-то из моих товарищей-рудокопов, он, должно быть, как-то хитро распорядился своим трофеем, ибо ни объявление в газете о поиске пропажи, ни попытки полиции найти его не дали никакого результата, и больше я этого перстня не видел. Но при этом я сомневаюсь, что перстень похитила рука смертного, ибо много странных вещей довелось мне познать в Индии.
Мое отношение ко всему происшедшему то и дело меняется. При свете дня и вообще почти в любое время года я более склонен верить, что странные события — лишь плод моего воображения; но иногда осенними ночами, когда часа в два мрачно завывает ветер и дикие звери, из неизведанной глубины доносится вдруг омерзительный ритм — я снова ощущаю весь ужас того, что связано с перевоплощением Хуана Ромеро.
АЗАТОТ
Когда старость легла на мир и умение удивляться оставило умы людей; когда серые города вознесли к дымным небесам башни мрачные и уродливые, в тени которых никто не посмел бы возмечтать о цветущих весенних лугах; когда ученость сорвала с Земли покров красоты, и поэты забыли о том, как надо воспевать призрачные явления, зримые затуманенными и обращенными внутрь глазами; когда миновало сие и детские надежды исчезли навсегда, нашелся такой человек, который, оставив жизнь, отправился взыскать пространства, в кои бежали мечты мира.
Об имени и обители этого человека известно немногое, ибо принадлежали они только к миру проявленному; впрочем, говорят, что славными они не были. Достаточно будет сказать, что обитал он в городе с высокими стенами, в котором правил бесплодный сумрак, что трудился весь день посреди суматошных теней, а вечером возвращался домой в комнату, единственное окно которой открывалось не на просторные поля и рощи, но в темный двор, куда в тупом отчаянии смотрели другие окна. Из этого каземата видны были только стены и окна, и только высунувшись подальше, можно было взглянуть на течение мелких звезд. И потому что одних только стен и окон достаточно для того, чтобы довести до безумия человека, который мечтает и много читает, обитатель той комнаты ночь за ночью высовывался из окна и зрел ввысь, дабы увидеть хотя бы кусочек того, что творится за пределами мира проявленного и его высоких городов. С течением лет он стал называть неторопливо плывущие звезды по именам и провожать их в воображении своем, когда, к прискорбию его, ускользали они от взора; и вот наконец зрение его открылось для множества тайных перспектив, о существовании которых не подозревало обыкновенное око. A однажды ночью вдруг лег над великой пропастью мост, и полные видений небеса пролились в окно одинокого зрителя, смешиваясь со спертым воздухом его комнаты, делая его соучастником своих сказочных чудес.
Хлынули в ту комнату буйные потоки фиолетовой полночи, усыпанные золотой пылью, вихри песка и огня, вырвавшиеся из запредельных пространств, и густые ароматы горних миров. Ливнем пролились опиаты, озаренные солнцами, которых не узреть взгляду, и в водоворотах их резвились странные дельфины и нимфы морских, не знающих времени глубин. Бесшумная бесконечность вскипела вокруг мечтателя и понесла его прочь, не касаясь тела, так и застывшего в одиноком окне; и на дни, которым счета не было в календарях людей, приливы дальних сфер понесли его к движению других циклов, ласково оставив его спящим на зеленом рассветном берегу — на зеленом берегу, пропитанном дуновением лотосового цвета и усыпанном алыми камалатами…
ПОТОМОК
Записывая сии строки на ложе, которое мой доктор считает моим смертным одром, более всего я страшусь того, что человек этот ошибается. Полагаю, что меня собираются хоронить на следующей неделе, но…
В Лондоне есть такой человек, который визжит от страха, когда звонит церковный колокол. Вместе со своим полосатым котом, который только и разделяет его одиночество, он проживает в Грейс-инн[33], и люди считают его безвредным сумасшедшим. Комната его полна книг самого кроткого и детского содержания, и час за часом он пытается затеряться между их ветхих страниц. В жизни ему нужно только одно — возможность не думать. По какой-то неведомой причине рассуждение и мысль враждебны ему, и от всякого предмета, способного возмутить его воображение, он спасается как от чумы. Человек этот тощ, сед и морщинист, однако некоторые утверждают, что он не настолько стар, как кажется. Страх вцепился в него своими жестокими когтями, и даже звук способен заставить его вздрогнуть, оцепенеть и покрыться бисеринками пота. Друзей и компаньонов он отвергает, ибо не хочет отвечать ни на какие вопросы. Те, кто знал его как ученого и эстета, утверждают, что им горько видеть его таким. Он утратил все связи с ними многие годы назад, и никто не испытывает уверенности в том, покинул ли он страну или просто укрылся в некоем тайном убежище. Прошло десять лет с тех пор, как он переселился в Грейс-инн, a о том, где был прежде, он не говорил никому до той самой ночи, когда молодой Вильямс приобрел «Некрономикон».
Молодому мечтателю Вильямсу было всего двадцать три года, и, перебравшись в сей старинный дом, он ощутил некое дыхание космического ветра, исходящее от странного седого человека, занимавшего соседнюю комнату. Он сумел навязать свою дружбу, пускай старые друзья и не осмеливались на это, дивясь страху, не отпускавшему этого тощего и изможденного слушателя и наблюдателя. Ибо в том, что человек этот всегда слушал и наблюдал, усомниться не мог никто. Впрочем, наблюдал и слушал он скорее умом, чем глазами и ушами, и использовал каждый момент для того, чтобы утопить нечто в своем бесконечном сосредоточении над веселыми и пресными романами. A когда ударяли церковные колокола, он зажимал уши и визжал, и к голосу его присоединялся серый кот, вопивший в унисон, пока не умолкал последний отголосок звона.
Однако, как ни старался Вильямс, ему никак не удавалось заставить своего соседа заговорить о чем-нибудь глубинном или тайном. Не обращая внимания на все его заходы и маневры, старик с деланой улыбкой начинал непринужденным тоном увлеченно и лихорадочно трещать о всяких милых пустяках; и голос его с каждым мгновением возвышался, набирая все большую силу, пока наконец не оказывался на грани срыва в пискливый и неразборчивый фальцет. О том, что познания его обладали глубиной и тщательностью, убедительно свидетельствовали даже самые тривиальные замечания этого человека; и Вильямс не был удивлен, когда узнал, что сосед его получил образование в Харроу и Оксфорде[34]. С течением времени выяснилось, что им является не кто иной, как лорд Нортэм, o расположенном в Йоркшире древнем наследственном замке которого рассказывают много странностей; но когда Вильямс попытался заговорить о замке, о его предположительном основании в римские времена, старик отказался признать, что в этом замке есть нечто необычайное. Он даже порассуждал пронзительным тоном, когда возникла тема тайных крипт, вырубленных в недрах утеса, хмурящегося над Северным морем.
Так продолжалось до того вечера, когда Вильямс принес домой купленный им печальной памяти «Некрономикон», созданный безумным арабом Абдулом Альхазредом. О существовании этой жуткой книги Вильямс знал с шестнадцати лет, когда зародившаяся любовь ко всяким странностям заставила его задавать не совсем обычные вопросы согбенному старику-букинисту на Чендос-стрит; и он всегда удивлялся, отчего мужчины бледнеют при одном упоминании этой книги. Старый книготорговец рассказал ему о том, что всего пять экземпляров пережили гневные эдикты потрясенных священников и законодателей и что все они с ужасом и осторожностью были отправлены под замок хранителями, осмелившимися начать чтение этого мерзкого, написанного старинным готическим шрифтом тома. Однако теперь наконец он не просто отыскал доступный себе экземпляр, но и приобрел его за смехотворно низкую цену. Произошло сие в еврейской лавчонке в нищей окрестности рынка Клэр-маркет[35], где он часто приобретал всякие необыкновенные вещицы; Вильямсу даже показалось, что скрюченный старый левит улыбнулся в бороду, когда им было сделано сие великое открытие. Хотя внушительный кожаный переплет с медной застежкой и выделял книгу, цена за нее оказалась абсурдно низкой.
Один только взгляд на заглавие заставил вострепетать душу молодого человека, и несколько диаграмм в мутном латинском тексте возбудили в его мозгу самые напряженные и тревожные воспоминания. Вильямс ощутил, что просто не может не доставить внушительный том домой и не приступить без промедления к дешифровке этого ребуса, и потому бросился вон из лавки буквально очертя голову, чем немало рассмешил старого еврея, возмутительным образом захихикавшего за его спиной. Однако, наконец оказавшись в тишине и покое собственной комнаты, он обнаружил, что сочетание готического шрифта и устаревших идиом превышает его лингвистические способности, и с некоторым смущением обратился к своему скрюченному страхом другу за помощью в расшифровке текста, написанного на витиеватой средневековой латыни. Лорд Нортэм как раз нашептывал какие-то пустые нежности своему полосатому коту и вздрогнул, когда молодой человек вошел в комнату. Затем он увидел книгу, и тело его сотрясла дрожь, a когда Вильямс произнес ее название, вовсе лишился сознания. Однако, придя в себя, Нортэм рассказал собственную историю, все ее фантастическое безумие, ради того чтобы его друг поторопился сжечь проклятую книгу и развеять ее пепел по ветру.
Должно быть, шептал лорд Нортэм, нечто было в нем плохо с самого начала; однако такое не могло прийти ему в голову, пока он не зашел слишком далеко в своих исследованиях. Он был девятнадцатым бароном в семействе, корни которого далеко уходили в самое неуютное прошлое — невероятно далеко, если верить легенде, ибо, согласно семейному преданию, относились еще к досаксонским временам, когда некий Луний Габиний Капитон, военный трибун Третьего Августова легиона, расквартированного тогда в Линдуме, в Римской Британии, был в общем итоге отстранен от командования за участие в неких обрядах, не связанных с какой-либо из известных религий.
Габиний, согласно слухам, явился в некую тайную пещеру в утесе, где сходился на встречи странный народ, и во тьме произвел Старинный Знак; странный народ же, который бритты даже поминали с ужасом, состоял из последних уцелевших жителей, населявших затонувший на западе великий материк, оставив после себя лишь острова с их стоячими камнями, кругами и святилищами, среди которых величайшим был Стоунхендж. Нельзя, конечно, полностью доверять легенде, утверждающей, что Габиний построил неприступную крепость над запретной пещерой и основал династию, которой не могли пресечь ни пикты, ни саксы, ни датчане с норманнами; или невысказанному предположению о том, что из этого рода происходил отважный спутник и лейтенант Черного принца[36], которого Эдвард Третий сделал бароном Нортэмским. Подобные связи отнюдь не были очевидными, однако их часто упоминали; и по правде говоря, каменная кладка Нортэмского замка самым тревожным образом напоминала кладку стены Адриана[37]. Еще ребенком лорда Нортэма посещали странные сны, когда он ночевал в самых старинных частях замка, и он выработал постоянную привычку озираться назад в своей памяти, разыскивая в ней полуаморфные сценки, образы и впечатления, не существовавшие в его бодрствующем бытии. Он превратился в мечтателя, находившего жизнь тусклой и неинтересной, занятого поисками неведомых краев и прежде знакомых связей, нигде более не обнаруживаемых в зримых краях земли.
Исполненный чувства того, что ощущаемый нами мир представляет собой всего лишь атом в ткани громадной и грозной и что неведомые сферы теснят и пронизывают известное нам в каждой точке, Нортэм в юности и в молодые годы черпал из источников официальной религии и оккультных тайн. Однако нигде не мог он найти легкости и удовлетворения; a когда повзрослел, затхлость и ограничения жизни сделались все более и более безумными для него. К двадцати годам он уже успел познакомиться с сатанизмом и во всякое время с жадностью поглощал любое учение или теорию, которая, на его взгляд, обещала избавление от тесных перспектив науки и тупых в своей неизменности законов природы. Он с пылом поглощал книги, подобные коммерческому описанию Атлантиды Игнатия Донелли — такие книги он проглатывал единым духом, a несколько забытых предшественников Чарлза Форта* поразили его своей выдумкой. Он всегда был готов проехать много лиг, следуя мутным деревенским россказням о какой-нибудь аномалии, а однажды отправился в Аравийскую пустыню — искать Безымянный город, которого никогда не зрел ни один из людей. Все это воспитало в нем полную соблазна веру в то, что где-то существуют доступные врата, которые, если только их удастся найти, откроют ему вольный доступ к тем безднам, память о которых смутными отголосками доносилась из самых глубин его существа. Врата эти могли пребывать как в видимом мире, так и в его разуме или душе. Что, если внутри еще далеко не исследованного наукой мозга пребывает то самое таинственное звено, которое пробудит его к прежним и будущим жизням в забытых измерениях, свяжет его со звездами и с теми вечностями и бесконечностями, которые прячутся за ними?
КНИГА
Воспоминания мои пребывают в великом беспорядке. Я даже сомневаюсь в том, когда они начинаются, ибо временами ощущаю позади себя потрясающие шеренги годов, а иногда мне кажется, как будто настоящий момент представляет собой изолированную точку в серой и бесформенной бесконечности. Я даже не уверен в том, как передаю эту весть. Понимая, что говорю, я тем не менее испытываю смутное ощущение того, что потребуется некое странное и, быть может, ужасное посредничество для того, чтобы передать мои слова туда, где меня должны услышать. Личность моя также возмутительно не определена. Похоже, я испытал великое потрясение — быть может, посредством некоего полностью монструозного выроста какого-нибудь из циклов моего уникального и невероятного жизненного опыта.
Все эти циклы бытия, конечно, имеют своим основанием ту источенную червями книгу. Помню, когда я обрел ее — в тускло освещенном месте возле черной маслянистой реки, над которой всегда кружит туман. Место это было старинным, и доходящие до потолка полки, уставленные прогнившими томами, шествовали бесконечной чередой по лишенным окон внутренним комнатам и альковам. Еще там грудились на полу огромные и бесформенные кучи книг, чередующихся с полными фолиантов грубыми ларями; в одной-то из этих груд я и отыскал этот том. Названия книги я так и не узнал, ибо первые страницы отсутствовали; однако она раскрылась на последних страницах, явив мне нечто такое, отчего голова моя пошла кругом.
Это была формула — своего рода перечень того, что нужно говорить и делать, — в которой я узнал нечто черное и запретное; нечто такое, о чем я уже читал в уклончивых параграфах, которые со смесью отвращения и восхищения записывали странные любители копаться в тщательно хранимых под замком тайнах Вселенной, чьи тленные тексты я так любил поглощать. Она являлась ключом — и путеводителем — к неким вратам и переходам, о которых мистики мечтали и перешептывались между собой с детских лет рода людского, ведущим к свободе и открытиям за пределами трех измерений и областей известной нам жизни и материи. Целые века люди не обращались к ее жизненно важной сущности и не знали, где найти ее, однако книга сия была очень стара. Не печатный пресс, но рука некоего полубезумного монаха выводила эти зловещие латинские фразы уходящими в потрясающую древность унциалами[38].
Помню, как злобно хихикал и кривлялся этот старикашка, как он сделал непонятный мне знак левой рукой, когда я уносил эту книгу. Он отказался взять за нее плату, и причину этому я узнал только много позже. Поспешая домой по узким, извилистым и одетым туманом приморским улочкам, я ощущал неприятное впечатление того, что за мной крадучись следуют негромко ступающие ноги. Столетние обветшавшие дома по обе стороны улицы казались наполненными юной и отвратительной злобой — как будто здесь вдруг открылся доселе закрытый канал дьявольского понимания. Я ощущал, что эти стены и нависающие над головой остроконечные щипцы, сложенные из заплесневелого кирпича и поросших грибком штукатурки и древесины — с их похожими на глаза, остекленными ромбами окнами, — едва удерживались от того, чтобы сойти с места и растоптать меня, хотя я прочел только малейший фрагмент богомерзкого заклинания, прежде чем закрыть книгу и унести ее прочь.
Еще помню, как я наконец начал читать эту книгу — побледнев, запершись в чердачной каморке, давно отведенной мной для странных исследований. В огромном доме было тихо, ибо я поднялся только после полуночи. Кажется, у меня была тогда какая-то семья — хотя в подробностях я не слишком уверен, — и знаю, что у меня было много слуг. Какой тогда был год, сказать не могу; ибо с тех пор познал множество веков и измерений, и все мои прежние представления о времени растворились и преобразовались в нечто иное. Читал я при свете свечей — помню эту безжалостную восковую капель, — a с далеких колоколен время от времени доносился звон.
Похоже, что я с особым вниманием следил за голосами колоколов, как будто бы страшась услышать среди них известную мне весьма далекую и интригующую нотку. И тут я впервые услышал, как кто-то заскребся и завозился у слухового окна, свысока глядевшего на прочие крыши города. Звук раздался, когда я монотонно произносил девятый стих этого первичного заклинания, и, содрогаясь, я понял, что означает он. Ибо тот, кто проходит через врата, всегда получает тень, и впредь никогда более не может остаться в одиночестве. Я вызвал духа — и книга действительно оказалась той самой, суть которой я подозревал. В ту ночь я прошел через ворота, ведущие в водоворот искаженного времени и видения, и когда утро застало меня в чердачной комнате, я увидел в стенах, полках и всяких принадлежностях такое, чего никогда не замечал прежде.
После этого я уже не мог видеть мир таким, каким знал его. К настоящему всегда примешивалась доля прошлого и чуточка будущего, и каждый прежде знакомый объект казался чуждым в новой перспективе, рожденной моим расширившимся зрением. Начиная с того дня я обитал в фантастическом сне, составленном из неизвестных и полузнакомых форм; и после каждого прохождения новых ворот все менее отчетливо узнавал предметы той узкой сферы, с которой так долго был связан. Того, что я видел вокруг себя, не замечал никто другой; и я сделался вдвойне молчаливым и бдительным, чтобы меня не приняли за безумца. Псы боялись меня, потому что ощущали внешнюю тень, никогда не разлучавшуюся со мной. Но я продолжал читать — сокровенные, забытые книги и свитки, к которым приводило меня мое новое видение — и прорывался сквозь очередные врата космоса, бытия и образа жизни к ядру, сердцевине неведомого пространства.
Помню ту ночь, когда я стоял посреди начерченных мной на полу пяти огненных колец в самом меньшем из них, декламируя ту чудовищную литанию, которую доставил мне гонец из Тартарии. Стены растаяли напрочь, и черный ветер понес меня посреди неизмеримо серых бездн к подобным иглам башням неведомых гор, грудившихся в милях подо мной. А потом была предельная тьма, a за ней явился свет мириадов звезд, образовывавших чуждые, странные для взора созвездия. Наконец я увидел далеко под собой вниз покрытую зеленью равнину и различил на ней крученые башни города, построенного на манер, о котором я никогда не слышал, не думал и не читал. Подплывая все ближе к этому городу, я увидел огромное квадратное каменное здание на открытом просторе и ощутил, как впился в меня жуткий страх. Завопив, я принялся сопротивляться, и тут наступил мрак, после которого я вновь оказался в своей чердачной комнате, распростертый на полу — на всех пяти фосфоресцирующих кругах. Это ночное скитание оказалось ничуть не более странным, чем скитания многих предыдущих ночей; но в нем было больше ужаса, ибо я знал, что оказался много ближе к тем внешним мирам и безднам, чем когда-либо прежде. После этого я сделался более сдержанным в своих заклинаниях, потому что не имел желания оказаться отрезанным от собственной плоти и от земли в неведомых пучинах, из которых мне не будет возврата…
ТВАРЬ В ЛУННОМ СИЯНИИ
Писано ноября 24-го числа 1927 года
Нижеследующий отрывок, местами дословно, основывается на письме, которое Лавкрафт написал Дональду Вандрею 24 ноября 1927 года. Первые три и последние пять абзацев добавлены Дж. Чепменом Миске; остальное почти дословно принадлежит Лавкрафту.
В своем письме Лавкрафт сообщает, что сны его иногда приобретают фантастический облик, хотя и бывают несколько несвязными. Многие из его рассказов были вдохновлены сновидениями.
Моргана нельзя назвать образованным человеком; более того, он и по-английски-то говорит коряво. Вот почему записанный им текст удивляет меня, хотя другие могли бы и посмеяться.
Это произошло вечером, когда он пребывал в одиночестве. Внезапно им овладело неудержимое желание писать, и, взяв перо в руку, он записал следующее:
Меня зовут Говард Филлипс. Я живу в доме номер 66 по Колледж-стрит в городе Провиденс, Род-Айленд. Двадцать седьмого ноября 1927 года — ибо я не знаю, какой теперь год, — я уснул и увидел сон, от которого не могу пробудиться.
Сон мой начался под серым осенним небом в сыром, задушенном растительностью болоте, к северу над которым поднимался неровный, поросший лишайником каменный утес. Повинуясь некоей неясной для себя самого цели, я поднялся вверх по трещине или расселине в этом нависающем камне, замечая при этом многочисленные и внушающие страх черные норы, отходившие от обеих стен в недра каменистого плато.
В нескольких местах узкая расселина была перекрыта обвалившимися сверху глыбами; там было чрезвычайно темно, что не позволяло видеть норы, которые могли существовать в таких местах. В одном из подобных темных уголков я ощутил особенный страх, словно бы исходящая из бездны утонченная и бестелесная эманация охватывала мой дух; однако вокруг царила слишком великая тьма, чтобы я мог заметить источник своей тревоги.
Наконец я очутился на ровной как стол и заросшей мхом скале, лишь местами покрытой почвой, освещенной слабым лунным светом, сменившим погасшее дневное светило. Озираясь вокруг, я не заметил ничего живого; но тем не менее ощущал странное шевеление где-то далеко внизу, среди перешептывающихся тростников отвратительного болота, недавно оставленного мной.
Немного пройдя вперед, я наткнулся на ржавые рельсы городского трамвая и источенные червем столбы, все еще удерживавшие провисшие провода. Следуя по рельсам, я скоро наткнулся на желтый трамвай с площадкой под номером 1852, вполне обыкновенный, с двумя вагонами, из тех, какие ходили между 1900 и 1910 годами. В нем никого не было, однако трамвай был уже готов тронуться с места; дужка лежала на проводе, а под полом время от времени начинал пульсировать воздушный тормоз. Поднявшись внутрь, я тщетно принялся искать взглядом выключатель света, при этом заметив отсутствие ручки контролера, что подразумевало и отсутствие водителя. После этого я уселся на одном из противоположных друг другу сидений вагона. Наконец в редкой траве слева послышался шорох, и я увидел под лунным светом темные силуэты двоих мужчин. На головах их были кепки железнодорожной компании, и у меня не было причин усомниться в том, что я вижу кондуктора и водителя. И тут один из них особенно резким движением принюхался к воздуху и, обратив к небу лицо, взвыл на луну. Второй опустился на четвереньки, чтобы броситься к вагону.
Немедленно подскочив на месте, я ринулся вон из вагона по протянувшейся на бесконечные лиги равнине, пока утомление не заставило меня остановиться — не потому, что кондуктор встал на четвереньки, но потому, что лицом водителю служил белый конус, заканчивавшийся кроваво-красным щупальцем…
Я понимал, что всего только сплю, но в самом понимании этого не было ничего хорошего. С той жуткой ночи я молю только об одном: о пробуждении, но оно не приходит!
Напротив, я обнаруживаю, что стал обитателем этого жуткого мира! Когда та, первая ночь уступила место рассвету, я бесцельно скитался по пустынному болотистому краю. Ночь пришла, но я все скитался, надеясь на пробуждение. И вдруг, раздвинув тростники, я увидел перед собой тот дряхлый трамвай, а возле него тварь с конусом вместо лица, завывавшую под лунным светом!
И так случается каждый день — ночь всегда уносит меня в это ужасное место. Я пытался не сходить с места по пришествии ночи, однако сновидение обязывает меня идти, ибо я всегда пробуждаюсь перед жуткой тварью, воющей передо мной в бледных лучах луны, поворачиваюсь и бросаюсь в безумное бегство.
Боже! Когда я наконец проснусь?
Вот что записал Морган. Я схожу в дом номер 66 по Колледж-стрит в городе Провиденс, но мне заранее страшно от того, что я могу там увидеть.
СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫЙ УЖАС В ЛИТЕРАТУРЕ
Глава 1
Введение
Самой старой и сильной среди эмоций рода людского является страх, a древнейшей и сильнейшей разновидностью страха является страх перед неизвестным. Мало кто из психологов станет оспаривать эти факты, и признанная справедливость их должна на все времена закрепить подлинность и достоинство таинственного и жуткого повествования в качестве литературного жанра. Против него выпущены все стрелы материалистической утонченности, которая придерживается привычных эмоций и внешних событий, и наивно пресного идеализма, пренебрегающего эстетическим мотивом и требующего дидактической литературы, чтобы «возвышать» читателя к приемлемой степени притворно улыбчивого оптимизма. Однако, несмотря на всю эту оппозицию, жуткая проза выжила, развилась и достигла значительных высот совершенства, основываясь как таковая на глубинном и элементарном принципе, привлекательность которого хотя и не является универсальной, но по необходимости оказывается острой и постоянной для умов, наделенных необходимой для нее чувствительностью.
Притягательность призрачного и зловещего жанра обыкновенно ограничивается узким кругом читателей, потому что требует от них некой доли воображения и умения отстраняться от повседневной жизни. Относительно немногие настолько свободны от повседневной суеты и рутины, чтобы суметь отреагировать на звуки, доносящиеся извне, и повествования об ординарных чувствах и событиях, как и обыкновенное сентиментальное изложение таковых чувств и событий всегда будет занимать первое место во вкусах большинства — быть может, вполне справедливо, ибо подобные ординарные материи составляют бульшую часть человеческого опыта. Однако среди нас всегда присутствуют чувствительные люди, и луч занимательной фантазии всегда способен воссиять в темном закоулке даже самой прочной головки; так что любой уровень рационализма, никакие реформы и анализ по Фрейду не могут вполне аннулировать воздействие жуткого шепотка в печной трубе или не менее жуткой тишины уединенного лесного уголка. Здесь вовлекается в действие психологический паттерн или традиция столь же реальная и столь же глубоко укорененная в духовном опыте, как и любой другой известный человечеству паттерн или событие, одновременное религиозному чувству и тесно связанное со многими аспектами оного; слишком уж велика и важна связанная со страхом часть нашего внутреннего биологического наследия, чтобы ее могла утратить очень значительная, хотя и численно небольшая составляющая нашего вида.
Первые инстинкты и эмоции человека сформировали его отклик на среду, в которой он очутился. Определенные ощущения, связанные с удовольствием и болью, складывались вокруг явлений, причины которых были ему понятны, в то время как вокруг тех, которые оставались загадочными для него — а в ранние дни вселенная была полна ими, — неизбежно сплетались такие персонификации, чудесные толкования и ощущения страха и трепета, какие могли осенить расу, обладающую небольшим количеством простых идей и ограниченным опытом. Неизведанное, подобно непредсказуемому, сделалось для наших примитивных праотцов жутким и всесильным источником благодеяний и бедствий, явленных человечеству по таинственным и полностью внеземным причинам, и посему явно принадлежащим к сферам бытия, о которых нам неведомо ничего и в которых нам нет места. Феномен сновидения подобным образом помогал составить представление о нереальном или духовном мире и, в общем, обо всех условиях дикарской зари — жизни, так крепко способствовавшей развитию ощущения сверхъестественного, что нам не следует удивляться той основательности, с которой сама наследственная сущность человечества насытилась религией и суеверием. Подобное насыщение, в качестве простого научного факта, следует рассматривать как виртуально перманентное в той мере, насколько речь идет о подсознательном в уме и внутренних инстинктах; ибо хотя область неизведанного неизменно сужалась в течение тысячелетий, бесконечный резервуар таинственного до сих пор охватывает бульшую часть внешнего космоса, в то время как огромный остаток могущественных ассоциаций удерживается вокруг всех предметов и процессов, некогда являвшихся таинственными, какое разумное объяснение они бы ни имели теперь. Более того, существует реальная физиологическая фиксация старинных инстинктов в нашей нервной ткани, что делает их неприметно действующими даже в том случае, если удалось бы полностью очистить сознательный разум от всех источников удивления.
Так как мы запоминаем боль и опасность смерти более ярко и четко, чем удовольствия, и потому, что наше отношение к благодетельным аспектам неведомого с самого начала было захвачено и формализировано традиционными религиозными ритуалами, на долю более темной и злой стороны космической тайны выпала основная доля популярности в нашем сверхъестественном фольклоре. Тенденцию эту также подкрепляет тот факт, что неопределенность всегда тесно связана с опасностью, таким образом, превращая любую разновидность неведомого мира в мир опасных и зловещих вероятностей. Когда к этому ощущению страха и зла добавляется сверху неизбежное удивление и любопытство, рождается составное сочетание острой эмоции и художественной провокации, чья жизненность по необходимости будет существовать столько же, сколько и само человечество. Дети будут всегда бояться темноты, a люди, наделенные разумом, чувствительным к наследственному импульсу, всегда будут трепетать при мысли о сокровенных и непостижимых мирах, полных странной жизни, которая может пульсировать в трансзвездных безднах или жутким образом угрожать нашему миру в измерениях нечистых и непристойных, доступных только мертвецам и безумцам.
Располагая подобным основанием, мы не можем удивляться факту существования литературы космического страха. Она существовала и будет существовать всегда; нельзя привести лучшего свидетельства ее прочной хватки, чем тот импульс, который время от времени заставляет писателей, полностью придерживающихся противоположных наклонностей, пробовать свое перо в этой области хотя бы в отдельных рассказах, словно для того, чтобы изгнать из своего разума некие фантастические очертания, которые в противном случае не дали бы им покоя. Так, Диккенс написал несколько зловещих повествований, Браунинг{1} — полную жути поэму «Чайлд Роланд», Генри Джеймс{2} — «Поворот винта», доктор Холмс{3} — тонкую новеллу «Элси Виннер», Фрэнсис Мэрион Кроуфорд{4} — свою «Верхнюю полку» и множество ей подобных рассказов; миссис Шарлотта Перкинс Гилман{5}, социальный работник, — «Желтые Обои», и даже юморист У.В. Джейкобс{6} произвел на свет талантливую мелодраму под названием «Обезьянья лапка».
Жанр литературы космического страха не следует смешивать с разновидностью внешне с ней схожей, но психологически весьма отличной — с литературой чисто физического страха и мирского ужаса. Подобные писания, конечно же, занимают собственное место наравне с обыкновенными, или причудливыми, или юмористическими рассказами о привидениях, где формализм или многозначительное подмигивание автора снимает подлинное восприятие омерзительно неестественного; однако такие произведения не принадлежат к литературе космического страха в ее чистом виде. В подлинно сверхъестественной истории всегда присутствует нечто большее, чем тайное убийство, окровавленные кости или гремящий цепями призрачный силуэт в саване. Они должны быть проникнуты некоей атмосферой заставляющего затаить дыхание необъяснимого ужаса перед внешними и необъяснимыми силами; a кроме того, в них обязан присутствовать намек, выраженный со всей присущей теме серьезностью и внушительностью, на самую ужасную концепцию человеческого разума — злое и конкретное отрицание тех неизменных законов природы, которые являются единственной преградой против натиска хаоса и порождений безграничного пространства.
Естественным образом не следует ожидать, что вся мистическая проза будет полностью соответствовать любой теоретической модели. Творческие умы не подстрижены под одну гребенку, и на лучшей из тканей найдется тусклое пятнышко. Более того, существенная доля самых избранных работ носит бессознательный характер, появляясь в запоминающихся фрагментах среди материала, производящего самый разнообразный эффект. Атмосфера имеет первостепенное значение, ибо окончательным критерием подлинности является не ветвление сюжета, но создание заданного ощущения. В общем, мы можем сказать, что сверхъестественная история, предназначенная для обучения или произведения социального воздействия, или такая, что в итоге ужасы получают в ней естественное объяснение, не является подлинным повествованием о космическом страхе; однако остается фактом то, что подобные рассказы часто располагают в отдельных местах прикосновениями атмосферы, соответствующей истинному духу подлинной литературы сверхъестественного ужаса. Посему о произведениях этого жанра следует судить не по намерению автора или сюжетной механике, но по эмоциональному настрою, который оно создает в наименее мирские свои мгновения. Если создается соответствующее ощущение, такая «кульминация» должна быть допущена в литературу сверхъестественного вне зависимости от того, какое прозаичное объяснение находит впоследствии этот момент. Единственным критерием здесь является не разбуженное в читателе глубинное ощущение ужаса и соприкосновения с неведомыми сферами и силами, но тонкая атмосфера наполненного трепетом слуха, вслушивающегося в биение черных крыльев или шевеление неведомых внешних форм и существ на самой дальней кромке Вселенной. И чем более полно и комплексно передает эту атмосферу произведение, тем большими достоинствами обладает оно как произведение искусства в данной области.
Глава 2
Заря жуткого жанра
Как следует естественным образом ожидать от формы, столь тесно связанной с первичными эмоциями, жуткая повесть стара как человеческая мысль или сама речь. Космический ужас появляется в качестве ингредиента фольклора самых различных народов и кристаллизуется в самых архаичных балладах, хрониках и священных писаниях. В самом деле, он представляет собой заметную черту сложной церемониальной магии, располагавшей обрядами эвокации, призвания демонов и духов, в обилии существовавших еще с доисторических времен и достигших высочайшего развития в Египте и среди семитских народов. Фрагменты, подобные «Книге Еноха» и «Ключу Соломона», хорошо иллюстрируют ту власть, которой обладало сверхъестественное над древним восточным умом, и на таких предметах были основаны прочные системы и традиции, отголоски которых достигают даже нашего времени. Прикосновения этого трансцендентного страха можно видеть в классической литературе, и свидетельство еще большего влияния его можно усмотреть в литературе баллад, шедшей параллельно классическому течению, но исчезнувшей из-за недостатка письменных материалов. Средние века, пропитанные причудливой тьмой, дали этому страху колоссальный, направленный к выражению импульс; и Восток наравне с Западом хранил и усиливал темное наследие дошедшего до них случайного фольклора, и академически сформулированной магии и каббализма. Слова «ведьма», «оборотень», «вампир» и «упырь» многозначительным и зловещим образом почивали на устах барда и старой бабки, и нуждались всего лишь в небольшом толчке, чтобы окончательно пересечь границу, отделяющую пропетое сказание или песнь от формально литературного сочинения. На Востоке сверхъестественная повесть имела тенденцию к приобретению великолепной расцветки и живости, едва не преобразовавших ее в чистую фантазию. На Западе, где склонный к мистике тевтон как раз выбрался из своей темной северной тайги, а кельт вспомнил таинственные жертвоприношения, совершавшиеся в друидических рощах, она приобрела жуткую интенсивность и убедительную серьезность атмосферы, удваивавшей силу ее ужасов, наполовину описанных, наполовину оставшихся в области намеков.
Значительная часть силы западного традиционного знания ужасных материй, вне сомнения, была обязана своим существованием сокрытому, но часто подозреваемому бытию отвратительного культа почитателей ночи, чьи странные для нас обычаи — восходящие к доарийским и доземледельческим временам, когда по Европе скиталась низкорослая монголоидная раса со своими стадами крупного и мелкого скота, — коренились в самых отвратительных и обладающих незапамятной древностью обрядах плодородия. Эта тайная религия, в течение тысячелетий тайно распространявшаяся среди селян, несмотря на внешнее господство друидической, греко-римской и христианской вер в рассматриваемых регионах, сопровождалась буйными ведовскими шабашами в уединенных лесах и на вершинах дальних холмов, учинявшихся в Вальпургиеву ночь и в День всех святых, Хэллоуин, традиционные времена случки коз, овец и крупного скота, каковые и сделались обильными источниками волшебных легенд, к тому же спровоцировав широкомасштабные преследования ведьм, среди которых Салемское дело{7} являет собой главный американский пример. Родственной в сущности, и, быть может, связанной на деле была жуткая тайная система извращенной теологии или почитания Сатаны, породившая такие ужасы, как печально известная «Черная Месса»; к той же самой цели были направлены действия тех, кто, казалось бы, преследовал более научные или философические цели, — астрологов, каббалистов и алхимиков, подобных Альберту Великому{8} или Раймонду Луллию{9}, которыми изобилуют те грубые времена. О безусловной власти и глубине ужаса, царивших в средневековой Европе и еще более усугублявшихся черным отчаянием, которое приносили волны моровых поветрий, можно судить по гротескным фигурам, лукавым образом присутствующим в самых превосходных творениях поздней церковной готики; наиболее известными образцами являются демонические горгульи собора Нотр-Дам и Мон-Сен-Мишель. Следует помнить и то, что весь рассматриваемый период среди образованных и необразованных людей наравне процветала самая абсолютная и полная вера во все формы сверхъестественного, начиная от самой невинной христианской мистики и кончая чудовищными мерзостями колдовства и черной магии. Отнюдь не на ровном месте рождались алхимики и маги эпохи Возрождения — Нострадамус, Тритемий, доктор Джон Ди, Роберт Фладд{10} и подобные им.
На сей плодородной почве процветали типы и характеры темного мифа и легенды, бытующие в сверхъестественных повествованиях и по сей день в той или иной мере приукрашенными или измененными современной техникой. Многие из них были заимствованы из самых ранних устных источников и образуют часть постоянного наследия человечества. Привидение, требующее, чтобы похоронили его кости, демонический любовник, являющийся, чтобы унести с собой вполне живую невесту, дух смерти или проводник в мир умерших, несомый ночным ветром, волкодлак, запечатанная палата, бессмертный волшебник — все это можно отыскать в том любопытном своде средневековой науки, которому покойный мистер Бэринг-Гулд{11} так удачно придал книжную форму. Там, где полная мистики нордическая кровь оказывалась сильнее, атмосфера народной сказки оказывалась наиболее насыщенной и глубокой; ибо латинским расам присущ некий фундаментальный рационализм, который лишает даже самые необычайные суеверия этих племен многих обертонов, столь характерных для северных шепотков, лесом рожденных и льдом выпестованных.
И так же, как вся литература сперва обрела интенсивное воплощение в поэзии, в ней же обретаем и мы первое соприкосновение сверхъестественного с обыкновенной литературой. Достаточно любопытно, что многие из этих древних примеров написаны прозой; как встреча с оборотнем-волком у Петрония, мрачные отрывки у Апулея, короткое, но знаменитое письмо Плиния Младшего Суре и странная компиляция «О чудесных событиях», написанная вольноотпущенником императора Адриана Флегоном. Именно у Флегона находим мы жуткий рассказ о мертвой невесте, Филиннион и Махате, впоследствии пересказанный Проклом, а в современные времена послуживший источником вдохновения для «Коринфской невесты» Гете и «Немецкого студента» Вашингтона Ирвинга. Однако к тому времени, когда старинные нордические мифы приобретают литературную форму, в ту, уже более позднюю пору, когда сверхъестественное становится постоянным элементом, мы обретаем его по большей части в ритмическом облачении, как и большую часть строго умозрительных произведений Средних веков и Ренессанса. В скандинавских «Эддах» и сагах грохочет космический ужас, они полны откровенного страха перед Имиром и его бесформенным отродьем; в то время как наш англосаксонский «Беовульф» и более поздняя континентальная «Песнь о Нибелунгах» полны жуткой сверхъестественности. Пионером в области усвоения классикой зловещей атмосферы следует считать Данте, а в величественных стансах Спенсера{12} заметно неоднократное прикосновение фантастического ужаса к ландшафту, событиям и персонажам. Прозаическая литература дает нам написанную Мэлори «Смерть Артура», в которой присутствуют многие жуткие ситуации, взятые из более ранних баллад, — совершенная сэром Галахадом кража меча и шелков у трупа в Капелле Опасной, — в то время как прочие более грубые образцы, вне сомнения, находили свое место в дешевых и сенсационных книжонках, расхватывавшихся и пожиравшихся невеждами. В елизаветинской драме, с ее доктором Фаустом, ведьмами в «Макбете», призраком в «Гамлете» и отвратительными страшилами Вебстера, мы легко различаем сильную хватку демонического начала на общественном сознании — хватку, реально усиливавшуюся страхом перед живым колдовством, ужасы которого, самым бурным образом проявившиеся сперва на континенте, начали громко отдаваться в ушах англичан, когда охота на ведьм набрала обороты при Иакове Первом. К потаенной мистической прозе веков она добавила длинную вереницу трактатов о колдовстве и демонологии, внесших свой вклад в разжигание любопытства среди читающего мира.
Через весь семнадцатый век в восемнадцатый уходит растущий поток сложной легенды и темной баллады самого мрачного пошиба, тем не менее скрывающейся под поверхностью корректной и общепринятой литературы. Дешевые книжонки об ужасах и сверхъестественном умножаются в числе, и мы замечаем растущий интерес людей через известность таких произведений, как принадлежащий перу Дефо уютный рассказ «Привидение миссис Вил», повествующий о явлении призрака мертвой женщины далекой подруге и написанный для того, чтобы скрытно прорекламировать плохо продающееся теологическое исследование о смерти. Высшие слои общества уже теряли интерес к сверхъестественному, погружаясь в период классического рационализма. После, начиная с переводов восточных сказок в правление королевы Анны и приобретая отчетливые формы к середине столетия, начинается возрождение романтического чувства — эра обретения новой радости в природе и в свете прошлых времен, таинственных сцен, отважных деяний и невероятных чудес. В первую очередь ощутили это поэты, чьи речения обрели новое качество чуда, удивления, морозца по коже. И наконец, после застенчивого проникновения нескольких сверхъестественных сцен в современный тому времени роман — такой как Смоллеттовский «Приключения Фердинанда, графа Фатома», — инстинкт разрядки проявляет себя в рождении новой литературной школы: «готической», школы жуткой и фантастической прозы, короткой и длинной, чьему литературному наследию суждено было породить такое обилие произведений, нередко великолепных с художественной точки зрения. И если подумать, воистину удивительно, что повествование о сверхъестественном, как фиксированная и академически признанная литературная форма, так запоздало со своим окончательным рождением. Импульс и атмосфера его стары, как сам человек, однако типичный жанр сверхъестественного повествования рожден в восемнадцатом веке.
Глава 3
Ранний готический роман
Населенные тенями ландшафты Оссиана{13}, хаотичные видения Уильяма Блейка{14}, гротескные пляски ведьм в бернсовском «Тэме О’Шентере», зловещий демонизм «Кристабели» и «Старого моряка» Кольриджа, призрачное очарование «Килмени» Джеймса Хогга{15} и более сдержанное приближение к космическому ужасу в «Ламии» и многих других стихотворениях Китса являются типичными британскими примерами внедрения сверхъестественного в официальную литературу. Наши тевтонские кузены на континенте проявили равную восприимчивость к готовящемуся потопу; и «Дикий охотник» Бюргера{16}, и даже «Ленора», еще более фантастическая баллада с участием демонического жениха, подражания которым на английском написал Вальтер Скотт, всегда почитавший сверхъестественное, — всего лишь дают прикоснуться к тому богатству сюжетов, которое могла предоставить для жанра немецкая песня. Воспользовавшись таким источником, Томас Мор адаптировал восходящую к глубокой древности легенду о мерзкой статуе-невесте (впоследствии ею воспользовался Проспер Мериме в «Илльской Венере»), которая таким морозцем звучит в его балладе «Кольцо»; в то время как созданный Гете бессмертный шедевр, поэма «Фауст», превратившая балладный сюжет в классическую и космическую трагедию веков, может рассматриваться в качестве предельной высоты, на которую поднялся немецкий поэтический импульс.
Однако придать растущему импульсу определенную форму суждено было весьма жизнерадостному и склонному к мирским удовольствиям англичанину — а именно Хорасу Уолполу{17}, ставшему основателем литературной жуткой истории как постоянного литературного жанра. Будучи дилетантом, любившим средневековую романтику и мистерию, оборудовавший на готический манер свой дом в Строберри-хилл, Уолпол в 1764 году опубликовал роман «Замок Отранто» — повествование, проникнутое сверхъестественным духом, которому, невзирая на полную неубедительность и посредственность, суждено было оказать почти беспримерное влияние на литературу потустороннего жанра. Сперва представивший свое произведение как всего лишь «перевод», произведенный неким «Уильямом Маршалом, джентльменом», сочинения вымышленного итальянца Онуфрио Муральто, автор впоследствии признал свою связь с книгой, наслаждаясь ее широкой и едва ли не мгновенно приобретенной популярностью, выразившейся во множестве изданий, скорой драматургической переработке и массовых подражаниях, как в Англии, так и в Германии.
Повествование — тягучее, надуманное и мелодраматичное — еще более ухудшает отрывистый и прозаичный стиль, чья городская живость нигде не допускает создания подлинно зловещей атмосферы. Оно рассказывает о принце Манфреде, беспринципном и неразборчивом в средствах, решившем основать собственную династию, который после внезапной и таинственной смерти своего единственного сына Конрада, постигшей юношу в день его свадьбы, пытается прогнать свою жену Ипполиту и жениться на благородной девице, предназначавшейся несчастному юноше, кстати, убитому гигантским шлемом во дворе замка. Овдовевшая невеста Изабелла пытается спастись и встречает в подземельях замка благородного хранителя и защитника Теодора, внешне похожего на крестьянина, однако лицом странным образом напоминающего старого лорда Альфонсо, правившего доменом до Манфреда. Вскоре после этого замок поражают различные сверхъестественные явления: тут и там обнаруживаются куски гигантского панциря, из рамы выходит портрет, удар грома сокрушает здание, и колоссальный, облаченный в панцирь призрак Альфонсо восходит из дождя через расступающиеся облака на лоно Св. Николая. Теодор, посватавшийся к дочери Манфреда Матильде и утративший ее, ибо она была по ошибке убита собственным отцом, оказывается сыном Альфонсо и законным наследником области. Повествование завершается его женитьбой на Изабелле, после чего они живут долго и счастливо, в то время как Манфред — чья узурпация послужила причиной неестественной смерти его сына и его собственных сверхъестественных бед — отправляется на покаяние в монастырь, а его угнетенная горем жена ищет убежища в соседнем женском монастыре.
Таково повествование, плоское, ходульное и полностью лишенное ощущения того подлинно космического ужаса, который характерен для сверхъестественной литературы. Тем не менее настолько сильным было в тот век томление по прикосновению потустороннего и призрачной древности, которое отражает роман, что произведение это было серьезно воспринято самыми здравыми читателями и вопреки всем присущим ему слабостям оказалось вознесенным на внушительный пьедестал в истории литературы. Прежде всего, в нем была создана новая сцена действия, марионеточные персонажи и события, которые в искусных руках писателей, обладающих бульшими способностями к созданию произведений таинственного жанра, стимулировали рост подражательной готической школы, в свой черед вдохновившей подлинных мастеров повествований о космическом ужасе — цепочку настоящих художников, начинающуюся с Эдгара По. Новый драматический антураж состоял, прежде всего, из готического замка с его вселяющей трепет древностью, размахом, дальними прогулками, заброшенными или полуразрушенными крыльями, сырыми коридорами, мерзкими тайными катакомбами и целой галактикой призраков и ужасающих легенд, служивших ядром увлекательного повествования и демонического страха. Кроме того, в качестве злодея в них присутствовал деспотичный и злобный аристократ; святая, давно гонимая и, как правило, пресная героиня, претерпевающая основные ужасы и используемая в качестве точки зрения читателя и фокуса его симпатий; доблестный и безупречный герой, всегда знатного происхождения, но нередко пребывающий в смиренном положении; целое созвездие звучных иностранных имен и фамилий, в основном итальянских; и бесконечный набор декораций, а именно: странные огни, сочащиеся влагой потайные двери, погасшие лампы, заплесневелые и спрятанные манускрипты, скрипучие дверные петли, шевелящиеся гобелены и так далее. Во всей истории готического романа все эти принадлежности повторяются с удивительным постоянством, иногда производя потрясающий эффект; причем они ни в коем случае не утратили своего значения даже теперь, хотя более тонкая техника позволяет использовать их в менее наивной и очевидной форме. Итак, была найдена гармоничная обстановка, пригодная для новой школы, и пишущий мир без промедления ухватился за представившуюся возможность.
Немецкая романтика немедленно отреагировала на влияние Уолпола и скоро сделалась олицетворением всего потустороннего и жуткого. В Англии одним из первых подражателей стала знаменитая миссис Барбоулд{18}, тогда еще мисс Эйкин, в 1773 году опубликовавшая незаконченный фрагмент под названием «Сэр Бертран», в котором струн подлинного ужаса касалась отнюдь не неловкая рука. Аристократ, застигнутый ночью на пустынной равнине, привлеченный колокольным звоном и далеким светом, вступает в неведомый и древний многобашенный замок, двери которого открываются и закрываются, синие болотные огоньки уводят вверх по таинственной лестнице к мертвым слугам и живым черным изваяниям. Наконец сэр Бертран попадает ко гробу мертвой дамы, которую целует; после чего морок рассеивается, уступая место великолепным апартаментам, в которых возвращенная к жизни дама дает пир в честь своего избавителя. Уолпол восхищался этой историей, хотя выказывал меньше уважения куда более заметному отпрыску своего «Отранто» — «Старому английскому барону» Клары Рив{19}, опубликованному в 1777-м. Конечно, этот роман лишен истинного отзвука на нотку внешней тьмы и тайны, своим присутствием выделяющую фрагмент, созданный миссис Барбоулд; и хотя написан более искусно, чем произведение Уолпола, и обнаруживает бульшую художественную экономию в области жуткого, располагая всего одним призрачным персонажем, он все же слишком пресен для величия. Здесь мы снова имеем дело с добродетельным наследником замка, выступающим в облике крестьянина и возвращающим собственное наследие с помощью призрака своего отца; и снова сталкиваемся с широкой популярностью, множеством переизданий, драматургической переработкой и в конечном итоге переводом на французский язык. Мисс Рив написала еще один роман с привидениями, к сожалению, неопубликованный и утраченный.
Готический роман сделался теперь установившейся литературной формой, примеры которой бурно умножались по мере того, как восемнадцатое столетие приближалось к концу. «Тихий уголок», написанный в 1785-м миссис Софией Ли{20}, располагает историческим элементом, вращающимся вокруг дочерей-близнецов Марии, Королевы Скоттов; и, будучи лишенным сверхъестественного элемента, тем не менее с великой ловкостью использует заданные Уолполом декорации и механизмы. Но прошло всего пять лет, и все существовавшие к тому времени лампады померкли с восходом нового светила — миссис Анны Радклиф (1764–1823), чьи знаменитые романы ввели ужас и тревожное ожидание в моду и установили новые и более высокие стандарты в области зловещей и вселяющей страх атмосферы, вопреки провокационной манере в конечном итоге уничтожать созданные привидения посредством надуманных механических объяснений. К уже знакомым готическим атрибутам своих предшественников миссис Радклиф добавила подлинное восприятие неземного в сцене и событиях, близко приближающееся к гениальному; каждый факт обстановки и действия искусно добавляет новую толику к впечатлению беспредельного страха, которое она пытается создать. Несколько зловещих деталей, таких как кровавый след на лестнице замка, стон, доносящийся из дальнего подземелья, или странная песня в полуночном лесу, позволяют ей создать самые впечатляющие образы близкого ужаса, намного превосходящие экстравагантные и утомительные вымыслы коллег по жанру. Образы эти не теряют своей силы, получая объяснение в самом конце романа. Миссис Радклиф обладала очень сильным визуальным воображением, проявлявшимся как в ее восхитительных пейзажах — всегда очерченных широким и великолепным живописным взмахом и никогда в мелких деталях, — так и в ее странных фантазиях. Основной ее слабостью, помимо привычки к прозаическому разоблачению, является склонность к ошибкам в географии и истории и фатальная привычка усыпать текст скучными небольшими стихами, приписываемыми тому или другому из персонажей.
Миссис Радклиф написала шесть романов: «Замки Атлин и Данбейн» (1789), «Сицилийский роман» (1790), «Роман леса» (1792), «Удольфские тайны» (1794), «Итальянец» (1797) и «Гастон де Блондевилль», сочиненный в 1802-м, но впервые опубликованный уже посмертно в 1826-м. «Удольфские тайны» по своей известности намного превосходят остальные романы, и этот роман можно считать наилучшим образцом типичного произведения ранней готики. Он повествует о жизни Эмилии, молодой француженки, переселенной в древний и зловещий замок в Апеннинах после смерти родителей и брака ее тетки с владетелем замка — коварным аристократом Монтони. Таинственные звуки, открытые двери, жуткие легенды и безымянный ужас, обитающий в нише за черной вуалью, в быстрой последовательности выводят из себя героиню и ее верную служанку Аннет; однако в итоге после смерти тетушки героиня спасается с помощью обнаруженного ею собрата по заключению. На пути домой она останавливается в шато, наполненном новыми ужасами — заброшенным крылом замка, где обитал покойный кастелян, смертным одром под черным покровом, — однако в итоге обретает счастье, покой и безопасность вместе со своим возлюбленным Валанкуром, выяснив секрет своего рождения. Итак, мы видим переработку знакомого уже материала, однако выполненную так, что «Удольфо» навсегда останется классикой. Персонажи миссис Радклиф марионеточны по своей сути, однако черта эта выражена менее явно, чем у ее предшественников. A в плане создания атмосферы она далеко превосходит своих современников.
Среди бесчисленных подражателей миссис Радклиф ближе всего к ней по духу и методу кажется американский романист Чарлз Брокден Браун{21}. Подобно ей он портил свои создания естественными объяснениями; и подобно ей же обладал той опасной атмосферической силой, которая придает его ужасам такую жуткую жизненность до тех пор, пока они остаются необъясненными. Он отличался от Радклиф тем, что с презрением отвергал весь внешний готический антураж и обстановку, выбирая сценой для своих мистерий современную ему Америку; однако сие отречение не распространяется на готический дух и схему событий. Романы Брауна содержат ряд запоминающихся своей жутью сцен, превосходящих даже миссис Радклиф в описании действий возбужденного рассудка. Роман «Эдгар Хантли» начинается со сцены вскрытия лунатиком могилы, но далее ослабляется прикосновением годвинианского дидактизма. В «Ормонде» действует член зловещего тайного братства. В этом же самом романе и в «Артуре Мервине» описывается эпидемия желтой лихорадки, свидетелем которой был автор в Филадельфии и Нью-Йорке. Однако наиболее известным романом Брауна является «Виланд, или Преображение» (1798), в котором живущий в Пенсильвании немец, охваченный волной религиозного фанатизма, начинает слышать «голоса» и убивает в качестве жертвоприношения свою жену и детей. Сестре его Кларе, от лица которой ведется повествование, едва удается спастись. Сцена, происходящая в лесном поместье Миттинген в дальних окрестностях реки Шуйлкилл, выписана с чрезвычайной четкостью, и испытываемый Кларой ужас, рожденный призрачными голосами, сгущающимся страхом и звуками странных шагов по пустынному дому, обрисован с подлинной художественной силой. Пусть в конце предлагается убогое объяснение с помощью чревовещания, однако оно не может погубить атмосферу. Злой чревовещатель Карвин является типичным представителем той же самой разновидности злодеев, как и Манфред или Монтони.
Глава 4
Вершина готического романа
Литературный ужас обретает новую силу в творчестве Мэтью Грегори Льюиса (1773–1818), чей роман «Монах» (1796) обрел исключительную популярность и принес автору прозвище Монаха Льюиса. Этот молодой автор, получивший образование в Германии и впитавший дозу буйной тевтонской науки, неведомой миссис Радклиф, обратился к ужасному в формах более бурных, чем посмела бы даже помыслить его тихая предшественница, и в итоге произвел на свет шедевр истинного кошмара, к готическому покрою которого прибавлена порция дьявольщины. Повествование рассказывает об испанском монахе по имени Амброзио, превознесшемся в гордыне собственной добродетели и низвергнутом в самую бездну погибели злым духом, явившимся к нему в обличье девицы Матильды; в конечном итоге, ожидая смерти от рук инквизиции, Амброзио ищет спасения, продавая за него душу дьяволу, потому что полагает свою душу и тело безысходно погибшими. После этого наглый и насмешливый бес переносит монаха в уединенное место, рассказывает, что тот напрасно совершил жуткую сделку, ибо прощение и шанс на спасение уже приближались, и завершает свое сардоническое предательство, укоряя Амброзио за противоестественные грехи, после чего сталкивает его тело с обрыва, а душу обрекает на вечную муку. Роман содержит некоторые жуткие подробности, включая произнесение заклинания в подземелье монастырского кладбища, пожар монастыря и конец несчастного аббата. В побочной сюжетной линии, там, где маркиз де Систернас встречается с призраком своей заблудшей прародительницы, Кровоточивой Монахини, присутствует немало мазков колоссальной силы — в первую очередь это явление ожившего трупа к постели маркиза и каббалистический обряд, при совершении которого Вечный Жид помогает ему измерить силы мертвой мучительницы и изгнать ее. Тем не менее «Монах» прискорбно тяжеловесен, если читать его целиком. Роман слишком длинен и расплывчат, существенная доля производимого эффекта теряется за счет легкомыслия, а также неловкой и чрезмерной реакции на правила хорошего тона, которые Льюис первоначально презирал как ханжеские. В пользу автора свидетельствует один весомый факт: к счастью, он никогда не осквернял свои призрачные видения прозаическим объяснением. Льюису удалось сломать радклифианскую традицию и расширить поле готического романа. Он написал не только «Монаха». Драма «Призрачный замок» вышла в свет в 1798-м, a впоследствии он нашел время выпустить сборники баллад «Ужасные повести» (1799), «Удивительные повести» (1801) и целый ряд переводов с немецкого.
Далее готические романы, как английские, так и немецкие, хлынули обильным и посредственным потоком. Большую часть их можно считать просто забавными с точки зрения зрелого вкуса, и знаменитая сатира мисс Остин «Нортенгерское аббатство» послужила заслуженным укором школе, позволившей себе настолько склониться к абсурду. Но готическое течение иссякало, хотя перед окончательным концом этой школы воздвиглась ее последняя и самая крупная фигура в лице Чарлза Роберта Метьюрина (1782–1824), безвестного и эксцентричного ирландского священника. Создав внушительное число разнообразных произведений, среди которых числится неловкое подражание Радклиф под названием «Фатальная месть, или Семейство Монторио» (1807), Метьюрин сумел создать яркий шедевр литературного ужаса, роман «Мельмот-Скиталец» (1820), в котором готическое повествование поднимается на еще неведомые прежде вершины чисто духовного страха.
В «Мельмоте» рассказывается о жившем в семнадцатом веке ирландском джентльмене, получившем от дьявола сверхъестественно долгую жизнь в обмен на собственную душу. Ему оставлена возможность спастись — если только он сумеет уговорить кого-то другого принять на себя сделку и занять его нынешнее положение; однако ему никак не удается склонить к этому разысканных им людей, которых отчаяние довело до безрассудства. Композиция повествования достаточно неуклюжа, о чем свидетельствуют скучные длинноты, отступления от темы, повествования внутри повествований, натужная подгонка и совмещение сюжетных линий; однако в различных местах этой бесконечной воркотни ощущается пульс такой силы, которой нельзя найти ни в одном из предшествующих произведений подобного рода, — ощущается родство с подлинной и истинной человеческой природой, понимание глубочайших источников настоящего космического страха и раскаленная добела симпатия со стороны автора, делающая из книги подлинный документ эстетического самовыражения, а не умозрительное сооружение. Ни один не испытывающий предубеждения читатель не может усомниться в том, что в «Мельмоте» нашел свое воплощение колоссальный шаг в развитии сверхъестественного романа. Страх в нем извлечен из области повседневного и превращен в жуткое облако, висящее над судьбой человечества. Ужасы Метьюрина, созданные человеком, способным повергнуть в страх себя самого, принадлежат к числу убедительных. Миссис Радклиф и Льюис представляли собой отличную мишень для пародиста, однако будет сложно найти фальшивую нотку в лихорадочной интенсивности действия и напряженной атмосфере, созданной этим ирландцем, которому не такие уж сложные эмоции и наследие кельтского мистицизма предоставили превосходнейшие среди известных в то время средств для достижения этой цели. Вне сомнения, Метьюрин относился к числу людей действительно гениальных, и в подобном качестве его ценил Бальзак, ставивший Мельмота наравне с мольеровским Дон-Жуаном, гетевским Фаустом, Манфредом Байрона в ряд высших аллегорических фигур современной европейской литературы и написавший эксцентричный отрывок, называющийся «Мельмот примиренный», в котором Скитальцу удается передать его инфернальную сделку парижскому банкиру-банкроту, пустившему ее далее по рукам долгой цепи жертв, пока наконец с ней на руках не умирает кутила-игрок, на коем проклятие и заканчивается. Среди прочих титанов с неоспоримым восхищением к Метьюрину относились Скотт, Россетти, Теккерей и Бодлер; также заслуживает внимания тот факт, что Оскар Уайльд после своего позора и изгнания предпочел провести последние дни в Париже, воспользовавшись именем Себастьян Мельмот.
В романе этом присутствуют сцены, не утратившие своей способности ужасать и в наше время. Он начинается на смертном одре: старый скупец умирает от страха перед увиденным им человеком, а также перед прочтенным манускриптом и семейным портретом, висящим в темной каморке его столетнего дома в ирландском графстве Уиклоу. Он посылает за своим племянником Джоном в дублинский Тринити-колледж, и последний, явившись, замечает много тревожных вещей. Глаза находящегося в каморке портрета светятся жутким светом, и фигура, странным образом похожая на изображение на портрете, дважды на мгновение появляется возле дверей. Ужас почиет на доме Мельмотов, одного из предков которых — Дж. Мельмота — и изображает портрет. Умирающий скупец объявляет, что этот человек — действие происходит чуть ранее 1800 года — все еще жив. Наконец скупец умирает, и племянник из завещания узнает, что ему надлежит уничтожить и портрет, и манускрипт, который находится в некоем ящике. Прочитав рукопись, написанную в конце семнадцатого столетия англичанином по имени Стентон, молодой Джон узнает о кошмарном событии, случившемся в 1677 году в Испании, когда автор рукописи встретил некоего жуткого соотечественника, который признался в том, что убил взглядом священника, попытавшегося разоблачить его страшную сущность. После, снова встретившись с этим человеком в Лондоне, Стентон попадает в сумасшедший дом, где его посещает наделенный нечеловеческим взглядом незнакомец, о приходе которого возвещает потусторонняя музыка. Мельмот Скиталец — таково имя зловещего посетителя — предлагает заключенному свободу, если тот примет на себя его сделку с дьяволом; но подобно всем прочим, к кому обращался Мельмот, Стентон не поддается соблазну. Описание ужасов жизни в сумасшедшем доме, с помощью которого Мельмот пытается искусить Стентона, представляет собой один из самых впечатляющих отрывков книги. Стентона наконец освобождают, и остаток своей жизни он преследует Мельмота, чья фамилия и родовое имение становятся ему известны. В его семье он оставляет и рукопись, которая попадает в руки Джона в виде растерзанном и фрагментарном. Джон уничтожает портрет и рукопись, но во сне его посещает жуткий предок, оставляющий иссиня-черную отметину на его руке.
Молодой Джон вскоре принимает в качестве гостя потерпевшего кораблекрушение испанца, Алонзо де Монкада, избежавшего принудительного поступления в монастырь и ужасов инквизиции. Он претерпел жуткие страдания — и описания пережитого им под пыткой и в подвалах, через которые он однажды предпринял попытку спасения, стали классическими, — но тем не менее сохранил достаточно сил, чтобы противостоять Мельмоту-Скитальцу, явившемуся к нему в тюрьме в самый темный час. В доме еврея, приютившего его после побега, испанец находит объемистый манускрипт, повествующий о прочих деяниях Мельмота, включая его сватовство к туземной девушке Иммалее, которая обрела свои права в Испании и получила имя донны Исидоры, и его жуткий брак с ней возле трупа мертвого анахорета, состоявшийся в полночь, в заброшенной капелле забытого и вселяющего страх монастыря. Рассказ Монкады молодому Джону занимает большую часть четырехтомной книги Метьюрина, и эта диспропорция считается одним из основных технических огрехов композиции.
Наконец беседы Джона и Монкады прерывает явление самого уже поддающегося слабости Мельмота-Скитальца, блеск глаз которого поугас. Срок сделки его подходит к концу, и через полторы сотни лет он явился домой, чтобы встретить свой конец. Предупредив, чтобы все остальные не выходили из комнат, какие бы звуки ни раздавались в ночи, он в одиночестве дожидается конца. Молодой Джон и Монкада внемлют жутким воплям, но не вмешиваются до утра, когда воцаряется тишина. Комната Мельмота оказывается пустой. Отпечатавшиеся на глине следы ведут из задней двери к нависающему над морем утесу, возле которого обнаруживается след, оставленный тяжелым телом. На скале ниже края обнаруживается шарф Скитальца, однако более о нем никто не слышал, и не видел его.
Таков стержень сюжета, и никто не может не заметить различия между этим модулированным, полным намека и искусно вылепленным ужасом и — если воспользоваться словами профессора Джорджа Сейнтсбери — искусным, но несколько суховатым рационализмом миссис Радклиф, a также слишком часто детской экстравагантностью, дурным вкусом, a иногда и неряшливостью стиля Льюиса. Стиль Метьюрина сам по себе заслуживает особой похвалы, ибо впечатляющая прямота и жизненность поднимают его над помпезной искусственностью, в которой повинны его предшественники. Профессор Эдит Биркхед в своей истории готического романа справедливо замечает, что при всех своих недостатках Метьюрин оказался величайшим, как и самым последним среди писателей готического жанра. «Мельмота» широко читали и выводили на театральную сцену, однако позднее время появления в эволюции готической прозы лишило этот роман бурной популярности «Удольфо» и «Монаха».
Глава 5
После готической прозы
Тем временем остальные писатели также не предавались праздности, и над обилием скучной чепухи, такой как «Жуткие тайны» маркиза фон Гроссе (1796), «Дети аббатства» миссис Роче (1798), «Зофлое, или Мавр» (1806) миссис Дакр, а также детские излияния школьника Шелли «Застро» (1810) и «Св. Ирвин» (1811) (являвшиеся подражаниями «Зофлое»), поднималось большое количество запоминающихся произведений жуткого жанра, написанных как на английском, так и на немецком языке. Классической по духу и явно отличающейся от собратьев благодаря своей ориентации на восточные легенды, а не на готический роман в стиле Уолпола, является прославленная «История халифа Ватека», написанная состоятельным дилетантом Уильямом Бекфордом первоначально на французском языке, но опубликованная в английском переводе до выхода в свет оригинала. Восточные сказки, проникшие в европейскую литературу в начале восемнадцатого столетия через сделанный Галландом (Galland) французский перевод неистощимых в своей яркости «Сказок 1001 ночи», обрели характер правящей моды и использовались как в качестве аллегорий, так и для развлечения. Лукавый юмор, который только на Востоке умеют смешивать со сверхъестественным знанием, захватил умудренное поколение, и имена, привычные для Багдада и Дамаска, сделались столь же популярными в литературе, как это предстояло вскоре экстравагантным итальянским и испанским именам. Бекфорд, как человек начитанный в восточном романе, с необычайной восприимчивостью уловил атмосферу, и в его фантастическом томе нашли яркое отражение надменная роскошь, лукавое разочарование, откровенная жестокость, городская ненадежность и едва заметный призрачный ужас сарацинского духа. В его обработке зловещая тема редко теряет свою силу, и повествование шествует вперед с фантасмагорической помпой, в которой смех принадлежит скелетам, пирующим под сенью изящных куполов. В «Ватеке» рассказывается о том, как злой дух побуждает сына халифа Гаруна, измученного стремлением к земному всевластию, удовольствиям и знаниям, которые так оживляют среднего готического злодея или байронического героя (по сути своей — родственные типы), добиться подземного трона могущественных и сказочных султанов преадамитов, находящегося в огненных чертогах Иблиса, мусульманского дьявола. Описания дворцов и развлечений Ватека, его злокозненной матери-чародейки Каратис, ее колдовской башни с прислугой из пятидесяти одноглазых негритянок, его паломничества к населенным призраками руинам Истакара (Персеполя) и чертовки-невесты Нуронихар, коварно захваченной по пути, первобытных башен и террас Истакара, опаленных лунным светом посреди пустыни, а также жутких циклопических чертогов Иблиса, куда каждый завлеченный туда блестящими и лживыми посулами вступает навеки, чтобы горестно скитаться, прижав правую руку к пылающему и вечно горящему сердцу, являются триумфом сверхъестественной красочности, возведшей книгу на постоянное место в английской литературе. Не менее значительны «Три эпизода Ватека», предназначавшиеся в качестве вставок в повествование в виде рассказов ставших узниками адских чертогов Иблиса собратьев Ватека, остававшиеся неопубликованными при жизни автора и обнаруженные совсем недавно, в 1909 году, ученым Льюисом Мелвиллом, собиравшим материалы для своего исследования «Жизнь и творчество Уильяма Бекфорда». И все же Бекфорду не хватает внутренне присущего мистицизма, характерного для самых ярких форм сверхъестественного жанра; и посему его повествованию присущи некая сознательная латинская жесткость и четкость, предшествующие паническому испугу.
Тем не менее Бекфорд остался одиноким в своей привязанности к Востоку. Прочие писатели, более близкие к готической традиции и, в общем, к европейской жизни, довольствовались тропой Уолпола. Среди несчетных производителей литературы ужаса в те времена можно упомянуть теоретика от экономики и утописта Уильяма Годвина{22}, который за своим знаменитым, но не посвященным сверхъестественному «Калебом Вильямсом» (1794) выпустил в свет уже преднамеренно мистичного «Св. Леона» (1799), где тема эликсира жизни, созданного воображаемым тайным орденом розенкрейцеров, обыграна во всяком случае с изобретательностью, если не с убедительностью. Этот элемент розенкрейцерства, выпестованный волной популярного интереса к магии, примером которого может служить мода на шарлатана Калиостро и публикация Френсисом Барреттом{23} «Мага» (1801), любопытного и исчерпывающего трактата по основам оккультных наук и обрядов, репринтное издание которого вышло в 1896 году, персонажи Бульвер-Литтона{24} и многих позднеготических романов, точнее, их слабого наследия, прослеживающегося и в девятнадцатом столетии и представленного в произведениях Джорджа В.М. Рейнольдса{25} «Фауст», «Демон» и «Вагнер-Вервольф». В романе «Калеб Вильямс», несмотря на вполне естественный характер повествования, содержится много моментов, вселяющих подлинный ужас. В нем с изобретательностью и мастерством, позволившим этому произведению оставаться в моде по сю пору, рассказывается о слуге, узнавшем тайну своего господина, оказавшегося убийцей, и потому подвергающемся преследованиям со стороны последнего. Роман получил драматическое воплощение под названием «Железный сундук», и пьеса пользовалась почти равной с ним известностью. Впрочем, Годвин был слишком здравомыслящим учителем и прозаичным мыслителем, чтобы создать подлинно гениальный шедевр в области сверхъестественного жанра.
Его дочь, ставшая женой Шелли, добилась более впечатляющего успеха, и ее неподражаемый «Франкенштейн, или современный Прометей» (1817) принадлежит к числу классики литературы ужаса всех времен. Сочиненный миссис Шелли в порядке соревнования с собственным мужем, лордом Байроном и доктором Джоном Уильямом Полидори{26} на лучшее произведение в жанре ужаса, «Франкенштейн» оказался единственным завершенным среди соперничавших повествований; и критики не сумели доказать того, что самые сильные места произведения принадлежат перу Шелли, а не ей. Роман, слегка припудренный, но никак не испорченный моральной дидактикой, рассказывает об искусственном человеке, созданном из кладбищенского праха Виктором Франкенштейном, молодым швейцарским студентом. Сотворенный в безумном порыве самоутверждения монстр обладает человеческим разумом, помещенным в ужасное и отвратительное тело. Люди отвергают его, монстр озлобляется и в итоге начинает убивать всех дорогих Франкенштейну людей: друзей и родных. Чудовище требует, чтобы Франкенштейн создал для него жену; и когда потрясенный студент в ужасе отказывается, чтобы не заселить мир подобными тварями, покидает его с жуткой угрозой явиться к нему в брачную ночь. Явившись, оно удушает невесту, и начиная с этого времени Франкенштейн разыскивает чудовище даже в холодных просторах Арктики. В конечном итоге, пытаясь обрести убежище на корабле человека, рассказывающего эту историю, Франкенштейн гибнет от рук ужасного предмета своих исследований, порожденных надменной гордыней. Некоторые из сцен «Франкенштейна» забыть невозможно, как, например, ту, когда только что оживленное чудовище входит в комнату своего создателя, раздвигает занавески на его постели и взирает на него, освещенного лунным светом, своими водянистыми глазами, если их можно назвать таковыми. Миссис Шелли написала и другие романы, среди которых выделяется достойный внимания «Последний человек»; но так и не повторила успех своей первой попытки. Роман содержит истинное прикосновение космического страха, вне зависимости от того, что повествование местами оказывается затянутым. Доктор Полидори развил предложенную им в качестве соревнования идею в длинный рассказ под названием «Вампир», в котором мы встречаемся с учтивым злодеем подлинно готического или байронического типа, a также с несколькими великолепными пассажами, передающими откровенный ужас, включая кошмарное пребывание в ночном греческом лесу.
В это же самое время к сверхъестественной тематике нередко обращался сэр Вальтер Скотт, вплетая соответствующие нотки во многие свои романы и стихотворения и иногда производивший такие независимые повествования, как «Комната с гобеленами» или «Скиталец Вилли», причем в последнем сила призрачного и дьявольского начала подчеркивается гротесковой обыденностью речи и атмосферы. В 1830-м Скотт опубликовал свои «Письма о демонологии и колдовстве», по сей день представляющие один из лучших компендиумов в области европейского ведовства. Среди прочих знаменитостей не брезговал сверхъестественной тематикой и Вашингтон Ирвинг; ибо, хотя большая часть его привидений имеет слишком причудливый и юмористический характер, не соответствующий подлинно жуткой литературе, отчетливая склонность к этому направлению проступает во многих его произведениях. Рассказ «Немецкий студент» в сборнике «Рассказы путешественника» (1824) представляет собой лукавую, но сознательную переработку старинной легенды о мертвой невесте, в то время как в космическую ткань «Кладоискателей» из того же самого сборника вплетен не один намек на явления привидений пиратов в краях, где некогда гулял капитан Кидд. Томас Мур{27} также присоединился к когорте мастеров зловещего жанра в своем стихотворении «Алсифрон», которое впоследствии переработал в прозаическую новеллу «Эпикуреец» (1827). Повествуя о похождениях юного афинянина, одураченного хитроумными египетскими жрецами, Мур умудряется насытить свое повествование страхами и чудесами подземных и первобытных храмов Мемфиса. Де Квинси{28} более чем однажды обращается к гротескным и причудливым ужасам, хотя делает это не системно и с ученой помпезностью, что не позволяет ему рассчитывать на ранг специалиста.
Эра эта увидела также возвышение Уильяма Гаррисона Эйнсворта{29}, чьи романтические новеллы изобилуют мрачными и таинственными подробностями. Капитан Марриет{30}, писавший такие короткие рассказы, как «Оборотень», внес достойный внимания вклад в развитие жанра своим произведением «Корабль-призрак» (1839), основанным на легенде о Летучем Голландце, чье призрачное и проклятое судно навеки обречено плавать возле мыса Доброй Надежды. Одновременно поднимается Диккенс с редкими сверхъестественными историями вроде «Сигнальщика», повествующего о жутком предупреждении весьма обыденным образом и расцвеченного таким правдоподобием, которое роднит его не только с умирающей готической школой, но и с грядущей — психологической. В то время на подъеме была волна спиритического шарлатанства; медиумизм, индийская теософия и подобные им материи процветали — во многом как в наши дни; так что количество сверхъестественных повествований на «психической» или псевдонаучной основе сделалось весьма значительным. За известное число таковых ответственность лежит на плодовитом и популярном Эдварде Бульвер-Литтоне; и, невзирая на внушительные дозы напыщенной риторики и пустого романтизма в его произведениях, нельзя отрицать его успех в создании некоего причудливого очарования.
«Дом и мозг», попахивающий розенкрейцерством, а своим злобным и бессмертным персонажем, возможно, намекающий на таинственного Сен-Жермена, придворного Людовика XV, до сих пор остается одной из лучших историй, написанных о доме с привидениями. В романе «Занони» (1842) подобные элементы подверглись более тонкой обработке, знакомя нас с огромной и неведомой сферой бытия, давящей на наш собственный мир и охраняемой жутким «Обитателем порога», преследующим всякого, кто пытается войти, но терпит неудачу. Здесь мы встречаемся с благородным братством, существующим из века в век, но в конечном итоге сокращающимся до одного члена, а в качестве героя выступает халдейский чародей, сохраняющий свою жизнь в цвете невинной юности для того, чтобы погибнуть на гильотине французской революции. При всей полноте обычного для романтизма духа, попорченный внушительной сетью символических и дидактических смыслов, и достаточно неубедительный по причине отсутствия идеальной атмосферной реализации ситуаций, граничащих с миром духовным, «Занони» и в самом деле остается великолепным примером романтического повествования, и не слишком умудренный читатель прочтет этот роман с интересом. Интересно отметить, что, рассказывая о предпринятой попытке посвящения в древнее братство, автор не смог не воспользоваться чистокровным представителем породы готических замков в духе Уолпола.
В «Странной истории» (1862) Бульвер-Литтон обнаруживает существенные успехи в области создания сверхъестественных образов и соответствующих им настроений. Роман, невзирая на колоссальный объем, весьма надуманный сюжет, построенный на ряде случайностей, и назидательно псевдонаучную атмосферу, использованную, чтобы ублажить деловитого и целеустремленного викторианского читателя, чрезвычайно интересен как повествование, пробуждая немедленный и негаснущий интерес и предоставляя — пусть и несколько мелодраматичные — образы и кульминации. Здесь мы снова имеем дело с таинственным обладателем эликсира жизни, бездушным волшебником Маргрейвом, чьи темные исследования с драматической яркостью выделяются на фоне тихого английского городка и австралийского буша, и опять встречаемся с дурной памяти страшилками огромного духовного мира, обитающего в окружающем нас воздухе, на сей раз обработанных с большей силой и жизненностью, чем в «Занони». Одна из двух великих сцен ворожбы, в которой сияющий дух заставляет героя во сне подняться с постели, взять таинственный египетский жезл и призвать безымянные и таинственные силы в зловещем и похожем на мавзолей павильоне ренессансного алхимика, по праву занимает место среди самых жутких литературных сцен. Предположений здесь в самую меру, сказано тоже немного. Неведомые слова дважды диктуются идущему во сне, и когда он повторяет их, трепещет земля, и все псы в сельской округе занимаются лаем при виде едва различимых аморфных теней, что, склоняясь, бродят вокруг в лунном свете. Когда в ушах его звучит третья фраза, составленная из неведомых слов, сам дух лунатика протестует, не желая произносить их, как если бы душа его сама сумела распознать сокрытые от разума ужасы предельной бездны, и наконец явление отсутствовавшей любимой и доброго ангела прерывает злые чары. Этот фрагмент отличным образом свидетельствует о том, насколько великолепно умел лорд Литтон уходить от обыкновенной для себя помпезной романтики к кристальной сущности художественного страха, принадлежащего домену поэзии. В описании тонких подробностей заклинаний Литтон, конечно, во многом пользовался результатами своих удивительно серьезных оккультных исследований, в процессе которых он познакомился с таинственным французским ученым и каббалистом Альфонсом Луи Константом (Элифасом Леви), претендовавшим на владение тайнами древней магии и вызывавшим дух древнего греческого мудреца Аполлония из Тианы, жившего во времена Нерона.
Представленную здесь романтическую, полуготическую и квазиморализаторскую традицию пронесли в девятнадцатом веке такие авторы, как Джозеф Шеридан ЛеФаню, Уилки Коллинз, покойный сэр Райдер Хаггард (чей роман «Она» чрезвычайно хорош), сэр Артур Конан-Дойль, Герберт Уэллс и Роберт Льюис Стивенсон{31}, последний из которых, невзирая на жуткую склонность к бойкому маннеризму, создал нетленную классику в рассказах «Маркхейм», «Похититель трупов» и «Доктор Джекилл и мистер Хайд». В самом деле, мы можем сказать, что эта школа по-прежнему существует, ибо к ней с очевидностью принадлежат такие из современных ужасных историй, которые специализируются скорее на событиях, чем на атмосферных деталях, и обращаются скорее к разуму, чем к злой напряженности или психологической достоверности, а также определенным образом симпатизируют человечеству и его благосостоянию. Она обладает несомненной силой, поскольку ее «человеческий элемент» властвует над более широкой аудиторией, чем просто художественный кошмар. И если она никогда не достигает художественной силы последнего, то потому лишь, что разведенный продукт никогда не достигает силы концентрированной эссенции.
Особняком в литературе ужаса стоит «Грозовой перевал» (1847) Эмили Бронте{32}, с его широкими панорамами блеклых и ветреных равнин Йоркшира, а также бурных, деформированных жизней, которые они порождают. Хотя повествование рассказывает о человеческих страстях, муках и конфликтах, его эпическая и космическая оправа оставляет место для ужаса самого духовного сорта. Хитклифа, модифицированного байронического героя-злодея, странным и мрачным, бормочущим тарабарщину младенцем находит и усыновляет семья, которую он последовательно разрушает. Делается не один намек на то, что он представляет собой скорее дьявольский дух, чем человека, и дальнейшее приближение к ирреальному достигается с помощью гостя, заметившего печального призрачного ребенка возле окна, которого касается ветвь дерева. Между Хитклифом и Катериной Эрншо завязывается связь, более глубокая, чем простая человеческая любовь. После смерти девушки он дважды тревожит ее могилу, и его преследует неосязаемое присутствие некоей силы, которая не может оказаться ничем иным, кроме ее духа. Дух этот все более и более входит в его жизнь, и наконец Хитклиф становится уверенным в грядущем мистическом воссоединении. Он говорит, что ощущает приближение таинственной перемены, и прекращает принимать пищу. По ночам он либо скитается вне дома, либо открывает окно возле своей постели. Когда он умирает, оконная рама еще качается под дождем, и странная улыбка почиет на застывшем лице. Его хоронят в той могиле, которой он не давал покоя в течение восемнадцати лет, и по прошествии некоторого времени маленький пастушок рассказывает, что видел Хитклифа вместе с его Катериной, гулявших под дождем по кладбищу и равнине за ним. Лица их также иногда можно видеть по ночам за тем же окном Грозового перевала. Ужас, порожденный мисс Бронте, не просто является отголоском готического, но представляет собой напряженное ожидание человека, трепещущего перед неизвестным. В этом отношении «Грозовой перевал» стал символом литературного перехода и отмечает собой появление новой, более совершенной школы.
Глава 6
Сверхъестественная литература на континенте
На континенте литературный ужас чувствовал себя вполне хорошо. Прославленные короткие повести и рассказы Эрнста Теодора Гофмана (1776–1822) вошли в притчу благодаря сочности фона и зрелости формы, пусть они и склоняются к легкости и экстравагантности и лишены высоких мгновений жестокого, ошеломляющего ужаса, которых мог бы достичь менее искусный писатель. В основном они передают гротескное, но не ужасное. Наиболее искусным среди всех континентальных ирреальных произведений является вошедшая в германскую классику «Ундина» (1814) Фридриха Карла, барона де ля Мотт Фуке{33}. В его рассказе о водяной деве, вышедшей замуж за смертного и получившей человеческую душу, присутствуют тонкое изящное мастерство, делающее это произведение заметным в любом разделе литературы, а также непринужденная естественность, ставящая его рядом с народными мифами. Рассказ этот восходит к сюжету, пересказанному во времена Ренессанса врачом и алхимиком Парацельсом в его «Трактате о стихийных духах».
Ундина, дочь могущественного водяного князя, маленькой девочкой была обменяна отцом на дочь рыбака, чтобы получить человеческую душу, выйдя замуж за человека. Познакомившись с молодым и благородным Гульдбрандом возле домика своего приемного отца на краю зачарованного леса, она скоро выходит замуж за юношу и перебирается к нему в родовой замок Рингштеттен. Гульдбранд, однако, в конечном счете устает от сверхъестественных родственников своей жены, и в особенности от визитов ее дядюшки Кюлеборна, злобного духа лесного водопада; усталости этой способствует крепнущая привязанность к Бертальде, которая оказывается той самой дочерью рыбака, на которую обменяли Ундину. Наконец в путешествии по Дунаю невинный проступок преданной супруги провоцирует его произнести гневные слова, которые обрекают ее на возвращение в родную сверхъестественную стихию, из которой по закону, предписанному ее роду, она может выйти лишь однажды — чтобы убить бывшего мужа, хочет она того или нет, если только он окажется неверным ее памяти. Позже, когда Гульдбранд уже собирается жениться на Бертальде, Ундина возвращается, чтобы исполнить свой печальный долг, и в слезах забирает его жизнь. Когда молодого человека хоронят на деревенском кладбище, среди скорбящих появляется снежно-белая женская фигура, исчезнувшая после молитвы. На том месте, где стояла она, пробился серебряный родничок, почти полностью обогнувший свежую могилу и устремившийся в соседнее озеро. Селяне по сей день показывают его и говорят, что таким образом Ундина и Гульдбранд соединились после смерти. Многочисленные пассажи и атмосфера этой повести делают Фуке истинным мастером в области зловещего жанра; особенно впечатляют описания зачарованного леса с обитающим в нем снежно-белым великаном и прочих безымянных ужасов, присутствующих в повествовании.
Не так известна, как «Ундина», но замечательна своим убедительным реализмом и свободой от набора готических принадлежностей «Янтарная ведьма» Иоганна Вильгельма Мейнольда{34}, еще одно порождение германского фантастического гения начала девятнадцатого столетия. Действие, происходящее во времена Тридцатилетней войны, описывается в некоем манускрипте, якобы найденном в старинной церкви в Косерове, и концентрируется вокруг дочери автора, Марии Швейдлер, облыжно обвиненной в колдовстве. Обнаружив клад янтаря, она утаивает его по ряду причин, и неожиданное богатство добавляет улик обвинению, выдвинутому против нее по злобе благородным охотником на волков Виттихом Аппельманом, тщетно преследовавшим девушку с неблагородными намерениями. Деяния подлинной ведьмы, в итоге обретающей жуткий и сверхъестественный конец в тюрьме, немедленно приписываются несчастной Марии, которой после типичного в таких случаях судилища с вынужденным признанием под пыткой предстоит смерть на костре, однако ее вовремя спасает любимый — тоже благородный юноша, но из соседнего края. Великая сила Мейнольда как раз и заключается в этой атмосфере непринужденного и реального правдоподобия, еще более увеличивающего наше тревожное ожидание и ощущение незримого, почти убеждая в том, что все грозные события — или подлинная правда, или близки к ней. Более того, реализм этого повествования настолько убедителен, что один популярный журнал однажды опубликовал основные моменты сюжета «Янтарной ведьмы» в качестве события, реально происшедшего в семнадцатом веке!
В нынешнем поколении немецкую литературу ужасного жанра успешно представляет Ганс Гейнц Эверс{35}, совмещающий мрачные концепции с глубоким знанием современной психологии. Такие повести, как «Ученик чародея» и «Альраун», а также короткий рассказ «Паук» обладают отменными достоинствами, возвышающими их до уровня классики.
Однако в области сверхъестественного подвизались писатели не только Германии, но и Франции. Виктор Гюго{36} в таких произведениях, как «Ган Исландец», и Бальзак{37} в «Шкуре дикого осла», «Серафите» и «Луи Ламбере» в той или иной степени используют сверхъестественное, хотя в основном только для того, чтобы добиться более человечного итога и без той искренней и демонической напряженности, которая характерна для рожденного для теней художника. И только у Теофиля Готье{38} находим мы впервые подлинно французское восприятие ирреального мира, именно у него появляется призрачная тайна, не всегда находящая употребление, но сразу же проявляющая признаки подлинной глубины. Такие короткие рассказы, как «Аватар», «Нога мумии» и «Кларимонда», обнаруживают знакомство с запретными перспективами, искушающими, соблазняющими, а иногда ужасающими, в то время как египетские видения, вызванные к жизни в «Одной из ночей Клеопатры», обладают самой пронизывающей и выразительной потенцией. Готье сумел уловить внутреннюю сущность отягощенного веками Египта, с его загадочной жизнью, циклопической архитектурой и раз и навсегда изреченным и вечным ужасом потустороннего мира его катакомб, где миллионы окоченевших, натертых благовониями мумий до конца веков будут своими стеклянными глазами вглядываться вверх, во тьму, дожидаясь жуткого и несказуемого зова. Гюстав Флобер{39} продолжил традицию Готье в оргии поэтической фантазии под названием «Искушение Святого Антония», и если бы не сильная реалистическая жилка, он мог бы стать лучшим среди мастеров художественного ужаса. После поток разделяется, порождая странных поэтов и фантазеров символической и декадентской школ, чьи сумрачные интересы на самом деле скорее концентрируются вокруг аномалий человеческого мышления и инстинктов, чем вокруг подлинно сверхъестественного, и тонких рассказчиков, чьи волнующие произведения непосредственно почерпнуты из темных как ночь колодезей космической ирреальности. Высшим представителем первого класса «погрязших в грехе художников» является блистательный поэт Бодлер{40}, находившийся под существенным влиянием По, в то время как психологический романист Жорис-Карл Гюисманс{41}, подлинное дитя девяностых годов девятнадцатого века, является сразу и суммой, и итогом. Последняя и чисто повествовательная разновидность продолжается Проспером Мериме{42}, чья «Венера Илльская» в сжатой и убедительной прозе пересказывает древнюю тему статуи-невесты, которую Томас Мур использовал в балладе «Кольцо».
Ужасные повести могучего и циничного Ги де Мопассана{43}, написанные в то время, когда безумие постепенно и окончательно овладевало им, обладают собственной индивидуальностью, будучи скорее болезненными излияниями реалистичного ума, находящегося в патологическом состоянии, чем здравым и образным продуктом сознания, естественным образом склонного к фантазии и чувствительному к нормальным иллюзиям незримого. Тем не менее они чрезвычайно увлекательны и пикантны и с удивительной силой указывают на существование безымянных ужасов и на безжалостное преследование несчастных представителей рода людского жуткими и грозными отродьями внешней тьмы. Шедевром среди этих рассказов обыкновенно считается «Орла», в котором повествуется о появлении во Франции невидимого существа, живущего на воде и молоке, расстраивающего разум людей и как бы представляющего собой авангард орды внеземных организмов, намеревающейся нагрянуть на Землю, чтобы покорить человечество; напряженное повествование это, быть может, не имеет равных в собственной категории, несмотря на влияние американца Фиц-Джеймса О’Брайена{44} в подробном описании незримого чудища. Кроме того, в жутком жанре Мопассан проявил себя рассказами «Кто знает?», «Призрак», «Он», «Дневник сумасшедшего», «Белый волк», «На реке» и попросту страшными стихами под общим названием «Ужас».
Соавторы Эркманн-Шатриан{45} обогатили французскую литературу многими ирреальными фантазиями, подобными рассказу «Человек-волк», в котором перешедшее проклятие срабатывает в традиционной обстановке готического жанра. Они владели огромным умением создать жуткую до дрожи полуночную атмосферу, невзирая на склонность к естественным объяснениям и научным чудесам; немногие страшные рассказы могут похвастать атмосферой, полной большего ужаса, чем «Незримое око», в котором злобная старая карга плетет полуночные гипнотические заклинания, заставляющие посетителей некоего гостиничного номера одного за другим вешаться на поперечной балке. Рассказы «Совиное ухо» и «Воды смерти» наполняет всеобъемлющая тьма и тайна, причем последний разрабатывает тему паука-переростка, столь часто используемую авторами, практикующимися в области странного. Вилье де Лиль-Адан{46} также следовал направлению школы зловещего — его «Пытка надеждой», рассказ об осужденном на сожжение узнике, которому позволено бежать только для того, чтобы испытать ужас нового пленения, считается некоторыми самым душераздирающим коротким рассказом во всей истории литературы. Подобный тип произведения относится, однако, не столько к сверхъестественной традиции, сколько к самостоятельной разновидности, называемой «жестокими рассказами», в которых напряжение эмоций вызывается драматическими искушениями, разочарованиями, физическими ужасами. Почти полностью посвятил свое творчество этой форме живущий сейчас писатель Морис Левель{47}, чьи короткие эпизоды так легко адаптируются на сцене в «триллерах» театра Гран-Гиньоль[39]. Дело в том, что французский гений более естественным образом пригоден к подобному темному реализму, чем к представлению незримого, поелику последний процесс требует для своего наилучшего и сочувственного воплощения в крупном масштабе природного мистицизма северного ума.
Весьма процветающей, хотя до недавнего времени не слишком известной отраслью сверхъестественной литературы является литература еврейская, влачившая свою жизнь в безвестности и питавшаяся мрачным наследием ранней восточной магии, апокалиптической литературы и каббалы. Семитический ум, подобно кельтскому и тевтонскому, явным образом обладает особенными мистическими наклонностями, и количество тайных и ужасных преданий, сохраняющихся в гетто и синагогах, непременно окажется много большим, чем можно предположить. Собственно каббала, игравшая выдающуюся роль во время Средних веков, представляет собой систему, объясняющую Вселенную эманацией Божества и включающую существование странных духовных миров и существ за пределами видимого мира, некоторое представление о которых можно получить посредством определенных тайных заклинаний. Каббалистический обряд связан с мистическими интерпретациями Ветхого Завета и приписывает эзотерическое значение каждой букве еврейского алфавита, каковое обстоятельство придало еврейским буквам некое особенное значение и силу в популярной литературе на темы магии. Еврейский фольклор сохранил память о многих ужасах и тайнах прошлых времен, и при внимательном рассмотрении явно оказывает заметное влияние на литературу, повествующую о сверхъестественном. Наилучшими примерами в настоящее время являются германский роман «Голлем» Густава Майринка{48} и драма «Диббук» еврейского писателя, воспользовавшегося псевдонимом Анский{49}. Действие первого с его навязчивыми и неявными намеками на всякие несказуемые чудеса и ужасы происходит в Праге; с особенным мастерством в романе описано старинное пражское гетто с его ирреальными остроконечными кровлями. Название романа восходит к слову, обозначающему сказочного искусственного великана, подобных которому средневековые раввины умели изготовлять в соответствии с некоей загадочной формулой. «Диббук», переведенный и поставленный в Америке в 1925-м, a недавно перешедший в разряд опер, с особенной силой описывает обладание живого тела злой душой мертвеца. Големы и диббуки типичны для поздних еврейских преданий и являются их неотъемлемой частью.
Глава 7
Эдгар Алан По
В тридцатых годах девятнадцатого века произошла литературная революция, повлиявшая не только на историю сверхъестественного жанра, но и на весь короткий рассказ; а также оказавшая косвенное воздействие на тенденции и судьбу великой европейской эстетической школы. Великое счастье, что мы, американцы, имеем право считать ее нашей собственной, ибо революция эта явилась в лице нашего самого блестящего и несчастливого соотечественника Эдгара Алана По{50}. Слава этого человека подвергалась любопытным колебаниям, и теперь среди «продвинутой интеллигенции» принято преуменьшать его значение как художника и как влиятельного фактора. Однако любому зрелому и думающему критику будет сложно отрицать колоссальное значение его произведений и убедительную способность его ума открывать художественные перспективы. Действительно, его тип кругозора можно было предвидеть; но именно он первым осознал предоставляемые возможности и придал им высшую форму и систематическое выражение. Верно и то, что последовавшие за ним писатели могли сочинять произведения более великие, чем его собственные; но опять же нам следует понимать, что это он обучил их собственным примером и наставлением тому искусству, которое они, следуя за великим проводником по уже расчищенному им пути, получили возможность вознести на большую высоту. При всех своих недостатках По сделал то, чего не сделал и не мог сделать никто другой; и именно ему мы обязаны современной прозой ужасного в ее окончательном и совершенном виде.
Основная масса предварявших По писателей трудилась во многом во тьме, не располагая пониманием психологических основ притягательности ужасного и будучи в той или иной степени связанными соблюдением неких банальных литературных условностей, таких как счастливый конец, вознагражденная добродетель, по большей части пустой нравственный дидактизм, признание популярных ценностей и норм, a также стремление автора навязать повествованию собственные эмоции и присоединиться к сторонникам искусственных идей, владеющих большинством. По, с одной стороны, понимал сущностное безличие подлинного художника и знал, что литературное творчество должно выражать и толковать события и ощущения такими, какие они есть, вне зависимости от выражаемой ими тенденции и того, что они доказывают — доброе или злое, привлекательное или отталкивающее, возбуждающее или угнетающее, причем автор всегда должен выступать скорее в качестве бодрого и отстраненного хроникера, чем учителя, сторонника или пропагандиста. Он четко понимал, что все фазы жизни и мысли равным образом могут предоставить материал для художника, и, испытывая по темпераменту склонность к странному и мрачному жанру, решил стать интерпретатором тех мощных чувств и частых событий, сопряженных скорее с болью, чем с удовольствием, с распадом, а не с ростом, с ужасом, а не с покоем, которые фундаментально либо противоречат, либо безразличны вкусам и традиционным внешним выражениям чувств рода людского, здоровью его тела и духа, обыкновенному общему благосостоянию его.
Таким образом, привидения кисти По обрели убедительную зловредность, каковой не обладали все их предшественники, и установили новый стандарт реализма в анналах литературного ужаса. Безличному и художественному намерению еще более помогала научная позиция, нечасто встречавшаяся ранее; дело в том, что По изучал человеческий разум, а не способы создания готической прозы, и располагал аналитическим знанием подлинных источников смертельного ужаса, которое удваивало силу его повествований и избавляло их от всех абсурдов, внутренне присущих обыкновенной стряпне в области ужасного. Получив этот пример, последующие авторы просто были вынуждены следовать ему, чтобы оказаться конкурентоспособными; посему указанная перемена начала оказывать определенное воздействие на мейнстрим литературы о зловещем. По также установил моду на совершенное мастерство; и хотя сегодня некоторые из его произведений кажутся чуть мелодраматичными и простоватыми, мы можем непрерывно проследить его влияние в таких сторонах литературного мастерства, как создание в рассказе единого настроения и достижение единого впечатления, a также старательная подгонка событий к такому виду, который окажет непосредственное воздействие на сюжет и ярким образом проявится в апофеозе повествования. Действительно можно сказать, что По изобрел короткий рассказ в его современном виде. Возведение им болезни, извращения и распада на уровень художественно выразительных тем подобным образом имело весьма далеко идущие последствия, ибо подобные сюжеты, немедленно подхваченные, спонсированные и усиленные его выдающимся французским почитателем Шарлем-Пьером Бодлером{51}, сделались ядром основных эстетических движений Франции, таким образом превратив По в отца декадентов и символистов.
Поэт и критик по природе и высшему достижению, логик и философ по вкусам и манерам, По ни в коем случае не был свободен от недостатков и претенциозности. Следует признать и простить выказываемое им предпочтение глубокой и тайной учености, нелепые уклонения в ходульный псевдоюмор и зачастую едкие выплески критических предрассудков. За ними и над ними, сводя их к ничтожеству, находилось видение мастером ужаса, окружающего нас и внутри нас находящегося, и того червя, что извивается и лебезит в отвратительно близкой бездне. Пронизывая пестро раскрашенную суету, называемую бытием, обнаруживая таящихся под ней чудищ в торжественном маскараде, именуемом человеческой мыслью и чувством, видение это имело силу проецировать себя в черные магические кристаллизации и трансмутации; в стерильной до того Америке тридцатых и сороковых годов вдруг процвел такой лунатический рассадник пышных и ядовитых грибов, каким не могли бы похвастать даже потусторонние склоны Сатурна. Стихи наравне с рассказами наполнялись бременем космической паники. Ворон, чей отвратительный клюв пронзает сердце, призраки, звонящие в колокола опустошенных чумой церквей, могила Улялюм черной октябрьской ночью, потрясающие подводные шпили и купола, — «За кругом земель, за хором планет, Где ни мрак, ни свет и где времени нет»[40] — все эти твари, и не только они, щерятся на нас посреди маниакального треска в бурлящем кошмаре поэзии. А в прозе перед нами разверзается само жерло ада — непостижимая аномалия, на которую лукаво намекают в жутком полузнании слова, в чьей невинности мы не можем усомниться, пока хрустнувшее в произносящем их гулком голосе напряжение не призовет нас убояться несказуемых следствий, демонических замыслов и присутствий, пребывающих в пагубном сне, чтобы оказаться пробужденными в одно страшное мгновение к вопиющему откровению, смехом доводящему себя до внезапного безумия или взрывающемуся врезающимися в память катаклизмическими раскатами. Перед нами во всем ужасе предстает бесовский шабаш, сбросивший свои нарядные одежды, — зрелище тем более чудовищное благодаря тому научному мастерству, с которым каждая частность выводится напоказ в тесной и непринужденной связи с общеизвестными мерзостями материальной жизни.
Рассказы По, конечно же, подразделяются на несколько групп, причем некоторые из них содержат более чистую эссенцию духовного ужаса, чем другие. Повествования, посвященные логике и умозаключениям, являющиеся предтечами произведений современного детективного жанра, не следует вообще включать в разряд литературы о сверхъестественном; в то время как другие, возможно, испытавшие значительное влияние Гоффмана, обладают экстравагантностью, ставящей их на грань гротеска. Третья группа, имеющая дело с пробуждающими ужас аномалиями психики и мономанией, к сверхъестественному жанру не относится, однако сухой остаток представляет собой литературу сверхъестественного ужаса в ее самой отточенной форме, предоставляя своему автору неприступное и постоянное место в качестве божества и источника всей современной литературной дьявольщины. Кто может забыть ужасный корабль, застывший на краю бездны в «Рукописи, найденной в бутылке», — темные откровения о его возрасте и чудовищных наростах, зловещем экипаже из незрячих седобородых старцев и ужасном броске под парусом на юг через антарктическую ледяную ночь на корабле, несомом вперед неким не допускающим противления дьявольским потоком к водовороту бесовского просвещения, которое обязано завершиться уничтожением?
За сим следует неизреченный «Месье Вальдемар», останки которого удерживаются в целостности гипнотизмом в течение семи месяцев после смерти, и издающие отчаянные звуки за мгновение до того, как рассеиваются чары, превращаясь в «полужидкую массу отвратительной и гнилой плоти». В «Повести о приключения Гордона Пима» путешественники сперва попадают в неведомую южную полярную землю, населенную жестокими дикарями, где нет ничего белого, а огромные каменные ущелья имеют форму титанических египетских иероглифов, открывающих первородные и ужасные тайны земли; а потом в еще более таинственный край, где все, напротив, бело, а окутанные покровами великаны и птицы в снежно-белом оперении стерегут загадочный водопад, низвергающийся с неизмеримых небесных высот в бурное молочное море. «Метценгерштейн» устрашает нас злыми намеками на чудовищный метемпсихоз: безумный дворянин поджигает конюшню своего наследственного врага и колоссальный конь появляется из пылающего здания, в котором сгинул его владелец; исчезает кусок старинного гобелена, на котором изображен огромный конь предка жертвы поджога, участвовавшего в крестовых походах; к ним присоединяются отчаянная и непрестанная скачка безумца на огромном коне, его страх и ненависть к скакуну; бессмысленные пророчества, окружающие оба враждующих дома; и наконец сожжение дворца безумца и смерть его в нем, вознесенного странным конем в самое недро пламени вверх по широкой лестнице. После пожара курящийся над развалинами дым приобретает форму огромной лошади. «Человек толпы» в более спокойной интонации рассказывает нам о том, кто денно и нощно бродит, стараясь слиться с потоками людей, как бы опасаясь оставаться в одиночестве, но подразумевает истинно космический ужас. Разум По никогда не отвлекался далеко от ужаса и тлена, и в каждом его рассказе, стихотворении, философском диалоге проступает напряженное стремление измерить незакрытые от нас колодцы ночи, приподнять вуаль смерти, стать в собственной фантазии повелителем жутких мистерий времени и пространства.
Некоторые из произведений По обладают почти абсолютным совершенством художественной формы, которое делает их подлинными маяками в области короткого рассказа. При желании По мог придавать своей прозе высокий поэтический дух, пользуясь тем архаичным ориентализированным стилем с доведенной до уровня самоцвета фразой, квазибиблейскими повторениями и возвращающимися темами, которыми впоследствии так успешно пользовались Оскар Уайльд и лорд Дансени{52}; и в тех случаях, когда он делал это, мы получаем лирическую фантазию, почти наркотическую по своей сущности — опьяняющее пышное зрелище сна, изложенное на языке сна, когда каждый сверхъестественный цвет и гротескный образ вплетены в симфонию соответствующего им звука. «Маска красной смерти», «Молчание», «Сказка», «Тень», «Притча», безусловно, являются поэмами в каждом смысле этого слова, за исключением стихотворного размера, и в такой же мере обязаны своей силой слуховой каденции, как и визуальной образности. Однако лишь в двух менее поэтичных произведениях: «Лигейе» и «Падении дома Ашеров» — особенно в последнем — мы находим те самые художественные высоты, благодаря которым По занимает свое место во главе литературных миниатюристов. Простые и прямолинейные в области сюжета, оба эти рассказа обязаны своей высшей магией хитроумной разработке каждого инцидента. В рассказе «Лигейя» повествуется о первой жене, даме высокого и таинственного происхождения, которая после смерти благодаря сверхъестественной силе воли вернулась в мир живых, чтобы овладеть телом второй жены, навязывая даже свой внешний облик временно оживленному трупу своей жертвы. Невзирая на подозрение в занудности и тяжеловесности, повествование с ужасающей силой достигает своего ужасного климакса. «Падение дома Ашеров», превосходство которого в пропорциях и деталях кажется весьма заметным, с трепетом намекает на тайную жизнь неорганических предметов и в итоге являет аномально связанную троицу существ, завершающих долгую и изолированную семейную историю: брата, его сестры-близняшки и их невероятно древнего дома, разделяющих между собой единую душу и в одно и то же мгновение встречающих общее разрушение.
Эти причудливые концепции, такие неуклюжие в неловких руках, под чарами По сделались живыми и убедительными ужасами, населяющими наши ночи; и все потому, что автор их идеальным образом понимал саму механику и физиологию страха и чудесного; ему были ведомы важные детали, которые следует подчеркнуть, точные соответствия и образы, которые следует избрать в качестве предваряющих ужас или сопутствующих ему, верные ситуации и аллюзии, которые самым невинным образом можно заготовить заранее в качестве символов, предваряющих каждый крупный шаг к грядущей жуткой развязке, искусство тонкой подгонки накапливающейся силы и безошибочной точности в соединении частей, создающей в решающий момент истинное единство и громовую эффективность, тонких нюансов в описании пейзажей и фонов, способных установить и поддержать ожидаемое настроение, — и других принципов подобного рода, а также дюжины менее важных, слишком тонких, чтобы их мог описать или даже просто понять простой комментатор. Пусть в рассказах его присутствуют мелодраматизм и простота; рассказывают, что один привередливый француз терпеть не мог произведений По иначе как в городском и галлицизированном переводе Бодлера. Однако все следы подобных тонкостей полностью затмеваются властным и врожденным ощущением призрачного, отвратительного, жуткого, извергаемого каждой клеточкой творческого менталитета художника и помечающего созданные им зловещие произведения нестираемой отметкой высшего гения. Принадлежащие По рассказы о сверхъестественном живут настолько полной жизнью, которая дана немногим.
Подобно большинству фантазеров, По в большей степени преуспевает в ситуациях и широких повествовательных эффектах, но не в прорисовке характеров. Типичным героем его является темноволосый, симпатичный, гордый, меланхоличный, интеллектуальный, очень чувствительный, прихотливый, склонный к погружению внутрь себя, одинокий и иногда чуть безумный, но процветающий джентльмен старинного рода, чаще всего глубоко постигший таинственные науки и странным образом стремящийся проникнуть в глубь запретных загадок Вселенной. Если не считать громкого имени, персонаж этот не слишком связан с ранним готическим романом, поскольку ни в коем случае не является деревянным героем или дьявольским злодеем романа поры Радклиф или Людовика. Впрочем, косвенным образом нельзя отрицать их генеалогическую связь, поскольку мрачный, амбициозный и антиобщественный настрой этого джентльмена сильно отдает типичным байроновским героем, в свой черед являющимся отпрыском готических Манфредов, Монтони и Амброзио. Более конкретные качества кажутся извлеченными из психологии самого По, которому, бесспорно, были присущи депрессия, чувствительность, безумное вдохновение, одиночество и склонность к экстравагантным причудам, коими он наделяет своих надменных и одиноких героев, жертв судьбы.
Глава 8
Традиция сверхъестественного в Америке
Публика, для которой писал По, в массе своей не слишком восприимчивая к его искусству, тем не менее была подготовлена к восприятию его ужасов. Америка, унаследовавшая темный европейский фольклор, располагала дополнительным фондом мрачных ассоциаций, и посему легенды о привидениях уже были признаны здесь плодоносным источником литературных сюжетов. Феноменальную известность заслужил своими романами в стиле Радклиф Чарлз Брокден Браун{53}, a более непринужденная обработка зловещих тем Вашингтоном Ирвингом{54} скоро сделалась классической. Этот дополнительный фонд, как указывал Пол Элмер Мор{55}, восходил к острым духовным и теологическим исканиям первых колонистов, был обусловлен грозной природой, в которую им пришлось окунуться. Бескрайние и мрачные девственные леса, в постоянном сумраке которых вполне могла водиться всякая жуть; орды меднотелых индейцев, чьи незнакомые угрюмые обличья и буйные обычаи явно намекали на адское происхождение; свобода, предоставленная пуританской теократией всем представлениям человека о суровом и мстительном Боге кальвинистов и о распространяющем серный запах Противнике этого Бога, о котором каждое воскресенье так громогласно возвещалось с амвонов; нездоровое углубление внутрь себя, развившееся в уединенной жизни посреди лесов без нормальных развлечений и из призывов к теологическому самокопанию, соединенному с противоестественным эмоциональным унынием, вызванным в первую очередь необходимостью вести простую и мрачную борьбу за выживание, — все это совместно образовывало среду, в которой черные нашептывания злобных старух звучали не только за печью, a рассказы о чародействе и невообразимых тайных монстрах можно было услышать и тогда, когда ужасные дни салемского кошмара отошли в прошлое.
Фигура По олицетворяла собой новую школу, в большей степени недоверчивую и более технически совершенную, поднявшуюся из этого благоприятного грунта среди прочих школ. Другую школу, действовавшую в традиции моральных ценностей, мягкой сдержанности и кроткой ленивой фантазии, в той или иной степени приперченной невероятным, представлял другой автор — столь же знаменитый, непонятный и одинокий в американской литературе — застенчивый и чувствительный Натаниэль Готорн{56}, родившийся в старинном Салеме правнук одного из самых кровожадных судей, участвовавших в процессах о колдовстве. В Готорне нет ни капли силы, дарования, ярких красок, интенсивного драматизма, космического зла и нераздельного и имперсонального артистизма По. Здесь мы имеем дело с нежной душой, задавленной пуританизмом ранней Новой Англии, омраченной и затуманенной той безнравственной вселенной, повсюду преступающей все обыкновенные схемы, которые, по мнению наших праотцов, представляли собой божественный и нерушимый закон. Зло, в глазах Готорна являвшееся подлинно реальной силой, присутствует повсюду в качестве затаившегося и победоносного противника; зримый нами мир в его фантазиях становится театром бесконечной трагедии и горя, причем незримые и наполовину живые силы парят над ним и пронизывают его, сражаясь за власть и определяя судьбы несчастных смертных, составляющих пустое и склонное к самообману население нашей планеты. Наследие американского сверхъестественного предания принадлежало Готорну в самой высшей степени, и за явлениями обыкновенной жизни он замечал зловещую вереницу неясных призраков; однако не был при том разочарован настолько, чтобы ценить впечатления, ощущения и красоты повествования ради них самих. Он вплетал свои фантазии в тихую меланхоличную ткань дидактического или аллегорического фасона, в которой его кроткий и отстраненный цинизм мог демонстрировать с наивным моральным одобрением вероломства рода людского, каковой он не прекращал подбадривать и оплакивать, несмотря на понимание господствовавшего в обществе ханжества. Сверхъестественный ужас, таким образом, никогда не был у Готорна основным предметом; хотя импульсы его были настолько глубоко вплетены в личность писателя, что он не мог проявлять их со всей силой гения, обращаясь к ирреальному миру, чтобы проиллюстрировать покаянную проповедь, с которой он стремился выступать.
Намеки Готорна на потусторонние силы, всегда мягкие, уклончивые и сдержанные, прослеживаются во всем его творчестве. Породившее их настроение нашло восхитительный выход в тевтонизированном пересказе классических мифов для детей, содержащихся в «Книге чудес» и «Тэнглвудских рассказах», а в других случаях оно проявляло себя в некоем странном покрове колдовства или злой воли, набрасываемом Готорном на события, которым не обязательно быть строго сверхъестественными, как, например, в зловещей, опубликованной посмертно новелле «Секрет доктора Гримшоу», наделяющей особой разновидностью мерзости дом, по сей день существующий в Салеме и граничащий с древним кладбищем на Чартер-стрит. В «Мраморном фавне», сюжет которого был набросан на итальянской вилле, пользовавшейся соответствующей репутацией, колоссальный задник подлинной фантазии и тайны пульсирует за пределами взора обыкновенного читателя, и намеки на сказочную кровь в смертных жилах не раз прозвучат в ходе повествования, которое просто не может оказаться неинтересным, невзирая на настойчивые козни инкуба нравственной аллегории, антипапистской пропаганды и пуританского ханжества, которые заставили современного писателя Д.Г. Лоуренса{57} выразить желание обойтись с автором крайне недостойным образом. Посмертно опубликованная новелла «Септимиус Фелтон», которая должна была в переработанном виде войти в незаконченный роман «Долливер», неким образом затрагивает проблему эликсира жизни, ну а примечания к так и оставшемуся незаконченным произведению «Шаги предков» демонстрируют то, что мог бы Готорн сделать в области интенсивной переработки старого английского суеверия, повествующего о древнем и проклятом роде, члены которого оставляли за собой кровавые следы, упоминаемого как в «Септимиусе Фелтоне», так и в «Секрете доктора Гримшоу».
Многие из коротких произведений Готорна в удивительной степени обнаруживают фантастичность либо атмосферы, либо события. Мгновения дьявольщины присутствуют в рассказе «Портрет Эдварда Рэндольфа», помещенном в «Легендах провинциального дома». В рассказе «Черная вуаль министра» (основанном на подлинном случае) и «Честолюбивом госте» подразумевается больше, чем сказано, в то время как «Ethan Grand» — фрагмент более длинной и неопубликованной работы — поднимается к подлинным высотам космического страха в кратком описании дикой холмистой страны, пылающих и унылых известковых печей и словесном портрете байронического неисправимого грешника, чья беспокойная жизнь заканчивается приступом жуткого хохота ночью, когда он пытается отдохнуть посреди пламени. Некоторые из заметок Готорна дают представление о тех сверхъестественных историях, которые он мог бы написать, если бы прожил подольше; особенно яркий сюжет повествует об удивительном незнакомце, то и дело появляющемся в общественных ассамблеях, и когда его наконец прослеживают, оказывающемся выходцем из очень древней могилы.
Однако образцом наивысшего художественного единства среди всех таинственных произведений является знаменитый и роскошно написанный роман «Дом о семи фронтонах», в котором безжалостное действие проклятия предков обрисовано с удивительной силой на зловещем фоне старинного салемского дома — одного из тех островерхих готических домов, которые составляли первый пласт застройки прибрежных городов нашей Новой Англии, но после семнадцатого столетия уступили место более знакомым мансардным крышам или классическим георгианским, известным теперь как «колониальные». Таких островерхих готических домов в приличном состоянии во всех Соединенных Штатах теперь не насчитаешь и дюжины, однако хорошо известный Готорну дом по-прежнему стоит в Салеме на Тернер-стрит и считается как местом действия, так и объектом, вдохновившим писателя. Подобное сооружение с его нереальным фасадом, скопищем печных труб, нависающим вторым этажом, гротескными кронштейнами дверей, ромбическими переплетами окон действительно во всем годится для того, чтобы наводить на мрачные размышления, типичные для темного пуританского времени с его тайными ужасами и шепотками, полными страха перед ведьмами, предшествовавшего красоте, рационализму и простору восемнадцатого столетия. В свои юные годы Готорн мог видеть много таких домов и, конечно же, знал жуткие предания, связанные с некоторыми из них. Слыхал он, конечно, и о многочисленных слухах о проклятии, легшем на его собственный род в результате жестокости, проявленной его собственным дедом в качестве судьи в судах над ведьмами в 1692 году.
В такой обстановке и родился бессмертный роман, — величайший вклад Новой Англии в литературу о сверхъестественном, — и мы можем во мгновение ощутить подлинность представленной нам атмосферы. Ползучий ужас и хворь гнездятся внутри этих почерневших от непогоды, заросших мхом и укрытых вязами стен столь ярко описанного старинного обиталища, и мы немедленно ощущаем зловещий характер этого дома, когда узнаем, что его создатель — старый полковник Пинчен — особо бесчестным образом отобрал эту землю первопоселенца Мэтью Мола, отправив того на галеры как колдуна. Мол умер, проклиная старого Пинчена — «Бог еще даст ему напиться крови», — и вода старого источника на неправедным образом захваченной земле сделалась горькой. Плотник, сын Мола, согласился построить огромный дом с фронтонами для торжествующего врага своего отца, однако старый полковник странным образом скончался в день его освящения. Последовали поколения странных превратностей, недобрых шепотков относительно темных сил, которыми обладали Молы, a иногда жутких кончин, выпадавших на долю Пинченов.
Все затмевающее недоброжелательство старинного дома — почти столь же живого, как дом Ашеров у Эдгара По, хотя и в более тонкой манере, — наполняет повествование, так же как периодически повторяющийся мотив пронизывает романтическую трагедию; и когда начинается основное повествование, мы видим современных Пинченов в самом жалком упадке. Бедная старая Хепзиба, эксцентричная и благородная; ребячливый, несчастный Клиффорд, только что освободившийся из незаслуженного заключения; лукавый и коварный судья Пинчен, точная копия старого полковника, — все эти фигуры представляют собой потрясающие символы, и им превосходно соответствует угнетенная растительность и анемичные птицы в саду. И почти жаль видеть счастливый конец, заканчивающийся союзом бойкой Фебы, кузины, представляющей последний отпрыск рода Пинченов, с располагающим к себе молодым человеком, который оказывается последним из Молов. С их браком проклятие утрачивает свою силу. Готорн избегает любого усилия в дикции или движении и оставляет всякие намеки на ужасы на заднем плане, однако случайные взгляды в их сторону помогают ему поддержать настроение и избавляют произведение от чисто аллегорической сухости. Такие ситуации, как околдовывание Алисы Пинчен в начале восемнадцатого столетия и призрачная музыка ее арфы, предвещающая смерть кого-то из членов ее семейства — вариант незапамятной древности арийского мифа, — непосредственно связывают действие со сверхъестественным, в то время как мертвенное ночное бдение старого судьи Пинчена в его древней гостиной, под жуткое тиканье часов, представляет собой пример откровенного и подлинного ужаса. Манера, в которой смерть судьи предвещают движения и фырканье странной кошки за окном, задолго до того, как этот факт может заподозрить читатель или любой из персонажей, являет собой прикосновение гения, которого не мог бы превзойти и сам Эдгар По. Позже эта самая кошка внимательно смотрит из-за того же окна ночью и на следующий день, ожидая чего-то. В ней мы явным образом имеем дело с психопомпом первобытных мифов, с великой сноровкой приспособленным к современной обстановке.
Однако Готорн не оставил ясно определенного литературного наследия. Настроение и позиция его принадлежали веку, закончившемуся вместе с ним; уцелел и процвел только дух По — так четко и реалистично понимавшего естественную основу привлекательности ужасного и точную механику его достижения. Среди самых первых из учеников По можно считать блестящего ирландца Фиц-Джеймса О’Брайена (1828–1862), натурализовавшегося в Америке и с честью погибшего в Гражданской войне. Это он наделил нас рассказом «Что это?», первой проработанной короткой истории об осязаемом, но невидимом существе, прототипе мопассановского Орлы; он же создал и неподражаемую «Алмазную линзу», в которой юный ученый-микроскопист влюбляется в девушку из микромира, обнаруженного им в капле воды. Ранняя смерть O’Брайена, вне сомнения, лишила нас нескольких искусных рассказов из области непознаваемого и ужаса, хотя гений его, по чести говоря, не обладал титаническим масштабом, характерным для По и Готорна.
Ближе к подлинному величию подошел эксцентричный и угрюмый Амброз Бирс{58}, родившийся в 1842-м, также участвовавший в Гражданской войне, выживший, чтобы написать несколько бессмертных произведений и исчезнуть в 1913 году посреди облака такой же тайны, как и любая из тех, которые он вызывал из глубин своей фантазии. Бирс был известным сатириком и памфлетистом, однако основу его художественной репутации составили мрачные и суровые короткие рассказы, большое количество которых связано с Гражданской войной, создавая наиболее живое и реалистичное описание из всех, которых к настоящему времени удостоился этот конфликт в литературе. Практически все рассказы Бирса повествуют об ужасном, и если многие из них имеют дело только с физическими и психологическими ужасами в рамках природы, то значительное количество признает существование пагубного сверхъестественного фактора и образует ведущий элемент внутри американского фонда сверхъестественной литературы. Мистер Сэмюель Лавмен, живой ныне поэт и критик, лично знакомый с Бирсом, таким образом суммирует гений великого «творца теней» в предисловии к некоторым из его писем:
«В творчестве Бирса эвокация ужаса впервые принимает образ не предписания или извращения, как у По или Мопассана, но атмосферы определенной и зловещим образом точной. Слова, настолько простые, что их можно приписать ограничениям литературного запаса слов, принимают на себя дьявольский ужас, проходят новую и неожиданную трансформацию. У По мы находим проявление таланта, у Мопассана — нервическое использование истерзанного кризиса. У Бирса дьявольщина, просто и искренне, в своей мучительной смерти до конца придерживается своих законных и мучительных средств, тем не менее во всякой ситуации подразумевая молчаливое согласие с природой.
В «Смерти Хэлпина Фрейзера» цветы, зелень, ветви и листья деревьев великолепным образом как контраст противопоставлены противоестественной злобе. Не привычный золотой мир, но мир, пронизанный тайной синевы и затаившим дыхание упорством сновидений, принадлежит Бирсу. Однако забавно, что и бесчеловечность тоже присутствует в нем».
Упомянутая мистером Лавменом «бесчеловечность» находит выход в редкой разновидности сардонической комедии и кладбищенского юмора, и нечто вроде восхищения, выраженного в образах жестокости и соблазнительного разочарования. Первое качество хорошо иллюстрируют некоторые из подзаголовков в его мрачных повествованиях, например, «Не все едят, что лежит на столе» относится к мертвому телу, ожидающему заключения коронера, и «Даже нагая плоть может быть в лохмотьях» сказано про ужасно изуродованный труп.
Произведения Бирса в общем несколько неровны. Многие из рассказов явно механичны и испорчены бойким и банально искусственным стилем, развившимся из журнальной модели; однако трудно ошибиться в пронизывающей их мрачной злобе, a несколько выделяются в качестве неких несокрушимых вершин американской литературы ужасного жанра. Рассказ «Смерть Хэлпина Фрейзера», который Фредерик Тейбр Купер{59} назвал самым бесовским и жутким произведением среди всей литературы англосаксонского народа, повествует о лишенном души теле, бродящем ночью в загадочном и кошмарным образом обагренном кровью лесу, и о человеке, осажденном воспоминаниями предков, который встретил смерть в когтях существа, прежде бывшего его пылко любящей матерью. В рассказе «Проклятая тварь», часто появляющемся в популярных антологиях, изображена хроника жутких опустошений, чинимых невидимым существом, денно и нощно неторопливо расхаживающим по холмам и пшеничным полям. В «Соответствующих обстоятельствах» с особой тонкостью и простотой прописан пронзительный ужас, который может породить написанное слово. В этой истории зловещий автор Колстон говорит своем другу Маршу: «Тебе хватает отваги читать мои произведения в трамвае, но — в пустом доме — в одиночестве — в лесу — ночью! Ба! В кармане у меня лежит рукопись, которая убьет тебя!» — Марш читает рукопись — в соответствующих обстоятельствах — и погибает от этого. «Средний палец на правой ноге» написан несколько неловко, однако обладает могучей развязкой. Некто Мэнтон жестоким образом убивает двоих своих детей и жену, на правой ноге которой не хватало среднего пальца. По прошествии десяти лет, во многом изменившись, он возвращается на прежнее место; его узнают, но, скрывая это, провоцируют на дуэль на охотничьих ножах — во тьме, в том самом теперь заброшенном доме, где было совершено его преступление. Когда наступает время дуэли, его обманывают и запирают без противника в черной, как сама ночь, комнате — той, в которой он совершил свое преступление, на первом этаже дома, пользующегося теперь дурной славой, пол которой покрыт скопившимся за десятилетие слоем пыли. Никто не обнажает против него оружия, ситуация должна лишь самым серьезным образом напугать этого человека; однако на следующий день его находят мертвым, скончавшимся от страха перед увиденным — скрючившимся в углу, с выражением крайнего ужаса на лице. Явившиеся за ним люди немедленно обнаруживают жуткий ключ к разгадке: «В пыли, за годы скопившейся на полу толстым слоем, прямо от двери, через которую они вошли, через всю комнату, заканчиваясь возле скрюченного трупа Мэнтона — тянулись три параллельные цепочки следов — легкие, но четкие отпечатки босых ног, причем внешние были оставлены маленькими детьми, а средняя принадлежала женщине. Следы не возвращались назад от того места, где остановились, все они были обращены в одну сторону». Конечно же, след ноги женщины был лишен среднего пальца. «Дом с привидениями», рассказанный со строго домашними интонациями журнального подлинника, открывает нам намеки на жуткую тайну. В 1858-м на востоке Кентукки целое семейство из семи человек внезапным и необъяснимым образом исчезает из плантаторского дома, оставив нетронутым все свое имение — мебель, одежду, съестные припасы, коней и рабов. По прошествии года гроза заставляет двоих высокопоставленных джентльменов укрыться в заброшенном здании, в результате чего они попадают в таинственную подземную комнату, освещенную необъяснимым зеленоватым светом, а ведущую в нее железную дверь нельзя открыть изнутри. В комнате этой обнаруживаются разлагающиеся трупы всех членов пропавшего семейства; и когда один из нечаянных посетителей дома бросается вперед, чтобы обнять как бы узнанное им тело, жуткое зловоние настолько одолевает другого, что он случайно запирает своего спутника в подземелье и теряет сознание. Придя в себя по прошествии шести недель, он оказывается не в состоянии найти тайную комнату: дом сгорает во время Гражданской войны. Запертого в подвале более никто не видел и ничего о нем не слышал.
Бирс редко осознает атмосферические возможности своих тем столь же ярко, как это делал По, и внушительная доля его произведений обнаруживает некую наивность, прозаическую угловатость или раннеамериканский провинциализм, несколько контрастирующий с достижениями более поздних мастеров ужасного жанра. Тем не менее подлинность и художественность его темных намеков остаются всегда несомненными, и потому его величию не угрожает затмение. Согласно собранию сочинений Бирса, его жуткие истории помещены в основном в два сборника: «Может ли это быть?» и «В гуще жизни». Первый из них почти целиком посвящен сверхъестественному.
Внушительная доля американской литературы ужаса принадлежит авторам, не ограничивавшимся исключительно этой средой. Историческое повествование «Элси Винер» Оливера Уэнделла Холмса{60} с восхитительной сдержанностью предполагает существование неестественного змеиного элемента в молодой женщине, перед рождением подвергшейся воздействию, и поддерживает атмосферу тонкими ландшафтными мазками. В «Повороте винта» Генри Джеймс в достаточной мере побеждает свою помпезную занудность и многословие, создавая истинный и властный аромат зловещей угрозы, изображая мерзкое влияние двоих мертвых и злых слуг, Питера Квинта и гувернантки мисс Джессел, на маленьких девочку и мальчика, находящихся на их попечении. Быть может, Джеймс слишком рассеян, слишком уж елейно урбанистичен и слишком подвержен тонкостям речи, чтобы полностью понять весь буйный и опустошительный ужас созданных им ситуаций; но при всем этом здесь в произведениях присутствует редкостный прилив все более возрастающего страха, завершающийся смертью маленького мальчика и обеспечивающий повести постоянное место в ее особом классе.
Фрэнсис Мэрион Кроуфорд создал несколько рассказов ужасного жанра, теперь собранных в томе под названием «Скитающиеся духи». Так, рассказ «Кровь — это жизнь» с особой силой затрагивает тему проклятого луной вампиризма, происходящего возле древней башни на скалах безлюдного побережья южной Италии. В «Мертвой улыбке» автор обращается к фамильным ужасам старинного ирландского дома и семейной гробницы, с внушительной силой знакомя читателя с банши. Впрочем, истинным его шедевром является рассказ «Верхняя полка», выступающий в качестве одной из самых значительных ужасных историй во всей литературе. В этом рассказе, повествующем об одержимой самоубийством каюте, с несравненной ловкостью обыграны такие вещи, как призрачная морская сырость, таинственным образом открывающийся иллюминатор и ночное сражение с неведомым предметом.
Очень подлинным, хотя и не с манерной экстравагантностью, типичной для девяностых годов, является ужас в раннем произведении Роберта В. Чемберса{61}, прославившегося с тех пор продукцией совсем другого качества. «Король в желтом», серия не слишком связанных между собой коротких рассказов, разворачивающихся вокруг чудовищной и запретной книги, прочтение которой приносит с собой страх, безумие и потустороннюю трагедию, действительно достигает заметных высот космического ужаса, несмотря на неровный интерес и несколько тривиальное и преувеличенное использование галльской студийной атмосферы, ставшей популярной после «Трильби» Дю Морье{62}. Наиболее впечатляющим из входящих в книгу рассказов является, наверно, «Желтый знак», в котором фигурирует молчаливый и ужасный кладбищенский сторож, лицом напоминающий пухлого могильного червя. Парнишка, описывая свою потасовку с этой тварью, ежась и преодолевая дурноту, открывает некую подробность: «Ну, Божью скажу правду: когда я его ударил, он как схватит меня за запястья, сэр, а я как поверну его мягкий полужидкий кулак, палец его возьми и отломись». Художника, который увидел могильщика, посещает вместе с другим человеком один и тот же странный сон о ночных похоронах, и еще более потрясает голос, которым сторож обращается к нему. Тип этот издает бормотание, наполняющее голову «подобно густому маслянистому дыму над салотопной печкой или вони мерзкого тлена». Он бормочет только одно: «А ты нашел Желтый знак?»
Покрытый загадочными иероглифами ониксовый талисман, подобранный на улице человеком, разделившим его сон, на короткое время попадает к художнику, и, случайным образом натолкнувшись на адскую и запретную книгу ужасов, оба они узнают среди прочих жутких вещей, какие не положено знать смертным, что талисман сей — не что иное, как неведомый Желтый знак, происходящий из проклятого культа Хастура, бытовавшего в первобытной Каркозе, откуда и происходит жуткий том, следы кошмарного воспоминания о котором зловеще ютятся на задворках памяти всех людей. Вскоре после того они слышат доносящийся с улицы грохот украшенного черными плюмажами катафалка, которым правит рыхлый, замогильного вида кладбищенский сторож. Он входит в окутанный ночью дом в поисках Желтого знака, и все запоры и засовы рассыпаются от его прикосновения. И когда внутрь дома врываются люди, привлеченные воплем, какого не способно издать человеческое горло, они находят на полу три тела, два мертвых и одно умирающее. Один из мертвецов уже существенно разложился. Это церковный сторож, и доктор восклицает: «Этот человек умер еще несколько месяцев назад». Стоит заметить, что автор заимствует большинство имен и аллюзий, связанных с его жуткой первобытной землей, из рассказов Амброза Бирса. Другими ранними произведениями мистера Чемберса, использующими элемент необычного и сверхъестественного, являются «Создатель лун» и «В поисках неведомого». Нельзя не сожалеть о том, что этот писатель не стал более разрабатывать эту жилу, в которой так легко мог стать признанным мастером.
Жуткий материал неподдельной силы можно найти среди произведений Мэри Уилкинс{63}, том коротких рассказов которой под названием «Ветер в розовых кустах» содержит известное количество достойных достижений. В «Тенях на стене» нам показывают с убедительным мастерством реакцию степенного новоанглийского дома на злую трагедию, и неприкаянная тень отравленного брата вполне приготовляет нас к критическому моменту, когда тень тайного убийцы, покончившего с собой в соседнем городе, вдруг появляется возле нее. Шарлотта Перкинс Гилман в «Желтых обоях» возвышается до уровня классики в своем тонком описании безумия, понемногу наползающего на обитательницу оклеенной жуткими обоями комнаты, в которой некогда содержали сумасшедшую женщину.
В «Мертвой долине» видный архитектор и медиевалист Ральф Адамс Крам{64} добивается запоминающегося впечатления жути благодаря тонкостям атмосферы и описания.
Все еще придерживается нашей призрачной традиции одаренный и разносторонний юморист Ирвин С. Кобб{65}, чьи произведения, как ранние, так и недавние, содержат несколько превосходных образчиков жуткого жанра. Его раннее произведение «Рыбья голова» поразительно впечатляющим образом изображает неестественное сродство между ублюдочным идиотом и странной рыбой, обитающей в уединенном озере, которая в конечном счете мстит за убийство своего двуногого родича. Более поздние работы мистера Кобба включают потенциально научный элемент, как, например, в рассказе о наследственной памяти, в котором человек, обладающий примесью негритянской крови, выкрикивает слова африканской речи, попадая под поезд в обстановке, напоминающей происшедшее век назад столкновение его чернокожего предка с носорогом.
Чрезвычайно хороша в художественном отношении повесть «Темная палата» (1927) покойного Леонарда Клайна{66}. В ней рассказывается о человеке, который в духе традиционных амбиций готического или байронического героя-злодея стремится обмануть природу и восстановить каждый момент собственного прошлого посредством аномальной стимуляции памяти. Для этого он пользуется бесконечными записками, звуковыми записями, мнемоническими объектами и картинами, а также запахами, музыкой и экзотическими наркотиками. Наконец стремление это выводит его за пределы собственной жизни и направляет в черные бездны наследственной памяти, уходящей за пределы существования человечества — в душные болота каменноугольного периода и в еще более невообразимые глубины первобытного времени и бытия. Он алчет еще более сумасшедшей музыки, принимает еще более странные зелья, и наконец рослый пес этого человека начинает бояться его. Героя произведения окутывает мерзкий животный запах, лицо делается пустым и недочеловеческим. В конце концов он бежит в лес и воет по ночам под окнами. Наконец его изуродованное тело находят в чащобе. Рядом лежит труп его искалеченного пса: они убили друг друга. Атмосфера этого романа насыщена злобной силой, существенное внимание уделяется зловещему дому и окружению главного героя.
Впечатляет менее тонкий, но в высшей степени проникновенный роман Герберта С. Гормана (1893–1954) «Место, именуемое Дагон», повествующий о темной истории западной массачусетской глубинки, где потомки беглецов из Салема все еще хранят колдовские традиции и совершают отвратительную, низменную и ужасную Черную Мессу. «Зловещий дом» Леланда Холла обладает превосходной атмосферой, однако несколько испорчен посредственным романтизмом.
Весьма заметны в своем роде некоторые из сверхъестественных концепций романиста и автора рассказов Эдварда Лукаса Уайта (1866–1934), темы большинства произведений которого вырастали из реальных сновидений. «Песня сирен» обладает собственными очень убедительными чарами, в то время как «Лукунду» и «Рыло» рождают мрачные мысли. Мистер Уайт наделяет свои произведения очень особенным качеством — неким косвенным блеском, обладающим собственной разновидностью убедительности.
Среди американцев младшего поколения нотка космического ужаса точнее всего звучит у калифорнийского поэта, художника и беллетриста Кларка Эштона Смита{67}, чьи причудливые писания, рисунки, картины и повествования приносят наслаждение чувствующему меньшинству. Действие повествований мистера Смита разворачивается в мире далеких, высасывающих силы джунглей на лунах Сатурна, заросших ядовитыми и радужными цветами, зловещих и невероятных храмов Атлантиды, Лемурии и забытых древних культур и сырых трясин, усыпанных пятнистыми грибами в призрачных странах за кромкой земли. Самое длинное и амбициозное из его стихотворений, «Гашишист», написано белым стихом в размере пентаметра и открывает нам невероятные и хаотические виды на калейдоскоп кошмаров в пространстве между звездами. В откровенно демонической оригинальности и плодотворности воображения мистеру Смиту, пожалуй, нет равных среди живых и покойных писателей. Кто еще среди живых может предложить читателю столь пышные, роскошные и лихорадочно искаженные видения бесконечных сфер и множественных измерений? В коротких рассказах его фигурируют другие миры, галактики и измерения, а также неведомые времена и эоны Земли. Он рассказывает нам о первобытной Гиперборее и ее черном и бесформенном боге Цатоггуа; o погибшем континенте Зотик и о сказочной, но проклятой вампирами земле Аверонь в средневековой Франции. Некоторые из лучших рассказов мистера Смита можно найти в брошюре под названием «Двойная тень и прочие фантазии» (1933).
Глава 9
Традиция сверхъестественного на Британских островах
Британская литература, даже располагая тремя-четырьмя величайшими фантастами нашего века, явила отменную урожайность в области сверхъестественной тематики. К ней часто обращался Редьярд Киплинг, который, невзирая на вездесущую манерность, с неоспоримым мастерством справился с ней в таких произведениях, как «Призрачный рикша», «Самая лучшая история на свете», «Возвращение Имрая», «Метка зверя». Особенно ярок последний рассказ с его описаниями нагого прокаженного жреца, мяукавшего словно выдра, пятен, появившихся на груди проклятого им человека, растущей плотоядности жертвы, того страха, с которым начинают относиться к нему лошади, и о едва не закончившемся превращении этого человека в леопарда, которые читателю трудно забыть. Финальное поражение зловещего колдовства ничуть не уменьшает силы повествования или значимости его тайны.
Лафкадио Хирн{68}, странный и экзотичный скиталец, еще дальше отходит от области реального, и с высшим мастерством чувствительного поэта сплетает фантазии, невозможные для здравого, проникнутого духом ростбифа автора. Его написанные в Америке «Фантазии» содержат образцы наиболее впечатляющей дьявольщины во всей мировой литературе; в то время как созданный в Японии «Квайдан» с безупречной четкостью и тонкостью кристаллизует причудливые предания и передающиеся шепотком легенды столь колоритного народа этой страны. Присущее Хирну волшебное владение языком еще более явно демонстрируют некоторые из его переводов с французского, особенно из Готье и Флобера. В его изложении «Искушение Св. Антония» превращается в классику буйных и лихорадочных образов, облаченных в магию певучих слов.
Своего места среди живописателей потустороннего заслуживает и Оскар Уайльд, как за некоторые из вышедших из-под его пера сказок, так и за яркий «Портрет Дориана Грея», в котором чудесный портрет в течение многих лет принимает на себя все изменения своего оригинала, стареющего и пошлеющего, погружающегося в бездны порока и преступления, не теряя юности, красоты и свежести черт. Внезапный и властный кризис разражается, когда Дориан Грей наконец, став убийцей, хочет уничтожить портрет, облик которого свидетельствует о его нравственном падении. Он ударяет портрет ножом, раздаются отчаянный крик и звуки падения, — но вошедшие слуги застают портрет идеально молодым и чарующим. На полу лежит мертвец в вечернем наряде и с ножом в сердце — морщинистый, высохший и мерзкий. Они узнали своего хозяина только по кольцам.
Мэтью Фиппс Шил{69}, автор многочисленных сверхъестественных, гротескных и приключенческих рассказов и повестей, иногда достигает высот жуткой магии. Отрывок «Кселуча» наполнен отвратительным и ужасным содержанием, но его превосходит несомненный шедевр работы мистера Шила, «Дом звуков», цветисто написанный в «желтые девяностые» годы и переделанный с большей художественной зрелостью в начале двадцатого столетия. В своей окончательной форме это повествование заслуживает места среди лучших творений подобного рода. В нем рассказывается о ползучем ужасе и ощущении опасности, в течение веков ощущавшихся на субарктическом острове возле побережья Норвегии; где посреди разгула демонических ветров и беспрестанного грохота адских волн и водопадов мстительный мертвец воздвиг себе башню ужасов. Произведение это странным образом чуть похоже на «Падение дома Ашеров» Эдгара По и вместе с тем ничуть не напоминает его. В повести «Пурпурное облако» мистер Шил описывает с огромной силой проклятье, нагрянувшее из Арктики на все человечество с целью погубить его, и на какое-то время на нашей планете остается один— единственный обитатель. Ощущения этого единственного уцелевшего человека, когда он понимает свое положение и бродит по усыпанным трупами и сокровищами улицам городов мира как их абсолютный господин, излагаются с художественным мастерством, лишь на самую малость не достигающим подлинного величия. К сожалению, вторая часть книги портит впечатление своим откровенным романтизмом.
Большей известностью, чем Шил, пользуется изобретательный Брэм Стокер, автор многочисленных и откровенно жутких концепций, изложенных в серии романов, чья художественная техника прискорбно уменьшает общий эффект. В повести «Логово белого червя», где рассказывается о гигантском примитивном создании, обитающем в подземелье древнего замка, великолепная идея разбивается о почти детское развитие сюжета. Роман «Сокровище семи звезд», повествующий о странном воскресении в египетском стиле, написан не столь примитивно. Но наилучшим является знаменитый «Дракула», ставший едва ли не образцовым современным воплощением мифа о страшном вампире. Дракула, граф и вампир, обитает в Карпатах, в жутком замке, но впоследствии перебирается в Англию, решив заселить эту страну своими собратьями-вампирами. Рассказ о пребывании англичанина в ужасном замке Дракулы и о том, как было покончено со злодейским заговором, представляет собой элементы, которые образуют повествование, получившее ныне постоянное место в английской литературе. Дракула вызывал к жизни много аналогичных рассказов о сверхъестественных ужасах, и к числу лучших среди них принадлежат «Жук» Ричарда Марша{70}, «Выводок королевы ведьм» Сакса Ромера{71}, «Дверь в ирреальное» Джеральда Блисса. В последнем сочинении ловко рассматривается старинное суеверие в отношении оборотней. Много более тонко и артистично организован через сочетание повествований отдельных персонажей роман «Холодная гавань» Френсиса Бретта Янга{72}, в котором властно обрисован старинный, загадочный и зловещий дом. Насмешливый и едва ли не всемогущий злодей Хэмфри Фернивал, следующий типажу раннего готического «злодея» в стиле Манфреда-Монтони, избавляется от пошлости под воздействием многих умных личностей. Лишь легкая расплывчатость объяснения в финале и несколько вольное использование гадания как сюжетного фактора не позволяют этому повествованию достичь абсолютного совершенства.
В романе «Заколдованный лес» Джон Бьюкен{73} с потрясающей силой изображает злой шабаш, как и прежде совершающийся в уединенном районе Шотландии. Описание черного леса, скверного камня и жутких космических теней, когда мерзость наконец уничтожается, вознаградят читателя за преодоление неторопливого развития действия и изобилие шотландских диалектизмов. Некоторые из коротких рассказов мистера Бьюкена также чрезвычайно ярки в своих призрачных намеках: «Зеленая гну» повествует об африканском колдовстве, «Ветер на крыльце» — о пробуждении мертвых британо-романских ужасов, особенно достоин внимания «Утес Скуле» с его субарктическими страхами.
Клеменс Хаусман{74} в короткой новеллетте «Вервольф» добивается высокой степени ужасного напряжения и в известной степени достигает атмосферы подлинного фольклора. В «Эликсире жизни» Артур Рэнсом{75} достигает некоторых темных и великолепных эффектов, невзирая на общую наивность сюжета, в то время как Г.В. Дрейк (1894–1963) в «Призрачной твари» открывает перед читателем загадочные и жуткие перспективы. «Лилит» Джорджа Макдональда обладает собственным убедительным своеобразием, причем первая, более простая версия из двух более эффектна.
Отдельного упоминания в качестве искусного мастера, для которого мир незримый всегда является бодрящим зельем и жизненной реальностью, достоин поэт Уолтер де ла Мар{76}, чьи западающие в память стихи и роскошная проза наравне несут следы постоянного воздействия странного зрения, глубоко проникающего в туманные сферы красоты и ужаса, а также жутких и запретных размерностей бытия. В романе «Возвращение» мы видим, как душа мертвого человека выбирается из своей двухсотлетней могилы, чтобы соединиться с живой плотью, так что даже лицо жертвы становится тем, которое давно уже обратилось в прах. Среди коротких рассказов, которых набралось на несколько томов, некоторые просто невозможно забыть благодаря их власти над страхом и темными сетями колдовства; выделить можно «Тетку Ситона», в которой описывается отвратительный фон мерзкого вампиризма; «Дерево», где рассказывается о страшном растении во дворе умирающего от голода художника; «Из глубины», где нам позволено догадываться о том, какая тварь ответила на призыв умирающего мота в темноте одинокого дома, когда он потянул за шнурок звонка на чердаке, памятном со времени полного страхов детства; «Затворник», намекающий на то, что именно заставило случайного гостя ночью бежать из дома; «Мистер Кемп», в котором описывается обезумевший церковный отшельник, занятый поиском человеческой души и обитающий возле жуткого морского утеса у старинной заброшенной часовни; «Все святые», где рассказывается про демонические силы, осаждающие уединенную средневековую церковь и чудесным образом восстанавливающие отгнившую штукатурку. Де ла Мар не превращает страх в единственный или просто доминирующий элемент большинства своих рассказов, проявляя куда больший интерес к описаниям характеров. Кое-где он опускается до чистой и прихотливой фантазии на манер Барри{77}. И тем не менее он принадлежит к числу тех немногих, для кого ирреальность обладает ярким и живым обликом, и таким образом может наделять свои исследования страха той острой потенцией, которой удается добиться лишь редкому из мастеров. Его стихотворение «Слушающие» возвращает в современную поэзию готический трепет.
Короткое повествование на сверхъестественные темы процветало в последние времена; важную роль сыграл здесь Э.Ф. Бенсон{78}, чей «Человек, который зашел слишком далеко» тихим голосом нашептывает нам о доме на краю темного леса и об отпечатке копыта Пана, оставленного им на груди мертвеца. Томик рассказов мистера Бенсона, «Видимое и невидимое», содержит несколько обладающих особенной силой историй, среди которых выделяется рассказ «Negotiam Perambulans», повествующий о необычайном чудище с древней церковной панели, совершающем чудесное отмщение в одинокой деревне на побережье Корнуолла, в котором действует ужасное полуживотное-получеловек, обитающий на безлюдных вершинах Альп. Находящийся в другом сборнике «Лик» дышит смертоносной и могучей в своей безжалостности аурой погибели. Г.Р. Уэйкфилд{79} в своих сборниках «Они возвращаются вечером» и «Те, которые возвращаются» демонстрирует свое умение время от времени достичь подлинных высот ужасного, невзирая на атмосферу растлевающей усложненности. Самыми заметными являются «Красная ложа» с ее слизистым водяным злом, «Он приходит, и он проходит», «И он будет петь», «Кайрн», «Посмотри вверх», «Шкура слепого» и образчик тысячелетнего ужаса «Семнадцатая яма в Данкастере». Стоит упомянуть и о произведениях на сверхъестественную тему Герберта Уэллса и Артура Конан-Дойля. Первый из них в «Духе страха» достигает весьма высокого уровня, да и все повествования «Тридцати странных историй» имеют сильный фантастический подтекст. Дойль то и дело обращался к теме потустороннего, рождая особо сильную призрачную нотку, как в «Капитане Полярной звезды», повествующей о привидениях Арктики, и в «Лоте № 249», где более чем с обычной ловкостью обыгрывается тема оживленной мумии. Хью Уолпол{80}, принадлежащий к тому же самому семейству, что и основатель готического жанра, временами с успехом обращался к этой теме, и его короткий рассказ «Миссис Лант» заставляет поежиться. Джон Меткалф{81} в своем собрании рассказов, опубликованных под названием «Курящаяся нога», время от времени достигает редкой силы, а в рассказе под названием «Плохие земли» содержатся градации ужаса, близкие к гениальности. Более причудливы и близки к теплой и невинной фантазии сэра Дж. М. Барри короткие рассказы Э.М. Форстера{82}, соединенные под одной обложкой под названием «Небесный омнибус». Среди них только один, в котором фигурирует Пан и окружающая его атмосфера страха, можно считать обладающим подлинным элементом космического ужаса. Миссис Эверретт{83}, придерживающаяся почтенных своей стариной и обычаями образцов, иногда достигает особой высоты духовного ужаса в своем собрании коротких рассказов «Маска смерти». Л.П. Хартли{84} особо известен своим колким и наводящим страх произведением «Визитер из глубоких недр». Зловещие истории Мэй Синклер{85} содержат бульшую дозу традиционного «оккультизма», чем творческого созидания в области страшного, которому присуще мастерское владение этой тематикой, и проявляют больший интерес к человеческим эмоциям и психологическим изысканиям, чем собственно к феномену космоса, полностью ирреального. Возможно, здесь уместно будет заметить, что в описаниях призрачного и фантастического сторонники оккультного течения кажутся менее эффективными, чем материалисты, поскольку для них призрачный мир является настолько обыкновенной реальностью, что они обращаются с ним с меньшим трепетом, отстраненностью и выразительной силой, чем те, кто усматривают в нем абсолютное и ошеломляющее нарушение естественного порядка.
Несколько неровными стилистическими достоинствами, но огромной и впечатляющей силой в изображении таинственных миров и существ, скрывающихся под поверхностью ординарной жизни, обладает творчество Уильяма Хоупа Ходжсона{86}, известного в наши дни значительно меньше, чем он того заслуживает. Невзирая на склонность к привычно сентиментальному восприятию Вселенной и связи человека с ней и со своими собратьями, в восприятии ирреального мистер Ходжсон уступает разве что Алджернону Блэквуду. Немногие способны поравняться с ним в намеках на близость безымянных неведомых сил и осаждающих мир чудовищных сущностей посредством небрежно брошенной фразы или незначительной детали или в передаче ощущения призрачного и аномального в отношении целых краев и отдельных зданий.
В «Шлюпках с «Глен-Карриг» (1907) автор знакомит нас с различными недобрыми чудесами и проклятыми неведомыми землями, встреченными на своем пути моряками, спасшимися с затонувшего корабля. Грозное предчувствие начальных глав книги невозможно превзойти, хотя ближе к ее концу происходит снижение в направлении обыкновенного романтического и приключенческого повествования. Неточная и псевдоромантическая попытка воспроизвести прозу восемнадцатого столетия отвлекает от общего эффекта, однако обнаруживаемая повсюду воистину глубокая мореходная эрудиция является компенсирующим фактором.
«Дом в Порубежье» (1908) — быть может, величайшее среди всех произведений мистера Ходжсона — знакомит нас с уединенным и пользующимся дурной славой, находящимся в Ирландии домом, образующим фокус действия жутких потусторонних сил и выдерживающим осаду богомерзких гибридных созданий, являющихся из лежащей под домом бездны. Скитания духа Повествователя сквозь беспредельные световые годы космического пространства и кальпы вечности, оставленное им описание окончательной гибели Солнечной системы представляют собой уникальное явление в литературе. Во всем заметно умение автора обнаружить неясные ужасы, таящиеся в природе. И если бы не несколько проникнутых банальной сентиментальностью мгновений, книга эта была бы классикой чистейшей воды.
Роман «Пираты-призраки» (1909), который мистер Ходжсон считал завершающим трилогию, начатую двумя предыдущими книгами, представляет собой впечатляющий рассказ об обреченном и населенном духами корабле, вышедшем в свой последний вояж, и об ужасных морских дьяволах (имеющих квазичеловеческий облик и, быть может, являющихся духами погибших пиратов), осаждающих его и наконец увлекающих к неведомой участи. При всех весьма заметных мореходных познаниях и умном подборе намеков и ситуаций, предполагающих существование в природе тайных ужасов, книга эта временами производит сильное впечатление.
Объемистый (538 стр.) роман «Ночная земля» (1912) рассказывает о бесконечно удаленном от нас на миллионы миллионов лет будущем Земли, после того как погаснет Солнце. Повествование осуществляется несколько неуклюжим образом, как бы через видения человека семнадцатого века, разум которого сливается с его инкарнацией в будущем; несколько портят его болезненное многословие, повторения, искусственная и тошнотворно липкая романтическая сентиментальность, подражание архаическому языку, еще более нелепое, чем в «Глен-Карриг».
И все же при всех недостатках роман этот является одним из наиболее мощных образцов прозы зловещего жанра среди всех, что когда-либо были написаны. Читатель никогда не забудет это полотно, изображающее черную ночь, лежащую над мертвой планетой, жизнь остатков человечества внутри колоссальной металлической пирамиды, осажденной чудовищными силами тьмы; страшные сущности и духи, непостижимые для человека и обитающие в черном, отвергнутом людьми и неведомом им мире за стенами пирамиды, намечены и описаны с непревзойденной силой, в то время как в описании автора сам ландшафт ночной земли с его пропастями, склонами и затухающим вулканизмом вызывает почти ощутимый на ощупь ужас.
В середине книги главный герой ее выходит из пирамиды на поиски возлюбленной — в края, куда миллионы лет не ступала нога человека, в края, над которыми правит смерть, — и в медленном, томительно поминутном описании его ежедневного продвижения через эти немыслимые мрачные лиги, укрытые вечной тьмой, угадывается некое космическое отчуждение, невероятная тайна, полное ужаса ожидание, не имеющие равных во всей литературе. Последняя четверть книги несколько затянута, однако и ей не удается снизить колоссальную силу всего целого. Более поздняя книга мистера Ходжсона, «Карнакки — охотник за призраками», состоит из нескольких относительно длинных рассказов, прежде публиковавшихся им в журналах. К сожалению, по своему уровню она не дотягивает до упомянутых выше книг. В ней мы находим более или менее привычный персонаж — «непогрешимого детектива» из породы месье Дюпена и Шерлока Холмса, близкого родственника рожденного Алджерноном Блэквудом Джона Сайленса, движущегося через ситуации и события, замаранные атмосферой профессионального «оккультизма». Впрочем, силу ряда эпизодов отрицать невозможно, и они позволяют по новому оценить несомненную гениальность автора.
Естественно, в коротком наброске невозможно проследить все варианты современной трактовки классического ужаса. Этот ингредиент может по необходимости оказаться в любом произведении, как прозаическом, так и стихотворном, широко повествующем о жизни, и поэтому нас не удивляет доля нашего жанра, обнаруживающаяся в творчестве таких авторов, как Браунинг{87}, чья поэма «Чайльд Роланд дошел до Темной башни» проникнута жуткой угрозой, или романист Джозеф Конрад{88}, часто писавший о темных тайнах морей и демонической силе судьбы, руководящей жизнями одиноких и маниакально решительных людей. Таковая является лишь одной из ветвей страшного жанра, однако здесь нам придется ограничиться его относительно чистыми проявлениями, там, где они определяют сущность и доминируют в содержащем их произведении.
Несколько в стороне от основного британского потока литературы ужасного жанра находится течение ирландское, вышедшее на первый план в литературе благодаря кельтскому ренессансу конца девятнадцатого и начала двадцатого столетий. Предания о фейри и привидениях всегда играли в Ирландии видную роль, и более сотни лет их записывали такие умелые переписчики и переводчики, как Уильям Карлтон{89}, Т. Крофтон Крокер{90}, леди Уайльд{91} — мать Оскара Уайльда, — Дуглас Хайд{92}, У.Б. Йийтс{93}. Собрание это, вынесенное на обозрение публики современным движением, подверглось тщательному изучению, как и его основные черты, воспроизведенные в произведениях более поздних фигур, таких как Йийтс, Дж. M. Синг{94}, «A. E.», леди Грегори{95}, Падраик Колум{96}, Джеймс Стефенс{97} и их коллеги.
Будучи в целом скорее более причудливым и фантастичным, чем ужасным, подобный фольклор и его художественно обработанные аналоги содержат и такое, что полностью подпадает под классификацию космического ужаса. Сказания о погребении в церквях, затонувших под водами заколдованных озер, повествования о несущих смерть банши и мерзких подменышах, баллады о призраках и «нечестивых жителей Ратов» — все они обладают собственной яркой и определенной силой и образуют собственную область в литературе сверхъестественного. Невзирая на непритязательную гротесковость и абсолютную наивность, они знакомят нас с подлинной жутью в рассказе о Тейге O’Кане, который в порядке наказания за бурную жизнь целую ночь возил на себе жуткого мертвеца, гонявшего его от кладбища к кладбищу, в каждом из которых из земли восставали мертвые, отказывавшие новому пришельцу в погребении. Йийтс, вне сомнения являющийся величайшей фигурой ирландского возрождения, если вообще не величайшим из всех современных поэтов, достиг заметных успехов как в собственном творчестве, так и в пересказе старинных легенд.
Глава 10
Современные мастера
Лучшие среди ужасных историй нашего времени, благодаря долгой эволюции жанра, обладают естественностью, убедительностью, художественной гладкостью и мастерской увлекательностью, не имеющей ничего общего с готической прозой столетней и более давности. Техника, мастерство, опыт и психологическая глубина прошли огромный путь за минувшие годы, так что многие из старых произведений кажутся теперь наивными и искусственными, искупаемыми — если таковое случается — только гением, побеждающим любые ограничения. Интонация беспечной и дутой романтики, полная ложных мотивов и наделяющая каждое мыслимое событие фальшивым значением и беспечным блеском, теперь отошла к более легкомысленным и бойким повествованиям о сверхъестественном. Серьезный ужасный рассказ теперь либо делается реалистически интенсивным, благодаря тесной связи с природой и идеальной верности ей, за исключением того направления сверхъестественного, которое позволяет себе сам автор, или уходит полностью в область фантастики, наделенной атмосферой, тонко приспособленной к визуализации утонченного и экзотичного ирреального мира, находящегося за пределами пространства и времени, в котором может случиться почти все, однако в точном соответствии с некими типами воображения и иллюзии, нормальными для чувствительного человеческого мозга. Такова, во всяком случае, доминирующая тенденция; хотя, конечно, многие из великих современных писателей иногда соскальзывают к броским позам незрелого романтизма или обращаются к обрывкам равным образом пустого и абсурдного жаргона псевдонаучного «оккультизма», находящегося ныне на одном из своих периодических подъемов.
Среди живущих ныне творцов космического страха, поднятого на самую высокую художественную высоту, немногие, если таковые вообще найдутся, способны поравняться с разносторонним Артуром Мэкеном{98}, автором нескольких дюжин коротких и не очень коротких рассказов, в которых элементы космического ужаса и сгущающегося страха достигают почти ни с чем не сравнимой материальности и реалистической остроты. Мистер Мэкен, крупная фигура в литературе и мастер роскошно-лирического и экспрессивного прозаического стиля, вложил значительные силы в свои живописные «Хроники Клеменди», живые эссе, бодрые и талантливые переводы и более всего запоминающееся эпическое произведение чувствительного эстетствующего ума «Холм Грез», в котором молодой герой реагирует на магию старинного Уэльса, родного писателю, и ведет жизнь-грезу в римском городке Иска-Силурум, теперь съежившемся до усыпанной руинами деревни Каэрлеон-на-Уске. Тем не менее факт остается фактом: созданный им в девяностых годах девятнадцатого века и первых десятилетиях двадцатого века могучий блок произведений ужасного жанра стоит особняком в своем классе и отмечает определенную эпоху в истории этой литературной формы.
Мистер Мэкен, в памяти которого впечатляющее кельтское наследие соединилось с воспоминаниями юности о диких пологих холмах, древних лесах и загадочных римских руинах в окрестностях Гвента, сочинил воображаемую жизнь, наделенную редкой красотой, полнотой и историческим фоном. Впитав в себя средневековые тайны темных лесов и древних обычаев, он является поклонником средневековой старины буквально во всем — включая и католическую веру. Он покорился чарам римской Британии, жизнь которой некогда бурлила в его родном краю, и находит странную музыку в укрепленных лагерях, мощенных квадратиками камня мостовых, обломках статуй и прочих родственных им предметах, повествующих о том времени, когда правил здесь классицизм, а латынь была разговорным языком. Молодой американский поэт, Фрэнк Белнэп Лонг, отлично суммаризировал богатые переживания мечтателя и чары экспрессии в сонете «Читая Артура Мейчена»:
Как славен лес осеннею порой, Тропинки древние в горах петляют, Между дубрав волшебных убегают Туда, где вал построен крепостной. Сверкает ярко солнце в небесах, И облака в его огне краснеют, И на земле деревья пламенеют — Тоска смертельная стоит в лесах. Я жду, когда поэт из кельтских стран Расскажет в книге об орлах имперских И северных делах легионерских, Мне явленных сквозь золотой туман. Я жду, чтоб мудрость разделить его И горе, что из древности пришло.[41]Среди созданных мистером Мэкеном произведений ужасного жанра наибольшей известностью, возможно, пользуется «Великий бог Пан» (1894), где рассказывается о необычайном и ужасном эксперименте и его последствиях. В результате операции на мозге молодая женщина получает возможность видеть этого громадного и чудовищного бога природы, в результате чего сходит с ума и умирает менее чем через год. По прошествии многих лет в семейство, обитающее в сельских краях Уэльса, отдают на воспитание девочку Элен Воган — странную, недобрую и чужестранку по виду, которая принимается самым непонятным образом бродить по лесам. Мальчишка, заметивший того, кто разделяет ее общество, лишается рассудка; та же ужасная участь постигает и молодую девушку. Тайна эта переплетается с римскими сельскими божествами этого края, какими их изображали фрагменты античных скульптур. По прошествии еще нескольких лет в обществе появляется женщина, наделенная странной экзотической красотой, она страхом доводит мужа до смерти, заставляет художника написать немыслимую картину ведовского шабаша, вызывает эпидемию самоубийств среди знакомых ей мужчин и наконец оказывается постоянной посетительницей самых низменных лондонских притонов, где выходки ее шокируют даже отпетых дегенератов. Внимательное сопоставление записок, оставленных теми, кто сталкивался с ней на ранних стадиях ее «карьеры», свидетельствует о том, что женщина эта — та самая Элен Воган, являющаяся дочерью — не от смертного отца — молодой женщины, над мозгом которой был совершен ужасный эксперимент. Она является дочерью самого Пана и в конце встречает смерть среди жутких превращений, включающих смену пола и нисхождение к наиболее примитивным проявлениям жизненного принципа.
Однако шарм произведения заключается в манере повествования. Никто не сумеет описать тревожное ожидание и предельный ужас, которым полнится каждый абзац, не следуя точному рецепту, согласно которому мистер Мэкен разворачивает свои намеки и откровения. Нельзя отрицать присутствия мелодрамы, и совпадения доведены до степени, которая кажется абсурдной при внимательном рассуждении; однако в зловещих чарах повествования в целом пустяки эти быстро забываются, и чувствительный читатель дочитывает роман до конца, внутренне содрогаясь и повторяя про себя слова одного из персонажей: «Слишком невероятно, слишком чудовищно; такого никогда не может случиться в нашем тихом мире… Что ж, если бы такое было возможно, наша земля превратилась бы в кошмарное место».
Менее знаменита и менее сложна по сюжету, чем «Великий бог Пан», но определенно изящнее в атмосфере и общей художественной ценности любопытная и несколько тревожная хроника под названием «Белые люди», центральная часть которой содержит выдержки из дневника или записки маленькой девочки, которую няня познакомила с некоторыми из запретных чар и душетленных преданий отвратительного ведовского культа, тайны которого шепотком передавались из поколения в поколение селянами Западной Европы, и адепты его иногда оставляли свой кров по ночам, чтобы поодиночке собраться в черном лесу и устроить отвратительную оргию ведовского шабаша. Повествование мистера Мэкена, представляя собой триумф искусной избирательности и сдержанности, набирает колоссальную силу, развиваясь в потоке невинной детской болтовни, мельком упоминающей странных «нимф», «кукол», «белый, зеленый и алый обряды», «буквы акло», «язык тьян», «игры Мао» и тому подобное. Обряды, которые няня узнала от своей бабушки-ведьмы, преподаются девочке трех лет от роду, и ее безыскусный рассказ об опасных и тайных откровениях создает ощущение нарастающего ужаса, щедро смешанного с пафосом. Известные антропологам злые заклинания описываются с детской наивностью, и наконец зимним днем совершается путешествие вверх на старые валлийские холмы, исполняемое под действием образного заклинания, которое добавляет дикому пейзажу потусторонности, странности и гротескной одушевленности. Путь выписан в удивительных подробностях и для придирчивого критика представляет собой шедевр фантастического письма, наделенного почти беспредельной силой в намеках на могущественное уродство и космического масштаба извращения. Наконец девочка — которой к этому моменту уже исполнилось тринадцать лет — натыкается на загадочную и погибельно прекрасную вещь посреди темного и недоступного леса. Ею овладевает ужас — в манере, ловко предсказанной анекдотом в прологе, но она вовремя принимает яд. Подобно матери Элен Воган в «Великом боге Пане», она видит это жуткое божество. Ее обнаруживают мертвой перед найденной ею таинственной вещью, и вещь эта — сверкающая белизной статуя римской работы, вокруг которой клубились мрачные средневековые слухи, — гибнет, превращенная в пыль молотками обнаруживших ее людей.
В составленном из эпизодов романе «Три обманщика», в целом несколько попорченном подражанием бойкой стивенсоновской манере, присутствует несколько новелл, быть может, демонстрирующих высочайший уровень Мэкена как рассказчика ужасов. Здесь мы обнаруживаем в самой высокохудожественной форме любимую странную концепцию автора, утверждающую, что под курганами и дикими холмами Уэльса обитает тот странный и приземистый примитивный народ, чьи следы дали толчок к возникновению наших народных легенд о фейри, эльфах и «малом народце» и даже теперь несущий ответственность за некоторые необъяснимые исчезновения и иногда случающиеся подмены нормальных младенцев странными смуглыми созданиями. Тема эта получает свою наилучшую разработку в эпизоде, озаглавленном «Новелла о черной печати», где профессор, обнаруживший удивительное сходство между некими знаками, нацарапанными на валлийских известковых скалах и доисторической черной печати из Вавилона, совершает открытие, приводящее его к неведомым и ужасным находкам. Загадочный отрывок из древнего географа Солинуса, ряд таинственных исчезновений на уединенных равнинах Уэльса, странный сын, родившийся идиотом после перенесенного его матерью кошмарного испуга, — все эти факторы указывают профессору на жуткую связь и условие, отвратительное для любого друга и почитателя рода людского. Он нанимает идиота-мальчишку, временами несущего какую-то тарабарщину отвратительным шипящим голосом и к тому же подверженного странным эпилептическим припадкам. Однажды после одного из таких припадков, случившегося ночью в кабинете профессора, обнаруживаются тревожные запахи и свидетельства ирреального присутствия; вскоре после этого профессор оставляет объемистый документ и уходит в загадочные холмы, ощущая в сердце странный ужас и лихорадочное ожидание. Он так и не возвращается, однако возле фантастического камня в дикой местности обнаруживаются его часы, деньги и кольцо — в перетянутом кетгутом пергаментном свертке, на котором выведены те же самые жуткие буквы, что и на черной вавилонской печати и на скале в валлийских горах.
Внушительный документ в достаточной мере выявляет самые жуткие перспективы. Профессор Грегг, следуя всему комплексу свидетельств, накопленных благодаря исчезновениям, надписи на камнях, рассказам древних географов и черной печати, решил, что под нечасто посещаемыми холмами Уэльса с древних времен по сю пору обитает племя темных примитивных созданий, ранее живших повсюду. Дальнейшие исследования помогли ему решить загадку черной печати и доказали, что идиот-мальчишка, сын отца, куда более жуткого, чем человек, является обладателем чудовищных воспоминаний и возможностей. В ту странную ночь в своем кабинете профессор произвел «жуткую трансмутацию гор» с помощью черной печати и пробудил в безумном получеловеке ужасы его наследственности. Он «увидел, как тело его набухает и раздувается словно пузырь, лицо чернеет…». Тут явились высшие эффекты инвокации, и профессор Грегг познал яростное безумие космической паники в его самой черной форме. Познакомившись с открытыми им безднами неестественного, он отправляется в дикие горы уже вполне готовым и отрешенным. Он встретится с этим немыслимым «малым народцем», и оставленный им документ заканчивается здравым наблюдением: «Если, к несчастью, я не вернусь из своего путешествия, нет необходимости восстанавливать здесь обстоятельства моей жуткой кончины».
Также в «Трех обманщиках» находится «Новелла о белом порошке», приближающаяся к абсолютной кульминации жуткого страха. Френсис Лестер, молодой студент-юрист, находящийся в нервическом переутомлении из-за уединения и слишком усердных занятий, получил рецепт от старого аптекаря, никогда не проявлявшего слишком большого внимания к составу своих зелий. Как впоследствии выяснилось, субстанция эта оказалась необычайной солью, которую время и непредсказуемые изменения температуры случайным образом превратили в состав куда более таинственный и ужасный; короче говоря, в ту самую средневековую vinum sabbati, потребление которой на жутких оргиях бесовского шабаша служило источником потрясающих превращений, а при неправильном применении приводило и к несказуемым последствиям. Молодой человек, ничего не подозревая, регулярно запивает порошок стаканом воды после еды, и поначалу ему становится лучше. Постепенно, однако, улучшение сменяется рассеянностью; он часто отсутствует дома и кажется прошедшим отвратительную психологическую перемену. Однажды на правой руке его появляется мертвенно-бледное пятно, после чего он возвращается к своему затворничеству и запирается в своей комнате, не пуская более внутрь никого из домашних. Заехавший осмотреть его доктор уезжает в припадке ужаса, со словами, что ноги его больше не будет в этом доме. По прошествии двух недель сестра студента, проходя мимо дома, замечает в его окне жуткую тварь, а слуги сообщают, что пища, оставляемая возле запертой двери, остается нетронутой. Попытка связаться через дверь заканчивается звуком шаркающих ног и выраженным булькающим голосом требованием оставить его в покое. Наконец трепещущая от страха служанка приносит весть об ужасном событии: потолок комнаты, находящейся под той, в которой помещался Лестер, запятнан отвратительной черной жижей, которая уже заляпала слизистой мерзостью расположенную там кровать. Доктор Хабердин, которого все-таки уговорили вернуться, взламывает дверь в комнату молодого человека и несколько раз ударяет ломом омерзительную полуживую тварь, оказавшуюся за дверью. Она представляет собой «темную и разложившуюся массу, сочащуюся гнилью и тленом, не жидкую и не твердую, но текучую и преобразующуюся». Похожие на глаза жгучие точки сверкают из ее середины, и прежде чем с ней было покончено, она пыталась поднять то, что прежде было рукой. Вскоре после этого врач, так и не сумевший вытравить из памяти все пережитое, умирает на корабле, увозившем его к новой жизни в Америке. Мистер Мэкен возвращается к демоническому «малому народцу» в «Красной руке» и «Сверкающией пирамиде»; a в «Ужасе», истории военного времени, весьма убедительным образом рассматривает поучительную мистерию об отвержении современным человеком духовности и влиянии этого факта на тварей мира сего, которые вследствие этого начинают оспаривать его превосходство и соединяются ради уничтожения рода людского. Истинно тонко, переходя от чистого ужаса к подлинному мистицизму, написано «Великое возвращение», также повествующее о Граале и также являющееся плодом военного времени. Слишком хорошо известна, чтобы ее описывать здесь, легенда о «Лучниках», которая, будучи принятой за подлинное повествование, дала начало легенде об «Ангелах Монса» — духах старых английских лучников Креси и Азенкура, сражавшихся в 1914-м рядом с теснимыми рядами славных английских «старых ничтожеств».
Менее интенсивен, чем мистер Мэкен в описаниях крайностей откровенного страха, и все же бесконечно более близок к идее постоянного давления ирреального мира на наш мир вдохновенный и плодовитый Алджернон Блэквуд{99}, среди объемистого и неровного свода сочинений которого можно найти некоторые из самых лучших историй с привидениями не только нашего, но и вообще любого времени. В уровне одаренности мистера Блэквуда усомниться невозможно, ибо никто и никогда не приближался к тому мастерству, серьезности и тонкой достоверности, с которыми он описывает обертоны загадочности в обыкновенных событиях и предметах, или к сверхъестественному проникновению, с которым он деталь за деталью складывает полные чувств восприятия, ведущие из реальности в сверхъестественную жизнь или видение. Не владея заметным образом поэтическими чарами простых слов, он является абсолютным и несомненным мастером потусторонней атмосферы и способен извлечь цельное повествование из небольшого отрывка лишенного всякого юмора психологического описания. Более всех прочих он понимает, насколько полно чувствительный ум обитает на рубеже грезы и насколько относительно небольшим является это разделение между реальными предметами и предметами, вызванными игрой воображения.
Малые произведения мистера Блэквуда портят такие дефекты, как этический дидактизм, случайные безвкусные завитушки, пресный в своей благосклонности супернатурализм и слишком свободное пользование профессиональным жаргоном современного «оккультизма». Недостатком более серьезных произведений является нечеткость и многословие, являющиеся результатом излишней изобретательности при несколько бесцветном журналистском стиле, лишенном внутренней магии, цвета и жизненной силы, способных визуализировать точные ощущения и нюансы зловещих фантазий. Однако несмотря на все это, основные произведения мистера Блэквуда достигают подлинно классического уровня и как ничто иное в литературе пробуждают трепетное ощущение значимости неведомых духовных сфер бытия.
В едва ли не бесконечном ряду произведений мистера Блэквуда присутствуют романы и короткие рассказы, иногда независимые, иногда появляющиеся сериями. Высшее место в его творчестве, вне сомнений, занимает рассказ «Ивы», в котором пара праздных путешественников жутким образом обнаруживает на пустынном острове посреди Дуная присутствие безымянных сил. Здесь искусство и сдержанность повествования соединяются, достигая высочайшего развития и впечатляющей силы без единого напряженного пассажа или фальшивой нотки. Удивительной впечатляющей силой обладает менее отточенный в художественном плане «Вендиго», где нам представляют кошмарные свидетельства существования лесного демона, о котором вечерами перешептываются лесорубы северных лесов. Манера, в которой некие следы рассказывают свою нереальную повесть, на самом деле представляет собой подлинный триумф мастера. В «Эпизоде в охотничьем домике» мы сталкиваемся с потусторонними силами, вызванными колдуном из черного пространства, a в «Слушателе» повествуется о жутком психическом осадке, пропитавшем старый дом, в котором некогда умер прокаженный. В сборнике «Невероятные приключения» содержатся некоторые из лучших рассказов автора, уводящие фантазию читателя к буйным обрядам на ночных холмах, тайным и странным перспективам, открывающимся за вполне обыкновенными пейзажами, к немыслимым и таинственным подземельям, скрытым под песками и пирамидами Египта, описанным с серьезным изяществом и тонкостью, убедительными там, где более грубое или легкомысленное изложение привело бы всего только к развлекательности сюжета. Некоторые из этих произведений являются не столько историями, сколько этюдами в области мимолетных впечатлений и выхваченных из забвения обрывках снов. Сюжетом можно пренебречь повсюду, правит везде атмосфера.
Книга «Джон Сайленс — необычный врач» содержит пять связанных между собой повествований, главный герой которых победоносно перебирается из одного в другое. Испорченные разве что некоторыми признаками популярного и обыкновенного детектива — ибо доктор Сайленс является одним из тех благодетельных гениев, которые пользуются своими удивительными силами, чтобы помочь своим попавшим в трудное положение собратьям-людям, — эти повествования содержат в себе некоторые из лучших образцов творчества и создают впечатление сразу эмоциональное и яркое. Первый рассказ, «Психическое вторжение», повествует о том, что приключилось с чувствительным автором в доме, некогда бывшем местом совершения мрачных дел, и о том, как был изгнан легион бесов. «Древние чары», быть может, лучший рассказ в книге, содержит почти гипнотически яркое описание старинного французского городка, где местное население некогда справляло гнусный шабаш в облике кошек. В «Немезиде огня» жуткий стихийный дух вызывается пролитием крови, в то время как в «Тайном почитании» повествуется о немецкой школе, в которой чтили сатану и над которой долго еще висела зловещая аура. «Собачий лагерь» рассказывает нам об оборотне, однако рассказ этот ослаблен морализаторством и профессиональным «оккультизмом».
Слишком тонкими, быть может, для точного отнесения к разряду жутких историй, однако скорее всего более художественными в абсолютном смысле этого слова являются такие фантазии, как «Джимбо» или «Кентавр». Мистер Блэквуд достигает в этих новеллах тесного и трепещущего приближения к внутренней субстанции грезы и производит колоссальную пробоину в привычных барьерах, разделяющих реальность и воображение.
Непревзойденным мастером кристально чистой поющей прозы и высшим специалистом в области создания пышных и апатичных миров радужно экзотического видения является Эдвард Джон Мортон Дракс Планкетт, восемнадцатый барон Дансени, чьи рассказы и короткие пьесы образуют едва ли не уникальный элемент в нашей литературе. Изобретатель новой мифологии и сочинитель удивительного фольклора, лорд Дансени посвятил себя странному, наполненному фантастической красотой миру, присягнув вечной войне против грубости и уродства повседневной реальности. Его точка зрения является наиболее подлинно космической по сравнению с любой принятой в литературе любого периода. Столь же чувствительный, как По, к драматическим ценностям и значению отдельных слов и подробностей и куда лучше оснащенный в риторическом плане посредством простого лирического стиля, основанного на прозе Библии Короля Иакова, этот автор с колоссальным эффектом пользуется практически любым сводом мифов и легенд, существующим в рамках европейской культуры, создавая составной или эклектичный цикл фантазий, в котором восточный колорит, эллинистическая форма, тевтонская мрачность и кельтская задумчивость сливаются настолько идеально, что поддерживают и подкрепляют друг друга, не нарушая общего согласия и однородности. В большинстве случаев земли Дансени относятся к категории сказочных, расположенных «там, позади восхода» или «у края света». Его система оригинальных личных имен и топонимов, основанная на корнях, позаимствованных из классических, восточных и прочих источников, являет собой чудо гибкой изобретательности и поэтической интуиции, как можно видеть из таких образчиков как «Аргименес», «Бетмура», «Полтарниис», «Каморак», «Иллуриил» или, наконец, «Сардатрион».
Красота, а не ужас является ключевой темой произведений Дансени. Он любит веселую зелень нефрита и медных куполов, нежное прикосновение рассвета к слоновой кости минаретов невероятных, пригрезившихся ему городов. Юмор и ирония часто сливаются воедино в легком цинизме, смягчающем то, что в противном случае можно было бы назвать наивной напряженностью. И тем не менее, как неминуемо случается с мастером победоносной ирреальности, в творчестве его угадываются прикосновения космического страха, вполне согласующиеся с подлинной традицией. Дансени любит лукаво и умело намекнуть на чудовищных тварей и невероятные судьбы, как делается это в сказках. В «Книге чудес» мы читаем о Хло-Хло, гигантском идоле-пауке, который не всегда остается дома; о том, чего Сфинкс боялся в лесу; o Слите, воре, перескакивающем через край света после того, как загорается некий огонь, известно кем зажженный; об антропофагах; о гиббелинах, населяющих злую башню и охраняющих там сокровище; o живущих в лесу гнолах, красть у которых неразумно; о Городе Никогда, и о глазах, следящих Из-под Ям, и о роде тварей тьмы. В «Рассказах мечтателя» повествуется о тайне, отправившей всех мужчин из Бетморы в пустыню; о великих вратах Пердонидары, вырезанных из огромного цельного куска слоновой кости, и о путешествии старого доброго Билла, после того как капитан проклял свой экипаж и отправился по только что поднявшимся из моря мерзкого вида островам к их невысоким домикам со злобными и мутными глазками окон.
Многие из коротких пьес Дансени дышат ужасом потустороннего. В «Богах горы» семеро бродяг изображают семь зеленых идолов, стоящих на далеком холме, и наслаждаются жизнью и почестями в городе своих почитателей до тех пор, пока не слышат, что настоящие идолы оставили свои привычные места. Им сообщают о кошмарном зрелище, замеченном в сумраке — «скале не положено бродить по вечерам», — и наконец, сидя в ожидании труппы танцоров, они замечают, что приближающиеся шаги оказываются много более тяжелыми, чем полагалось бы плясунам. Развязка приближается, и в итоге наглых богохульников превращают в зеленые нефритовые статуи те самые ходящие изваяния, на чью святость они покусились. Однако сам сюжет является самым малым достоинством этой удивительно впечатляющей пьесы. Происшествия и их развитие выполнены рукой высшего мастера, так что все целое образует один из наиболее значительных вкладов нынешнего века не только в драму, но и во всю литературу как таковую. В «Ночи на постоялом дворе» рассказывается, как четверо воров украли изумрудное око Клеша, чудовищного индуистского бога. Они заманивают в свою комнату и благополучно убивают троих жрецов, отправившихся по следам похитителей, однако ночью сам Клеш является на ощупь за своим оком; и, вернув его себе, отправляется назад во тьму, куда призывает за собой всех грабителей для получения заслуженной, но так и оставшейся неназванной кары. В «Смехе богов» на краю джунглей находится обреченный город, где действует призрачный лютнист, игру которого слышат лишь те, кому предстоит умереть (ср. с призрачным клавесином Алисы в «Доме с семью фронтонами» Готорна), в то время как в «Врагах королевы» пересказывается изложенный у Геродота анекдот, в котором мстительная принцесса приглашает своих врагов на подземное пиршество и топит их, открыв ход водам Нила. Однако никакое количество простых пересказов неспособно передать более некоторой доли убедительного обаяния произведений лорда Дансени. Его призматические города и неслыханные доселе обряды освящены уверенностью, доступной только подлинному мастерству, и мы восторгаемся, ощущая себя подлинными соучастниками его тайных мистерий. Человек истинно впечатлительный увидит в нем талисман и ключ, отпирающий богатые склады грез и обрывков воспоминаний; поэтому мы можем видеть в нем не только поэта, но художника, который делает поэтом каждого из своих читателей.
На противоположном от лорда Дансени полюсе гениальности, одаренный едва ли не дьявольской силой создания ужаса посредством мелких шагов из середины повседневной прозаической жизни, находится высокоученый Монтэгю Родс Джеймс{100}, провост Итонского колледжа, известный антиквар и признанный авторитет в области средневековых манускриптов и кафедральной истории. Доктор Джеймс, любивший рассказать историю с привидениями на Святках, понемногу сделался в литературе ужасного жанра функционером очень высокого ранга и разработал собственный стиль и метод, способный послужить моделью длинной цепочке учеников.
Искусство доктора Джеймса случайным не назовешь, и в предисловии к одному из своих сборников он сформулировал три очень здравых правила, рекомендованных сочинителям, подвизающимся в зловещем жанре. История с привидениями, по его мнению, должна происходить в знакомой обстановке в современный период, чтобы как можно точнее соответствовать сфере жизни читателя. Призрачное явление, однако, обязано быть зловещим, а не благим, поскольку произведение в первую очередь должно производить страх. И, наконец, следует старательно избегать технического жаргона «оккультизма» или псевдонауки, ибо в противном случае очарование небрежного правдоподобия будет сведено на нет неубедительным педантизмом.
Доктор Джеймс, практикуя то, что проповедует, подходит к своим темам в легкой и нередко разговорной манере. Создавая иллюзию повседневных событий, он вводит свои сверхъестественные аномалии осторожно и постепенно, смягчая их на каждом повороте уютными и прозаическими подробностями, a иногда и проперчивая щепоткой-другой антикварной учености. Осознавая тесную связь между нынешним потусторонним и накопленным преданием, он часто предоставляет исторические прецеденты событиям собственного рассказа, таким образом получая возможность очень ловко использовать свои исключительные познания в области истории и находящееся под рукой владение архаическим произношением и расцветкой. Любимой сценой для повествования Джеймса является некий многовековой собор, который автор способен описывать со всей дотошливой точностью, доступной специалисту в этой области.
В повествованиях доктора Джеймса нередко присутствуют лукавые юмористические виньетки и вполне правдоподобные жанровые портреты и характеристики, служащие в его искусных руках подкреплению, но не ослаблению общего эффекта, как могло бы получиться в руках более слабого мастера. Изобретая новую разновидность привидения, Джеймс в значительной мере отклонился от общепринятой готической традиции; ибо там, где классический старомодный дух был бледным и величественным и воздействовал главным образом на зрение, средний призрак работы Джеймса сух, невелик ростом и волосат — тупое адское ночное исчадие, представляющее собой нечто среднее между человеком и зверем, обычно сперва осязаемое, а потом уже видимое. Иногда призрак имеет более неожиданный состав: сверток фланели с паучьими глазками посредине или невидимое создание, заворачивающееся в простыни и являющее свое лицо обтянутым полотном. Доктор Джеймс совершенно очевидно располагает вполне разумным и научным знанием человеческих нервов и чувств и прекрасно знает, как распределить утверждение, образный антураж и тонкие предположения, чтобы добиться наилучшего воздействия на читателей. Этот художник более преуспевает в событиях и их компоновке, чем в атмосфере, и чаще воздействует на эмоции через разум, чем непосредственно. Конечно, этот метод, сопряженный с нередким отсутствием острой кульминации, обладает рядом недостатков, как и преимуществами, и многим будет не хватать того атмосферического напряжения, которое писатели, подобные Мэкену, старательно возводят с помощью слов и сцен. Впрочем, немногие из его произведений можно обвинить в кротости. Обыкновенно лаконичного разворачивания аномальных событий в искусном порядке достаточно для произведения необходимого эффекта сгущения ужаса.
Короткие рассказы доктора Джеймса сведены в четыре небольших сборника, озаглавленных соответственно «Рассказы антиквара о привидениях», «Новые рассказы антиквара о привидениях», «Тощий призрак и другие» и «Назидание любопытным». Ему принадлежит также восхитительное детское фэнтези «Пять кувшинов», располагающее собственным призрачным антуражем. Посреди такого обилия материала трудно выбрать любимое или особенно характерное повествование, хотя у каждого читателя, вне сомнения, окажутся собственные предпочтения в зависимости от собственного темперамента.
К числу лучших, бесспорно, принадлежит «Граф Магнус», представляющий подлинную Голконду напряжения и намека. Английский путешественник Роксолл в середине девятнадцатого столетия отправляется в Швецию собирать материал для книги. Заинтересовавшись древней фамилией Де ла Гарди, представители которой обитают возле деревни Рабек, он изучает архивы семейства и особенно заинтересовывается строителем существующего особняка, неким графом Магнусом, o котором ходили странные и жуткие шепотки. Граф, живший в начале семнадцатого столетия, был суровым землевладельцем, известным своей жестокостью к браконьерам и неплательщикам-арендаторам. Жестокие наказания его были у всех на устах, ходили также темные слухи о служивших графу злых силах, переживших даже его похороны в большом мавзолее, который он построил себе возле церкви, и наказания эти осуществлялись даже через целый век после его смерти — как было с двумя крестьянами, решившими ночью поохотиться на его землях. В лесу раздавались жуткие вопли, a возле гробницы графа Магнуса слышали неестественный смех и стук огромной двери. На следующее утро священник нашел в лесу двоих людей; один из них стал безумным, другой был мертв, и лицо его оказалось лишенным плоти.
Услышав все эти рассказы, мистер Роксолл наталкивается на более тщательно охраняемую информацию о том, что граф некогда совершил Черное паломничество в палестинский город Хоразин, принадлежащий к числу городов, некогда осужденных нашим Господом в Евангелии, и в котором, по словам старых священников, и будет рожден Антихрист. Никто не смеет намекнуть на суть Черного паломничества или на то, что за странное создание или тварь граф привез назад с собой в качестве спутника. Тем временем мистер Роксолл ощущает нарастающее желание обследовать мавзолей графа Магнуса и наконец получает разрешение сделать это в компании дьякона. Он находит там несколько памятников и три медных саркофага, один из которых принадлежит графу. Вокруг края этого саркофага выгравированы несколько полос, изображающих в том числе особенно откровенные и мерзкие сцены преследования отчаявшегося человека через лес приземистой закутанной фигурой, как будто бы снабженной щупальцем наподобие морского черта, за которым на соседнем холме следит закутанный в плащ высокий мужчина. Саркофаг был заперт на три массивных стальных замка, один из которых уже лежал на полу, напомнив путешественнику о металлическом звуке, который он слышал в предшествующий день, проходя мимо мавзолея и мечтая встретиться с графом Магнусом.
Желание его только окрепло; получив возможность завладеть ключом, мистер Роксолл наносит в мавзолей второй визит уже в одиночестве и обнаруживает, что отперт уже и второй замок. На следующий день, последний в Ребеке, он вновь отправляется к мавзолею попрощаться с давно усопшим графом. Еще раз ощутив потребность произнести странное желание встретиться с погребенным джентльменом, — он, к собственной тревоге, смотрит на последний замок, остающийся на большом саркофаге. Под его взглядом этот последний замок с шумом падает на пол, раздается как бы скрип дверных петель и чудовищная крышка начинает медленно подниматься, и охваченный паническим страхом мистер Роксолл бежит, не заперев за собой дверь мавзолея.
Во время возвращения в Англию путешественник ощущает смутную тревогу в отношении своих спутников на корабле, на котором он пересекает Английский канал. Фигуры в плащах повергают его в волнение, он ощущает, что за ним следят, что его преследуют. Среди насчитанных им на корабле двадцати восьми персон за трапезой появляются только двадцать шесть; отсутствующими всегда оказываются высокий человек в плаще и его невысокий закутанный спутник. Завершив свое морское путешествие в Харвиче, мистер Роксолл ударяется в бегство в закрытом экипаже, однако на перекрестке дорог замечает две фигуры в плащах. Наконец остановившись в небольшом сельском домике, он пишет полные лихорадочной тревоги записки. На второе утро его обнаруживают мертвым, причем проводившие расследование семеро поверенных падают в обморок при виде тела. В доме, где остановился Роксолл, более никто не живет, и описывающий все обстоятельства манускрипт обнаруживается в забытом шкафу при сносе дома.
В «Сокровище аббата Томаса» британский антиквар разгадывает шифр, оставленный на ренессансных цветных витражах, и с его помощью находит вековой клад, укрытый на половине глубины колодца, находящегося во дворе германского аббатства. Однако хитроумный укрыватель клада приставил к своему сокровищу и хранителя — нечто, обитающее в темном колодце, хватает кладоискателя за шею, да так, что поиски немедленно заканчиваются и к колодцу приводят священника. Каждую ночь после этого кладоискатель ощущает чье-то присутствие и обнаруживает жуткий запах возле двери своего гостиничного номера, пока наконец священник не закрывает камнем устье тайника в стене колодца — из которого и выбиралось нечто во тьме, чтобы отомстить за покушение на золото аббата Томаса. Завершая свою работу, клирик замечает на древнем камне курьезный, похожий на жабу рельеф и латинскую надпись «Depositum custody», которая означает: храни порученное тебе.
К прочим стоящим внимания произведениям Джеймса можно отнести рассказ «Скамьи Барчестерского собора», в котором гротескное изображение оживает, чтобы отомстить за тайное и хитроумно задуманное убийство старого декана его честолюбивым преемником; «Ты свистни, тебя не заставлю я ждать», рассказывающий о жути, которую призывает загадочный металлический свисток, обнаруженный в руинах средневековой церкви; и «Эпизод из истории кафедрального собора», где при разборке хоров обнаруживается древняя гробница, в которой обитает демон, сеющий хворь и панику. Доктор Джеймс при всей своей легкой руке вызывает картины ужаса и мерзости в самой потрясающей форме, и, безусловно, ему суждено занять видное место среди нескольких истинных творцов в этой угрюмой провинции.
Для тех, кто склонен к размышлениям в отношении будущего, повести сверхъестественного жанра представляют интересное поле деятельности. Встречая сопротивление в крепнущей волне плоского реализма, циничного легкомыслия и умудренного разочарования, они встречают поддержку со стороны нарастающего мистицизма, развиваемого как через утомленную реакцию «оккультистов» и религиозных фундаменталистов против материалистических открытий и посредством стимуляции фантазии и удивления перед столь пространными перспективами и разломанными преградами, которыми наделила нас современная наука своей интраатомной химией, прогрессом в астрофизике, учением об относительности и проникновением в биологию и человеческую мысль. И в данный момент благоприятствующие силы получат некоторое преимущество, поскольку ныне к сверхъестественному жанру обнаруживается отношение более теплое, чем тридцать лет назад, когда лучшие произведения Артура Мэкена попали на каменистую почву смышленых и самоуверенных девяностых годов. Амброз Бирс, почти неизвестный в свое время, пользуется ныне общим признанием.
Впрочем, удивительных преобразований не стоит ждать во всех направлениях. В любом случае примерный баланс тенденций будет существовать, как и прежде; и если мы вправе ожидать усовершенствования технических средств, то у нас нет никаких оснований полагать, что общее положение сверхъестественного жанра в литературе претерпит какие-то изменения. Он представляет собой узкую, хотя и важную ветвь самовыражения рода людского, способную оказаться привлекательной, как всегда, только для узкой аудитории, обладающей обостренными способностями. Какой бы универсальный шедевр ни был бы создан завтра на основе фантазий и темы ужаса, популярностью своей он будет обязан скорее высшему мастерству, чем любви к теме. Однако кто станет считать темную тематику положительно бесперспективной? Блистающая красотой Чаша Птолемеев{101} была вырезана из оникса.
ИЗГОЙ
Барон всю ночь ворочался в постели;
Гостей подпивших буйный пляс томил
Чертей и ведьм — и в черноту могил
Тащили их во сне к червям голодным.
Джон Китс[42]Несчастен тот, у кого воспоминания о детстве вызывают лишь страх и печаль. Жалок тот, кто, оглядываясь на прожитую жизнь, видит лишь долгие часы уединения в огромных мрачных залах с тяжелыми портьерами и рядами навевающих тоску древних книг или лишь бесконечные бдения в сумеречных рощах, среди наводящих благоговейный ужас огромных, причудливых, оплетенных лианами деревьев, безмолвно тянущих в вышину искривленные ветви… Такой участью наделили меня щедрые боги — быть одиноким и отвергнутым, сломленным и сдавшимся. Но я отчаянно цепляюсь даже за эти блеклые воспоминания, когда мой рассудок стремится умчаться куда-то за пределы нашего мира.
Не знаю, где я родился, память хранит воспоминания только об этом замке, бесконечно древнем и безмерно ужасном, с мрачными проходами и галереями, с высокими потолками, на которых глаз может узреть лишь какие-то тени и паутину. Камни разрушающихся коридоров выглядят так, будто всегда были покрыты мерзкой сыростью, и повсюду здесь этот проклятый запах — будто только что догорел погребальный костер ушедших поколений. Здесь никогда не бывает светло, и потому я иногда зажигаю свечу, чтобы полюбоваться пламенем, а солнечный свет мне видеть не доводилось, поскольку кошмарные деревья, поднявшиеся выше башен, закрывают его. Правда, одна черная башня вздымается выше леса, достигая вершиной открытого неба, но она частично разрушена и подняться по ней почти невозможно, — разве что карабкаться по отвесной стене, цепляясь за камни.
Я провел здесь многие годы, но не знаю, сколько именно, ибо не отмечал хода времени. Наверное, кто-то заботился обо мне, но я не видел никаких других живых существ помимо крыс, пауков и летучих мышей. Тот, кто меня нянчил, видимо, был ужасающе стар, ибо первое, что приходит мне в голову при мысли о человеческом существе, — некая пародия на меня, нечто перекошенное, ссохшееся и зачахшее, как этот замок. Кости и скелеты, встречавшиеся в каменных склепах глубоко под землей, воспринимались мною как нечто совершенно обыденное. В моем представлении они имели гораздо большее отношение к реальной жизни, чем те существа, о которых я знаю лишь по цветным изображениям в древних книгах. Из этих книг я и знаю все, что мне известно о мире вокруг. У меня не было учителей или наставников; за все эти годы я ни разу не слышал человеческого голоса — даже собственного: хотя я умею читать, мне никогда не приходило в голову делать это вслух. О своем внешнем виде я мог только догадываться — зеркал в замке не было, и я представлял себя похожим на молодых людей, изображенных в книгах. Я ощущал себя молодым, потому что помнил так мало.
Я часто перебирался через ров с гниющей водой к мрачным тихим деревьям, под которыми лежал и грезил о прочитанном в книгах; обычно при этом я представлял себя находящимся в многолюдном солнечном мире, лежащем за бескрайними лесами. Однажды я попытался сбежать, пробравшись через лес, но стоило мне удалиться от замка, как сумерки сгустились, воздух становился все более пропитанным ужасом, и потому я опрометью бросился назад, боясь затеряться в лабиринте мрачного безмолвия.
Так я жил, мечтал и ожидал чего-то в этом нескончаемом полумраке — сам не зная, чего ожидаю. И наконец, истомленный одиночеством в сумраке, я уже не смог сдерживать страстное стремление к свету и воздел с мольбою руки к той единственной черной полуразрушенной башне, что поднималась над лесом в неведомое небо. Я решился взобраться на эту башню, даже рискуя разбиться; уж лучше увидеть небо и погибнуть, чем существовать, не увидев ни разу дневного света.
В промозглых сумерках я взбирался по древним выщербленным ступеням, пока не достиг того уровня, где они заканчивались, и там, невзирая на опасность, продолжил подъем, используя углубления и выступы на стене. Ужасным и зловещим был этот мертвый, лишенный ступеней каменный цилиндр, черный, полуразрушенный и заброшенный, кажущийся еще более зловещим от бесшумно пролетающих время от времени нетопырей. Но еще более ужасным и зловещим было мое медленное продвижение, ибо сколько я ни лез, тьма над головой не рассеивалась, и озноб начал сжимать меня леденящей хваткой. Я дрожал, терзаясь догадками о том, почему не становится светлее, и не смея поднять глаза. Беспокоясь, что, возможно, уже настала ночь, я то и дело шарил рукой в поисках амбразуры окна, чтобы посмотреть и оценить, как высоко я взобрался.
И наконец, после целой вечности крайне рискованного подъема вслепую над пропастью по вогнутой поверхности, я коснулся головой чего-то твердого и понял, что достиг крыши, или, по крайней мере, какого-то перекрытия. Я поднял в темноте руку и, потрогав преграду, убедился, что она каменная и неподвижная. Тогда я стал двигаться по окружности башни, цепляясь за все, за что удавалось ухватиться на склизкой стене, до тех пор, пока, подняв руку, не обнаружил, что преграда слегка поддается, и там снова попытался подниматься, упираясь в преграду головой, поскольку обе руки у меня были заняты. Никакого света сверху я не увидел и, уперевшись локтями в горизонтальную поверхность, понял, что мое восхождение еще не закончено, поскольку ощутил каменный пол наблюдательной площадки, большей по диаметру, чем сама башня. Я осторожно закончил пролезать через люк, стараясь не позволить тяжелой крышке упасть обратно, но последнее мне не удалось. Я в изнеможении лежал на каменном полу, с эхом стука от захлопнувшегося люка в ушах, и надеялся, что смогу открыть его снова, когда это понадобится.
Будучи уверенным, что уже поднялся на огромную высоту, выше проклятого леса, я заставил себя подняться на ноги и принялся на ощупь искать окно, чтобы впервые увидеть небо, луну и звезды, о которых прежде только читал. Но повсюду меня ждало разочарование, поскольку вокруг были только широкие полки из мрамора, заставленные ящиками пугающе большого размера. Снова и снова я задавался вопросом, какие же древние тайны скрываются здесь, в вышине, бездну времени отделенные от замка внизу? Затем вдруг мои руки нашарили дверной проем с каменной дверью со странным рельефом. Попытавшись открыть ее, я обнаружил, что она закрыта; но, преодолев крайнюю усталость, вложив в рывок все остатки сил, смог заставить ее открыться. Сразу же после этого безмерный восторг охватил меня, ибо сквозь узорную железную решетку, к которой поднимался короткий пролет каменной лестницы, светила полная луна, которую прежде я видел только во снах и в тех смутных видениях, которые не осмеливаюсь назвать воспоминаниями.
Теперь уже не сомневаясь, что достиг верхушки башни, я бросился вверх по ступенькам; но вдруг луна скрылась за облаком, и в наступившей тьме я замедлил шаги. Было все еще темно, когда я на ощупь добрался до решетки. Она оказалась незапертой, но я не решился отворять ее, боясь сорваться и упасть с той головокружительной высоты, на которую поднялся. Затем луна появилась.
Наибольшее потрясение вы испытываете, когда видите что-то беспредельно неожиданное и до нелепости невероятное. Никогда прежде я не испытывал ужаса, сопоставимого с тем, который испытал, увидев в тот миг совершенно абсурдную картину. Сама по себе она была вполне заурядной и тем самым более ошеломительной, ибо увидел я вот что: вместо головокружительного вида с огромной высоты на верхушки деревьев вокруг меня, на том же уровне, на котором я стоял, простиралась ровная земная поверхность, над которой возвышались мраморные плиты и колонны, стоящие в тени древней каменной церкви, остатки шпиля которой призрачно поблескивали в лунном свете.
Почти не сознавая своих действий, я отворил решетку и, пошатываясь, ступил на белую гравиевую дорожку, ведущую отсюда в двух противоположных направлениях. Мой разум, даже в таком потрясенном и взвинченном состоянии, по-прежнему неистово рвался к свету, и даже невероятное чудо не могло сбить меня с пути. Я не знал и не желал знать, что со мной случилось — безумие это, сон или колдовство, — но желал, чего бы это ни стоило, узреть великолепие и блеск окружающего мира. Я не знал, кто я, что я, что меня может окружать, но, следуя вперед, вдруг ощутил что-то вроде спавшей до сего момента памяти, благодаря чему мой дальнейший путь не всегда определял случай. Миновав плиты и колонны, я проследовал под аркой и пошел через луг по дороге, местами хорошо заметной, местами настолько терявшейся в траве, что лишь замшелые камни выдавали, что когда-то она здесь проходила. Один раз мне пришлось переплыть быструю речку в том месте, где остатки древней каменной кладки свидетельствовали о давно исчезнувшем мосте.
Еще через два часа я наконец добрался туда, куда стремился — к увитому плющом замку посреди запущенного парка, до безумия знакомого и в то же время удивительно странного. Я увидел, что вода заполнила ров, а некоторые из хорошо знакомых мне башен совсем исчезли, но в то же время оказалось пристроено новое крыло — словно специально, чтобы смутить прежнего обитателя. Но наибольшее изумление вызвали распахнутые окна, из которых наружу лился яркий свет и доносились звуки веселой пирушки. Заглянув в одно из них, я увидел компанию странно одетых людей, ведущих оживленную беседу. Я никогда прежде не слышал человеческой речи и мог только догадываться, о чем они говорят. Черты лиц некоторых из них казались мне смутно знакомыми, другие воспринимались полностью как чужаки.
Тогда я шагнул через низкое окно в освещенный яркими огнями зал, и это оказался шаг от мимолетного проблеска надежды к чернейшей бездне безысходности и отчаяния. Едва я вступил в зал, в нем воцарился кошмар, ибо мое появление произвело такое впечатление, какого я никак не ожидал. Как только я переступил через подоконник, всех собравшихся здесь охватил внезапный, непонятного происхождения ужас, исказивший их лица и заставивший почти каждого издать вопль. Началось всеобщее паническое бегство, некоторые упали в обморок, но их уволокли безумно спешащие убраться отсюда приятели. Многие слепо и беспомощно метались, закрыв лицо руками, в поисках спасения, опрокидывали мебель и натыкались на стены, прежде чем наконец попадали в одну из многочисленных дверей.
Крики шокировали меня; и пока я стоял один в залитом светом опустевшем зале, ошеломленный, прислушиваясь к затихающим воплям, меня посетила трепетная мысль, что рядом со мной есть нечто ужасное, чего я сам не замечаю. На первый взгляд зал показался мне совершенно пустым, но когда я двинулся к одному из альковов, мне почудилось там какое-то движение — за золоченой аркой дверного проема, ведущего в другой, почти такой же зал. По мере приближения к арке присутствие еще кого-то становилось все более явным; а затем, когда первый и последний звук вырвался из моей груди — ужасное завывание, почти столь же омерзительное, как и то, что стало его причиной, — я узрел со всей ошеломляющей ясностью то невообразимое, безобразное, неописуемое чудовище, которое одним своим видом превратило веселую компанию в обезумевшую толпу спасающихся бегством.
Я не в силах даже приблизительно описать, как оно выглядело, ибо это была смесь всего самого нечистого, ненормального, неприятного, извращенного и гадкого. Это было омерзительное воплощение упадка, разложения и гниения; ужасное воплощение всего того, что милосердная природа старается упрятать поглубже. Видит Бог, это было существо не из этого мира, — или, во всяком случае, не из этого мира, — и все же, к своему ужасу, я уловил в его изъеденных до костей контурах злобную, отвратительную пародию на человеческий образ, а в гнилых лохмотьях, служивших ему одеянием, что-то знакомое.
Я оказался почти парализован, но не настолько, чтобы не совершить попытку к бегству: робкий шаг назад, который не смог разрушить сковавшие меня чары безмолвного безымянного монстра. Мои глаза, словно заколдованные уставившимися в них мерзкими зрачками, отказывались закрываться, как я ни старался, но милосердно затуманились, и страшное существо стало видно не так отчетливо. Я попытался поднять руку, чтобы закрыться от его взгляда, но из-за паралича рука не полностью подчинялась мне. В результате этой попытки я потерял равновесие и шагнул вперед, чтобы не упасть. И сразу же с ужасом осознал, как близко нахожусь от этой жуткой твари; мне показалось, что я слышу ее мерзкое дыхание. Почти обезумев от страха, я выставил вперед руку, защищаясь от зловонного призрака, стоящего ко мне почти вплотную; и тогда мироздание содрогнулось, сотрясаемое судорогой омерзения, когда мои пальцы соприкоснулись с протянувшейся ко мне лапой чудовища, стоящего под золоченой аркой…
Это вскрикнул не я, но все кровожадные вампиры, что несутся, оседлав ночной ветер, вскрикнули за меня, когда на мой разум обрушилась лавина душегубительных воспоминаний. В следующую секунду я знал все, что было прежде; я вспомнил, что было со мной до того, как я очутился в мрачном замке, окруженном лесом, и узнал частично изменившееся здание, в котором сейчас находился; и что самое ужасное — я узнал то безобразное существо, что злобно пялилось на меня, когда я отдергивал запятнанные пальцы от его руки.
Но мироздание включает в себя не только горечь, но и лечебный бальзам, и бальзам для меня — то, что память сглаживает воспоминания и убирает из них самое страшное. В непереносимом ужасе того мгновения я забыл, что именно потрясло меня, а проблески страшных воспоминаний поглощает хаос мелькающих образов. Грезя наяву, я убежал прочь от громады чуждого замка и мчался быстро и беззвучно в лунном свете. Вернувшись на кладбище с мраморными плитами, я спустился по ступенькам и убедился, что не способен открыть каменный люк; я не огорчился, ибо уже давно ненавидел древний замок и окружающие его деревья. Теперь я летаю, оседлав ночной ветер, вместе с насмешливыми и дружелюбными вампирами, а днем веселюсь в катакомбах Нефрен-Ка в потаенной и недоступной долине Хадоф возле берегов Нила. Я знаю, что свет — не для меня, разве что лунный свет, падающий на каменные надгробия Неб; и веселье — не для меня, разве что не имеющие названия пиры Нитокрис под Великой Пирамидой; и все же в моей новообретенной свободе я почти рад горечи отчуждения.
Ибо, несмотря на дарующую успокоение особенность памяти, мне не удастся забыть, что я изгой; я чужак в этом столетии, среди тех, кто все еще люди. Я осознал это в тот момент, когда протянул пальцы к мерзкому изображению в богато позолоченной раме — протянул пальцы и коснулся холодной жесткой поверхности полированного стекла.
КРЫСЫ В СТЕНАХ
Я переехал в Эксгэмское приорство 16 июля 1923 года, как только последний из рабочих завершил свои дела. Реставрация оказалась сложнейшим делом, ведь от заброшенного сооружения остались одни только стены. Но здесь жили мои предки, и я не считался с расходами. Дом оставался необитаемым со времен Иакова Первого, когда ужасная, но во многом непонятная гибель поразила сразу хозяина дома, пятерых его детей и нескольких слуг; третий сын владельца, окутанный облаком подозрений и ужаса, бежал отсюда. Он, единственный уцелевший изо всей проклятой семьи, и стал моим прямым предком.
Единственный наследник был объявлен убийцей. Все владения отошли короне, но подвергшийся обвинению не стал пытаться обелить себя и не предпринял никаких попыток к возвращению своей собственности. Одолеваемый ужасом, куда более сильным, чем разум или закон, с одним только желанием на устах — не видеть старинного дома и не слышать о нем, Уолтер де ла Поэр, одиннадцатый барон Эксгэмский, бежал в Виргинию и там основал семейство, в следующем столетии звавшееся именем Делапор.
Приорство Эксгэмское осталось без хозяина. Впрочем, позднее оно было присоединено к владениям лорда Норриса. Приорством интересовались: в архитектуре его странным образом объединились разные стили — готические башни высились на саксонском и романском основаниях, фундаменты же покоились на еще более раннем смешении ордеров — римского, друидического и даже местного кимврского, если не врут легенды. Подобное смешение представляло великую редкость. Другой стороной приорство лежало на прочном песчанике и выходило к уединенной долине в трех милях к западу от деревни Анчестер.
Архитекторы и антиквары просто обожали этот невероятный памятник забытых столетий, но деревенский люд ненавидел его. Селяне ненавидели приорство все те сотни лет, когда в нем жили мои предки, ненавидели и теперь его заросшие мхом и заплесневевшие камни. Я не успел провести в Анчестере даже дня, как сразу узнал, что происхожу из проклятого рода. На этой неделе рабочие взорвали дом и теперь ровняют с землей фундамент его. Даты жизни моих предков известны мне были всегда, помнил я и то, что первый американец в моем роду появился в колониях, окутанный странными слухами. Подробностей, конечно же, я не знал, в отличие от соседей-плантаторов — Делапоры всегда были скрытны в этих вопросах. Мы редко хвастали предками — крестоносцами и прочими героями Средневековья и Ренессанса, не существовало у нас и семейных преданий. Кое-что, правда, содержалось в запечатанном конверте, который в предшествующие Гражданской войне времена каждый сквайр оставлял старшему сыну для прочтения после смерти. И нам хватало почестей, заработанных после миграции гордой и достопочтенной, пусть несколько замкнутой и необщительной виргинской ветвью нашей семьи.
Но во время войны состояние наше погибло, а весь образ жизни претерпел изменения, после того как сожжен был Карфакс, наш дом на берегу Джеймс-ривер. Мой дед, человек преклонного возраста, не смог пережить гнусного поджога; с ним погиб и конверт, связывавший нас с прошлым. Даже сегодня помню этот пожар, хотя мне было только семь лет; помню, как орали солдаты-конфедераты, визжали женщины, как выли и молились негры. Отец мой находился в армии, он оборонял Ричмонд, и после многих формальностей нас с матерью пропустили к нему через линию фронта.
Когда война закончилась, все мы переселились на север, поближе к родным матери. Я вырос, стал взрослым и богатым, уже как самый настоящий янки. Ни отец, ни тем более я не ведали, что таилось в наследственном конверте, а окунувшись в серые будни массачусетского бизнеса, я и вовсе потерял интерес к тайне, притаившейся возле корней моего фамильного древа. Но если бы я только мог заподозрить природу ее, Эксгэмское приорство по-прежнему было бы забыто под мхами, предоставлено летучим мышам и паукам.
Отец мой умер в 1904 году, не оставив никакого известия для меня или моего единственного сына Альфреда, лишившегося матери в десять лет. Он-то и изменил направление передачи информации в нашем роду. Сам я только шутками отделывался от его вопросов, а он сумел разыскать в Англии несколько весьма интересных легенд о предках — жизнь забросила его в эти края в 1917 году офицером-летчиком. История Делапоров оказалась яркой, но несколько зловещей. Приятель сына капитан Эдвард Норрис, обитавший возле фамильного гнезда в Анчестере, поведал ему о некоторых суевериях, до сих пор памятных тамошним крестьянам… Немного нашлось бы писателей, способных придумать более замысловатые и невероятные истории. Сам Норрис, конечно, не принимал их всерьез, но сына они развлекали, предоставляя интересный материал для писем ко мне. Эти легенды и обратили мое внимание к заокеанскому наследию, они и навели на мысль купить и восстановить фамильное обиталище, которое Норрис показывал Альфреду в живописном запустении. Он даже взялся устроить приобретение за удивительно низкую цену, поскольку нынешним владельцем был его собственный дядя.
Я купил Эксгэмское приорство в 1918 году, но от планов своих, касавшихся восстановления, почти сразу же был отвлечен нездоровьем сына, возвратившегося с войны тяжелым инвалидом. И в последние два года его жизни я думал только о нем и даже собственные дела передал в руки партнеров. А потом в 1921 году оказался и без дел, и без целей. Немолодой, отошедший от дел заводчик. И я решил заполнить оставшиеся мне годы новым владением. В декабре я посетил Анчестер, где меня занимал капитан Норрис, приятный молодой человек, несколько полноватый, с уважением вспоминавший о моем сыне. Я заручился его поддержкой во всем, что касалось сбора старинных чертежей и исторических анекдотов. Эксгэмское приорство не пробудило во мне никаких чувств. И мудрено воспылать привязанностью к обветшавшим средневековым стенам, покрытым лишайниками, увенчанным вороньими гнездами и внутри не скрывающим ничего, кроме каменных перегородок.
Постепенно восстанавливая облик сооружения, каким оставили его мои предки три столетия назад, я начал набирать рабочих. И каждый раз мне приходилось подыскивать их не в ближних окрестностях, поскольку жители Анчестера испытывали к руинам почти непостижимый страх и ненависть. Неприязнь эта была настолько сильна, что передавалась и на наемных работников, но направлена она была в первую очередь против прежних хозяев приорства и самого замка.
Сын упоминал, что во время предыдущих визитов сюда его избегали — только потому, что он был де ла Поэр, и теперь я обнаружил, что подвергаюсь остракизму по той же причине. С трудом удалось мне убедить местных жителей в том, что о своей родне я не знаю почти ничего. Но даже тогда они не забыли о своем недоверии ко мне, и деревенские легенды в основном приходилось разузнавать через Норриса. Местные жители не желали мне простить самого намерения восстановить столь отвратительный для них символ; имея или не имея на то оснований, Эксгэмское приорство они считали обиталищем злых духов и оборотней.
Сводя воедино рассказанные Норрисом байки, внося в них соответствующие поправки, материал для которых поставляли несколько специалистов, исследовавших руины, я смог заключить, что Эксгэмское приорство поставлено было на месте доисторического друидического храма или даже еще более раннего, современного Стоунхенджу. Можно было не сомневаться, что в местах этих отправлялись мерзостные обряды, весьма пакостным образом вошедшие в культ Кибелы, который установили здесь римляне.
В нижнем подвале была видна надпись с не оставлявшими места сомнению буквами «DIV… OPS… MAGNA. МАТ…»[43], свидетельством поклонения великой Матери, чей мрачный культ некогда тщетно пытались запретить в Риме. Как подтверждается многочисленными находками, в Анчестере стоял третий Августов легион. По дошедшим сообщениям, храм Кибелы славился великолепием и никогда не пустовал. Под руководством жреца-фригийца в нем отправляли тайные обряды. Говорили, что падение старой религии не положило конец оргиям в храме, а жрецы продолжали по-прежнему благоденствовать. Утверждали еще, что совершение этих обрядов не пресеклось и после падения Рима, и саксы перестроили полуразрушенный храм, придав ему те очертания, которые он долго еще сохранял, повергая в ужас своими церемониями половину Гептархии[44]. К 1000 г. от Р. X., как гласили хроники, святилище было преобразовано в приорство, за каменными суровыми стенами которого укрывался таинственный и могущественный монашеский орден, даже не ограждавший своих обильных и просторных садов — столь велик был страх, внушаемый ими поселянам. Датчане не смогли уничтожить приорство, но после норманнского завоевания оно пришло наконец в упадок, и Генрих Третий, не встретив какого бы то ни было сопротивления, в 1261 году пожаловал им моего предка, Джильберта де ла Поэра, первого барона Эксгэмского.
О моем роде до этих времен ничего плохого не говорили, но тут произошло нечто странное. В хронике 1307 года кого-то из де ла Поэров назвали «богомерзким», в деревенских же легендах вообще не находилось ни одного доброго слова о замке, что поднялся на развалинах, оставшихся от приорства и храма. У очагов рассказывали истории жуткие, а еще более мерзкие из-за пугающей и туманной уклончивости.
И в них предки мои представали сущими демонами, рядом с которыми Жиль де Рец и маркиз де Сад показались бы невинными младенцами. Шепотком поговаривали, что семейство мое следует винить в постоянных исчезновениях жителей деревни в течение нескольких поколений.
Хуже всех прочих были, конечно же, сами бароны и их прямые наследники, все слухи по большей части относились именно к ним. Если вдруг наследник рода начинал обнаруживать хоть какие-то здоровые наклонности, он немедленно умирал — и нередко загадочным образом, — чтобы уступить место обычному отпрыску этой породы. Похоже, в семье отправлялся собственный культ, руководил им глава рода, который знакомил с ним только немногих посвященных. Принадлежность по большей части определялась характером, а не кровным родством, культ этот исповедовали иные из тех, кто вошел в семью со стороны. Леди Маргарет Тревор из Корнуолла, жена второго сына пятого барона, сделалась даже настоящим пугалом для детей всей округи, отпетой бесовкой и героиней весьма жуткой старинной баллады, еще не забытой возле границ с Уэльсом. Баллады же донесли до нас память о леди Мэри де ла Поэр: муж ее, которому помогла мать, убил новобрачную чуть ли не на другой день после свадьбы. Священник без колебаний отпустил грех убийцам, мало того — благословил их, узнав от них на исповеди такое, чего нельзя было открыть миру.
Все сказания и баллады — конечно же, представлявшие пример самого грубого суеверия, — безмерно отвращали меня. Особо раздражали эти постоянные упоминания моих предков в самом неприглядном виде. Вечные намеки на свойственные роду жуткие обычаи неприятным образом напоминали о скандале уже среди моих непосредственных предшественников — мой кузен, молодой Рэндолф Делапор из Карфакса, возвратившись с Мексиканской войны, ушел к неграм и сделался среди них жрецом вуду.
Куда в меньшей степени смущали меня россказни о стонах и вое, раздававшихся в голой, продуваемой ветрами долине у подножия известняковой скалы под приорством, о могильной вони, начинавшейся после весенних дождей, о визжащей белесой твари, о которую споткнулся конь сэра Джона Клейва однажды ночью посреди ровного поля, о слуге, посреди бела дня сошедшем с ума от увиденного им в приорстве. Все это были вещи призрачные, а я в те времена оставался еще закоренелым скептиком. Труднее было не считаться со слухами об исчезновениях крестьян — хотя, учитывая средневековые обычаи, и не следовало придавать им слишком большого значения. Излишнее любопытство влекло за собой смерть, и наверняка не одна отрубленная голова оказалась на стенах Эксгэмского приорства.
Иные из россказней были на диво живописными, и я даже пожалел, что в юности не слишком интересовался сравнительной мифологией. Например, уверяли, что легион демонов с перепончатыми крыльями каждую ночь правит шабаши в стенах аббатства, и присутствием этого легиона объяснялось изобилие простых овощей в обширных огородах. Но самым ярким было драматическое повествование о крысах — о бродячей армии гнусных мародеров, извергнутой замком три месяца спустя после обрекшей его на запустение трагедии, — армии тощих и голодных грызунов, истреблявших на пути своем все: домашнюю птицу, кошек, собак, свиней, овец и даже погубивших двоих несчастных, прежде чем пыл ее пошел на спад. Вокруг этого незабвенного похода и вращался отдельный цикл повествований о том, как распалось крысиное войско, опустошая дома, порождая ужасы и проклятье.
С такими-то сведениями приходилось знакомиться, пока я со стариковским упрямством завершал восстановление дома своих предков. Не следует заблуждаться: байки эти даже на миг не были способны образовать вокруг меня какую-то особую атмосферу. Но, с другой стороны, капитан Норрис и помогавшие мне антиквары неумолчно превозносили меня и поощряли. И когда через два года завершились работы, я взирал на огромные залы, их завешанные гобеленами стены, стрельчатые арки, островерхие окна и широкие лестницы с гордостью, полностью компенсировавшей немалые затраты.
Воспроизведены были все атрибуты Средневековья, новое хитроумно сплеталось со старым — уцелевшими стенами и основаниями. Жилище отцов моих вновь обрело жилой облик, и я уже предвкушал, как займусь искуплением дурной славы рода, закончившегося на мне. Теперь здесь можно было жить постоянно и доказать всем вокруг, что де ла Поэр — я снова принял исходное произношение — не обязательно является исчадием ада. Еще утешало меня, быть может, и то, что хотя на первый взгляд помещения Эксгэмского приорства имели средневековое обличье, но на деле были лишены всей старинной гнили… и призраков тоже.
Я уже говорил, что переселился туда 16 июля 1923 года. К числу домашних моих относились семеро слуг и девять кошек: я испытываю большую приязнь к последним. Моему старшему коту Черномазу было тогда семь лет, я привез его из собственного имения в Болтоне, штат Массачусетс, прочие же прибились ко мне в доме капитана Норриса, где вместе с семьей его я обитал во время восстановления приорства.
Пять дней будничное спокойствие не нарушалось ничем, я был в основном занят семейной историей. Я сумел, поверхностно, правда, понять некоторые обстоятельства трагедии, повлекшей за собой бегство Уолтера де ла Поэра. Они-то, вероятно, и содержались в запечатанном конверте, погибшем в огне Карфакса. Оказалось, что предок мой не без оснований обвинялся в убийстве всех прочих членов своего рода. Он убил их во сне — всех, кроме четверых слуг, — пережив загадочное потрясение, преобразившее всю его сущность. О том, что именно послужило причиной, он так и не проговорился — разве что кому-то из слуг, помогавших ему, а потом бежавших неведомо куда.
Преднамеренное убийство отца, троих братьев и двух сестер было встречено жителями деревни с полным одобрением, а закон отнесся к нему столь равнодушно, что преступник чуть ли не с почестями, во всяком случае без затруднений, смог отправиться в Виргинию. Общий шепоток утверждал, что благодетель избавил страну от проклятия, с незапамятных времен пятнавшего ее. Какое открытие могло привести человека к столь ужасному деянию, я не мог даже представить. Но Уолтер де ла Поэр, безусловно, знал все мрачные рассказы о собственной семье, и добавить нечто новое к ним было немыслимо. Возможно, ему случилось оказаться нечаянным свидетелем какого-то кошмарного древнего обряда или же он случайно обнаружил отвратительный и откровенный символ в приорстве или поблизости от него? В Англии Уолтера считали застенчивым и мягким. Виргинцам он показался не столько жестким и твердым, сколько измученным и усталым. О нем в своем дневнике упомянул другой благородный искатель приключений — Фрэнсис Харли из Беллвью, называвший моего предка человеком беспримерной справедливости, чести и деликатности.
Началось это 22 июля. Тогда я оставил все без внимания, но с учетом последующих событий случай этот приобретает потрясающее значение. Казалось бы, мелочь, не заслуживающая интереса, и скорее всего она осталась бы незамеченной — не следует забывать, что я обитал среди доверенных слуг, в доме практически новом, за исключением стен, и всякие зловещие предчувствия, невзирая на мнение деревни, казались мне абсурдными.
Все, что я вспомнил потом, выглядело примерно так: мой старый черный кот, повадки которого были мне прекрасно известны, вдруг сделался беспокоен, что полностью не соответствовало его характеру. Не останавливаясь, он бродил из комнаты в комнату и все обнюхивал стены готического убранства. Понимаю, насколько тривиальны эти слова, — сюжет банальный, как верный пес, что рычит, предупреждая хозяина, который только потом замечает облаченную в белый покров призрачную фигуру, — но тем не менее так и было и на этот раз.
На следующий день слуга сообщил мне, что все кошки в доме обеспокоены. Он пришел ко мне в кабинет — выходящую на закат уютную комнату, обшитую темным дубом с крестовыми сводами и тройным готическим окном, глядящим с высокого утеса на уединенную долину. Пока он говорил, боковым зрением я видел угольный силуэт Черномаза. Тот крался возле западной стены и все царапал новые панели, прикрывшие старинные камни.
Я сказал слуге, что, должно быть, камни источают какой-то запах, недоступный людскому носу, но на нежное обоняние кошек действующий даже сквозь новые деревянные панели. Сам я так и полагал. А когда слуга заподозрил наличие в доме крыс или мышей, я ответил ему, что крыс здесь не водилось триста лет, а полевым мышам из окрестных полей просто нечего делать среди каменных стен, где их и прежде-то не было. Днем я повстречался с капитаном Норрисом, он тоже не сомневался в том, что полевые мыши со всей окрестности не могли вдруг переселиться в замок.
Той ночью, как всегда отпустив слугу, я отправился в собственную опочивальню, которую избрал для себя в западной башне, — из кабинета в нее вела каменная лестница, частью сохранившаяся с древних времен и выходившая в пристроенную заново короткую галерею. Комната была круглой, с очень высоким потолком, без деревянной обшивки стен — их я занавесил арасскими гобеленами, мной самим подобранными в Лондоне.
Убедившись, что Черномаз со мной, я затворил тяжелую готическую дверь и стал готовиться ко сну при свете электрических ламп, весьма удачно изображавших свечи. Наконец я выключил свет и опустился на кровать с четырьмя резными столбами под балдахином. Достопочтенный кот привычным образом расположился поперек моих ног. Занавешивать окно я не стал, чтобы иметь возможность видеть небо через узенькое окно. Небо еще светилось, и тонкий переплет окна изящно вырисовывался на фоне отсветов заката.
Через какое-то время я, должно быть, уснул — помню, что потерял нить какого-то странного сна, когда кот вдруг резко поднялся. Я видел его силуэт в слабом свечении неба: он вытянул голову и, опираясь передними ногами на мои лодыжки, подбирал задние, готовясь к прыжку. Кот глядел на какую-то точку в стене к западу от окна, вид ее ничего не говорил мне, но теперь и я не мог оторвать от нее глаз.
Понемногу я осознал, что Черномаз не попусту поднял тревогу. Не знаю — взаправду ли шевельнулся тогда гобелен. По-моему, шевельнулся, только чуть-чуть. Но могу присягнуть: за ним слышен был тихий торопливый топоток крысиных или мышиных лап. Не теряя мгновения, увесистый кот прыгнул на гобелен и, сорвав его собственной тяжестью, открыл передо мной древнюю стену… Влажные камни, кое-где заляпанные реставраторами, не обнаруживали никаких следов разгуливающих грызунов.
Черномаз суетился возле стены, обнюхивая и ощупывая упавший ковер, и временами пытался просунуть лапу между стеной и дубовым полом. Ничего не обнаружив, некоторое время спустя он устало вернулся на свое место поперек моих ног. Я не шевельнулся, но заснуть в ту ночь уже не сумел.
Утром я расспросил всех слуг, но никто из них не ощутил ничего необычного, разве только кухарка обратила внимание на кота, ночевавшего у нее на подоконнике. Посреди ночи он принялся вдруг орать и разбудил воплями кухарку, успевшую заметить, как он устремился через приоткрытую дверь на лестницу. Я проспал до полудня, а после отправился к капитану Норрису, которого мое повествование чрезвычайно заинтересовало. В странном случае, пустяковом, но все-таки любопытном, он узрел некие показавшиеся ему живописными подробности, которые заставили его обратиться к примерам из местных преданий о привидениях. Крысы смутили его не менее, чем меня, и Норрис одолжил мне несколько мышеловок и парижскую зелень. Возвратившись домой, я велел слугам разместить отраву и ловушки на стратегически важных направлениях.
Возвратился я поздно, едва ли не полусонным, но дремоту то и дело нарушали сны самого жуткого содержания. Мне казалось, что с огромной высоты я взираю в какой-то сумеречный грот, наполненный грязной жижей, а посередине, по колени в этой жиже, седобородый бес-свинопас подгоняет посохом стадо рыхлых, отвратительных бледных тварей, чей облик наполнил меня предельным омерзением. И когда, выполнив свое дело, он кивнул и застыл, вонючая пропасть неподалеку извергла огромную стаю крыс, пожравших и старика, и тварей.
Ужасное видение это нарушили движения Черномаза, как и обычно спавшего у меня на ногах. На этот раз мне не нужно было гадать о причине его ворчания, шипения и страха — кот впивался когтями в мои ноги, не думая о производимом им эффекте: все стены спальни словно ожили, отовсюду доносился тошнотворный звук — мерзкий шорох движений голодных огромных крыс. Было совершенно темно, я не видел, что творится за гобеленами — упавшее полотно подняли еще с утра, — страшно было включать свет.
Едва колбы ламп наполнились светом, я увидел повсюду шевеление, под гобеленами пробегали какие-то комки, заставляя иные из странных рисунков выплясывать танец смерти. Но от света движение исчезло едва ли не мгновенно, и звук вместе с ним. Выпрыгнув из постели, я стал тыкать в гобелены длинной ручкой стоявшей возле постели жаровни и осторожно приподнял край одного из полотнищ, чтобы увидеть, что творится под ним. Там не было ничего — лишь старинные камни. И даже кот, казалось, не слышал теперь ничего сверхъестественного и аномального. Оглядев кольцевую ловушку, поставленную мной в комнате, я заметил, что все окошки захлопнуты, хотя ни следа не осталось от попавшейся и вбежавшей добычи.
Речи о сне более не могло быть, и, засветив свечу, я вышел на галерею, намереваясь спуститься по лестнице в свой кабинет. Черномаз шел за мной по пятам. Но не успели мы добраться до каменных ступеней, как кот рванулся вперед и исчез на старинной лестнице. Еще спускаясь по ней, я успел услышать звуки в огромной комнате подо мной — и в природе этих звуков трудно было ошибиться.
За дубовыми панелями топали крысы, а Черномаз метался по комнате с яростью обманутого охотника. Спустившись, я сразу включил свет, но на этот раз шум не утих. Крысы буквально грохотали по стенам, топая с такой силой и отчетливостью, что я наконец сумел заметить направление их движения. Им не было числа, крысы словно рушились из непостижимых высот во столь же немыслимые бездны.
В коридоре послышались шаги, через какой-то миг двое слуг распахнули массивную дверь. Они обыскивали дом, пытаясь обнаружить неведомый источник беспокойства, побудивший всех кошек сломя голову броситься вниз — к запертой двери в погреб. Я спросил у слуг, не было ли им слышно крыс. Отвечали они отрицательно. Когда я обернулся, чтобы привлечь их внимание к панелям, оказалось, что шум прекратился.
В сопровождении обоих мужчин я отправился к двери, но кошек возле нее уже не было. Я решил, что позже непременно обследую подвал, но пока решил ограничиться осмотром ловушек. Все были насторожены, но, увы, ловушки так и остались пустыми. Успокаивая себя тем, что крыс не слышал никто, кроме кошек и меня самого, я засел до утра в кабинете, предаваясь глубочайшим раздумьям над обрывками легенд, повествовавших о том, что творилось в здании, в котором я обитал ныне. До полудня я перехватил толику сна, откинувшись на спинку удобного библиотечного кресла, одиноко нарушавшего мою средневековую меблировку. Потом позвонил капитану Норрису, и он тут же прибыл, чтобы помочь мне обследовать нижний погреб.
Конечно же, мы ничего не нашли, разве что с трепетом обнаружили, что подвал этот был сооружен руками римлян. Каждая приземистая арка и массивный столб были возведены строителями Рима, не подражателями-саксами, — перед нами был строгий и гармоничный классицизм времен цезарей. И в самом деле, стены подвала изобиловали надписями, прекрасно известными антикварам, неоднократно исследовавшим замок. Такими как «P.GETAE.POP… TEMP… DONA» или «L.PRAC… VS… PONTIFI I…ATIS». Упоминание об Аттисе заставило меня поежиться: Катулла я читал и кое-что знал об ужасных обрядах в честь восточного бога, которому поклонялись все обращавшиеся к Кибеле. При свете фонарей мы с Норрисом пытались интерпретировать странные, почти стершиеся надписи на сторонах каменных четырехгранников неправильной формы, прежде считавшихся алтарями, но ничего не сумели понять. Удалось только вспомнить, что ученые видели в одном из символов, напоминавшем солнечный диск с лучами, знак не римского происхождения. Значит, римляне позаимствовали эти алтари у какого-то более древнего, быть может, возведенного аборигенами, храма, стоявшего на этом же месте. Бурые пятна на одном из них заставили меня призадуматься. Самый крупный из камней — в центре — обнаруживал знакомство с огнем: на нем явно сжигали приношения.
Вот что оказалось в крипте, перед дверью в которую кричали кошки и где мы с Норрисом вознамерились переночевать. Слуги, которым было приказано не обращать внимания на ночные кошачьи концерты, перенесли вниз кушетки. Черномаз был взят за компанию и для помощи. Мы решили притворить прочную дубовую дверь со щелями для вентиляции — разумеется, современной работы — и, плотно заложив ее, отправились спать с горящими фонарями, готовые ко всему, что могло случиться.
Подземелье это находилось, вне сомнения, далеко от поверхности, в самых недрах приорства, обращенного к лощине известнякового утеса. Я и не сомневался, что именно сюда устремлялись непонятно откуда берущиеся крысы, хотя трудно было понять, на чем основывается такая уверенность. А пока мы лежа выжидали, бодрствование мое то и дело сменялось какими-то нечеткими, даже не оформившимися снами, из которых меня вырывали беспокойные движения шевелящегося в ногах кота.
Сны эти не относились к числу обычных, жутким образом они напоминали тот, что я видел предыдущей ночью. Передо мной вновь предстал сумеречный грот и свинопас, высящийся над валяющимися в грязи, невыразимо отвратительными тварями, но я глядел на них — и они словно приближались, становились больше, отчетливее — настолько, что я уже почти мог различить их черты. Тогда я вгляделся в рыхлое обличье одной из них и пробудился с таким воплем, что подпрыгнул сам Черномаз, а бодрствующий капитан Норрис хорошо посмеялся. Он мог бы посмеяться еще или же перестал бы смеяться, когда бы знал причины моего вопля. Но тогда я и сам их не мог вспомнить, память вернулась впоследствии. Предельный ужас иногда благодетельно парализует ее.
Норрис разбудил меня, когда все наконец началось. Его мягкая рука заставила меня очнуться, вновь вызывая из того же самого сна, а голос требовал, чтобы я прислушался к кошкам. Действительно, послушать было что: снаружи вовсю голосили и скреблись коты, Черномаз, не обращая внимания на вопли родни, метался у каменных стен, а в них гудело вавилонское столпотворение крысиного бега, пробудившее меня вчера.
Ужас мой был неподдельным — человеческий разум не мог вместить подобного. Крысы эти, если не видеть в них порождение кошмара, овладевшего не только мной, но и кошками, мчались прямо внутри римских стен, сложенных из прочного на вид известняка… Или же за семнадцать столетий вода проточила в них путь, который своими телами отполировали грызуны?.. Но если так, сверхъестественный ужас мой не уменьшался: если это и впрямь живая зараза, почему же Норрис не слышит мерзкого шума? Почему он все время обращает мое внимание на Черномаза и вопли засевшей снаружи честной компании, почему так отчаянно допытывается о причинах кошачьего гвалта?
К тому времени, когда я умудрился наконец рассказать ему о том, что слышу, настолько рационально, насколько это было возможно, в ушах звучали уже последние отголоски далекого топота, пропадавшего далеко внизу, под самыми нижними погребами; казалось даже, что весь утес начинен теперь суетящимися крысами. Норрис отнесся к моим словам с меньшим скептицизмом, чем я полагал, — напротив, он проявил следы глубокого смятения. Потом он знаком показал мне, что кошки за дверью смолкли, Черномаз же с удвоенным пылом скреб когтями низ большого каменного алтаря в центре комнаты, находившегося ближе к Норрису, чем ко мне.
К тому времени страх мой перед сверхъестественным уже трудно было сдерживать. Случилось нечто удивительное, и я видел, что капитан Норрис, человек молодой, крепкий и по сравнению со мной куда более материалистически настроенный, испытывал те же чувства, что и я сам, — быть может, благодаря давнему и более подробному знанию местных легенд. И какое-то время мы не могли даже шевельнуться, только глядели на старого черного кота, уже остывавшего в своем рвении, — время от времени он поднимал голову вверх и просительно мяукал, как всегда, когда чего-то хотел от меня.
Норрис поднес фонарь поближе к алтарю и рассмотрел место, где царапал камень Черномаз. Безмолвно встав на колени, капитан принялся соскребать тысячелетние лишайники, соединявшие подножие массивного камня доримских времен с шахматными клетками пола. Ничего обнаружить ему не удалось, и Норрис собирался уже оставить напрасные попытки, когда я подметил обстоятельство тривиальное, но тем не менее повергшее меня в трепет, хотя, казалось, в нем не было ничего особенного.
Я сказал об этом Норрису, и мы оба восприняли почти незаметное проявление словно великое открытие. Перед нами был всего лишь огонек фонаря… Оставленное возле алтаря открытое пламя теперь слабо подрагивало, чего не было прежде; отклонять огонек могло лишь дуновение из щели между полом и алтарем, очищенной Норрисом от лишайника.
Остаток ночи мы провели в моем кабинете при ярком свете, нервно обсуждая дальнейшие планы. Только одно то, что обнаружен глубокий погреб, расположенный под римской постройкой, никому не ведомый тайник в недрах проклятого дома, не обнаруженный антикварами трех столетий, могло привести нас в возбуждение, даже если бы при этом не было сверхъестественных проявлений. Ну а так интерес наш становился противоречивым, и мы не могли решить: то ли, руководствуясь разумной осторожностью, оставить все поиски, а с ними приорство, то ли, уступив любопытству, мужественно встретить любые ужасы, что могут еще ожидать нас в неведомых глубинах.
К утру был выработан компромисс, и мы решили отправиться в Лондон, чтобы собрать группу археологов и ученых, способных справиться с этой тайной. Хочу упомянуть, что, прежде чем оставить подвал, мы тщетно пытались сдвинуть с места центральный алтарь, являвшийся теперь в наших глазах воротами в глубокое подземелье, таящее неведомый ужас. Какие бы секреты ни обитали внизу, пусть с ними будут иметь дело более мудрые люди.
В Лондоне мы провели много дней и вместе с капитаном Норрисом представили все факты, совпадения и легендарные анекдоты пяти авторитетным специалистам, людям, способным уважать фамильные тайны, если дальнейшие исследования выявят таковые. Склонности к насмешке они не обнаружили и выслушали нас с глубоким интересом и искренней симпатией. Едва ли необходимо перечислять всех по именам, должно только упомянуть сэра Уильяма Бринтона, в свое время взбудоражившего целый мир своими раскопками в Троаде. И когда все мы уселись в поезд, направлявшийся на Анчестер, я ощутил вдруг, что вскоре меня ожидает жуткое открытие. Этому весьма способствовала скорбь, выражавшаяся многими американцами по поводу неожиданной кончины президента по ту сторону моря.
В Эксгэмское приорство мы прибыли вечером 7 августа. Слуги заверили меня в том, что ничего необычного не происходило. Кошки, даже старина Черномаз, пребывали в полнейшем покое, в доме не было ни одной мышеловки. Мы собирались заняться исследованиями прямо с утра, а до тех пор я распределил гостей по заранее намеченным комнатам.
К одиннадцати утра все было готово, и наша группа из семерых человек, прихватив сильные электрические фонари и шанцевый инструмент, спустилась в нижний погреб и заложила за собою дверь. Черномаз сопровождал нас — исследователи сочли невозможным пренебречь его собственным стремлением, даже напротив, считали желательным его присутствие на случай неожиданной встречи с грызунами. Римским надписям на алтаре особого внимания мы уделять не стали, поскольку трое ученых мужей их уже видели и все присутствующие были знакомы с их описанием. Общее внимание обратилось к увесистому центральному алтарю, и через час сэр Уильям Бринтон заставил уравновешенный неведомыми противовесами камень отвалиться назад.
Под камнем открылся люк, а за ним был такой ужас, что, не будь мы заранее подготовлены, он бы одолел нас. От почти квадратного отверстия вниз шла лестница, истертая настолько, что посередине ступеньки ее едва не сливались в единую плоскость, и на них в беспорядке разбросаны были людские кости или похожие на человеческие. Те из них, что еще складывались в скелет, позой своей выражали крайний испуг, и повсюду на костях заметны были следы, оставленные зубами грызунов. Однако предельный идиотизм обладателей оставил свой отпечаток даже на черепах — было заметно известное их сходство с обезьянами.
И над адской этой лестницей, под невысоким сводом, вырубленным в скале, в лицо нам дул ветер. Не резкое и затхлое дуновение из вдруг растворенной гробницы — прохладный ветер, несший даже свежесть. Мы не стали задерживаться и, поеживаясь, принялись расчищать проход по ступеням вниз. Тогда-то сэр Уильям, приглядевшись к работе каменотесов, заметил странную вещь: судя по направлению ударов, проход этот был вырублен снизу.
Теперь я буду весьма осторожен и постараюсь точно выбирать слова.
Спустившись уже на несколько ступеней среди обглоданных костей, мы увидели свет впереди — и не какое-то там мистическое свечение, но лучи дневного света, что, должно быть, пробивались через неведомые никому щели в утесах, нависавших над пустынной долиной. Едва ли следует удивляться тому, что подобные расселины остались незамеченными, — долина была совершенно необитаема, а утес крут и высок настолько, что разглядеть обрыв мог лишь аэронавт. А еще через несколько шагов перед нами предстало то, при виде чего сердца наши воистину провалились в пятки — Торнтон, знаток психических явлений, от потрясения даже потерял сознание, повалившись на шедшего следом за ним. Норрис, полное лицо которого побелело и затряслось, выкрикнул нечто нечленораздельное, я же, если не ошибаюсь, охнул или же зашипел, прикрывая ладонью глаза.
Человек, шедший за мной — он один был старше меня, — только выдохнул: «О Боже!» — внезапно осевшим голосом, подобного которому я не слыхал. Лишь один из нас — из семи культурных людей, — один только сэр Уильям Бринтон сумел сохранить самообладание, что еще более делает ему честь, поскольку он возглавлял отряд и увидел все первым.
Перед нами был сумеречный грот немыслимой высоты, границы его терялись во мгле… Подземный мир беспредельных тайн и ужасных догадок. Там были какие-то сооружения, одним потрясенным взглядом я охватил курганы, дикарский строй монолитов, приземистые сооружения римского времени, расползшуюся саксонскую башню и раннеанглийский бревенчатый дом, и все они, казалось, возвышались над дьявольской мешаниной, покрывавшей поверхность земли. В безумном переплетении повсюду виднелись людские скелеты, или полулюдские, как те, что на ступеньках. Пеной морской, прикрывающей бурное море, белели они… Одни рассыпались на отдельные кости, другие же оставались более или менее целыми. Позы всех уцелевших говорили о дикой ярости, драке… Иные с каннибальскими намерениями терзали других.
Когда доктор Траск, антрополог, остановился, чтобы определить черепа, его поставила в тупик печать вырождения, лежавшая на многих из них. На шкале эволюции этим костям следовало отвести место ниже пильтдаунского человека, и все-таки все они принадлежали людям. Многие черепа говорили о более высоком развитии их обладателей, очень небольшое количество принадлежало к высшей и чувствительнейшей разновидности рода Homo. Все кости были обглоданы, в основном крысами, но иные несли на себе отпечаток явно человеческих зубов. Повсюду виднелись тоненькие косточки крыс — павших воинов армии-победительницы, положившей конец древней драме.
Не могу понять, почему все мы пережили этот жуткий день, сохранив при этом рассудок. Ни Гофман, ни Гюисманс не могли бы придумать сцены более невероятной, более отвратительной и безумной, чем этот сумеречный грот, в котором семеро людей тщетно пытались не думать, не представлять себе того, что творилось здесь триста лет назад или тысячу… два или даже десять тысячелетий. Сцену эту по праву можно было назвать преддверием ада, и бедный Торнтон вновь лишился чувств, когда Траск поведал, что, судя по скелетам, некоторые из их обладателей деградировали до хождения на четырех конечностях не менее чем за двадцать поколений от нас.
Мы начали исследовать архитектурные останки, обнаруживая все новые ужасы. Четвероногие — вместе с еще сохранявшими двухногость — содержались в каменных стойлах, из которых вырвались в последнем отчаянном припадке, побуждаемые голодом или страхом перед крысами. Четвероногих были здесь целые стада, их откармливали теми грубыми овощами, остатки которых обнаружились в виде мерзкого силоса на дне громадных ям, что старше самого Рима. Так я узнал, зачем моим предкам нужны были эти огороды… О небо!.. только бы суметь это забыть. Зачем нужны были эти стада? Лучше не спрашивать.
Посвечивая фонариком на руины римского времени, сэр Уильям громко читал описание самого жуткого ритуала, о котором мне приводилось слышать, завершало его описание диеты, предписываемой допотопным культом, который обнаружили здесь жрецы Кибелы, не нарушившие древней традиции. Привычный к окопам Норрис пошатывался, когда вышел из раннеанглийского дома. В нем находились и бойня, и кухня — другого он и не ожидал, — но немыслимо было видеть в подобном месте привычную английскую кухонную утварь, читать оставленные на английском надписи — иные относились даже к 1610 году. Я не смог заставить себя войти в этот дом, чьей дьявольской мерзости положил конец лишь кинжал моего предка Уолтера де ла Поэра.
Осмелился я войти лишь в низкий саксонский барак, дубовые двери которого давно упали с петель. В нем обнаружился жуткий рядок из десяти каменных клеток за ржавой решеткой. В трех были и обитатели — обладавшие весьма развитыми черепами, — у одного на костях, оставшихся от кисти, я заметил кольцо с печаткой — гербом моего же рода. За римским святилищем сэр Уильям обнаружил подземелье с еще более древними камерами, но все они оказались пустыми. Под ними находился невысокий погреб, забитый ящиками с рассортированными костями, кое-где снаружи на них уцелели жуткие подписи, повторявшиеся на латыни, греческом и фригийском.
Тем временем, вскрыв один из доисторических курганов, доктор Траск извлек на свет божий черепа чуть совершеннее, чем у гориллы, покрытые к тому же идеограммами. И по всему этому ужасу абсолютно невозмутимо разгуливал мой кот. Только раз я заметил в нем панический испуг — на самом верху груды костей — и не мог не подумать: какие секреты открываются его желтым глазам?
В известной степени ознакомившись с жуткими откровениями этих сумеречных краев, столь мерзостным образом явившихся мне во сне, мы повернули к бездонным и черным глубинам пещеры, куда не мог проникнуть даже луч солнца. Мы так и не узнали, какие Стиксовы бездны ожидали нас в том ночном мраке: пройдя немного, все дружно решили, что тайны не для рода людского. Но и поблизости хватало еще кошмарных подробностей. Не успели мы отойти, как фонари осветили перед нами ряды мусорных ям, в которых прежде жировали крысы… Внезапное их опустошение заставило изголодавшуюся армию грызунов сперва наброситься на еще живые стада, а потом бежать из приорства, неся гибель и опустошение крестьянским хозяйствам, чего потомки селян никогда не забудут.
Боже мой! Выгребные ямы были забиты расколотыми, распиленными костями, вскрытыми черепами! Кошмарные щели, где мешались кости питекантропов, кельтов, римлян и англичан, скопившиеся за несчетные века нечестивых жертвоприношений! Некоторые были полны до краев, и никто не мог бы сказать, как далеко в глубь земную уходили они поначалу. В лучах наших фонарей иные казались бездонными, населенными враждебными духами. Я подумал о несчастных крысах, проваливавшихся в эти колодцы во мраке ночей этого гнусного Тартара.
Однажды моя нога поскользнулась чуть ли не на самом краю зияющей пропасти, и страх едва не парализовал меня. Должно быть, я задумался, и надолго, рядом не было никого, кроме капитана Норриса. А потом из этих угольных беспредельных глубин донесся звук, который мне показался знакомым. И я увидел старого моего кота, крылатым египетским божком исчезающего в безграничном колодце неведомого. Я был неподалеку, и сомнений не оставалось. Это дьявольский топот адских крыс, вечно стремящихся к новым ужасам, звал меня в глуби земные, где посреди ощерившихся в адской ухмылке каверн воет Ньярлатотеп, безумный безликий божок, подпевая визгу инструментов двух расплывшихся идиотов-флейтистов.
Фонарь мой угас, и я бежал. Я слышал голоса, скорбные вопли, отзвуки эха, но поверх всего тихо шуршал нечестивый, въевшийся в глубь камней топоток; тихо-тихо, едва возвышаясь, словно раздувшийся труп на маслянистой реке, что под бесконечными ониксовыми мостами течет в гиблое черное море.
Я наткнулся на что-то… мягкое, пухлое… крысу, должно быть. Их вязкая, клейкая, хищная армия истребляет живых и мертвых. А почему, собственно говоря, крысам нельзя питаться де ла Поэрами, если сами де ла Поэры едят запретное?.. Война съела мальчика моего, черт бы побрал их всех… а янки сожрали Карфакс, он сгинул в языках пламени, а с ним рассыпался в пепел и дедушка Делапор, и секрет в конверте… Нет, нет, говорю вам — я не этот чертов свинопас в сумеречном гроте! И не полное лицо Эдварда Норриса видел я на этой рыхлой и бледной болезненной твари! Кто говорит, что я — де ла Поэр? Он жил, но мальчик мой умер! Зачем Норрисам земля де ла Поэров?.. Вуду, говорю я тебе, видишь пятнистую змею… Черт бы побрал вас, Торнтон, надо же — терять сознание от дел моего семейства …това кровь, пес вонючий, аще познаеши, яко взалкал… Magna Mater! Magna Mater!.. Аттис… Dia ad aqhaidh’s ad aodaun aqus beis dunach ort Dhona’s dholas ort aqus leat — sa* унгм… унл… ррлх… нин.
Так, по их словам, говорил я, когда через три часа меня отыскали во тьме припавшим к объеденному пухлому телу капитана Норриса, а кот мой прыгал вокруг и норовил вцепиться мне в горло. Теперь Эксгэмское приорство взорвали, Черномаза забрали от меня. А сам я живу за решеткой в Хэнуэлле, и все вокруг шепчутся о моей наследственности и пережитом. Торнтон обитает рядом, только мне не позволяют с ним говорить. А еще они пытаются скрыть все, что стало известно о приорстве. Я говорю им о бедном Норрисе, а меня обвиняют в ужасной вещи… Но должны же они понять, что я-то здесь ни при чем. Это все крысы, это ужасные крысы, и шелестящий их топот так и не дает мне теперь уснуть… Дьявольские крысы, что снуют вокруг меня за мягкой обивкой и все зовут — вниз, к еще неведомым ужасам, крысы, которых не слышит никто, крысы, крысы… крысы в стенах.
НАТУРА ПИКМЕНА
Не нужно считать меня безумным, Элиот, у многих найдутся предрассудки похлеще моего. Ты же не высмеиваешь деда Оливера, не желающего ездить в автомобиле. И если это поганое метро мне не нравится, я имею на это полное право, в любом случае на такси мы добрались сюда быстрее. Не пришлось лезть со станции на горку от Парковой.
Я знаю, что кажусь теперь куда более нервным, чем год назад, когда мы встречались с тобой в последний раз. Не надо разводить здесь целую клинику. Как знает Господь, тому была бездна причин, и я могу только радоваться, что сохранил рассудок. При чем тут третья степень алкоголизма? Не будь таким любопытным.
Ну хорошо, если тебе суждено это услышать, у меня нет причин возражать. Может быть, я даже должен это сделать после тех горестных писем, которыми ты, словно расстроенный папаша, начал оделять меня, узнав, что я оставил Клуб искусств и держусь подальше от Пикмена. Теперь, когда он пропал, я вновь стал заглядывать в бутылку — время от времени, но нервы, понимаешь, нервы шалят.
Нет, я не знаю, что произошло с Пикменом, и не желаю даже догадываться. Должно быть, ты сообразил, что я расстался с Пикменом, кое-что разузнав о нем, — потому-то я и знать не хочу, что с ним случилось.
Пусть рыщет полиция — им едва удастся обнаружить нечто существенное, они не узнали даже о квартире его в Нортэнде, той, которую он снимал под фамилией Питерс. Я и сам не уверен, что смогу отыскать ее… и не желаю пытаться, даже при ярком солнечном свете. Да, я знаю, точнее боюсь, что знаю, почему он заслужил такую судьбу. Я сейчас объясню. И думаю, ты поймешь, почему я не обращаюсь в полицию; еще прежде, чем я закончу рассказ, они будут просить меня проводить их, а я не пойду в этот дом, даже если сумею вспомнить, где он находится. Там было такое… Теперь я не могу пользоваться подземкой и — смейся, пожалуйста, на здоровье — спускаться в погреба.
Думаю, ты представляешь, что я оставил Пикмена не по глупой прихоти, не со старушечьего страха — как это сделали доктор Рейд, или Джо Минот, или Росуорт. Жуткое искусство меня не шокирует, и когда я встречаюсь с человеком, обладающим гениальностью Пикмена, я почитаю за честь познакомиться с ним, куда бы ни отправляли зрителей его работы. В Бостоне не рождалось художника более великого, чем Ричард Антон Пикмен. Я это говорил тогда, скажу и теперь, я не оставил этого мнения, даже когда он выставил «Пир упырей». Это было, когда Минот, помнишь, порезал его.
Ты знаешь, нужно обладать глубочайшим мастерством и проникновением в суть природы, чтобы писать такие вещи, как Пикмен. Любой мазилка, малюющий обложки для журналов, может наляпать краски на холст и обозвать получившееся кошмаром или шабашем ведьм, даже портретом нечистого, но только из-под кисти великого художника может выйти нечто истинно странное и правдоподобное. Дело в том, что лишь настоящий художник может постичь истинную анатомию ужасного и физиологию страха, точные очертания и пропорции, совпадающие с тем, что твердит нам дремлющий инстинкт и наследственные воспоминания, знающие и верные световые контрасты, и цвет. Не надо объяснять тебе, почему от картин Фузели мурашки бегут по коже, а обложка дешевой книжонки о призраках вселяет смех. Такие мастера способны ухватить нечто вневременное, а потом заставить нас поверить себе. Так было с Доре. Это есть у Симэ. И у Ангаролы из Чикаго. И Пикмен обладал этим умением в такой мере, как никто до него, и дай-то Боже, чтобы и после.
Не спрашивай у меня, как они это видят. Ты знаешь, и в обычном искусстве есть разница между тем, что живет и дышит, как положено Богом, и всякими фокусами, высосанными из пальца в пустой студии коммерческого успеха ради. Или, если сказать иначе, по-настоящему жуткие картины должны порождаться видениями, являющими художнику истинное, что творится в окружающем нас мире духов. И тогда мастер рисует такое, что отличается от приторных фантазий халтурщика, как произведения истинного живописца от изделий учащегося заочной школы рисунка. Если бы хоть однажды увидеть то, что открывалось Пикмену… Избави Боже! Давай-ка выпьем, прежде чем пускаться дальше. Боже, да меня бы и в живых не было, если бы только я увидел этого человека… если это и впрямь был человек.
Ты помнишь — сила Пикмена была в лицах, я не верю никому после Гойи, умевшего вложить в жуткую физиономию или гримасу истинный ад. Ну а до Гойи — взять хотя бы средневековых трудяг, создававших горгульи и химеры для Нотр-Дам и Мон Сен-Мишель. Они верили в существование многого, а значит, и видели многое, ведь в Средневековье были свои любопытные фазы. Я помню, ты сам спрашивал у Пикмена за год примерно до твоего отъезда, где, в каких громах и молниях сумел он подсмотреть свои идеи и видения. Помнишь, каким гаденьким смешком он отделался от тебя? Из-за этого-то смешка Рейд и оставил его. Рейд, как ты помнишь, только что занялся сравнительной патологией и так раздувался от всей «внутренней сути» — биологического и эволюционного смысла различных умственных или физических симптомов. Он сказал, что Пикмен день ото дня вселяет в него все большее отвращение, даже стал пугать в последнее время, и что ему это не нравится. Он поговорил тогда еще о диете и сказал, что Пикмен должен быть безумцем и сумасбродом высшей степени. Наверное, это ты и намекнул Рейду — если вы с ним переписывались, — что ему необходимо либо более не видеть картин Пикмена, либо как-то обуздать собственное воображение. И я прекрасно помню, что сам тогда говорил ему.
Но помни, сам-то я оставил Пикмена вовсе не за такое. Напротив, мое восхищение им все продолжало расти — ведь «Пир упырей» был истинным шедевром. Ты помнишь, клуб не захотел выставлять его, а Музей изящных искусств не принял даже в качестве подарка; могу добавить — никто не хотел покупать эту картину, так что Пикмен держал ее в доме до самого конца. Теперь она у его отца в Салеме — ты знаешь, в жилах Пикмена текла еще та старая салемская кровь, какую-то из его прародительниц повесили как ведьму в 1642 году.
Я стал частенько захаживать к Пикмену, особенно после того, как начал делать заметки для монографии о жутком искусстве… Быть может, именно его работы и вложили мне в голову эту идею, и когда я приступил к делу, Пикмен оказался просто источником сведений и предложений. Он показал мне все свои картины и рисунки, находившиеся у него, в том числе и наброски пером, за которые его мгновенно вышибли бы из клуба, проведай кто о них. Вскоре я сделался едва ли не почитателем его и мог, словно школьник, часами внимать его разглагольствованиям… Философические размышления эти и искусствоведческие теории достойны были истинного обитателя денверского сумасшедшего дома. И мое почитание — тем более что люди старались по возможности не иметь с ним дела — делало Пикмена откровенным… так что однажды вечером он намекнул, что, если я буду держать язык за зубами и не подожму хвост, он покажет мне нечто особое… куда более сильное, чем осмеливался он держать в доме.
«Сам знаешь, — пояснил он, — есть вещи, которые не годятся для Ньюбери-стрит, они здесь неуместны и не могут даже быть здесь созданы. Мое дело — подмечать обертоны души, а что можно уловить среди домов-выскочек, выстроившихся вдоль искусственной улочки спланированного района? Бэк-Бэй — это не Бостон… еще ничто вообще; эти кварталы не обрели еще памяти, не привлекли к себе духов. Найдись здесь какой-то призрак, он непременно окажется тихоней с соленого болота, из мелкой лужи… а мне нужны духи людей, способные увидеть ад и понять его.
Художник может обитать только в Нортэнде. Любой искренний эстет должен уйти в трущобы, навстречу традициям масс. Боже мой! Неужели же непонятно, что эти улицы не созданы человеком, они выросли сами. Поколения сменяли друг друга, жили, радовались жизни и умирали — тогда не боялись жить, радоваться и умирать. А ты знаешь, что в 1632 году на Копсхилл была мельница, а половина улиц города была замощена в 1650-м? Я могу показать дома, простоявшие два с половиной столетия, дома, перед которыми свершалось такое, от чего современные коробки рассыпались бы в прах. Что мы ныне знаем о жизни, о силах, управляющих ею? Мы называем колдовство салемских ведьм иллюзиями, но я держу пари — моя четырежды прабабушка могла бы кое-что рассказать. Ее повесили на Гэллоуз-хилл, Висельной горе. А святоша Котон Матер благосклонно глядел на казнь. Матер, черт бы его побрал, вечно боялся, что хоть кто-то вырвется из проклятой клетки монотонного бытия… Жаль, что никто так и не испортил его, не высосал ночью всю кровь из жил.
Могу показать даже дом, где он жил, и еще один дом — куда он так и не посмел войти, невзирая на все смелые речи. Он знал такое, чего не смел поместить в дурацких «Magnalia»[45] и детских «Чудесах невидимого мира». Кстати, а ты знаешь, что некогда весь Нортэнд был пронизан туннелями, соединявшими дома некоторых людей друг с другом… и с морем и кладбищем? Пусть на земле творятся суд и казнь, но внизу вне досягаемости каждый день происходило другое, и по ночам давились хохотом загадочные голоса.
Видишь ли, клянусь, что в любых восьми домах из каждых десяти, построенных до 1700 года и не перестраивавшихся после этого, в погребе обязательно обнаружится нечто странное. И месяца не проходит, чтобы в газетах не написали о рабочих, обнаруживших заложенные кирпичами арки или колодцы, ведущие в никуда. При разрушении старого дома… ну вот хотя бы на Кучерской в прошлом году. Там жили ведьмы, туда являлись призванные ими духи, пираты приносили туда добычу, контрабандисты тащили товар, заходили каперы… Говорю тебе: в прежние времена люди умели жить и наслаждаться жизнью. И это был единственный мир, который мог познать смелый и мудрый… ха! И представь себе для контраста нынешний день… Эти молочно-розовые создания, которых — избранных, даже художников — повергают в неизменное отвращение творения, выходящие за рамки вкусов, принятых за чаем в домах на Маячной!
Единственное, за что еще можно благодарить нынешний день, так это за то, что он не слишком приглядывается к былому. Что говорят нынешние карты и книги, путеводители Нортэнда? Ба! Берусь, не задумываясь особо, провести тебя по трем или четырем десяткам улочек к северу от Принцевой, о которых не подозревает ни одна живая душа, кроме иностранцев, населяющих этот район. Ну а что они могут знать об этих улочках? Нет, Турбер, старинные закоулки эти дремлют, источают ужасы и чудеса, спасают от обыденности, и ни единой душе не понять этого и не извлечь какую-то выгоду. Ну, одна-то, впрочем, найдется — я ведь ковырялся здесь не за так!
Слушай, такие вещи тебя интересуют. А что, если у меня есть еще одна студия — в тех местах, где я могу вызывать ночных духов и рисовать такое, о чем нельзя даже подумать на Ньюбери-стрит? Естественно, нечего и думать, чтобы сказать об этом в клубе… Проклятый Рейд, черт бы его побрал, и так нашептывает повсюду, дескать, я какое-то чудовище, пытающееся развернуть эволюцию в обратную сторону. Да, Турбер, я давно уже понял, что ужасы, как и красоту, следует писать с натуры. И я искал поэтому в тех местах, где обитает ужас, — у меня были причины знать их.
Я разыскал угол, который, кроме меня, не видели и три живых арийца. Дом стоит не так далеко от наземки. Но для души — отстоит на века. Я снял этот дом из-за старинной кирпичной стены в погребе — как раз из тех, о которых я тебе говорил. Лачуга еле держится, поэтому там никто не хочет жить, и мне стыдно даже говорить, как мало я плачу за нее. Окна забиты, да оно и к лучшему, дневной свет не для того, чем я там занимаюсь. Рисую я в погребе… там вдохновение гуще. Но наверху есть несколько комнат. Дом принадлежит какому-то сицилианцу, я снимаю его под фамилией Питерс. Ну, если ты еще не сдрейфил, могу прихватить сегодня вечером. Думаю, картины тебе понравятся, говорю же — там я могу кое-что позволить себе. Дорога не дальняя, иногда я хожу туда пешком; знаешь, не хочется привлекать внимание к этому дому появлением такси. Сядем на автобус на Южной станции до Батарейной — оттуда недалеко».
Ну, Элиот, после таких слов мне не осталось ничего, только сдерживаться, чтобы немедленно не броситься за первым же кэбом. На Южной станции мы пересели на наземку и около двенадцати часов уже спускались по ступенькам к Батарейной, а потом повернули вдоль старого порта, мимо верфи «Конституция». Я не следил за поперечными улицами и не могу сказать, где мы свернули, знаю только, что это была не Гриноу-лейн.
Но когда мы свернули, пришлось пробираться вверх по самому старинному и грязному переулку из всех, что мне приходилось видеть… Осыпающиеся островерхие крыши, разбитые крохотные окошки, наполовину обвалившиеся древние трубы пальцами тыкали в лунное небо. Думаю, что там не нашлось бы и трех домов, которых не мог видеть Котон Матер… Во всяком случае, два оказались с блоками наверху. Однажды мне показалось, что я заметил очертания горбатой крыши почти забытого теперь типа, хотя любители старины и утверждают, что в Бостоне их не осталось.
Из этого еще все-таки чуть освещенного переулка мы свернули в другой, куда более узкий, где света не было вовсе, и через какую-то минуту, как мне кажется, под тупым углом свернули направо… Вскоре после этого Пикмен извлек фонарик и осветил им допотопную дверь с десятью панелями, казавшимися изрядно источенными червяком. Отперев ее, он впустил меня в пустую прихожую, на стенах которой еще держались остатки дубовой обивки времен Андроса и Фиппса… и салемских ведьм. А потом пригласил в открытую дверь налево, зажег масляную лампу и велел располагаться как дома.
Ну, Элиот, человек я из тех, которых в уличном просторечии называют «крутыми», но признаюсь честно: то, что оказалось на стенах, смутило меня, — я говорю про его картины, те, что он не смел рисовать на Ньюбери-стрит и даже показывать там. Он был прав, когда говорил, что здесь «позволяет себе». Вот — пей же — я сейчас не могу не выпить.
Бесполезно даже пытаться передать их содержание, потому что беззаконный, кощунственный ужас, немыслимая мерзость и моральный смрад исходили буквально из любого мазка, не поддаваясь оценке разума. В технике его не было ничего экзотического, как и у Сидни Симэ… никаких транссатурнийских ландшафтов и лунных грибов, которыми Кларк Эштон Смит умеет заморозить кровь в жилах. Фоном по большей части служили церковные дворы, дремучие леса, утесы у моря, кирпичные туннели, старинные комнаты с обшитыми деревом стенами или просто каменные подвалы. Кладбище на Коппсхилл, расположенное где-то неподалеку, было одним из излюбленных сюжетов.
Всю жуть и безумие источали фигуры на переднем плане — с жутким мастерством Пикмен рисовал то, что вне сомнения можно было назвать портретами бесов. Фигуры редко были человеческими — только в различной степени к ним приближались. По большей части тела их были двуноги, сужались к груди и чем-то напоминали собак. Кожа их чаще казалась гадкой… резиновой, что ли. Ух! До сих пор вижу их! Заняты они были… лучше не расспрашивай меня чем. Обычно они ели — не буду говорить что. Иногда группами они оказывались на кладбище или в подземном коридоре и частенько как бы ссорились над добычей — точнее, над сокровищем. И какую же проклятую экспрессивность иногда придавал Пикмен незрячим лицам этой кладбищенской добычи! Иногда твари его запрыгивали в окна ногами, восседали на груди спящих, теребя их горло. На одном холсте целая стая их облаивала ведьму, повешенную на Гэллоуз-хилл; лицо ее было сродни их собственным.
Только не подумай, что я там лишился чувств из-за одной только мерзкой темы в столь подробном развитии. Лица эти были… лица, Элиот, жуткие проклятые лица, наглые, слюнявые, насмехавшиеся на холсте в полном подобии жизни! Бог мой, да я был готов поверить в то, что они живые! Мерзкий колдун сумел влить адово пламя в свои краски, а кисть его, словно волшебная палочка, порождала кошмар за кошмаром. Дай сюда бокал, Элиот!
Была там одна штука, под названием «Урок»… Господи, помилуй мя за то, что видел ее! Представь себе кружок этих безымянных человекопсов на церковном дворе, обучающих ребенка питаться тем же самым, что и они! Подменили, значит… Помнишь старые сказки, о том, как эльфы оставляют своих подкидышей в детских колыбельках, а детей крадут? Вот Пикмен и показал, что случается с этими украденными детьми — как они растут. Тут я начал замечать ужасное сходство между человеческими лицами и этими мерзкими физиономиями.
Через все градации мерзости он устанавливал явную связь между полностью нечеловеческими рылами и еще сохранившими в себе нечто людское. Его псовидные твари порождены были смертными!
И едва я подумал, а что же, по его мнению, происходит с молодью этих человекособак, подкинутой в людские дома, как мой глаз сразу же наткнулся на картину, посвященную этой теме. Передо мной была комната в старинном пуританском доме; потолок с тяжелыми балками, окна со ставнями… семейство слушает отца, читающего Писание. На каждом лице написано почтение и благородство, только на одном — злонравие преисподней. По летам молодой человек, вне сомнения, считался сыном этого благочестивого отца, но в сущности своей был родней тем нечистым тварям. Вот тебе их подкидыш — и в порядке высшей иронии Пикмен придал наглому юнцу собственные черты.
Тем временем Пикмен уже зажег свет в соседней комнате и, вежливо придерживая дверь, пригласил познакомиться с его последними работами. Высказать свое мнение я был не в силах — испуг и отвращение буквально лишили меня речи, — но, как мне кажется, он все понял и чувствовал себя польщенным. Тем не менее хочу еще раз напомнить тебе, Элиот, что я не из тех хомяков, что зальются визгом, увидев нечто чуточку отличающееся от привычных канонов. Я человек немолодой, достаточно повидавший, и, мне кажется, еще во Франции ты мог понять, что меня не так легко потрясти. Помни — я уже вроде пришел в себя, даже привык к этим странным картинам, делавшим из колониальной Новой Англии отделение ада. И невзирая на все это, на пороге следующей комнаты я завопил… мне пришлось вцепиться в дверь, чтобы не упасть. В оставшемся позади помещении стаи упырей и ведьм населяли мир наших предков, но новая комната наполняла ужасами нашу повседневную жизнь. Боже, что это был за художник! Одна картина называлась «Случай в подземке». Стая мерзких тварей лезла из неведомой катакомбы через щель, разверзшуюся в полу станции Бойлстон-стрит, первые уже набрасывались на толпу людей на платформе. На другой картине изображена была бесовская пляска на Коппсхилле, каким он предстает перед нами сегодня. А потом пошли сцены из жизни подземелья, и чудовища лезли через дыры и трещины, ухмылялись из печей и бочонков, поджидали жертву, затаившись под лестницей.
Один отвратительный холст изображал огромный разрез Маячного холма; подобные муравьям смрадные чудища сновали по пронизавшим землю ходам. Потом опять пошли пляски на современных кладбищах, а за ними оказалась картина, потрясшая меня более прочих, — дело происходило в неведомой гробнице. Стая тварей окружала одну, державшую в лапах известный путеводитель по Бостону и явно читавшую выдержки из него вслух. Всех явно развлекал какой-то пассаж, и физиономии были искажены столь гулким эпилептическим хохотом, что мне уже начало казаться, будто дьявольское эхо доносится и до меня. Подпись под картиной гласила: «Так Холмс, Лоуэлл и Лонгфелло погребены в Осенней горе».
Постепенно отрываясь от стен, привыкая к наполнявшей второй зал дьявольщине и мерзости, я начал помаленьку анализировать причины тошнотворного отвращения. Во-первых, говорил я себе, твари эти отвратительны потому, что Пикмен показал их в предельной бесчеловечности и злорадной жестокости. Этот художник наверняка безжалостный враг всего человечества, иначе откуда такое наслаждение муками плоти и мысли, деградацией моральных основ? Во-вторых, картины ужасны потому, что великолепны. Искусство их убеждало… и на картинах, вселяя страх, представали сами демоны. Странно было и что Пикмен не прибегает к внешним эффектам: никаких искажений, ничего расплывчатого. Все контуры четки, очертания наполнены жизнью, детали проработаны почти с болезненной точностью. И еще эти лица!
Передо мной представала не какая-то интерпретация художника; пандемониум во всей своей мерзости, кристально четкий, наглядный и реальный. Реальный, клянусь Небом! Этот человек не был ни романтиком, ни фантастом — он и не думал передавать зрителю смутные видения и химеры, просто спокойно и деловито, невозмутимо, с холодным сердцем и насмешкой на устах открывал тот стабильный и механический, вполне устоявшийся мир ужасов, который ему виделся… полностью, без пропусков и искажений, во всем бесовском разгуле. Один Господь знает, где он подглядел этот мир, откуда взял кощунственные формы, ползавшие, бегавшие и прыгавшие по нему. И, каким бы неожиданным ни оказался источник этих видений, ясно было одно: с точки зрения замысла и исполнения Пикмен был внимательным, дотошным реалистом, проявляя почти наукоподобную верность деталям.
Хозяин мой уже спускался в погреб — в свою студию, — и я приготовился уже к новым адским мукам среди неоконченных работ его. Когда, сойдя по влажной лестнице, мы достигли дна, он посветил фонариком в угол, обнаружив там кольцо, выложенное из кирпича в земляном полу, — там некогда находился колодец. Приблизившись к нему, я заметил, что он был футов в пять поперечником, стенки в добрый фут толщиной выступали из земли дюймов на шесть… Добротная работа, семнадцатое столетие, если я не ошибся. Вот, проговорил тогда Пикмен, об этом он и рассказывал… Передо мной лежал вход в сеть туннелей, пронизывающих весь холм. Я праздно отвечал, что, судя по виду, его не собирались закладывать, и наиболее подходящей крышкой может послужить деревянная. Представив себе, какие твари могут вынырнуть из нее, если безумные намеки Пикмена не пустая риторика, я слегка поежился, а затем, поднявшись на ступень, следом за хозяином вошел в узкую дверь, за которой оказалась довольно просторная комната с деревянным полом, отделанная под студию. Необходимый для работы свет давал ацетиленовый рожок.
Неоконченные работы, стоявшие на мольбертах или прислоненные к стенам, были столь же гнусны, как и законченные — наверху, и во всех подробностях характеризовали одержимость художника. Сцены компоновались с предельной тщательностью, карандашные линии свидетельствовали о дотошности, с которой Пикмен выдерживал правильную перспективу и пропорции. Он был великий человек, я повторю это и теперь, зная все. Внимание мое привлекла большая фотокамера на столе, и Пикмен пояснил, что использует ее для точного выполнения фона, что вполне можно рисовать виды с фотографий, а не торчать с мольбертом в нужном месте. Фотография, с его точки зрения, поставляла вполне доброкачественный материал для дальнейшей работы. По его словам, к этой методе он прибегал регулярно. В тошнотворных набросках и различных полуоконченных чудищах, что пялились на меня отовсюду, виднелось нечто очень тревожное. И когда Пикмен вдруг открыл огромный холст в затененном углу, я не сумел подавить вопля — второй раз за всю эту ночь. Отражаясь от сводов, звук загулял по древнему затхлому подземелью, и мне пришлось изрядно потрудиться, чтобы подавить истерический хохот. Благословенный Творец! Элиот, не знаю, что там было порождено реальностью, а что лихорадочной фантазией. Только думается, что земле не вынести подобного сна.
Передо мной было колоссальное безымянное богохульство с горящими красными глазами, и в костистых пальцах оно вертело некую штучку, оказавшуюся человеком, и обсасывало его голову, как дитя карамельку на палочке. Оно пригибалось к земле и, казалось, вот-вот бросит свою добычу ради кусочка послаще. Но, будь он проклят, не сам этот дух злобы вызвал столь самозабвенный ужас, — нет, не собачья морда его, не остроконечные уши, не налитые кровью глаза, не плоский нос, не оттопыренные губы и не чешуйчатые лапы, не тело, покрытое гнилью, не раздвоенные копыта… нет, хотя любой из этих подробностей достаточно было, чтобы свести с ума человека более возбудимого.
Это была техника, Элиот, проклятая, кощунственная, сверхъестественная! Я и сам — живое существо, но мне никогда не приходилось видеть, чтобы дыхание жизни находило такое отражение на холсте. Передо мной было чудовище — яростно глядя, оно глодало. Глодая, оно жутко глядело, а я понимал, что только отменив законы природы, может человек написать подобную вещь без натуры… не заглянув хотя бы в тот самый мир, куда нельзя ступить никому, не продавшему душу дьяволу.
К свободному участку холста был пришпилен кнопкой свернувшийся в трубочку листок бумаги… Я подумал, что это фотография, с которой Пикмен собирался написать фон, не менее мерзкий, чем гнусность, которую это окружение должно было подчеркнуть. Я потянулся, чтобы развернуть его, но вдруг Пикмен вздрогнул, словно подстреленный. После того как вырвавшийся у меня в потрясении крик пробудил к жизни необычное эхо, он все прислушивался с особой внимательностью и теперь казался даже испуганным, но не так, как я, — в физическом плане, а не в духовном. Он достал револьвер и жестом приказал мне молчать, а затем шагнул в главное помещение подвала, закрыв за собой дверь.
Кажется, на миг я словно окаменел. Повторяя движения Пикмена, я прислушался; мне представилось, что вдали — непонятно с какой стороны — раздается визг и какой-то топот. Мне представились огромные крысы, я поежился. А потом послышался негромкий стук, от которого по телу мурашки пошли, нерешительный, неуверенный, хотя я не могу передать словами то, что имел в виду. Словно бы дерево или кость стучала по кирпичу… деревом по кирпичу… не копытом ли?
Звук повторился, становясь громче. Пол задрожал — словно дерево упало рядом. А после этого послышался скрежет. Пикмен выкрикнул какую-то тарабарщину и с оглушительным грохотом разрядил револьвер, все шесть патронов — так укротитель львов стреляет в воздух, чтобы произвести впечатление. Негромкий визг… потом стук и опять деревом по кирпичу… и после недолгой паузы отворилась дверь. Признаюсь, меня передернуло. Пикмен появился с дымящимся револьвером и принялся проклинать крыс, докучавших ему в подвале.
«Черт знает, что они здесь едят, Турбер, — ухмыльнулся он, — но эти старинные туннели выходят и на кладбище, и к морю, и к ведьмину логову. Твой крик всполошил их, так я думаю. Надо быть поосторожнее в этих старинных местах — крысы здесь единственный недостаток, хотя иногда мне кажется, что они усиливают впечатление, создают соответствующую атмосферу».
Вот так, Элиот, и завершилось ночное приключение. Пикмен обещал показать мне это место и показал. Обратно он повел меня другим путем, тоже через путаницу переулков, и когда мы заметили первый фонарь, то оказались на полузнакомой улице с ровными рядами доходных домов и старинных сооружений. Это оказалась Чартер-стрит, но я был слишком потрясен, чтобы заметить, в каком именно месте мы вывернули на нее. Для наземки было чересчур поздно, и мы пошли вниз в город по Ганновер-стрит. Помню я ту прогулку. С Тремонт мы поднялись на Маячную, и Пикмен оставил меня на углу Радостной, куда я свернул. Более мне не приходилось говорить с ним.
Почему я оставил его? Не торопись, подожди, я пока позвоню, чтобы принесли кофе. Этого зелья с нас уже хватит, но душа еще просит чего-то… Нет, причиной тому были не все эти картины, хотя, клянусь тебе, за них его бы выставили из каждого девятого из десяти домов и клубов Бостона; я думаю, теперь ты не удивляешься, почему я стараюсь держаться подальше от подземки и погребов. Дело было в том, что обнаружилось в кармане моего пальто на следующее утро. Помнишь свернувшееся в трубочку фото на жутком холсте в погребе, я-то решил тогда, что с него он будет перерисовывать фон для чудовища. Я как раз начал развертывать его, и тут этот испуг… словом, я в рассеянности отправил фото к себе в карман. Вот кофе… Элиот, будь умницей, не надо разбавлять его.
Вот тебе причина, по которой я расстался с Пикменом… эта бумажка. Ричард Антон Пикмен, величайший художник из всех, о ком я слышал… И самая грязная тварь из тех, что топтали пределы жизни, прячась в рытвинах мифа и безумия. Элиот, старина Рейд оказался прав. Пикмен был не совсем человек. Или он родился под странной тенью, или научился отпирать запретные ворота. Теперь это безразлично, он исчез — вернулся в пределы мрака, которые так любил. Эй, дай-ка сюда подсвечник.
Не спрашивай, что я сейчас скажу. Не спрашивай у меня и что там за шум был в погребе, когда Пикмен удачно свалил все на крыс. Знаешь, некоторые тайны восходят аж к салемским временам, а Котон Матер рассказывал еще более странные вещи. Ты помнишь, насколько живыми казались картины Пикмена и как все мы гадали, откуда берет он свои жуткие лица?
Ладно… На фотографии этой не было никакого фона, он просто перерисовал с нее чудище на холст. Оно позировало — а позади была только стенка погреба во всех подробностях. И клянусь Господом, Элиот: фотография была снята в том самом подвале.
ЗОВ КТУЛХУ
Вполне могли сохраниться обладатели такого вот могущества или существа… уцелевшие с той невообразимо далекой эпохи, когда… носители сознания обладали такими внешними формами, какие исчезли задолго до возвышения человеческого рода… формами, эхо воспоминаний о которых проявляется в поэзии и легендах, где они зовутся богами, чудовищами и мифическими существами всевозможных разновидностей…
Элджернон БлэквудГлава 1
Ужас, запечатленный в глине
Величайшее милосердие мироздания, на мой взгляд, заключается в том, что человеческий разум не способен охватить и связать воедино все, что наш мир в себя включает. Мы обитаем на спокойном островке невежества посреди темного моря бескрайних знаний, и вовсе не следует плавать на далекие расстояния. Науки, каждая из которых уводит в своем направлении, пока что причиняют нам не очень много вреда; но однажды объединение разрозненных доселе обрывков знания откроет перед нами такой ужасающий вид на реальную действительность, что мы либо потеряем рассудок от этого откровения, либо постараемся укрыться от губительного просветления под покровом нового средневековья.
Теософы высказали догадку о внушающем благоговейный страх великом космическом цикле, в котором весь наш мир и человеческая раса — лишь кратковременный эпизод. От их намеков на странные проявления давно минувшего кровь стыла бы в жилах, не будь они выражены в терминах, прикрывающих все успокоительным оптимизмом. Однако не теософы дали мне возможность бросить мимолетный взгляд в те запретные эпохи, и теперь дрожь пробирает меня по коже, когда я об этом думаю, и охватывает безумие, когда я вижу это во сне. Этот мимолетный взгляд, как и все прочие грозные проблески истины, был вызван случайным соединением разрозненных фрагментов — в данном случае одной старой газетной статьи и записок умершего профессора. Надеюсь, что никому больше не суждено подобное совпадение; во всяком случае, если я выживу, то постараюсь не добавить дополнительных звеньев к этой ужасающей цепи. Думаю, что и профессор имел намерение хранить в тайне то, что узнал, и только внезапная смерть помешала ему уничтожить свои записи.
Первое мое прикосновение ко всему этому случилось зимой 1926/27 года, когда умер мой двоюродный дед, Джордж Геммел Анджелл, специалист по семитским языкам, заслуженный профессор в отставке Брауновского университета в Провиденсе, Род-Айленд. Профессор Анджелл был широко известным специалистом по древним письменам, и к его помощи нередко обращалось руководство крупнейших музеев; поэтому его смерть в возрасте девяноста двух лет не прошла незамеченной. Интерес к этому событию оказался усилен загадочными обстоятельствами его кончины. Смерть настигла профессора, когда он возвращался домой от пароходного причала в Ньюпорте; свидетели утверждали, что он упал, столкнувшись с каким-то моряком-негром, внезапно выскочившим из прохода в один подозрительный мрачный двор, каких много выходило на крутой склон холма, по которому пролегал кратчайший путь от побережья до дома покойного на Уильямс-стрит. Врачи не нашли на теле никаких следов насилия и, после долгих и полных недоумения дебатов, пришли к заключению, что смерть наступила вследствие чрезмерной нагрузки на сердце из-за подъема столь пожилого человека по крутому склону холма. В то время я не видел причин сомневаться в этом вердикте, но с некоторых пор сомнения у меня появились — и даже не просто сомнения.
Как наследник и душеприказчик своего двоюродного деда, умершего бездетным вдовцом, я, предположительно, должен был тщательно изучить его архивы и с этой целью перевез все его папки и коробки к себе в Бостон. Большая часть отобранных мною материалов была опубликована затем Американским археологическим обществом, но оставался еще один ящик, содержимое которого я счел наиболее загадочным и не хотел показывать никому. Он был заперт, и мне не удавалось найти ключ, пока я наконец не догадался осмотреть личную связку ключей профессора, которую тот носил с собой в кармане. Наконец ящик удалось открыть, но, сделав это, я столкнулся с новыми, более сложными загадками. Ибо как мне было понять значение обнаруженного там странного глиняного барельефа, разрозненных записок и газетных вырезок? Неужели мой дед на старости лет оказался подвержен самым примитивным суевериям? Я решил для начала найти чудаковатого скульптора, ответственного за помутнение рассудка старого ученого.
Барельеф представлял собой неправильный четырехугольник толщиной менее дюйма и площадью примерно пять на шесть дюймов, явно современного происхождения. Однако запечатленное на нем никак не соотносилось с современным искусством ни по духу, ни по замыслу; ибо, при всем буйном разнообразии кубизма и футуризма, в них редко воспроизводится та загадочная систематичность, что таится в доисторических письменах. А в надписи этого барельефа она безусловно присутствовала, хотя я, несмотря на знакомство с бумагами моего деда и его коллекцией древних рукописей, не смог сопоставить ее с каким-либо конкретным источником или хотя бы сделать предположение о связи с какой-то культурой.
Над выполненной странными значками надписью располагалась фигура, несомненно плод фантазии художника, хотя импрессионистская манера исполнения мешала точнее понять, на что он намекает. Это было некое чудовище, или символическое представление о чудовище, или просто порождение больного воображения. Если я скажу, что в моем воображении, тоже несколько экстравагантном, возникли одновременно образы осьминога, дракона и пародии на человека, то, мне кажется, смогу передать дух этого создания. Непропорционально большая голова, снабженная щупальцами, венчала нелепое чешуйчатое тело с недоразвитыми крыльями; причем именно общее впечатление от этой фигуры делало ее пугающе ужасной. На заднем плане угадывались некие циклопические постройки.
Вместе с этим барельефом в ящике хранились газетные вырезки и заметки, написанные профессором Анджеллом без претензий на литературный стиль, судя по всему, в последние годы жизни. Предположительно главный документ был озаглавлен «КУЛЬТ КТУЛХУ», причем буквы были выписаны старательно, вероятно, во избежание неправильного прочтения такого необычного слова. Эта рукопись состояла из двух частей, первая из которых имела заглавие «1925 — Видения и творчество по мотивам видений Х.А. Уилкокса, Томас-стрит, 7, Провиденс, Род-Айленд», а вторая — «Рассказ инспектора Джона Р. Леграсса, Бьенвилль-стрит, 121, Новый Орлеан, Луизиана, о событ. 1908 г.; заметки о них же + свид. проф. Уэбба». Остальные рукописные заметки были короткими, они содержали описание весьма необычных сновидений различных людей, выписки из теософских книг и журналов (в особенности из книги У. Скотта-Эллиота «Атлантида и исчезнувшая Лемурия»), а также сведения о наиболее долго существовавших тайных обществах и секретных культах со ссылками на такие мифологические и антропологические источники, как «Золотая ветвь» Фрезера и «Культ ведьм в Западной Европе» мисс Мюррей. Газетные вырезки содержали в основном описания случаев особо причудливых психических расстройств, вспышек группового помешательства и внезапно возникших маний весной 1925 года.
Первый раздел основной рукописи содержал довольно необычную историю. Началась она 1 марта 1925 года, когда к профессору Анджеллу явился худой темноволосый молодой человек, на вид взволнованный и возбужденный, принеся с собой глиняный барельеф, совсем свежий и потому еще влажный. На его визитной карточке значилось «Генри Энтони Уилкокс», и мой дед узнал младшего сына довольно известной семьи, который в последнее время изучал скульптуру в Художественной школе Род-Айленда и проживал один в апартаментах во Флер-де-Лиз-Билдинг, неподалеку от места своей учебы. Уилкокс, не по годам развитый юноша, известный своим талантом и крайними чудачествами, с раннего детства интересовался странными историями и часто видел удивительные сновидения, о которых имел привычку рассказывать. Себя он называл «психически сверхчувствительным», а добропорядочные степенные консервативные обитатели старого коммерческого района полагали его просто чудаком и не воспринимали всерьез. Почти не общаясь с людьми своего круга, он постепенно исчез из поля зрения общества и теперь был известен лишь небольшой группе эстетов из других городов. Даже Клуб искусств Провиденса, стремящийся сохранять свою консервативность, полагал его почти безнадежным.
Целью своего визита, как сообщала рукопись профессора, скульптор без всякого вступления назвал желание воспользоваться археологическими познаниями известного специалиста и попросил помочь ему разобраться в надписи непонятными значками под барельефом. Говорил он в мечтательной и высокопарной манере, которая намекала на склонность к позерству и не вызывала симпатии, и мой дед ответил ему довольно резко, ибо подозрительная свежесть изделия свидетельствовала о том, что оно наверняка не имеет никакого отношения к археологии. Возражения юного Уилкокса, которые произвели на моего деда столь сильное впечатление, что он запомнил их и впоследствии записал, носили фантастически поэтический характер, что было типично для его речи и, как я впоследствии смог убедиться сам, вообще было характерной его чертой. Он сказал: «Разумеется, совсем новый, ибо я сделал его прошлой ночью во сне, где мне виделись странные города; а сны старше, чем задумчивый Тир, созерцательный сфинкс или окруженный садами Вавилон».
А затем он начал бессвязное повествование, которое пробудило нечто дремлющее в памяти моего деда и вызвало его горячий интерес. Предыдущей ночью в Новой Англии ощущались подземные толчки далекого землетрясения, наиболее ощутимые за последние годы; это сильно сказалось на воображении Уилкокса. Заснув, он увидел совершенно невероятный сон о великих циклопических городах из титанических каменных блоков и о вздымающихся до неба монолитах, источающих зеленую слизь и зловещий ужас. Стены и колонны там были покрыты непонятными письменами, а снизу, непонятно откуда, звучал голос, который был не голосом; хаотичное ощущение, которое лишь силой воображения могло быть преобразовано в звук, но все же Уилкокс попытался передать его почти непроизносимым сочетанием букв: «Ктулху фхтагн».
Эта вербальная бессмыслица оказалась ключом к воспоминанию, которое взволновало и обеспокоило профессора Анджелла. Он опросил скульптора с научной дотошностью и крайне внимательно изучил барельеф, над которым, не осознавая этого, юноша работал во время сна и который с недоумением увидел перед собой, внезапно очнувшись, продрогший и одетый в одну лишь ночную рубашку. Как рассказал впоследствии Уилкокс, мой дед посетовал на свою старость, ибо только из-за нее не узнал сразу же значки и фигуру на барельефе. Многие из заданных вопросов показались посетителю нисколько не относящимися к делу, особенно связанные с попытками найти связь его с какими-нибудь странными культами, сектами или сообществами; Уилкокс с недоумением воспринимал неоднократные заверения профессора, что тот сохранит в тайне признание о принадлежности к какому-либо из широко распространенных мистических или языческих религиозных объединений. Когда профессор Анджелл убедился в полном невежестве скульптора в отношении любых религиозных культов, а также криптографических записей, он постарался добиться от своего гостя согласия сообщать ему о содержании последующих сновидений. Это стало регулярно приносить плоды, и после упоминания о первом посещении рукопись содержала сообщения о ежедневных визитах молодого человека, во время которых он рассказывал о наиболее ярких эпизодах своих ночных видений, где всегда присутствовали какие-то ужасающие циклопические пейзажи с темными сочащимися камнями и всегда ощущался подземный голос или разум, монотонно выкрикивающий нечто загадочное, воспринимавшееся как совершеннейшая тарабарщина. Два наиболее часто встречавшихся набора звуков примерно передаются в записи как «Ктулху» и «Р’лайх».
23 марта, сообщала рукопись, Уилкокс не пришел; обратившись по месту его проживания, профессор узнал, что юноша стал жертвой неизвестной лихорадки и перевезен к родителям на Уотермэн-стрит. Той ночью он громко кричал, разбудив других художников, проживавших в доме, после чего в его состоянии периоды бреда чередовались с полным беспамятством. Мой дед тут же связался по телефону с его семьей, после чего внимательно следил за развитием ситуации и часто звонил в офис лечащего врача, доктора Тоби на Тейер-стрит. От лихорадки мозг юноши населяли странные видения, и врача, рассказывавшего о них, самого время от времени пробирала дрожь. Эти видения содержали все то, о чем рассказывалось прежде, но теперь упоминались гигантские создания «в целые мили высотой», проходящие или неуклюже передвигающиеся где-то рядом. Юноша ни разу не дал их внятного описания, но отрывочные слова, пересказанные доктором Тоби, убедили профессора, что существа эти, по-видимому, точно такие, как то безымянное чудовище, которое молодой человек запечатлел в своем сделанном во сне барельефе. Упоминание о них, добавлял доктор, всегда вызывало затем впадение в беспамятство. Температура больного, как ни странно, была почти в норме; однако все симптомы свидетельствовали скорее о лихорадке, чем об умственном расстройстве.
2 апреля около трех часов пополудни все симптомы болезни Уилкокса внезапно исчезли. Он сел в своей кровати, изумленный пребыванием в доме родителей и не имея никакого представления о том, что происходило с ним наяву и во сне после вечера 22 марта. Врач нашел его состояние удовлетворительным, и через три дня Уилкокс вернулся в свою квартиру; однако для профессора Анджелла он стал бесполезным. Из памяти Уилкокса исчезли все следы причудливых видений, и мой дед прекратил записи приходящих ему по ночам образов спустя неделю, на протяжении которой молодой человек скрупулезно излагал ему совершенно заурядные сны.
На этом первый раздел рукописи заканчивался, но сведения, содержащиеся в приложенных отрывочных записях, давали дополнительную пищу для размышлений — и столь много, что лишь присущий мне скептицизм, составлявший в то время основу моей философии, позволял сохранять недоверчивое отношение к скульптору. Упомянутые записи представляли собой содержание сновидений различных людей и относились именно к тому периоду, когда юный Уилкокс совершал свои необычные визиты. Похоже, мой дед провел весьма обширные исследования, опросив почти всех, кого он знал и к кому мог свободно обратиться, об их сновидениях и фиксируя даты достойных упоминания видений. Отношение к его просьбам, видимо, бывало разным, но в целом он получил так много откликов, что явно не справился бы с ними без помощи секретаря. Исходная корреспонденция не сохранилась, однако записи профессора были подробными и содержали все значимые подробности ночных видений. В данном вопросе «средние люди», заурядные представители деловых кругов и общественной жизни — по традиции считающиеся в Новой Англии «солью земли», — давали почти полностью негативный результат, хотя изредка и у них случались мрачные, но не вполне четкие ночные видения, почти всегда имевшие место между 23 марта и 2 апреля, то есть в период горячки у юного Уилкокса. Люди науки оказались немного более подверженными странному воздействию, хотя всего лишь четыре описания содержали мимолетные видения удивительных ландшафтов и в одном случае упоминалось нечто аномальное, вызвавшее страх.
Непосредственное отношение к теме исследования имели только сновидения поэтов и художников, и полагаю, что если бы была возможность сопоставить их видения между собой, это породило бы самую настоящую панику. При отсутствии самих писем от опрошенных я отчасти подозревал, что имели место наводящие вопросы или даже что данные подтасованы под желаемый результат. Вот почему мне все еще казалось, что Уилкокс, каким-то образом прознавший о материалах, с которыми мой дед имел дело ранее, оказал некоторое внушение на престарелого ученого. Отзывы людей, причастных к искусству, давали вызывающую беспокойство картину. В период с 28 февраля по 2 апреля многие из них видели во сне нечто довольно странное, причем интенсивность сновидений была заметно выше в период лихорадки скульптора. Более четверти сообщений содержали описание сцен и подобия звуков, похожих на рассказанные Уилкоксом; некоторые из опрошенных признавались, что испытали сильнейший страх пред гигантским нечто, появлявшимся под конец сна. Один из случаев, описанный особенно подробно, закончился весьма печально. Широко известный архитектор, имевший пристрастие к теософии и оккультным наукам, в день начала болезни Уилкокса впал в буйное помешательство и почти непрерывно кричал, умоляя спасти его от какого-то адского существа, пока не скончался несколько месяцев спустя. Если бы мой дед в своих записях вместо номеров указывал подлинные имена своих корреспондентов, я смог бы предпринять собственные попытки расследования, но, за исключением отдельных случаев, такой возможности не было. Вся эта группа опрошенных дала вполне внятные описания. Мне было бы интересно узнать об отношении всех них к исследованиям профессора. Мне кажется, хорошо, что они так и не получили каких-либо разъяснений.
В газетных вырезках, как я установил, описывались различные случаи необъяснимой паники, психозов, проявлений различных маний и странного поведения, происшедшие за указанный выше период времени. Профессор Анджелл, должно быть, нанял какое-то пресс-бюро для выполнения этой работы, поскольку количество вырезок было огромным, а места публикаций разбросаны по всему земному шару. Здесь было сообщение о ночном самоубийстве в Лондоне, когда одинокий человек с диким криком выбросился во сне из окна. Было бессвязное письмо к издателю одной газеты в Южной Африке, в котором какой-то безумец предсказывал зловещие события на основании видений, явившихся ему во сне. Заметка из Калифорнии содержала историю о поселке теософов, обитатели которого, нарядившись в белые одежды, приготовились все вместе встречать некое «славное завершение», которое так и не случилось, тогда как публикация в индийской прессе сдержанно сообщала о серьезных волнениях среди местного населения в конце марта. Участились оргии колдунов-вуду на Гаити; корреспонденты из Африки также сообщали о каких-то волнениях в народе. Американские официальные представители на Филиппинах отмечали тревожное поведение некоторых племен, а в Нью-Йорке группу полицейских в ночь с 22 на 23 марта окружила возбужденная толпа впавших в истерику левантийцев. Запад Ирландии тоже полнился дикими слухами и пересудами, а живописец Ардуа Бооно, известный склонностью к фантастическим сюжетам, на весеннем салоне в Париже в 1926 году выставил исполненное богохульства полотно под названием «Ландшафт сновидений». Сообщения о беспорядках в психиатрических больницах были столь многочисленны, что лишь чудо могло помешать медицинскому сообществу обратить внимание на это явление и сделать выводы о вмешательстве мистических сил. Этот зловещий подбор вырезок говорил об очень многом, и сейчас я с трудом представляю, как бесчувственный рационализм мог побудить меня отложить все это в сторону. Но тогда я нисколько не сомневался, что юный Уилкокс узнал откуда-то о более ранней истории, упомянутой профессором.
Глава 2
История инспектора Леграсса
Вторую половину весьма объемистой рукописи составляли материалы, относящиеся к более раннему времени, придававшие видениям скульптора и его барельефу такую значимость в глазах моего деда. Профессору Анджеллу ранее уже доводилось видеть демонические очертания безымянного чудовища, ломать голову над загадочными надписями и слышать зловещие звуки, записать которые можно было только как «Ктулху»; и все это было так интригующе и ужасающе взаимосвязано, что жадный интерес профессора к Уилкоксу и поиск дополнительных подробностей становились вполне понятны.
Первое его знакомство со всем этим связано с событиями, происшедшими в 1908 году, то есть семнадцатью годами ранее, когда Американское археологическое общество проводило в Сент-Луисе свою ежегодную конференцию. Профессор Анджелл в силу своего авторитета и признанных научных заслуг играл заметную роль во всех существенных обсуждениях и был одним из первых, к кому обращались с вопросами и проблемами, требующими участия эксперта.
Главный из всех неспециалистов, вскоре оказавшийся в центре внимания участников конференции, заурядной внешности мужчина средних лет, прибыл из Нового Орлеана ради того, чтобы получить некую особую информацию, которую не смог узнать из местных источников. Его звали Джон Рэймон Леграсс, и по профессии он был полицейским инспектором. Он привез с собой и предмет, ставший причиной его визита, — каменную фигурку гротескного и омерзительного вида, судя по всему, весьма древнюю, происхождение которой было ему неведомо.
Не следует думать, что инспектор Леграсс вдруг заинтересовался археологией. Его желание получить консультацию объяснялось чисто профессиональными соображениями. Эта статуэтка, идол, фетиш или чем оно там было, оказалась конфискована в лесу в болотистой местности южнее Нового Орлеана во время облавы на предположительно вудуистское сборище; обряды, которое оно проводило, были столь необычны и мерзки, что полиция не могла отнестись к ним иначе, как к какому-то темному культу, прежде им неизвестному, но куда более дьявольскому, чем самые мрачные разновидности вуду. О его происхождении, помимо отрывочных и малоправдоподобных сведений, полученных от задержанных участников церемонии, ничего узнать не удалось; поэтому полицию интересовали любые сведения, любые комментарии специалистов, которые помогли бы понять значение устрашающего символа и благодаря этому добраться до первоисточника культа.
Инспектор Леграсс явно не ожидал, что его сообщение вызовет такой интерес. При виде привезенной им вещицы все собравшиеся ученые мужи пришли в состояние сильнейшего возбуждения, они столпились вокруг гостя, разглядывая маленькую фигурку, крайняя необычность которой, наряду с явной принадлежностью к глубокой древности, намекала на возможность заглянуть в неизвестные прежде и потому захватывающе интересные события прошлого. Опознать культурную принадлежность этой жутковатой скульптуры не удалось, но не вызывало сомнений, что тусклая зеленоватая поверхность неизвестного камня несет отпечаток многих веков и даже тысячелетий.
Фигурка, медленно переходившая из рук в руки для тщательного осмотра, была размером в семь-восемь дюймов и выполнена довольно искусно. Она представляла монстра отчасти антропоидных очертаний с головой как у осьминога, с лицом и сплетением щупалец снизу; тело было чешуйчатым, на передних и задних лапах гигантские когти, а за спиной — длинные узкие крылья. Эта тварь, казавшаяся исполненной губительного противоестественного зла, имела полноватое тело и сидела на корточках на прямоугольной подставке или пьедестале с надписью непонятными значками. Кончики крыльев касались заднего края пьедестала, седалище располагалось по ее центру, тогда как длинные кривые когти согнутых задних лап вцепились в передний край подставки и на четверть длины уходили вниз. Необычная голова была наклонена вперед, так, что кончики лицевых щупалец касались с внешней стороны огромных передних когтей, которые обхватывали выступающие колени. Существо это каким-то странным образом казалось живым, а поскольку происхождение его оставалось совершенно неведомым, воспринималось особенно страшным. Невероятно огромный возраст этого предмета был очевиден; в то же время не прослеживалось никакой связи ни с каким известным стилем искусства времен начала цивилизации — впрочем, как и любого другого периода.
Даже материал фигурки представлял собой загадку, ибо зеленовато-черный камень с золотыми и радужными крапинками и прожилками не походил ни на что известное геологии или минералогии. Письмена на пьедестале тоже вызывали у всех недоумение: несмотря на то, что на конференции присутствовали не менее половины мировых экспертов в области лингвистики, никто из них не смог соотнести их с известными формами. Эта надпись странными значками, подобно материалу и изображению, относилась к чему-то страшно далекому от всего известного человеку; письмена казались напоминанием о древних и недоступных познанию циклах жизни, о которых у нас не было ни малейшего представления.
И все же, хотя присутствующие ученые разводили руками и безнадежно качали головами, смущенные неспособностью решить задачу, поставленную инспектором, нашелся среди них человек, увидевший смутное сходство этой фигурки монстра и надписи под ней с тем, с чем он когда-то сталкивался, о чем он и поведал с некоторой неуверенностью. Это был ныне покойный профессор Уильям Чэннинг Уэбб, профессор антропологии Принстонского университета, безоговорочно признаваемый всеми выдающимся исследователем.
За сорок восемь лет до того профессор Уэбб принимал участие в экспедиции по Исландии и Гренландии в поисках древних рунических надписей, раскрыть секрет которых ему так и не удалось; в глубине западного побережья Гренландии они встретились с необычным племенем вырождающихся эскимосов, религия которого, своеобразная форма поклонения дьяволу, шокировала своей чрезвычайной кровожадностью и отвратительными ритуалами. Об этой религии все прочие эскимосы знали очень мало и упоминали всегда с содроганием; они говорили, что эта религия из невообразимо древних эпох, со времен задолго до сотворения мира. Помимо отвратительных ритуалов и человеческих жертвоприношений были там и довольно странные традиционные обряды, посвященные верховному дьяволу, или «торнасуку», которые профессор Уэбб записал фонетически латинскими буквами со слов старого «ангекока», или жреца-колдуна. Но для нас сейчас наиболее важен тот фетиш, который хранили служители культа и вокруг которого танцевали верующие, когда над ледяными скалами поднималась утренняя заря. Фетиш, по словам профессора, представлял собой очень грубо выполненный каменный барельеф, содержащий некое жуткое изображение и загадочные письмена. Насколько он смог припомнить, во всех существенных чертах то изображение походило на дьявольскую вещицу, лежащую сейчас перед собравшимися.
Это сообщение, воспринятое присутствующими с изумлением и тревогой, крайне взволновало инспектора Леграсса; у него сразу же нашлись для профессора дополнительные вопросы. Поскольку он обратил на это внимание и тщательно записал заклинания, которые выкрикивали фанатики, арестованные его людьми на болоте, то просил профессора Уэбба как можно точнее воспроизвести звучание того, что выкрикивали поклонявшиеся дьяволу эскимосы. Затем последовало скрупулезное подробное сравнение, после которого наступил момент подлинного и всеобщего изумления и благоговейной тишины, когда детектив и ученый установили полную идентичность фраз, используемых двумя сатанинскими культами, разделенными гигантским расстоянием. И эскимосские колдуны, и жрецы с болот Луизианы пели, обращаясь к похожим внешне идолам, примерно следующее (разделение на слова предположительное, на основании пауз в пении): «Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’лайх вгах’нагл фхтагн».
У Леграсса было преимущество перед профессором Уэббом: некоторые из захваченных полицией людей разъяснили смысл этих непонятных слов. Означало это вроде бы примерно следующее:
«В своей обители в Р’лайхе мертвый Ктулху спит в ожидании своего часа».
Только после этого инспектор Леграсс, подчиняясь настойчивым требованиям, подробно рассказал историю, связанную с болотными служителями этого культа; историю, которой мой дед придавал огромное значение. Она была воплощением мечты исследователя мифологии или теософа и демонстрировала удивительную распространенность космических фантазий даже среди таких примитивных каст и парий, от которых этого менее всего можно было ожидать.
Первого ноября 1907 года в полицию Нового Орлеана поступило полное отчаяния заявление из района болот и лагун к югу от города. Тамошние поселенцы, по большей части грубые, но дружелюбные потомки племени Лафитта, были в ужасе от непонятных явлений, происходивших по ночам. Это было несомненно колдовство, но колдовство столь кошмарное, какого они никогда не знали; несколько женщин и детей исчезли с той поры, как из глубин черного леса, куда не решался заходить ни один из местных жителей, начали доноситься зловещие звуки тамтама. Оттуда доносятся безумные крики, вопли истязаемых и леденящее душу пение, на небе видны отблески дьявольской пляски огней; всего этого, как подытожил напуганный посыльный, люди уже не могут выносить.
Итак, двадцать полицейских, разместившихся на двух повозках и автомобиле, отправились к месту происшествия, захватив с собой в качестве проводника дрожащего от испуга местного жителя. Когда пригодная для проезда дорога закончилась, все вылезли из повозок и машины и несколько миль в полном молчании шли через мрачный кипарисовый лес, под сень которого никогда не проникало солнце. Вокруг были ужасного вида корни и свисающие с деревьев петли испанского лишайника, а попадавшиеся время от времени груды мокрых камней или руины сгнивших построек усиливали общее впечатление. Наконец показалась жалкая кучка лачуг, и навстречу полиции выскочили доведенные до отчаяния местные жители. Издали доносились приглушенные звуки тамтамов, а порывы ветра иногда приносили леденящие душу крики. Казалось, будто красноватый огонь просачивается сквозь бледный подлесок. Запуганные поселенцы снова забились по домам, наотрез отказываясь хоть на один шаг приблизиться к месту, где проводились нечестивые обряды, и потому инспектор Леграсс со своими девятнадцатью полицейскими двинулся через мрачный и полный ужасов лес без проводника.
Вся та местность, где сейчас находились полицейские, издавна имела дурную репутацию, и белые люди обычно избегали появляться здесь. Ходили легенды о таинственном озере, которое не видел ни один смертный и где обитает гигантский бесформенный белый полип со светящимися глазами, а поселенцы шепотом рассказали, что в этом лесу в полночь вылетают из земляных нор дьяволы с крыльями летучих мышей и водят жуткие хороводы. Они уверяли, что все это происходило еще до д’Ибервиллей, до Ла Салле, до того, как здесь появились индейцы, до того, как появились люди, даже до того, как в этом лесу появились звери и птицы. Это был самый истинный кошмар, и увидеть его означало умереть. Но видение об этом приходило во сне, и потому люди старались держаться отсюда подальше. Нынешний колдовской шабаш происходил в месте, вызывающем страх, и поселенцев, по всей видимости, само по себе место сборища пугало сильнее, чем доносящиеся оттуда вопли.
Лишь поэт или безумец могли бы оценить по достоинству те звуки, что доносились до людей Леграсса, пробиравшихся через болотистую чащу в сторону красного свечения и глухих ударов тамтама. Существуют звуки, присущие лишь животным, и звуки, характерные для человека; и становится жутко, если их источники вдруг меняются местами. Участники разнузданной оргии были в состоянии звериной ярости и взвинчивали себя до демонических высот завываниями и пронзительными криками, прорывавшимися сквозь лесную чащу и расползавшимися по ней подобно смрадным испарениям из бездны ада. Время от времени завывания прекращались, и тогда слаженный хор грубых голосов распевал страшный ритуальный призыв:
«Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’лайх вгах’нагл фхтагн».
Наконец полицейские достигли такого места, где деревья росли пореже, и тогда им открылось жуткое зрелище. Четверых из них затошнило, один упал в обморок, двое закричали в испуге, но безумная какофония оргии, к счастью, заглушила их крик. Леграсс плеснул болотной водой в лицо потерявшего сознание, и вскоре все полицейские стояли рядом, почти загипнотизированные ужасом.
Среди болота выступал травянистый островок площадью примерно в акр, лишенный деревьев и вполне сухой. На нем прыгала и кривлялась толпа настолько уродливых представителей человеческой породы, каких могли представить и изобразить разве что художники более причудливой фантазии, чем Сайм или Энгарола. Совершенно без одежды, это отребье топталось, выло и корчилось вокруг чудовищного костра кольцеобразной формы; в центре костра, проглядывая время от времени в разрывах огненной завесы, располагался большой гранитный монолит высотой примерно в восемь футов, на вершине которого, несоразмерно миниатюрная, покоилась гадкого вида резная фигурка. С десяти виселиц, расставленных по кругу через равные промежутки, свисали причудливо выгнутые тела несчастных пропавших поселенцев. Внутри же этого круга, между кольцом тел и кольцом огня, в нескончаемой вакханалии с воплями и подпрыгивая бесновалась толпа дикарей.
Возможно, это было лишь игрой воображения, но одному из полицейских, впечатлительному испанцу, послышалось, что из глубины леса, места легенд и древних страхов, доносятся звуки, как бы вторящие ритуальному пению. С этим человеком, Джозефом Д. Галвезом, я впоследствии встречался и беседовал, и он действительно оказался излишне впечатлительным. Испанец уверял, что заметил за дальними деревьями едва заметное биение огромных крыльев, а также отблеск сверкающих глаз и очертания громадной белой массы — но, думаю, он просто слишком много наслушался про местные суеверия.
Полицейские шокированно стояли всего несколько мгновений. Затем чувство долга возобладало, и хотя в толпе было не менее сотни беснующихся ублюдков, полицейские, полагаясь на силу своего оружия, решительно двинулись вперед. В последующие пять минут шум и хаос сделались совершенно неописуемыми. Дубинки полицейских наносили удар за ударом, грохотали револьверные выстрелы, и кое-кому удалось сбежать, но в итоге Леграсс насчитал сорок семь угрюмых пленников, которым приказал во что-нибудь одеться и выстроиться в ряд между двумя группами полицейских. Пятеро участников колдовского шабаша оказались убиты, а двоих тяжело раненных понесли на импровизированных носилках их плененные товарищи. Фигурку с монолита, конечно же, сняли, и Леграсс унес ее с собой.
Попав в результате тяжелого и изнурительного путешествия в полицейское управление, все пленники были тщательно допрошены и обследованы; все они оказались людьми смешанной крови, низкого умственного развития и слегка помешанные. Большинство из них были матросами, а горстка негров и мулатов, в основном из Вест-Индии или с португальского Брава из островов Зеленого Мыса, привносила оттенок колдовства в эту разноплеменную секту. Но еще до того, как были заданы все вопросы, стало понятно, что полиция столкнулась с чем-то значительно более древним и глубоким, чем негритянское поклонение фетишу. Какими бы деградировавшими и невежественными эти люди ни были, они с удивительной согласованностью придерживались центральной идеи своего отвратительного верования.
По их словам, они поклонялись Великим Старцам, которые жили за многие века до того, как на земле появились первые люди, спустившись с небес в наш совсем молодой мир. Эти Старцы теперь ушли в глубь земли и под дно моря; однако их мертвые тела поведали во снах свои секреты первому человеку, и тот создал культ, который никогда не умрет. Именно тот самый культ они и поддерживают, и пленники уверяли, что он существовал всегда и всегда будет существовать, укрываясь в безлюдных пустошах и других темных местах по всему миру, до тех пор пока великий жрец Ктулху не восстанет в своей темной обители в великом городе Р’лайхе под толщей вод и не сделается владыкой мира. Однажды, когда звезды окажутся в правильной позиции, он призовет их, и этот тайный культ всегда будет готов помочь ему освободиться.
А больше пока сказать ничего нельзя. Есть секрет, который невозможно выпытать никакими истязаниями. Никогда человек не был единственным носителем сознания на Земле, ибо из тьмы приходят образы, которые достигают лишь немногих из верующих. Но это не Великие Старцы. Ни один человек никогда не видел Старцев. На резном идоле изображен великий Ктулху, но никто не может сказать, как выглядят остальные. Никто сейчас не способен прочитать древние письмена, но слова передаются из уст в уста. Заклинание, которое они поют, не является великим секретом такого рода, что передаются только шепотом и никогда не произносятся вслух. Заклинание, которое они распевают, означает всего лишь: «В своей обители в Р’лайхе мертвый Ктулху спит в ожидании своего часа».
Лишь двое из захваченных пленников оказались достаточно вменяемыми, чтобы можно было провести суд и повесить их, всех же прочих распределили по разным психиатрическим клиникам. Все они отрицали участие в ритуальных убийствах и уверяли, что эти жертвоприношения совершали Чернокрылые, приходившие к ним из своих убежищ, расположенных с незапамятных времен в глуши леса. Но об этих таинственных союзниках больше ничего связного узнать не удалось. Все остальное, что смогла узнать полиция, в основном было получено от весьма престарелого метиса по имени Кастро, который клялся, что заплывал на кораблях в довольно странные порты и беседовал с бессмертными вождями этого культа в горах Китая.
Престарелый Кастро припомнил отрывки из довольно мерзких легенд, на фоне которых блекнут все рассуждения теософов, а человек и весь наш мир представляются как нечто недавнее и временное. Долгие эпохи на Земле господствовали иные Существа, и они создали великие города. Как рассказал ему бессмертный китаец, останки этих Существ еще присутствуют в виде циклопических камней на островах Тихого океана. Все они умерли за много эпох до появления человека, но их все еще можно оживить, когда звезды вновь займут благоприятное положение в цикле вечности. Ведь Они сами пришли со звезд и принесли с собой Свои изображения.
Великие Старцы, продолжал Кастро, состоят не совсем из плоти и крови. У них есть форма — ибо разве фигурка не доказывает это? — но воплощена их форма не в материи. Когда звезды займут благоприятное положение, Они смогут перемещаться между мирами, но пока звезды расположены плохо, Они не могут быть живыми. Но хотя Они больше не живы, Они никогда на самом деле не умирали. Все Они лежат в каменных обителях в Их огромном городе Р’лайхе, защищенные заклятиями могущественного Ктулху, в ожидании великого возрождения, когда звезды и Земля будут готовы к их возвращению. Но и в подходящий момент для освобождения Их тел требуется содействие какой-нибудь внешней силы. Заклятия, сделавшие Их неуязвимыми, одновременно не позволяют Им сделать первый шаг, поэтому теперь они могут только лежать без сна в темноте и размышлять, в то время как бесчисленные миллионы лет проносятся мимо. Им известно все, что происходит во Вселенной, ибо форма их общения — передача мыслей. Поэтому даже сейчас Они разговаривают друг с другом в своих могилах. Когда, после безвременного хаоса, на Земле появились первые люди, Великие Старцы обращались к самым чутким из них посредством того, что насылали сновидения; ибо только таким способом Их речь могла достичь сознания примитивных животных.
Благодаря этому, прошептал Кастро, эти первые люди создали культ, проводящий обряды вокруг маленьких идолов, которых показали им Великие Старцы; идолов, принесенных с темных звезд в те далекие века, память о которых уже потускнела. Культ этот никогда не исчезнет, он будет сохраняться до тех пор, пока звезды вновь не займут удачное положение, и тогда тайные жрецы помогут великому Ктулху восстать из могилы, чтобы оживить Его подданных и восстановить Его власть на Земле. Распознать это время будет легко, ибо тогда все люди станут как Великие Старцы — дикими и свободными, по ту сторону добра и зла, отбросившими в сторону законы и мораль; все люди будут кричать, убивать и веселиться. Затем освобожденные Старцы раскроют им новые способы, как кричать, убивать и веселиться, наслаждаясь собой, и вся Земля запылает во всеуничтожающем огне свободы и экстаза. А до той поры культ, при помощи своих ритуалов, должен сохранять в памяти эти древние способы и провозглашать пророчества об их возвращении.
В прежние времена избранные люди могли во сне общаться с погребенными Старцами, но потом кое-что случилось. Великий каменный город Р’лайх, с его монолитами и гробницами, опустился под волны; и глубокие воды, пропитанные единой изначальной тайной, сквозь которую не проникает даже мысль, оборвали это призрачное общение. Но память не умирает, и верховные жрецы говорят, что город поднимется вновь, когда звезды займут благоприятное положение. Тогда восстанут погребенные черные духи Земли, темные и мрачные, знающие все слухи, давно погребенные под дном забытых морей. Но об этом престарелый Кастро не осмелится более говорить. Он резко оборвал свой рассказ, и затем не удалось ни убедить, ни заставить его сказать еще хоть что-то. Вызывает также недоумение, что он категорически отказался сказать что-либо о размерах Старцев. Сердце этой религии, по его словам, находится посреди непроходимых пустынь Аравии, где дремлет в неприкосновенности скрытый Ирем, Город Колонн. Этот культ не имеет никакого отношения к европейскому культу ведьм и практически неизвестен никому, помимо его приверженцев. Ни в одной из книг нет даже намека на него, хотя, как рассказывал бессмертный китаец, в «Некрономиконе» безумного араба Абдулы Альхазреда есть строки с двойным смыслом, которые вступивший на путь культа способен истолковать правильно, особенно вот это многократно вызывавшее дискуссии двустишие:
Может не только мертвый лежать без движения вечно, В странную же эпоху может и смерть умереть.Леграсс, под глубоким впечатлением от всего этого, безуспешно пытался выведать, что известно об этом культе исторической науке. Кастро, похоже, был прав, утверждая, что он остался никому не известным. Специалисты из университета в Тулэйне, куда обратился Леграсс, не смогли сказать что-либо ни о самом культе, ни о фигурке идола, которую он им показал, и теперь инспектор обратился к ведущим специалистам в данной области, но не услышал ничего более существенного, чем гренландская история профессора Уэбба.
Лихорадочный интерес, вызванный у присутствовавших специалистов рассказом Леграсса и подкрепленный продемонстрированной им фигуркой, отразился лишь в последующей корреспонденции этих специалистов и оказался лишь вскользь упомянут в официальном отчете археологического общества. Осторожность — первейшая забота ученых, часто сталкивающихся с шарлатанством и попытками мистификации. Фигурку идола Леграсс на какое-то время передал профессору Уэббу, но после смерти последнего получил ее обратно, и она хранилась у него, поэтому увидеть загадочную вещицу я смог лишь совсем недавно. Она действительно довольно жуткого вида и несомненно очень похожа на изготовленную во сне юным Уилкоксом.
Мне нисколько не удивительно, что мой дед оказался весьма взволнован рассказом юного скульптора, ибо какие же еще мысли могли у него возникнуть после истории Леграсса о загадочном культе, когда перед ним оказался невероятно восприимчивый молодой человек, который не только увидел во сне фигурку и точное изображение надписи странными значками, как на обнаруженных в луизианских болотах и гренландских льдах, но и узнал во сне по крайней мере три слова из тех, что присутствовали в заклинаниях эскимосских сатанистов и луизианского отребья? Профессор Анджелл тут же начал свое собственное расследование, что было вполне естественно, хотя, сказать откровенно, я лично подозревал юного Уилкокса в том, что тот, каким-то образом прознав об этом культе, выдумал серию так называемых «сновидений», чтобы создать такое продолжение этой истории, которое заинтересовало бы моего деда. Записи изложения сновидений и вырезки из газет, собранные профессором, были, конечно же, серьезным подкреплением его догадок; однако мой рационализм и экстравагантность всего этого дела привели меня к заключению, которое я тогда считал наиболее благоразумным. Так что, тщательно изучив рукопись еще раз и соотнеся теософические и антропологические выписки с рассказом Леграсса, я решил совершить путешествие в Провиденс, чтобы высказать справедливые упреки скульптору, позволившему себе столь нагло обманывать серьезного пожилого ученого.
Уилкокс все еще проживал один в апартаментах во Флер-де-Лиз-Билдинг на Томас-стрит, в здании, представлявшем собой уродливую викторианскую имитацию бретонской архитектуры семнадцатого века, оштукатуренный фасад которого громоздился среди очаровательных домиков в колониальном стиле на древнем холме прямо возле самой изумительной георгианской церкви Америки. Я застал скульптора за работой и, осмотрев хаотично расставленные по комнате произведения, понял, что передо мной несомненно выдающийся и подлинный талант. Я практически уверился, что когда-нибудь услышу о нем как об одном из самых известных декадентов, ибо он сумел воплотить в глине и сможет когда-нибудь отразить в мраморе те ночные кошмары и фантазии, которые Артур Мейчен описал в прозе, а Кларк Эштон Смит оживил в стихах и живописных полотнах.
Смуглый, хрупкого сложения и отчасти неряшливого вида, он вяло откликнулся на мой стук в дверь и, не поднимаясь с места, поинтересовался, что мне нужно. Когда я назвал себя, он проявил некоторый интерес; видимо, в свое время мой дед вызвал в нем любопытство, изучая его странные сновидения, хотя так и не раскрыл перед ним истинных причин своего внимания. Я тоже не просветил его на этот счет, но все же постарался разговорить.
Спустя очень короткое время я убедился в его несомненной искренности, ибо он говорил о своих снах в такой манере, которая рассеяла мои подозрения. Эти сновидения и их отпечаток на бессознательном повлияли сильнейшим образом на его творчество; он показал мне ужасного вида статую, заставившую меня вздрогнуть от сильнейшего впечатления заключенной в ней мощи темной силы. Он не припомнил никаких иных впечатлений, сподвигших его на это творение, помимо того самого сделанного во сне барельефа, причем очертания этой фигуры сами собой возникали под его руками. Это, несомненно, было очертаниями одной из гигантских теней, привидевшихся ему во время лихорадки. Довольно скоро я убедился, что он понятия не имеет о тайном культе, хотя настойчивые расспросы моего деда вызвали у него определенные подозрения; и тогда я снова склонился к мысли, что кошмарные образы пришли к нему каким-то образом извне.
О своих снах он рассказывал в необычной поэтической манере, благодаря чему я почти воочию узрел ужасающее видение сырого циклопического города из скользкого зеленоватого камня — сама геометрия в котором, как с недоумением заметил скульптор, была совершенно неправильной — и пугающе явственно различил беспрерывный, отчасти мысленный зов из-под земли: «Ктулху фхтагн! Ктулху фхтагн!»
Эти слова составляли часть жуткого призыва, обращенного к мертвому Ктулху, лежащему под каменными сводами в Р’лайхе, и я ощутил глубокое волнение несмотря на свой рационализм. Я почти не сомневался, что Уилкокс все-таки слышал раньше об этом культе, возможно случайно, мимоходом, и вскоре позабыл, а эти сведения растворились в массе других, не менее жутких, прочитанных в книгах или бывших плодом фантазии. Позднее, из-за его острой впечатлительности, сведения о культе нашли воплощение в снах, в барельефе и в этой жуткой статуе, которую я сегодня увидел; таким образом, мистификация могла быть непреднамеренной. Этот молодой человек относился к людям того типа, склонность к аффектации и дурные манеры которых вызывали у меня раздражение; однако это ничуть не мешало отдать должное его дарованиям и искренности. Расставался я с ним вполне дружески и пожелал ему всяческих успехов, которых его талант несомненно заслуживал.
Суть этого таинственного культа продолжала интересовать меня, и время от времени я встречался с коллегами деда, чтобы узнать их точку зрения на его происхождение и связь с другими культами. Я побывал в Новом Орлеане, встречался с Леграссом и другими участниками того давнего полицейского рейда, увидел устрашающий каменный символ и даже смог опросить оставшихся в живых пленников-полукровок. Престарелый Кастро, к сожалению, умер за несколько лет до того. Полученное из первых рук только подтвердило уже известное мне из рукописи деда, но все же взбудоражило меня; ибо теперь я не сомневался, что напал на след реально существующей, исключительно тайной и очень древней религии, открытие которой научному миру сделает меня известным антропологом. Мои воззрения тогда базировались на абсолютном материализме (крайне сожалею, что сейчас это уже не так), и меня крайне раздражала непозволительная алогичность совпадения по времени сновидений и событий, отраженных в собрании газетных вырезок покойного профессора Анджелла.
Но уже тогда я начал подозревать (а сегодня могу утверждать, что знаю это), что смерть моего деда была вовсе не естественной. Он упал на узкой улочке, идущей вверх по холму, на которой полно всякого заморского сброда, после того, как его толкнул моряк-негр. Я не забыл, что среди поклонников этого культа в Луизиане было много людей смешанной крови и моряков, и нисколько не удивился бы, если бы они применяли отравленные иглы и другие тайные способы умерщвления, столь же бесчеловечные и древние, как их тайные ритуалы. Да, и правда, Леграсса и его людей никто не тронул, однако в Норвегии моряк, оказавшийся свидетелем подобной оргии, закончил свой путь загадочной смертью. Разве не могли слухи о тех исследованиях, которые совершал мой дед после изучения снов скульптора, достичь чьих-то ушей? Думаю, профессор Анджелл умер потому, что слишком много знал или, во всяком случае, мог узнать слишком много. Суждено ли мне покинуть мир так же внезапно, как и он, покажет будущее, ибо уже сейчас я знаю слишком много…
Глава 3
Морское безумие
Если бы небеса откликнулись на мои мольбы, то лучшим благодеянием стало бы полное устранение последствий случайного стечения обстоятельств, побудившего меня приглядеться к постеленной на полке газете. Ничто иное не смогло бы заставить меня прочитать статью из этого старого номера австралийского еженедельника «Сиднейский бюллетень» от 18 апреля 1925 года, ускользнувшую от внимания тех, кто занимались сбором газетных и журнальных вырезок для моего деда.
К тому времени я почти бросил попытки исследования того, что профессор Анджелл прозвал «культом Ктулху», и находился в гостях у одного своего друга-ученого из Патерсона, штат Нью-Джерси, куратора местного музея и довольно известного специалиста по минералогии. Рассматривая как-то не участвующие в экспозиции образцы камней в запаснике музея, я обратил внимание на странное изображение на старой газете, постеленной на полку под камнями. Это как раз и был упомянутый мною «Сиднейский бюллетень», а на полутоновой иллюстрации оказалось изображение мерзкой каменной фигурки, почти точно такой, как обнаруженная Леграссом на болотах.
С жадностью вытащив газету из-под драгоценных экспонатов коллекции, я внимательно прочитал статью и был разочарован разве что ее малым объемом. Содержание же, однако, оказалось необычайно важным для моих заглохших уже было поисков, и потому я аккуратно вырезал эту статью. В ней сообщалось следующее:
НАЙДЕНО ТАИНСТВЕННОЕ БРОШЕННОЕ СУДНО
«Бдительный» прибывает с брошенной новозеландской яхтой на буксире. На борту обнаружены один живой и один мертвый. История об отчаянной битве и гибели на море. Спасенный моряк отказывается сообщить подробности странных событий. У него обнаружен причудливый идол. Предстоит расследование.
Грузовое судно «Бдительный», принадлежащее компании «Моррисон», отправившееся из Вальпараисо, подошло сегодня утром к своему причалу в Дарлинг-Харборе, имея на буксире имеющую повреждения и неуправляемую, но прекрасно вооруженную яхту на паровом ходу «Тревожная» из Данедина, Новая Зеландия, найденную 12 апреля в 34 градусах 21 минуте южной широты и 152 градусах 17 минутах западной долготы с одним живым и одним мертвым человеком на борту.
«Бдительный» покинул Вальпараисо 25 марта, а 2 апреля был вынужден значительно отклонился к югу от своего курса из-за необыкновенно сильного шторма и гигантских волн. 12 апреля было замечено брошенное судно; яхта на первый взгляд казалась совершенно пустой, но затем на ней углядели живого человека в полубессознательном состоянии, а также покойника, умершего явно не менее недели назад.
Оставшийся в живых сжимал в руках страшного вида каменного идола неизвестного происхождения, высотой примерно в фут, о назначении которого специалисты Сиднейского университета, Королевского общества, а также музея на Колледж-стрит высказали полное недоумение. Сам выживший моряк заявил, что обнаружил эту вещь в салоне яхты на небольшом, совершенно стандартном резном алтаре.
Этот человек, когда пришел в чувство, рассказал чрезвычайно странную историю о пиратстве и кровавой резне. Он назвался Густавом Йохансеном, хорошо образованным норвежцем, вторым помощником капитана на двухмачтовой шхуне «Эмма» из Окленда, которая отплыла 20 февраля в Каллао, имея на борту команду из одиннадцати человек.
По его словам, «Эмма» задержалась в пути и отклонилась к югу от своего курса из-за сильного шторма 1 марта, а 22 марта в 49 градусах и 51 минуте южной широты и 128 градусах и 34 минутах западной долготы повстречалась с «Тревожной», на которой оказалась странная и зловещего вида команда из канаков и людей смешанной расы. Получив ультимативное требование повернуть назад, капитан Коллинз отказался выполнить его; тогда странный экипаж без всякого предупреждения открыл яростный огонь по шхуне из медных пушек, которыми была вооружена яхта.
Команда «Эммы», как сказал выживший моряк, приняла вызов и, хотя шхуна уже начала тонуть от пробоин ниже ватерлинии, смогла подвести свое судно бортом к борту яхты, перебраться на нее и вступить в схватку на ее палубе с диким экипажем, в результате которой перебили всех их — хотя те обладали численным перевесом, их яростное и отчаянное сопротивление было организовано крайне плохо.
Из экипажа «Эммы» оказались убиты трое, среди них — капитан Коллинз и первый помощник Грин; оставшиеся восемь под командой второго помощника Йохансена разобрались с управлением захваченной яхтой и направились своим прежним курсом, движимые любопытством, зачем экипаж яхты требовал от них его изменить.
На следующий день они обнаружили маленький остров и высадились на него, хотя о его существовании в этой части океана никто никогда не слышал; шестеро каким-то образом погибли на этом острове, причем в этой части своего рассказа Йохансен стал крайне скупым на слова и сообщил лишь, что они упали в глубокие расщелины между камнями.
Судя по всему, спустя какое-то время он и его оставшийся в живых компаньон сели на яхту и смогли справиться с управлением ею, но 2 апреля попали в шторм.
Случившееся с этого момента и до часа своего спасения 12 апреля Йохансен почти не помнит и не может указать, когда умер его напарник, Уильям Брайден. Смерть последнего, как показал осмотр, не была насильственной и произошла, судя по всему, в результате перевозбуждения или перегрева.
Из Данедина по телеграфу сообщили, что «Тревожная» была хорошо известным торговым судном, курсировавшим между островами Тихого океана, и пользовалась по всему побережью дурной репутацией. Ею владела странная группа представителей смешанных рас, достаточно необычная, частые сборища которой и ночные походы в лесную чащу вызывали немалое любопытство; она в крайней спешке вышла в море сразу же после шторма и подземных толчков 1 марта.
Наш оклендский корреспондент сообщает, что «Эмма» и ее экипаж имели прекраснейшую репутацию, а Йохансена характеризует как трезвомыслящего и достойного человека.
Адмиралтейство распорядилось о расследовании этого происшествия, которое начнется завтра; в ходе него попытаются получить от Йохансена больше информации, чем есть в настоящее время.
Вот и вся заметка, которую сопровождал фотоснимок демонического изображения; но какую цепь догадок она у меня породила! Ведь это же были бесценные новые сведения о культе Ктулху, подтверждающие, что он имеет отношение к морю, а не только к земле. С чего вдруг странный экипаж с ужасным идолом приказал «Эмме» повернуть назад, повстречавшись с ней на своем пути? Что это был за неизвестный остров, на котором умерли шестеро из экипажа «Эммы» и о котором Йохансен рассказал так мало? Что открылось в результате расследования, предпринятого адмиралтейством, и что знали об этом губительном культе в Данедине? А самое удивительное, что имелась какая-то глубокая и сверхъестественная связь между датами этих событий и поворотами в других событиях, тщательно описанных моим дедом.
1 марта — у нас это было 28 февраля из-за разницы во времени между часовыми поясами — имели место землетрясение и шторм. Из Данедина «Тревожная» со своим неприятным экипажем отбыла весьма поспешно, как будто по чьему-то настоятельному требованию, и в тот же момент на другом конце земли поэты и художники в своих снах начали видеть странный, пропитанный сыростью циклопический город, а юный скульптор, не просыпаясь, вылепил из глины фигурку наводящего ужас Ктулху. 23 марта экипаж «Эммы» высаживается на неведомом острове, где теряет шестерых человек; именно в этот день сны чувствительных людей обретают особую яркость, а кошмар усиливается ощущением преследования гигантским монстром; в этот же день архитектор сходит с ума, а скульптор внезапно впадает в лихорадку! Что же означает шторм 2 апреля — в день, когда все сны о сочащемся влагой городе неожиданно прекращаются, а Уилкокс чудесным образом избавляется от странной лихорадки? Что означает все это в целом — вместе с намеками престарелого Кастро об опустившихся во глубину вод Старцах, пришедших со звезд, и об их грядущем владычестве, вместе с культом верующих в них и их способность управлять сновидениями? Неужели я балансирую на краю космического ужаса, превышающего тот предел, что может постичь и вынести человек? Если это так, то об этом не должен узнать более никто, ибо второго апреля эта чудовищная угроза, уже начавшая разъедать душу человечества, каким-то образом оказалась остановлена.
Тем же вечером, отправив несколько телеграмм, я попрощался с другом, у которого был в гостях, и сел на поезд до Сан-Франциско. Менее чем через месяц я уже был в Данедине, но, однако, в портовых тавернах мало что знали о служителях странного культа. Разного рода отбросы общества не были темой, достойной упоминания, но все же имелись смутные слухи насчет одного их путешествия в глубь острова, во время которого с тех отдаленных холмов доносились приглушенные звуки барабана и виднелись красные языки пламени.
В Окленде я узнал, что после возвращения Йохансена его русые волосы оказались совершенно седыми; пройдя небрежный и неполноценный допрос в Сиднее, он продал свой особняк на Вест-стрит в Данедине и вместе с женой отплыл к своему старому дому в Осло. Друзьям о своем необычайном приключении он рассказал не больше, чем сообщил представителям адмиралтейства, но они смогли дать мне его адрес в Осло.
После этого я отправился в Сидней и совершенно безрезультатно побеседовал с моряками и с представителями адмиралтейского суда. Я увидел на Круговом причале Сиднейской бухты «Тревожную», ныне проданную и используемую как торговое судно, но это не добавило ничего к моим сведениям. Скрюченная фигурка с головой как у каракатицы, драконьим туловищем, крыльями и с надписью странными значками на пьедестале теперь хранилась в музее сиднейского Гайд-парка; я долго и внимательно рассматривал ее, признав вещью, выполненной с исключительным мастерством, столь же таинственной, пугающе древней и из того же странного неземного материала, как и меньший по размеру экземпляр Леграсса. Хранитель музея, геолог по специальности, сказал мне, что считает ее чудовищной загадкой, ибо на земле не существует камня, подобного тому, из которого она сделана. Затем я с содроганием вспомнил слова престарелого Кастро, сказанные Леграссу о происхождении Великих Старцев: «Они сами пришли со звезд и принесли с собой Свои изображения».
Все это настолько ошеломило меня, что я направился в Осло специально для встречи с Йохансеном. Доплыв до Лондона, я перебрался на корабль, следующий в норвежскую столицу, и в один прекрасный осенний день ступил на набережную в тени замка Эгеберга.
Я узнал, что Йохансен проживал в Старом Городе короля Харольда Хаардреда, сохранявшем имя «Осло» даже на протяжении всех тех веков, пока окружающий его город маскировался под именем «Христиания». Совершив короткую поездку на такси, вскоре я с бьющимся от волнения сердцем постучал в дверь опрятного старинного домика с оштукатуренным фасадом. Женщина в черном с печальным лицом выслушала мои объяснения и, с трудом говоря по-английски, сообщила ошеломившую меня новость — Густав Йохансен умер.
После возвращения он прожил совсем недолго, сказала его жена, ибо события 1925 года надломили его. Он рассказал ей не больше, чем всем остальным, но оставил большую рукопись — касательно «технических вопросов», по его словам, — написанную на английском, вероятно для того, чтобы жена случайно с нею не ознакомилась. Как-то во время прогулки по узкой улочке близ Готенбургского дока на него из окна мансарды одного из домов упала связка каких-то бумаг и сбила с ног. Двое ласкаров, матросов-индийцев, помогли ему подняться, но он скончался еще до прибытия врача. Медики не смогли установить причину смерти и приписали ее сердечной недостаточности и общему ослабленному состоянию.
С того момента, как я узнал об этом, меня преследует темный страх, и я знаю, что он не оставит меня, пока я тоже не найду свой конец, «случайно» или еще как-то. Убедив вдову, что имею вполне конкретное отношение к тем «техническим вопросам», о которых написал ее муж, я смог получить рукопись в свое полное распоряжение и начал читать ее на обратном пути в Лондон.
Это оказалось непритязательным и довольно бессвязным сочинением — попыткой простого моряка задним числом записать дневник происшедших событий — восстановить, день за днем, то ужасное последнее путешествие. Не буду даже пытаться приводить его дословно, ввиду невнятности изложения, повторов и перегруженности лишними подробностями, но постараюсь изложить общий сюжет, чтобы вы поняли, почему звук воды, бьющей в борта корабля, постепенно стал для меня настолько невыносимым, что пришлось затыкать уши ватой.
Йохансен, слава Богу, хотя увидел и город, и ту Тварь, узнал далеко не все, но я теперь никогда не смогу спокойно заснуть, помня о том, что притаилось совсем рядом с нашей жизнью, о проклятых тварях, прибывших к нам с более древних звезд и спящих сейчас под толщей морских вод, которым поклоняется зловещий культ, готовый призвать их к власти над нашим миром, когда их чудовищный каменный город снова поднимется к солнцу и воздуху от другого землетрясения.
Путешествие Йохансена началось в точности так, как он сообщил в адмиралтействе. «Эмма», для устойчивости загруженная балластом, покинула Окленд 20 февраля и испытала на себе полную силу той бури, вызванной подземным толчком, что подняла со дна моря ужасы, наполнившие сны многих людей. Как только корабль снова стал управляемым, он тут же поплыл дальше, пока не был атакован «Тревожной» 22 марта, и я почувствовал горечь и сожаление в словах помощника капитана, когда он описывал, как их шхуна подверглась обстрелу, а затем затонула. О смуглолицых служителях культа, находившихся на борту «Тревожной», он говорил с нескрываемым отвращением. В них было что-то невероятно гнусное, из-за чего уничтожение их казалось почти священным долгом, и потому Йохансен с искренним недоумением воспринял обвинение экипажа шхуны в жестокости, прозвучавшее во время слушания в суде. Затем, движимые любопытством, они мчались дальше на захваченной яхте под командованием Йохансена, пока, в 47 градусах 9 минутах южной широты и 126 градусах 43 минутах западной долготы, не наткнулись на береговую линию, где посреди липкой грязи и ила обнаружили примитивную, но циклопическую каменную кладку — не что иное, как материализованный ужас нашей планеты, кошмарный город-труп Р’лайх, построенный бесчисленные века назад гигантскими отвратительными созданиями, спустившимися с темных звезд. Там покоились великий Ктулху и его несметные полчища, скрывающиеся под осклизлыми зелеными каменными сводами, уже бесчисленные столетия насылающие те самые ночные кошмары, проникающие в сны чутких людей и призывающие своих поклонников исполнить миссию освобождения и возрождения повелителей. Йохансен обо всем этом не подозревал, но, видит Бог, вскоре он увидел более чем достаточно!
Предполагаю, что над поверхностью воды выступила только какая-то одна верхушка чудовищной, увенчанной монолитом цитадели, в которой покоится великий Ктулху. Когда же я подумал о том, что могло быть под нею, меня посетила мысль о самоубийстве. Йохансен и его матросы прониклись благоговейным трепетом перед лицом космического величия этого затонувшего Вавилона древних демонов и догадались без всякой подсказки, что это не могло быть творением обитателей ни нашей, ни какой-либо другой обычного типа планеты. В каждой строке повествования бывшего помощника капитана ощущается трепет от немыслимого размера зеленоватых каменных блоков, от потрясающей высоты огромного монолита с высеченной фигурой, от ошеломляющего сходства колоссальной статуи-барельефа со странной фигуркой, обнаруженной на корабельном алтаре «Тревожной».
Не имея никакого представления о футуризме, Йохансен почти в точности следовал ему, рассказывая о городе, ибо вместо точного описания какого-либо сооружения или здания ограничивался только общим впечатлением от гигантских плоскостей или каменных поверхностей — поверхностей слишком больших, чтобы их мог создать кто-то из обитателей этой планеты, — покрытых к тому же устрашающими изображениями и письменами. Я обращаю здесь внимание на его высказывания об углах, поскольку оно напомнило мне один момент в рассказе Уилкокса о своих сновидениях. Он сказал, что сама геометрия пространства, явившегося ему во сне, была неправильной, неэвклидовой и пугающе обильной сферами и измерениями, отличными от привычных нам. И вот, как видите, малограмотный моряк ощутил то же самое, глядя на ужасную реальность.
Йохансен и его команда высадились на отлогий илистый берег этого чудовищного акрополя и стали карабкаться, соскальзывая, наверх по титаническим, сочащимся влагой каменным блокам лестницы, явно предназначенной не для простых смертных. Даже солнце на небе словно бы искажалось в миазмах, источаемых этой погруженной в море громадой, а в норовящих ускользнуть от глаз углах резного камня таилась угроза и опасность — второй взгляд обнаруживал впадину на том месте, на котором первый замечал выпуклость.
Нечто очень похожее на испуг охватило всю команду еще до того, как они увидели хоть что-то помимо камней, ила и водорослей. Каждый из них убежал бы обратно, если бы не опасался насмешек от остальных, и все только делали вид, будто ищут чего-то — совершенно напрасно, как стало потом понятно, — какой-нибудь небольшой сувенир на память об этом месте.
Португалец Родригес, первым забравшийся к подножию монолита, крикнул, что увидел нечто интересное. Остальные поспешили присоединиться к нему, и все с любопытством уставились на огромную резную дверь с уже знакомым изображением головоногого дракона. Она была похожа, писал Йохансен, на дверь огромного амбара; все сразу поняли, что это именно дверь, из-за витиевато украшенной перемычки, порога и косяков, хотя не смогли разобраться, располагается ли она горизонтально, как дверь-люк, или стоит под наклоном, как дверь внешнего погреба. Как говорил Уилкокс, геометрия в этом месте была совершенно неправильной. Нельзя было даже с уверенностью сказать, расположены ли море и поверхность земли горизонтально, поскольку относительное расположение всего окружающего непонятным образом все время менялось.
Брайден в нескольких местах попробовал нажимать на камень, но безрезультатно. Затем Донован последовательно ощупал по краям всю дверь, нажимая по мере продвижения на каждый участок. Он карабкался по гигантскому покрытому плесенью камню — то есть следовало предположить, что он карабкался, если только она не располагалась все-таки горизонтально, — вызывало изумление, что во вселенной вообще может существовать дверь такого огромного размера. Затем, очень мягко и медленно, панель размером в акр начала опускаться, и они поняли, что она удерживается в равновесии.
Донован соскользнул вдоль ее края и присоединился к своим товарищам, и они все вместе наблюдали, как плита, закрывавшая чудовищный резной портал, странным образом опускается. В этом фантастическом мире призматического искажения плита двигалась совершенно неестественно, под наклоном, так что все правила движения материи и законы перспективы казались нарушенными.
Открывшийся проем был черным, и темнота в нем была почти материальной. Точнее, мрак этот был отсутствием материальности, и он стал расползаться наружу наподобие дыма, словно вырывался из многовекового заточения, и когда клубы вплывали в сморщенное горбатое небо, будто хлопающие перепончатые крылья, солнце меркло на глазах. Из открывшихся глубин поднимался совершенно невыносимый смрад, а отличавшийся острым слухом Хокинс уловил доносившееся снизу неприятное хлюпание. И когда все прислушались, перед ними, перегородив весь проход и источая слизь, появилось Оно и стало протискивать Свою зеленую желеобразную безмерность через черный проем в отравленную атмосферу этого города безумия.
С этого места рукопись бедняги Йохансена становится маловразумительной. Из шести человек, не вернувшихся на корабль, по его мнению, двое умерли от страха тут же, на месте. Описать Тварь не представляется возможным — ибо нет языка, способного передать такую бездну вопящего и не удерживающегося в памяти безумия, такого категорического несоответствия всем законам материи, энергии и космического порядка. Шагающая или ковыляющая горная вершина — о Боже! Ничего удивительного в том, что на другом конце земли сошел с ума выдающийся архитектор, а получивший телепатический сигнал несчастный Уилкокс впал в лихорадку. Тварь, представленная на идоле, зеленое липкое звездное отродье, пробудилась, чтобы заявить свои права на наш мир. Звезды вновь заняли благоприятное положение, и то, чего не удалось добиться древнему культу своими ритуалами, по чистой случайности совершила группа ничего не ведающих моряков. После многих вигинтиллионов лет великий Ктулху оказался вызволен из заточения и жаждал насладиться этим.
Троих смело гигантскими когтями прежде, чем кто-то успел повернуться к берегу. Да упокоит Господь их души, если где-то во Вселенной вообще есть место для упокоения. Это были Донован, Гуэрера и Ангстром. Паркер поскользнулся, когда трое остальных, потеряв голову от страха, неслись к лодке по камням, покрытым зеленой коркой, и Йохансен клялся, что структура кладки словно проглотила Паркера, когда он свалился и оказался под углом, какого не может быть в нашем мире. Так что до лодки добежали только Брайден и сам Йохансен: они отчаянно принялись грести к «Тревожной», а гороподобное чудовище спустилось по слизким камням и в нерешительности бродило у края воды.
Двигатель яхты не был заглушен полностью, и потому, несмотря на нехватку рабочих рук, после нескольких минут суматошной беготни из рубки в машинное отделение и обратно им удалось отплыть. Медленно набирая ход, несмотря на неописуемое искажение всего окружающего, «Тревожная» начала вспенивать эту несущую смертельную опасность воду, тогда как титаническая Тварь на краю нагромождения камней, которое никак нельзя было назвать «берегом», бормотала что-то и пускала слюни, подобно Полифему, посылающему проклятия вслед удаляющемуся кораблю Одиссея. Затем великий Ктулху, оказавшийся смелее, чем легендарные циклопы, шлепнулся в воду и начал преследование, поднимая гигантские волны гребками космической мощи. Брайден оглянулся — и потерял рассудок; с того момента он непрестанно смеялся, делая лишь короткие паузы, пока наконец не умер ночью в рубке, в то время как Йохансен в полном отчаянии бродил по палубе.
Однако Йохансен все же не сдался. Зная, что Тварь без труда настигнет «Тревожную», даже если идти на всех парах, он решился на отчаянный шаг: запустив двигатель на самый полный ход, взбежал на мостик и резко развернул штурвал. Поднялись мощные волны и закипела соленая вода, тогда как двигатель завывал все громче и громче, а храбрый норвежец направил нос корабля прямо на преследующее их чудовищное желе, возвышавшееся над грязной пеной словно корма дьявольского галеона. Ужасная голова с извивающимися щупальцами возвышалась почти до бушприта отважной яхты, но Йохансен упрямо вел корабль вперед.
Взрыв был такой, будто лопнул гигантский пузырь, и вместе с тем было отвратительное ощущение разрезаемой титанической медузы, сопровождаемое зловонием тысячи разверстых могил и звуком, который бывший помощник капитана не в силах описать. Корабль в миг накрыло едкое и слепящее зеленое облако, так что была видна лишь яростно бурлящая вода за кормой; и хотя — всемилостивый Боже! — разметавшиеся клочья не имеющего названия звездного отродья постепенно воссоединялись в свою ненавистную первоначальную форму, расстояние между ним и яхтой стремительно увеличивалось.
Все закончилось. С того момента Йохансен лишь сидел в рубке, поглядывая поверх фигурки идола, да время от времени готовил нехитрую еду для себя и сидящего рядом смеющегося безумца. Он даже не пытался управлять судном после той отчаянной гонки, ибо, похоже, его душевные силы полностью иссякли. Затем случился шторм 2 апреля, и сознание Йохансена начало затуманиваться. Он ощущал лишь призрачное вихревое кружение в бездне времен, бешеную скачку сквозь крутящиеся вселенные на хвосте кометы, истерическое метание из бездны на луну и обратно в бездну, сопровождавшееся хохотом веселящихся древних богов и зеленых, обладающих перепончатыми крыльями, гримасничающих бесов Тартара.
Где-то за пределами этого сна пришло спасение — «Бдительный», суд адмиралтейства, улицы Данедина и долгое возвращение на родину, в старый дом возле замка Эгеберга. Он не мог никому рассказать о случившемся — его приняли бы за сумасшедшего. Он хотел, пока еще жив, описать происшедшее, но так, чтобы жена ни о чем не подозревала. Смерть представлялась ему благословением свыше, если только могла стереть все из его памяти.
Вот каков был документ, который я прочел, а затем положил в жестяной ящик с барельефом и бумагами профессора Анджелла. Сюда же я помещу и свои собственные записи — это будет свидетельством моего здравого рассудка, — соединяющие в единую картину то, что, надеюсь, никто больше не соберет воедино. Я заглянул в глаза самого великого ужаса Вселенной, и с того момента даже весеннее небо и летние цветы отравлены для меня его ядом. Но я не думаю, что мне суждено жить долго. Так же, как ушел из жизни мой дед, как ушел бедняга Йохансен, так и мне предстоит покинуть этот мир. Я знаю слишком много, а культ все еще жив.
Ктулху тоже по-прежнему существует и, предполагаю, снова пребывает в каменной пропасти, хранящей его с тех времен, когда наше солнце было молодым светилом. Его проклятый город снова ушел под воду, ибо «Бдительный» беспрепятственно прошел над этим местом после апрельского шторма; но его служители на Земле все еще поклоняются ему, совершают обряды и приносят человеческие жертвы в пустынных местах возле увенчанных фигурками идола монолитов. Должно быть, он пока не может выбраться из своей бездонной черной пропасти, иначе весь мир сейчас кричал бы от страха и бился в припадках безумия. Кто знает, чем все закончится? Восставший может погрузиться в бездну, а погрузившийся в бездну может вновь восстать. Воплощение мерзости спит, дожидаясь своего часа, в глубине, и смрад порчи расползается над гибнущими городами людей. Настанет время… Но я не должен и не могу об этом думать! Молю лишь о том, что если мне не доведется пережить эту рукопись, то пусть мои душеприказчики не совершат безрассудства и не позволят прочесть ее другим людям.
ДАНВИЧСКИЙ УЖАС
Горгоны, гидры и химеры — страшные рассказы о Келено и гарпиях — могут воспроизводиться в голове суеверного человека — однако они существовали в нашем мире прежде. Все это — копии, типы — точнее архетипы, которые есть в нас и существуют извечно…
…Иначе как же могло бы затрагивать нас то, что мы считаем выдумкой?.. Разве ужас мы испытываем тогда, когда считаем, что нечто способно причинить нам физическую боль? — О, вовсе нет! Эти страхи имеют более древнее происхождение. Основа их лежит за пределами тела — иначе говоря, даже не будь у нас тела, они бы все равно оказывали воздействие…
…Тот страх, о котором мы говорили, чисто духовной природы; то, что он силен, не будучи привязан ни к какому земному объекту, и то, что он преобладает в период нашего безгреховного младенчества, — это затрудняет поиск способа проникнуть в глубины нашего до-земного бытия и хотя бы одним глазком заглянуть в царство теней предсуществования.
Чарльз Лэмб. «Ведьмы и другие ночные страхи»Глава 1
Если, путешествуя по северным районам центральной части Массачусетса, на развилке дороги в Эйлсбери близ Динз-Корнерс повернуть не в ту сторону, вы окажетесь в пустынном и любопытном месте. Местность становится холмистой, а обсаженные вереском каменные стены все ближе подбираются к пыльной извилистой дороге. Деревья в многочисленных полосах леса кажутся слишком большими, а дикие травы, сорняки и заросли куманики чувствуют себя здесь куда вольготнее, чем в обжитых районах. В то же время возделываемые поля становятся более скудными и встречаются все реже; при этом немногочисленные разбросанные здесь дома несут на себе удивительно сходный отпечаток большого возраста, разрушения и запущенности. Неизвестно почему, обычно путешественники не решаются спросить дорогу у одиноких людей грубоватой наружности, попадающихся там и сям на полуразвалившихся крылечках или на наклонных лугах среди разбросанных камней. Они кажутся такими тихими и вороватыми, что подозреваешь рядом что-то запретное, от чего лучше держаться подальше. Когда дорога поднимается так высоко, что видишь горы над темными лесами, ощущение смутной тревоги усиливается. Вершины кажутся слишком округленными и симметричными, чтобы давать чувство комфорта и естественности, а порой на фоне неба с особой четкостью вырисовываются странные круги из высоких каменных колонн, которыми увенчаны здесь большинство вершин.
Дорога пересекает узкие ущелья и овраги значительной глубины, а грубо сколоченные мосты через них кажутся довольно опасными. Затем дорога снова спускается и проходит по болотистой местности, вызывающей инстинктивную неприязнь, а по вечерам — почти страх из-за стрекота невидимых козодоев, светлячков, в необыкновенном изобилии танцующих под скрипучее пение жаб. Узкая сверкающая лента Мискатоника в его верховьях, огибающая подножия куполообразных холмов, очень напоминает змею.
По мере приближения к холмам их покрытые густыми лесами склоны начинают вызывать большие опасения, чем увенчанные камнями вершины. Хочется оставить в стороне эти темные и крутые склоны, но здесь нет дороги, позволяющей держаться от них на почтительном расстоянии. После крытого мостика начинается городок, зажатый между рекой и крутым склоном Круглой горы, удивляющий видом своих полусгнивших двускатных мансардных крыш — архитектура их говорит скорее о давности постройки, а не о местных традициях. Большинство домов заброшены и готовы обвалиться, а в церкви с обломанным шпилем обосновалась единственная во всем поселении торговая лавка. Довериться темному тоннелю крытого мостика кажется жутковатым, но другого пути нет. А едва переберешься на другую сторону, сразу ощущаешь слабый, но скверный запах здешних улиц — запах плесени и многолетнего гниения. Покидая это место, обычно испытывают облегчение; узкая дорога огибает затем подножия холмов, пересекает почти гладкую равнину и, наконец, воссоединяется с главной трассой в сторону Эйлсбери. Но если вы проявите любопытство, то можете узнать, что побывали в Данвиче.
Посторонние в Данвич стараются не заглядывать, а после одного периода непрестанного ужаса это название убрали со всех указателей. С эстетической точки зрения окружающий ландшафт здесь более чем прекрасен; тем не менее здесь не бывает ни художников, ни просто летних туристов. Пару веков назад, когда над рассказами о ведьмовстве, служителях сатаны, ведьминой крови и странных лесных тварях никто не посмеивался, этой местности старались всячески избегать. В наш рациональный век — хотя все сведения о данвичском ужасе 1928 года были тщательно скрыты стараниями людей, искреннее беспокоящихся о благополучии этого городка, да и всего нашего мира, — люди, сами не зная почему, по-прежнему остерегаться этого места. Возможно, одна из причин — хотя это объяснение неприменимо в отношении неинформированных путешественников — то, что местные жители заметно опустились, ушли довольно далеко по пути регресса и упадка, характерного для многих захолустных уголков Новой Англии. Обитатели таких мест образуют особую расу, для которой свойственны признаки умственного и физического вырождения и последствия близкородственных кровных связей. Средний уровень их интеллектуального развития удручающе низкий, а их летописи изобилуют порочностью, убийствами, кровосмешениями и почти неописуемой жестокостью и извращенностью. Местная мелкая знать, представленная несколькими гербоносными семьями, переселившимися сюда из Салема в 1692 году, еще как-то удерживается над уровнем общей деградации; хотя многие ветви этих семей настолько смешались с общей массой, что только фамилии напоминают об их происхождении. Некоторые из Уэйтли и Бишопов все еще посылают своих старших сыновей в Гарвардский или Мискатоникский университеты, но сыновья эти обычно не возвращаются под ветхую крышу дома, где родились они сами и их предки.
Никто, даже те, кто знает правду о недавних ужасных событиях, не может объяснить, что же с Данвичем не в порядке; между тем предания рассказывают о тайных собраниях и греховных обрядах индейцев, на которых они вызывали призраков с больших круглых холмов, исступленно взывая к ним, и это сопровождалось громким треском и грохотом, доносившимися из-под земли. В 1747 году преподобный Авия Хоадли, недавно назначенный в конгрегационалистскую церковь Данвич-Вилледж, произнес памятную проповедь по поводу близкого соседства Сатаны и его бесов; в ней он говорил следующее:
«Нужно признать, что Богохульства инфернальной Свиты Демонов слишком заметны, чтобы их можно было игнорировать: проклятые Голоса Азазеля и Базраэля, Веельзевула и Велиала доносятся до нас сейчас из Подземного мира, что подтверждают заслуживающие доверия Свидетели, ныне живущие. Я сам не далее как две недели назад явственно слышал Речь дьявольских Сил под Холмами за моим Домом; она сопровождалась Треском и Грохотом, Стоном, Скрежетом, Шипом и Свистом, издавать какие неспособна ни одна Тварь на этой Земле, доносящимися, несомненно, из тех Пещер, доступ к которым дает только черная Магия, а отмыкает один лишь Диявол».
Мистер Хоадли исчез вскоре после этой проповеди, однако сохранился текст ее, отпечатанный в Спрингфилде. Сообщения о странных звуках в холмах продолжают поступать год от года и по-прежнему остаются загадкой для геологов и физиографов.
Другие предания сообщают о неприятных запахах вблизи венчающих холмы колец из каменных колонн, о воздушных потоках, шум которых слышен только из определенной точки на дне глубокого оврага; и есть предания о так называемом Хмельнике Дьявола — склоне холма, полностью лишенном растительности. А еще местные жители смертельно боятся многочисленных в этих краях козодоев, которые заводят свои песни теплыми ночами. Они уверены, что эти птицы — проводники в загробный мир, караулящие души умирающих, и что они кричат в унисон с последними тяжелыми вздохами. Если им удается поймать летящую душу, когда та покидает тело, они тут же улетают с ней, издавая дьявольский смех; если им не удается этого, их крики постепенно замолкают.
Эти выдумки, конечно, давно устарели и сейчас звучат курьезно; однако они пришли к нам с очень древних времен. Данвич и в самом деле был очень старым поселением — древнее, чем любое другое в пределах тридцати миль от него. К югу от городка еще до сих пор сохранились стены погреба и дымоход древнего дома Бишопов, возведенного еще до 1700 года; а руины мельницы у водопада, построенной в 1806 году, — это самое современное здание. Промышленность в этих краях не прижилась, а появившееся в девятнадцатом веке стремление строить повсюду фабрики оказалось недолговечным. Старейшие сооружения здесь — круги на вершинах холмов, образованные огромными грубо вытесанными каменными колоннами, но их обычно относят к деятельности индейцев, а не более поздних поселенцев. Россыпи черепов и человеческих костей внутри этих кругов, а также возле огромного камня в форме стола на Сторожевом холме, свидетельствуют в пользу распространенных представлений о том, что подобного рода сооружения были местами массовых погребений покумтуков[46], хотя многие этнологи считают такую трактовку полным вздором, настаивая на том, что это останки людей европеоидной расы.
Глава 2
Именно возле Данвича, в большом и частично необитаемом фермерском доме в основании склона холма, в четырех милях от городка и в полутора милях от ближайшего жилья 2 февраля 1913 года, в воскресенье, в 5 часов утра родился Уилбур Уэйтли. Эту дату запомнили, потому что в тот день было Сретение, которое в Данвиче отмечают под другим названием, а еще и потому, что всю ночь от холмов доносился грохот, и все собаки в округе беспрерывно заливались лаем. Менее важным представляется то обстоятельство, что мать его была из угасающего рода Уэйтли, непривлекательная альбиноска 35 лет с обезображенным лицом, проживавшая со своим престарелым полусумасшедшим отцом, о колдовских делах которого во времена его молодости ходили жутковатые истории.
Мужа у Лавинии Уэйтли не было, но она, в соответствии с местными традициями, не стала отказываться от ребенка; в соответствии с этими же традициями местные жители могли — и делали это — судачить о предполагаемом отце ребенка сколько им вздумается. Более того, казалось, что Лавиния даже гордится своим темноволосым смазливым младенцем, внешность которого составляла разительный контраст с ее болезненного вида лицом альбиноски с красными глазами, и многие не раз слышали, как она бормочет странные пророчества относительно его необыкновенных возможностей и потрясающего будущего.
Такие пророчества вполне соответствовали обычному поведению Лавинии, ибо она вела одинокий образ жизни, часто бродила по холмам во время грозы и пыталась читать ветхие тома, собранные семейством Уэйтли за два века и унаследованные ее отцом, изъеденные червями и разваливающиеся на части. Лавиния ни разу не была в школе, но старик Уэйтли напичкал ее обрывками древних знаний. Местные жители сторонились их одинокого фермерского дома из-за предполагаемых занятий стариком Уэйтли черной магией; репутация этого дома стала еще хуже после таинственной насильственной смерти миссис Уэйтли, случившейся, когда Лавинии было двенадцать лет. Оказавшись во всем этом странном окружении в одиночестве, Лавиния часто погружалась в грандиозные и безудержные грезы наяву и вообще предавалась странным занятиям; ее досуг не красили хлопоты по дому, в котором давно исчезли чистота и порядок.
В ночь, когда Уилбур появился на свет, люди слышали ужасный вопль, заглушивший собачий лай и доносившийся от холмов грохот; ни врач, ни повивальная бабка при этом рождении не присутствовали. Соседи узнали о новорожденном только через неделю, когда старик Уэйтли приехал по снегу на санной повозке в Данвич-Вилледж и обратился с почти бессвязной речью к группе зевак возле лавки Осборна. Казалось, в старике произошла какая-то перемена — появилась настороженность в его поведении, странным образом преобразовавшая старика из устрашающего в устрашенного, хотя он был не таким человеком, которого могли бы обеспокоить какие-либо заурядные человеческие события в его семье. В дополнение к этому в нем была заметна гордость, позднее замеченная и у его дочери, а сказанное им по поводу возможного отца ребенка услышавшие не раз вспоминали и годы спустя.
«Меня не волнует, что подумают соседи, но если парень Лавинии похож на своего папу, то он будет не похож ни на что, к чему вы привыкли. Не следует полагать, что люди везде такие же, как здесь. Лавиния много читала и видела кое-что такое, о чем вы знаете только по слухам. А избранный ею мужик ничуть не хуже любого по эту сторону Эйлсбери; и если бы вы знали про наши холмы то, что известно мне, то понимали бы, что никакое венчание в церкви ей не требуется. Поверьте в мои слова: настанет день, и вы, парни, услышите, как дитя Лавинии прокричит имя своего отца с вершины Сторожевого холма».
Из посторонних в первый месяц жизни Уилбура его видели только старый Захария Уэйтли, из тех Уэйтли, что еще не совсем деградировали, и Мейми Бишоп, невенчанная жена Эрла Сойера. Мейми заглянула к ним в гости из чистого любопытства, и рассказы об этом делают честь ее наблюдательности; Захария же привел пару олдернийских коров, которых старик Уэйтли приобрел у его сына Кертиса. С этой сделки начались регулярные закупки скота семейством маленького Уилбура, завершившиеся лишь в 1928 году, когда начался и закончился данвичский ужас; тем не менее ветхий хлев Уэйтли никогда не казался переполненным скотиной. Спустя какое-то время это стало вызывать такое любопытство, что некоторые из соседей попытались тайком сосчитать стадо, беспризорно пасущееся на склоне за старым фермерским домом, но в нем ни разу не оказывалось более десяти-двенадцати худосочных вялых животных. Очевидно, какая-то хворь или зараза, вероятно, вызванная плохим пастбищем или вредным грибком и гнилым деревом грязного скотного двора, приводила к падежу скота. На телах животных были заметны странного вида раны и болячки, похожие на следы порезов; а несколько раз, еще в первый год жизни ребенка, некоторые гости замечали такие же ранки над горлом седого небритого старика и его дочери-альбиноски, белокурой и серолицей.
Весной того же года, когда родился Уилбур, Лавиния вернулась к бесцельным блужданиям по окрестным холмам, держа в миниатюрных руках смуглолицего младенца. Всеобщее любопытство к делам семейства Уэйтли постепенно сошло на нет, по мере того как большинство жителей смогли посмотреть на мальчика, но никто не задумался о быстром развитии ребенка, взрослевшем, казалось, с каждым днем. Скорость роста Уилбура действительно была феноменальной, ибо спустя три месяца после рождения он достиг размеров и физической силы, какие редко наблюдаются у детей до одного года. Его движения и даже издаваемые звуки отличались сдержанностью и осмотрительностью, не характерными для младенца, и никто не ожидал, что уже в семь месяцев он начнет ходить без посторонней помощи, а еще через месяц будет делать это уверенно.
Еще какое-то время спустя, на Хэллоуин, в полночь люди видели большое пламя на вершине Сторожевого холма, там, где в окружении древних костей лежал огромный камень в форме стола. Широко судачить об этом стали после того, как Сайлас Бишоп — из благополучных Бишопов — рассказал, что примерно за час до появления пламени видел, как мальчик уверенно бежал впереди своей матери вверх по склону холма. Сайлас, загонявший назад отбившуюся от стада телку, почти позабыл о своей миссии, заметив в колеблющемся свете фонаря эти две фигуры. Они почти бесшумно неслись через мелкий кустарник, и пораженному наблюдателю показалось, что они совершенно раздеты. Спустя некоторое время он не был уверен в этом относительно мальчика и говорил, что на нем, похоже, были ремешок с бахромой и темные трусы или короткие штанишки. Позже никто и никогда не видел, чтобы, находясь в здравом уме, Уилбур не был тщательно застегнут на все пуговицы, и малейший беспорядок в одежде и даже угроза подобного беспорядка пробуждали в нем тревогу и гнев. Это представляло разительный контраст с его неопрятными матерью и дедом и вызывало у всех недоумение до тех пор, пока ужас 1928 года не дал сему факту абсолютно исчерпывающее объяснение.
На следующий год в январе главным предметом сплетен оказалось то, что «чернявый ублюдок Лавинии» начал разговаривать, и это при возрасте всего лишь в одиннадцать месяцев. Его речь была примечательна не только отсутствием местного акцента, но и тем, что не напоминала детский лепет, обычно сохраняющийся у детей до трех-четырехлетнего возраста. Мальчик был не особенно разговорчив, но когда говорил, в его речи чувствовалось нечто неуловимое, совершенно не характерное для Данвича и его обитателей. Странность была не в том, что он говорил, и даже не в примитивных идиомах, которые он использовал, но скорее относилась к звучанию его голоса или действию тех частей его тела, что отвечали за формирование звуков. Лицо его было примечательно своей взрослостью; ибо хотя он и унаследовал от матери и деда отсутствие подбородка, однако прямой и вполне уже сформировавшийся нос в сочетании с выражением больших, темных, почти латинского типа глаз придавал ему облик почти взрослого человека со сверхъестественным интеллектом. Тем не менее, несмотря на блестящую внешность, он был чрезвычайно уродлив; что-то козлиное или звериное было в его отвислых губах, желтоватой коже с большими порами, жестких курчавых волосах и причудливо удлиненных ушах. Довольно скоро его невзлюбили еще сильнее, чем его мать и деда, и все догадки насчет него теперь увязывались с прежней склонностью к магии старика Уэйтли, который однажды заставил холмы содрогнуться, стоя посреди круга из каменных столбов на вершине одного из них, держа в руках раскрытую книгу и выкрикнув ужасное имя «Йог-Сотот». Собаки ненавидели мальчика, и ему всегда приходилось принимать какие-то меры защиты, когда они с лаем бросались в его сторону.
Глава 3
Старик Уэйтли тем временем продолжал приобретать скот, хотя стадо его от этого не увеличивалось. Кроме того, он напилил бревен и занялся восстановлением заброшенных частей дома — довольно большого сооружения с остроконечной крышей, задняя часть которого практически уходила в скалистый склон холма, трех сносно сохранившихся комнат которого на основном этаже всегда вполне хватало для проживания самого старика и его дочери. Должно быть, в старике сохранился немалый запас сил, позволивший ему завершить этот каторжный труд, и хотя время от времени он чего-то бессвязно лепетал, в целом плотницкие работы, похоже, оказали на него положительное влияние. Началось это еще до рождения Уилбура — одна из мастерских была вдруг приведена в порядок, заново обшита досками и снабжена новым крепким замком. Теперь же, занимаясь восстановлением заброшенной мансардной части дома, он показал себя старательным мастером. Помешательство его проявилось, пожалуй, только в том, что он тщательно заколотил досками все окошки восстановленной части дома — впрочем, многие полагали, что сама по себе забота о восстановлении такого дома уже признак безумия. Гораздо более разумным казалась отделка одной из комнат наземного этажа для появившегося у него внука — эту комнату некоторые из гостей видели, тогда как на полностью переделанную мансарду никого не пускали. В комнате для внука он устроил крепкие стеллажи до самого потолка, на которых постепенно начал в продуманном порядке размещать все подпорченные древние книги и их фрагменты, что прежде были беспорядочно свалены в углах разных комнат.
«Некоторые из них мне пригодились, — говорил он, подклеивая порванные листы с помощью специально сваренного на поржавевшей кухонной печи клея, — но мальчик сможет использовать их значительно лучше. Он наверняка постарается усвоить из них как можно больше, и они дадут ему все нужные знания».
В сентябре 1914 года, когда Уилбуру исполнилось год и семь месяцев, его размеры и развитие начали вызывать беспокойство у окружающих. Он вырос в четырехлетнего ребенка и разговаривал свободно и невероятно разумно. Малыш без труда бегал по полям и холмам, сопровождая мать во всех ее блужданиях. Дома он сосредоточенно и прилежно изучал причудливые рисунки и карты в книгах своего дедушки, а старик Уэйтли обучал его в форме вопросов и ответов долгими и тихими послеполуденными часами. Труды по восстановлению дома к этому времени были завершены, и всех, кто его видел, удивляло, зачем одно из окошек мансарды заменено прочной, обшитой досками дверью. Окно это было в заднем торце, со стороны холма; и никто не мог вообразить, для чего к нему возведена из досок наклонная дорожка от самой земли. После того как все эти работы по дому завершились, было замечено, что старая мастерская, без окон и обшитая заново досками, всегда тщательно запертая с момента появления Уилбура, вновь оказалась заброшенной. Дверь ее была небрежно прикрытой, и когда Эрл Сойер однажды заглянул внутрь, после того как пригнал старику Уэйтли очередную партию скота, его изумил странный запах этого помещения — такое зловоние, утверждал он, ему доводилось встречать разве что возле оставшихся от индейцев кругов из каменных столбов на вершинах холмов, запах чего-то нездорового или вообще не из нашего мира. Но, впрочем, дома и сараи Данвича никогда не источали приятных ароматов.
В последующие месяцы не случилось ничего значительного, что позволило всем обратить внимание на медленное, но постоянное усиление грохота, доносившегося от холмов. На Вальпургиеву ночь 1915 года произошли подземные толчки, которые ощутили даже жители Эйлсбери, а во время Дня всех святых раскаты грома из-под земли странным образом совпали со вспышками пламени — «проделками этой ведьмы Уэйтли» — на вершине Сторожевого холма, Уилбур продолжал развиваться удивительно быстро и к четырем годам выглядел как десятилетний. Теперь он много времени проводил за чтением, а разговаривал меньше, чем раньше. Молчаливость стала чертой его характера, и окружающие наконец стали замечать нечто дьявольское на его напоминающем козлиное лице. Иногда он бормотал какие-то слова на неизвестном языке, словно напевая их в причудливом ритме, отчего случайных слушателей пробирало леденящее чувство необъяснимого ужаса. Ненависть к нему всех местных собак стала настолько явной, что мальчику приходилось носить с собой пистолет, чтобы спокойно прогуливаться по городку и его окрестностям. Использование им время от времени, в силу необходимости, этого оружия не способствовало его популярности среди владельцев четвероногих защитников.
Редкие посетители, бывающие в их доме, часто заставали Лавинию в одиночестве в основной части дома, в то время как с мансарды с заколоченными окнами доносились странные выкрики и звуки мощных шагов. Она никогда не рассказывала, чем там занимаются ее отец и мальчик, и однажды смертельно побледнела, увидев, что шутливый разносчик рыбы, заглянувший в дом, попытался открыть дверь, ведущую на мансарду. Этот разносчик рассказывал затем посетителям лавки в Данвич-Вилледж, что ему показалось, будто оттуда доносится конский топот. Обыватели сразу же припомнили необычную дверь и сходни, а также про стремительно исчезающий куда-то скот. Затем их передернуло от страха при воспоминании о молодых годах старика Уэйтли и о странных существах, которых можно вызвать из-под земли, если принести в жертву выхолощенного бычка определенным языческим богам в правильное время. К тому же какое-то время назад заметили, что все местные собаки стали ненавидеть и бояться всю усадьбу Уэйтли столь же яростно, как прежде ненавидели и боялись юного Уилбура.
В 1917 году пришла война, и сквайр Сойер Уэйтли, председатель местной призывной комиссии, несмотря на все старания, не смог изыскать в Данвиче полагающегося количества молодых мужчин, пригодных для отправки в лагерь военной подготовки. Правительство, озабоченное признаками вырождения, проявившимися во всем регионе, отправило несколько чиновников и медицинских экспертов, чтобы те внесли ясность в этот вопрос; читатели газет Новой Англии, возможно, вспомнят о результатах этого. Интерес общественности к этим исследованиям привлек внимание репортеров к семье Уэйтли, и в результате «Бостон глоуб» и «Аркхем эдвертайзер» напечатали изобилующие колоритными подробностями статьи о необыкновенно быстром развитии Уилбура, черной магии старика Уэйтли, стеллажах со старинными книгами, заколоченной досками мансарде фермерского дома и о таинственности всей этой местности, где от холмов доносится грохот. Уилбуру было в то время четыре с половиной года, а выглядел он на пятнадцать. На губах и щеках у него пробивался темно-коричневый пушок, а голос начал ломаться.
Эрл Сойер сопровождал группу репортеров и группу фотографов к дому Уэйтли и обратил их внимание на странный запах, сочившийся, казалось, с тщательно заделанной мансарды. Этот запах, сказал он, точно такой же, как тот, что он заметил в мастерской, заброшенной после того, как дом был восстановлен; и такой же, как запах, который он иногда ощущал возле круга из каменных столбов на вершине холма. Жители Данвича, читая газетные статьи, посмеивались над очевидными ошибками авторов. Также у них вызывало недоумение, почему журналисты придавали огромное значение тому факту, что старик Уэйтли всегда платил за приобретаемый скот старинными золотыми монетами. Сами Уэйтли принимали посетителей с плохо скрываемым раздражением, но не гнали их прочь и не отказывались от беседы, опасаясь вызвать подобными действиями еще большие кривотолки.
Глава 4
В последующее десятилетие летопись семьи Уэйтли вполне вписывается в течение жизни этого нездорового в целом общества, спокойно относящегося к странностям и возмущающегося лишь оргиями на Вальпургиеву ночь и на День всех святых. Дважды в год они возжигали огни на вершине Сторожевого холма, и тогда грохот многократно усиливался; в остальное время они занимались своими странными и зловещими делами в одиноко стоящем фермерском доме. Со временем их гости стали слышать звуки из тщательно заделанной мансарды даже тогда, когда все семейство Уэйтли находилось внизу, и задавались вопросом: быстро ли или, наоборот, крайне медленно приносятся в жертву бычки и коровы? Некоторые обыватели обсуждали возможность подать жалобу в Общество защиты животных, но далее разговоров это не продвинулось, ибо жители Данвича не любят привлекать к себе внимание внешнего мира.
Где-то в 1923 году, когда Уилбуру было лет десять, а его разум, голос, фигура и бородатое лицо создавали впечатление зрелого мужчины, в старом доме началась вторая великая перестройка. На этот раз все происходило внутри закрытой верхней части дома, и по выброшенной древесине люди заключили, что молодой человек и его дед сломали все перегородки и даже разобрали в мансарде часть пола, в результате чего образовалось обширное пространство от пола наземного этажа до двускатной крыши. Они также разобрали большой старый дымоход и приделали к печи хлипкую жестяную дымовую трубу.
Весной после всего этого старик Уэйтли обратил внимание, что все больше козодоев прилетают из лощины Холодных ключей по вечерам, чтобы посвистеть под его окнами. Он, похоже, воспринял это обстоятельство как важный знак и сказал бездельникам возле лавки Осборна, что, похоже, его время пришло.
«Они свистят созвучно моему дыханию, — сказал он, — думаю, они собираются поймать мою душу. Они прознали, что конец уже близок, и стараются не пропустить его. Когда я умру, вы, парни, узнаете, поймали они меня или нет. Если поймают, то будут петь и смеяться до самого вечера. Если нет, то будут вести себя тихо. Подозреваю, что между ними и душами, за которыми они охотятся, иногда случаются жестокие драки».
В ночь на Праздник урожая 1924 года Уилбур Уэйтли, проскакав во тьме на своей единственной лошади до лавки Осборна, срочно вызвал из Эйлсбери доктора Хоутона. Доктор застал старика Уэйтли в очень тяжелом состоянии, работа сердца и затрудненное дыхание указывали на то, что конец близок. Неопрятная дочь-альбинос и бородатый внук стояли рядом с кроватью, в то время как сверху, откуда-то над их головами, доносились всплески или шлепки, напоминающие плеск волн. Доктора, однако, более беспокоил свист ночных птиц за окнами: казалось, целый легион козодоев выкрикивал свой нескончаемый плач, дьявольски созвучный тяжелому неровному дыханию умирающего человека. Это было жутковато и неестественно, как, впрочем, — подумал доктор Хоутон, — и все в этой местности, куда он так неохотно поехал, отозвавшись на срочный вызов.
Около часа ночи старик Уэйтли пришел в сознание, перестал хрипеть и с трудом заговорил, обращаясь к внуку: «Больше места, Уил, скоро понадобится больше места. Ты растешь, а он растет быстрее. Скоро он сможет тебе служить, мальчик. Открой врата к Йог-Сототу при помощи того длинного псалма, который найдешь на странице 751 полного издания, а затем поджигай эту тюрьму. Обычный огонь с этим не справится».
Очевидно, он окончательно спятил. После паузы, во время которой стая козодоев за окном подстраивала свои крики к изменившемуся дыханию старика, а с холмов доносился пока что слабо различимый рокот, он добавил еще немного: «Корми его регулярно, Уил, и следи за количеством; но не позволяй расти слишком быстро, а то места не хватит, и он разломает помещение и выберется наружу прежде, чем ты откроешь врата к Йог-Сототу, и тогда ничего не получится. Только те, что оттуда, смогут все преумножить… Только те старцы, если захотят вернуться…»
Удушье прервало его речь, и Лавиния вскрикнула, услышав, как отреагировали на это козодои. Так продолжалось больше часа, когда наконец речь старика оборвал финальный горловой хрип. Доктор Хоутон опустил рукой сморщенные веки на остекленевшие серые глаза, а шум и крики птиц как-то незаметно стихли до полной тишины. Лавиния всхлипнула, а Уилбур хмыкнул, услышав донесшиеся с холмов громовые раскаты.
«Они упустили его», — пробурчал он густым басом.
К этому времени Уилбур стал уже известным эрудитом в своей области, с ним были знакомы по переписке многие библиотекари в самых отдаленных местах, где хранились редкие и запрещенные древние книги. В Данвиче его ненавидели все сильнее и боялись из-за нескольких странных исчезновений подростков, произошедших подозрительно близко к его дому; однако ему всегда удавалось остановить расследование при помощи страха или все тех же старинных золотых монет, которые, как и при жизни его деда, продолжали расходоваться на регулярную закупку скота.
Теперь он выглядел совершенно зрелым мужчиной, а рост его, достигнув среднего для взрослых людей, уже немного его превышал. В 1925 году, когда к нему заехал один из его корреспондентов из Мискатоникского университета, отбывший затем бледным и озадаченным, в нем было шесть и три четверти фута.
Все эти годы Уилбур с растущим презрением относился к своей матери, уродливой альбиноске, и в конце концов запретил ей сопровождать его при восхождении на вершину холма на Вальпургиеву ночь и на День всех святых, а в 1926 году несчастная женщина даже призналась Мейми Бишоп, что боится своего сына:
«К сожалению, я не могу рассказать тебе, Мейми, всего, что знаю о нем, — сказала Лавиния, — да теперь я уже и не все знаю. На Господа лишь уповаю, ибо не знаю ни чего хочет мой сын, ни чего он пытается добиться».
На тот раз в День всех святых грохот с вершин был сильнее обычного, но гораздо более внимание людей привлекли дружные крики множества козодоев, собравшихся, по-видимому, возле неосвещенного дома Уэйтли. После полуночи их вопли перешли в демонический хохот, заполнивший все окрестности, и только к рассвету они наконец угомонились. Затем они снялись и все полетели на юг, с запозданием на добрый месяц. В эту ночь никто из местных жителей, похоже, не умер — но бедную Лавинию Уэйтли, непривлекательную альбиноску, никто больше не видел.
Летом 1927 Уилбур отремонтировал два сарая во дворе фермы и принялся перетаскивать туда свои книги и прочее имущество. Вскоре после этого Эрл Сойер сообщил зевакам возле лавки Осборна, что в доме Уэйтли вновь начались плотницкие работы. Уилбур заколотил окна и двери основной части дома и, похоже, разбирает все перекрытия, как они с дедом сделали четыре года назад на мансарде. Он жил сейчас в одном из сараев и стал, по мнению Сойера, робким и озабоченным. Люди подозревали, что ему кое-что известно по поводу исчезновения матери, и очень немногие решались появляться вблизи его дома. Рост Уилбура уже превышал семь футов, и не было никаких признаков, что на этом он остановится.
Глава 5
В последующую зиму произошло такое странное событие, как первая поездка Уилбура за пределы Данвича. Переписка с библиотекой Уиденера в Гарварде, Bibliothéque Nationale в Париже, Британским Музеем, Университетом Буэнос-Айреса и библиотекой Мискатоникского университета в Аркхеме не помогла ему раздобыть те книги, в которых он отчаянно нуждался; поэтому в конце концов он отправился сам — в поношенной одежде, неопрятный, обросший бородой, разговаривающий на диалекте из сельской глубинки, — чтобы ознакомиться с книгой в мискатоникской библиотеке, географически самом близком к нему источнике необходимой литературы. Почти восьмифутового роста, с дешевым чемоданом из лавки Осборна, похожий на темную и чем-то напоминающую козла горгулью, он прибыл в Аркхем, чтобы получить хранящийся под замком в библиотеке колледжа ужасный том — «Некрономикон» безумного араба Абдулы Альхазреда в латинском переводе Олая Вормия, изданный в семнадцатом веке в Испании. Он никогда прежде не бывал в городе, но отправился прямиком к университету, на территорию которого прошел, не обращая внимания на огромного сторожевого пса с белыми клыками, который с невероятной яростью и враждой лаял на Уилбура и пытался сорваться с крепкой цепи.
Уилбур захватил с собой бесценный, но неважно сохранившийся экземпляр английского перевода интересующей его книги, выполненный доктором Ди, доставшийся ему в наследство от деда, и, едва заполучил латинский перевод, сразу же занялся сравнением двух текстов с целью найти определенный фрагмент, который должен был находиться на 751 странице его собственной поврежденной книги. Это ему пришлось не вполне дружелюбно объяснить библиотекарю — тому самому эрудиту Генри Армитажу (магистр наук Мискатоникского университета, доктор физических наук университета Принстона, доктор литературы колледжа Джонса Хопкинса), который когда-то приезжал к нему на ферму, а сейчас вежливо докучал расспросами. Уилбур признался, что ищет нечто типа магической формулы или заклинания, содержащее устрашающее имя «Йог-Сотот», причем озадачен наличием расхождений, повторов и двусмысленностей, которые крайне затрудняют нахождение правильного варианта. Пока он переписывал ту формулу, которую наконец выбрал, доктор Армитаж непреднамеренно посмотрел через его плечо на открытые страницы; книга, лежащая слева, латинская версия, содержала чудовищные угрозы миру и спокойствию человечества.
«А также не следует полагать, — гласил текст, который Армитаж в уме переводил на английский, — что человек — исконный или последний владыка Земли или что известный нам способ существования живых существ — единственный возможный. Старцы были, Старцы есть и Старцы будут. Не в том пространстве, какое мы знаем, но между пространствами, невозмутимые и первоосновные, не имеющие измерений и незримые. Йог-Сотот знает врата. Йог-Сотот и есть врата. Йог-Сотот — это и страж врат и ключ к ним. Прошлое, настоящее и будущее сливаются в нем воедино. Он знает, где Старцы совершили прорыв в прошлом, и где Они сделают это вновь. Он знает, где Они ступали по земле, и где Они все еще ступают, и почему никто не может увидеть, как Они делают это. По запаху Их люди могут иногда узнать, что Они рядом, но о внешности Их никакой человек ведать не может, разве что о некоторых чертах по ниспосланным Ими к человечеству тварям, коих существует великое множество — от таких, что полностью повторяют образ человека, до таких, у которых нет ни формы, ни материальной субстанции — то есть таких, как Они сами. Они проходят незамеченными, оставляя дурной запах, в тех безлюдных местностях, где поизносятся Слова и исполняются Обряды в подходящее для Них время. Ветер бормочет Их голосами, земля отзывается на Их помыслы. Они пригибают леса и сокрушают города, но ни лес, ни город не узрят руку, их разрушающую. Кадат среди холодных пустошей знал Их, но какому человеку ведом Кадат? В ледяной пустыне Юга и на затонувших островах Океана сохраняются камни, на которых запечатлен их знак, но кто побывал в скованном жестоким морозом городе или возле запечатанной башни, давно обросшей морскими водорослями и ракушками? Великий Ктулху — Их двоюродный брат, но даже он может видеть Их только смутно. Йа! Шаб-Ниггурат! Лишь по зловонию узнаете Их. Руки Их на горле у вас, но вы не видите Их, и обиталище Их там же, где ваше, но за охраняемым порогом. Йог-Сотот — вот ключ к тем вратам, где смыкаются сферы. Человек властвует сейчас там, где раньше властвовали Они; скоро Они будут властвовать там, где сейчас властвует человек. После лета наступает зима, после зимы наступает лето. Они ждут, могучие и терпеливые, ибо они будут царствовать здесь снова».
Доктор Армитаж, сопоставляя прочитанное только что с тем, что уже знал о Данвиче и его мрачных обитателях, о Уилбуре Уэйтли и его мрачной и устрашающей ауре, начиная от его странного появления на свет и до возможной причастности к смерти собственной матери, ощутил волну страха, столь же осязаемую, как дуновение липкого холода из могилы. Этот пригнувшийся, напоминающий козла гигант, сидевший перед ним, казался порождением иного мира или иного измерения; словно бы это было нечто лишь отчасти человеческое, но связанное с черными безднами сущности и сущностности, простирающимися титаническими фантомами по ту сторону энергии и материи, пространства и времени. Затем Уилбур поднял голову и заговорил своим странным резонирующим голосом, таким, словно его звуковоспроизводящие органы отличались от человеческих.
— Мистер Армитаж, — сказал он, — я вижу, что мне надо бы взять эту книгу с собой. В ней есть кое-что, что следует проверить в определенных условиях, а здесь их соблюсти невозможно, и будет непростительным грехом не позволить мне этого исходя из каких-то бюрократических правил. Разрешите на время взять ее с собой, сэр, и клянусь, что никто более не узнает. Безусловно, я буду очень аккуратен с ней. Могу оставить вам пока этот перевод Ди, в не очень хорошем…
Он замолчал, прочитав на лице библиотекаря твердый отказ, и его похожее на козлиное лицо приняло коварное, хитрое выражение. Армитаж, почти готовый сказать, что разрешает сделать копию с нужных страниц, вдруг подумал о возможных последствиях и сдержал себя. Слишком великую ответственность принимал бы он на себя, выдавая в руки такому существу ключ к столь богохульным внешним сферам. Уэйтли прочитал все это в его взгляде и постарался снять напряжение.
— Что ж, ладно, раз вы так к этому относитесь. Надеюсь, в Гарварде отнесутся к этому спокойнее. — И, не сказав больше ни слова, встал и покинул здание, пригибаясь в каждом дверном проеме.
Услышав дикий лай огромного сторожевого пса, Армитаж внимательно проследил за гориллоподобной походкой Уэйтли, пересекавшего ту часть университетского двора, что была видна в окно. Ему припомнились всякие услышанные безумные истории, статьи в воскресных выпусках «Эдвертайзера», а также то, о чем он узнал от грубых и неотесанных жителей Данвича во время своего единственного визита туда. Невиданные на земле твари — по крайней мере на трехмерной земле — ужасные и зловонные, таились в лощинах Новой Англии и бесстыдно обосновались на верхушках холмов. Все это вселило в него уверенность, что он поступил правильно. Теперь казалось, что он ощутил близкое присутствие надвигающегося ужаса и увидел мельком дьявольское приближение древнего, но пребывавшего прежде бездеятельным ночного кошмара. Армитаж с дрожью отвращения запер «Некрономикон», однако в комнате все еще оставалось неопознаваемое, но какое-то омерзительное зловоние. «По зловонию узнаете Их», — припомнил он написанное в книге. Да — этот запах был точно такой же, как и тот, от которого ему стало дурно в фермерском доме Уэйтли менее трех лет назад. Его мысли вернулись к Уилбуру, зловещему, звероподобному, и он насмешливо хмыкнул, вспомнив сельские сплетни о его происхождении.
«Кровосмешение? — пробормотал вслух Армитаж. — Боже мой, какие простаки! Если бы они увидели Великого Бога Пана из рассказа Артура Мейчена, то подумали бы, что это плод заурядного данвичского блуда! Но что за тварью — какой дьявольской бесформенной сущностью, на этой трехмерной земле или вне ее — был отец Уилбура Уэйтли? Мальчик родился на Сретение — спустя девять месяцев после Вальпургиевой ночи 1912 года, когда слухи о странных звуках из-под земли ходили даже по Аркхему — что же произошло на вершине холма той майской ночью и кто там побывал? Какой ужас воплотился в нашем мире на Воздвижение Креста Господня в получеловеческой плоти и крови?»
За последующие недели доктор Армитаж постарался собрать все возможные данные об Уилбуре Уэйтли и присутствии в районе Данвича чего-то бесформенного. Он связался с доктором Хоутоном из Эйлсбери, присутствовавшим при последних минутах старика Уэйтли, и нашел в последних словах старика, переданных ему врачом, немало поводов для размышлений. Поездка в Данвич-Вилледж почти не дала новой информации, но внимательное изучение «Некрономикона», особенно тех страниц, которыми так страстно заинтересовался Уилбур, дало ему новые ужасные ключи к природе, методам и вожделениям странного зла, столь смутно угрожающего этой планете. Беседы с несколькими исследователями древних учений из Бостона, обмен письмами со многими другими в самых различных местах вызвали у него растущее изумление, которое, медленно развиваясь через разные стадии беспокойства, в конце концов дошло до состояния острого духовного страха. Лето проходило, и он смутно чувствовал, что необходимо предпринять какие-то действия в отношении кошмара, затаившегося в верховьях Мискатоника, и чудовищного создания, известного людям под именем Уилбур Уэйтли.
Глава 6
Сам данвичский ужас пришелся на период между праздником урожая и равноденствием 1928 года, и доктор Армитаж был одним из свидетелей его чудовищного пролога. Он прослышал об эксцентричной поездке Уилбура в Кембридж и его отчаянных попытках заполучить «Некрономикон» в свое распоряжение или снять копии с его страниц в библиотеке Уиденера. Попытки эти оказались напрасными, поскольку Армитаж успел настоятельно попросить всех библиотекарей, в чьем распоряжении имелся этот ужасный том, ни в коем случае не выдавать его. Оказавшись в Кембридже, Уилбур ужасно нервничал; ему очень хотелось заполучить эту книгу и столь же сильно хотелось побыстрее попасть домой, как будто он опасался каких-то последствий своего долгого отсутствия.
В начале августа случилось вполне ожидаемое. В ночь на третье августа, через несколько часов после полуночи, доктор Армитаж был внезапно разбужен диким, яростным лаем свирепого сторожевого пса на университетском дворе. Внушающие ужас басовитые гавканья, полубезумный рык и лай не прекращались; в них были пугающие, имеющие какое-то зловещее значение паузы, после которых они становились с каждым разом еще громче. А затем оттуда донесся вопль, вырвавшийся из другой глотки, — такой вопль, что разбудил в Аркхеме половину спавших и затем долго преследовал их во сне — такой вопль, какого не могло издать ни одно земное существо, или, во всяком случае, полностью земное.
Армитаж, одевшись наспех и поспешив через лужайку и улицу к зданиям колледжа, увидел, что не он один торопится посмотреть, что произошло, некоторые опережали его, и услышал эхо завываний охранной сигнализации, установленной в библиотеке. В лунном свете чернел провал открытого окна. Незваный гость безусловно смог проникнуть внутрь, ибо лай, теперь переходящий в вой и глухое рычание, доносился уже изнутри. Какое-то чутье подсказало Армитажу, что происходящее там не стоит видеть неподготовленному человеку, поэтому он властно осадил толпу, заставив чуть отступить, после чего отпер двери вестибюля. Увидев среди зевак профессора Уоррена Райса и доктора Фрэнсиса Моргана, он высказал им свои предположения и предчувствия, и они присоединились к нему, готовые сопровождать его внутри. Звуки, доносившиеся из библиотеки, к тому моменту стали значительно тише, сменившись монотонными жалобными поскуливаниями; но тут же из окружающих кустов зазвучал целый хор козодоев, посвистывающих дьявольски ритмично, как будто в унисон с последними вдохами умирающего.
Внутри здания оказалось ужасное зловоние, слишком хорошо знакомое доктору Армитажу, и все трое направились через вестибюль к маленькому читальному залу, откуда доносились басовитые подвывания. Несколько секунд никто из них не решался зажечь свет, но наконец Армитаж собрался с мужеством и щелкнул выключателем. Один из троих — трудно сказать, кто именно — громко закричал, увидев то, что было распростерто перед ними среди раздвинутых в беспорядке столов и опрокинутых стульев. Профессор Райс позднее рассказывал, что на мгновение потерял сознание, хотя и удержался на ногах.
Существо, лежавшее, скрючившись, на боку в зловонной луже зелено-желтого гноя, липкого как деготь, достигало в длину почти девяти футов, и собака содрала с него всю одежду и частично кожу. Оно было еще не совсем мертво и судорожно подергивалось, а грудь его вздымалась в чудовищной синхронности с безумным пением собравшихся снаружи козодоев. Обрывки одежды этого существа и кусочки кожи с его ботинок были разбросаны по комнате, а прямо в окне, где, очевидно, и был брошен, лежал пустой холщовый мешок. Возле главного стола на полу лежал пистолет, и несработавший патрон со вмятиной от бойка впоследствии объяснил, почему это оружие не было пущено в ход. Однако само существо, лежащее на полу, в тот момент отвлекло внимание от всех прочих подробностей. Можно было бы шаблонно и не вполне добросовестно заявить, что описать его невозможно, но более справедливым будет признать, что его невозможно описать тому, чьи представления слишком тесно связаны с характерными для этой планеты формами жизни и с тремя известными нам измерениями. Отчасти это существо было человеческим, руки и голова были очень похожи на мужские, козлиное лицо без подбородка имело характерные черты семейства Уэйтли. Однако торс и нижняя часть тела были тератологически загадочными, и, судя по всему, лишь большое количество одежды позволяло существу передвигаться по земле без ущерба для своих конечностей.
Выше пояса оно было отчасти антропоморфным, хотя его грудь, куда все еще впивались когти настороженно замершего пса, была покрыта кожей с сетчатым узором, наподобие крокодиловой. Спину покрывало чередование желтых и черных пятен, напоминающее чешую некоторых змей. Ниже пояса, однако, все выглядело ужасно, ибо тут всякое сходство с людьми заканчивалось и начиналась область полнейшей фантазии. Кожу покрывала густая черная шерсть, а из области живота свободно свисало множество длинных зеленовато-серых щупалец с красными ртами-присосками. Их взаимное расположение было странным и, казалось, соответствовало симметрии некой космической геометрии, неизвестной на Земле или в Солнечной системе. На каждом из бедер, глубоко утопленные в розоватых и снабженных ресницами впадинах, располагалось то, что казалось недоразвитыми глазами; на месте хвоста у существа было что-то типа хобота или щупа, составленного из пурпурных колечек, и многое свидетельствовало о том, что это недоразвитый рот. Нижние конечности, если не принимать во внимание покрывавшую их густую шерсть, напоминали лапы гигантских доисторических ящеров; завершались они подушечками с набухшими венами, не походившими ни на когти, ни на копыта. При дыхании существа его хвост и щупальца ритмично меняли цвет, как будто подчиняясь какому-то циклическому процессу, от нормального до совершенно нечеловеческого зеленого оттенка; на хвосте же это проявлялось еще в перемене от желтого до грязноватого серо-белого в тех местах, что разделяли пурпурные кольца. Никакой крови не было — только зловонная зеленовато-желтая сукровица, растекающаяся по крашеному полу за пределы загустевшей лужицы и странным образом обесцвечивающая его.
Присутствие трех человек, похоже, побудило умирающее существо собраться с силами, оно забормотало что-то, не поворачиваясь и не поднимая головы. Доктор Армитаж не сделал записи произнесенных звуков, но твердо заверил, что не было произнесено ни одного слова по-английски. Поначалу произносимые слоги не походили ни на какой из известных на Земле языков, однако затем стали появляться разрозненные фрагменты, заимствованные, судя по всему, из «Некрономикона», этой чудовищно богохульной книги, в поисках которой существо явно и прибыло сюда. Эти фрагменты, как припомнил Армитаж, звучали следующим образом: «Н’гаи, н’гха’гхаа, багг-шоггог, й’хах; Йог-Сотот, Йог-Сотот…» Это постепенно стихало, сопровождаемое криками козодоев, ритмичным крещендо злобного предвкушения смерти.
Затем дыхание остановилось, пес поднял голову и издал протяжный траурный вой. В желтом, напоминающем козлиное лице лежащего на полу существа произошли изменения, огромные черные глаза запали ужасающе глубоко. Крики козодоев за окном вдруг прекратились, раздалось паническое хлопанье крыльев, перекрывающее ропот собравшейся толпы, и луну на время закрыла туча пернатых наблюдателей, скрывшихся затем из вида, обозленных, что добыча им не досталась. Пес вдруг резко сорвался с места, испуганно гавкнул и выскочил через окно. Из толпы донеслись крики, но доктор Армитаж громко объявил собравшимся снаружи, что никого нельзя впускать в здание до тех пор, пока не приедет полиция или медицинский эксперт. Он порадовался, что окна расположены достаточно высоко и в них нельзя заглянуть с улицы, но тем не менее старательно опустил темные шторы на каждом окне. В это время прибыли двое полицейских; доктор Морган встретил их в вестибюле и попросил, ради их собственного блага, не торопиться заходить в пропитанный зловонием читальный зал, пока не прибудет медицинский эксперт и распростертое на полу существо не будет чем-нибудь накрыто.
Тем временем на полу читального зала происходили пугающие перемены. Наверное, не стоит описывать, какого рода распад происходил перед глазами доктора Армитажа и профессора Райса и насколько стремительным он был, но имеет смысл отметить, что, помимо внешнего очертания лица и рук, подлинно человеческих элементов в Уилбуре Уэйтли, похоже, было крайне мало. Когда прибыл медицинский эксперт, на крашеном деревянном полу осталась только липкая беловатая масса, да и зловоние почти исчезло. Судя по всему, Уэйтли не имел черепа и костного скелета, во всяком случае, в том смысле, как мы это понимаем. Наверное, в этом отношении он был похож на своего неизвестного отца.
Глава 7
Но все это было лишь прологом к самому данвичскому ужасу. Озадаченные представители официальной власти выполнили необходимые формальности, аномальные детали происшедшего были старательно скрыты от публики и прессы; в Данвич и Эйлсбери были отправлены официальные представители с целью установить, какая осталась собственность и кто может являться наследником покойного Уилбура Уэйтли. Они застали сельских жителей в большом волнении, как из-за усилившегося грохота из-под куполообразных холмов, так и от жуткого зловония и громких всплесков и шлепков, доносящихся из пустого остова, обшитого досками, который прежде был домом семьи Уэйтли. Эрл Сойер, присматривавший во время отсутствия Уилбура за лошадью и скотиной, заполучил тяжелое нервное расстройство. Официальные представители предпочли не входить в заколоченный досками дом, такой шумный и пугающий, и ограничились однократным осмотром жилища покойного, то есть недавно построенного сарая. Они составили и сдали в Эйлсбери солидный отчет обо всем этом, на основании которого до сих пор ведутся тяжбы о наследовании между бесчисленными Уэйтли, проживающими в верховьях Мискатоника.
Почти бесконечная рукопись странными символами в огромном гроссбухе, более всего похожая на дневник, о чем свидетельствовали промежутки между записями, использование различных чернил и изменения в почерке, оказалась неразрешимой загадкой для тех, кто нашел ее на стареньком бюро, служившем хозяину дома письменным столом. После недели всяческих обсуждений ее отослали в Мискатоникский университет вместе с коллекцией странных книг, для изучения и возможной расшифровки; но даже лучшие лингвисты вскоре поняли, что решить эту загадку будет очень непросто. Никаких следов старинного золота, которым всегда расплачивались Уилбур и старик Уэйтли, обнаружено не было.
Ужас вырвался на свободу вечером девятого сентября. В этот вечер грохот от холмов был особенно сильным, и собаки всю ночь неистово лаяли. Проснувшиеся рано утром десятого сентября ощутили в воздухе странное зловоние. Около семи часов утра Лютер Браун, мальчишка-поденщик на ферме Джорджа Кори, расположенной между лощиной Холодных ключей и городком, в диком испуге прибежал домой, не завершив свой обычный утренний маршрут к Десятиакровому лугу, где выпасался скот. Забившись на кухню, он пребывал почти в истерике от страха; во дворе топталось и жалобно мычало столь же напуганное стадо — коровы в панике побежали вслед за мальчиком. С трудом дыша, Лютер попытался рассказать миссис Кори:
— Там, выше по дороге, за лощиной, миссис Кори… там что-то такое! Запах как при грозе, а все кусты и маленькие деревья помяты и придавлены в сторону от дороги, как будто протащили целый дом. Но это еще не все, это не страшное. Там есть следы на дороге, миссис Кори… огромные круглые отпечатки, как от днища бочки, но глубоко вдавлены, как будто прошел слон, только их намного больше, чем сделали бы четыре ноги! Я посмотрел на несколько тех отпечатков, прежде чем убежал оттуда; в каждом такие линии, идущие из одной точки, как у пальмового листа… только раза в три больше… И запах ужасный, примерно как возле старого дома Колдуна Уэйтли…
На этом он остановился и снова впал в дрожь от страха, заставившего его бегом вернуться домой. Миссис Кори, не имея никакой другой информации, принялась обзванивать соседей, начиная тем самым увертюру паники, предварявшую главный кошмар. Когда она дозвонилась до Салли Сойер, экономки Сета Бишопа, ближайшего соседа Уэйтли, то настал ее черед выслушивать, а не рассказывать: Чонси, мальчик Салли, которому ночью не спалось, прошелся вдоль холма в сторону дома Уэйтли и, едва взглянув мельком на их усадьбу и на пастбище, где на ночь были оставлены коровы мистера Бишопа, в ужасе побежал назад.
— Да, миссис Кори, — голос Салли на том конце провода дрожал, — Чонси сразу же прибежал и не мог ничего толком рассказать — так напуган был! Говорит, что дом старика Уэйтли весь разломан и доски разбросаны вокруг, как будто его изнутри динамитом взорвали, но при этом пол нижнего этажа цел, только весь заляпан пятнами, как будто дегтем, и пахнут они ужасно и капают на землю через край там, где доски все разломаны. И еще там какие-то ужасные отметины в саду — большие круглые отметины размером с большую бочку, и во всех них такая же липкая дрянь, как и во взорванном доме. Чонси говорит, что они ведут туда, к лугам, и продавленный след там шире, чем большой амбар.
И он еще сказал, такое сказал, миссис Кори, что решил поискать коров Сета, хоть и был напуган до смерти; и он их нашел на верхнем пастбище возле Хмельника Дьявола, и они были в жутком виде. Половина из них совсем исчезли, как не было, а у остальных как будто почти всю кровь высосали и такие болячки, как, помните, были у скотины Уэйтли, после того как у Лавинии родился этот чернявый ублюдок. Сет пошел посмотреть на коров, хотя, клянусь чем угодно, он вряд ли решится приблизиться к дому Колдуна Уэйтли! Чонси толком не разглядел, куда ведут эти глубокие круглые отметины, но говорит, что, скорей всего, они идут к лощине, через которую дорога в городок.
Я скажу вам, миссис Кори, там что-то есть такое, что-то не то… Думаю, этот Уилбур Уэйтли — он заслужил такой плохой конец, потому что все это из-за него. Он не совсем человек, я это всегда всем говорила, и думаю, что они со стариком Уэйтли что-то там выращивали в этом своем заколоченном доме, что-то еще более плохое, чем он сам. Вокруг Данвича всегда водились призраки — нечто живое — не такие, как люди, и опасные для людей.
Земля вчера опять не молчала, а под утро Чонси слышал, как в лощине Холодных ключей громко кричали козодои, он глаз сомкнуть не мог. А потом ему показалось, что он слышит другие, слабые звуки со стороны дома Колдуна Уэйтли, — как будто дерево трещит или доски отдирают, или как будто ящик деревянный разламывают. Он ночью до рассвета не спал, а встав, первым делом пошел к Уэйтли, чтобы посмотреть, и скажу вам, миссис Кори, увидел он достаточно! Ничего хорошего в этом нет, и я думаю, что в этом все должны принять участие. Я знаю, что происходит что-то ужасное, и чувствую, что мне недолго осталось жить, но только один Бог знает, что это.
А ваш Лютер заметил, куда ведут эти большие следы? Нет? Что ж, миссис Кори, если они были на дороге с этой стороны лощины и если они не привели к вашем дому, тогда они, скорее всего, уходят туда, в лощину. Так должно быть. Я всегда говорила, что эта лощина Холодных ключей — нездоровое и дурное место. Козодои и светлячки ведут себя совсем не так, как Божьи твари, а кроме того говорят, что там вы можете услышать странные вещи, снизу, если будете стоять между обрывом и Медвежьей Берлогой.
К полудню три четверти мужского взрослого населения Данвича и подростки ходили толпами по дорогам и лугам между свежими развалинами дома Уэйтли и лощиной Холодных ключей, в ужасе рассматривая чудовищные гигантские следы, изувеченных коров Бишопа, странные, зловонные остатки фермерского дома и примятые заросли растительности на полях и обочинах дороги. То, что вырвалось на свободу в наш мир, без сомнения, спустилось в находившееся там огромное зловещее ущелье: все деревья на его краю были согнуты или сломаны, а в нависающем над крутым склоном подлеске образовалась широкая дорога. Можно было подумать, что по крутому склону ущелья соскользнуло что-то размером с дом, пропахав густые заросли деревьев и кустарника. Снизу не доносилось ни звука, а только отдаленное, почти неразличимое зловоние; неудивительно, что собравшиеся мужчины предпочитали стоять наверху крутого склона, вместо того чтобы спуститься вниз и напасть на ужасного неведомого циклопа в его логове. Три собаки, сопровождавшие людей, поначалу яростно заливались лаем, однако, приблизившись к ущелью, трусливо притихли. Кто-то позвонил и сообщил все новости в «Эйлсбери транскрипт», однако редактор, привыкший к диким россказням из Данвича, ограничился тем, что составил небольшую, в один абзац, юмористическую заметку, которую затем воспроизвело агентство «Ассошиэйтед пресс».
К ночи все забились по своим домам и максимально крепко забаррикадировали двери всех домов и сараев. Конечно же, ни одна корова не была оставлена на пастбище. Около двух часов ночи ужасающее зловоние и дикий собачий лай разбудил семейство Элмера Фрая, на восточном склоне лощины Холодных ключей, и все потом единодушно уверяли, что откуда-то неподалеку доносились приглушенные всплески и шлепки. Миссис Фрай предложила позвонить соседям, и Элмер уже готов был с ней согласиться, но тут их дискуссию прервал треск ломающегося дерева. Звуки доносились, по всей видимости, из сарая: сразу же за этим послышались ужасные крики и топот скота. Собаки подползли и прижались к ногам ошеломленных от страха людей. Фрай в силу привычки зажег фонарь, но прекрасно понимал, что выйти сейчас в темноту двора равносильно смерти. Дети и женщины хныкали, удерживаясь от крика только каким-то загадочным, почти подавленным инстинктом самосохранения, говорящим им, что их жизни зависят от сохранения тишины. Наконец крики скота затихли, перейдя в жалостливое мычание, после чего, и тогда стали слышны удары, стук и треск. Семейство Фраев, прижавшись друг к другу в гостиной, не решалось двигаться, пока звуки перемещения снаружи не затихли где-то далеко внизу в лощине Холодных ключей. Лишь тогда Селина Фрай бросилась к телефону и, под сдавленные стоны, доносящиеся из хлева, и демонические крики ночных козодоев, несущиеся из лощины, рассказала всем, кому смогла, о второй фазе данвичского ужаса.
На следующий день всю округу охватила настоящая паника: перепуганные группки людей прохаживались, не общаясь друг с другом, по месту вчерашних дьявольских событий. Две широкие продавленные полосы протянулись от лощины ко двору Фраев, чудовищные отпечатки покрывали оголенные участки земли, а у старого сарая одна стена полностью отсутствовала. Из стада удалось найти только четвертую часть. Некоторые из коров были растерзаны, а оставшихся в живых пришлось пристрелить. Эрл Сойер предложил обратиться за помощью в Эйлсбери или Аркхем, но все прочие сошлись во мнении, что проку от этого не будет. Старый Завулон Уэйтли, из той ветви Уэйтли, что занимала промежуточную стадию между нормальностью и вырождением, высказал мрачные предположения относительно тех обрядов, которые, видимо, совершались на вершинах холмов. Он происходил из семейства, где крепки традиции, и потому его воспоминания о песнопениях внутри огромных кругов из каменных столбов были связаны не только с Уилбуром и его дедушкой.
Тьма снова опустилась на пораженный ужасом городок, слишком пассивный, чтобы организовать реальное сопротивление. В нескольких случаях семейства, связанные близким родством, собирались вместе и пребывали в мрачном унынии под одной крышей, однако в большинстве случаев повторилось вчерашнее баррикадирование, доказавшее свою бесполезность; некоторые зарядили мушкеты и поставили наготове вилы. Однако в эту ночь ничего не произошло, если не считать рокота, доносившегося с холмов, и когда наступило утро, многие надеялись, что кошмар прекратился так же внезапно, как и пришел. Некоторые отчаянные головы даже предлагали совершить экспедицию в лощину, в качестве наступательной меры, однако никто не рискнул подать собой пример для пассивного большинства.
И снова наступила ночь, вновь баррикадировались входы в жилища, хотя теперь меньшее количество семей собирались вместе. Наутро и семейство Фраев, и домочадцы Сета Бишопа сообщили о волнении среди собак, а также о непонятных звуках и запахах, доносящихся издали; в то время как вышедшие поутру на разведку добровольцы с ужасом обнаружили свежие отпечатки чудовищных следов на дороге, проходящей по краю Сторожевого холма. Как и прежде, обе стороны дороги несли на себе следы повреждений, вызванных прохождением дьявольской гигантской массы, при этом характер следов говорил о движении в двух направлениях, словно бы движущаяся гора пришла со стороны лощины Холодных ключей, а затем вернулась обратно. У самого подножья холма полоса смятого кустарника тридцатифутовой ширины уходила вверх, и у следопытов перехватило дыхание, когда они увидели, что неумолимый след идет даже по наиболее отвесным, почти перпендикулярным земле участкам. Каким бы ни было это кошмарное существо, оно могло взбираться по практически вертикальной каменной стене; когда же исследователи взобрались безопасными тропами на самый верх, они обнаружили, что там следы заканчиваются, или, точнее, поворачивают в противоположную сторону.
Здесь было то самое место, где Уэйтли прежде разводили костры и проводили свои дьявольские песнопения у камня в форме стола на Вальпургиеву ночь и на День всех святых. Теперь этот камень лежал в центре обширного пространства, истоптанного циклопическим ужасным существом, а его слегка вогнутая поверхность была измазана той же густой и зловонной липкой массой, которая была на полу разрушенного дома Уэйтли, когда кошмар начался. Очевидно, ужасное существо спустилось тем же путем, каким поднялось сюда. Пытаться что-либо понять было бесполезно. Логика, разум и нормальные представления о мотивации действий здесь явно не срабатывали. Только старый Завулон, сегодня никуда не ходивший, мог бы, наверное, разобраться в ситуации и дать возможное объяснение.
Ночь четверга началась примерно так же, как и предыдущая, однако окончание ее было трагическим. Козодои в лощине кричали с такой необыкновенной настойчивостью, что многим не удавалось уснуть, а где-то около трех часов ночи в некоторых домах раздались телефонные звонки. Снимавшие трубку слышали только, как обезумевший от страха человек кричал: «Помогите, о Боже!..», затем грохот падения, и разговор прерывался. Никто не решился выйти из дому попытаться что-либо предпринять, и до самого утра неизвестно было, откуда звонили. Поутру же стали обзванивать все номера подряд и обнаружили, что не отвечает только номер Фраев. Истина открылась часом позже, когда торопливо собранная группа вооруженных мужчин подошла к дому Фрая, расположенному у начала лощины. То, что там увидели, ужасало, хотя и не было неожиданным. Там появились дополнительные проплешины на земле и еще множество страшных отпечатков, но никакого дома уже не осталось. Он был смят и раздавлен, как яичная скорлупа, причем среди развалин не удалось найти ни живых, ни мертвых. Только зловоние и липкая масса. Семейство Элмера Фрая было стерто из Данвича подчистую.
Глава 8
А тем временем более тихая, хотя в духовном смысле куда более драматическая часть этих ужасных событий разворачивалась в Аркхеме за закрытыми дверями заставленной книжными полками комнаты. Загадочная рукопись, записи или дневник Уилбура Уэйтли, присланная в Мискатоникский университет для расшифровки, вызвала беспокойство и озадаченность специалистов как по древним, так и по современным языкам; даже использованный в ней алфавит, имеющий некоторое сходство с применявшимся когда-то в Месопотамии, был абсолютно неизвестен даже самым лучшим специалистам. Окончательное заключение лингвистов гласило, что текст представляет собой запись с использованием искусственного алфавита, что дает эффект шифрования; однако ни один из простых методов криптографии не дал никакой подсказки, никакого ключа к пониманию, даже когда их последовательно перебрали применительно к различным языкам, которым мог бы пользоваться ведущий записи. Древние книги из дома Уэйтли хотя и были исключительно интересными и в ряде случаев открывали возможность провести перспективные научные исследования, ничем не помогали в расшифровке текста рукописи. Одна из них, объемистый том с железной застежкой, тоже была написана неизвестным алфавитом — совсем другой природы, имеющим большое сходство с санскритом. Старый гроссбух в конце концов оказался в распоряжении доктора Армитажа, как ввиду его особого интереса к семейству Уэйтли, так и благодаря обширным лингвистическим познаниям и знакомству с мистическими формулами античных времен и Средневековья.
У Армитажа была мысль, что этот алфавит может представлять собой средство тайнописи, использующееся некоторыми запрещенными культами, сохранившимися с глубокой древности и унаследовавшими многие формы и традиции от колдунов Сарацинии. Однако этот аспект он считал не самым важным, ибо не так уж важно знать источник и происхождение написания самих символов, если они использовались, как он подозревал, для зашифровки текста на современном языке. Его убеждение основывалось на том, что при таком гигантском объеме текста пишущий вряд ли стал бы пользоваться иным языком, помимо родного, разве что в случае отдельных особых формул и заклинаний. Исходя из этого он штурмовал тайну рукописи, предполагая, что в основе ее лежит английский язык.
Доктор Армитаж знал, судя по серии неудачных попыток своих коллег, что загадка сложная и трудноразрешимая; что не стоит даже пытаться найти какое-то простое решение. Весь остаток августа он штудировал в огромном количестве исследования по криптографии; обложился наиболее важными сочинениями по этим вопросам, нашедшимися в библиотеке, и проводил бессонные ночи среди тайн «Polygraphia» Тритемия, «De Furtivis Literarum Notis» Джамбаттиста Порта, «Traiñté des Chiffres»» де Виженера, «Cryptomenysis Patefacta» Фальконера, изучил трактаты восемнадцатого века Дэвиса и Тикнесса, а также труды современных специалистов, таких как Блэйр, фон Мартенс и Клюбер[47]; в результате он пришел к убеждению, что имеет дело с одной из самых изощренных криптографических систем, в которой списки взаимно соотносящихся букв выстроены как таблица умножения, и текст составляется при помощи ключевых слов, известных лишь ограниченному кругу лиц. Ученые прошлого дали ему гораздо больше, чем современные исследователи, и Армитаж решил, что ключ к рукописи происходит из глубины веков, но, без сомнения, многократно преобразован экспериментаторами-мистиками. Несколько раз казалось ему, что впереди забрезжил свет истины, но всякий раз какое-то обстоятельство становилось неодолимым препятствием. И наконец, в сентябре, тучи начали рассеиваться. Удалось точно идентифицировать некоторые буквы, находившиеся в определенных местах рукописи, и стало ясно, что исходный текст действительно написан на английском.
Вечером второго сентября от его усилий пал последний барьер, и Армитаж смог прочитать первый связный фрагмент записей Уилбура Уэйтли. Как и предполагали с самого начала, это был дневник: текст отражал как огромную эрудицию в отношении оккультизма, так и общее невежество странного существа, ведущего эти записи. Одна из первых длинных заметок, расшифрованных Армитажем, относилась к 26 ноября 1916 года и оказалась крайне странной и вызывающей тревогу. Это было написано, вспомнил ученый, мальчиком трех с половиной лет, внешне выглядевшим на двенадцать-тринадцать:
«Сегодня учил Акло для Саваофа (получилось), он мне не понравился, отвечают с холма, а не из воздуха. Который наверху опережает меня больше, чем я думал, и, кажется, у него немного земных мозгов. Выстрелил в Джека, колли Элама Хатчинса, когда тот подбежал укусить меня, и Элам сказал, что убьет меня, если тот умрет. Думаю, что нет. Вчера вечером дедушка заставлял меня повторять формулу Дхо, и я, похоже, видел внутренний город у 2 магнитных полюсов. Я попаду на эти полюса, когда земля будет очищена, если не смогу пробиться при помощи заклинания Дхо-Нха, когда совершу это. Которые из воздуха сказали мне на шабаше, что пройдут годы, прежде чем я смогу очистить землю, и к тому времени дедушка, скорее всего, уже умрет, поэтому я должен выучить все наклоны планов и все формулы заклинания от Йр до Нххнгр. Которые снаружи помогут, но они не способны занять тело без человеческой крови. Который наверху, похоже, будет точным образцом этого. Я могу отчасти видеть его, когда сотворяю знак Вууриш или посыпаю порошком Ибн Гази, и он похож на тех, кто бывает на Холме в Вальпургиеву ночь. Интересно, как я буду выглядеть, когда земля будет очищена и на ней не останется земных существ? Тот, кто ответил на Акло Саваофа, сказал, что я, наверное, преобразованный, чтобы те, которые снаружи, могли действовать».
Утро доктор Армитаж встретил в холодном поту от ужаса и безумной концентрации усилий. Он всю ночь не отрывался от рукописи, сидя при свете электрической лампы и дрожащими руками переворачивая страницу за страницей, стараясь как можно быстрее расшифровать загадочный текст. Он взволнованно позвонил домой жене и сказал, что не придет, а когда она принесла ему завтрак, съел лишь самую малость. Весь день он продолжал читать, время от времени с раздражением останавливаясь, когда требовалось применять более сложный ключ. Ему принесли ланч и обед, но он опять съел лишь самую малость. В середине следующей ночи он задремал, сидя на стуле, но вскоре оказался разбужен кошмаром, почти столь же ужасным, как раскрытая им истинная угроза существованию человечества.
Утром четвертого сентября профессор Райс и доктор Морган настояли на встрече с ним, после которой вышли дрожащие и пепельно-серые. Вечером он лег спать, но спал беспокойно. На следующий день, в среду, он вернулся к расшифровке рукописи и принялся делать обширные выписки из новых записей и тех, что он читал ранее. После полуночи он немного поспал, прямо в кресле в своем кабинете, но к рассвету уже вновь работал над рукописью. Незадолго до полудня доктор Хартвелл, врач, навестил его и настаивал на прекращении этой изнуряющей работы. Армитаж отказался, заявив, что для него важно как можно скорее дочитать рукопись и найти объяснение происходящему. Этим вечером, едва наступили сумерки, он наконец завершил это ужасное чтение и в полном бессилии откинулся в кресле. Жена, принеся ужин, нашла его в полубессознательном состоянии, но он оказался в состоянии резким окриком остановить ее, когда увидел, что она смотрит на записи, сделанные его рукой. С трудом поднявшись, он собрал исписанные листы и запечатал их в большой конверт, который положил во внутренний карман пальто. Ему хватило сил дойти до дома, но он явно нуждался в медицинской помощи, поэтому немедленно был вызван доктор Хартвелл. Когда доктор укладывал Армитажа в постель, тот лишь беспрестанно бормотал: «Но что же, во имя Господа, мы можем сделать?»
Выспавшись, на следующий день доктор Армитаж как будто бредил. Он ничего не объяснил доктору Хартвеллу, но, в недолгие периоды успокоения, настаивал на серьезном и долгом разговоре с Райсом и Морганом. Его бессвязный лепет был довольно причудливым, например, он неистово требовал уничтожить что-то такое, что находится в заколоченном фермерском доме; ссылался на какой-то фантастический план уничтожения всей человеческой расы, всей животной и растительной жизни на земле какой-то ужасной более древней расой существ из иного измерения. Он кричал, что мир в опасности, поскольку Древние Существа хотят полностью очистить его и утащить из Солнечной системы и космического пространства в какую-то другую грань или фазу вечности, откуда он однажды выпал, вигинтиллионы эпох назад. А иногда просил принести ему чудовищный «Некрономикон» или «Демонолатрию» Ремигия, в которых надеялся найти какую-нибудь формулу, способную волшебным образом развеять нависшую опасность.
«Их надо остановить! — выкрикивал он время от времени. — Эти Уэйтли собираются впустить их, и самый опасный все еще остался! Скажите Райсу и Моргану, что мы должны сделать что-нибудь — совершать это придется вслепую, но я знаю, как изготовить порошок… Его не кормили со второго августа, когда Уилбур прибыл сюда и обрел здесь смерть, и с таким темпом…»
По счастью, Армитаж обладал крепким для своих семидесяти трех лет здоровьем и, выспавшись, смог справиться и не впасть в полное помешательство. В пятницу утром он проснулся с ясной головой, но терзаемый изнутри страхом и осознанием огромной ответственности. В субботу он чувствовал себя уже достаточно хорошо, чтобы дойти до библиотеки и вызвать к себе Райса и Моргана, так что оставшуюся часть дня и весь вечер трое ученых напрягали свои умственные способности в яростных дискуссиях и для проверок даже самых диких предположений. Книги странного, загадочного и ужасного содержания были в огромных количествах принесены с полок и из хранилищ; копии диаграмм, формул и заклинаний делались с лихорадочной быстротой и в пугающем изобилии. Скептицизм у них полностью отсутствовал. Все трое видели тело Уилбура Уэйтли, лежавшее на полу в комнате этого самого здания, и после этого ни один из них не мог относиться к его дневнику как к запискам сумасшедшего.
По вопросу, нужно ли обратиться в полицию штата Массачусетс, мнения разделились, и негативное в итоге возобладало. Здесь дело касалось такого, во что непосвященный просто не поверил бы — дальнейшие события подтвердили, что это действительно так. Обсуждение завершилось поздно ночью, не породив никакого плана действий, а все воскресенье Армитаж был занят изучением древних рецептов и смешиванием различных химикатов, полученных из университетской лаборатории. Чем дольше он размышлял над дьявольским дневником, тем сильнее сомневался в возможности уничтожить каким-либо химическим средством существо, оставшееся после смерти Уилбура Уэйтли, — он еще не знал, что это существо, угрожающее всей планете, через несколько часов вырвется на волю и станет причиной надолго запомнившегося данвичского ужаса.
В понедельник продолжилось все то же, что было в воскресенье, ибо стоявшая перед ним задача требовала долгих исследований и многих экспериментов. Более тщательное изучение чудовищного дневника привело к появлению различных вариаций задуманного плана, и Армитаж не сомневался, что, сколько бы он ни готовился, полной уверенности в успехе все равно не будет. К вечеру вторника он наметил в основных чертах свои действия и принял решение о необходимости отправиться в Данвич на этой неделе. После этого в среду ему довелось испытать шок.
В уголке страницы «Аркхем эдвертайзер» была перепечатана из «Ассошиэйтед пресс» шутливая заметка о том, про какое чудовище рассказывают в Данвиче после изрядных количеств самопального виски. Армитаж, крайне ошеломленный, смог только позвонить Райсу и Моргану. Их обсуждение закончилось далеко за полночь, а на следующий день все трое занимались лихорадочными сборами в дорогу. Армитаж отдавал себе отчет, что собирается задействовать чудовищное могущество, но вместе с тем понимал, что нет другой возможности предотвратить пагубные последствия уже совершенного зловещего вмешательства.
Глава 9
В пятницу утром Армитаж, Морган и Райс отправились на автомобиле в сторону Данвича и прибыли в городок к часу пополудни. Погода была прекрасная, но даже в ярких лучах солнца казалось, что скрытый ужас и дурные предзнаменования зависли над необычными куполообразными холмами и глубокими затененными ущельями этой зловещей местности. Время от времени, скользнув взглядом в сторону неба, можно было заметить мрачные круги из каменных столбов на вершине холма. По атмосфере молчаливого страха возле лавки Осборна они догадались, что случилось что-то ужасное, и вскоре узнали об уничтожении дома Элмера Фрая и его семьи. В течение дня они ездили по окрестностям Данвича, расспрашивая местных жителей о произошедших событиях, и сами с ужасом осмотрели то, что осталось от дома Фрая, зловонные липкие следы, дьявольские отпечатки во дворе, изувеченный скот Сета Бишопа и гигантские полосы придавленной растительности. След, проходящий по Сторожевому холму вверх и вниз, показался Армитажу почти знаком вселенского катаклизма, и он долго смотрел на зловещий камень на самой вершине.
Наконец ученые, узнав, что из Эйлсбери утром приехали представители полиции, получившей телефонное сообщение о трагедии с семьей Фрая, решили найти их и обменяться результатами наблюдений. Однако они обнаружили, что это легче задумать, чем сделать; нигде не обнаружилось никаких следов прибывшей группы. В машине их прибыло пятеро, но сейчас машина стояла пустой во дворе фермы Фрая. Местные жители, уже успевшие пообщаться с полицией, сначала казались озадаченными этим не меньше, чем Армитаж и его коллеги. Затем старый Сэм Хатчинс толкнул в бок Фреда Фарра и указал на зев глубокого ущелья.
«Боже, — сказал он, тяжело дыша, — я же говорил им ни в коем случае не спускаться в лощину, да мне и в голову не пришло, что кто-то может туда полезть, там же эти следы и этот смрад, и козодои кричат день и ночь беспрестанно…»
Холодная дрожь пробрала и местных жителей и заезжих гостей, и все они замерли, инстинктивно прислушиваясь. Армитаж, впервые реально соприкоснувшийся с этим кошмаром и его чудовищными деяниями, ощутил сильнейшее волнение от груза принятой на себя ответственности. Скоро опустится ночь, и тогда горное чудовище примется за свое жуткое дело. «Negotium perambulans in tenebris…»[48]. Старый библиотекарь повторил заклинание, которое заучил, сжимая в руке лист бумаги, на котором было записано дополнительное заклинание, которое он заучить не успел. Он проверил, работает ли его электрический фонарик. Стоявший рядом с ним Райс достал из саквояжа металлический опрыскиватель того типа, какие используют для борьбы с насекомыми, тогда как Морган снял чехол с крупнокалиберной винтовки, на которую надеялся, несмотря на предупреждение коллеги о том, что материальное оружие здесь не поможет.
Армитаж, прочитавший страшный дневник, мучительно хорошо знал, чего следует ожидать, однако не дал жителям Данвича никакого намека, чтобы не усиливать их испуг. Он надеялся, что удастся справиться с угрозой без сообщения миру о той чудовищной опасности, которой он избежал. Когда сгустились сумерки, местные жители разбрелись по своим домам и вновь принялись озабоченно запираться изнутри, несмотря на явные свидетельства бесполезности людских замков и укрепленных дверей против силы, способной по своей прихоти гнуть деревья и разрушать дома. Они скептически покачали головами, узнав о намерении приезжих караулить возле развалин дома Фрая, и, расходясь по домам, почти не рассчитывали снова увидеть этих исследователей.
В эту ночь под холмами снова грохотало, и козодои пели угрожающе. Порывы ветра время от времени приносили из лощины Холодных ключей неописуемое зловоние, в точности такое же, какое все трое ощущали и ранее, когда стояли возле умирающей твари, прожившей пятнадцать с половиной лет в человеческом обличье. Однако тот ужас, который они поджидали, так и не появился. Чего бы ни скрывалось там, на дне лощины, оно выжидало, но Армитаж сказал коллегам, что нападать на него в темноте будет чистым самоубийством.
Робко наступило утро, и ночные звуки стихли. Начался серый, пасмурный день, время от времени моросил дождь, а на северо-западе над холмами собирались значительно более густые и тяжелые облака. Аркхемские ученые пребывали в нерешительности. Укрывшись от усилившегося дождя в одной из немногих сохранившихся хозяйственных построек на дворе Фрая, они обсуждали, следует ли мудро выжидать здесь дальше или надо отважно нападать и спуститься в лощину в поисках их неописуемой чудовищной дичи. Ливень становился все сильнее, откуда-то из-за горизонта доносились раскаты грома, и вот совсем рядом блеснула раздвоенная молния, на мгновение залив сиянием все окрестности, ударившая как будто в самый центр проклятой лощины. Небо потемнело еще сильнее, поколебав надежды ученых на то, что гроза будет бурной, но короткой и сменится ясной погодой.
Прошло около часа, было все еще зловеще темно, когда с дороги донеслись разноголосые выкрики. Вскоре затем показалась группа мужчин, не меньше дюжины, которые, подбегая, кричали и даже истерически плакали. Кто-то из бежавших впереди выкрикивал чего-то, явно обращаясь к приезжим, и ученые из Аркхема отозвались, едва поняли это.
— О, Боже мой, Боже мой, — кричавший задыхался. — Оно снова идет, и на этот раз днем! Оно вышло… оно вышло и идет сюда прямо сейчас, и одному Богу известно, когда оно нападет на всех нас!
Дыхание у него сбилось, но его сменил другой.
— Примерно с час назад Заву Уэйтли позвонили, и это была миссис Кори, жена Джорджа. Она сказала, что ее работник Лютер, пошедший после удара сильной молнии отгонять скотину, увидел, как сгибаются деревья с другой стороны лощины — напротив этого места — и ощутил тот же ужасный запах, какой был от следов утром в понедельник. И ему послышались всплески и шлепки, и звук этот был громче, чем бывает, когда деревья качаются от ветра, и тут вдруг все деревья вдоль дороги наклонились на одну сторону, и было слышно хлюпанье и шлепки по грязи. Но при этом Лютер клянется, что ничего видно не было, только все деревья придавились и кусты тоже.
А затем далеко впереди, где Бишопов ручей, он услышал страшный треск на мосту, как будто дерево разламывается и раскалывается. И все равно ничего не было видно, только как деревья гнутся. А после шлепки доносились уже издалека — с дороги, что ведет к дому Колдуна Уэйтли на Сторожевом холме — у Лютера хватило духу побежать в ту сторону, откуда раздавались звуки, и посмотреть на землю. Там кругом была грязь и вода, на небе темень непроглядная, и дождь все смывает; но все равно у края лощины, где деревья были придавлены, он опять увидел эти страшные следы, размером с дно бочки, какие видел в понедельник.
Тут снова заговорил первый рассказчик.
— Но это еще не все — это только начало. Заву позвонили из дома Сета Бишопа. Салли, его хозяйка, кричала как резаная — она увидела, как деревья у дороги согнулись, и звук был такой, будто слон топает и дышит, и это приближается к ее дому. Потом она сказала, что чует ужасный запах, и ее сын Чонси закричал, что это такой же запах, какой был возле развалин дома Уэйтли в понедельник утром. И собаки все время лаяли и ужасно выли.
А затем она вдруг заорала, и говорит, что кусты у дороги примяло, как будто ураган пролетел, но только ветра сильного не было. А потом Салли опять закричала и сказала, что забор только что повалился, хотя не видно того, кто это сделал. Потом в трубке стало слышно, что Чонси и старый Сет Бишоп закричали, а Салли сказала, что в дом что-то сильно ударило — не молния или еще что-то, а чего-то тяжелое, в переднюю стену, и продолжает бить по стене, хотя через окна ничего не видно. А затем… затем…
Испуг на лицах всех слушателей усилился; Армитаж, тоже потрясенный, все же нашел в себе силы приободрить рассказчика.
— А затем… Салли… она завопила: «О, помогите кто-нибудь, дом рушится…» — и в трубке был слышен страшный треск, и все они кричали… примерно так же было, когда оно напало на дом Элмера Фрая, только…
Он замолк, и слово взял кто-то другой из толпы.
— Вот и все — больше ни слова и ни звука. Мы сели в машины, собрав, сколько смогли, крепких мужиков, кого смогли собрать возле дома Кори, и направились сюда к вам, чтобы спросить, чего нам нужно делать. Я не верю, что это Божья кара за то, что мы не такие, как все, а только Божьей кары ни одному смертному не избежать.
Армитаж понял, что время действовать настало, и уверенно обратился к группе робких, перепуганных деревенских жителей:
— Нужно начать преследование, парни. — Он старался говорить как можно увереннее. — Я уверен, что мы способны уничтожить это существо. Вы, парни, должно быть, знаете, что эти Уэйтли были колдунами — так вот, эта тварь создана колдовством, а значит, справиться с ней можно только теми же самыми средствами. Я прочитал дневник Уилбура Уэйтли и некоторые из тех старинных книг, которые он изучил; и думаю, что теперь я знаю нужное заклинание, которое позволит прогнать это существо. Конечно, быть полностью уверенным я не могу, но у нас хотя бы есть шанс. Оно невидимо — я подозревал, что это так, — но в этом опрыскивателе сейчас вещество, которое позволит нам на какое-то время увидеть его. Мы обязательно позже попробуем это сделать. Эта тварь — слишком страшная, чтобы оставлять ее живой, однако она не столь ужасна, чем то, что впустил бы в наш мир Уилбур, проживи он немного дольше. Вы даже представить себе не сможете, чего избежал наш мир. Теперь осталась только эта тварь, и она не способна размножаться. Однако она способна причинить немало вреда; так что не следует испытывать угрызения совести, уничтожая ее.
Нам необходимо догнать это существо, и первое, что для этого надо сделать, — это направиться к тому месту, которое только что подверглось нападению. Пусть кто-то из вас нас проводит — я плохо знаю ваши дороги, но предполагаю, что должен быть какой-нибудь короткий путь. Ну, кто из вас?
Мужчины какое-то время смущенно топтались на месте, а затем Эрл Сойер, указывая грязным пальцем сквозь редеющею пелену дождя, сказал:
— Быстрее всего вы доберетесь до участка Сета Бишопа, если пересечете нижний луг вон там, перейдете в мелком месте через ручей, а потом взберетесь вверх и курьерской тропой пройдете через лесок. Окажетесь как раз на верхней дороге совсем рядом с домом Сета Бишопа — слегка по другую сторону.
Армитаж, Райс и Морган отправились указанным маршрутом; большинство местных последовали за ними, с меньшей скоростью. Небо светлело, и появились признаки того, что гроза заканчивается. Когда Армитаж по ошибке двинулся не в ту сторону, Джо Осборн окликнул его, а затем догнал, чтобы показать дорогу. Храбрость и уверенность у всех постепенно укреплялись, хотя мрачность леса на почти вертикальном склоне, к которому они приближались, предвещала серьезное испытание для этих качеств.
Когда они выбрались на грязную дорогу, из-за туч вышло солнце. До фермы Сета Бишопа оставалось немного, но погнутые деревья и ужасные, легко узнаваемые следы свидетельствовали о том, кто здесь побывал. Через несколько минут они увидели руины. Здесь повторилось то же, что случилось с семейством Фраев, и ни одного живого существа, как и ни одного мертвого, не удалось найти среди обломков того, что еще совсем недавно было домом Бишопа и сараем. Оставаться здесь, посреди зловония и липкой смоляной дряни, никому не хотелось, так что все продолжили идти за учеными по устрашающим следам, ведущим к развороченному фермерскому дому Уэйтли и далее к склону Сторожевого холма и алтарю на самой его верхушке.
Когда они проходили мимо фермы Уилбура Уэйтли, многие заметно вздрагивали, и похоже, в них снова доблесть соревновалась с нерешительностью. Разметать такой огромный дом было делом нешуточным, для этого требовалось обладать силой злобного демона. Дойдя до подножия Сторожевого холма, следы отделялись от дороги, и далее отпечатки шли по широкой проплешине, отмечавшей маршрут монстра на вершину и обратно.
Армитаж достал карманную подзорную трубу с сильным увеличением и осмотрел через нее крутой зеленый склон. Затем передал трубу Моргану, зрение которого было острее. Посмотрев в нее некоторое время, Морган громко вскрикнул и передал инструмент Эрлу Сойеру, одновременно указывая пальцем в определенное место на склоне. Сойер, неуклюже, как большинство новичков, не имевших дело с оптическими приборами, сначала безрезультатно пытался крутить колесо настройки, но в конечном счете, с помощью Армитажа, правильно настроил резкость и навел трубу. Сделав это, он издал крик, значительно менее сдержанный, чем был у доктора Моргана.
«Всемогущий Боже, трава и кусты шевелятся! Оно поднимается вверх… медленно… ползет вверх по склону… ползет на вершину прямо в эту минуту, и лишь небеса знают, зачем!»
Паника быстро охватила всю группу. Одно дело — искать непонятное чудовище, совсем другое — найти его. Заклинания, возможно, сработают — но что если нет? Все начали расспрашивать Армитажа, пытаясь узнать больше об этой твари, и, похоже, его ответы не удовлетворили местных жителей. Все, казалось, почувствовали близость к таким проявлениям Природы, которые крайне запретны и лежат полностью за пределами нормального опыта человечества.
Глава 10
В итоге трое приезжих из Аркхема — старый белобородый доктор Армитаж, коренастый седоволосый профессор Райс и худой моложавый доктор Морган — стали подниматься на гору без сопровождающих. После долгих терпеливых объяснений, как настраивать и пользоваться трубой, они оставили прибор перепуганным мужчинам из Данвича, и, пока ученые совершали восхождение, местные жители наблюдали за ними. Подъем оказался тяжелым, и Армитажу не раз понадобилась помощь. Высоко над головами поднимавшейся группы колыхалась растительность по краям широкой просеки — проложившее ее адское создание продвигалось вверх с неумолимой настойчивостью гигантской змеи. Через некоторое время стало ясно, что преследователи настигают его.
Кертис Уэйтли — из тех Уэйтли, что еще не деградировали, — держал трубу, когда группа из Аркхема двинулась в сторону, удаляясь от просеки. Кертис сообщил, что они явно собираются забраться на небольшую побочную вершину, возвышающуюся рядом с просекой в том месте, где кусты еще не приминались. Так оно и случилось, и при этом ученым удалось перегнать преследуемую тварь.
Затем Уэсли Кори, взявший трубу, закричал, что Армитаж направляет опрыскиватель, который держит в руке Райс, и сейчас что-то должно произойти. Толпа беспокойно зашевелилась, поскольку все слышали, что этот опрыскиватель должен сделать невидимое чудовище на какое-то время видимым. Некоторые даже закрыли глаза руками, но Кертис Уэйтли выхватил трубу и напряженно прильнул к окуляру. Он увидел, что у Райса, находящегося со своими коллегами в удобной позиции, хорошие шансы опрыскать тварь волшебным составом.
Те, кто наблюдал за происходящим невооруженным глазом, увидели только появившееся на мгновение серое облако — размером с умеренно большое здание — неподалеку от вершины холма. Кертис, смотревший в это время через подзорную трубу, с диким воплем выронил ее прямо в глубокую, по лодыжку, дорожную грязь. Он пошатнулся и упал бы на землю, не подхвати его вовремя стоявшие рядом. После этого он смог только почти беззвучно застонать.
— О… о, великий Боже… там… там…
На него посыпался град вопросов, но только Генри Уилер догадался поднять упавшую трубу и очистить ее от грязи. Кертис все еще не мог внятно сказать что-нибудь, даже короткие ответы давались ему с большим трудом.
— Больше, чем амбар… весь в извивающихся канатах… по форме как яйцо, только неимоверного размера… несколько дюжин ног толщиной с бочку, и они до середины уходят в землю, когда оно ступает… ничего твердого в нем… все как желе, как будто извивающиеся канаты, которые собрали в пучок… над этим большие выпученные глаза… десять или двадцать ртов или хоботов, торчат со всех сторон, толстые, как труба дымохода, и они то и дело вскидываются, открываются и закрываются… все серые, с голубыми или багровыми кольцами… и, Боже праведный на Небесах — на самом верху половина лица!
Последнее воспоминание, чем бы оно ни было, оказалось для бедняги Кертиса чрезмерным, и он потерял сознание, прежде чем успел сказать еще хоть что-то. Фред Фарр и Уилл Хатчинс отнесли его в сторону от дороги и положили на сырую траву. Генри Уилер, вздрагивая всем телом, посмотрел через спасенную трубу на гору. Ему удалось различить три фигурки, бегущие, очевидно, к вершине так быстро, как только могли и как позволял склон холма. Только это — больше ничего не заметил. Затем все услышали странный шум, доносящийся из долины позади и из подлеска на самом Сторожевом холме. Это было пение бесчисленных козодоев, и в их пронзительном хоре можно было различить нотки тревоги и зловещего ожидания.
Затем Эрл Сойер взял трубу и сообщил собравшимся, что три фигурки теперь стоят на самом верху холма, на одном уровне с камнем в форме алтаря, но на значительном расстоянии от него. Одна из фигурок, доложил он, ритмично поднимает над головой руки; и как только Сойер об этом сказал, все различили слабый, почти музыкальный звук издалека, как будто его движение рук сопровождалось громким пением.
— Наверное, он произносит заклинание, — прошептал Уилер, снова берясь за подзорную трубу. Козодои теперь кричали совершенно неистово в каком-то причудливо изменяющемся ритме, нисколько не совпадающем с ритмом проводимого ритуала.
Вдруг показалось, что свет солнца померк, причем без вмешательства какого-либо облака. Все сразу же обратили внимание на это странное обстоятельство. Грохочущий звук из-под холмов причудливым образом гармонировал с раскатами, доносящимися с неба. Наверху сверкнула молния, и люди с изумлением начали безуспешно высматривать признаки приближающейся грозы. Пение трех смельчаков из Аркхема теперь стало хорошо различимым, и Уилер видел через трубу, что, произнося заклинание, они уже все вместе ритмично поднимают и опускают руки. Издалека, от какого-то фермерского дома, донесся яростный лай собак.
Дневной свет изменился еще сильнее, и собравшиеся люди в изумлении уставились на горизонт. Багрянистая темнота, порожденная не чем иным, как спектральным смещением небесной голубизны, наползала сверху на грохочущие холмы. Снова сверкнула молния, на этот раз она была ярче, чем раньше, и всем показалось, что вокруг каменного алтаря, там, на вершине, сгустилось что-то типа тумана. В трубу сейчас никто не смотрел. Крик козодоев все так же совершал неритмичные пульсации, а люди из Данвича напряглись в ожидании неуловимой угрозы, которой, казалось, пропитана атмосфера.
И тогда внезапно раздались те глубокие, пронзительные и мелодичные звуки, которые не мог потом забыть ни один из присутствовавших. Это были слова, рожденные не человеческим горлом, ибо человек не в состоянии породить такое акустическое извращение. Можно было подумать, что они доносятся откуда-то из глубины, не будь их совершенно очевидным источником камень в форме алтаря. Называть это звуками не совсем правильно — значительная часть их инфразвукового тембра не воспринималась ухом, — но тем не менее по сути это были, все-таки, отчасти артикулированные слова. Они были очень громкими — как грохот снизу и раскаты грома сверху, которым они вторили — и при этом не исходили от какого-либо видимого существа.
— Игнаиих… игнаиих… тхфлтхкх’нгха… Йог-Сотот… — гудел ужасающий голос из иного мира. — Й’бтхнк… х’ехйе… н’гркдл’лх…
На этом речь запнулась, словно бы говорящего пересиливали в неком сверхъестественном противостоянии. Генри Уилер припал к трубе, но увидел все те же три силуэта на вершине: фигурки яростно размахивали руками, делая странные жесты, тогда как их пение, похоже, близилось к кульминации. Из каких черных колодцев ахеронского ужаса, из каких неизмеримых пучин внекосмического сознания или тайной и долго не проявлявшей себя наследственности порождались эти не вполне четкие громовые каркающие звуки? Затем они начали заново набирать силу в решительном и безумном неистовстве:
— Ех-й-йа-йа-йахаах… е’йайайаааа… нгх’ааааа… нгх’ааа… х’йух… х’йух… ПОМОГИТЕ! ПОМОГИТЕ!.. п-п-п… ПАПА! ПАПА! ЙОГ-СОТОТ!..
На этом все закончилось. Побледневшие люди на дороге все еще вслушивались, ожидая продолжения этих слов, произнесенных по-английски, громоподобно льющихся из сводящей с ума пустоты над ужасным алтарем, но им не суждено было услышать когда-нибудь хоть что-то подобное. Вместо продолжения слов прозвучал грохот взрыва, казалось, расколовшего горы; оглушающий апокалипсический громовой раскат, настолько мощный, что невозможно было определить, откуда он доносится, находится ли его источник на земле или на небе. Единичный штык молнии ударил из багрового зенита в центр каменного алтаря, и невидимая волна невероятной силы и с неописуемым зловонием прошлась от вершины холма во все стороны. Деревья, трава и кусты яростно всколыхнулись, а испуганные люди у подножия холма, едва не задохнувшись от смертельного смрада, с трудом удержались на ногах. Вдали завыли собаки; зеленая трава и листва деревьев на глазах увядали, принимая странный серо-желтый оттенок, а в полях и лесах повсюду валялись тела мертвых козодоев.
Зловоние быстро рассеялось, но растительность так и осталась пожухлой. На том холме и по сей день растет что-то странное, несущее на себе отпечаток греха. Кертис Уэйтли пришел в сознание лишь после того, как трое из Аркхема спустились с холма — сошли медленно, освещаемые солнцем, которое вновь стало ярким и чистым. Они были мрачны и молчаливы, казались подавленными воспоминаниями и впечатлениями куда более сильными, чем те, что превратили группу местных жителей в кучку дрожащих трусов. В ответ на посыпавшиеся вопросы они только качали головами, но подтвердили самое главное.
— Эта тварь исчезла навсегда, — сказал Армитаж. — Она распалась на элементы, из которых была сотворена, и больше ее не будет. В нормальном мире такое существо вообще невозможно. Лишь в самом малейшем отношении оно было материей в том смысле, как мы это понимаем. Оно было похоже на своего отца — и большая его часть вернулась к нему в некую область или измерение вне нашей материальной Вселенной, в некую пучину, из которой вызвать его на миг на холмы могли только самые разнузданные и святотатственные ритуалы.
Наступила недолгая тишина, и в этот момент чувства бедного Кертиса Уэйтли наконец начали приходить в порядок; он с протяжным стоном поднял руки и обхватил свою голову. Память его, казалось, вернулась к тому моменту, когда он от потрясения потерял сознание, и увиденный в подзорную трубу кошмар вновь обрушился на него.
— Ох, о Боже, эта половина лица… половина лица на самом верху… это лицо с красными глазами и белесыми курчавыми волосами, и без подбородка, как Уэйтли… Это был осьминог, стоногое существо, король пауков, все это вместе, но у них было почти человеческое лицо, там, вверху, и оно было похоже на лицо Колдуна Уэйтли, только… только размерами оно было в ярды, целые ярды…
Он замолчал в изнеможении, а вся группа местных жителей уставилась на него с замешательством, не превратившимся пока что в новый приступ ужаса. Только старый Завулон Уэйтли, то и дело припоминавший не к месту далекое прошлое, но пока что не проронивший ни слова, смог заговорить вслух.
— Пятнадцать лет прошло, — прошамкал он, — с тех пор как я слышал от старика Уэйтли, что наступит день и мы все услышим, как дитя Лавинии прокричит имя своего отца с вершины Сторожевого холма…
Но тут Джо Осборн перебил его, задав вопрос людям из Аркхема:
— Что же это все-таки было и как молодой Колдун Уэйтли вызвал это из воздуха?
Армитаж, задумавшись, попытался объяснить.
— Это было… ну, это было проявление некоего могущества, которое относится не к нашей части мироздания, могущества, которое оказывает действие и проявляет себя согласно иным законам, чем те, что господствуют у нас. Людям незачем вызывать подобных существ оттуда; лишь исключительно безнравственные люди и наиболее жуткие секты пытаются совершить подобное. Этим могуществом отчасти обладал и сам Уилбур Уэйтли — в достаточной мере, чтобы превратиться в дьявольского и не по годам развитого монстра, и потому его смерть стала ужасающим зрелищем.
Я собираюсь предать огню его проклятый дневник, а вы поступите мудро, если взорвете динамитом этот каменный алтарь и разрушите все эти круги из каменных колонн на вершинах холмов. Такие сооружения служат для вызова существ, подобных тем, которых так любили Уэйтли, — тварей, которых они собирались впустить, чтобы те изничтожили весь человеческий род, а саму Землю утащили в неведомое место для каких-то неведомых целей.
Что же касается той твари, которую мы только что отослали обратно, — семейство Уэйтли растило ее для выполнения самого страшного из того, что должно было произойти. Она росла быстро и стала такой огромной по той же причине, что и Уилбур, — но обогнала Уилбура в размерах и в скорости роста, поскольку в ней было больше потустороннего. Нет смысла задаваться вопросом, как Уилбур вызывал ее из воздуха. Он не вызывал это существо. Это был его брат-близнец, но гораздо более похожий на отца.
ШЕПЧУЩИЙ ВО ТЬМЕ
Глава 1
Я не заметил в том, что произошло, ничего ужасного и прошу это запомнить. Утверждать, будто я не владел собой, ввязавшись в эту историю, — значит игнорировать факты. Отнюдь не душевная травма заставила меня выехать ночью с уединенной фермы, принадлежащей Экли, и на полной скорости промчаться в старом автомобиле по пустынным, угрюмым горам Вермонта. Да, я видел и слышал немало необычного, и события произвели на меня неизгладимое впечатление, но никакими реальными доказательствами я не располагаю и даже теперь не могу сказать, был я прав или заблуждался, согласившись участвовать в страшном эксперименте. Ведь исчезновение Экли еще ничего не подтверждает. В его доме не обнаружили ничего особенного, кроме дырок от пуль. Со стороны могло даже показаться, что он отправился на прогулку в горы и не вернулся. Незваный гость бесследно исчез, а ужасных цилиндров и других приборов словно никогда и не было. То, что Экли смертельно боялся лесистых холмов и бесчисленных горных ручейков, хотя родился в здешних краях и провел в них всю жизнь, ровным счетом ничего не значит. Подобные страхи присущи тысячам людей, а странные поступки и предчувствия Экли можно смело приписать его эксцентричности.
Насколько я понимаю, все началось со знаменитого и небывалого по масштабам наводнения в Вермонте 3 ноября 1927 года. В то время я был и сейчас остаюсь преподавателем литературы Мискатоникского университета в Аркхеме, что в штате Массачусетс, и страстным любителем фольклора Новой Англии. Вскоре после наводнения, наряду со множеством статей о пережитых лишениях и помощи пострадавшим, в прессе появились нелепые сообщения о каких-то не то предметах, не то живых существах, найденных в разлившихся реках. Многие мои знакомые увлеченно обсуждали эти новости и обратились ко мне, надеясь, что я сумею их просветить. Я был польщен, что они так серьезно отнеслись к моим фольклорным исследованиям, и постарался разоблачить вздорные небылицы, основой для которых, несомненно, послужили старые крестьянские предрассудки. Однако вполне образованные люди настаивали на том, что дыма без огня не бывает и в слухах отразились некие таинственные или превратно понятые факты. Не скрою, меня изумляла их доверчивость.
Эти россказни пришли ко мне в основном в газетных заметках, хотя они часто передавались из уст в уста, а один мой приятель сослался на письмо, полученное от матери, которая жила в Хардвике. Описания почти дословно повторялись, однако свидетельства исходили из трех разных мест. В первом случае речь шла о реке Уинуски близ Монпелье, во втором — о реке Уэст в графстве Уиндем, а в третьем — о Пассумисик в графстве Каледония неподалеку от Лондонвилля. В газетах приводились и другие названия, но большей частью говорилось об этих реках. В каждом случае кто-то из местных жителей видел, как в бурлящем горном потоке проплывали причудливые и ни на что не похожие фигуры. Их стали связывать с древними полузабытыми преданиями, о которых когда-то слышали старики. Я с удивлением отметил, что суеверия не только не канули в Лету, но и начали широко распространяться.
Очевидцы полагали, что видели какие-то органические формы, не похожие ни на одно из встречавшихся им прежде тел. Естественно, что в ту трагическую пору в разлившихся водах находили немало утопленников, однако все, описывавшие эти странные формы, были совершенно уверены — это не люди, хотя отдаленное сходство с человеческими фигурами у них имелось. Свидетели также утверждали, что они ничуть не напоминали каких-либо водившихся и Вермонте животных. Они были ярко-розовые, примерно пяти футов в длину, с твердой чешуей, парой небольших крыльев-мембран и множеством конечностей, а грудь, шею и голову им заменяли плотные овальные кольца, унизанные крошечными щупальцами. Любопытно и весьма характерно, что свидетельства из разных источников полностью совпадали, впрочем, удивляться этому особенно не приходилось, поскольку в старых легендах, популярных некогда в глухом горном краю, эти неведомые твари были описаны очень живо и убедительно, и предания не могли не всколыхнуть воображение очевидцев. Я пришел к выводу, что все эти свидетели — наивные и простодушные крестьяне из дальних уголков штата — заметили промелькнувшие в бурном потоке раздувшиеся тела утопленников или животных и невольно припомнили старинные небылицы, украсив несчастных жертв фантастическими признаками.
Замечу, что в древних преданиях было немало таинственного, смутного, не до конца договоренного, и в настоящее время они почти полностью забыты. Они и правда были выдержаны в одном духе и, по-видимому, сложились под влиянием еще более ранних индейских легенд. Мне не доводилось бывать в Вермонте, но я хорошо знал их по книге Эли Давенпорта, в которой записаны предания, сохранившиеся к 1839 году в памяти старейших жителей штата. Я обнаружил в них немало перекличек со сказаниями, лично слышанными мной от стариков в горах Нью-Хэмпшира. Во всех них как-то глухо и намеками говорилось о племени чудовищ. Можно было понять, что оно скрылось от мира в дальних высоких горах, поросших лесами, и в темных долинах, где ручьи бежали из неведомых источников. Эти чудовища затаились, и до них было нелегко добраться. На склоны крутых гор и в глубокие ущелья не забегали даже стаи волков, но нашлись смельчаки, которые проникли туда, увидели их и рассказали людям.
Они оставляли следы или отпечатки когтей на берегах горных рек и клочках невозделанной земли. Там среди поникших трав находили каменные круги. Непохоже, чтобы природа могла выложить камни в столь строгом порядке. На склонах гор видели пещеры неясной глубины. Их входы загораживали валуны, что опять-таки вряд ли было случайностью. Странные следы вели как в пещеры, так и от них, если только правильно определяли направление. Но смельчаки видели и самих чудовищ, и это было страшнее всего. Обычно те появлялись в сумерках в долинах или на вершинах неприступных гор.
Было бы куда спокойнее и утешительнее, если бы их описания не совпадали, но везде говорилось одно и то же — что они похожи на гигантских алых крабов со множеством конечностей и крыльями за спиной, как у летучих мышей. Иногда они передвигались на всех конечностях, но если перетаскивали какие-то непонятные предметы, то пользовались лишь двумя задними. Как-то удалось выследить целый отряд, пробиравшийся вдоль лесного ручья, — они шли стройными рядами, по трое в каждой группе. А одно из чудовищ видели в полете: оно спустилось с вершины, и силуэт его распростертых крыльев мелькнул на фоне полной луны и тут же скрылся в небе.
Эти существа довольствовались обществом себе подобных и держались от людей в стороне. Но молва всякий раз обвиняла их, если кто-нибудь из рискнувших поселиться рядом с долинами или высоко в горах вдруг исчезал без следа. Многие боялись там жить, и страх сохранялся на долгие годы, когда о происшествии уже никто не помнил. Люди с ужасом глядели на горы и ущелья, и для них не имело значения, сколько именно человек погибло в темных безднах и сколько ферм сгорело дотла на склонах безмолвных зеленых стражей.
Если в ранних преданиях утверждалось, что чудовища причиняют вред лишь нарушившим их покой, то в более поздних говорилось об их любопытстве по отношению к людям и попытках устроить на земле тайные убежища. Слагались предания о загадочных пропажах людей и странных следах, замеченных по утрам рядом с дальними фермами. Их подкрепляли легенды о том, что чудовища подражают человеческим голосам, заманивают одиноких путников и сводят с ума маленьких детей, выходя из лесов. Последний цикл сказаний относился ко времени, когда предрассудки стали отмирать, а глухие уголки Вермонта совсем опустели. В них поселялись лишь отшельники и одинокие фермеры, которые, не выдержав уединения, повреждались в рассудке. Их остерегались и называли продавшими себя чудовищам. В одном северо-западном графстве в 1800-е годы считалось модным обвинять разных изгоев и чудаков в сношениях с мерзкими тварями.
Но кем же были на самом деле таинственные чудища? На этот вопрос давались несхожие ответы. Обычно их именовали «эти самые» или «эти древние», а другие прозвища знали лишь местные, и они не прижились. Пуритане в массе своей считали их слугами дьявола и придумывали теологические гипотезы — одну страшнее другой. Ирландцы и шотландцы из Нью-Хэмпшира и владений губернатора Уэнтуорда в Вермонте вспоминали кельтские легенды о злобных колдунах и «маленьких людях», живущих в лесах и на болотах, и находили какую-то связь между ними и крылатыми чудовищами, от которых пытались уберечься с помощью старинных заклинаний. Но самые фантастические теории были у индейцев. Конечно, легенды разных племен заметно варьировались, но их суть сводилась к тому, что странные существа не родились на этой земле.
Мифы племени пеннакук, самые красочные и убедительные, учили, что Крылатые существа прилетели на Землю со звезд Большой Медведицы, узнав, что в наших горах есть много камней, каких больше нет нигде. Они строили убежища на вершинах гор и копали шахты глубоко под землей, но долго на Земле не задерживались, говорилось в мифах, и вновь улетали на север, к звездам, увозя с собой тяжелый груз. Они не трогали людей, если те держались от них поодаль, и могли погубить лишь тех, кто забывал об осторожности или следил за ними. Звери и птицы чуяли в них врагов и ненавидели, хотя Крылатые никогда на них не охотились и не употребляли их в пищу. Не притрагивались они и к прочей земной снеди, а питались тем, что привозили со звезд. К ним нельзя было приближаться, и случалось, что молодые охотники, забравшиеся высоко в горы, не возвращались назад. По ночам они перешептывались в лесах, стараясь подражать человеческой речи, но жужжали, словно пчелы, и горе ждало тех, кто слышал этот гул. Они знали наречия живших поблизости индейцев — пеннакуков, гуронов, Союза пяти народов, — но между собой объяснялись без слов, и когда одна тема сменяла другую, их головы окрашивались в разные цвета.
Конечно, на протяжении XIX века легенды, созданные белыми и индейцами, постепенно забывались, и до нас дошли только отрывки, последние вспышки древних верований.
Вермонтцы жили в домах, унаследованных от предков, и ездили по старым дорогам, даже не подозревая, что их когда-то выстроили по вполне определенному плану, исключавшему близкое соседство с чудовищами. Откуда им было знать о старых страхах? Они просто считали, что горные края вредны для здоровья и земли там неплодородны. Чем дальше от гор, тем лучше, говорили они. Со временем привычки и хозяйственные интересы окончательно привязали их к родным местам, и у них не было никаких причин их покидать. Жизнь шла своим чередом, и горы оставались незаселенными скорее случайно, чем преднамеренно. Лишь местные чудаки и старушки перешептывались о чудовищах, затаившихся в горах. Но, судя по слухам, бояться их больше не следовало, так как они привыкли к домам и фермам людей, не посягавших на их территорию.
Обо всем этом мне было давно известно из книг и сказаний, собранных в Нью-Хэмпшире, и когда после наводнения легенды вновь возродились к жизни, я догадался об их подоплеке. Но на моих друзей не действовали разумные доводы, и я с горечью осознал, что их невозможно переубедить. Они спорили со мной и подчеркивали, что в ранних легендах повторялись целые пласты описаний, словно они складывались по единому для всех народов образцу, а горы в Вермонте до сих пор не исследованы, и мы даже не знаем, кто прячется на их вершинах. Их не убеждало даже то, что все мифы складывались по такому образцу и на ранних стадиях постижения мира человечеству были свойственны заблуждения и иллюзии.
Бессмысленно было доказывать подобным оппонентам, что вермонтские мифы мало отличаются от прочих легенд, в которых персонифицируются силы природы. Я не напоминал им о фавнах, нимфах и сатирах, олицетворявших каликандзари современной Греции, или о загадочных крошечных страшных племенах троглодитов и кротов в ирландских и валлийских сказках. Не стоило приводить им и другие примеры — объяснять, почему непальцы по-прежнему верят, что жуткий Ми-Го, или «снежный человек», прячется во льдах Гималаев. Но я не мог удержаться и перечислил им множество сказаний, которые они вновь истолковали по-своему, предположив, что в каждом из них есть доля исторической истины. По их мнению, на земле существовала какая-то древняя раса, уступившая место человечеству. Большинство племен погибло еще много тысячелетий тому назад, но некоторым удалось затаиться. Возможно, они живы и сейчас.
Чем больше я смеялся над их теориями, тем упорнее они отстаивали их, добавляя, что и без легенд не стали бы игнорировать ясные подробности и вполне прозаические по стилю сообщения. Несколько экстремистов зашло еще дальше. Они заявили, что в индейских мифах нет никакой выдумки и Крылатые прилетели на Землю со звезд. Они цитировали сенсационные книги Чарльза Форта об инопланетянах, не однажды посещавших Землю. Несомненно, мои противники были обыкновенными романтиками, которым хотелось, чтобы в реальной действительности нашлось место фантастическим карликам, ставшим популярными благодаря великолепным рассказам ужасов Артура Мэйчена.
Глава 2
Естественно, что в сложившихся обстоятельствах эти жаркие споры вызвали интерес в городе. Нам предложили обменяться письмами, и их опубликовали в «Аркхем адвертайзер». Некоторые были перепечатаны газетами из других мест Вермонта, где видели непонятных утопленников. «Рутленд геральд» уделила полполосы выдержкам из нашей дискуссии, не отдав предпочтения ни одной из спорящих сторон, тогда как «Брэттлборо реформер» напечатала только мой обширный историко-мифологический очерк и снабдила его толковыми комментариями, а в «Пендрайфере» появилась статья, одобрявшая мои скептические выводы.
К весне 1928 года я стал широко известен в Вермонте, хотя ни разу не переступал границу этого штата. А затем ко мне пришли потрясающие письма от Генри Экли, которые произвели на меня огромное впечатление. Тогда я в первый и последний раз посетил волшебный край зеленых гор и журчащих лесных ручейков.
О Генри Уэнтуорте Экли я знаю в основном из переписки с его соседями и единственным сыном, живущим в Калифорнии. Но это было гораздо позже, уже после моей поездки к нему, на его уединенную ферму. Я выяснил, что в его роду преобладали юристы, администраторы, агрономы, но эти сугубо практические профессии его никогда не привлекали, и он занялся чистой наукой. За годы учебы в университете Вермонта он основательно изучил математику, астрономию, биологию, антропологию и фольклор. Прежде я о нем никогда не слышал, и в письмах он почти не рассказывал о себе, но мне стало ясно, что он человек с сильным характером, образованный, неглупый, но привыкший к уединению и потому не слишком искушенный в практических делах.
Его утверждения показались мне просто невероятными, но я отнесся к Экли намного серьезнее, чем ко всем моим прочим оппонентам. Во-первых, он непосредственно столкнулся с самим явлением и сумел его описать; правда, ход его рассуждений показался мне крайне субъективным и нелепым, но это уже другой вопрос. Во-вторых, он, как истинный ученый, был готов отречься от своих выводов, если они не подтвердятся на практике, и я проникся к нему уважением. У него напрочь отсутствовали какие-либо личные мотивы, он не думал о славе и стремился лишь к одному — доказать то, что представлялось ему очевидным. Конечно, в ответном письме я указал на его ошибку, но тут же добавил, что это ошибка искреннего и увлеченного человека. Его идеи были непривычны, и он всякий раз говорил о том, какой страх внушают ему лесистые горы, но в отличие от других я никогда не считал Экли сумасшедшим. Я понял, что его рассказы не вымысел, и захотел поглубже разобраться в причинах, побудивших его начать исследования. Позднее я получил от него вещественные доказательства, отчего все дело стало выглядеть иначе и куда более странно.
Думаю, самое лучшее — это процитировать первое большое письмо Экли, в котором он представился мне и познакомил со своими теориями. Скажу честно, оно оставило заметный след в моем сознании. Письмо не сохранилось, но я запомнил его наизусть и вновь готов утверждать, что его автор был совершенно психически здоров. Вот его письмо, написанное старомодным, неразборчивым почерком, который установился у него еще в юности и не менялся в течение всей его размеренной и уединенной жизни.
РФД. Тауншенд, Уиндхем, Вермонт,
5 мая 1928 г.
Алберту Н. Уилмарту, эсквайру.
Салтонстолл-стрит, 118,
Аркхем, Массачусетс
Мой дорогой сэр!
Я с большим интересом прочитал в «Брэттлборо реформер» от 23 апреля 1928 г. перепечатку Вашего письма о странных телах, увиденных в реках, и о причудливых народных поверьях, столь подходящих к этому случаю. Легко понять, почему человек, живущий в другом штате, занимает вашу позицию и почему «Пендрайфер» охотно соглашается с ней. Этой точки зрения придерживаются едва ли не все образованные люди и в Вермонте, и за его пределами. В молодости я сам считал точно так же (сейчас мне пятьдесят семь лет), но когда прочел книгу Давенпорта и другие, более общего содержания, то занялся исследованием мало посещаемых окрестных гор.
Меня побудили к моим занятиям таинственные поверья, которые я слышал от неграмотных стариков, однако теперь мне жаль, что я заинтересовался ими. Я отнюдь не понаслышке знаком с антропологией и фольклором, увлекался ими еще в колледже и проштудировал труды таких корифеев, как Тайлор, Лаббок, Фрэзер, Катрфаж, Мари, Осборн, Кейт, Буль, Дж. Эллиот Смит и других. Мне давно известно, что легенды о прячущихся племенах стары как мир. Я видел перепечатку Ваших писем и откликов Ваших сторонников в «Ратленд геральд» и, по-моему, догадался, почему Вы так думаете.
Позвольте мне быть с Вами совершенно откровенным. Боюсь, что Ваши противники ближе к истине, чем Вы, хотя на первый взгляд может показаться, что здравый смысл на Вашей стороне. Они и сами не понимают, что близки к истине, ведь им помогала только теория и они не знали того, что знаю я. Конечно, они рассуждают как дилетанты. Если бы мне было известно так мало, как им, то…
Вы видите, что мне нелегко перейти к существу дела и я не скрываю своих страхов, но все-таки скажу: чудовища действительно обитают в горных лесах, и я берусь это доказать. Я не видел, как они плыли в разлившихся реках, но они не раз попадались мне на глаза при других обстоятельствах. Не стану говорить, где и когда это было. Совсем недавно я заметил их следы рядом с моей старой фермой, близ селения Тауншенд, у подножия Черной горы. И я также слышал их голоса в лесу, но предпочту их не описывать.
Как-то из леса до меня донесся целый хор. Я знал это место в отправился туда с диктофоном, фонографом и восковой пластинкой. Скоро я приведу запись в порядок и, если Вы не против, пришлю ее Вам. Я уже ставил пластинку, и старики, живущие в здешних краях, застыли от ужаса, услыхав, как жужжит самый низкий голос. (О жужжании в лесу писал и Давенпорт.) Они вспомнили, что в детстве бабушки рассказывали им о чудищах и, желая напугать, подражали этому гулу. Стоит кому-то заговорить о странных голосах, и все думают, будто перед ними сумасшедший. Дело ваше, но прежде, чем Вы решите, нормален я или нет, прослушайте запись и расспросите о ней стариков из глубинки. Буду рад, если Вы воспримете ее спокойно, но за всем этим что-то кроется. Ex nihilo nihil fit, как Вам известно.
Собираясь Вам писать, я не ставил перед собой задачу спорить с Вами. Мне нужно Вам многое сообщить, и, надеюсь, мой рассказ не оставит Вас равнодушным. Но предупреждаю Вас: это тайна, и в глазах общества я — Ваш сторонник, так как давно убедился, что людям не полагается много знать об этом предмете. Я не намерен никому говорить о своих исследованиях и привлекать к ним внимание, чтобы посторонние не зачастили в наши горы. Открою Вам правду — чудища все время следят за нами. Среди людей у них нашлись агенты, и с их помощью они собирают информацию. Один гнусный тип сам признался мне, что был их агентом. Если он в своем уме (а я полагаю, соображал он не так уж плохо), то его рассказ заслуживает доверия. Впоследствии он покончил с собой, но, думаю, у них тут же нашлись другие.
Это вовсе не древняя человеческая раса, и у них нет ничего общего с людьми. Они прибыли с иной планеты, могут жить в межзвездном пространстве и летать на своих мощных крыльях, которые поднимают их в воздух, но мешают передвигаться по земле. Я расскажу Вам о них поподробнее, если Вы не сочтете меня сумасшедшим. Они добывают металлы в рудниках, глубоко под горами. Думаю, мне известно, откуда они прилетают на Землю. Они не тронут нас, если мы будем держаться в стороне, но любопытство нам дорого обойдется. Никто не знает, на что они способны. Конечно, вооруженные отряды могли бы разгромить их рудники. Они боятся этого, но, если такое случится, с других планет прилетят Крылатые. Их там много, и они смогут без труда завоевать Землю. Вы спросите, почему они не сделали этого раньше. Причина проста: они не нуждаются в господстве над людьми и предпочитают оставить все как есть, чтобы избавить себя от лишнего беспокойства.
Я уже немало выяснил, и, наверное, они захотят со мной расправиться. Когда я нашел в лесу на Круглом холме большой черный камень с непонятными полустертыми надписями и принес его домой, все стало меняться на глазах. Я чувствую, что они неотступно наблюдают за мной. Если они подумают, что я их заподозрил, то либо убьют меня, либо увезут прочь с Земли. Им нравится время от времени похищать ученых и узнавать от них о нашей цивилизации.
И теперь я подошел к другой цели моего письма. Убедительно прошу Вас прекратить обсуждение этой темы на страницах газет. Люди должны держаться подальше от гор, и ради этого нам не следует пробуждать у них любопытство. Одному Богу известно, какая опасность подстерегает каждого, особенно в летнюю пору, когда вместе с учеными и спонсорами научных проектов в Вермонт нахлынут толпы отдыхающих. Страшно подумать, что они доберутся до нехоженых мест и поставят там свои дешевые бунгало.
Я буду счастлив продолжить переписку и постараюсь выслать Вам запись на фонографе и черный камень (письмена на нем так стерты, что на фотографиях их нельзя разглядеть). Я говорю «постараюсь», потому что боюсь, как бы они не разрушили мои планы. Слежка не прекращается ни на минуту. Здесь на ферме рядом с деревней живет некий Браун. Малый он угрюмый, замкнутый и, надо думать, тоже их агент. В общем, я слишком много знаю об их мире, и в отместку они все больше изолируют меня от моего.
Поразительно, но они в курсе всего, что я делаю. Возможно, это письмо до Вас не дойдет. Если положение ухудшится, мне придется отсюда уехать и перебраться к сыну в Сан-Диего, но бросать родные края, где жили шесть поколений моих предков, очень нелегко, и я бы этого не хотел. К тому же Крылатые следят за домом, и я вряд ли сумею его продать. Похоже, теперь они попытаются забрать у меня черный камень и уничтожить запись на фонографе, но я сделаю все, чтобы этого не допустить. До сих пор моим большим служебным собакам удавалось отгонять их от дома. К счастью, пока их очень мало и они довольно неуклюжи. Я уже говорил, что их крылья не приспособлены для земли и коротких полетов. Не буду Вас пугать и объяснять, как я расшифровал письмена, но работа почти закончена, и Вы с Вашим знанием фольклора могли бы помочь мне заполнить оставшиеся лакуны. Полагаю, Вам знакомы жуткие мифы о божествах, царивших на Земле до появления людей, — о Йог-Сототе и Ктулху, о которых вскользь упоминается в «Некрономиконе». Мне посчастливилось достать эту книгу, и я слышал, что еще один экземпляр хранится под замком в библиотеке Вашего колледжа.
По-моему, мистер Уилмарт, польза от нашего сотрудничества будет обоюдной. Хочу Вас предупредить: как только Вы получите запись и камень, о спокойствии придется забыть. Однако я уверен, что познание для Вас дороже всего и Вы согласитесь рискнуть. Если Вы позволите их прислать, я поеду в Ньюфейн или Брэттлборо и отправлю их поездом, ибо железнодорожным служащим я доверяю больше. Добавлю, что теперь я живу в полном одиночестве, так как никого не могу нанять себе в помощь. По ночам они подходят к воротам фермы, и собаки громко лают. Прислуга этого не выдерживает. Я рад, что не углубился в исследования при жизни жены, а не то она бы сошла с ума.
Надеюсь, я не слишком обеспокоил Вас своим посланием и Вы не бросите его в мусорную корзину, решив, что к Вам обратился какой-то маньяк.
Остаюсь искренне Ваш Генри У. Экли.
P. S. Я только что отпечатал фотографии, и, думаю, они убедят Вас в моих словах. Старики нашли, что они на редкость удались. Я вышлю их Вам, если хотите.
Г. У. Э.
Чувства, возникшие у меня при чтении этого странного документа, почти невозможно передать. По логике вещей, ознакомившись с завиральными теориями Экли, я должен был бы расхохотаться. Ведь гипотезы противников настраивали меня на юмористический лад, а они были куда осторожнее. Однако я воспринял его письмо всерьез. Конечно, я ни минуты не верил в племя инопланетян, о котором он писал, но после мучительных сомнений пришел к выводу, что Экли искренний и вполне нормальный человек. Очевидно, он столкнулся с каким-то загадочным и ни на что не похожим явлением и не смог его правильно объяснить. Все не так, как он думает, но, с другой стороны, истина может обнаружиться лишь в ходе исследования. Что-то вывело его из равновесия и даже испугало. В основном он рассуждал вполне логично, а его дерзкая фантазия ничуть не противоречила старым мифам и причудливым индейским легендам.
Я был готов допустить, что он слышал в горах взволновавшие его голоса и нашел черный камень, но его выводы показались мне полным бредом. Возможно, их внушил ему человек, назвавшийся агентом Крылатых. Тот, который позднее покончил с собой. Уж он-то явно был сумасшедшим, хотя, судя по всему, обладал незаурядной силой воли и даром убеждения. Немудрено, что наивный Экли, с юности увлекавшийся фольклором, поверил его небылицам. А что касается жалоб на отсутствие помощи, то, похоже, соседи из деревни поддались страхам не меньше него. Они решили, будто рядом с фермой завелась нечистая сила и каждую ночь осаждает дом Экли. Собаки-то наверняка лают.
А затем эта фонографическая запись, которую он, очевидно, раздобыл именно так, как и поведал мне. Она должна что-то означать, — возможно, рычание и вой животных действительно были похожи на человеческую речь или на звуки каких-то таинственных, появляющихся по ночам дикарей, вряд ли далеко ушедших в своем развитии от животных. И тут я вновь мысленно вернулся к черному камню с непонятными письменами и их скрытому от нас смыслу, потом к фотографиям, которые Экли собирался мне выслать и которые показались старикам столь пугающе убедительными. Когда я перечитал это написанное неразборчивым почерком письмо, меня охватили странные, незнакомые дотоле чувства. Едва ли моим оппонентам приходило в голову, что я способен к подобным переживаниям. В конце концов, в отдаленных горах вполне могло обитать дикое полувыродившееся племя, а вовсе не пришельцы со звезд, как утверждалось в легендах. Но если так, то причудливые тела, мелькнувшие в водных потоках, не выдумка, а реальность. Возможно, стоит предположить, что и в старых преданиях, и в недавних сообщениях, переполошивших Вермонт, есть немало общего и между ними существует определенная связь. Я не скрывал своих сомнений, но по-прежнему стыдился того, что фантастические описания в странном письме Генри Экли настроили меня столь романтично.
Я все-таки решил ответить Экли. Мое письмо было выдержано в дружеском тоне и проникнуто явным интересом к его рассказу. Более того, я предложил ему продолжить переписку и с нетерпением ждал новых известий. Его второе письмо пришло в скором времени. Он сдержал свое обещание, и я получил фотографии описанных им ранее событий и предметов. Я принялся разглядывать вынутые из конверта снимки, и мои руки похолодели от страха и близости к разгадке вековечной тайны. От этих любительских нечетких фотографий, сделанных «кодаком», исходила поистине магическая сила. Ни одна самая искусная подделка или монтаж не произвели бы такого впечатления.
Чем дольше я смотрел на них, тем яснее понимал, что к Экли и его рассказу нужно относиться всерьез. Случившееся в Вермонте выходило за рамки наших привычных представлений. На первой фотографии я увидел следы, отпечатавшиеся на грязном клочке земли рядом с камнями и травой. Их освещало яркое полуденное солнце. Я назвал их следами, хотя правильнее было бы говорить о вдавлинах от когтей. Такие обычно остаются от крабьих клешней. Однако по размеру эти вдавлины совпадали со следами от подошвы нормальной человеческой ноги. Передние клешни с острыми, как зубцы, когтями были повернуты в противоположных направлениях — одна вперед, а другая назад. Это вызывало недоумение, но, возможно, они служили не только для ходьбы.
На второй фотографии из глубокой тени проступал вход в пещеру, плотно загороженный валуном. На тропинке виднелась вереница следов. Я вооружился лупой и пригляделся. Мне показалось, что они похожи на вдавлины на первом снимке, но я не мог за это поручиться. На третьей я не обнаружил никаких следов и несколько минут рассматривал каменный круг, красовавшийся на вершине горы. Экли не побоялся взобраться на самый высокий лесной пик, окруженный меньшими холмами. Трава около ровных камней пожухла и расстилалась по земле.
Если следы взволновали меня до глубины души, то камень, найденный в лесистой чаще на Круглом холме, откровенно изумил. Экли сфотографировал его в своем кабинете на фоне книжных полок и стоявшего в нише бюста Мильтона. Высота этого снятого крупным планом и вертикально поставленного камня составляла чуть более фута. Я обратил внимание на его шероховатую поверхность, но не решился бы определить ни его фактуру, ни то, как он был выточен. Скажу лишь, что с камнем такого цвета и формы я столкнулся впервые. В нем было что-то неземное, чуждое нашему миру. Я перевел взгляд на письмена, но сумел расшифровать лишь несколько фраз, вызвавших у меня невольный трепет. Конечно, не я один читал страшный и отвратительный «Некрономикон» безумного араба Абдулы Альхазреда, и возможность подделки отнюдь не исключалась. Тем не менее я с ужасом подумал о богохульных символах, родившихся в ту давнюю-давнюю пору, когда ни Земли, ни других планет еще не было и во Вселенной господствовал хаос.
На трех из пяти оставшихся фотографий Экли заснял болото и горы. Я вновь воспользовался лупой и заметил на дорожках и в гати слабые отпечатки когтей. Они то выступали, то терялись из виду, и это не могло не испугать. Еще на одном снимке вдавлины обозначились на участке земли перед домом Экли, но изображение оказалось на редкость расплывчатым. Он писал, что в ту ночь собаки зашлись в злобном лае, утром он сфотографировал следы, однако остался недоволен снимком. Похоже, впрочем, что никаких отличий от вдавлин, оставшихся в лесу, в этих отметинах не наблюдалось. На последней фотографии я увидел двухэтажный белый дом Экли с мансардой, построенный лет сто с четвертью тому назад. Вымощенная дорожка вела к резной георгианской двери. На лужайке разлеглись большие собаки-ищейки. Рядом с ними стоял добродушного вида пожилой мужчина. Мне бросилась в глаза его аккуратно подстриженная седая бородка. Нетрудно было догадаться, что это сам Экли, заснявший себя с помощью отводной трубки с лампочкой.
Я отложил фотографии и принялся читать объемистое письмо. Не скрою, мне понадобилось три часа, чтобы побороть охвативший меня ужас. Поверьте, я нисколько не преувеличиваю. Если в первом послании Экли лишь вкратце перечислил факты, то теперь не поскупился на подробности. Он описал разговор, подслушанный в лесу, и воспроизвел транскрипцию непонятных слов. Поделился впечатлением от розовых туловищ Крылатых тварей, мелькнувших перед ним в сумерках на одной из горных вершин. Изложил длинный монолог покончившего с собой сумасшедшего агента и снабдил этот жуткий «космический» рассказ собственными комментариями. Страницы письма пестрели именами и названиями, которые мне уже приходилось слышать в связи с таинственными событиями седой старины. Он упомянул Юггот, Великого Ктулху, Тзаттогуа, Йог-Сотота, Р’лайх, Ньярлатхотепа, Азатот, Хастура, Йана, Ленга, озеро Хали, Бетмуру, Желтый Знак, Л’мур-Катулоса, Брана и Магнум Инноминандум. Все они исчезли в безднах минувших тысячелетий, их поглотили бескрайние просторы иных, древних миров, о которых смутно подозревал лишь безумный автор «Некрономикона». Экли поведал мне, как заструились первые родники, как они слились в потоки и как из этих потоков возникли реки и моря — источники жизни на Земле.
Немудрено, что от чтения письма моя голова пошла кругом и, даже не пытаясь что-либо объяснить, я поверил во все чудеса и нелепицы. Живость его описаний завораживала, но в то же время Экли старался сохранять объективность истинного ученого, далекого от фанатизма или экзальтации, и меня подкупил его ровный, спокойный тон. Когда я прочел письмо до конца, мне стал понятен его страх. Я решил, что должен помочь ему удержать других от поездки в Вермонт и рассказать, как опасны эти проклятые пустынные горы. С тех пор прошло немало времени, и первое впечатление поблекло. Вспоминая о пережитом, я вновь и вновь задаю себе вопросы и не могу избавиться от сомнений, но и сейчас не рискну процитировать несколько отрывков из его письма. Скажу больше, я не в силах даже переписать эти отрывки. Я рад, что письма, пластинка и фотографии пропали, и от всей души желаю, чтобы никто не узнал о новой планете неподалеку от Нептуна. Причины я объясню чуть позже.
Я последовал совету Экли и прекратил полемику. Оппоненты так и не дождались моего очередного выступления в прессе. Страшные события в Вермонте понемногу начали забываться, и спор иссяк сам собой. В конце мая и в июне я регулярно обменивался письмами с Экли. Он боялся, что их могут перехватить по дороге, и мы сделали с них копии. Тем временем мы вплотную занялись исследованием: прояснили запутанные мифологические сюжеты и сопоставили старые легенды с происшедшим в Вермонте.
Вскоре мы пришли к выводу, что жуткий Ми-Го, скрывавшийся в Гималаях, внушал местным жителям похожий страх и легенды о нем очень напоминают предания о Крылатых. Правда, в этих легендах было еще больше догадок, ведь никто не знал, зверь ли Ми-Го или дикий «снежный человек». Я хотел проконсультироваться с профессором Декстером, преподававшим в нашем колледже зоологию, но Экли запретил мне говорить с посторонними о горных чудищах. Если я теперь нарушаю обещание, то только потому, что горы Вермонта и заснеженные пики Гималаев год от года привлекают все больше туристов, которые плохо представляют, что их там ждет. Мое молчание может погубить сотни жизней, поэтому я должен предупредить об угрозе. А еще мы старались расшифровать письмена на чертовом черном камне, чтобы найти ключ к разгадке одной из самых страшных тайн, которые до сих пор открывались людям.
Глава 3
В конце июня я получил запись на фонографе. Ее привез пароход из Брэттлборо, так как Экли перестал доверять идущим с севера поездам. Ему все время казалось, что за ним следят, и пропажа нескольких писем лишь подтвердила его мрачные опасения. Он постоянно говорил о коварных происках окрестных фермеров и считал их агентами затаившихся чудовищ. Особые подозрения ему внушал угрюмый Уолтер Браун. Он жил один на склоне холма, рядом с густым лесом, и его часто видели в разных кварталах Брэттлборо, Беллоус-Фоллс, Ньюфейна и Южного Лондонберри, где он слонялся без всякого дела. Трудно было понять, зачем он появляется в этих городских уголках. Экли уверял меня, что Браун встречается в лесу с чудовищами и он сам слышал там его голос. А однажды он заметил отпечатки когтей рядом с домом Брауна и с тех пор совсем лишился покоя. Эти отпечатки сопровождали следы самого Брауна, и Экли понял, что он вел за собой чудовищ.
Итак, запись прибыла по реке из Брэттлборо, а Экли довез ее окольными дорогами до города. Он признался мне в коротенькой записке, что стал бояться заброшенных шоссейных дорог и отныне собирается ездить в Тауншенд за покупками только днем. Он снова и снова повторял, что жить рядом с безмолвными горами невыносимо и ему пора перебираться к сыну в Калифорнию, хотя его молодость и лучшие воспоминания связаны с Вермонтом и здесь похоронены все его предки.
Перед тем как завести патефон (я взял его в администрации колледжа) и поставить пластинку, я перечитал письма Экли и обратил внимание на его разъяснения. По его словам, запись была сделана в час ночи 1 мая 1915 года, рядом с загороженным входом в пещеру на Черной горе, поблизости от болота Ли. В этом месте всегда слышались странные голоса, поэтому он и взял с собой на ночную прогулку диктофон и фонограф. Опыт подсказал ему, что он верно выбрал время и канун 1 мая, когда ведьмы слетаются на шабаш, судя по старинным европейским легендам, наверняка будет результативнее любой другой ночи. Он не ошибся. Любопытно, однако, что больше он ни разу не слышал там ни одного голоса. Очевидно, он стал свидетелем какого-то квазиритуального действа, во время которого различил один человеческий голос. Он не знал, чей это голос, но мог поручиться, что не Брауна. Голос показался ему хорошо поставленным и богатым оттенками. А вот второй явно принадлежал кому-то из Крылатых. Отвратительное жужжание не походило на человеческую речь, хотя в нем можно было различить правильно произнесенные английские слова.
Фонограф и диктофон работали неважно, и потому Экли уловил отнюдь не все сказанное, а запись получилась фрагментарной. Он прислал мне транскрипцию ряда слов, и я просмотрел их, перед тем как завести патефон. Услышанное мной было скорее причудливым и таинственным, чем откровенно пугающим, хотя я знал, как и при каких обстоятельствах Экли сумел записать всю сцену, и одно это невольно внушало страх. Я запомнил отрывок наизусть и сейчас постараюсь его воспроизвести. Как-никак, я слушал запись много раз, да такое и не забывается!
(Неразборчивые звуки)
(Хорошо поставленный мужской голос)
«…Царь леса, даже… и дары жителей Ленга… и так из пропастей ночи в бездны пространства и из бездн пространства в пропасти ночи и хвала Великому Ктулху, Тзаттогуа и Тому, чье имя нельзя произнести вслух. Вечная слава им и обильные жертвы Черному Козлу лесов. Иа! Шаб-Ниггурат! Козел с легионом младых!»
(Жужжащее подражание человеческому голосу)
«Иа! Шаб-Ниггурат! Черный Козел лесов с легионом младых!»
(Человеческий голос)
«И пришло время направиться к Царю лесов, было… семь и девять… вниз по опаловым ступеням, подаренным ему в Бездне. Азатот. Он, научивший Тебя и нас великолепию… на крыльях ночи за пределы всех пространств, за… в те сферы, где Юггот лишь младшая из планет, одиноко вращается в черном эфире на краю…»
(Жужжащий голос)
«Иди к людям и отыщи те пути, которые он мог знать в Бездне. Он мог сказать обо всем Ньярлатхотепу, Могучему Вестнику. И он стал похожим на человека, надев восковую маску и облачившись в людскую одежду, и спустился на Землю из мира Семи Солнц, чтобы подшутить…»
(Человеческий голос)
«Ньярлатхотеп, Великий Вестник, одарил Юггот странной радостью сквозь пустоты. Отец Миллионов Избранных, Странник среди…»
(На этом запись обрывается)
Такие слова я услышал, заведя патефон. Я был настолько ошеломлен и испуган, что вновь нажал на кнопку, но до меня донесся лишь скрежет иглы о пластинку. Я от души обрадовался тому, что первые еле уловимые, обрывистые слова произнес человеческий голос — звучный и четкий голос с чуть заметным бостонским акцентом. Я решил, что его обладатель никак не мог прятаться вместе с чудовищами в горах Вермонта. Слушая убогую запись, я подумал, что Экли точно транскрибировал непонятные слова, когда человек мелодично пропел: «Иа! Шаб-Ниггурат! Козел с легионом младых!..»
А затем до меня донесся другой голос. И теперь еще меня пробирает нервная дрожь, хотя Экли успел предупредить меня о нем. Все, кому я рассказывал о записи, считали ее или грубой подделкой, или бредом сумасшедшего. Но если бы я принес им эту чертову пластинку или дал прочесть груду писем Экли (особенно второе, с его энциклопедическими сведениями), они бы стали думать иначе. Покорность обошлась мне слишком дорого — я никому не дал послушать пластинку, а потом она и письма бесследно исчезли. Как бы я ни был подготовлен, голос произвел на меня непередаваемо жуткое впечатление. Он торопливо повторял вслед за человеком слова ритуального заклинания, но мне представлялось, что он исходит из адских глубин и гулкое эхо разносит его по бескрайним просторам. Прошло больше двух лет с тех пор, как я в последний раз ставил пластинку, но этот жужжащий глухой звук по-прежнему стоит у меня в ушах.
«Иа! Шаб-Ниггурат! Черный Козел лесов с легионом младых!» Странно, но я не в силах проанализировать или графически изобразить интонации чудовища. Такие звуки могло бы издавать какое-то отвратительное гигантское насекомое, если бы его научили произносить наши слова. Я абсолютно убежден в том, что его вокальные органы ничем не походили на человеческие и даже на органы прочих млекопитающих. У него был особенный тембр, диапазон и обертона, выделявшие его из рода всех живых существ и обитателей нашей планеты. Первые сказанные им слова настолько изумили меня, что я больше прислушивался к гулкому жужжанию, чем вникал в его смысл. Оно становилось все громче, и я не мог отделаться от ощущения какого-то небывалого кощунства. Наконец запись оборвалась, когда в разговор вновь вступил звучный и мелодичный человеческий голос с бостонским акцентом. Я сидел, бессмысленно глядя на успевший автоматически выключиться патефон.
Вряд ли стоит упоминать о том, что я не раз ставил эту пластинку, пытался проанализировать запись и делился своими впечатлениями в письмах к Экли. Бессмысленно повторять наши описания и выводы и вновь растравлять себе душу. Впрочем, могу намекнуть, что наши оценки совпали. Мы решили, что приблизились к истокам некоего отвратительного древнего обряда одной из самых таинственных религий в истории нашей Земли. Нам также стало ясно, что между прячущимися пришельцами и всем человечеством на протяжении долгих веков существовала сложная система связей. Мы не догадывались, широки ли эти связи и можно ли сравнивать их современное состояние с тем, что было прежде, однако у нас появилась определенная основа для бесчисленных, порой весьма зловещих истолкований. Очевидно, подобная связь между человечеством и безымянной бесконечностью никогда не прерывалась, и одно это откровенно пугало. Богохульство проникло на Землю с темной планеты Юггот, находившейся на краю Солнечной системы, но сама она была лишь временным пристанищем страшного межзвездного племени. А родилось оно, судя по всему, где-то за границей временно-пространственного континуума, открытого Эйнштейном, или за пределами известного нам космоса.
Мы продолжали спорить и по поводу черного камня, обдумывая, как его лучше доставить в Аркхем. Экли не советовал мне приезжать к нему и постоянно напоминал о кошмарных ночных событиях. По той или иной причине он боялся доверить свой груз обычным видам транспорта. Наконец он решил провезти камень кружным путем до Беллоус-Фоллс, а после отправить его на пароходе до Бостона через Кин, Уинчендон и Фитсбург, хотя в этом случае ему неизбежно пришлось бы проехать по заброшенным, поросшим лесом дорогам, куда более опасным, чем шоссе, ведущее к Брэттлборо. Он сказал, что, посылая мне запись, заметил на вокзале в Брэттлборо какого-то насторожившего его человека. Этот человек был явно взволнован и не пожелал разговаривать со служащими на станции. Он сел в тот же поезд, которым Экли отправил мне пластинку. Экли признался, что был не уверен, получу ли я ее, и успокоился, лишь когда я сообщил о ее благополучном прибытии. Как раз в это время — в десятых числах июля — по дороге пропало мое очередное письмо, о чем я узнал из тревожного послания Экли. А затем он попросил меня больше не писать ему в Тауншенд, а отправлять все письма на главный почтамт в Брэттлборо до востребования. Он пояснил, что теперь будет чаще ездить туда или на своей машине, или новым скоростным пассажирским рейсом, недавно заменившим прежний, медленный. Я понял, что его тревога нарастает с каждым днем. Он подробно описывал громкий лай собак безлунными ночами, сообщал мне о новых следах от когтей, обнаруженных утром на дороге и в топкой грязи за фермой. Как-то он рассказал мне о целой веренице следов, совпадавших по направлению со вмятинами от собачьих лап, и в подтверждение прислал фотографии. Именно в ту ночь собаки отчаянно лаяли и выли.
Утром в среду 18 июля я получил телеграмму из Беллоус-Фоллс. Экли известил меня о том, что отправил черный камень поездом № 5508, выехавшим из Беллоус-Фоллс в 12:15 дня. Он должен был прибыть на Северную станцию в Бостон в 16:12. Я подсчитал, что посылка окажется в Аркхеме через сутки, и в пятницу провел все утро дома, ожидая, что вот-вот получу ее. Однако ни в полдень, ни позднее она так и не пришла. Я позвонил на станцию и выяснил, что среди багажа этой посылки нет. Затем я связался по телефону с железнодорожным агентом Северной станции в Бостоне и с изумлением узнал о том, что у них тоже отсутствует груз на мое имя. Поезд № 5508 простоял вчера в Бостоне целых тридцать пять минут, но никакой предназначенной мне посылки в его товарном вагоне не обнаружилось. Агент обещал мне расследовать всю историю, и вечером я написал Экли очередное письмо, где подробно изложил странное происшествие.
Ответ из Бостона пришел на следующий день. Агент не терял времени даром и позвонил мне, как только выяснил обстоятельства. Он успел переговорить с проводником поезда № 5508 и передал мне его весьма любопытный рассказ. На остановке в Кине к этому проводнику подошел простоватого вида человек с выгоревшими добела волосами, назвался Стэнли Адамсом и, не скрывая волнения, спросил, куда пропал отправленный ему большой ящик. Его низкий монотонный голос внезапно усыпил проводника, и он не помнил, чем кончился их разговор. Когда он очнулся, Адамса рядом не было, а поезд только что тронулся дальше. Агент из Бостона добавил, что проводник на редкость честный и порядочный молодой человек и за годы службы в их компании зарекомендовал себя с лучшей стороны.
Я записал имя и домашний адрес проводника и вечером выехал к нему в Бостон. Он держался открыто, располагал к себе, но не дополнил уже известную мне историю никакими новыми сведениями. Как ни странно, он не смог толком рассказать, как выглядел этот загадочный Адамс, и обратил внимание лишь на его необычный голос. Я вернулся в Аркхем и написал вечером несколько писем — одно Экли, другое служащим железнодорожной компании, а третье агенту в Кин, да еще обратился с запросом в местную полицию. У меня не было сомнений в том, что человек со странным голосом не только загипнотизировал проводника, но и сыграл ведущую роль во всем этом мрачном происшествии. Я надеялся, что служащие станции в Кине и записи, оставшиеся на телеграфе, подскажут мне, кто он такой и как ему удалось узнать о посылке.
Однако мои расследования оказались безрезультатными. Человека со странным голосом действительно видели на станции в Кине рано утром 18 июля, и кто-то из служащих заметил, как он нес тяжелый ящик, но никто его не знал и не встречал прежде. Он не заходил на телеграф, и никаких сообщений на его имя, насколько известно, не поступало, равно как не поступало и других сведений, из которых можно было бы выяснить, что черный камень находится в товарном вагоне поезда № 5508. Естественно, что Экли принялся за расследование вместе со мной и даже приехал в Кин, чтобы расспросить живущих рядом со станцией, но был настроен фаталистически и не рассчитывал на удачу. Похоже, он воспринял пропажу ящика как зловещее подтверждение уже знакомых ему намерений, и никакой надежды вновь отыскать камень у него не было. Он говорил о несомненных телепатических и гипнотических свойствах горного племени и их агентов, а в одном из писем прозрачно дал мне понять, что камня больше нет на Земле. Что касается меня, то я просто пришел в ярость и долго не мог успокоиться: ведь древние полустертые письмена могли поведать нам столько удивительных и глубоких тайн. Не знаю, сумел бы я пережить эту потерю, если бы не новые письма Экли. Теперь в пугающей «горной» проблеме обозначилась следующая фаза, и все мое внимание обратилось к ней.
Глава 4
Неведомые твари осмелели, писал Экли еще более неразборчивым почерком — по-видимому, у него дрожала рука, — и решили вплотную подойти к его дому. Почуяв неладное, в безлунные или тусклые ночи его собаки лаяли без умолку, а днем кто-то постоянно пытался преградить ему дорогу. Второго августа он поехал в деревню и наткнулся на дороге на поваленный ствол. Это было как раз у поворота в горы. Сидевшие с ним в машине две большие собаки грозно зарычали, предупредив хозяина, что чудовище притаилось совсем рядом, за деревьями. Теперь он совсем не мог обходиться без своих верных помощников и всюду брал их с собой. Дорожные приключения продолжились 5 и 6 августа — сначала пуля задела крыло его машины, а на следующий день собаки опять лаяли, сигнализируя ему об опасности.
Пятнадцатого августа он прислал мне отчаянное письмо, и я очень расстроился. Я понял, что в одиночку он долго не продержится и ему нужно обратиться за помощью в полицию. Закон обязан его защитить. В ночь с 12 на 13 августа события приняли угрожающий оборот — его ферму обстреляли и убили двух или трех собак. На дорожке виднелись отпечатки многих сотен когтей рядом со следами Уолтера Брауна. Экли позвонил в Брэттлборо, чтобы ему прислали еще несколько собак, но не успел сказать и двух слов, как связь оборвалась. Ему пришлось поехать в город, где он выяснил, что кабель перерезали высоко в горах к северу от Ньюфейна. Однако домой он вернулся с четырьмя отличными новыми собаками и надежными средствами защиты для отражения очередных атак. Он написал мне это письмо на почте в Брэттлборо, и я получил его без каких-либо задержек.
Мое отношение к происходящему к тому времени заметно изменилось — меня уже не слишком волновали научные проблемы, и я с беспокойством думал о судьбе Экли. Я боялся за него, живущего на далекой, уединенной ферме, и в какой-то мере боялся за себя — как-никак, я успел уже основательно изучить подробности, связанные со странным горным племенем. Оно окончательно вышло из укрытия и каждый день давало о себе знать. Доберутся ли они до меня? Попробуют ли меня окружить? В ответном письме я предложил Экли свою помощь и дал понять, что начну действовать, если он откажется. Я вновь заговорил с ним о поездке в Вермонт, решив, что он одобрит мой поступок, и добавил, что поддержу его и объясню властям сложившееся положение. Однако он откликнулся лишь короткой телеграммой, посланной из Беллоус-Фоллс:
Ценю вашу позицию, но ничего не могу поделать. Советую воздержаться от поездки — она способна повредить нам обоим. Ждите объяснений.
Генри Экли
Но дело оказалось куда серьезнее и глубже. После того как я отозвался на телеграмму, ко мне пришло письмо от Экли. Оно было написано дрожащим почерком, и я с изумлением узнал, что он не только не отправлял телеграмму, но и не получал моего письма, непосредственным ответом на которое она, по логике, и являлась. Он тут же навел справки в Беллоус-Фоллс и обнаружил, что телеграмму послал странный человек с выгоревшими добела волосами и низким, гудящим голосом. Однако кроме этого Экли ничего выяснить не удалось. Служащий показал ему рукописный вариант телеграммы, но почерк был Экли совершенно незнаком. Он обратил внимание на неправильное написание своей фамилии, без последнего «и». Дальнейшие расследования казались неизбежными, однако новый кризис вынудил его их прекратить.
Экли написал мне о смерти нескольких своих собак и о покупке очередной партии. Упомянул и про обстрелы, повторявшиеся каждую безлунную ночь. В эти дни он регулярно обнаруживал следы Брауна и еще двоих человек рядом с отпечатками когтей на дороге и задворках фермы. Он говорил, что будет, видно, вынужден переехать к сыну в Калифорнию, даже не продав фермы, однако нужно еще немного повременить, может быть, он отпугнет пришельцев, особенно если перестанет разгадывать их тайны.
Я вновь предложил свою помощь. Написал, что угроза очевидна и мы должны убедить в этом местные власти. На него все-таки подействовало мое упорство, он смягчился и уже не был столь решителен. Отвергая мой план, он просил предоставить ему срок, чтобы привести в порядок дом, собрать вещи и свыкнуться с мыслью о расставании с родными краями. Так как соседи относились к его исследованиям неодобрительно и не оказывали ему никакой поддержки, то лучше ему будет уехать незаметно, чтобы не пошли пересуды и не возникли сомнения в его психическом здоровье. С него довольно, признавался мне Экли, но он хотел бы достойно сойти со сцены.
Письмо я получил 28 августа и тотчас написал ответ, в котором постарался его приободрить. Я достиг цели. Он немного успокоился, перестал жаловаться на усталость и описывать перестрелки. Впрочем, я не обнаруживал в его письмах и особого оптимизма. Он полагал, что временная передышка вызвана только наступившим полнолунием, и мечтал о безоблачных сентябрьских ночах, да еще писал о том, что переедет в гостиницу в Брэттлборо, как только скроется луна. Я вновь его подбадривал, но 5 сентября опять получил тревожное письмо, которое он, видимо, написал, не дождавшись моего утешения. По-моему, это письмо очень важно и его надо привести полностью, насколько я его запомнил.
Понедельник.
Дорогой Уилмарт!
Вот Вам мой безнадежный постскриптум к последнему посланию. Прошлой ночью небо заволокло тучами и лунный свет не мог сквозь них пробиться. Впрочем, дождя не было. На мой взгляд, дело плохо и, несмотря ни на что, конец близок. После полуночи кто-то залез на крышу и сбежались собаки. Я слышал, как они рычали и выли, а одна даже прыгнула на крышу с низкой пристройки. Там завязалась жестокая драка, и до меня донеслось страшное жужжание, которого я никогда не забуду. Да еще этот запах. Пули влетели в окно, и я едва успел отскочить.
Думаю, когда собаки разделились и одни остались внизу, а другие забрались на крышу, к дому подошел целый отряд чудищ. Я до сих пор не знаю, что там случилось, но, боюсь, крылья больше им не мешают. Я погасил свет и стал стрелять из окон, стараясь не попасть в собак. На этом дело закончилось, но утром я увидел во дворе лужи крови и липкие зеленые кучи, от которых несло какой-то невообразимой дрянью.
Потом я вскарабкался на крышу, также загаженную этими кучами. За ночь я лишился пяти собак, и гибель одной из них на моей совести. Я по ошибке прицелился слишком низко, и пуля угодила ей в спину. Сейчас я чиню пробитые пулями окна и скоро поеду в Брэттлборо за новыми собаками. На фермах меня считают сумасшедшим. На днях я черкну Вам новое письмо. Наверное, через неделю-другую я буду готов к переезду, хотя одна мысль об этом убивает меня.
Писал второпях. Экли
Почти сразу же Экли отправил мне второе письмо, которое я получил утром 6 сентября. На сей раз его каракули совсем вывели меня из равновесия, и я не знал, что ему ответить. Пожалуй, мне лучше привести текст, как я его запомнил.
Вторник.
Облака не рассеялись, и, значит, луны по-прежнему нет. Впрочем, в ближайшие дни она все равно должна пойти на ущерб. Я бы починил электричество и включил прожектор, если бы не был уверен, что они вновь перережут провода.
Наверное, я схожу с ума. Может быть, все, что я Вам писал, — фантазия или бред. Положим, и раньше ничего хорошего не было, но сейчас уже чересчур. Они говорили со мной прошлой ночью. Говорили своими проклятыми жужжащими голосами. Я не осмелюсь передать Вам содержание нашей беседы. Я слышал их ясно и четко, мне не мешал даже заливистый лай собак. Когда их речь перешла в глухой гул, в разговор вступил человеческий голос, объяснивший мне смысл слов. Будем откровенны, Уилмарт, все гораздо хуже, чем мы подозревали. Они не пускают меня в Калифорнию и хотят взять живым с собой, точнее, живым останется только мой разум, — и на Юггот, и еще дальше — за пределы нашей Галактики, а быть может, и в иные пространства. Я ответил, что не собираюсь следовать за ними — и уж тем более в том ужасном виде, в каком они намерены меня транспортировать, но, боюсь, мои отказы бесполезны. Я живу так далеко и уединенно, что они могут явиться сюда среди бела дня, как, впрочем, и ночью. Убито еще шесть собак, и когда я ехал сегодня в Брэттлборо, то чувствовал, что они прячутся совсем рядом, в лесистых частях дороги.
Я совершил ошибку, послав Вам пластинку и попытавшись отправить черный камень. Советую Вам уничтожить запись, пока не поздно. Завтра черкну Вам еще письмо, если останусь здесь. Я хотел бы перевезти свои книги и вещи в Брэттлборо и на время обосноваться в городе. Я сбежал бы отсюда и налегке, если бы мог, но что-то удерживает меня, а что именно, я и сам не понимаю. Я переберусь в Брэттлборо, как только почувствую себя в безопасности, но сейчас мне кажется, что я пленник в собственном доме. Меня не оставляет ощущение, что я ничего не добьюсь, даже если брошу все и сбегу. Это ужасно, и я прошу Вас держаться подальше от всего связанного с ними.
Ваш Экли
Я не спал всю ночь, получив это жуткое письмо, и меня не на шутку тревожило душевное состояние Экли. Содержание его письма было совершенно безумным, однако общий тон и стиль, учитывая все, что произошло на ферме, свидетельствовали о мрачной решимости и сохранившейся силе воли. Я не стал ему отвечать, подумав, что лучше будет дождаться нового письма Экли, если только у него найдется время для продолжения переписки и он сумеет откликнуться на мое последнее послание. И правда, на следующий день ко мне пришло его новое письмо. Обилие свежей информации не позволило мне немедленно откликнуться. Судите сами, я хорошо запомнил текст и привожу его полностью. Письмо было написано самыми настоящими каракулями и усеяно кляксами. Похоже, он страшно торопился и почти не владел собой.
Среда.
Я получил Ваше письмо, но говорить о нем и подробно обсуждать его содержание теперь бессмысленно. Я побежден и намерен бросить свои исследования. Удивляюсь, как у меня еще хватило духа с ними бороться. Я не смогу от них скрыться, даже если оставлю все вещи и убегу. Они меня поймают.
Вчера они прислали мне письмо — его принес человек из РФД, когда я был в Брэттлборо. Его текст отпечатан на машинке, и на конверте — штемпель Беллоус-Фоллс. Они сообщили о том, что собираются со мной сделать, и я не в силах это повторить. Берегитесь, Вам тоже грозит опасность! Разбейте пластинку. Луна пошла на ущерб, и ночи будут облачными. Я готов принять помощь — это могло бы меня спасти, но любой приехавший сюда решит, что я сумасшедший, если только не обнаружит неоспоримых доказательств. Поэтому я не вправе к кому-либо обращаться и просить. Я просто не смогу никому объяснить так, чтобы мне поверили. Да и прежде не мог.
Но я еще не сказал Вам самого худшего, Уилмарт. Наверное, Вам лучше не читать эти строки, а не то Вы оцепенеете от шока. Но знайте, я говорю правду. Так вот — я видел их и дотронулся до одной твари или, вернее, до какой-то ее части. Боже мой, это настоящий ужас! Конечно, она была мертва. Ее убила одна из моих собак, и я нашел ее сегодня утром у конуры. Я попытался отнести ее в сарай и сохранить, чтобы убедить людей — они действительно существуют, но она… испарилась за несколько часов. От нее ничего не осталось. Знаете, их видели в реках лишь в первое утро после наводнения. И это хуже всего! Я решил ее заснять и отправить Вам фотографию, но когда стал проявлять снимок, на нем ничего не было видно! Ничего, кроме сарая. Из чего же они состоят? Ведь я же видел эту тварь, успел ее пощупать, к тому же они все оставляют следы. Несомненно, они телесны, но из чего состоят их тела? А их облик не поддается описанию. Представьте себе огромного краба с массой высоких колец или узлов из каких-то плотных канатов и со щупальцами на месте головы. Зеленая слизистая жидкость — это их кровь или сок. И с каждой минутой таких чудовищ на Земле все больше и больше.
Уолтер Браун пропал — его не видели в городских кварталах и деревнях, где он прежде слонялся целыми днями. Очевидно, я пристрелил его, хотя твари обычно уносят с собой убитых и раненых.
Сегодня днем я смог спокойно добраться до города. Наверное, они убедились в моей покорности и решили прекратить слежку. Я пишу на почте в Брэттлборо. Возможно, это конец и больше писем не будет. В таком случае сообщите моему сыну Джорджу Гудинафу Экли. Его адрес — Плезант-стрит, 176, Сан-Диего, Калифорния. Прошу Вас, не приезжайте сюда. Напишите моему мальчику, если в течение недели Вы не получите от меня ни одной весточки, и следите за новостями в прессе.
Сейчас я собираюсь разыграть две последние карты, если, конечно, у меня хватит сил. Сначала попробую отравить их ядом (у меня есть разные химические смеси и маски для себя и собак), а если он не подействует, расскажу обо всем шерифу. Они могут упрятать меня в сумасшедший дом, но уж лучше это, чем полет с чудовищами. Возможно, я попрошу полицейских обратить внимание на следы вокруг дома. Правда, они не слишком четкие, но я каждое утро нахожу свежие. Полагаю, полицейские скажут, что я их обманываю. Они все считают, что я рехнулся.
Да, я должен вызвать полицию, и пусть кто-то из полицейских останется на ночь у меня на ферме и увидит все своими глазами, хотя, наверное, эти твари узнают о моих планах и не появятся здесь ночью. Ведь они уже перерезали кабель, когда я попытался позвонить ночью по телефону, — связист на телефонной станции подумал, что все это более чем странно, и, наверное, решил, что я сам его перерезал. Я уже неделю не могу вызвать мастера и восстановить связь.
Конечно, мне стоило бы рассказать обо всем местным крестьянам, они бы поверили в эти ужасы, но их бы подняли на смех, попробуй они заявить властям, да к тому же они уже давно обходят мой дом стороной и ничего не знают о последних событиях. Даже ради денег никто из окрестных фермеров не согласится приблизиться хоть на милю. Здешний разносчик продовольствия слышал, что они говорят и как вышучивают меня на все лады. Боже мой! Если бы у меня хватило смелости поговорить с ним и убедить его, что это правда! Думаю, мне надо показать ему следы, но он приходит не раньше полудня, а к этому времени они обычно исчезают. Возможно, землю с отпечатками когтей следует поместить в ящик с крышкой, но тогда он подумает, что я над ним просто издеваюсь.
Я сам виноват, что столько лет жил отшельником; будь я пообщительнее, крестьяне не стали бы меня избегать. Я мог продемонстрировать черный камень, снимки или поставить пластинку лишь старикам да невеждам. Остальные сказали бы, что это розыгрыш, и вволю посмеялись бы надо мной. Но, возможно, я все же покажу фотографии. На них ясно видны следы, пусть даже этих тварей и нельзя заснять. Как жаль, что никто, кроме меня, не видел ее сегодня утром, пока она не испарилась. Не знаю, к чему это приведет. После всего, что я пережил, в психиатрической клинике мне, наверное, станет легче. Врачи помогут мне прийти в себя. Я буду далеко от своего дома, и это меня спасет. Напишите моему сыну Джорджу, если больше ничего обо мне не услышите. Прощайте, уничтожьте запись и не связывайтесь больше с этим делом.
Ваш Экли
Его письмо ужаснуло меня, и я погрузился в пучину отчаяния. Я не знал, как мне ему ответить, и написал нечто весьма несообразное, попробовав напоследок дать ему совет и приободрить. Письмо я отправил до востребования. Я умолял Экли немедленно перебраться в Брэттлборо и попросить защиты у городских властей, добавив, что сам приеду в город с пластинкой и постараюсь убедить полицию и суд в его полной вменяемости. Настало время предостеречь всех жителей от страшных тварей, пока они еще не перешли к нападению. Нетрудно заметить, что я тоже был крайне взволнован и верил каждому слову Экли. Правда, у меня мелькнула мысль, что если он не сумел сфотографировать мертвое чудовище, то виной тому не какой-то каприз природы, а его нервное возбуждение.
Глава 5
Возможно, мое сбивчивое письмо еще не успело дойти до Экли, когда 8 сентября, в субботний полдень, я получил от него очередное послание. Оно было совсем не похоже на прежнее и поразило меня своим спокойным тоном. К тому же письмо оказалось отпечатано на новой машинке. Да, в этом странном письме чувствовалась уверенность в своих силах, вдобавок Экли приглашал меня приехать. Казалось, что ночной кошмар на дальних холмах внезапно подошел к концу и содержание страшной драмы мгновенно изменилось. Я вновь вынужден процитировать его по памяти и по возможности полно воспроизвести его особый дух и стиль. На нем стояли штемпель Беллоус-Фоллс и подпись от руки, поскольку письмо, как я уже говорил, было напечатано довольно неумело, что весьма характерно для начинающих. Однако текст отличался предельной аккуратностью, и я подумал, что Экли когда-то, возможно в колледже, уже печатал на машинке. Сказать, что, прочитав его, я испытал облегчение, было бы не совсем точно. Конечно, на душе у меня стало гораздо спокойнее, но к этому спокойствию примешивалось ощущение чего-то нереального, почти призрачного. Если Экли был нормален, испытывая столь небывалый страх, то здоров ли он, избавившись от него? И его «отчет о выздоровлении» — что он означал на самом деле? Ведь умонастроение Экли сделалось не просто иным, а диаметрально противоположным! Но вот вам точный текст, и я могу гордиться своей памятью, сохранившей его до последней строчки.
Тауншенд, Вермонт,
пятница, 6 сентября 1928 г.
Мой дорогой Уилмарт!
Мне доставляет огромное удовольствие откровенно высказаться по поводу всех «глупостей», о которых я Вам писал. Я говорю «глупостей», хотя имею в виду скорее мое паническое настроение, а не описание самих явлений. Они, эти явления, вполне реальны и достаточно важны, ошибка заключается лишь в моем ненормальном отношении к ним.
Думаю, я уже упоминал, что мои странные посетители начали общаться со мной, и рассказывал об этих попытках. Прошлой ночью мы разговаривали. В ответ на их сигналы я пригласил к себе их посланника. Могу сказать, что это был человек. Он поведал мне массу нового, о чем ни Вы, ни я даже не подозревали, и наглядно доказал, что мы совершенно неверно оценивали их действия и не понимали, с какой целью Крылатые прибыли на Землю, основав здесь свою тайную колонию.
Возможно, что все зловещие легенды о том, что они предлагали людям и чего желали добиться на нашей планете, возникли в результате человеческого невежества и непонимания особенностей их аллегорической речи. Конечно, их культурные обычаи и характер мышления резко отличаются ото всех наших представлений. Должен откровенно признаться, что я недалеко ушел в своих догадках от неграмотных фермеров и диких индейцев. То, что я считал чудовищным, постыдным и кощунственным, на самом деле оказалось расширяющим границы сознания и даже величественным, а мое прежнее отношение было типичным для большинства людей, ненавидящих и боящихся всего принципиального иного, не похожего на наше, привычное. Теперь я сожалею о том, что причинил ущерб одиноким на Земле и недоверчивым существам во время наших ночных баталий. Если бы у меня тогда появилась возможность мирно и разумно побеседовать с ними! Но они не держат на меня зла, их эмоции совсем не похожи на наши. Им не повезло, что они нашли себе в Вермонте негодных агентов, например, таких недостойных людей, как покойный Уолтер Браун. Он-то и настроил меня против них. Они никогда не нападали на людей и никому не вредили, но часто роковым образом ошибались и окружали себя шпионами из числа местных жителей. У них существует настоящий культ злых людей (человек с вашими знаниями поймет меня, если я свяжу этот культ с Хастуром и Желтым знаком). Его цель — убрать их со своего пути и наказать с помощью чудовищных сил из иных миров. Так они расправляются с агрессорами, но не с обычными людьми, и жертвами предосторожности Крылатых становятся лишь эти соглядатаи. Мне удалось узнать, что наши пропавшие письма похитили отнюдь не Крылатые, а, если так можно выразиться, эмиссары зловещего культа.
Пришельцы хотят от людей только мира, невмешательства в их жизнь и увеличения духовных связей. Последнее теперь абсолютно необходимо, поскольку земные открытия и изобретения расширили наши познания и отныне Крылатым с каждым днем все труднее существовать на этой планете. Пришельцы хотели бы полнее узнать человечество и отобрать нескольких философов и ученых для знакомства с их цивилизацией. Такой обмен знаниями уничтожит все имеющиеся преграды и страхи, и в результате восторжествует modus vivendi, который сможет удовлетворить обе стороны. Сама мысль о попытках порабощения или духовного разложения человечества чудовищна и нелепа.
Неудивительно, что Крылатые выбрали меня для установления этих связей, — как-никак, я успел уже немало узнать о них и могу быть на Земле истолкователем их намерений. Они обо многом говорили со мной прошлой ночью, и факты способны потрясти воображение своим масштабом и широтой охвата. А мне еще предстоит столько узнать в процессе непосредственного общения и переписки с ними! Пока они не звали меня с собой в путешествие на иные планеты, хотя позднее я сам, наверное, захочу с ними отправиться, воспользовавшись и своими познаниями, и всем опытом, накопленным человечеством. Они больше не будут осаждать мой дом. Все вернулось к норме, и теперь собакам не придется меня защищать. Я прошел здесь через страшные испытания, но взамен узнал массу нового, и мой интеллектуальный багаж сравним лишь с изведанным немногими смертными.
Наверное, Крылатые — самые восхитительные органические существа во Вселенной или в сферах вне времени и пространства, члены огромной космической расы, в сравнении с которой все иные жизненные формы всего лишь неполноценные варианты. Они ближе к растительным, чем к животным видам, если подобные термины вообще применимы к их органической структуре, отдаленно напоминающей грибы; впрочем, их состав, в известной мере сходный с хлорофиллом, и единственная в своем роде пищеварительная система существенно отличаются от свойственной настоящим грибам. Они состоят из форм, совершенно чуждых нашей части пространства, и их электроны вибрируют совсем иначе. Вот почему их невозможно заснять обычным фотоаппаратом, хотя мы можем их видеть и зрение нас не обманывает. Полагаю, что, набравшись знаний, любой хороший химик смог бы изобрести раствор для фотографий, проявляющий их изображения.
Это племя Крылатых способно полностью сохранять свою субстанцию, перемещаясь в безвоздушном и лишенном жара межзвездном пространстве, а иные пришельцы могут путешествовать лишь с помощью механических приспособлений и благодаря любопытнейшим хирургическим операциям. Только у немногих из них есть крылья, сопротивляющиеся воздействию эфира, и вермонтские пришельцы как раз относятся к этому подвиду. Они не случайно обосновались на заброшенных горных кряжах Старого Мира, но и тут я должен уточнить ряд подробностей. Их внешнее сходство с жизнью животных и со структурой, которую мы считаем материальной, свидетельствует о параллельной эволюции, а не о близком родстве. Их интеллектуальные возможности превышают любые известные нам жизненные формы, хотя должен сказать, что крылатое племя с наших гор, несомненно, самое развитое. Телепатия — их обычный способ общения, но у них имеются и рудиментарные вокальные органы, которые после несложной операции (операции у них широко практикуются и считаются чем-то повседневным и обязательным) могут дублировать речь всех говорящих организмов.
Они обитают на еще не открытой и почти лишенной света планете на самом краю нашей Солнечной системы — за Нептуном и на расстоянии девяти других планет от Солнца. Это, так сказать, их родной дом. Как мы и предполагали, планета в мистически зашифрованном виде упоминалась в древних и потаенных рукописях. Там она называлась Югготом. Вскоре к ней проявят интерес в нашем мире и начнут размышлять о ее происхождении, надеясь установить с ней духовную связь. Меня не удивит, если астрономы ощутят сигналы мысли и откроют Юггот, когда Крылатые позволят им это сделать. Но Юггот — это только форпост всего племени. Оно расселилось на разных планетах и звездах, о которых мы не имеем никакого представления и даже вряд ли способны их себе вообразить. Единица времени и пространства является для них олицетворением космического единства, но на самом деле она не более чем атом в принадлежащей им бесконечности. Человеческое сознание не в силах охватить эту бесконечность, о чем я могу судить по себе, и за все время существования людского рода о ней догадывалось, возможно, человек пятьдесят или чуть меньше.
Наверное, на первых порах Вы, Уилмарт, сочтете мои рассуждения бредовыми, но со временем сумеете оценить поистине титанические возможности, открывшиеся перед нами. Я хотел бы поделиться с Вами множеством фактов и должен сообщить немало интереснейших подробностей, но они не для письма. В прошлом я предостерегал Вас от поездки ко мне. Теперь опасность миновала, и я с удовольствием отказываюсь от своих слов и приглашаю Вас к себе.
Не могли бы Вы приехать сюда до начала занятий в колледже? Наша встреча доставила бы мне истинное удовольствие. Возьмите с собой пластинку и все мои письма, потому что мне надо посоветоваться и уточнить ряд деталей. Они понадобятся мне, чтобы воссоздать всю историю. Привезите и фотографии, потому что я от волнения, кажется, перепутал негативы. Вы не представляете, что я собираюсь поведать Вам в дополнение к изложенному здесь и какие колоссальные планы рождаются у меня!
Приезжайте не раздумывая. За мной больше никто не следит, и дома у меня мир и тишина. Отправляйтесь в путь, а я подъеду на станцию в Брэттлборо и встречу Вас там. Погостите у меня подольше, вернее, сколько сможете. Я предвкушаю интереснейшие споры по вечерам о тайнах Вселенной и беспомощности наших догадок. Только, конечно, никому не говорите об этом, непосвященные ничего не должны знать.
Железнодорожное сообщение с Брэттлборо неплохо налажено, и Вы можете ознакомиться с расписанием в Бостоне. Садитесь в поезд до Гринфилда, а потом сделайте пересадку. Я предлагаю Вам выехать из Бостона в весьма удобное время — десять минут пятого утра. Поезд прибудет в Гринфилд в 7:35, а в 9:19 Вы пересядете в другой, который остановится в Брэттлборо в 10:01 вечера. Выберите подходящий день недели и дайте мне знать, а я подъеду на станцию и встречу Вас.
Простите за это отпечатанное письмо, но, как Вы знаете, у меня начали дрожать руки, и я просто не в силах долго писать. Вчера я приобрел в Брэттлборо эту машинку «Корона», и, кажется, она хорошо работает.
Жду от Вас ответа и надеюсь увидеться с Вами в самом скором времени. Привезите с собой пластинку, все мои письма и фотографии.
Искренне Ваш.
С нетерпением жду приезда.
Генри У. Экли
Алберту Н. Уилмарту, эсквайру,
Мискатоникский университет,
Аркхем, Массачусетс
Противоречивость моих эмоций после прочтения, перечитывания и тщательного анализа этого странного и непредсказуемого письма не поддается описанию. Я уже сказал, что одновременно почувствовал облегчение и неуверенность, но это слишком грубое определение, исключающее нюансы и подсознательные ощущения, связанные как с облегчением, так и с неуверенностью. Начну с того, что письмо настолько противоречило предшествующей веренице ужасов, что изменение сознания Экли — от гнетущего к умиротворенному спокойствию и даже воодушевлению — казалось невероятным в своей стремительности и бесповоротности! Я с трудом мог поверить, что за день психологическая перспектива человека, написавшего мне еще в среду отчаянное послание, стала совершенно иной, пусть даже ночью он испытал какое-то необычайное облегчение, но не до такой же степени! Иногда, чувствуя ирреальность игравшейся драмы, я задавал себе вопрос, уж не померещились ли мне все эти фантасмагорические силы, но потом думал о записи на фонографе, и это совсем сбивало меня с толку.
Я мог ожидать от Экли чего угодно, но не такого письма! Проанализировав свои впечатления, я определил в них две фазы. Первая — если считать, что Экли был и остался в здравом уме и твердой памяти, то происшедшие изменения были необъяснимы. Вторая — никто не назвал бы нормальными или предсказуемыми изменения в стиле Экли, его умонастроении и языке. Казалось, коварные мутации уже затронули глубинные основы его личности и их воздействие было столь очевидным, что эти фазы никак не соединялись. Одна исключала другую, наглядно демонстрируя отклонение от нормы. Выбор слов, орфография — все сделалось не таким, как раньше. Я с профессиональной чуткостью к стилю проследил различия и понял, что лишь мощнейшая эмоциональная встряска могла вызвать столь радикальный поворот. Однако в ряде отношений письмо было вполне типичным для Экли. Та же старая страсть к бесконечному, та же пытливость ученого. Я ни минуты не верил в подделку или хитроумную замену письма. В этом случае он не стал бы меня приглашать, чтобы я сам убедился в правдивости его рассказа.
Я не поехал в субботу вечером, продолжая обдумывать содержание письма. В его подоплеке угадывалась борьба светлых и темных сил. Я уже устал от быстрой смены чудовищных предположений, возникавших в моем сознании в последние четыре месяца, и размышлял над новыми, потрясшими меня фактами медленнее обычного. Сомнения чередовались с готовностью поверить Экли, но так бывало и прежде, когда он сообщал мне о чудесах. Однако с недавних пор любопытство начало вытеснять тревогу и замешательство. Неважно, был Экли безумен или нормален, произошла ли с ним настоящая метаморфоза или он просто успокоился, — главным было то, что в своих увлекательнейших исследованиях он сменил перспективу. Его страхи — не будем гадать, реальные или мнимые — сразу уменьшились, а все внимание переключилось на открывшиеся перед ним космические бездны и недоступные людям знания. Я тоже стремился к неведомому, и потому наши пламенные мечты совпадали. Когда Экли удалось разрушить чудовищный барьер между мирами, я почувствовал неподдельное волнение. Уничтожить дурацкие, надоевшие границы времени и пространства, отбросить, как ненужный хлам, законы природы, ощутить связь с бескрайними просторами, приблизиться к тайнам бесконечности — да, для этого стоило рискнуть жизнью, подвергнуть испытанию разум и душу! И Экли уверял меня, что угрозы больше нет, а иначе он не стал бы приглашать меня, после того как я столь долго отказывался к нему ехать. Я подумал о том, что он может мне поведать, и оцепенел, представив себе, как сижу в уединенном доме и слушаю человека, накануне беседовавшего с инопланетянами, а на столе, рядом с нами, — пластинка и груда писем, в которых он делился со мной своими наблюдениями.
Итак, в воскресенье утром я отправил Экли телеграмму. В ней говорилось, что мы можем встретиться в Брэттлборо в следующую среду — 12 сентября, если его устроит эта дата. Однако расписание, которое он предложил мне, я решительно отверг. Признаюсь честно, мне не хотелось приезжать в глухой вермонтский край поздно вечером. Я позвонил на станцию и заказал билет на другой час. Мне предстояло встать пораньше и сесть в поезд, отправлявшийся из Бостона в 8:07 утра. В таком случае в 9:25 я должен был прибыть в Гринфилд, подождать на вокзале и в 12:22 пересесть на поезд, идущий в Брэттлборо. Я буду там в 1:08 дня, а это удобнее, чем 10:01 вечера. Экли встретит меня, и я без страха поеду с ним по пустынным и таинственным дорогам. Я указал в телеграмме выбранное время и обрадовался, получив от него в тот же вечер ответ:
Время устраивает встречу поезд 1:08 среду не забудьте запись письма фотографии надеюсь благополучный приезд ждут великие открытия.
Экли
Одно то, что обмен телеграммами состоялся в течение дня и мою телеграмму ему то ли доставили в Тауншенд, то ли прочли по телефону, воодушевило меня и окончательно уничтожило все сомнения. Я вздохнул спокойно и почувствовал, что с моих плеч упала тяжелая ноша. Ведь подозрения месяцами никуда не исчезали, а таились в глубине моей души. В ту ночь я спал долго и крепко и с утра принялся за сборы, хотя в запасе у меня оставалось еще два дня.
Глава 6
В среду я отправился к Экли, взяв с собой чемодан с необходимыми вещами и блокнотом, в котором были помечены даты получения страшной записи на фонографе, фотографий и чуть ли не всех писем. Я сдержал обещание и никому не сказал, куда еду. Мне и самому было ясно, что в наши дела нельзя посвящать посторонних, даже если все закончится благополучно. Мысль о духовном контакте с пришельцами из иных миров ошеломляла, и я, несмотря на длительную интеллектуальную тренировку и даже известную подготовленность, чувствовал себя глупцом. Что же в подобном случае могли испытывать остальные, несведущие люди? Не знаю, что преобладало во мне — страх или жажда небывалых впечатлений, когда я пересел из бостонского поезда и отправился на запад, глядя, как знакомый пейзаж сменяется почти неизвестным: Уалтхем — Конкорд — Эйер — Фитсбург — Гарднер — Этол.
Поезд прибыл в Гринфилд с семиминутным опозданием, но северный экспресс еще стоял. Я торопливо вбежал в вагон, и у меня перехватило дух при виде машин, освещенных ярким полуденным солнцем. Все они отправлялись в край, о котором я много читал, но где никогда прежде не был. Я знал, что скоро окажусь в старомодной, более примитивной и живущей по своим законам Новой Англии, не похожей на индустриальные прибрежные южные регионы с их современными городами. В них прошла вся моя жизнь, и вот теперь я проезжаю по не испорченным цивилизацией, патриархальным графствам Новой Англии, где нет иностранцев, не дымят фабричные трубы, не бросается в глаза яркая реклама. По Новой Англии без бетонных дорог, даже в самых новых округах. Странно было наблюдать за этой мирной и тихой жизнью, столь типичной для штата, и сознавать, что она связана вечными корнями с лесами и холмами и хранит память о предках, как бы удобряющую ее почву старинными верованиями, о которых не принято упоминать.
Я видел, как сияли под солнцем синие воды реки Коннектикут — мы пересекли ее, миновав Нортфилд. Впереди маячили зеленые таинственные холмы, и, когда в вагон вошел проводник, я понял, что наконец добрался до Вермонта. Он попросил меня перевести часы на час назад, объяснив, что в северном холмистом штате другое времяисчисление и они не согласны с новыми порядками. Когда я это сделал, у меня возникло ощущение, будто я очутился в прошлом веке.
Поезд шел вдоль реки и незаметно въехал в Нью-Хэмпшир. Я догадался об этом, заметив крутой склон Уантастикуайт, о котором сложено столько старых легенд. Улицы тянулись по левую сторону, а справа я увидел зеленый остров, омываемый речным потоком. Пассажиры поднялись с мест и двинулись к двери. Я последовал за ними. Поезд остановился, и я спустился на продолговатую платформу железнодорожной станции в Брэттлборо.
Оглядевшись по сторонам, я увидел несколько машин и стал гадать, в какой из них приехал Экли. Он говорил мне, что у него «форд», но не успел я присмотреться, как кто-то направился ко мне навстречу. Это был явно не Экли. Человек подал мне руку и звучным голосом осведомился, не я ли мистер Алберт Н. Уилмарт из Аркхема. Он ничем не напоминал бородатого седого Экли на снимках и показался мне довольно молодым, элегантно одетым, словом, типичным горожанином. Я обратил внимание на его короткие темные усы. В его хорошо поставленном голосе мне почудилось что-то знакомое и тревожное, хотя я не мог вспомнить, с чем было связано это непонятное ощущение. Пока я глядел на него, он объяснил, что является близким другом моего будущего хозяина и приехал из Тауншенда по его просьбе. Экли, сказал он, плохо себя чувствует, у него внезапно разыгралась астма, и он сейчас не в силах передвигаться. Однако болезнь не столь серьезна, и его планы отнюдь не изменились. Он будет рад моему визиту. Я не стал допытываться, известно ли что-нибудь мистеру Нойесу — так представился мне незнакомец — об исследованиях и открытиях Экли, однако мне показалось, что они не слишком хорошо знают друг друга. Я помнил об отшельничестве Экли и его поистине круглом одиночестве. Поэтому меня удивило появление на вокзале его приятеля, но, пока я разбирался в нахлынувших на меня чувствах, Нойес завел мотор и пригласил меня в машину. Судя по описаниям Экли, у него был небольшой подержанный «форд», и я не ожидал, что доберусь до его дома в ультрасовременном продолговатом новеньком автомобиле. Очевидно, он принадлежал Нойесу и был куплен совсем недавно, ибо мне бросились в глаза массачусетский номер и висевший в кабине талисман этого города — «священная рыбка». Я предположил, что владелец машины летом отдыхал где-то недалеко от Тауншенда.
Нойес забрался в машину следом за мной, и мы сразу тронулись в путь. Я обрадовался, что он не стал занимать меня разговором. Во всей атмосфере чувствовалась напряженность, и мне хотелось помолчать. Озаренный лучами полуденного солнца город был очень живописен. Мы спустились со склона холма и двинулись вправо по центральной улице. Подобно другим старым городам Новой Англии, обычно запоминающимся с детства, он выглядел уснувшим. Его ансамбль островерхих крыш, печных труб и кирпичных стен невольно пробуждал забытые воспоминания, идущие из глубины души. Я мог бы сказать, что приблизился к вратам полузаколдованного царства, преодолев нерушимые законы времени, — царства, в котором могли существовать, расти и сохраняться старинные и причудливые явления.
Когда мы выехали из Брэттлборо, ощущение неестественности окружающего заметно усилилось. На всем лежала печать тайны, чего-то запретного. Возможно, это чувство подкрепляли высокие холмы, поросшие лесами, их крутые склоны и темные, пугающие гранитные скалы. Кто знает, какие секреты скрывались за вершинами этих холмов, что рождалось, умирало и вновь воскресало в чащах суровых лесов? Неизвестно даже, враждебны ли эти тайны людям. Дорога петляла, и порой мы оказывались рядом с широкой мелководной рекой, стекавшей с неведомых мне северных гор. Я вздрогнул, когда мой спутник сказал, что это Уэст-ривер. Ведь в ее разлившихся потоках после наводнения видели одну из этих крабообразных тварей, о чем я узнал из газетной статьи.
Постепенно окружающая нас местность становилась все глуше и пустыннее. Старинные мосты угрожающе нависали над безднами между холмов, вдоль реки тянулись заброшенные, поросшие травой железнодорожные пути, от которых веяло одиночеством и бесприютностью. Передо мной промелькнули свежие вырубки в долине, рядом с которой высились огромные утесы. Гранит Новой Англии поражал своим суровым серым цветом, особенно мрачным на фоне озаренных солнцем вершин. В оврагах струились ручьи, стекавшие к реке. Казалось, что они стремятся поведать ей тайны тысяч высоких, неприступных холмов. Узкие, почти нехоженые тропинки тоже сбегали вниз, в долину, то пересекаясь, то расходясь в стороны. Они были видны и на крутых склонах и терялись в чащах дремучих лесов. Я подумал, что за старыми разросшимися деревьями может спрятаться целая армия злых духов, и тут же вспомнил об Экли. Наверное, они следили за тем, как он ехал в город. Теперь меня уже не удивляли его страхи и предчувствия.
Меньше чем за час мы добрались до старого поселка Ньюфейн, это был последний «форпост цивилизации», связывавший нас с миром, который можно было смело назвать завоеванным и заселенным людьми. Миновав его, мы покинули привычную, зависящую от времени, осязаемую и рождающую непосредственный отклик среду и очутились в фантастическом призрачном царстве. Узкая, напоминающая ленту дорога вилась и петляла на крутых поворотах, то вздымаясь вверх, то резко спускаясь, словно повиновалась какой-то неведомой прихоти. Зеленые пики холмов и гор сменялись полузаброшенными долинами. Кроме звуков нашего мотора, мы слышали лишь глухой гул, доносившийся с отдаленных ферм, — они изредка попадались нам на пути. Да еще негромко журчали ручьи, стекавшие вниз из тенистых лесов.
У меня перехватило дыхание от близости низких округлых холмов, сменивших гряду высоких гор. Я даже не мог себе представить их неприступность и крутизну. Они не шли ни в какое сравнение с привычным нам прозаическим городским пейзажем. Дремучие, непроходимые леса на их склонах усугубляли страх и одиночество, а сами эти склоны казались пришельцами из странной, давным-давно забытой эпохи или, быть может, письменами, оставленными в наследство племенем древних титанов, о котором уже никто не помнил. И лишь в глубоких грезах можно было узнать, что оно некогда царило на Земле. Все легенды прошлых веков и поразительные описания Экли ожили в моей памяти, невольно усилив атмосферу напряженности и нарастающей угрозы. Цель моего визита и пугающая ненормальность всей ситуации внезапно стали мне предельно ясны, и я с трудом удержался от мрачных размышлений.
Очевидно, Нойес заметил мое волнение, дорога начала обрываться, и мы уже не могли ехать на прежней скорости. Он принялся объяснять мне особенности здешних мест и старался держаться как можно любезнее. Повествуя о красоте и первозданной дикости края, о присущих его жителям предрассудках, он явно обнаружил знакомство с фольклорными изысканиями моего будущего хозяина. Из его подчеркнуто вежливых вопросов было понятно, что он знал о моих научных исследованиях и цели визита. Знал он и о том, что я везу с собой какие-то свидетельства, однако не стал об этом распространяться и ни словом не упомянул о чудовищных открытиях Экли.
Он вел себя на редкость дружелюбно, и весь его облик обычного горожанина должен был бы успокоить меня, а реплики и пояснения даже приободрить, однако я с каждой минутой чувствовал нарастающую тревогу. Она усугубилась, когда мы подъехали к гряде поросших лесом холмов, то и дело трясясь и подскакивая на поворотах. Порой мне чудилось, будто он испытывает меня и хочет выяснить, известны ли мне страшные тайны этого края. Стоило ему заговорить, как я ощущал, что мне знаком его голос, и само это чувство дразнило, мучило и не давало спокойно вздохнуть. Почему его хорошо поставленный звучный голос вызывал у меня какие-то зловещие ассоциации, связываясь с забытыми ночными кошмарами? Я ощущал, что сойду с ума, если узнаю его. Изобрети я какой-нибудь достойный предлог, то непременно прервал бы поездку. Но мне ничего не удалось придумать, и я решил, что неторопливое обсуждение научных проблем с Экли поможет мне развеять сомнения и прийти в себя.
Кроме того, космически красивый пейзаж действовал поистине завораживающе и, как ни странно, снимал напряжение, пока мы то карабкались в гору, то на всем ходу слетали вниз. Время исчезало в загадочных лабиринтах, и вокруг нас вырастали сказочные волны цветов и оживало великолепие минувших столетий — седые рощи, мирные пастбища с яркими осенними цветами и пустые поля между коричнево-бурыми фермерскими угодьями, среди которых изредка высились огромные деревья, а за ними темнели отвесные скалы, пахнущие у подножия душистыми кустарниками и луговой травой. Даже солнце сияло здесь по-особому, как будто во всем регионе господствовало ожидание или скрытое возбуждение. Ничего подобного я прежде не видел, разве что на дальнем плане в картинах итальянских примитивистов. Подобные ландшафты встречались и на полотнах Содомы и Леонардо, но лишь как фон, проступающий сквозь ренессансные аркады. Однако мы очутились в самом центре картины, и я обнаружил в ней то, о чем смутно помнил и тщетно искал всю жизнь.
Внезапно, обогнув округленный угол скалы, машина резко затормозила и остановилась. Слева от меня, за ухоженной лужайкой, выходящей на дорогу и отделенной от нее каменной оградой, стоял белый двухэтажный особняк с мансардой необычного размера. Он удивлял не свойственной глухому краю элегантностью. Рядом с ним располагались пристройки, или, точнее, соединенные арочными перекрытиями сараи и амбары, а справа, чуть в глубине, высилась мельница. Я сразу узнал особняк по снимкам и не удивился, заметив на железном почтовом ящике у ворот выбитое крупными буквами имя хозяина — Генри Экли. Поодаль от дома простирался участок заболоченной земли с немногочисленными деревьями, а прямо за ним поднималась ввысь крутая скала с лесистой чащей на гребне. Я понял, что это вершина Черной горы, посредине склона которой мы только что проехали.
Нойес вышел из машины и взял мой чемодан. Он попросил меня подождать, пока зайдет в дом и сообщит Экли о моем появлении, а также добавил, что у него срочные дела и он не сможет здесь остаться. Когда он стремительно двинулся по дорожке к особняку, я тоже выбрался из машины. Мне хотелось размять затекшие ноги и немного пройтись перед долгим разговором. Моя нервная напряженность вновь усилилась и дошла до предела, когда я оказался здесь, в двух шагах от осажденного дома, на авансцене страшных событий, столь красочно описанных Экли. Скажу честно, я боялся предстоящей беседы, способной еще теснее связать меня с этими чуждыми и таинственными мирами.
Контакт со всем странным и непривычным чаще пугает, чем воодушевляет, и я с горечью представил себе, как по этой пыльной дорожке еще недавно проходили чудовища, оставляя мерзкую зеленую слизь, обнаруженную после безлунных ночей с их холодящими кровь ужасами и смертями. И тут я обратил внимание на то, что поблизости не было ни одной из собак Экли. Неужели он продал их, как только с ним помирились Крылатые? Я попытался убедить себя, что они и правда миролюбивы и Экли не случайно так подробно рассказал мне об этом в своем последнем, не похожем на прежние письме. Однако в глубине души меня не покидали сомнения. В конце концов, продолжал рассуждать я, Экли — человек наивный и неискушенный, а его жизненный опыт отнюдь не богат. Кто знает, возможно, за их желанием установить контакт кроется какой-то непонятный и зловещий план?
Я попытался отвлечься от гнетущих мыслей и бросил взгляд на дорожку, хранившую столь страшные свидетельства. Последние несколько дней выдались сухими, и разные следы в беспорядке отпечатались на земле, хотя успели покрыться пылью и утратили четкость. Я решил пронаблюдать за ними просто так, из праздного любопытства, чтобы немного сосредоточиться и привести в порядок нахлынувшие на меня впечатления, а также побороть неуемную фантазию, пробудившуюся от ужасных воспоминаний. В мертвой тишине было что-то зловещее, лишь вдали чуть слышно журчали ручьи да на вершинах холмов чернели деревья, заслонявшие узкий горизонт.
И тут смутные угрозы и туманные, фантастические образы окончательно выкристаллизовались в моем сознании. Я уже сказал, что принялся рассматривать беспорядочные следы на дорожке из праздного любопытства, но это любопытство мгновенно сменилось охватившим меня неподдельным страхом, и я застыл на месте. Пыльные следы были сбивчивы и неопределенны. Вряд ли они могли привлечь чье-либо внимание, но я отметил несколько странных подробностей рядом с широким пятном, где дорожка от дома соединялась с тропой, ведущей на холм. Я догадался, что они могут означать. У меня не оставалось никаких сомнений. Не оставалось больше и надежды. Не зря я столько времени, вооружившись лупой, изучал отпечатки когтей Крылатых на фотографиях, присланных Экли. Я слишком хорошо знал эти мерзкие следы, идущие в разных направлениях, что еще более усиливало ощущение ужаса, которое не могло произвести ни одно живое существо с нашей планеты. Нет, я не ошибся. Прямо перед моими глазами, и, судя по всем признакам, оставленные лишь несколько часов назад, красовались три отметины — богохульные отпечатки когтей чудовищ. Они вели как к ферме Экли, так и от нее, к дороге. Так вот они, адские следы живых «грибов» с Юггота!
Я собрался с силами и сдержал чуть не вырвавшийся из моей груди громкий крик. В конечном счете чего еще я мог здесь ожидать, если действительно поверил письмам Экли? Он говорил, что примирился с ними. А значит, нет ничего странного, если кто-то из них недавно побывал у него в доме. Но никакие доводы разума не могли побороть мой испуг. Да и кто бы сумел остаться равнодушным, впервые увидев отпечатки когтей неведомых существ из иных глубин пространства? Тут я заметил, что Нойес распахнул входную дверь и торопливо двинулся по дорожке. Мне нужно взять себя в руки, подумал я, ведь, похоже, этот близкий друг ничего не знает об ошеломляющих и сокровенных связях Экли с таинственными мирами.
Нойес на ходу сообщил мне, что Экли обрадовался моему приезду и готов со мной встретиться. Хотя внезапный приступ астмы, очевидно, лишит его возможности передвигаться еще день-другой и он не сможет принять меня, как рассчитывал несколько дней назад. Эти приступы бывают болезненны и буквально сковывают его по рукам и ногам, да к тому же сопровождаются лихорадкой и общей слабостью. В это время ему тяжело говорить, и он обычно шепчет, а его движения становятся затрудненными и неуклюжими. У него распухают ступни и лодыжки, и он забинтовывает их, словно больной артритом после лишней порции мяса. Сегодня его состояние оставляет желать лучшего, и потому я буду предоставлен самому себе, однако он с удовольствием со мной побеседует. Я смогу найти его в кабинете, где опущены шторы. Это слева от холла, по коридору. Он не выносит солнечного света, когда болеет, у него очень чувствительные глаза.
Нойес распрощался со мной, сел в машину и поехал в северном направлении, а я медленно побрел к дому. Он специально оставил дверь открытой, но перед тем как войти, я окинул взглядом лужайку, пристройки, да и все вокруг, стараясь определить, что же так поразило меня на ферме Экли. Сараи и амбары были самыми обычными, и в одном из них я заметил подержанный «форд» Экли, стоявший в глубине. И тут до меня дошло, в чем странность этого места. Ничто не нарушало тишины. Обычно на фермах отовсюду доносятся звуки — разная живность то и дело заявляет о себе, но здесь как будто исчезли все признаки жизни. Куда делись куры и собаки? Где коровы, ведь Экли писал мне, что держит на ферме нескольких. Может быть, они сейчас на пастбище, а собак он, наверное, продал, но что стало с другими животными и птицами?
Я решил больше не задерживаться, переступил порог и закрыл за собой дверь. Это далось мне не без душевных усилий, потому что я сразу понял — путь к отступлению отрезан и отныне я пленник Экли. Не то чтобы особняк выглядел каким-то мрачным и угрюмым, напротив, его холл был с завидным вкусом обставлен в позднеколониальном стиле. Да и вся мебель свидетельствовала о благородном происхождении хозяина. Нет, мысль о побеге возникла у меня от неопределенного, смутного ощущения. Возможно, на меня подействовал странный запах, хотя мне следовало бы знать, что в старых фермерских домах, даже самых лучших, часто пахнет чем-то затхлым.
Глава 7
Но я не позволил этим неясным признакам поработить мое сознание. Вспомнив указания Нойеса, я открыл белую дверь с медной ручкой слева по коридору. Я уже знал, что в комнате темно, и, сделав несколько шагов, ощутил все тот же запах. Правда, здесь он был гораздо сильнее. Наверное, он возник от непонятного раскачивания или вибрации в воздухе. Какой-то момент я ничего не мог разглядеть из-за опущенных штор, но затем мое внимание привлек кашель или сиплый шепот, и я увидел в дальнем темном углу большое кресло-качалку. Из тени проступили белые пятна, и я догадался, что это человеческое лицо и руки. Я тут же двинулся туда и поздоровался с желавшим ответить мне человеком. Несмотря на полутьму, я узнал хозяина дома. Недаром я так внимательно рассматривал фотографии и просто не мог ошибиться, увидев волевое, обветренное лицо, обрамленное аккуратно подстриженной седой бородкой.
Но, приглядевшись попристальнее, я испытал горечь и тревогу: Экли действительно был очень болен. Возможно, его мучила не только астма, уж больно напряженным и застывшим было его тело, а глаза смотрели на меня не мигая, словно стеклянные. Я понял, что переживания стоили ему полной потери сил. Да разве случившегося было недостаточно, чтобы сломить и более молодого человека, чем этот бесстрашный исследователь тайных и запретных миров? Боюсь, что странное и внезапное освобождение пришло слишком поздно и не спасло его от нервного срыва. Его худые руки безжизненно покоились на коленях, и я с грустью поглядел на них. Он был укутан в просторный халат, а его шею и затылок закрывал то ли желтый шарф, то ли капюшон.
И тут я вновь услыхал сиплый шепот и понял, что он пытается заговорить со мной. Сначала я не мог разобрать ни слова — седые усы нависали над губой, и я не улавливал движения его губ. Тембр голоса Экли отчего-то насторожил меня, но я сосредоточился, не отрываясь смотрел на него, и вскоре все сказанное им стало мне ясно. Мне показалось, что у него довольно сильный местный, «крестьянский», акцент, но каждую фразу он строил не просто правильно, а даже изысканно, о чем трудно было догадаться по письмам.
— Я полагаю, вы мистер Уилмарт? Прошу меня извинить, но я не в силах подняться. Я разболелся, мистер Нойес, должно быть, уже сказал вам об этом; но все равно я очень рад вас видеть. Вам известно, что я написал в последнем письме, — нам нужно о стольком поговорить завтра, когда я себя лучше почувствую. Не могу даже передать, как я счастлив, что вы приехали. Наконец-то я вас вижу после нескольких месяцев переписки. Вы, конечно, привезли с собой все письма? И фотографии, и пластинку? Нойес оставил ваш чемодан в холле — полагаю, вы его там уже видели. Боюсь, что сегодня от меня мало толку, и вам придется побыть одному. Ваша комната наверху — прямо над моим кабинетом, ванная — рядом с лестницей, вы ее сразу заметите, в ней открыта дверь. Обед ждет вас в столовой, она здесь, на первом этаже, справа от кабинета. Вы можете перекусить когда только захотите. Завтра я приду в себя, но сегодня я слаб и совершенно беспомощен.
Чувствуйте себя как дома. Почему бы вам, перед тем как пойти наверх, не достать письма, фотографии и запись? Положите их сюда, на стол. Потом мы все обсудим. Видите мой фонограф в углу?
Нет, благодарю, мне ничего не нужно. Астма у меня не первый день. Может быть, мы еще немного потолкуем вечером, перед тем как вы ляжете спать. Наверное, я останусь здесь. В последнее время я часто ночую в кабинете и уже привык к этому. Надеюсь, утром у меня прибавится сил. Вы, конечно, понимаете, какие горизонты открылись перед нами. Теперь нам доступны бездны времени, пространства, а наши знания опередили достижения всех земных наук и философии.
Вам известно, что Эйнштейн ошибся. В мире есть объекты и силы, способные передвигаться быстрее скорости света. Я рассчитываю, что мне помогут переместиться в прошлое и будущее, увидеть своими глазами, какой была Земля тысячу лет назад и какой станет в грядущие века. И не только увидеть, но и ощутить. Вы не представляете, как развита наука у инопланетян и какого совершенства они достигли. Они могут делать с разумом и телами живых существ абсолютно все. Я собираюсь посетить иные планеты, побывать на других звездах и даже в иных галактиках. Но сначала я полечу на Юггот, это ближайшая планета от Земли, населенная Крылатыми. Юггот — единственная темная сфера, на самом краю нашей Солнечной системы. Она до сих пор неизвестна нашим астрономам. Но я, должно быть, уже писал вам об этом. Знаете, в настоящее время Крылатые направляют на нас потоки своих мыслей. Они ждут, когда мы их уловим, и, возможно, кто-то из их агентов сумеет намекнуть ученым.
На Югготе множество городов — огромные башни с террасами стоят рядами и громоздятся одна на другую. Эти башни выстроены из черного камня. Да, да, того самого, образчик которого я хотел вам отправить. Солнце светит на Югготе не ярче звезд, но Крылатым и не нужен свет. У них совсем иные, более тонкие чувства, и в своих огромных домах и храмах они обходятся без окон. Свет даже мешает им и постоянно беспокоит на Земле, ведь его нет в черном космосе вне времени и пространства, откуда они прибыли к нам. Любой слабый человек сошел бы с ума, попав на Юггот, однако я намерен туда полететь. На их планете под таинственными циклопическими мостами текут черные реки из дегтя, эти мосты некогда выстроило древнее племя, оно исчезло и было совершенно забыто, когда Крылатые оказались на Югготе, прилетев туда из каких-то бездонных пустот. Одних этих мостов хватит, чтобы превратить каждого человека в Данте или Эдгара По, если после всего увиденного на планете он не повредится в рассудке.
Но запомните — их темный мир, с садами грибов и домами без окон, совсем не страшен. Он может показаться таким только нам, землянам. Однако ведь и наш мир был способен испугать пришельцев, когда они впервые попали в него в ранние эры, на заре цивилизации. Вы знаете, они обосновались здесь много тысячелетий тому назад; в ту баснословную пору на Земле еще царил великий Ктулху. Они помнят, как погрузился на дно Р’лайх, и видели его на поверхности. Крылатые проникли и в глубь Земли, в ней есть трещины и коридоры, неведомые людям. Несколько входов в их укрытия расположены здесь, в горах Вермонта. Они ведут в великие миры с незнакомой нам жизнью, в озаренный синим светом К’и’ян, красный Йет и черный Н’кай, где нет никакого света. Оттуда, из Н’кай, поднялся на поверхность страшный Тзаттогуа. Вы, наверное, слышали об этом древнем рыхлом, похожем на жабу божестве. О нем упоминалось в Пнакотических рукописях, в «Некрономиконе» и в Коммориомском мифическом цикле, сохраненном верховным жрецом Атлантиды Кларкаш-Тоном.
Однако мы еще успеем об этом побеседовать. Сейчас, должно быть, уже четыре часа или даже пять. Распакуйте чемодан, достаньте документы, немного передохните и возвращайтесь сюда, мы еще поговорим…
Я безропотно повиновался хозяину дома, принес чемодан, открыл его, достал документы, а затем поднялся в свою спальню. Я по-прежнему думал о свежих отпечатках когтей на дороге. От них и сиплого шепота Экли мне сделалось не по себе. Да еще намеки на близость к неизвестному миру, к таинственному Югготу и его мудрым обитателям, похожим на огромные грибы. Немудрено, что после монолога Экли по коже у меня поползли мурашки и я с трудом поборол страх. Мне было очень жаль разболевшегося Экли, но его сиплый шепот вызвал у меня неприязнь, граничившую с отвращением. Почему он с таким восторгом говорил о Югготе и его темных тайнах?
Моя комната оказалась очень уютной и со вкусом обставленной, в ней не было ни вибрации, ни затхлого запаха, и, оставив там чемодан, я вновь спустился, чтобы поблагодарить Экли за гостеприимство и перекусить в столовой. Она располагалась прямо за его кабинетом. Я заметил, что и кухня тоже находится по эту сторону коридора. На столе стояло большое блюдо с сандвичами, пирогами и сыром, явно ждавшими, когда я с ними расправлюсь, а чашка и термос свидетельствовали о том, что хозяин не забыл о кофе для гостя. С удовольствием закусив, я налил в чашку кофе, но тут же ощутил горечь во рту и понял, что кулинарные изыски Экли, конечно, достойны уважения, но один изъян способен все испортить. У кофе был едкий привкус, и я не смог выпить больше глотка. Я подумал об Экли, одиноко сидевшем в огромном кресле-качалке в темной комнате рядом со столовой. Я вернулся к нему и предложил перекусить вместе со мной, но он прошептал, что сейчас ничего не может есть. Позднее, перед сном, он выпьет немного молока с солодом, вот и весь его рацион за день.
Я попросил у него разрешения самому вымыть и убрать посуду — мне хотелось вылить кофе, вкус которого я не сумел оценить. Снова очутившись в темном кабинете, я устроился в кресле неподалеку от моего хозяина и приготовился к обстоятельному разговору, который ему не терпелось со мной завести. Письма, фотографии и пластинка по-прежнему лежали на столе, и мы к ним еще не притрагивались. На какое-то время я забыл о неприятном запахе и вибрации.
Я уже говорил, что в письмах Экли, особенно во втором, самом длинном и содержательном, имелись отрывки, которые я не осмелился бы процитировать или воспроизвести на бумаге. Мои колебания усилились после того, как он сиплым шепотом поведал мне тайны мироздания. Темная комната фермерского особняка, затерявшегося среди пустынных холмов, лишь усугубляла ощущение непередаваемого космического ужаса. Ему и прежде было известно немало чудовищного, но теперь, пообщавшись с Крылатыми, он узнал вещи поистине невыносимые для нормальной, земной психики. Я до сих пор отказываюсь верить его рассказам о бесконечности и ее структуре, о том, как располагаются измерения, и пугающем положении нашего космоса со временем и пространством в бесконечной цепи связанных между собой космосов-атомов, в сумме составляющих сверхкосмос с его изгибами, углами и материальной и полуматериальной электронной организацией. Еще никогда нормальный человек не оказывался в такой близости от тайн бытия, никогда органический мозг не был на грани полного уничтожения и растворения в хаосе, где гибнут все формы, силы и симметрия. Я узнал, когда впервые появился Ктулху и почему свет великих и давно погасших звезд по-прежнему доходит до нас. Из намеков, от которых оробел даже сам информатор, я догадался о тайне, скрытой за Магеллановыми Облаками, о галактической туманности, состоящей из глобул, и о черной истине, таящейся за покровом бессмертной аллегории Дао. Природа Доулс стала мне совершенно ясна, и он сообщил мне о сути (но не о происхождении) Гончих Псов Тиндалоса. Легенда о Йиге, прародителе змей, больше не казалась мне вымыслом, и я испытал отвращение, когда речь зашла о ядерном хаосе, бушующем за углами пространства (автор «Некрономикона» зашифровал его, назвав Азатотом). Все кошмарные видения потаенных мифов словно воочию предстали передо мной, и на время я просто онемел от шока, а их омерзительное по грубости содержание сделалось еще страшнее от ссылок на труды древних и средневековых мистиков. Я невольно поверил в то, что сказители, шепотом передававшие эти проклятые предания из уст в уста, подобно Экли общались с Крылатыми и, возможно, бывали на других планетах, которые он тоже намерен посетить в ближайшем будущем.
Он рассказал мне о черном камне и его сокровенном смысле, и я от души порадовался, что так и не получил его. Мои догадки относительно полустертых надписей оказались верны! Быть может, даже слишком верны! Однако Экли решил примириться со всей дьявольской системой и, кажется, забыл о своих недавних подозрениях и страхах. Да что там, он не только примирился, но и начал готовиться к путешествию в глубь этой жуткой Вселенной. Интересно, с кем из них он успел пообщаться, отправив мне последнее письмо, и много ли было среди них людей вроде того агента, о котором он мне упомянул, подумал я. От напряжения у меня разболелась голова, и я изобретал нелепейшие теории относительно резкого, назойливого запаха и вибрации в темной комнате. К вечеру она стала гораздо сильнее.
За окнами уже совсем стемнело, надвигалась ночь; я вспомнил, что писал Экли о безлунных ночах, и вздрогнул. А вдруг и сегодня луна не взойдет на небе? Не нравилось мне и то, что ферма находилась в болотистой низине, прямо у подножия громадного лесистого склона, ведущего к Черной горе с ее неприступной вершиной. С позволения Экли я зажег небольшую масляную лампу, низко повернул ее и поставил на дальнюю полку, рядом с бюстом Мильтона, похожим на призрак. Вскоре я пожалел об этом — от тусклого света неподвижное лицо моего хозяина и его одеревеневшие руки сделались еще безжизненнее. Он напоминал труп. Казалось, он не в силах пошевелиться, хотя я сам видел, как он однажды с трудом кивнул головой.
После его обстоятельных рассказов я плохо представлял себе, о чем он станет говорить завтра и какие секреты предпочел сохранить для следующей беседы. Однако Экли решил сразу удовлетворить мое любопытство и сообщил, что обсудит со мной свой полет на Юггот и далее и к тому же выяснит, соглашусь ли я участвовать в этом путешествии. Должно быть, его изумило, с какой оторопью я взглянул на него, услышав, что меня хотят взять в космический полет. Его голова сердито затряслась. Потом он очень мягко и любезно принялся уговаривать меня и заметил, что люди могут сопровождать — и неоднократно сопровождали — Крылатых в подобных, кажущихся невероятными путешествиях по межзвездным просторам. При этом их тела оставались на Земле. Дело в том, что поразительные открытия в биологии, химии, механике и хирургии позволили инопланетянам удалять человеческий мозг без всякого ущерба для организма.
Люди не умирали, и их тела продолжали функционировать, пока мозг находился в космосе. Перед отправкой его помещали в плотно сжатый эфиром цилиндр из металла, добытого на Югготе. В этот цилиндр наливали жидкий раствор, подключали к мозгу электроды и соединяли с аппаратами, способными дублировать зрение, слух и речь. Для грибовидных Крылатых не составляло труда подняться в небо с этими цилиндрами. А на любой планете с их уровнем цивилизации уже давно существовало множество аналогичных аппаратов, способных устанавливать связь с конденсированным мозгом. После состыковки с ними странствующий разум вновь обретал способность выражать свои мысли, ведь во время путешествия по космическому континууму его постоянно подпитывали запасы энергии. Мозг не нуждался в телесной оболочке, и новая его вполне устраивала. Экли привел простейшее сравнение, сказав, что если у нас есть фонограф, мы включаем его и ставим пластинку, делая это автоматически. Для инопланетян не существует технических трудностей. Их успехи несомненны. Экли говорил о них с восхищением и без тени страха. Разве за одним удачным полетом не следовали все новые и новые?
Он впервые поднял застывшие руки и показал на высокий шкаф возле противоположной стены. В нем тесными рядами стояли цилиндры — не меньше дюжины, которые я принялся с интересом рассматривать. Прежде я никогда таких не видел. Высота этих металлических цилиндров составляла примерно фут, а диаметр был чуть уже. Я обратил внимание на три причудливых клапана в верхней части каждого из них. Вместе они образовывали треугольник. Один из них соединялся с двумя другими с помощью двух оригинальных приборов, находившихся там же, на полке, за цилиндрами. Мне не нужно было объяснять их цель и предназначение, и я снова вздрогнул. Затем Экли указал на ближний угол, в котором стояли затейливые приборы с проводами и кнопками; некоторые из них напоминали те два прибора на полке, за цилиндрами. Они были подсоединены.
— Здесь четыре вида приборов, Уилмарт, — прошептал голос. — Четыре вида, и в каждом по три отделения для особых операций — в результате получается двенадцать приборов. А в этих цилиндрах находятся по четыре типа разных организмов. Три человеческих, шесть грибовидных существ, не способных перемещаться в пространстве, два прибывших с Нептуна (господи! видели бы вы, какие тела у этого племени на их родной планете!), а остальные в прошлом обитали в пещерах на самой заманчивой темной звезде за пределами галактики. В громадном подземелье под Круглым холмом собрано множество подобных цилиндров и приборов. Они хранят в этих цилиндрах сверхкосмический мозг с диапазоном разных ощущений, не похожих на наши, — мозг союзников и исследователей из иных миров. А особые машины снабжают его впечатлениями и дают возможность выражать свои чувства в зависимости от ситуации и характера восприятия слушателей. Как и многие обжитые Крылатыми места на Земле и иных планетах, Круглый холм весьма космополитичен. Конечно, они одолжили мне для эксперимента лишь самые распространенные типы.
А теперь возьмите вот эти три прибора — видите, я вам на них показываю — и поставьте их на стол. Высокий, с двумя стеклянными линзами, должен находиться в центре. Затем — коробку с пустыми цилиндрами и усилителем звука, а после — вот тот, с металлическим диском наверху. Достаньте цилиндр с надписью «В-67». Передвиньте виндзорское кресло поближе к шкафу и возьмите его в руки. Что, тяжело? Ничего, не обращайте внимания. Смотрите не перепутайте, на нем написано «В-67». Не беспокойтесь и подсоедините этот новенький сверкающий цилиндр к двум приборам для проверки — на одном из них обозначено мое имя. Поставьте «В-67» на стол рядом с приборами и проследите, чтобы выключатели на всех трех оказались на крайней левой отметке.
Теперь соедините провода на приборе с линзами с верхним клапаном цилиндра — вот так! Соедините прибор с пустыми цилиндрами с нижним левым клапаном, а аппарат — с диском с внешним клапаном. Затем передвиньте выключатель вправо до крайней отметки — сначала на приборе с линзами, потом на аппарате с диском, а после на пустых цилиндрах. Правильно. Могу сообщить, что в нем человек, такой же, как мы с вами. Ладно, хватит. Завтра сможете поупражняться с другими приборами.
До сих пор не знаю, почему я столь безропотно повиновался его сиплому шепоту и почему долго размышлял о том, нормален или безумен Экли. Ведь ход событий должен был подготовить меня ко всему, но его однообразное бормотание уж слишком смахивало на типичные причуды свихнувшихся изобретателей и ученых, и у меня тут же возникли сомнения и родилось множество вопросов. Даже его предыдущие откровения не могли меня так возбудить. Гипотезы Экли выходили за пределы всех человеческих представлений, но разве пришельцы не опередили нас в своем развитии на целые века? Неужели я спокойнее отнесся к другим историям, сочтя их менее жуткими и абсурдными, лишь потому, что там не было конкретных доказательств?
Мое сознание словно блуждало во тьме и хаосе впечатлений. Внезапно прислушавшись, я уловил скрежет и вращение всех трех приборов, соединенных с цилиндром. Вскоре эти скрежет и вращение превратились в монотонный гул. Что же с ними случилось? Кажется, до меня донесся голос? А если я не ослышался, то как мне удастся доказать, что это не радиорепродуктор, помещенный в цилиндр и находящийся под пристальным наблюдением? Я и сейчас не могу поклясться, что слышал голос и столкнулся с каким-то непонятным мне феноменом. Но ведь что-то было, и из цилиндра исходили звуки.
Не стану утомлять вас перечислением подробностей и просто скажу, что пустой цилиндр и усилитель звука вдруг заговорили. Их речь была ясна и отчетлива. Она не оставляла сомнений в том, что говорящий находится здесь и следит за нами. Голос звучал громко, механически ровно, безжизненно, как и подобает любой машине. Его интонации не менялись, и эта однообразная речь сопровождалась скрежетом и лязгом. Создавалось впечатление, что они неразрывно связаны с решительным и мертвенным тоном.
— Мистер Уилмарт, — начал он, — надеюсь, что я вас не испугал. Я такой же человек, как и вы, хотя в настоящий момент мое тело отдыхает и набирается сил под присмотром специалистов в подземелье под Круглым холмом. Это недалеко отсюда, примерно в полутора милях. А сам я здесь, с вами, — мой мозг находится в этом цилиндре, и я вижу, слышу и говорю благодаря электронным вибрациям. Через неделю я улечу в дальние межзвездные просторы, как летал уже много раз, и полагаю, что мистер Экли любезно согласится составить мне компанию. Буду рад, если вы присоединитесь к нам, поскольку знаю, кто вы и что делаете, а также ознакомился с вашими письмами мистеру Экли. Разумеется, я — один из союзников Крылатых, не однажды посещавших нашу планету. Впервые я встретился с ними в Гималаях и сумел оказать им ряд услуг. В ответ они раскрыли мне свои тайны и научили многому, о чем известно лишь считаным единицам жителей Земли.
Мне довелось побывать в тридцати семи точках Вселенной — на планетах, темных звездах и других объектах, в том числе на восьми находящихся за пределами Галактики и двух — за изгибом Космоса во времени и пространстве, понимаете ли вы, что это значит? И все путешествия не причинили мне никакого вреда. Мой мозг каждый раз отделялся от тела столь искусным образом, что я не назвал бы его хирургической операцией. Пришельцы научились расчленять организм легко и безболезненно, у них особые методы. К тому же, когда мозг изъят, тело не старится и остается прежним. Добавлю, что мозг постоянно подпитывается с помощью перемен в вибрации и флюидах. Из-за них он становится бессмертным.
Я от души надеюсь, что вы попробуете рискнуть и полетите с мистером Экли и со мной. Обитатели других планет хотят поближе познакомиться с учеными вроде вас и показать им бескрайние просторы, о которых большинство людей способно только мечтать да сочинять невежественные небылицы. На первых порах инопланетяне могут произвести на вас странное впечатление, но я знаю, что вас интересует суть, а не внешние признаки. Думаю, что мистер Нойес тоже отправится с нами, — хочу напомнить, что это человек, который привез вас сюда в своей машине. Он тесно связан с нами уже не один год, — да вы, наверное, узнали его голос. Он был записан на пластинку мистером Экли…
От гнева я чуть было не прервал его; он почувствовал мое волнение и сделал паузу на минуту-другую, а потом закончил свою речь:
— Итак, мистер Уилмарт, выбор остается за вами. А я лишь добавлю, что человек с вашей любовью к неразгаданным явлениям и фольклору не вправе упускать подобный шанс. Вам нечего опасаться. Перемещения совершенно безболезненны. Вас порадует, что на планетах все механизировано. Когда электроды разъединены, сознание погружается в сон с яркими и фантастическими видениями.
А теперь, если вы не возражаете, мы расстанемся до завтра. Спокойной ночи. Не забудьте повернуть выключатели влево и действуйте строго по порядку. Механизм с линзами можете выключить последним. Спокойной ночи, мистер Экли, позаботьтесь о нашем госте! Ну как, мистер Уилмарт, вы готовы выключить прибор?
Вот и все. Я автоматически подчинился приказу и выключил все три прибора. Голова у меня шла кругом, и я почти ничего не соображал, когда до меня вновь донесся глухой шепот Экли. Он сказал, что я могу оставить приборы на столе. Экли не стал обсуждать со мной услышанный монолог, да я бы и не понял ни одного его слова из-за навалившейся на меня безмерной усталости. Он предложил мне взять со стола лампу и отнести к себе наверх. Ему хотелось отдохнуть в темноте. Разумеется, он нуждался в отдыхе — длинные беседы днем и вечером утомили бы даже здорового человека. Еще не оправившись от потрясения, я пожелал хозяину спокойной ночи и поднялся к себе с лампой в руке, хотя привез отличный карманный фонарь.
Я был счастлив, что покинул первый этаж с его едким запахом и слабой, но ощутимой вибрацией, однако гнетущий страх по-прежнему не отпускал меня. Я подумал о ферме Экли и непостижимых силах, с которыми только что столкнулся, и ощутил нависшую надо мной космическую угрозу. Дикая, пустынная местность, темный, таинственный лесистый склон, вплотную подступивший к дому, отпечатки когтей на дорожке, сиплый шепот во тьме, дьявольские цилиндры; и приборы, и, наконец, предстоящие мне странная операция и не менее странные путешествия, или, точнее, приглашения к ним, — все эти свежие впечатления обрушились на меня с удесятеренной силой, парализовав волю и чуть не доведя до обморока.
Я был потрясен, узнав, что мой спутник Нойес участвовал в шабаше, записанном на фонографе. Недаром еще в дороге я уловил в его голосе что-то смутно знакомое и на редкость отталкивающее. Я испытал второе потрясение, когда попытался проанализировать поведение моего хозяина и понять, как я к нему теперь отношусь. Раньше, читая его письма, я невольно симпатизировал Экли, однако при встрече проникся к нему непреодолимым отвращением. Казалось бы, его болезнь должна была пробудить во мне сострадание, но, увидев его, я ощутил непонятную брезгливость. Он был неподвижен, похож на труп, да еще его мерзкий нечеловеческий шепот! Несмотря на застывшие, чуть ли не окаменевшие губы, в нем угадывались внутренняя убежденность и сила, необычные для больных астмой с их хриплым, прерывистым дыханием. Я быстро освоился и слышал каждое слово, даже находясь в противоположном конце комнаты. Мне почудилось, что он стремится навязать мне свою волю, но я так и не понял, чем это могло быть вызвано. В его хриплом голосе проскальзывало нечто очень знакомое, как и в голосе Нойеса, наводившем на меня ужас. Но где я его прежде слышал и когда это было, я не мог вспомнить.
Я понял лишь одно — вторую ночь я здесь не выдержу. Мой исследовательский пыл полностью иссяк, уступив место страху и неприязни. Я желал поскорее выбраться из-под раскинутой сети и забыть о безумных откровениях. С меня довольно, я и так успел слишком много узнать! Должно быть, эти странные космические связи действительно существуют, но нормальному человеку нужно держаться от них подальше и не ввязываться во всякие загадочные истории.
Похоже, что богохульные влияния подействовали на меня и попытались завладеть моими чувствами. Я решил, что мне необходимо как следует выспаться, потушил лампу и тут же, не раздеваясь, растянулся на кровати. Несомненно, это было абсурдно, но я приготовился к ночному вторжению и крепко сжал в правой руке привезенный револьвер, а в левой карманный фонарь. Но снизу не доносилось ни звука, и я представил себе, как мой хозяин неподвижно сидит в кресле, окруженный сгустившейся тьмой.
Где-то слышалось тиканье часов, и мне доставил удовольствие этот обычный, «нормальный» звук. Однако я сразу вспомнил о встревоживших меня первых впечатлениях — то есть о полном отсутствии на ферме животных и птиц. Только теперь до меня дошло, что здесь нет ни коров, ни собак и даже насекомые не верещат в ночной тиши. Лишь вдали зловеще журчали ручьи, нарушая мертвенный — межпланетный — покой. Интересно, какой ублюдок родом со звезд истребил в округе все живое и как это ему удалось, задал я себе вопрос и тут же подумал о старых легендах, в которых собаки и другие животные всегда ненавидели пришельцев, и о том, что могут означать следы на дороге.
Глава 8
Не спрашивайте, долго ли я спал и не приснилось ли мне все случившееся. Если я скажу, что проснулся тогда-то и тогда-то и услыхал то-то и то-то, вы начнете мне возражать, решив, будто я вовсе не просыпался и видел это во сне, а потом выбежал из дома и, спотыкаясь, добрел до сарая, где стоял старенький «форд» Экли. После я как на крыльях пролетел на видавшей виды машине по неприступным лесистым холмам. В лицо мне дул порывистый ветер, я заблудился и долго петлял в дремучих лабиринтах, но через несколько часов все же добрался до какого-то поселка и узнал, что это Тауншенд.
Конечно, вы также усомнитесь и в других подробностях моего рассказа и станете утверждать, будто никаких фотографий, пластинки, цилиндров и приборов и в помине не было, а я просто поверил внушениям бесследно скрывшегося Генри Экли. Вы даже намекнете мне, что он подговорил двух чудаков и они довольно ловко, но в общем-то не слишком умно постарались меня разыграть. Вы скажете, что он сам похитил в Кине черный камень из товарного вагона, а еще раньше вместе с Нойесом устроил ночной шабаш и записал его на фонограф. Характерно, что Нойеса до сих пор так и не опознали; никто из живущих рядом с фермой Экли его никогда не видел, хотя, по логике, он не однажды бывал в здешних краях. Жаль, что я не запомнил номер его машины, но, быть может, это даже к лучшему. Я знаю, что вы мне ответите, да и сам нередко говорил себе нечто подобное, но мне известно и другое, самое важное: от диких, заброшенных холмов исходит зловещая сила, и ее влияние нетрудно ощутить, оно словно витает в воздухе. А значит, пришельцы затаились и поныне прячутся там, и у них есть агенты и эмиссары в нашем, земном мире. Я хочу лишь одного — держаться подальше и от зловещих сил, и от их эмиссаров.
Когда я заявил в полицию и шериф выслал целый наряд на ферму Экли, ее хозяин уже исчез. Его халат, желтый шарф и бинты валялись на полу в углу кабинета, у кресла-качалки, и было непонятно, что стало с другими вещами, пропавшими вместе с ним. Ни собак, ни скота на ферме и в окрестностях так и не нашли, а стены дома оказались пробиты пулями. Но, кроме этого, ничего особенного обнаружить не удалось. Ни цилиндров, ни приборов, ни привезенных мной в чемодане вещественных доказательств, ни затхлого запаха, ни вибрации, ни следов на дорожке — словом, ничего из настороживших меня примет. После побега я на неделю задержался в Брэттлборо и попытался выяснить ряд подробностей у знавших Экли горожан. Результаты расследования окончательно убедили меня в том, что случившееся не было ни сном, ни фантазией. Экли действительно постоянно покупал в городе служебных собак, снаряжение и химические препараты. Его телефонный провод перерезали, и об этом на станции сохранилась запись. Все знакомые с ним, включая его сына, живущего в Калифорнии, уверяли меня, что в его необычных научных изысканиях наблюдалась определенная система. Солидные горожане считали его сумасшедшим и без колебаний заявляли, что все его доказательства и разговоры об инопланетянах не более чем розыгрыш, хотя и дьявольски хитрый. Они допускали, что у него имелись какие-то чудаковатые сообщники. Однако простые крестьяне ему верили и приводили немало свидетельств. Кому-то из них он показывал фотографии и черный камень, ставил и свою страшную пластинку, и они единодушно утверждали, что следы и жужжащий голос точь-в-точь совпадают с описаниями в старинных легендах.
Они также сказали мне, что стоило Экли найти камень, как рядом с его домом появились следы, а по ночам стали слышаться дикие звуки. Теперь его ферму все обходят стороной, все, кроме почтальона да случайных приезжих с крепкими нервами. Черная гора и Круглый холм сделались проклятыми местами, и я не нашел ни одного смельчака, решившего там побывать и самому все исследовать. В округе вспомнили о пропавших местных жителях и причислили к ним новую жертву — угрюмого бродягу Уолтера Брауна, о котором упоминал в своих письмах Экли. Я даже встретил одного фермера, полагавшего, будто он видел во время разлива Уэст-ривер плывущие в потоке необычные тела, но его рассказ был слишком сбивчив, и я ему не поверил.
Покинув Брэттлборо, я твердо знал, что больше в Вермонт не приеду. Я дал себе слово и сдержу его. Мне незачем сюда возвращаться. Страшные пришельцы из космоса по-прежнему обитают в подземельях и на вершинах лесистых гор, мои последние сомнения в этом отпали, когда я прочел в газете статью о новой, девятой планете, засиявшей за Нептуном, как и предсказывали Крылатые. Астрономы с поразительной точностью вычислили ее местонахождение и назвали Плутоном. Я абсолютно убежден в том, что они обнаружили темный Юггот, и, не в силах унять нервную дрожь, размышлял о причинах, побудивших его чудовищных уроженцев раскрыть свою тайну именно сейчас, в наши дни. Напрасно я пытался уговорить себя, что эти дьявольские создания не строят новые козни и не желают зла ни Земле, ни ее жителям.
Но я должен завершить свое повествование о событиях той кошмарной ночи на ферме Экли. Как я уже сказал, мне сразу удалось уснуть — сны сменяли один другой, и изо всех них я запомнил лишь промелькнувшие жуткие пейзажи. Не знаю, когда я проснулся, но хорошо помню, что меня разбудило. Я услыхал скрип половиц в коридоре, за дверью. Потом кто-то неловко попробовал открыть мою дверь. Вскоре эти звуки стихли. Я был еще в полусне, и первым отчетливым впечатлением стали голоса, донесшиеся до меня снизу, из кабинета. Их было несколько, и я решил, что они о чем-то спорят.
Я затаил дыхание, прислушался — и сна как не бывало. Стоило мне их разобрать, как сама мысль о сне показалась дикой и нелепой. Они заметно отличались друг от друга, но всякий знакомый с записью на фонографе сразу узнал бы два голоса. Я понял, что нахожусь под одной крышей с безымянными тварями из межзвездных пространств. Ошибиться было невозможно — голоса громко жужжали и гудели, совсем как Крылатые в общении с людьми. Повторяю, у них были разные голоса — разные по тембру, акценту и скорости произношения, но оба принадлежали к этому проклятому племени.
Я знал и третий, «механический» голос, еще несколько часов назад говоривший со мной из прибора с усилителем звука, соединенным с цилиндром, где хранился мозг. И здесь ошибка заведомо исключалась — этот громкий безжизненный голос с ровными, невыразительными интонациями, скрежетом и лязгом я при всем желании не смог бы забыть. В ту пору у меня возник вопрос: неужели причина лишь в скрежете и лязге, а со мной поздним вечером говорил кто-то другой, пусть и очень похожий? Но позднее я сообразил, что любой мозг начнет издавать такие звуки, если его подсоединят к механическому усилителю с репродуктором, и разница будет заключаться только в словарном запасе, ритме и темпе. В споре, очевидно для полноты картины, участвовали и два человеческих голоса. Один грубоватый и неизвестный мне — им, судя по всему, говорил кто-то из местных крестьян, — а второй звучный, хорошо поставленный, с легким бостонским акцентом — короче, голос моего провожатого Нойеса.
Я попытался уловить слова, но прочные перекрытия между этажами искажали их смысл. Вдобавок мне мешал не прекращающийся ни на секунду шум и грохот в кабинете. У меня создалось впечатление, что там полным-полно живых существ — гораздо больше, чем говоривших. Этот шум почти невозможно описать, во всяком случае я не нашел для него убедительных сравнений. По комнате постоянно двигались в разных направлениях — шаги отдаленно напоминали то ли затрудненный бег по какому-то шероховатому покрытию, то ли (это определение более конкретно, хотя тоже неточно) шарканье и топот деревянных подошв по отполированному паркету. Я не стал строить дальнейших предположений относительно расхаживающих по кабинету.
Вскоре я также осознал, что не могу разобрать ни одной фразы или связать воедино отдельные услышанные слова. Ко мне в спальню проникали лишь обрывки, в них часто упоминались имена — Экли и мое собственное, наиболее четко их произносил «металлический» голос из цилиндра, соединенного с усилителем звука, но смысл ускользал от меня, ибо я не знал контекста. Я и сейчас не решаюсь сформулировать какой-нибудь вывод, понимаю лишь, что на меня гнетуще подействовали намеки, а не открывшаяся истина. Я всем существом чувствовал ужас этого сборища, но не сумел бы внятно объяснить, в чем он состоял. Любопытно, что это ощущение зла и богохульства, господствовавшего в кабинете, полностью противоречило утверждениям Экли о дружелюбии пришельцев.
Прислушавшись повнимательнее, я начал лучше различать голоса, хотя суть спора, как и прежде, не доходила до меня. Однако я смог уловить эмоциональный настрой говоривших. Один из Крылатых, несомненно, главенствовал в разговоре, тогда как механический голос, несмотря на всю свою четкость и искусственную громкость, покорно исполнял указания жужжащего и о чем-то просил его. Нойес явно старался успокоить и примирить собеседников. Интонаций остальных я так и не смог определить. Я не слышал знакомого сиплого шепота Экли, да и не рассчитывал на это: приглушенные звуки никак не пробились бы в спальню сквозь прочные перекрытия.
Я попробовал соединить отдельные слова и другие звуки, соотнеся их с каждым из говоривших. Первую связную фразу, которую я полностью расшифровал, произнес «металлический» голос из цилиндра.
(Голос, соединенный с репродуктором)
«…привез их сам… вернул письма и пластинку… закончил… принимая во внимание… видел и слышал… черт побери… внеличностные силы… в конце концов… новенький, сверкающий цилиндр… Боже правый…»
(Первый жужжащий голос)
«…время, которое мы остановили… маленький и человеческий… Экли… мозг… говорящий…»
(Второй жужжащий голос)
«…Ньярлатхотеп… Уилмарт… пластинка и письма… дешевый трюк…»
(Нойес)
(Какое-то неудобопроизносимое слово, возможно, имя, что-то вроде «Н’ян-Ктхун»)
«…безболезненно… мирно… пару недель… театрально… уже говорил вам об этом…»
(Первый жужжащий голос)
«…не имеет смысла… первоначальный план… эффекты… Нойес сможет проследить… Круглый холм… новый цилиндр… машина Нойеса…»
(Нойес)
«…ладно… все ваше… вот здесь… отдых… место…»
(Несколько голосов заговорили одновременно.
Все слилось, и слов невозможно разобрать. Шаги, шум, странный беспорядочный грохот и громкое шарканье. Странный звук — очевидно, кто-то взмахнул крыльями. Шум мотора во дворе, звуки отъезжающего автомобиля.
Тишина.)
Вот и все, что я расслышал, неподвижно лежа в постели, в спальне на втором этаже особняка Экли, окруженного дьявольскими холмами. Я был одет и сжимал в правой руке револьвер, а в левой держал карманный фонарь. Как я уже сказал, спать я больше не мог, но какая-то непонятная сила точно приковала меня к постели, и я продолжал лежать, когда эхо отзвучавших голосов уже давно смолкло. Слышалось лишь тиканье старинных коннектикутских часов, отбивавших свой ритм где-то далеко внизу, да еще прерывистый храп. Наверное, Экли крепко уснул после непонятной ночной встречи, и меня это ничуть не удивило. Я терялся в догадках и не понимал, что мне теперь делать. В конце концов, что нового я успел узнать из обрывков их спора? На что мне еще оставалось рассчитывать? Разве мне не было известно, что Крылатые стали желанными гостями на ферме Экли и вправе являться сюда в любое время? Несомненно, Экли удивил их внезапный приход. Но ведь причина в другом, что-то иное ошеломило и до смерти перепугало меня, вновь пробудив подозрения и тревогу, словно я соприкоснулся с чем-то гротескным и чудовищным. Я страстно желал проснуться чуть позже и поверить, что видел сон. Думаю, что мое подсознание оказалось более чутким и сработало точнее сознания, не сумевшего разобраться в сути событий. Но как быть с Экли? Ведь он мой друг и непременно выступил бы в мою защиту, попытайся кто-нибудь из них ущемить или обидеть меня. Его мирное похрапывание вдруг показалось мне нелепым и неуместным.
А может быть, они загипнотизировали Экли и воспользовались им как наживкой, чтобы поймать меня на крючок и завладеть письмами, фотографиями и записью на фонографе? Неужели они хотят прооперировать, то есть фактически уничтожить нас обоих, потому что мы слишком много знаем? Я вновь подумал о ситуации, резко изменившейся за последние дни, — о череде отчаянных писем Экли и его новом, спокойном и уверенном послании. Инстинкт подсказывал мне — здесь что-то не так. Все было иначе, чем казалось. Взять хотя бы этот едкий и горький кофе, который я вылил в раковину, — возможно, кто-то из них попытался меня отравить? Мне нужно было немедленно переговорить с Экли и привести его в чувство. Они околдовали его рассуждениями о космических открытиях, но теперь он обязан прислушаться к голосу разума. Мы должны избавиться от них, пока не поздно. Если его воля сломлена и он не способен освободиться от их чар, я постараюсь ему помочь. Ну а если мне не удастся убедить его уехать отсюда, я по крайней мере выберусь сам. Уверен, он разрешит мне воспользоваться его «фордом» и оставить его в гараже в Брэттлборо. Я же видел, что машина стоит в сарае, его дверь не была заперта, она открыта и сейчас, когда опасность миновала. Да, похоже, с машиной все в порядке, и я смогу на ней доехать. Неприязнь к Экли, которую я ощутил во время нашего вечернего разговора и после него, мгновенно исчезла. Его положение ничуть не лучше моего, и мы должны бороться сообща. Я знал, как плохо он себя чувствует, и с отвращением подумал о том, что мне придется его разбудить, но был просто обязан это сделать. Я не мог оставаться здесь до утра.
Наконец я собрался с силами, растянулся и напряг мускулы, чтобы встать. Вскочив с постели, я поднял и надел шляпу, взял чемодан и стал спускаться по лестнице с зажженным фонарем. Я по-прежнему сжимал в правой руке револьвер, а левой подхватил чемодан и фонарь. Не понимаю, к чему была вся эта предосторожность, ведь в доме, кроме меня и спящего хозяина, никого не осталось.
Я на цыпочках сошел по скрипучим ступеням в холл и, отчетливее услышав храп, сообразил, что Экли, должно быть, перебрался в расположенную по левую сторону гостиную. Туда я еще ни разу не заходил. Справа чернел вход в кабинет, откуда совсем недавно до меня доносились голоса. Я распахнул незапертую дверь в гостиную, высветил фонарем дорожку к месту, откуда слышался храп, и направил его луч к лицу спящего. Но в следующую секунду я отпрянул, повернулся и начал по-кошачьи пятиться к выходу. Предосторожность взяла верх над доводами разума, и я беспрекословно повиновался инстинкту. На софе лежал не Экли, а мой бывший провожатый Нойес.
Я не успел разобраться в случившемся, но здравый смысл подсказывал мне, что я должен поскорее выбраться отсюда и незаметно скрыться. Выйдя в холл, я бесшумно закрыл дверь в гостиную. Нойес крепко спал, и я его не потревожил. Потом я столь же осторожно вошел в кабинет, надеясь найти там спящего или бодрствующего Экли. В углу стояло его любимое кресло-качалка. Пока я приближался к нему, луч фонаря высветил массивный стол с дьявольскими цилиндрами, и я услышал гул приборов. Усилитель звука находился рядом, и его можно было в любой момент подключить к ним. Очевидно, там помещался мозг, голос которого донесся до меня во время этого пугающего разговора. На мгновение у меня возник соблазн включить усилитель звука и узнать, что мне сейчас скажут.
Я подумал, что ему известно о моем приходе, а все звуковые и визуальные приборы уже успели зафиксировать свет фонаря и скрип половиц от моих шагов. Но, поразмыслив, я все-таки не стал рисковать и ввязываться в очередную авантюру. Я бросил рассеянный взгляд на новенький цилиндр с именем Экли, который еще вечером заметил на полке. Хозяин сказал тогда, чтобы я его не трогал. Теперь я сожалею о собственной робости. Мне следовало бы включить прибор и выслушать все от начала и до конца. Одному Богу ведомо, какие тайны открылись бы мне, какие страшные сомнения подтвердились бы и на какие вопросы я получил бы ответ! Но, возможно, судьбе было угодно меня пощадить, и я ничего не узнал.
Я направил луч фонаря в угол, где, как полагал, должен был находиться Экли, но, к моему изумлению, кресло оказалось пусто. В нем никто не спал и не бодрствовал. На полу лежал халат, и его складки чуть заметно колыхались. Рядом с ним валялись желтый шарф и огромные бинты, так поразившие меня при первой встрече. Я размышлял о том, куда мог деться Экли и почему он вдруг поспешил избавиться от своего «больничного» облачения. Внезапно я почувствовал, что в комнате больше нет ни вибрации, ни затхлого запаха. Чем же они были вызваны? Странно, но я ощущал их только в присутствии Экли, и особенно сильно рядом с его креслом. А вот в других комнатах и даже в коридоре они полностью отсутствовали. Я немного постоял, направляя луч фонаря в разные углы кабинета и пытаясь подыскать происшедшему хоть какое-то объяснение.
О господи, если бы я спокойно вышел и не стал высвечивать фонарем пустующее кресло-качалку! Но все сложилось иначе, и мне пришлось забыть о спокойствии. Я не выдержал и негромко вскрикнул, должно быть, нарушив покой стража этого дома, спящего в комнате по ту сторону коридора, хотя и не разбудив его. Мой выкрик и мерное похрапывание Нойеса были последними звуками, услышанными мной на мертвенно-тихой ферме под горой, поросшей темным лесом. Этот центр транскосмического ужаса затерялся среди заброшенных зеленых холмов и бормочущих невнятные проклятия ручьев, на старой крестьянской земле, похожей на спектр.
Удивительно, что, выбежав из дома, я не выронил фонарь, чемодан и револьвер и как-то сумел их удержать. Мне хотелось бесшумно выскользнуть отсюда, и, кажется, я сумел это сделать. Приблизившись к сараю, я сел в старенький «форд», завел мотор и поехал на видавшей виды машине куда глаза глядят. Мне хотелось лишь одного — очутиться этой темной, безлунной ночью в полной безопасности. Моя поездка превратилась в безумную гонку, достойную рассказов Эдгара По, стихов Рембо или рисунков Доре, но наконец я добрался до Тауншенда. Вот и все. Если я до сих пор здоров и мой рассудок не помутился, то мне крупно повезло. Иногда я со страхом думаю о будущем, о том, чего от него можно ожидать, особенно после знаменательного открытия новой планеты Плутон.
Как уже упоминалось, я вновь направил луч фонаря на пустующее кресло, успев обшарить весь темный кабинет. И тут мне бросились в глаза лежавшие на сиденье вещи. В первый раз я не обратил на них внимания, да это и понятно — их скрывали складки просторного халата. Полицейские, позднее прибывшие на ферму, тоже не нашли этих трех предметов. Сами по себе они вряд ли смогли бы испугать, о чем я, кажется, также говорил выше. Суть в том, к каким выводам они невольно подталкивали. Даже сейчас меня не оставляют сомнения, и я готов понять скептиков, считающих мой рассказ фантазией, результатом нервного расстройства или галлюцинацией.
Эти три предмета были отлично сделаны, я бы сказал, с каким-то поистине дьявольским умением и аккуратностью. С помощью металлических приспособлений они могли прикрепляться к любой органической структуре, и я бы не отличил их от настоящих. Надеюсь, искренне надеюсь, что какой-то неведомый мастер вылепил их из воска, хотя таящийся в глубине моей души ужас подсказывает мне совсем иной ответ. Боже правый! Шепчущий во тьме с этим затхлым запахом и вибрацией! Прорицатели, эмиссары, подмена, пришельцы… жуткое, назойливое жужжание… и все время новенький, сверкающий цилиндр стоял на полке… несчастное дьявольское отродье… Поразительные открытия в хирургии, биологии, химии и механике…
Ибо в кресле лежали как две капли воды похожие на настоящие, не отличимые от них ни под одним микроскопом лицо и руки Генри Уэнтуорта Экли.
ЦВЕТ ИНОГО МИРА
К западу от Аркхема холмы становятся круче, и здесь много долин с густыми лесами, где никогда не гулял топор. Здесь темные узкие лощины, на крутых склонах которых чудом удерживаются деревья, а в узеньких ручейках даже в летнюю пору не играют солнечные лучи. На пологих склонах стоят старые фермы, древние и каменные, с приземистыми и заросшими деревянными постройками, хранящими вековечные тайны Новой Англии; сейчас все они опустели, широкие трубы растрескались, а покосившиеся стены едва удерживают громоздящиеся сверху мансарды.
Старожилов уже не стало, а чужаки здесь не прижились. Здесь пытались селиться франкоговорящие канадцы, затем итальянцы, потом поляки — они приезжали, но затем уезжали. Вовсе не потому, что что-то услышали или увидели, а потому, что чего-то вообразили. В этом месте воображение пробуждалось и рождало мрачные фантазии, лишающие спокойного сна. Из-за этого чужаки и спешили уехать прочь, хотя старый Эмми Пирс не рассказывал им ничего из того, что помнит о тех странных днях. Эмми, с годами ставший совсем чудной, единственный, кто продолжает жить здесь и иногда рассказывает о тех странных днях; да и то осмеливается делать это лишь потому, что через поле за его домом можно быстро добраться до постоянно оживленной дороги, ведущей в Аркхем.
Когда-то по холмам и долинам проходила дорога, ведущая прямо через опаленную пустошь; но теперь она давно заброшена, а новая дорога огибает пустошь с юга. Следы прежней сохранились среди запустения и останутся, даже когда большинство низин будут затоплены ради нового водохранилища. Темный лес вырубят, а опаленная пустошь окажется под голубой водной гладью, в которой отражается небо и рябью расходятся отблески солнца. И тайны тех странных дней присоединятся к тайнам, покоящимся на дне; присоединятся к скрытым знаниям древнего океана и тайнам первобытной земли.
Когда я отправился по холмам и долинам намечать границы будущего водохранилища, меня предупредили, что это место, где обитает зло. Разговоры о пустоши я слышал еще в Аркхеме, но поскольку этот старинный городок полон преданий о ведьмах, я решил, что это болтовня того типа, что бабушки нашептывают своим внукам. Название «опаленная пустошь» показалось мне странным и каким-то театральным; непонятно, как оно могло попасть в предания благочестивых пуритан. Затем мне довелось увидеть здешнюю темную мешанину речных долин и крутых склонов, и я стал серьезнее относиться к древним тайнам этого края. В пустоши я оказался утром, но все покрывала густая тень. Деревья росли слишком близко друг к другу, и стволы у них были слишком толстыми для нормального, здорового леса Новой Англии. Под их кронами было слишком тихо, а земля после долгих лет запустения стала мягкой и покрылась мхом.
На открытых местах вдоль прежней дороги сохранились заброшенные фермы; в некоторых уцелели и дома, и все пристройки, в других — дом и несколько сараев, а кое-где остались лишь труба или погреб. Здесь царствовали сорняки и вереск, и что-то неуловимо дикое чудилось в этой поросли. Во всем ощущалось беспокойство и вместе с тем уныние, прикосновение нереального и гротескового, словно неведомая сила исказила перспективу или контрастность. Неудивительно, что все иностранцы не задерживались здесь — спать в таких местах действительно невозможно. Местность очень походила на пейзажи Сальватора Розы; походила на гравюру, иллюстрирующую нечто запретное, прилагающуюся к ужасной истории.
Но все это не шло ни в какое сравнение с самой опаленной пустошью. Я понял это, как только оказался в низине посреди просторной долины; ибо никакое иное название этому месту не подошло бы, а другую впадину так не назвали бы. Словно бы некий поэт посетил сей необычный край и чеканно выдал определение. Можно было подумать, что пожар очистил здесь землю, но почему затем на пяти акрах так ничего и не выросло и они зияли среди полей, как проеденное кислотой большое серое пятно? Пустошь тянулась к северу от заброшенной дороги, но немного заползала и на другую сторону. Мне не хотелось приближаться к ней, но та задача, ради которой я здесь оказался, не позволяла ее обойти. Тут не росло ни травинки, а землю покрывали груды серой пыли или пепла, почему-то не разметаемые порывами ветра. По краям пустоши росли чахлые, низкие деревья, а на границе попадались омертвевшие или догнивающие на корню стволы. Я прибавил шаг, заметив справа остатки кирпичной кладки от печной трубы и входа в погреб и черный зев заброшенного колодца, над которым застоявшиеся пары причудливо искажали блики солнечного света. Даже полоса темного мрачного леса в сравнении с пустошью казалась приветливым местечком, и боязливые перешептывания жителей Аркхема перестали казаться мне удивительными. Поблизости не было каких-либо других домов или руин — наверное, с давних пор это место считалось глухим и уединенным. Возвращаясь в сумерках, я не решился вновь пересечь пустошь и добрался до города проходящей южнее дорогой. При этом полное отсутствие облаков тревожило меня, ибо некая странная обеспокоенность все глубже проникала в мою душу из бескрайнего небесного простора.
Вечером я поинтересовался в Аркхеме у стариков об опаленной пустоши и что за «странные дни», о которых стараются не говорить. Внятного ответа я не получил, но понял, что тайна довольно свежего происхождения. Здесь было замешано не древнее предание, а события, имевшие место при жизни моих собеседников. Это случилось в восьмидесятые годы, и некая семья то ли исчезла, то ли была убита. Старики путались в своих воспоминаниях, но все как один просили не принимать всерьез бредовые россказни старого Эмми Пирса. К нему я и наведался следующим утром, узнав, что он живет один в старом шатком доме, бревна которого уже начали распухать. Его жилище на вид казалось ужасно древним, от него исходил гниловатый запах, характерный для домов, простоявших слишком долго. Мне пришлось стучать понастойчивее, но когда старик наконец вышел к двери, нельзя было сказать, что мое появление его совсем не обрадовало. Выглядел он не таким дряхлым, как я ожидал, но глаза его были странно потуплены, а неряшливая одежда и запущенная борода красноречиво свидетельствовали, что он ведет одинокий образ жизни и ни с кем не общается.
Не зная, как его разговорить, я сделал вид, что некая информация потребовалась мне для дела; рассказал ему о прогулке по окрестностям и задал несколько вопросов вообще о здешних краях. Он оказался человеком неглупым и гораздо более образованным, чем меня уверяли, во всяком случае не хуже любого другого, с кем я беседовал на эту тему в Аркхеме. В отличие от других местных жителей, с которым я общался, проживающих в местах затопления, Эмми не возражал против того, что многие акры полей и лесов окажутся под водой, хотя, возможно, потому что его дом был недалеко от дороги, вне границ будущего озера. По нему даже было заметно, что он испытывает облегчение; облегчение вызывал у него тот факт, что мрачные долины, исхоженные им за долгую жизнь вдоль и поперек, наконец исчезнут. Лучше, чтобы они оказались под водой, сказал он. После тех странных дней — лучше, чтобы их затопило. На этом откровении его сиплый голос перешел в шепот, он наклонился и погрозил кому-то указательным пальцем правой руки.
После чего я и услышал эту историю. От его тихого бормотания, иногда переходящего в шепот, меня не раз пробирал озноб, хотя день выдался по-летнему жарким. Мне приходилось часто прерывать старика, чтобы уточнять высказывания ученых, которые он запомнил без понимания их, и восстанавливать порядок событий, когда он вдруг перескакивал и логичность изложения пропадала. Когда он закончил свой рассказ, я уже не удивлялся, что память его подводила, а старики в Аркхеме и вовсе не желали говорить об опаленной пустоши. Я торопился вернуться в отель до заката, чтобы не бродить по глухой местности в свете одних лишь звезд, а наутро выехал в Бостон, предполагая никогда больше сюда не возвращаться. У меня не было ни малейшего желания снова идти через полумрак темного леса или еще раз увидеть серую опаленную пустошь, черный зев колодца и остатки кирпичной кладки возле него. Скоро здесь будет водохранилище, и все тайны окажутся на его дне. Но даже тогда я постараюсь не оказываться в окрестных долинах ночью, а тем более при зловещем сиянии звезд; и если мне доведется еще раз побывать в Аркхеме, я ни за что не стану там пить водопроводную воду.
Все это началось с метеорита, сказал старый Эмми. А до того в наших местах каких диковинных легенд и слухов не было давно, наверное, со времен охоты на ведьм, и даже тогда этих западных лесов и вполовину так не боялись, как маленького острова на Мискатонике, где дьявол вершил суд возле древнего каменного алтаря, установленного там еще до индейцев. В здешних лесах ничего страшного не обитало, и до тех странных дней их фантастический полумрак не вызывал ни у кого ужаса. Но как-то днем на небо выплыло большое облако, послышались взрывы в воздухе, а над долиной за лесом поднялся столб дыма. К вечеру весь Аркхем знал, что с неба на ферму Нейхема Гарднера упала огромная скала и провалилась в землю возле колодца. В ту пору посреди нынешней опаленной пустоши стоял дом — ухоженный белый дом Нейхема Гарднера, окруженный цветниками и фруктовым садом.
Нейхем направился в город рассказать о камне и по дороге заглянул к Эмми Пирсу. Эмми тогда было около сорока, поэтому все странности он усваивал очень хорошо. На следующее утро Эмми с женой отправились вместе с тремя профессорами из Мискатоникского университета на ферму Нейхема, чтобы посмотреть на странного посетителя из неизведанных далей межзвездного пространства, и ученых удивило, что Нейхем днем раньше назвал камень огромным. «Он уменьшился», — сказал Нейхем и указал на большой светло-бурый холм на земле и обгоревшую вокруг него траву возле архаичного колодца, снабженного журавлем, на дворе его фермы; но ученые мужи возразили, что камни не уменьшаются. От камня все еще исходил жар, и, по словам Нейхема, ночью он чуть заметно светился. Профессора постучали по нему геологическим молотком и обнаружили, что он мягкий, почти как пластмасса; они скорее отщипнули, чем откололи кусочек, чтобы забрать в университет для исследований, и унесли его в старой бадье, позаимствованной на кухне Нейхема, поскольку и маленькая частица метеорита отказывалась охлаждаться. На обратном пути ученые заглянули к Эмми, чтобы передохнуть, и оказались озадачены замечанием миссис Пирс, что кусочек стал меньше и постепенно прожигает днище бадьи. Кусочек и в самом деле был небольшой, но возможно, что им только показалось, что он был больше, когда его отщипнули.
На следующий день — а происходило все это в июне 1882 года — профессора всей гурьбой в большом волнении отправились на ферму. Заглянув по дороге к Эмми, они рассказали ему, какие фокусы выделывал кусочек метеорита, прежде чем полностью исчез после того, как его поместили в стеклянную колбу. Колба тоже исчезла, и ученые мужи рассуждали о сродстве странного камня с кремнием. Он вел себя в их образцовой лаборатории невероятным образом. Никак не отреагировал на нагревание на древесном угле и не выявил поглощенных газов; капля буры не дала никакого результата; проявил полное безразличие к нагреву до высокой температуры, включая даже кислородо-водородную сварочную горелку. Оказался легко ковким, и в темноте было зафиксировано его свечение. Упрямо отказывался охлаждаться, что вызвало в университете настоящий переполох; спектроскоп выявил в нем яркие группы полос, не соответствующих никаким известным веществам, что породило высказывания о новых элементах, причудливых оптических свойствах и прочих вещах такого рода, какие говорят озадаченные ученые, когда не хотят признавать, что столкнулись с неведомым.
Несмотря на то, что образец был горячий, его поместили в тигель и проверили на реакции со всеми надлежащими реагентами. Вода не оказала никакого воздействия. Соляная кислота точно так же. Азотная кислота и царская водка шипели и брызгались из-за температуры его неуязвимой поверхности. Эмми с трудом припоминал это, но узнал некоторые названия, когда я перечислил применяемые в таких случаях растворители. Среди них были нашатырный спирт и едкий натр, спирт и эфир, вонючий двусернистый углерод и дюжина других; и хотя за время исследований он стал еще меньше и немного остыл, в составе растворителей не обнаружилось никаких изменений, показывающих, что они вступили во взаимодействие с веществом. Несомненно, это был металл. Как минимум, это вещество обладало магнитными свойствами; и после погружения в кислотные растворители на нем удалось заметить слабые следы видманштеттеновых фигур, какие находили на метеоритном железе. Когда образец стал менее горячим, исследования стали проводить в стеклянных колбах; и в стеклянную колбу сложили затем все мелкие кусочки, отделенные от исходного образца для проведения опытов. Наутро же как образец, так и его кусочки бесследно исчезли вместе с колбой, оставив на деревянной полке обгорелый след.
Все это профессора рассказали Эмми, задержавшись ненадолго возле его дверей, и он снова отправился с ними посмотреть на каменного посланца со звезд, на сей раз без жены. Метеорит вполне заметно уменьшился, и даже скептически настроенные ученые не могли отрицать того, что видели. Вокруг худеющей коричневой глыбы возле колодца образовалось пустое пространство с впадинами, из-за чего земля местами осыпалась, а ширина глыбы, вчера составлявшая семь футов, стала меньше пяти. Она по-прежнему была горячей, и мудрецы с любопытством изучили ее поверхность, затем с помощью молотка и стамески откололи еще один кусок, покрупнее. На сей раз они продолбили метеорит глубже и обнаружили, что его структура не вполне однородная.
Внутри они обнаружили нечто вроде крупной сверкающей глобулы, окруженной уже знакомым им веществом. Цвет ее, отчасти напоминающий некоторые группы полос исследованного накануне спектра, описать было почти невозможно; да и вообще назвать это цветом можно было лишь условно, из-за невозможности подобрать какое-то другое слово. Глобула была гладкой и, как показало постукивание, тонкостенной и полой. Один из профессоров врезал по ней молотком изо всей силы, и она с неприятным хлопком лопнула. Внутри нее не оказалось ничего, никакого вещества или газа, и сама она бесследно исчезла. На ее месте осталась полость около трех дюймов в диаметре, наводящая на мысль, что, возможно, в этом веществе скрыты и другие глобулы, которые откроются по мере испарения камня.
Строить догадки было бесполезно, так что после неудачных попыток буравить метеорит в поисках других глобул исследователи уехали, забрав с собой новый образец, который, как потом выяснилось, повел себя в лаборатории ничуть не лучше своего предшественника. Помимо того что он вел себя почти как пластмасса, был горяч, слегка светился, немного охлаждался в сильных кислотах, обладал уникальным спектром и испарялся на воздухе, он вступал в бурную реакцию с кремнием, в результате которой оба компонента просто исчезали. По результатам всех этих опытов ученые университета вынуждены были признать, что не могут классифицировать это вещество. Ничего подобного на Земле не встречалось, это был осколок из иного мира, наделенный непонятными иными свойствами и подчиняющийся иным законам.
В тот день вечером разразилась гроза, и когда на следующий день профессора в очередной раз приехали к Нейхему на ферму, их ждало горькое разочарование. У камня, обладавшего, как уже было установлено, магнитными свойствами, должно быть, оказалась специфическая притягательность для электричества, ибо, по словам Нейхема, он то и дело «притягивал молнии». За час фермер насчитал шесть вспышек, но когда гроза закончилась, от камня осталась только яма возле старого колодца, полузасыпанная из-за обвалившихся краев. Попытки копать ни к чему не привели, и ученые констатировали факт исчезновения метеорита. Им не оставалось ничего другого, как вернуться в лабораторию и продолжить исследования тающего с каждым днем обломка, который они хранили в свинцовом ящике. Он просуществовал неделю, за которую они так и не узнали ничего нового. Когда же он исчез, не оставив никакого следа, спустя какое-то время профессора уже и сами не были уверены в том, что видели своими глазами этот странный обломок из окружающих нас бездн пространства, этого одинокого таинственного вестника из иных вселенных, где царят иные законы материи, энергии и вообще существования.
Вполне естественно, что аркхемские газеты при поддержке университета устроили грандиозную шумиху по поводу метеорита и послали корреспондентов пообщаться с Нейхемом Гарднером и членами его семьи. Статью о метеорите напечатала и как минимум одна бостонская газета, после чего Нейхем стал местной знаменитостью. Это был худощавый, приветливый человек лет пятидесяти, проживающий с женой и тремя сыновьями на приятного вида ферме. Он и Эмми частенько заглядывали друг к другу в гости, как и их жены, и даже спустя полвека Эмми с теплотой отзывался о нем. Похоже, Нейхему немного льстило, что его ферма привлекла такое внимание, и в последующие недели он часто заводил речь о метеорите. Июль и август в том году выдались жаркими, и Нейхем целыми днями косил и заготавливал на зиму сено на десятиакровом пастбище по ту сторону Коробейниковского ручья, так что его дребезжащая повозка проложила туда глубокую колею. Работа утомляла его сильнее, чем в прошлые годы, и он решил, что начинает сказываться возраст.
Затем настала пора сбора урожая. Груши и яблоки неторопливо наливались соком, и Нейхем клялся, что такого урожая в его садах еще не бывало. Плоды выросли на удивление крупные и крепкие, и к тому же в таком изобилии, что пришлось заказать еще бочек для хранения и перевозки будущего урожая. Но когда все созрело, на Гарднера обрушилось первое разочарование, ибо среди всех этих великолепных на вид плодов не нашлось ни одного съедобного. К нежному вкусу груш и яблок оказалась примешана такая горечь, что даже самый маленький съеденный кусочек вызывал долгое отвращение. То же самое произошло с дынями и помидорами, и Нейхем с печалью осознал, что весь его урожай потерян. Будучи вполне сообразительным, он заявил, что метеорит отравил почву, и благодарил небеса за то, что большинство его посадок зерновых были на возвышенных местах в стороне от дороги.
Зима наступила рано и была очень холодной. Эмми виделся с Нейхемом реже обычного, но заметил, что тот выглядит озабоченным. Другие члены его семьи тоже как будто стали молчаливы и замкнуты, реже появлялись в церкви и на всяких общественных мероприятиях. Никаких явных причин для такой скрытности или меланхолии не было, хотя время от времени то один, то другой из Гарднеров жаловался на здоровье и нервное расстройство. Сам Нейхем высказал вполне определенную причину своего беспокойства: в округе фермы на снегу появились непонятные следы. Это были обычные следы белок, зайцев и лисиц, но погруженный в раздумья фермер утверждал, что они какие-то неправильные. Он не пытался объяснить это точнее, но полагал, что они не вполне соответствуют повадкам и анатомии белок, зайцев и лисиц. Эмми не обращал особого внимания на эту болтовню до тех пор, пока ему не довелось однажды возвращаться поздно вечером домой из Кларкс-Корнерз мимо дома Нейхема. Светила луна, и заяц перебежал дорогу, а прыжки этого зайца были такими длинными, что ни Эмми, ни его коню это не понравилось. Последний чуть было не пустился во весь опор, но Эмми, к счастью, его удержал. С тех пор он с большим доверием стал относиться к рассказам Нейхема и задумался, отчего собаки Гарднеров каждое утро кажутся запуганными. Сначала они просто жались по углам, а затем и вовсе как будто разучились лаять.
В феврале мальчишки Макгрегоров из Мидоу-хилл отправились охотиться на сурков и неподалеку от фермы Гарднеров подстрелили странного зверька. Пропорции его тела оказались неправильными, но как именно — описать это невозможно, а на мордочке застыло выражение, какого у сурков никогда прежде не бывало. Мальчишки перепугались и бросили его, поэтому все остальные узнали об этом только из их гротесковых рассказов. Однако то, что лошади возле дома Нейхема ускоряют шаг, заметили многие, и это положило основу легендам, окружающим это место.
Весной люди божились, что возле фермы Гарднеров снег тает гораздо быстрее, чем во всех остальных местах, а в начале марта в лавке Поттера в Кларкс-Корнерз состоялось очередное возбужденное обсуждение. Проезжая в этот день утром мимо фермы Гарднера, Стивен Райс обратил внимание на поросль скунсовой капусты, пробившуюся вдоль дороги там, где ее пересекала полоса леса. Ему никогда в жизни не доводилось видеть скунсовую капусту такого огромного размера и такого странного цвета, который невозможно описать словами. Вид у растений был отвратительный, и лошадь зафыркала, учуяв их аромат, который Стивену показался совершенно ни на что не похожим. Днем несколько человек съездили посмотреть на диковинку, и все согласились, что на здоровой земле такое не вырастет. Тут все вспомнили о пропавшем осенью урожае, и вскоре по всей округе расползся слух, что земля возле фермы Нейхема отравлена. Без сомнения, виноват был метеорит; и, вспомнив, что люди из университета рассказывали о нем удивительные истории, фермеры решили поговорить с ними о недавних событиях.
Наконец ученые снизошли до посещения фермы Нейхема, но, не имея склонности доверять легендам и диким россказням, оказались довольно консервативными в своем заключении. Растения действительно выглядят странно, но скунсовая капуста вообще обычно имеет странную форму и окраску. Возможно, какая-то минеральная составляющая метеорита и в самом деле попала в почву, но скоро она будет вымыта из нее. А что касается следов на снегу и испуга лошадей, то это обычные деревенские байки, порожденные, несомненно, таким редким научным явлением, как аэролит. Серьезному человеку не следует обращать внимание на эти дикие выдумки, рассчитанные на суеверных сельских жителей, готовых принять на веру любую чушь. И пока длились странные дни, профессора продолжали высокомерно придерживаться этой же позиции. Лишь один из них, когда спустя полтора года полиция дала ему для анализа две колбы с пылью, вспомнил, что цвет скунсовой капусты был в точности как одна из групп спектральных полос при исследовании на спектрометре кусочка метеорита, а также хрупкой глобулы, найденной в самом камне. Образцы пыли имели этот же цвет, однако со временем поблекли.
Почки на деревьях возле фермы Нейхема набухли раньше времени, и по ночам их ветки зловеще шелестели на ветру. Тадеуш, средний сын Нейхема, парень лет пятнадцати, клялся, что они раскачиваются и тогда, когда ветра нет, но даже заядлые сплетники не приняли его слова всерьез. Однако беспокойство словно витало в воздухе. Гарднеры приобрели привычку прислушиваться к чему-то, хотя и не слышали при этом каких-то звуков, которые могли бы опознать. В те мгновения, когда они прислушивались, их сознание словно бы отсутствовало. К сожалению, со временем это случалось все чаще, и вскоре окружающие утвердились во мнении, что «с семьей Нейхема что-то неладно». Когда расцвела камнеломка, цвет у нее был странный, но иной, не как у скунсовой капусты, однако в чем-то похожий и тоже такой, какого никто прежде никогда не видел. Нейхем отвез несколько цветов в Аркхем редактору «Газетт», но этот солидный господин снизошел лишь до того, что опубликовал шутливую статью о невежестве и суевериях сельских жителей. Нейхем совершил ошибку, рассказав солидному горожанину о том, что над этими камнеломками вились бабочки-траурницы огромного размера.
В апреле на окрестных фермеров что-то нашло и они перестали ездить по дороге, проходящей мимо фермы Нейхема, отчего та вскоре стала совсем заброшенной. Виновата была растительность. На плодовых деревьях распустились цветки странного цвета, а сквозь каменистую почву двора фермы и ближайших пастбищ пробились странные растения, которые, наверное, только ботаник смог бы соотнести с какой-то местной флорой. Лишь мелкая травка и листва остались зелеными. Вблизи фермы не было ни дерева, ни куста нормального цвета, во всем проглядывали различные вариации того самого нездорового цвета, прежде неведомого на Земле. «Штаны голландца», казалось, источали угрозу, а в извращенных цветах лапчатки виделось что-то порочное. Эмми и Гарднеры решили, что растительность цветом схожа с глобулой из метеорита. Нейхем вспахал и засеял десятиакровое пастбище и поле на холме, но не стал обрабатывать землю вокруг дома. Сажать что-либо здесь не имело смысла, и он лишь надеялся, что странная растительность высосет из земли всю отраву. Он был готов теперь к любым неожиданностям, но не мог избавиться от ощущения, будто рядом с ним кто-то прячется и ждет, чтобы его услышали. Конечно, на нем сказывалось то, что соседи избегали его; но еще больше это сказывалось на его жене. Сыновья от этого страдали меньше, поскольку каждый день ходили в школу; но они не могли оставаться равнодушными к сплетням. Тадеуш, самый впечатлительный из них, тяжело переживал из-за сложившегося отношения соседей к его семье.
В мае появились насекомые, и ферма Нейхема превратилась в жужжащий и шевелящийся кошмар. Большинство этих созданий казались не совсем обычными видом и размерами, а их ночное бодрствование противоречило всему прежнему опыту фермера. Гарднеры стали по ночам следить за окрестностями — вглядывались в окружавшую дом в темноту, со страхом выискивая сами не ведая что. При этом они убедились, что Тадеуш был прав, говоря о деревьях. Однажды, сидя у окна, миссис Гарднер посматривала на разлапистые ветви клена, отчетливо видные в лунную ночь. Эти ветви определенно покачивались, хотя никакого ветра не было. Несомненно, это проявляла себя жизненная сила самого дерева. Все растущее вокруг сделалось странным. Однако следующее открытие сделал человек, не имевший никакого отношения к семейству Гарднеров. Внимание их притупилось, и они не видели того, что сразу же заметил робкий продавец ветряных генераторов из Болтона, который проезжал мимо ночью, не ведая о местных сплетнях. Из того, что он рассказал в Аркхеме, сделали короткую заметку в «Газетт», а из нее об этом узнали окрестные фермеры и сам Нейхем. Ночь выдалась темная, фонари на крыльях пролетки были слабые, но когда коммивояжер спустился в долину фермы Нейхема, окружавшая его тьма стала менее густой. Вся растительность — трава, кусты, деревья — испускала тусклое, но хорошо различимое свечение, и в какой-то момент ему почудилось, что нечто особенно яркое шевелится во дворе возле сарая.
Пока что трава возле фермы казалась вполне нормальной, и коровы паслись неподалеку от дома, но к концу мая молоко у них испортилось. Тогда Нейхем перегнал стадо на пастбище на холме, после чего все пришло в норму. Но вскоре после этого изменения в траве и листве стали заметны для глаз. Зеленые растения становились серыми и делались чахлыми и ломкими. Из посторонних ферму посещал только Эмми, да и то все реже и реже. Когда школа закрылась на лето, Гарднеры фактически потеряли связь с внешним миром, но иногда поручали Эмми сделать чего-то в городе. Вся семья постепенно угасала как физически, так и умственно, и никто не удивился, когда по округе распространилась весть, что миссис Гарднер сошла с ума.
Это случилось в июне, почти через год после падения метеорита; несчастная женщина кричала, что видит что-то в воздухе, чего не может описать. Сама речь ее стала малопонятной, в ней не осталось ни одного существительного, только глаголы и местоимения. Это что-то двигалось, изменялось и колыхалось, а в ушах у нее звучали сигналы, не похожие на обычные звуки. У нее что-то отбирали… что-то из нее вытягивали… что-то наваливалось на нее, чего не должно было быть… что-то, что нужно прогнать… нечто, не дающее покоя по ночам… стены и окна перемещаются… Нейхем не стал отправлять ее в местную психиатрическую лечебницу и позволял ходить по дому, где ей вздумается, пока она не представляла угрозу для себя и для близких. Даже когда ее поведение переменилось, он не предпринял никаких шагов. Но когда сыновья стали боятся ее, а Тадеуш чуть не потерял сознание при виде тех гримас, которые она ему строила, Нейхем запер ее в мансарде. К июлю она совсем перестала разговаривать и передвигалась на четвереньках, а на исходе месяца муж с ужасом обнаружил, что она слабо светится в темноте, в точности как и вся растительность возле фермы.
Незадолго до того что-то обратило в паническое бегство лошадей. Что-то разбудило их среди ночи, отчего они громко заржали и принялись с ужасающей силой бить копытами в стойло. Не представляя, чем можно их успокоить, Нейхем отпер двери, они умчались прочь, как вспугнутые лесные олени. Лишь через неделю удалось найти всех четверых, но они оказались совершенно бесполезными и неуправляемыми. Что-то сломалось в их мозгах, и Нейхему пришлось из милосердия пристрелить их. Он позаимствовал у Эмми лошадь для перевозки сена, однако та не захотела приближаться к амбару. Лошадь упиралась, била копытами и ржала, так что в конце концов Нейхем отвел ее во двор и вместе с сыновьями дотянул тяжелую телегу к сеновалу. А растительность тем временем вся становилась серой и ломкой. Даже цветы, раскраска которых прежде была довольно странной, теперь приобрели сероватый оттенок, а созревающие фрукты сделались серыми, сморщенными и безвкусными. Астры и золотарник стали серыми и искривленными, а розы, циннии и алтеи внушали такой страх, что Зенас, старший сын Нейхема, все их посрезал. Странным образом раздувшиеся насекомые к этому времени почти все сдохли, и даже пчелы покинули ульи и улетели в лес.
К сентябрю вся растительность начала осыпаться, превращаясь в сероватый порошок, и Нейхем стал опасаться, что деревья погибнут раньше, чем почва очистится от отравы. Его жена теперь время от времени заходилась в истошном крике, отчего он и сыновья находились в постоянном нервном напряжении. Теперь они сами избегали людей, и когда в школе возобновились занятия, дети остались дома. Но только Эмми в один из своих нечастных визитов заметил, что вода в колодце испортилась. В ней появился очень плохой вкус, хотя она не сделалась ни зловонной, ни соленой, и Эмми посоветовал приятелю выкопать новый колодец на холме и пользоваться им, пока земля не очистится. Однако Нейхем проигнорировал это, поскольку уже стал менее восприимчив ко всякому странному и неприятному. Они продолжали использовать испорченную воду, запивать ею свою скудную и плохо приготовленную пищу и совершать безрадостный, механический труд, заполнявший все их бесцельно проведенные дни. Это было что-то типа бесстрастной покорности судьбе, словно бы они уже прошли половину пути в иной мир по охраняемому невидимыми стражами проходу к неотвратимой и уже хорошо знакомой им участи.
Тадеуш обезумел в сентябре, выйдя из дома к колодцу. Он вышел с ведром, а вернулся без ведра, крича и размахивая руками, принимаясь время от времени дурацки хихикать и бормотать что-то о «движущихся там, внизу, цветных пятнах». Двое сумасшедших в одной семье — тяжкое испытание, но сломить Нейхема было непросто. Неделю он позволял сыну разгуливать, где ему вздумается, пока тот не начал спотыкаться и падать. Тогда отцу пришлось запереть его тоже на мансарде, через коридор от матери. Их перекрикивания за запертыми дверями были ужасными, особенно для младшего сына, Мервина, которому казалось, что они разговаривают на каком-то жутком, неизвестном на Земле языке. Мервин становился все более впечатлительным, и его непоседливость значительно возросла, когда брат, его главный товарищ по играм, оказался заперт.
Примерно в то же время на ферме начали гибнуть животные. Куры и гуси приобрели серый цвет и быстро поумирали, а мясо их оказалось сухим и дурно пахло. Свиньи невероятно разжирели и претерпели внешние изменения, которые никто объяснить не мог. Их мясо, конечно же, оказалось несъедобным, и Нейхем оказался близок к отчаянию. Сельские ветеринары старались держаться подальше от фермы Гарднеров, а городской ветеринар из Аркхема смог только выразить свое полное недоумение. Свиньи стали серыми, их кости сделались хрупкими и поломались еще до того, как животные умерли, а глаза и мышцы невообразимо изменились. Это было необъяснимо, ибо все, что они ели, выросло за пределами фермы. Затем какая-то напасть поразила коров. Некоторые части тела, а иногда и все тело, выглядели странно ссохшимися или сдавленными, затем части тела ссыхались еще сильнее и иногда просто отваливались. На последней стадии болезни — всегда заканчивающейся смертью — животное становилось серым и хрупким, в точности как это было со свиньями. Отравиться они ничем не могли, поскольку коров держали в отдельном запертом сарае. Их не могли заразить вирусом через укус, ибо никакая из обитающих на земле тварей не проникла бы через надежные стены. Это могла быть только болезнь естественного происхождения, но что за болезнь способна вызвать подобные симптомы — никто не мог даже предположить. Когда пришла пора собирать урожай, на ферме не осталось ни одного животного, ибо птица и скот пали, а собаки сбежали. Собаки, все три, однажды ночью пропали, и больше о них никто не слышал. Пять кошек исчезли еще раньше, но на это никто не обратил внимания, ибо мыши перевелись уже давно, и только миссис Гарднер присматривала за своими любимцами.
Девятнадцатого октября Нейхем, пошатываясь, вошел в дом Пирсов с ужасающим известием. Несчастный Тадеуш умер в своей комнате в мансарде — при обстоятельствах, не поддающихся описанию. Нейхем вырыл могилу на обнесенном низкой изгородью семейном кладбище за фермой и опустил в нее жалкие останки. Ничто не могло попасть к его сыну снаружи — маленькое оконце и дверь выглядели целыми и невредимыми, — но точно так же было и в сарае со скотом. Эмми и его жена постарались, как могли, утешить его, хотя их самих пробирал страх. Казалось, что смертный ужас окутывает Гарднеров и все, к чему они прикасаются, а самое присутствие одного из них в доме было дуновением нечто неименованного и неименуемого. Эмми с трудом заставил себя проводить Нейхема и помог ему успокоить истерически рыдавшего Мервина. Зенасу никакое утешение не требовалось. В последнее время он только смотрел в никуда и безропотно делал все, что просил отец, и Эмми подумал тогда, что судьба к нему милосердна. Время от времени плачу Мервина вторил сверху чуть слышный вой, и Нейхем в ответ на вопросительный взгляд Эмми пояснил, что его жена очень ослабела. Эмми смог уйти оттуда только под ночь; но даже многолетняя дружба не могла заставить его остаться там, где растения светились в темноте, а деревья качали или не качали ветвями независимо от наличия ветра. К счастью для Эмми, он был не склонен к фантазиям; будь он сейчас способен сопоставить все факты и поразмыслить над ними, его бы захлестнуло безумие. Тем не менее, пока он спешил домой в сумерках, в его ушах все еще звучали вой сошедшей с ума женщины и плач разнервничавшегося мальчика.
Через три дня рано утром Нейхем вбежал на кухню Эмми и, не застав его, сбивчиво изложил еще одну страшную историю его жене, цепенеющей от ужаса. На сей раз про маленького Мервина. Он пропал. Вышел поздно вечером с фонарем и ведром за водой и не вернулся. До этого он целые дни плакал, не сознавая, что его окружает. Кричал от малейшего беспокойства. Со двора донесся отчаянный вопль, но когда отец вышел из дома, мальчик как сквозь землю провалился. Нейхем тогда решил, что фонарь и ведро он забрал с собой, но наутро, после бесплодных поисков в окрестных лесах и полях, заметил какие-то странные вещи возле колодца. Сплющенный и оплавленный кусок железа, несомненно, был остатками фонаря, а выгнутая ручка рядом с перекрученными железными обручами, похоже, было всем, что осталось от ведра. И больше ничего. Нейхем был на грани помешательства, миссис Пирс обомлела от ужаса, а Эмми, когда вернулся домой и выслушал этот рассказ, не знал, чего и думать. Мервин пропал, и бесполезно было звать на помощь соседей, которые давно уже сторонились Гарднеров. Пытаться найти помощь в Аркхеме тоже не имело смысла, там его только высмеяли бы. Теда не стало, и вот теперь пропал Мервин. Что-то подкрадывалось все ближе, ожидая, когда его увидят и услышат. Наверное, скоро та же участь постигнет и Нейхема. Он попросил Эмми позаботиться о его жене и Зенасе, если те его переживут. Должно быть, это некое наказание; хотя он не представлял, за что, поскольку всегда жил в страхе пред Господом и следовал всем Его установлениями.
Более двух недель Эмми не виделся с Нейхемом, а потом, обеспокоенный возможным дальнейшим развитием событий, преодолел свой страх и навестил Гарднеров. Из высокой трубы не вился дымок, и в какой-то момент гость предположил самое худшее. От самого вида фермы пробирала дрожь — сероватая увядшая трава и на ней такие же серые листья, ставшая хрупкой виноградная лоза осыпалась со старых стен и фронтонов, а огромные деревья, ставшие голыми, упрямо тянули к тусклому ноябрьскому небу ветви с подчеркнутой недоброжелательностью, которую Эмми ощущал, наверное, по какому-то особому наклону ветвей. Но Нейхем, тем не менее, был жив. Он обессилел и лежал на кушетке в низенькой кухне, но при этом был в полном сознании и способен давать указания Зенасу. На кухне стоял смертельный холод, и поскольку Эмми зябко ежился, хозяин хрипло прокричал Зенасу подбросить побольше дров. Дров и в самом деле следовало подбросить, поскольку в камине были лишь мрак и пустота, и только порывы холодного ветерка вздымали облачка пепла. Спустя некоторое время Нейхем поинтересовался, не согрелся ли его гость, и тогда Эмми все понял. Самый крепкий стержень наконец сломался, и сознание несчастного фермера отгородилось от новых бед.
Несколько тактичных вопросов не помогли Эмми выяснить, куда подевался Зенас. «В колодце… он живет в колодце…» — вот все, что твердил помешанный. Затем гость вдруг вспомнил о сумасшедшей жене и переменил тему. «Небби? Да она же здесь!» — удивленно отреагировал бедный Нейхем, и Эмми понял, что придется разбираться самостоятельно. Покинув друга, продолжавшего нести какую-то бессмыслицу, он снял с гвоздя около двери ключи и по скрипучей лестнице поднялся в мансарду. Там была теснота и мерзкий запах, и никаких звуков, по которым можно было бы сориентироваться. Из четырех дверей только одна оказалась заперта, ее он и стал пытаться открыть ключами из взятой им связки. Третий ключ подошел, и после нескольких секунд колебаний Эмми толкнул низкую, выкрашенную светлой краской дверь.
Внутри оказалось довольно темно, так как маленькое окошко, наполовину закрытое прибитыми деревянными брусками, почти не пропускало свет, и Эмми не смог ничего рассмотреть на полу из широких досок. Зловоние было настолько сильным, что, прежде чем продолжить, он отступил в комнату напротив и наполнил легкие приемлемым воздухом. Войдя наконец, он увидел что-то темное в углу, а присмотревшись внимательнее, в ужасе закричал. И пока он кричал, ему показалось, что какое-то липкое влажное облачко закрыло окно, а потом пронеслось мимо него, обдав его неким подобием бурлящего ненавистью пара. От странного цвета в глазах у него зарябило, и не будь он крайне напуган, то вспомнил бы о глобуле в метеорите, разбитой геологическим молотком, и болезненном окрасе растительности этой весной. Но Эмми не мог думать ни о чем, кроме чудовищного существа в углу, очевидно, разделившего судьбу Тадеуша и погибших животных. Самое ужасное, что оно медленно, но вполне заметно перемещалось, хотя и разваливалось на части.
Эмми не рассказал мне больше никаких подробностей, но то, что шевелилось в углу, в этой истории больше ни разу не упоминалось. Есть вещи, о которых не следует вообще говорить, и некоторые вполне человеческие поступки строго караются законом. Я пришел к заключению, что когда он покинул ту комнату в мансарде, в ней не осталось ничего, способного двигаться, ибо оставить там кого-либо, способного передвигаться, было бы тяжким грехом, обрекавшим того, кто его совершил, на вечные муки. Любой другой на его месте упал бы без чувств или потерял рассудок, но сей твердолобый фермер в полном сознании покинул и запер ту комнату, скрывавшую ужасную тайну. Теперь его внимание было обращено к Нейхему: его нужно было накормить, обогреть, а затем переместить куда-нибудь, где о нем позаботятся.
Начав спускаться по лестнице, Эмми услышал, как внизу что-то с глухим стуком упало. Он тут же вспомнил о своем крике и как его обдало подобием пара. Что пробудилось от его крика и посещения этой комнаты? Пораженный смутным страхом, он замер, прислушиваясь к звукам внизу. Глухой звук, словно что-то тяжелое волочили по полу, и отвратительнейшее чавканье и хлюпанье, будто что-то высасывали. С лихорадочным ужасом Эмми осознал все то, что происходило сейчас в комнате наверху. О Боже, неужели он столкнулся с чем-то из области фантазий? Он застыл посреди узкой лестницы, не осмеливаясь двигаться ни вперед, ни назад. Все мелкие подробности той сцены пронеслись в его голове. Звуки, гнетущее предчувствие страха, тьма, крутизна узких ступеней и — милосердный Боже! — слабое, но вполне заметное свечение всех деревянных предметов вокруг: ступеней, перекладин, опорных брусьев крыши и стенных перегородок.
Затем снаружи, во дворе, безумно заржала его лошадь, затем последовал топот копыт и грохот коляски, говорящие о том, что она убегает прочь. Через несколько мгновений топот и грохот стали почти не слышны — судя по всему, лошадь с коляской скрылись вдали, оставляя напуганного человека на темной лестнице гадать, что же могло так напугать Геро. Однако это было еще не все. Среди этого переполоха был другой звук. Что-то типа всплеска жидкости… воды… должно быть, в колодце. Он оставил Геро непривязанным возле колодца; покачнувшаяся коляска могла задеть каменную кладку по верху колодца и выбить какой-нибудь камешек. Внимание Эмми вернулось к тому, что деревянная постройка вокруг него неярко светилась. Боже, насколько древний этот дом! Основная его часть построена еще до 1670 года, а двускатная крыша сделана не позднее 1730-го.
Шаркающие звуки внизу стали более отчетливыми, и Эмми сжал в руках деревянную палку, которую для некоторых целей взял в комнате в мансарде. Стараясь держать себя в руках, он завершил спуск по лестнице и решительно направился на кухню. Однако до кухни не дошел, ибо того, за чем он шел, там уже не было. Оно двинулось ему навстречу и было еще в каком-то смысле живо. Само ли оно приползло сюда или было притащено некой внешней силой, Эмми сказать не мог, но смерть уже забирала его. Прошло всего лишь полчаса, но усыхание, обретение серого цвета и хрупкость зашли уже далеко. Хозяин дома уже распадался, окончательно усохшие куски тела отваливались. Эмми не решился прикоснуться к нему, но лишь смотрел с ужасом на искаженную пародию, прежде бывшую человеческим лицом.
— Что сделало это с тобой, Нейхем? — прошептал он. — Что это сделало?
Гарднер прохрипел сквозь распухшие и потрескавшиеся губы:
— Ничто… ничто… это цвет… он сжигает… холодный и влажный, но сжигает… он живет в колодце… Я видел его… Он вроде дыма… оттенка как цветы этой весной… колодец по ночам светится… Тед и Мервин и Зенас… все живое… из всего живого высасывает жизнь… в том камне… должно быть, оно прибыло в том камне… и расползлось вокруг… не знаю, чего ему нужно… та круглая штука, которую ученые нашли в камне… они разбили ее… она была такого же цвета… того же самого, как у цветов и деревьев… должно быть, там были еще… семена… семена… они растут… я впервые увидел на этой неделе… должно быть, стало сильным, раз справилось с Зенасом… Он был крепкий парень, полный жизни… оно сначала сводит с ума, а затем подчиняет… сжигает нас… вода в колодце… ты был прав насчет нее… плохая вода… Зенас пошел к колодцу и не вернулся… не смог уйти… засасывает нас… утаскивает… ты знаешь, что будет, но пользы от этого нет… я снова видел его после того, как оно забрало Зенаса… где Небби, Эмми?.. у меня голова не соображает… не помню, как давно я кормил ее… оно заберет ее, если мы не помешаем… просто цвет… по вечерам у нее лицо такого же цвета… это сжигает и высасывает… оно прибыло откуда-то, где все совсем не такое, как здесь… мне сказал один из профессоров… он был прав… будь осторожен, Эмми, оно все еще жаждет… высасывает жизнь.
Это были его последние слова. То, что издавало звуки, не могло больше этого делать, потому что полностью распалось. Эмми накрыл останки красной клетчатой скатертью и вышел через черный ход — в поле. Поднялся по склону на десятиакровое пастбище и дорогой, проходящей севернее, двинулся через леса в сторону своего дома. Он не мог заставить себя пройти мимо колодца, от которого сбежала его лошадь. Эмми смотрел на него в окно и видел, что каменная кладка по верху цела и невредима. Значит, накренившаяся коляска ничего не задевала и всплеск был вызван чем-то иным — чем-то, что упало в колодец после того как, расправилось с несчастным Нейхемом.
Дома Эмми ждали лошадь, коляска и терзаемая тревогой жена. Без объяснений заверив ее, что с ним все в порядке, он тут же отправился в Аркхем уведомить официальных представителей власти, что семья Гарднеров больше не существует. Не вдаваясь в подробности, сообщил о смерти Нейхема и Небби — о судьбе Тадеуша в городе уже знали — и отметил, что хозяева фермы, судя по всему, умерли от странной болезни, ранее изничтожившей скот. Также сообщил, что Мервин и Зенас куда-то исчезли. Затем он долго давал показания в полицейском участке, и наконец ему пришлось поехать на ферму Гарднеров вместе с тремя полицейскими, судебным следователем, медицинским экспертом и ветеринаром, который должен был осмотреть больных животных. Эмми очень не хотел возвращаться туда, ибо день уже заканчивался, и он боялся оказаться ночью в этом проклятом месте, но успокаивало, что с ним поехало столько народу.
Шесть человек разместились в открытом экипаже и последовали за коляской Эмми; на пострадавшую от сельскохозяйственного бедствия ферму они прибыли около четырех часов дня. Бывалые полицейские, не раз видевшие смерть, долго не могли оправиться от шока, осмотрев комнаты наверху и приподняв красную скатерть. Сама ферма в целом, усыпанная серым пеплом, внушала ужас, но эти два распадающихся тела были из разряда совершенно немыслимого. Смотреть на них долго не мог никто, и даже медицинский эксперт признал, что ему тут мало чего можно исследовать. Конечно, надлежало взять образцы для анализа — и он не поленился это сделать, что стало затем причиной недоумений в университетской лаборатории, куда две колбы были отправлены для тщательных исследований. Спектрография обоих образцов не помогла определить состав, но вызывающие недоумение многие группы не соответствующих никаким веществам полос в точности совпадали с полученными в прошлом году от обломков метеорита. Через месяц эти полосы в собранной пыли исчезли, а сама она состояла в основном из щелочных фосфатов и карбонатов.
Эмми ни слова не рассказал бы про колодец, если бы знал, что они займутся им прямо сейчас. Дело шло к закату, и он стремился поскорее убраться отсюда, но не мог удержаться от нервных поглядываний на каменное кольцо, и когда следователь поинтересовался причиной такого поведения, признался, что Нейхем ужасно боялся чего-то на дне колодца, причем настолько, что ему даже в голову не пришло заглянуть в него, когда он искал пропавших Мервина и Зенаса. После подобного заявления полицейские не могли поступить иначе, как вычерпать досуха колодец и обследовать его дно; так что Эмми с дрожью стоял в стороне, пока полицейские поднимали и выплескивали на сухую землю одно ведро зловонной жидкости за другим. Осушающие колодец морщились и зажимали носы, но работа оказалась не такой долгой, как они опасались, поскольку глубина воды оказалась на удивление низкой. Нет нужды подробно описывать, что они там нашли. Мервин и Зенас оба были найдены там в виде почти что голых скелетов. Кроме того, там нашли останки небольшого оленя, дворового пса и целую россыпь костей более мелких животных. Ил и грязь на самом дне колодца оказались довольно рыхлыми, и полицейский с багром, которого опускали на веревках, обнаружил, что его орудие, даже полностью погрузившись в вязкую слизь, не встречает никакого препятствия.
Наступили сумерки, и из дома принесли фонари. Когда поняли, что больше из колодца ничего выудить не удастся, все пошли в дом, и в древней гостиной началось совещание, тогда как снаружи на серое запустение вокруг проливала свой слабый свет похожая на привидение половинка луны. Никто не скрывал своего замешательства, и не удавалось найти убедительной связи между мутацией растений, неизвестной болезнью, поразившей людей и домашний скот, и гибелью Мервина и Зенаса в отравленном колодце. Конечно, всякие слухи до них тоже доходили; но невозможно же представить, что чего-либо происходило вопреки законам природы. Нет сомнений, что метеорит отравил почву, но болезнь, поразившая людей и скот, не евших ничего, выросшего на этой почве, вызвана чем-то другим. Могла ли быть в этом виновата вода из колодца? Вполне возможно. Было бы неплохо проанализировать ее. Но какое необычное безумие могло заставить обоих мальчиков прыгнуть в колодец? Они поступили совершенно одинаково — но по скелетам видно, что к ним тоже подкралась серая смерть. И вообще, почему все на ферме стало серым и ломким?
Первым свечение возле колодца заметил коронер, сидевший у окна, выходившего во двор. Ночь уже полностью вступила в свои права, и все омерзительное окружение дома светилось чуть заметно, однако ярче тусклого полумесяца; но это новое свечение было другим и имело четко выраженный источник — казалось, оно поднималось из черных недр колодца, как ослабленный луч фонаря, тускло бликуя в оставшихся на земле зловонных лужицах. У него был очень странный цвет, и пока все остальные глазели на это в окно, Эмми вдруг осенило. Ибо этот странный луч омерзительных миазмов был хорошо знакомого ему оттенка. Он видел не раз этот цвет прежде, но страх мешал ему задуматься над тем, что сие означает. Он видел его в омерзительной хрупкой глобуле метеорита прошлым летом, видел в ненормальных растениях весной и, как ему показалось, видел сегодня утром возле окна в той ужасной комнате мансарды, где случилось то, о чем не следует говорить. Оно вспыхнуло там на секунду, а затем его обдало подобием бурлящего пара… и сразу после этого несчастного Нейхема прикончило что-то этого же цвета. Он сам сказал это напоследок — сказал, что это напоминало цветом глобулу и растения. И тут же со двора убежала лошадь, а из колодца послышался плеск… а теперь из этого же колодца вырывается в ночь бледный коварный луч этого же дьявольского цвета.
Следует воздать должное живости ума Эмми, который даже в такой напряженный момент занимался разгадкой парадокса практически с чисто научным подходом. Его изумило, что светящееся разреженное облако производило совершенно одинаковое впечатление как в светлое время суток на фоне окна, за которым светилось утреннее небо, так и глубокой ночью на фоне черного, опаленного ландшафта. Что-то в этом было неправильно, не соответствовало законам природы… и он подумал о страшных последних словах своего умирающего друга: «Оно прибыло откуда-то, где все совсем не такое, как здесь… мне сказал один из профессоров…»
Все три лошади, привязанные к высохшим деревцам возле дороги, громко заржали и отчаянно били копытами. Возница открытого экипажа направился было к двери, но Эмми положил трясущуюся руку ему на плечо.
— Не выходите туда, — прошептал он. — Там нечто, не поддающееся разумению. Нейхем сказал, что нечто, живущее в колодце, способно высасывать жизнь. Он сказал, что, должно быть, оно выросло из круглой штуки, такой, какую мы видели в метеорите, упавшем в прошлом июне. Высасывает и сжигает, сказал он, а выглядит как облачко вот этого цвета, который вы сейчас видите, эту штуку нелегко заметить, и не могу сказать, что она собой представляет. Нейхем думал, что оно питается всем живым и набирает при этом силу. Это нечто, обитающее по ту сторону неба, как сказал один из университетских ученых в прошлом году, когда упал тот метеорит. Его существование основано не на тех законах, по которым существует весь Божий мир. Оно откуда-то из-за его пределов.
И пока собравшиеся в доме не знали, на что решиться, свет из колодца становился все ярче, а лошади ржали и метались все более неистово. Это был поистине кошмарный момент: ужас таился в самом древнем и проклятом доме, четыре чудовищных свертка с останками — двоих из дома и двоих из колодца — в закутке для хранения дров за их спинами и столб непонятного демонического света, вздымающийся из осклизлой глубокой ямы во дворе. Эмми рефлективно удержал возницу, забыв, что сам-то он остался жив после того, как в комнате наверху его обдало тем цветным паром, но, возможно, он поступил правильно. Никто уже не узнает, что могло бы случиться той ночью во дворе, и хотя до сих пор проклятая тварь из иного мира не причинила вреда ни одному человеку твердого рассудка, невозможно сказать, на что она была способна, когда стала сильнее и подавала знаки, что скоро проявит свою конечную цель под этим частично закрытым облаками небе, с которого светила луна.
Вдруг один из полицейских возле окна сдавленно вскрикнул. Все остальные глянули на него, а затем проследили за его взглядом до того места, к которому тот оказался прикован. Слов не требовалось. То, о чем прежде высказывали догадки лишь сельские сплетники, стало не подлежащим сомнению, и именно поэтому все, стоявшие тогда в той комнате, позже согласились шепотом, что будет лучше, если все в Аркхеме позабудут об этих странных днях. Надо также заметить, что в тот вечер стояло полнейшее безветрие. Ветер поднялся позже, но в тот момент воздух был абсолютно недвижим. Даже кончики засохших листьев полевой горчицы, ставших серыми и наполовину осыпавшихся, и бахрома по краям навесной крыши открытого экипажа застыли без движения. Но посреди этого всеобщего спокойствия голые ветви всех росших во дворе деревьев покачивались. Они дергались болезненно и конвульсивно, словно пытались в эпилептическом припадке вцепиться в подсвеченные луною облака; бессильно царапали зловонный воздух, будто управлялись посредством невидимых нитей затаившимся под землей ужасом, корчащимся и борющимся непонятно с чем где-то под черными корнями.
На несколько секунд все затаили дыхание. Затем плотное облако полностью закрыло луну, и силуэты ветвей на какое-то время стали не видны в опустившейся тьме. А затем у всех одновременно вырвался крик; приглушенный страхом, хриплый и почти в точности одинаковый изо всех глоток. Ибо ужасное зрелище не исчезло от того, что силуэты перестали быть различимыми; во внушающей страх глубокой тьме наблюдавшие узрели, как на высоте верхушек деревьев корчатся цепочки тысяч светящихся неярко точек, облепивших каждую ветку наподобие огней святого Эльма или сияния, сошедшего на головы апостолов в день Пятидесятницы. Чудовищное созвездие, похожее на кишащий рой питающихся падалью светлячков, танцующих адскую сарабанду над проклятым болотом, было того самого дьявольского цвета, который Эмми уже хорошо узнавал и боялся. При этом сияние из колодца становилось все ярче и ярче, все сильнее убеждая сбившихся в тесную кучу семерых мужчин в роковом значении происходящего и его ненормальности, превосходящей все, что мог вообразить их рассудок. Теперь это было уже не сияние, а излияние: бесформенный поток невыразимого цвета вырвался из колодца и вытекал в небо.
Ветеринара била дрожь; он двинулся к входной двери и укрепил ее поперечным брусом. Эмми дрожал не меньше, и ему пришлось из-за отсутствия голоса одергивать людей и указывать рукой, чтобы привлечь их внимание к тому, что деревья стали светить ярче. Ржание лошадей и беспокойные удары копытами стали уже совершенно ужасными, но сейчас никто не посмел бы выйти из дома ни за какую награду. За несколько мгновений яркость свечения на деревьях возросла многократно, а беспокойные ветви приняли почти вертикальное положение. Дерево колодезного журавля тоже засветилось, и один из полицейских кивком указал на деревянные сарайчики и ульи рядом с каменной стеной на западной стороне — они тоже уже начали светиться, тогда как дерево транспортных средств, на которых приехали посетители, оставалось темным. Затем по дороге пронесся отчаянный грохот, и когда Эмми пригасил лампу, чтобы удобнее было наблюдать, все увидели, что обезумевшие лошади сломали чахлое деревце и умчались прочь вместе с открытым экипажем.
Внезапное происшествие ослабило напряжение среди находящихся в доме, и они стали переговариваться шепотом.
— Это распространяется на все природного происхождения, что пробыло здесь заметное время, — пробормотал медицинский эксперт.
Ему никто не ответил, но полицейский, спускавшийся в колодец, высказал предположение, что его багор, очевидно, потревожил чего-то, что вовсе не надо было трогать.
— Там было ужасно, — признался он. — Никакого дна. Только ил и пузыри — и чувство, будто внизу кто-то прячется.
Лошадь Эмми, все еще издающая отчаянное ржание и бьющая копытами возле дороги, почти заглушала голос своего владельца, бормочущего почти бессвязные рассуждения:
— Оно появилось из того камня… выросло там, внизу… оно поглощает все живое… оно питалось ими, и их телом, и их разумом… Мервин, Тед, Зенас и Небби… Нейхем был последним… они все пили эту воду… оно стало сильным за счет них… это прибыло из иного мира, где все совсем не так, как здесь… и сейчас оно собирается отправиться домой…
В этот момент колонна удивительного цвета ярко запылала и стала принимать фантастические очертания, которые впоследствии каждый из наблюдавших описывал по-разному, и тут же привязанная Геро издала такой дикий крик, какого никогда еще не доводилось слышать от лошади. Все в гостиной зажали уши, а Эмми в страхе и ужасе отпрянул от окна. Словами не передать его горя, когда он, посмотрев снова в окно, увидел, что несчастное животное лежит бесформенной грудой на залитой лунным светом земле между оглоблями коляски. На следующий день они похоронили Геро, но прямо сейчас у ее хозяина не было времени горевать — один из полицейских жестом привлек их внимание к нечто ужасному, происходившему в самой их комнате. При отсутствии света лампы стало заметно, что слабое свечение проникает в их помещение. Оно разливалось по широким доскам пола и местами проступало на лоскутном ковре, мерцало на перекладинах окон из множества мелких застекленных секций. Оно бежало по выступающим угловым опорным брусьям, вспыхивало на буфетных полках и над камином и уже затронуло двери и мебель. С каждой минутой это усиливалось, и вскоре каждому из них стало очевидно, что если они хотят жить, то нужно немедленно убираться отсюда.
Эмми вывел всех через черный ход и провел через поля к десятиакровому пастбищу. Все брели словно во сне, то и дело спотыкаясь и не решаясь оглядываться, пока не поднялись по склону. Но они были рады, что есть хотя бы такой путь, ибо не решились бы воспользоваться главным выходом, ведущим в сторону колодца. Им и без того довелось натерпеться страху, когда они проходили мимо ярко светящихся сараев и почти пылающих деревьев с искаженными очертаниями; но, слава Богу, самое ужасное, что в них было, — это задранные вверх ветви. Когда они пересекали по примитивному мостику Коробейниковский ручей, луну закрыло густое облако, и далее до открытого места им пришлось добираться почти на ощупь.
Когда они решились оглянуться и посмотреть на долину и далекую уже ферму Гарднера, их взору предстала ужасающая картина. Вся ферма сияла мерзким невыразимым цветом — деревья, постройки и островки еще не посеревшей травы. Ветви деревьев по-прежнему были задраны вверх, от них поднимались языки пламени того же невыразимого цвета; и такое же пламя лизало крыши дома, сарая и мелких сарайчиков. Это была сцена, похожая на видения Фюссли: возле фермы все находилось во власти аморфного свечения, посреди которого из колодца исходила чуждая и безмерная радуга загадочного и ядовитого свечения — неторопливо бурлящая, расширяющаяся, вытягивающаяся в длину, уплотняющаяся, набухающая, разбрасывающая во тьму блики всех оттенков своей космической невообразимой цветовой гаммы.
Затем внезапно эта отвратительная штука метнулась вертикально в небо, как ракета или метеор, и скрылась, не оставив и следа, помимо круглой дыры в облаках, прежде, чем кто-либо из наблюдавших людей успел задержать дыхание или вскрикнуть. Никто из тех, кто это видел, никогда не сможет забыть такое зрелище, и Эмми продолжал тупо пялиться на созвездие Лебедя, на Денеб, светящий ярче других звезд, в районе которого неведомый на Земле цвет растворился в свечении Млечного Пути. Донесшийся из долины оглушительный треск заставил его опустить взгляд. Именно что треск. Это был хруст и треск раскалывающейся древесины, а вовсе не взрыв, как потом клялись другие участники их группы. Но последствия от него были такие же, ибо проклятую и обреченную ферму разметало лихорадочным калейдоскопом, над ней забурлил искрящийся дымовой гейзер, из сердца которого вырвался и ударил в зенит ливень обломков таких фантастических цветов и удивительных форм, каких не признаёт наша вселенная. Сквозь быстро затягивавшуюся дыру в облаках они устремились вслед за тем, что уже скрылось из вида, и через мгновение тоже исчезли.
Теперь в покинутой ими низине осталась лишь тьма, в которую они не осмеливались возвращаться, а сверху уже налетал ураган резкими ледяными порывами из межзвездного пространства. Он завывал и свистел, хлестал по полям, перекашивал деревья в лесах, и довольно скоро перепуганные, дрожащие люди на склоне холма решили, что, пожалуй, не стоит дожидаться, пока появится луна и высветит, что же осталось от фермы Гарднеров.
Слишком напуганные, чтобы обсуждать свои догадки, семеро дрожащих мужчин поплелись в Аркхем по северной дороге. Эмми, чувствовавший себя хуже всех, попросил своих спутников сначала довести до дома его, а уж потом идти дальше в город. Он боялся в одиночку пробираться через потрепанный ураганом лес к своему дому, расположенному возле главной дороги. Ему в этот день выпало больше испытаний, чем всем прочим, и к тому же он был подавлен нависшим над ним навсегда страхом, о котором затем долгие годы не осмеливался даже упоминать. Дело в том, что пока остальные смотрели вперед на дорогу, Эмми обернулся и окинул взглядом опаленную пустошь и ставшую темной долину, где обитал до недавнего времени его невезучий друг. И в этот момент что-то взлетело вверх от выжженного пятна, поднялось невысоко, а затем снова упало — в точности на то место, откуда взлетал на небо бесформенный ужас. Это было просто пятно цвета — но цвета, какого не бывает ни на Земле, ни на небесах. Эмми узнал этот цвет и понял, что какой-то остаток еще скрывается на дне колодца, а значит, ему теперь никогда не обрести покоя.
Эмми больше ни разу не приблизился к тому месту. Ныне прошло сорок четыре года, об ужасе давно позабыли, но он ни разу не был там и рад, что скоро оно окажется на дне водохранилища. Я тоже рад этому, ибо мне не понравилось, как причудливо искажались блики солнечного света над заброшенным колодцем, когда я проходил мимо. Надеюсь, что вода в этом месте всегда будет глубокая, но даже если будет так, я не стану ее пить. Впрочем, вряд ли мне когда-нибудь доведется побывать в Аркхеме снова.
Трое из тех, кто был с Эмми, утром вновь приехали на ферму, чтобы осмотреть руины при дневном свете, но никаких руин не оказалось. Только остатки кирпичной кладки от печной трубы и входа в погреб, каменные и металлические обломки да бордюр устрашающего колодца. Все живое или бывшее когда-то живым — за исключением мертвой лошади Эмми, которую они оттащили в ближайший овраг и там закопали, да его же коляски, доставленной в тот же день владельцу, — бесследно исчезло. Жизнь навсегда покинула эти пять акров земли, там по-прежнему ничего не растет. По сей день сохраняется это словно бы проеденное кислотою пятно, а те немногие, кто отваживаются добраться до него, чтобы поглазеть, прозвали его «опаленной пустошью».
Сельские жители рассказывают об этом месте удивительные истории. Горожане рассказывали бы еще более удивительные, если бы университетские химики попытались сделать анализ воды из того заброшенного колодца или серой пыли, которую, судя по всему, не развеивает ветер. Или ботаники занялись бы изучением чахлой растительности по краям пятна, а заодно подтвердили бы или опровергли слух, будто пустошь расширяется — очень медленно, примерно на дюйм за год. Говорят, что весной цвет травянистых растений в районе пустоши не совсем обычный, а зимой дикие звери оставляют на снегу странные следы. И похоже, что на пустоши снега обычно горазде меньше, чем в округе. Лошади, те немногие, что еще сохранились в наш автомобильный век, становятся своенравными в этой тихой долине, и охотники вблизи пятна серой пыли не могут полагаться на своих собак.
Также говорят, что это место оказывает плохое влияние на психику; немало местных жителей сошли с ума вслед за Гарднерами, и у всех них не хватало воли, для того чтобы уехать отсюда. Постепенно люди с более крепким разумом покинули эти края, и лишь иностранные эмигранты пытаются время от времени селиться в старых полуразрушенных особняках. Но никто из них не смог здесь остаться; и на первый взгляд кажется, что на них сильно влияют рассказываемые шепотом страшные истории об этих местах, с их мрачными чарами. Однако они уверяют, что по ночам в сей гротесковой местности им снятся очень необычные кошмары, и такое не удивительно в этом царстве вечного полумрака, склонном пробуждать в человеке самые нездоровые фантазии. У путешественников при виде местных глубоких лощин возникает ощущение присутствия чего-то чужеродного, а художники, рисующие с натуры темные леса со старыми деревьями, то и дело вздрагивают от страха. Я и сам из любопытства совершил прогулку по этой местности, и мне хватило впечатлений еще до встречи с Эмми. Как я уже рассказывал, мне не хотелось ходить там после наступления сумерек при зловещем сиянии звезд, вселявшем в мою душу страх.
Не спрашивайте, какого я сам обо всем этом мнения. Я не знаю — вот все, что я могу сказать. Эмми был единственным, с кем мне удалось об этом поговорить — из жителей Аркхема не вытянуть и слова, а все три профессора, видевшие метеорит и ту цветную глобулу, давно умерли. Можно не сомневаться, что в камне были и другие глобулы. Одной из них удалось набраться сил и улететь; вполне возможно, что какая-то другая менее преуспела. Тогда, без сомнения, она все еще скрывается в колодце — ведь я помню, что чего-то было не так с солнечным светом, когда я видел его проходящим через зловонные испарения над ним. Раз в народе говорят, что пустошь с каждым годом увеличивается на дюйм, значит, засевшая в колодце тварь питается и увеличивает свои силы. Но какой бы там ни был вылупившийся птенец дьявола, видимо, что-то удерживает его на этом месте, иначе пустошь давно расширилась бы. Может, он крепко засел в корнях тех деревьев, что тянулись ветвями к небу? Но ведь неспроста одна из недавних аркхемских небылиц — про дубы, которые по ночам светятся и шевелят ветвями…
Что это такое — ведает лишь Господь. Следовало бы предположить, что описанная Эмми тварь состоит из газа, но газа, не подчиняющегося физическим законам нашей Вселенной. Он не может происходить ни с какой из тех планет и звезд, что видны нам в окулярах телескопов или запечатлеваются в обсерваториях на фотопластинках. Он прибыл из мира, который наши астрономы не могут познать или измерить. Это был просто цвет иного мира — вселяющий ужас вестник из некой аморфной реальности, бесконечно далекой от той природы, которую мы знаем; из реальности, даже просто факт существования которой ошеломляет наш разум и вызывает оцепенение от видения черных внекосмических бездн, оказывающихся вдруг перед нашими обезумевшими глазами.
Глубоко сомневаюсь, что Эмми лгал мне, желая ввести в заблуждение, и не думаю также, что его рассказ — выдумка душевнобольного, как пытались убедить меня в Аркхеме. Что-то ужасное попало на эти холмы и долины с этим метеоритом, и что-то ужасное — хотя и не знаю, каково оно в сравнении с первоначальным, — все еще остается. Не только люди, но и долины и холмы пережили настоящую катастрофу и до сих пор не оправились от нее. Я рад, что это место окажется затопленным. И при этом надеюсь, что ничего не случится с Эмми. Он видел ту штуку не раз — а влияние ее сказывается коварно. Почему он не смог переехать? И ведь он хорошо запомнил последние слова умирающего Нейхема: «Не могу уезжать далеко… тянет назад… это так: знаешь, что будет хуже, но поделать ничего не можешь…» Эмми — славный старик, и когда здесь начнутся строительные работы, надо непременно написать главному инженеру, чтобы не спускал с него глаз. Не хочу, чтобы он превратился в серое сгорбленное чудовище с ломкими костями, все чаще тревожащее мой сон.
ОБИТАЮЩИЙ ВО МРАКЕ
Посвящается Роберту Блоху
Я видел бездны темной вселенной,
Обиталища мрачных жестоких планет,
В своем безнадежном круженьи бесцельном
Навеки забывших и слово, и свет.
«Немезида»Осторожный следователь едва ли станет оспаривать всеобщее убеждение в том, что Роберт Блейк был сражен молнией или же нервным шоком, последовавшим после электрического удара. Верно, что окно, перед которым он находился, оказалось неповрежденным, но природа и прежде обнаруживала способность к различным трюкам. Выражение на лице покойного можно приписать случайному сокращению мышц, абсолютно не связанному с тем, что предстало его оку, а записки в дневнике можно считать порожденными разыгравшимся воображением человека, интересующегося всякими древностями и поддавшегося некоторым суевериям. Что касается странных событий в заброшенной церкви на Федерал-хилл, проницательный ум, не колеблясь, объяснит их каким-либо шарлатанством, с которым в сознательной или бессознательной форме связан был Блейк.
В конце концов, он был писатель и живописец, отдавший свое творчество мифам, снам, ужасам и предрассудкам, непрестанно изобретавший призрачные и нечистые сцены. Прежнее его пребывание в городе, когда он посетил странного старца, не менее его самого преданного оккультным и запретным познаниям, закончилось смертью и пламенем; должно быть, какой-то отвратительный инстинкт вновь выгнал его из собственного дома в Милуоки. Он не мог не знать о старинных легендах, несмотря на то, что дневник утверждает обратное, и смерть его, скорее всего, в самом зачатке пресекла какой-то грандиозный обман, что должен был обрести литературное воплощение.
Впрочем, среди тех, кто расследовал это дело и знакомился со всеми обстоятельствами, несколько человек все еще остались приверженцами менее рациональной и обыденной теории. Они склонны верить дневнику Блейка и с многозначительностью указывают на некоторые факты: несомненную подлинность документов из старого храма, неопровержимое существование до 1877 года противоестественной и исполненной скверны секты «Звездная мудрость»… Наконец, любознательный репортер Эдвин М. Лиллибридж действительно пропал без вести в 1893-м… И тем более нельзя сомневаться в маске ужаса на лице почившего… жуткой, исказившей все человеческое. Наверное, один из последователей этой секты, движимый фанатизмом, послужил причиной тому, что загадочный угловатый камень и черная шкатулка, украшенная непонятным узором, обнаружились внутри мрачного, не имеющего окон шпиля над храмом, — не в башне, где, если верить дневнику, Блейк отыскал ее. По официальным и неофициальным сведениям, человек этот, уважаемый врач, испытывающий склонность к мистическим преданиям, уверял, что избавил мир от визитов твари, слишком опасной и оскверняющей поверхность планеты.
Пусть читатель выбирает теперь, какая точка зрения более устраивает его самого. Газеты, допуская двойственное толкование, излагали события с известным скептицизмом, предоставляя читателю самому рисовать себе картину — какой видел ее Роберт Блейк, или какой она казалась ему, или какой он хотел, чтобы ее представляли другие. И теперь, обратившись к дневнику на досуге, можно тщательно и бесстрастно попытаться восстановить мрачную цепь событий в последовательности, запечатленной главным героем.
Блейк возвратился в Провиденс зимой 1934/1935 года и занял вполне пристойное обиталище на Колледж-стрит на верхнем этаже над травянистой лужайкой возле верхушки восточного склона большого холма, неподалеку от общежития университета Брауна, позади мраморного здания библиотеки Джека Хея. Уютное и обворожительное местечко, крохотный садик старинных времен, где огромные дружелюбные кошки принимали солнечные ванны на теплой крыше сарая. Квадратный дом времен четырех Георгов имел кровлю с водостоками, дверь с накладной резьбой, окошки из мелких стекол — словом, все признаки начала девятнадцатого века. Внутри двери состояли из шести панелей, широкие половицы, изгибающаяся лестница колониальных времен, белые каминные доски времен праотца Адама, задние комнаты лежали на три ступени ниже передних.
Большой кабинет Блейка в юго-восточной части дома с одной стороны окнами выходил на садик перед домом, из западных же окон его — перед одним из которых и стоял стол Блейка — открывался великолепный вид с вершины холма на городские крыши внизу и на таинственные закаты, каждый день пламеневшие над ними. На горизонте пурпуром отсвечивали далекие склоны холмов за городом. На фоне их — милях в двух — призраком высилась глыба Федерал-хилл, ощетинившаяся крышами и шпилями, далекие очертания их подрагивали и принимали фантастические формы, затуманенные городскими дымами, поднимавшимися снизу. Блейк испытывал любопытное ощущение: ему казалось, что он глядит на неведомый эфирный мир, который может даже исчезнуть, если он попытается разыскать таинственные края и вступить в них собственной персоной.
Выписав из дома большую часть собственных книг, Блейк приобрел старинную мебель, подходящую для этого дома, и принялся рисовать и писать… Жил он в одиночку и со всей несложной домашней работой справлялся сам. Студия его располагалась в северном мезонине, где панели застекленной крыши создавали просто великолепный свет. За ту первую зиму он написал пять рассказов, относящихся к числу его лучших вещей: «Зарывший вглубь», «Лестница на крышу», «Магия», «В долине Аната» и «Обжора со звезд», написал семь полотен — все безымянные чудища, не имеющие ничего общего с человеком, и неземные ландшафты, глубоко чуждые нам.
На закате он частенько сиживал за столом, мечтательно поглядывая на простертый перед ним запад — темные башни Мемориального зала, внизу — колокольни здания суда, стройные башенки домов нижнего города, за всеми ними — мерцающий дальний, увенчанный шпилями холм, неведомые улочки и лабиринт остроконечных крыш, что так искушал его воображение. От кого-то из своих немногих новых знакомых в этих краях он узнал, что дальний склон занимает обширный итальянский квартал, хотя дома там по большей части остались от прежних хозяев — ирландцев и янки. Он то и дело поднимал свой полевой бинокль к призрачному, недостижимому миру за клубящейся завесой дыма, приглядывался к отдельным крышам, башенкам и шпилям, размышлял о загадках и тайнах, наверняка гнездящихся и под ними. Даже с помощью оптики Федерал-хилл казался Блейку далеким, едва ли не сказочным, связанным с ирреальными и бесплотными чудесами из его собственных картин или рассказов. Чувство это долго не оставляло его, даже когда холм растворялся в фиолетовых сумерках, усеянных звездами, фонарями при луне — ярким освещением здания суда, и под кровавым оком — красным маяком Индустриального треста, придававшим ночи таинственность.
Из всех зданий на Федерал-хилл наиболее привлекала к себе внимание Блейка некая темная церковь. Она с особой четкостью выступала в определенные часы дня, а на закате гигантская черная башня, увенчанная крутым шпилем, просто вонзалась в пылающее небо. Наверно, она была возведена на высоком месте, потому что и мрачный фасад, и видная сбоку часть северной стороны под крутой крышей, и заостренные верха огромных окон — все высилось над окружающими крышами и горшками на печных трубах. По-особому суровая и строгая, она казалась вырубленной из камня, целое столетие продымленного городом и исхлестанного бурями. Стиль — насколько можно было судить через бинокль — отвечал раннему экспериментальному варианту неоготики, что предшествовала статным сооружениям Апджона и восприняла некоторые контуры и пропорции георгианского стиля. Скорее всего, возведена она была между 1810 и 1815 годами.
Месяцы шли, и Блейк разглядывал дальний запретный мираж со странно разгорающимся интересом. В огромных окнах ни разу не мелькнул свет, значит, храм пустовал. И чем дольше смотрел Блейк, тем сильнее разгуливалось его воображение, и наконец в голову полезли вовсе странные вещи. Ему уже казалось, что здание окружает неясная, особая аура забвения, ибо даже голуби и ласточки не приближались к его серым камням. Вокруг всех прочих башен и колоколен вились целые стаи птиц, но сюда они даже не опускались. По крайней мере, так ему показалось, и он даже занес это наблюдение в дневник. Он указал место друзьям, но никто из них не бывал на Федерал-хилл или же не имел никакого представления об этой церкви.
Весной Блейка охватило глубокое беспокойство. Он приступил было к давно запланированному роману о ведьмах, в наши дни поклоняющихся дьяволу в Майне, — но странным образом не имел сил продолжать его. Он все дольше просиживал возле обращенного на запад окна и глядел на зеленый холм и хмурый шпиль, близ которого избегали летать птицы. Когда в саду на ветвях появились нежные листочки, мир исполнился новой красоты, но Блейк только сделался еще беспокойнее. Именно тогда и овладело им желание не в воображении, но в реальности пересечь полгорода и подняться в затканный дымом мир мечты.
В конце апреля, как раз перед вековечной Вальпургиевой ночью, Блейк предпринял первую вылазку в неизвестное. По бесконечным ведущим вниз улицам, унылым площадям с облупившимися домами он наконец добрался до идущей в гору улицы со столетними истертыми тротуарами, покосившимися дорическими портиками и облезшими куполами, которая — он ощутил это — приведет его вверх к давно знакомому, но недостижимому миру за туманами. На улицах видны были грязные бело-голубые таблички, ничего не говорившие ему… Он стал замечать странные смуглые физиономии среди толпы, появились иностранные вывески над любопытными магазинчиками в бурых от времени домах. Но того, что он приметил издалека, не было видно нигде, так что он еще раз подумал, что Федерал-хилл его видений есть страна умозрительная, в которую человеку ногой не дано ступить.
То и дело ему попадался ветхий церковный фасад или облезлый от старости шпиль, но черной башни не было видно. Он спросил у хозяина магазина, нет ли где-нибудь рядом огромной каменной церкви. Тот покачал головой, хотя до того непринужденно говорил по-английски. Блейк поднимался в гору, и город вокруг делался все более странным, и возмутительно много задумчивых побуревших улочек уходило не туда — к югу. Блейк пересек две или три широкие улицы и наконец как будто бы мельком заметил свою башню. Он задал тот же вопрос еще одному торговцу и на сей раз испытал явную уверенность, что незнание было поддельным. На лице смуглокожего мужчины проступил страх, который он попытался скрыть: Блейк заметил, что правой рукой он сделал какой-то таинственный знак.
И тут черный шпиль словно сам впился в небо по левую руку, над коричневыми крышами перепутанных переулков. Блейк мгновенно узнал его и заторопился по грязным немощеным улочкам, уходившим вверх. Дважды он сбивался с пути, но почему-то не смел расспрашивать старожилов или хозяек, сидевших у порога… даже детей, что с криками играли в грязи на сумеречных улочках.
Наконец он вновь увидел башню на юго-западе. Огромный каменный блок темнел в конце улицы. Блейк стоял на продуваемой всеми ветрами мощеной площадке, заканчивавшейся в дальнем конце высокой подпорной стеной. Пришел конец его поискам: на широкой заросшей площадке над этой стеной, за железной оградой, в шести футах над близлежащими улицами самостоятельным малым мирком высился титанический мрачный храм. В том, что это был именно он, Блейк не сомневался, хоть и видел его в другом ракурсе.
Заброшенный храм находился в состоянии крайнего запустения, иные из высоких каменных контрфорсов упали, а несколько остроконечных наверший тонкой работы уже терялись в высоком прошлогоднем бурьяне. Пыльные стекла окон в основном уцелели, впрочем, многих каменных столбиков уже недоставало. Блейк не мог не удивиться долгой жизни потускневших цветных стекол, помня об известных наклонностях мальчишек всего света. Массивные двери были плотно закрыты, по верху подпорной стены шла ржавая железная ограда. Ворота над ступеньками, поднимавшимися от площади, явно были заперты на замок. Дорожка, протянувшаяся к зданию от ворот, заросла почти сплошь. Все кругом окутывала атмосфера запустения и упадка. И при взгляде на черные, не заросшие плющом стены и под край крыши, где не было птичьих гнезд, Блейку почудилось нечто неведомое и ужасное.
Народу на площади было не много. Заметив полисмена у северной ее оконечности, Блейк приступил к нему с вопросами относительно церкви. Огромный добродушный ирландец, как это ни странно, только перекрестился и пробормотал, что здесь люди об этом не говорят. Блейк продолжал настаивать, и полисмен торопливо добавил, что итальянский священник предупреждал всех, чтобы к двери ее не подходили, что некогда там обитало чудовищное зло, оставившее неизгладимый след. Сам же он слыхал от отца только мрачные слухи, а тот помнил кое-что зловещее еще с детства.
В прежние дни здесь таилась скверная секта — из тех, что призывали жутких гостей из неведомых пропастей мрака. Добрый священник потрудился, чтобы изгнать нечисть, — правда, иные тогда утверждали, что для этого хватило бы и просто солнечного света. Если бы отец О’Молли дожил до сегодняшнего дня, ему было бы что рассказать обо всем этом. Но теперь больше ничего не сделаешь, нужно только оставить это в покое. Теперь оно не причиняет зла, а те, кому это принадлежало, давно умерли и разъехались из этих мест. Когда в городе поднялся ропот — в 77-м, когда в окрестностях начали пропадать люди, — сектанты разбежались во все стороны, словно крысы. Когда-нибудь городским властям за неимением наследников неминуемо придется вмешаться и принять собственность, но сейчас не будет добра, если кто-нибудь решит полезть туда. Пусть стоит, пусть рушится, только чтобы из его черной бездны опять не вылезло нечто.
Полисмен отошел, а Блейк все продолжал глядеть на мрачную, увенчанную шпилем башню. Его развлекло, что другим башня кажется не менее мрачной, чем ему самому, он даже задумался о тех зернах истины, что могли скрываться в старых баснях, которые пересказал фараон. Быть может, это всего лишь легенды, пробужденные недобрым видом этого места, но если это так… он словно странным образом угодил в одну из собственных историй.
Полуденное солнце выскользнуло из-за редеющих облаков, но и ему было не под силу осветить покрытые сажей и проступающими пятнами стены старинного храма, что башней высился на вершине холма. Странно было и то, что веселая весенняя зелень еще не успела оживить побуревшие, пожухлые растения за железной оградой. И Блейк вдруг обнаружил, что внимательно изучает подпорную стену и ржавый забор в поисках возможного пути. Почерневшее святилище влекло его с воистину неодолимой силой. Возле лестницы прохода в заборе не оказалось, однако поодаль нашлось несколько выпавших прутьев. Можно было подняться наверх и по узкому карнизу снаружи забора добраться до лазейки. Если люди так боятся этого места, вмешиваться они не станут.
Оказавшись на самом верху, он почти добрался до цели, прежде чем его заметили. Обернувшись назад, он мельком увидел, как поспешно повернулись спиной к нему двое прохожих, торопливо делая правой рукой тот же самый жест, что и владелец магазина. Захлопали окна, какая-то толстуха уже загоняла стайку малышей в некрашеный покосившийся домишко. Пробраться в лазейку оказалось делом несложным, и скоро Блейк уже шагал по заброшенному двору, раздвигая перепутавшийся бурьян. Изглоданные временем надгробия вокруг говорили о том, что некогда здесь хоронили, только, наверное, давно. Здесь, вблизи, храм подавлял одной только огромностью, но, справившись с настроением, Блейк решил попробовать, нельзя ли открыть входные двери. Они были накрепко заперты, и он пошел в обход циклопического сооружения, разыскивая отверстие поменьше, чтобы войти. Он вовсе не был уверен, что собирается вступать в обитель тени и запустения, но притяжение не отпускало его.
Зияющее, ничем не прикрытое окошко погреба и представило ему искомый шанс. Заглянув внутрь, Блейк увидел лишь пыль да паутину, смутно проступавшие в лучах клонящегося к западу солнца. Ржавые останки воздухогрейки свидетельствовали, что сооружением этим пользовались и поддерживали в должном состоянии еще во время правления королевы Виктории.
Не отдавая себе отчета в своих действиях, Блейк втиснулся в окошко и опустился на покрытый густым слоем пыли и мусора бетонный пол. Сводчатый погреб оказался обширным и без перегородок; в правом углу его посреди густых теней Блейк заметил черную арку, очевидно, открывающую ему путь наверх. И тут с сильнейшим смятением он осознал, что находится уже внутри призрачного сооружения. Но, справившись с собой, отыскал поблизости целый бочонок и подкатил к окошку, чтобы облегчить себе обратный путь. Задыхаясь от вездесущей пыли, покрытый призрачными липкими нитями, он шагнул на истертые каменные ступеньки, уходящие во тьму — наверх. Света не было, и он осторожно шагал, выставив вперед руки. За резким поворотом оказалась запертая дверь, он быстро нашарил задвижку. Дверь открылась вовнутрь, за нею оказался неярко освещенный коридор, облицованный деревянными, источенными древоточцем панелями.
Оказавшись наверху, на уровне пола, Блейк принялся торопливо обследовать сооружение. Все внутренние двери были не заперты, и он свободно мог переходить из помещения в помещение. Колоссальный неф казался обиталищем духов; ощущение усиливали пыльные заносы, целые холмы пыли над скамьями, алтарем, кафедрой, под титаническими паутинными канатами, протянутыми между стрельчатых окон галереи и окутывавшими готические колонны. И над всем этим молчаливым запустением лежал тяжкий свинцовый свет заходящего солнца, преображенный почерневшими стеклами высоких окон.
Рисунки на стенах были настолько затемнены, что Блейк едва мог понять сюжеты, но и то немногое, что ему удалось угадать, совершенно ему не понравилось. Ничего необычного — просто знание тайных символов смогло много рассказать ему об иных древних композициях. Некоторые святые были изображены с достойным любой критики выражением явной скуки на лицах, а одно из окон оказалось попросту темным, и по его черному полю разбросаны были странные светящиеся спирали. Отвернувшись от окон, Блейк отметил, что покрытый паутиной крест над алтарем выглядел очень любопытно: он скорее напоминал анкх, crus ansata таинственного Египта. В задней ризнице возле апсиды Блейк обнаружил подгнивший стол и высокие, до потолка, полки с покрытыми плесенью разрушающимися книгами. И тут он впервые испытал прикосновение неподдельного ужаса — так много говорили заглавия этих книг. Это были черные фолианты, о которых нормальный человек не слыхивал ничего, кроме разве что смутных неопределенных слухов; запретные страшные вместилища двусмысленных тайн и незапамятной древности формул, выпавших из потока времен во дни юности рода людского и еще прежде этого. Сам Блейк прочитал не одну из них: и отвратительный «Некрономикон» в латинском переводе, и мрачную «Liber Ivonis», и печальной славы «Cultes de ghules»[49] графа Д’Эрлетта, «Unaussprechlichen Kulten»[50] фон Юнцта и адские «De Vermis Muste-riis»[51] старика Людвига Принна. Но попадались там и иные труды — он либо знал их мерзкую репутацию, либо не знал их вовсе. Пнакотические рукописи и «Книга Дзен» — полураспавшийся том с уже неразличимыми знаками. Впрочем, отдельные символы и диаграммы вселяли привычную жуть в знатока оккультных наук. Местные слухи не обманывали. В этом месте гнездилось зло, куда более древнее, чем человечество, обнимавшее не одну эту вселенную. На покосившемся столе осталась небольшая переплетенная в кожу книжонка с записями, выполненными странным шифром. Сей манускрипт был написан знаками, в наши времена использовавшимися в астрономии, а в прежние — в алхимии, астрологии и прочих сомнительных науках, — знаками Солнца, Луны, планет, аспектов и зодиакальными символами. Целые страницы, испещренные ими, разделы и параграфы явно предполагали, что каждый символ имеет собственное место в таинственном алфавите.
Надеясь на досуге прочесть криптограмму, Блейк прихватил книжечку со стола и опустил в карман пальто. Кое-какие из внушительных томов невероятно искушали его, и он уже решил позаимствовать их отсюда… попозже. Трудно понять, почему столь долгое время они оставались без внимания. Неужели он первым сумел прорвать оболочку липкого настырного страха, что оберегал это место от незваных гостей шестьдесят лет?
Тщательно обследовав первый этаж, Блейк прошел по пыльному полу едва освещенного нефа к переднему вестибюлю, где он успел прежде заметить дверь и лестницу, похоже, уводившую вверх — к черной башне и шпилю над ней, что так долго манили его к себе. Подниматься оказалось весьма неприятно: пауки основательно потрудились в узком проходе, и без того покрытом пылью. Лестница была винтовой, с узкими высокими ступенями, и время от времени перед Блейком открывалось окошко, с головокружительной высоты глядящее вниз на город. Хотя он не видел внизу канатов, но рассчитывал найти не один колокол в башне, окна которой — узкие щели — так часто изучал его полевой бинокль. Но тут его поджидало разочарование: добравшись до самого верха, он обнаружил, что помещение под крышей свободно от колоколов и приспособлено для иных целей.
Небольшой квадратный зал со стороной около пятнадцати футов неярко освещен четырьмя узкими окнами — по одному на каждой стороне, — застекленными между лувровыми досками; позади них оказались непрозрачные экраны, теперь по большей части уже сгнившие. Посреди покрытого пылью пола подымался странным образом граненый каменный столп фута четыре в высоту и около двух в поперечнике — со всех сторон он был покрыт различными грубо врезанными и абсолютно непонятными иероглифами. На столпе этом покоилась металлическая шкатулка какой-то асимметрической формы. Крышка ее была открыта на петлях, а внутри под полувековым слоем пыли лежало нечто похожее на яйцо или окатанную гальку — примерно четыре дюйма в размере. Столп неровным кружком окружали семь готических кресел с высокими спинками. А за ними у обшитых темным деревом стен расставлены были семь облупившихся огромных скульптур из раскрашенного темной краской гипса, более всего напоминавших загадочные мегалиты таинственного острова Пасхи. В одном из углов занавешенной паутиной палаты высилась лестница, уходящая к вделанной в потолок дверце, которая вела в лишенный окон шпиль.
Как только глаза Блейка привыкли к полумраку, он тотчас заметил странные барельефы на загадочной шкатулке из желтого металла с откинутой крышкой. Приблизившись к ней, он попытался смахнуть пыль руками и платком… — изображенные на ней чудовищные существа казались живыми, но в них не было ничего человеческого, ничего общего с тварями, порожденными нашей планетой. Четырехдюймовый округлый объект оказался почти черным, с красными прожилками многогранником, образованным неправильными плоскостями, — это был или весьма необычный природный кристалл, или он был отполирован и огранен человеком. Он не прикасался к днищу шкатулки, а покоился на металлической ленте, у центра опиравшейся на семь странных ножек и протянувшейся от поверхности шкатулки ко всем ее углам. Сам же камень, оказавшись на ладони Блейка, произвел на него жуткое впечатление, странным образом схожее с восхищением. Он и не мог оторвать глаз от камня, и, глядя на его сверкающие поверхности, начал уже представлять за ними призрачные, начинающие образовываться чудесные миры. Разуму его представлялись шары чуждых планет с огромными каменными башнями… другие миры с титаническими сооружениями, но без признака жизни, и еще более отдаленные пространства, где лишь движение черноты выдавало присутствие разума и воли.
Поглядев в сторону, он заметил некую горку пыли в углу возле лестницы в шпиль. Вздымая пыль и раздвигая перед собой паутину, Блейк подошел к ней, уже на ходу заподозрив нечто мрачное в ее облике. Но рука и платок скоро выдали истину — Блейк охнул, не сдерживая сложной смеси нахлынувших чувств. Перед ним лежал скелет человека, и пребывал он здесь уже давно. Одежда истлела, но пуговицы и обрывки ткани говорили, что костюм прежде был серым. Уцелели и другие свидетельства — туфли, крупные пуговицы на манжетах, булавка прежних времен, значок репортера с названием старинной «Провиденс Телеграмм» и записная книжка в крошащемся кожаном переплете. Последнюю Блейк обследовал с повышенным тщанием и обнаружил несколько вышедших из употребления банкнот, целлулоидный календарик на 1893 год с объявлениями, несколько карточек с именем Эдвин М. Лиллибридж и листок бумаги с карандашными заметками.
В этой бумажке оказалось много загадочного, и Блейк внимательно прочитал ее в неярком свете западного окна. В несвязном тексте ее оказались фразы следующего содержания:
…Профессор Енох Боуэн, прибыв из Египта в мае 1744-го, приобретает старую церковь Свободной Воли в июле… известны его работы и интерес к оккультным знаниям. Доктор Драун из Четвертой Баптистской предостерегал против Звездной мудрости в проповеди от 29 дек. 1844 г.
Конгрегация 97 к концу 45.
1846–3 исчезновения — первое упоминание о Сверкающем Трапециоэдре.
7 исчезновений 1853 г. — начались слухи о кровавых жертвоприношениях.
Расследование 1853 года окончилось ничем — истории о каких-то звуках.
Отец О’Молли рассказывал о поклонении дьяволу при помощи шкатулки из руин Древнего Египта; говорил, что она вызывает нечто такое, что не может существовать на свету. От слабого света бежит, от сильного исчезает. Потом приходится призывать заново. Должно быть, узнал у смертного одра Фрэнсиса Кс. Финея, вступившего в «Звездную мудрость» в 1849 году. Эти люди утверждают, что Сверкающий Трапециоэдр показывает им небо и иные миры. И что обитающий во мраке каким-то образом делится с ними тайнами.
Рассказ Оррика В. Эдди. Они вызывают это, глядя в сверкающий кристалл, и пользуются собственным тайным языком.
1863 в конгрегации 200 или более, помимо людей спереди.
Ирландские парни устроили свалку в церкви в 1869 году после исчезновения Патрика Ригана.
Завуалированная статья в Ж. от 14 марта 1872 года, но люди о ней не говорят.
1876 год — 6 исчезновений, тайный комитет обратился к мэру Доймо.
Действия обещаны в феврале 1877-го, храм закрывается в апреле.
Банда… с Федерал-хилл угрожает доктору и причту в мае.
До конца 1877 года город покинуло 181 человек… имена неизвестны.
Около 1880-го начались рассказы о привидениях… попытаться подтвердить справедливость сообщения, что после 1877-го в церковь никто не входил.
Попросить у Лэнигана фотографию места, снятую в 1851 году.
Возвратив записку на место — в записную книжку, Блейк обернулся, чтобы поглядеть на скелет, простертый в пыли. К чему привели эти заметки, было понятно: не было никаких сомнений, что этот человек явился в пустовавшее здание сорок два года назад, чтобы найти материал для газетной сенсации, на какую бы не всякий рискнул. Быть может, он так и не посвятил никого в свой план… и не вернулся в собственную редакцию. Возможно, это просто сдерживаемый страх вырвался из-под контроля, закончившись банальным сердечным приступом. Блейк пригнулся к глянцевым костям и заметил нечто необычное в их состоянии: иные из них были разбросаны, иные — как бы растворились на концах. Некоторые странным образом пожелтели, даже словно обуглились, как и часть лохмотьев, оставшихся от одежды. Но особенно странный вид приобрел череп — покрывшийся желтыми пятнами, с обугленной дырой на макушке, — словно бы кто-то прожег ее, капнув туда крепкой кислоты. Что тут творилось со скелетом все четыре десятилетия погребения в безмолвии, Блейк и представить не мог.
И еще не осознав это, Блейк обернулся лицом к камню, отдаваясь чарам его, пробудившим в мозгу его целое представление. Он видел процессии… плащи с капюшонами скрывали нечеловеческое обличье идущих… и бесконечные просторы пустыни, из которой к небу вздымались тесаные монолиты. Он видел стены и башни в ночных глубинах морей, вихри пространства, где клочья темного тумана неслись от холодного и мерцающего пурпурного огня. И за всем этим обманутым глазом видел он лишь безграничную тьму, где жесткие и обретающие жестокость силуэты проявлялись лишь в поднятых ими дуновениях, а призрачные силы придавали очертания хаосу и скрывали ключ ко всем парадоксам и скрытым арканам.
Но все очарование вдруг истребил гложущий, невесть откуда взявшийся панический страх. Блейк задохнулся и отвернулся от камня, ощутив возле себя нечто бесформенное, со страшной сосредоточенностью разглядывающее его так, словно он запутался в чем-то неведомом. Нечто глядело на Блейка и было способно видеть его неким чувством, ничего общего не имеющим со зрением. И вдруг башня эта стала пугать его — да и неудивительно, учитывая найденные им скорбные останки. Начинало темнеть, и, поскольку у Блейка с собой не было фонаря и нечем было его заменить, уже пора было уходить.
И тут, посреди сгущающейся тьмы, как ему показалось, внутри безумных граней камня что-то блеснуло. Блейк попытался отвернуться, но некое притяжение не позволило ему это сделать. Неужели камень обладал слабой радиоактивностью и светился, или же это и есть то самое, что в записках мертвеца называлось «Сверкающим Трапециоэдром»? Что еще может скрываться в этом заброшенном логове космического зла? Что творилось здесь прежде, что может таиться в тенях, которых избегают птицы? Словно бы легкое прикосновение… Чье? Блейк схватил крышку давно уже открытой шкатулки и захлопнул ее. Петли, изготовленные в иных мирах, легко поддались прикосновению, и крышка укрыла камень, теперь уже несомненно светившийся.
И легкий стук этот словно пробудил нечто… Тихое журчание, казалось, исходило из вязкой тьмы шпиля, от которой его отгораживала лишь дверца в потолке. Крысы, конечно же крысы — только теперь живые существа обнаружили свое присутствие в этой проклятой башне… Однако легкое шевеление это повергло Блейка в такую панику, что он бросился вниз по винтовой лестнице, в мертвый неф, в подземелье под тяжелыми сводами… а там по пропыленной площади, по истекающим ужасом улицам вниз по Федерал-хилл к здравомыслящим улицам центра, к домашним кирпичным тротуарам университетского района.
В последующие дни Блейк никому не рассказывал о своей экспедиции. Напротив, он принялся за чтение известных книг, перелистывая в библиотеке подшивки газет за прежние времена, и лихорадочно трудился над криптограммой из переплетенной в кожу книжицы, найденной им в заросшей паутиной ризнице. Скоро он понял, что шифр не из простых, а после долгих трудов убедился, что текст написан не на английском, латинском, греческом, французском, испанском, итальянском или немецком. Итак, ему предстояло обратиться к глубинам странной своей эрудиции. По-прежнему каждый вечер приходило желание поглядеть на закат; как прежде, взирал он на ощетинившийся крышами холм, на гребне которого далеким и сказочным видением чернела башня храма. Но теперь зрелище это несло в себе новый ужас. Он знал, какое мерзкое знание таится в ней, — и воображение отказывалось подчиняться рассудку. Весенние птицы летели домой, и, замечая их пролет на закате, он ощущал, или это казалось ему, — что башню они стараются облететь по возможности дальше. Если оказывалось, что стая летела на башню, прямо перед ней птицы начинали метаться — так полагал он, не имея возможности убедиться, действительно ли они рассеялись.
В июне наконец дневник Блейка известил о победе над криптограммой. Текст, как оказалось, писался на языке акло, к которому прибегают известные культы, злые и древние… Блейку он был знаком, так сказать, мимоходом, по прежним его занятиям. Относительно прочтенного им дневник ограничивается уклончивыми фразами. Однако ясно, что результаты дешифровки потрясли Блейка и повергли в ужас. Он упомянул только обитающего во мраке, что пробуждается, если глядеть в Сверкающий Трапециоэдр, оставив еще совершенно лишенные разума описания черных заливов хаоса, где обитает сия тварь. Чудовище это, полагал Блейк, обладает всеми познаниями и требует мерзостных жертвоприношений. В некоторых записях Блейка чувствуется страх, его беспокоит, как бы тварь эта, которую он по неведению призвал, не вырвалась наружу, однако, по его мнению, уличных фонарей достаточно, чтобы держать ее в заточении.
О Сверкающем Трапециоэдре Блейк поминает частенько, называя его оком во все времена и пространства. Историю его он проследил от времен, когда камень этот создали на темном Югготе, задолго до того, как Древние доставили его на землю. Живые лилии Антарктики ценили его и поместили в изготовленную ими шкатулку, а люди-змеи Валусии извлекли его из руин, оставленных предшественниками… Эоны спустя попал он в руки первых живых лемурийцев. Камень пересекал странные земли и куда более странные моря, тонул вместе с Атлантидой, потом минойский рыбак выловил его сетью и продал темнокожим купцам из ночной Кем. Фараон Нефрен-Ка воздвиг над ним храм с криптой, не имеющий окон, а потом сделал то, из-за чего имя его исчезло с памятников и из анналов. А потом камень дремал в развалинах мерзкого святилища, разрушенного жрецами и новым фараоном, пока лопата рабочего вновь не извлекла его на погибель всему человечеству.
С начала июля газеты странным образом подтверждают записи Блейка, впрочем, настолько бегло и коротко, что лишь обнаружение дневника заново привлекло к ним внимание. Теперь, после того как незнакомец осмелился войти в проклятую церковь, страх начал окутывать Федерал-хилл. Итальянцы шептались о непривычных шорохах и стуке, о некоем скрежете в темном, лишенном окон шпиле и молили священников изгнать нечисть, вторгающуюся даже в их сны. Они утверждали, что нечто прячется за дверью церкви и ждет, пока не спустится тьма, чтобы можно было выйти. В прессе поминали привычные суеверия итальянских кварталов, но никто не мог пролить хоть какой-либо свет на предысторию дела. Ясно было, что молодых репортеров теперь древности не интересуют. И, записывая эти строки в своем дневнике, Блейк обнаруживает известные угрызения совести, твердит, что обязан вновь похоронить Сверкающий Трапециоэдр, обязан изгнать то самое, что потревожил он ярким дневным светом в мрачной башне. И тут же тем не менее обнаруживает высшую степень безрассудства, поддаваясь мерзкому чувству — желанию посетить проклятую башню, пусть даже во сне, чтобы вновь заглянуть в космические секреты сияющего камня.
Потом нечто промелькнувшее в «Джорнел» утром 17 июля повергло автора дневника в истинный припадок ужаса. В тоне легкой усмешки статья говорила о страхах на Федерал-хилл, но Блейку заметка показалась почему-то и в самом деле ужасной. Дело было в том, что ночью гроза на целый час вывела из строя систему уличного освещения, и итальянцы за это время едва не сошли с ума от ужаса. Те, кто жил возле церкви, дружно утверждали, что обитающая в шпиле тварь воспользовалась темнотой, спустилась в саму церковь и вязко булькала и хлюпала там, обнаруживая и в звуках невыносимую мерзость. Из церкви она метнулась обратно в башню, люди слышали звон разбитого стекла. В темноте она могла двигаться куда захочет, но свет всегда преграждал ей дорогу. После того как ток включили на полный накал, в башне начался жуткий шум — ведь и слабый свет, просачивающийся сквозь заложенные деревянными задвижками окна, был непереносим для мерзкого порождения тьмы. Со стуком и грохотом оно умудрилось вовремя проскользнуть в свое логово — яркий свет немедленно отослал бы эту тварь назад в бездну, откуда безвестный безумец вызвал ее. И все время тьмы, не прекращая молитвы, толпа христиан сплошным кольцом окружала церковь, кто как умел оберегая свечи и лампы сложенной бумагой и зонтами, кругом света обороняли город от ужаса, что живет в темноте. Жившие возле самой церкви уверяли, что дверь ее содрогнулась от поистине сокрушительного удара из храма. Но это было еще не самое худшее. Вечером того же дня, сидя в библиотеке, Блейк из газет узнал, что обнаружили репортеры. Оценив наконец фантастическую сенсационность предоставляемых пугалом новостей, двое журналистов, миновав толпу отчаявшихся итальянцев, пробрались в церковь — а там проникли в окошко погреба, сперва попытав входные двери. Пыль в вестибюле и нефе была взметена абсолютно непонятным образом, по полу разбросаны были странные кучки — набивки подушек и обивка сидений. Внутри здания скверно пахло, повсюду видны были пятна, желтые и обугленные. Открыв дверь в башню и мгновение переждав — потому что наверху им послышалось шевеление, — они заметили, что на всей лестнице нет ни пылинки.
В помещении самой башни царила такая же относительная чистота. Они упомянули о семигранном каменном столпе, перевернутых готических креслах, о странных идолах из штукатурки, однако про металлическую шкатулку и останки скелета не было упомянуто. Более всего Блейка встревожили, помимо желтых пятен вперемежку с обугленными, подробности, объясняющие, откуда взялись битые стекла. Все узкие окна башни оказались разбитыми, два из них были заткнуты самым поспешным и примитивным образом — сатиновой обивкой и конским волосом сидений, забитым в щели между деревянными досками. По выметенному полу были разбросаны куски сатина и кучки конского волоса — словно бы здешнему обитателю помешали погрузить помещение башни в полную тьму.
Желтые и обугленные пятна обнаружились и на лестнице в лишенном окон шпиле. Но когда репортер, добравшись до верха, отодвинул в пазах скользящую дверь и посветил фонариком в черное и странно пахнущее пространство, он не увидел ничего, кроме тьмы и кучи разных обломков возле отверстия. Приговор, естественно, гласил: шарлатанство. Кто-то сыграл шутку с суеверными жителями квартала, а может быть, и некий фанатик решил раздуть страх, чтобы попользоваться им к собственной выгоде. Или же компания жителей помоложе и похитроумнее решили особо затейливо одурачить соседей. Реакция полиции оказалась куда более деловой — решено было послать офицера, чтобы проверить рассказ репортеров. Получив такое задание, трое назначенных поочередно нашли способ отвертеться от поручения, четвертый же отправился без всякой охоты и скоро вернулся, ничего не добавив к отчету репортеров.
И с тех пор в дневнике Блейка нарастает волна ужаса и нервного напряжения. Он корит себя за то, что не сделал чего-то, и в панике ждет нового электрического замыкания. Проверено: Блейк действительно трижды — каждый раз во время грозы — звонил в электрическую компанию и лихорадочным тоном просил, чтобы предприняли предосторожности против любых неприятностей. То тут то там записи его выражают тревогу — репортеры не сумели отыскать металлическую шкатулку с камнем и подвергнутый странному воздействию скелет. Он предположил, что вещи эти были унесены… Но кем, как и куда, оставалось только догадываться. Правда, худшие его опасения относились к себе самому, к некой абсолютно нечистой связи, образовавшейся между его разумом и жутью, обитающей в далеком шпиле, — чудовищным порождением ночи, которое он по беспечности вызвал из запредельных черных пространств. Он все время чувствовал постоянные покушения на собственную волю, и знавшие его в тот период припоминали, как подолгу он сидел с отсутствующим видом у собственного стола и глядел из западного окна на далекий, ощетинившийся шпилями горб за дрожащими городскими дымами. В записях его постоянно описываются одни и те же ужасные сновидения, и он подчеркивал, что мерзкая связь крепнет во время сна. Однажды ночью, например, он проснулся одетым на улице. Не отдавая себе отчета, он спускался к западу с Коллежской горки. Снова и снова повторяет он себе: эта тварь из шпиля знает, как отыскать его.
После 30 июля Блейк словно надломился. Он не одевался, еду заказывал по телефону. Гости отмечали наличие веревок рядом с постелью — он пояснил, что начал ходить во сне и надеется, что с перевязанными в лодыжках ногами или далеко не уйдет, или быстро проснется, если станет развязывать узлы.
В дневнике он описывает ужасный случай, повлекший за собой этот упадок. Отойдя ко сну ночью 30-го, он вдруг почувствовал, что очутился в абсолютно черном пространстве: видел он только короткие неяркие горизонтальные отблески голубого цвета, нюхом ощущал невероятный смрад и слышал над собой любопытные негромкие крадущиеся звуки. В какую сторону он ни поворачивался, всякий раз натыкался на нечто, каждому шуму соответствовал ответный звук сверху — негромкий, шевелящийся, похожий на тонкий скрип дерева о дерево.
Однажды ищущие руки его нащупали каменный столп с пустой верхушкой… Позже он обнаружил, что вцепился в перекладины лестницы, неуверенно пробираясь вверх — туда, где вонь становилась гуще, — когда жгучий порыв горячего ветра сбил его вниз. Перед глазами его разворачивался калейдоскоп фантастических изображений, время от времени расплывавшихся, сменяющихся видом огромной, ничем не ограниченной темной бездны, внутри которой кружили миры и солнце еще более мрачное. Блейк вспоминал старинные легенды о Великом Хаосе, в центре которого развалился слепой идиот — бог Азатот, повелитель вещей, окруженный плюхающей ордой безмозглых, не имеющих формы танцоров, убаюканный монотонным жужжанием демонической флейты в не знающих имени лапах.
И тут резкий призыв из внешнего мира пронзил его и поверг в невыразимый ужас. Что это было, он так и не узнал, — скорее всего, ракета из вечных летних фейерверков на Федерал-хилл — так местные жители поминают своих святых или святых патронов родных деревень в Италии. Как бы то ни было, с громким криком он свалился с лестницы в почти лишенную света палату под нею.
Блейк мгновенно понял, где очутился, и отчаянно бросился вниз по узкой винтовой лестнице, спотыкаясь и разбиваясь на каждом шагу. А потом было кошмарное бегство через просторный неф под пологом паутины, под призрачными арками, вздымающимися вверх к злорадным теням; слепое бегство через заставленный чем-то подвал — и воздух и уличные огни снаружи; а потом безумное бегство вниз по призрачной горе, мимо несущих околесицу домов, через мрачный и безмолвный город черных башен и наконец вверх по отлогой мостовой — к собственной старинной двери.
Утром он вернулся в сознание и обнаружил, что лежит на полу в собственной студии полностью одетый. Грязь и паутина покрывали его, каждая пядь его тела ныла и просто болела. Обернувшись к зеркалу, он заметил, что волосы его казались обгоревшими, а к верхней одежде словно прилип мерзкий и странный запах. Тогда нервы его не выдержали. И потом, закутавшись в халат, он, утомленный, только глядел в западное окно, вздрагивая от каждого удара грома, и заносил в дневник абсолютно дикие вещи.
Свирепая гроза разразилась 1 августа перед полуночью. Молния так и разила во все части города, отмечены были два громадных огненных шара. Дождь лил сплошным потоком, а непрекращающаяся канонада грома, должно быть, лишила сна не одну тысячу человек. Блейк словно обезумел от страха за систему освещения и около часа ночи попытался дозвониться в компанию, хотя к этому времени энергосистему уже отключили ради безопасности.
Он все заносил в свой дневник: большие, нервные, часто неразборчивые каракули рассказывали о растущем страхе и отчаянии — и о том, что некоторые записи делались в полном мраке.
Он не зажигал в доме свет, чтобы иметь возможность видеть из окна. Похоже, что большую часть времени Блейк провел за столом, беспокойно вглядываясь в созвездие огней Федерал-хилл, сверкавшее над мокрыми крышами. Иногда он наугад делал случайные пометки в дневнике — так что на двух страницах полно отрывочных фраз, вроде: «Фонари не должны погаснуть», «Оно знает, где искать меня», «Я должен погубить это» и «Оно зовет меня сегодня, но, быть может, не на боль».
А потом свет погас во всем городе. В соответствии с материалами электростанции, это произошло в 2:12 ночи, но в дневнике Блейка время не упомянуто. Простая короткая фраза: «Свет погас. Господи, помилуй мя». На Федерал-хилл стояли стражи, не менее встревоженные, чем он сам, ограждая город от нечисти свечами, укрытыми под зонтами, электрическими фонариками, масляными лампами, распятиями и разного рода оберегами, обычными на юге Италии. Люди благословляли каждую вспышку молнии и только таинственными жестами правой руки выражали свой страх, когда ветер унес грозу в сторону и вспышки молний ослабли, а потом прекратились совсем. Внезапный порыв ветра задул свечи, так что вокруг сделалось вовсе темно. Кто-то позвал отца Мерлуццо из храма ди Спирито Санто. И он поторопился прийти на площадь, громко читая молитвы. В беспокойном гнусном шевелении наверху башни сомневаться не приходилось.
То, что произошло в 2:35, засвидетельствовали священник, человек молодой, интеллигентный и хорошо образованный; патрульный Уильям Д. Моногэн с центральной полицейской станции, офицер в высшей степени надежный, остававшийся в той части маршрута, чтобы проследить за толпой; и большая часть из семидесяти восьми человек, что собрались вокруг высокой подпорной стены, в особенности те из них, что находились напротив восточной стены церкви. Конечно, доказать нельзя ничего, поскольку обстоятельства выходят за рамки привычного порядка вещей. Можно придумать всякие объяснения. Нельзя быть уверенным в том, что в огромных старинных, непроветриваемых и давно заброшенных зданиях, наполненных всем чем угодно, не могут происходить неизвестные химические процессы. Зловонные испарения, мгновенная вспышка горения, давление газов, порожденных долгим гниением… Словом, любое из многочисленного рода явлений могло послужить этому причиной. Конечно же, нельзя полностью исключить и возможность сознательного шарлатанства. Все случилось очень быстро и заняло не более трех минут: отец Мерлуццо, человек пунктуальный, то и дело поглядывал на часы.
Началось с того, что внутри черной башни начался неуклюжий топот. Со стороны заброшенного сооружения некоторое время также доносилась странная гадкая вонь, но теперь она усилилась, сделавшись уже весьма ощутимой. Потом раздался треск дерева, и во двор перед хмурым восточным фасадом ухнул какой-то тяжелый предмет. Башня сделалась теперь невидимой, свечи не горели, но, пока предмет приближался к земле, люди успели заметить, что это доска из восточного окна башни.
И почти сразу после того непереносимая удушающая вонь обрушилась с незримых высот, повергая в дурноту трепещущих очевидцев, чуть не попадавших с ног. Воздух разом задрожал, словно от взмахов могучих крыльев, и внезапный порыв восточного ветра — куда более сильный, чем предшествующий, — набросился на шляпы и насквозь мокрые зонты толпы. В наступившей тьме ничего определенного увидеть было нельзя, но некоторые из тех, что глядели вверх, как будто бы видели, как на небе появилось облако тьмы — более густой, чем чернильная чернота ночи, — которая бесформенным облаком дыма со скоростью метеора метнулась к востоку. На этом все и закончилось. Очевидцы потеряли дар речи от страха, трепета и опасений и едва представляли себе, что нужно делать и нужно ли вообще что-нибудь делать. Но, не ведая, что случилось, они не оставили стражи, и через мгновение после того, как люди вознесли единодушную молитву, одинокая запоздалая молния пропорола пропитанные водой облака, за ней последовал оглушительнейший из раскатов. Через полчаса дождь прекратился, и усталые, насквозь промокшие очевидцы разбрелись по домам.
На следующий день газеты не уделили этим событиям большого внимания, ограничиваясь ущербом, причиненным бушеванием стихий. Оказалось, что жуткая вспышка и страшный удар грома были сильнее к востоку от Федерал-хилл, где также отмечалась жуткая вонь. С наибольшей силой явление это сказалось на Коллежской горке, где перебудило всех, кто мог еще спать, и дало отправную точку для возбужденных спекуляций. Из тех, кто бодрствовал, лишь немногие видели жуткую вспышку возле вершины холма и заметили необъяснимый поток воздуха, в своем стремлении вверх едва не сорвавший листья с деревьев. Сошлись на том, что одинокая молния поразила окрестности, хотя следов ее не удалось обнаружить. Юнец, задержавшийся в здании братства Тау Омега, будто бы видел гротескную и жуткую дымную тучу как раз перед вспышкой, но его наблюдению едва ли следует доверять. Впрочем, все свидетели сходятся в одном; с востока дунул ветер, принесший нестерпимый смрад, потом ударила молния. Очевидцы указывали и на сильный запах гари после удара.
Обо всем этом говорили с известной осторожностью, поскольку обстоятельства могли оказаться связанными со смертью Роберта Блейка. Из дома Пси Дельта, окна которого смотрят в кабинет Блейка, студенты заметили утром девятого числа бледное лицо его за стеклом… Им не понравилось выражение лица. Обнаружив его в том же положении к вечеру, они встревожились и проследили, зажжется ли свет в его комнатах. Потом позвонили в колокольчик в безмолвную квартиру и в итоге вызвали полицию.
Окоченевшее тело застыло возле окна, и, когда вошедшие заметили выкаченные, остекленевшие глаза, искаженные ужасом черты, они невольно отвернулись. Вскоре труп обследовал врач коронера и, невзирая на целое окно, заключил, что причиной смерти явилось поражение электрическим током или вызванный им нервный шок. Ужасное выражение на лице он игнорировал совершенно, считая его появление вполне вероятным для личности, наделенной столь аномальным воображением и к тому же явно неуравновешенной. Последнее позволили заключить книги, картины и манускрипты, обнаруженные в помещении, и вслепую сделанные заметки в дневнике. Блейк корябал их до самого конца, и правая рука его все еще сжимала карандаш с обломанным кончиком.
После того как погас свет, записи сделались несвязными и крайне неудобочитаемыми. Кое-кто из следователей, воспользовавшись ими, пришел к выводам, отличающимся от официального материалистического вердикта. Но подобные размышления имеют мало шансов на успех в консервативных умах. Этим наделенным пылким воображением теоретикам не помогло и то, что суеверный доктор Декстер выбросил и таинственную шкатулку вместе с граненым камнем, явно светившимся изнутри, — их обнаружили в шпиле, лишенном окон, — в одну из самых глубоких проток Нарангасетской бухты. Излишнее воображение и нервная неуравновешенность Блейка, усугубленные сведениями о культе зла, чьи давнишние следы довелось ему обнаружить, дают основание для доминирующей интерпретации последних лихорадочных записей, точнее, того, что удалось разобрать.
Свет все еще не включился — прошло уже минут пять. Теперь все зависит от молнии. Пусть Йаддит укрепит их силу!
…Какая-то сила прорывается… Дождь, гром и ветер оглушают… Тварь эта овладевает моим разумом…
Что-то случилось с памятью. Вспоминаю такое, чего прежде не знал. Другие галактики, другие миры… Тьму. И молния кажется темной, а тьма — Светом.
Не может быть, чтобы в этой тьме я видел холм и церковь на нем. Должно быть, отпечаток, сохраненный сетчаткой. Дай Бог, чтобы итальянцы вышли к храму со свечами, если молнии прекратятся.
А чего я боюсь? Разве не аватара Ньярлатотепа, в древнем и темном Кеме принимавшего человеческий облик? Помню Юггот и далекий Шаггай, предельную пустоту вокруг черных планет…
Долгий полет в пустоте… не могу пересечь вселенную света… воссоздан мыслями, уловленными Сверкающим Трапециоэдром… посылаю через жуткие пропасти света…
Имя мое Блейк, Роберт Харрисон Блейк, дом 60, Ист-Кнапп-стрит, Милуоки, Висконсин… Я на этой планете…
Азатот, помилуй! Молнии угасли — ужас — я все вижу ужасным чувством, которое не есть зрение, — свет сделался тьмой, а тьма светом… Эти люди на холме… стража… свечи… кресты… священники…
Чувство протяженности исчезло — далекое близко — близкое далеко. Нет света… стекла… вот шпиль… башня… окно… слышу… Родрик Ашер… безумец или теряю рассудок… тварь копошится, возится в башне. Я — это она, и она — это я… я хочу выйти… должен выйти, чтобы слить силы… Оно знает, где я…
Я — Роберт Блейк, но я вижу башню во тьме. Мутная вонь… Чувства преобразились… доска в окне треснула и поддалась…
…Йа… пган…йдд.
Вот оно… все ближе… адский ветер. Титанические сине-черные крылья… Йог-Сотот, спаси меня… горящий глаз… три доли его…
ТВАРЬ НА ПОРОГЕ
Глава 1
Это правда, что я всадил шесть пуль в голову своему лучшему другу, но все же надеюсь изложенным здесь доказать, что не совершил убийства. Прежде всего меня назовут безумным — более безумным, чем тот, кого я застрелил в палате аркхемской лечебницы. Но затем некоторые из моих читателей смогут взвесить каждый из приведенных мною доводов, соотнесут их с известными фактами и зададутся вопросом: а мог ли я полагать иначе после того, как перед моими глазами предстало доказательство реальности всего этого кошмара — та тварь на пороге?
До той жуткой встречи я тоже видел только безумие в тех невероятных историях, участником которых оказывался. Даже и теперь я спрашиваю себя: не обманулся ли я?.. не стал ли безумным? Не уверен… но найдется немало желающих рассказать всякое загадочное об Эдварде и Асенат Дерби, и даже невозмутимые полицейские не смогли найти объяснение того последнего ужасного визита. Они выдвинули весьма шаткое предположение, будто эта страшная выходка — проявление мести или грозное предупреждение со стороны изгнанных слуг, хотя в глубине души догадывались, что истина куда более ужасна и невообразима.
Итак, я утверждаю, что не убивал Эдварда Дерби. Скорее я отомстил за него и при этом очистил землю от ужасного создания, которое, если бы осталось в живых, могло бы насылать неисчислимые ужасы на все человечество. Вблизи наших ежедневных маршрутов есть черные зоны мира теней, откуда к нам время от времени прорывается какое-то зло. Когда происходит такое, посвященный человек должен нанести разящий удар прежде, чем наступят ужасные последствия.
Я был знаком с Эдвардом Пикманом Дерби всю его жизнь. Будучи моложе меня на восемь лет, он оказался настолько одарен от природы и так преуспевал в своем развитии, что с той поры, как мне сравнялось шестнадцать, а ему восемь, у нас находилось немало общего. Это был самый феноменальный по развитию ребенок, какого я когда-либо встречал, и уже в семь лет он сочинял стихи мрачного, фантастического, почти пугающего содержания, приводившие в изумление окружающих его наставников. Возможно, такому преждевременному раскрытию таланта способствовали домашнее образование и уединение. Будучи единственным ребенком в семье, он был слабым и часто болел, и заботливые родители, опечаленные этим обстоятельством, старались держать сына поближе к себе. Мальчика никогда не оставляли без присмотра, и ему редко выпадала возможность просто поиграть с другими детьми. Без сомнения, все это породило в мальчике странную внутреннюю жизнь, в которой свобода проявлялась в полете фантазии.
Его познания в отрочестве были по любым меркам довольно обширными и странными, а детские сочинения восхищали меня, несмотря даже на то, что я был много старше. Примерно в то время меня заинтересовало искусство гротескового направления, и в этом ребенке я обнаружил редко встречающийся родственный дух. Общим фоном, конечно же способствовавшим нашему совместному интересу к миру теней и чудес, был древний, ветхий и отчасти жутковатый городок, в котором мы жили, — проклятый ведьмами, овеянный старинными легендами Аркхем, чьи прогнувшиеся двускатные крыши и выщербленные георгианские балюстрады рядом с сонно бормочущей рекой Мискатоник предавались размышлениям о минувших веках.
Какое-то время спустя я увлекся архитектурой и оставил свой замысел проиллюстрировать книгу демонических стихов Эдварда, но, впрочем, наша дружба не стала от этого слабее. Необычный талант юного Дерби получил удивительное развитие, и на восемнадцатом году жизни он выпустил ставший сенсацией сборник описывающих кошмары стихотворений под заглавием «Азатот и другие ужасы». Он вел оживленную переписку с печально известным поэтом-бодлеристом Джастином Джеффри, тем самым, кто написал «Людей монолита» и умер в 1926 году в сумасшедшем доме, непрерывно крича, после того как посетил какую-то зловещую и пользующуюся дурной славой деревушку в Венгрии.
Однако в прагматическом плане и в отношении личной самостоятельности молодой Дерби был совершенно беспомощен, поскольку с ним постоянно нянчились. Здоровье его стало лучше, но с детских лет в нем глубоко укоренилась привитая чересчур заботливыми родителями привычка находиться под чьим-то присмотром, так что он никогда никуда не ездил один, не принимал самостоятельных решений и не брал на себя какую-либо ответственность. Уже в раннюю пору жизни было очевидно, что он не сможет вести борьбу на равных в бизнесе или в какой-то профессиональной сфере, но поскольку семья была состоятельной, его этот факт нисколько не печалил. Достигнув зрелого возраста, он сохранил обманчиво мальчишеские черты: светловолосый и голубоглазый, со свежим цветом лица, на котором лишь с трудом можно заметить результаты его потуг отрастить усы. Голос у него был спокойный и тихий, а тело, не знавшее физических упражнений, казалось скорее юношески полноватым, нежели преждевременно тучным. При своем высоком росте и красивом лице он вызывал бы интерес у женщин, если бы застенчивость не приговорила его к уединенному существованию и общению с книгами.
Каждое лето родители брали с собой Дерби за границу, и он быстро перенял внешнюю сторону европейской учености и стиля. Имея сходный с Эдгаром По талант, Дерби все больше и больше склонял его к декадентству, прочие же художественные стили и течения почти не вызывали отклика в его душе. В тот период его жизни мы часто вели с ним серьезные дискуссии. Я к тому времени уже окончил Гарвард, поработал в Бостоне у одного архитектора, обзавелся семьей и вернулся в Аркхем, чтобы заняться здесь профессиональной практикой, обосновавшись в родительском особняке на Салтонсталл-стрит, поскольку мой отец переехал во Флориду из-за проблем со здоровьем. Эдвард заглядывал ко мне почти каждый вечер, так что вскоре я стал воспринимать его как одного из домочадцев. Он всегда своей особой манерой звонил в дверь или стучал дверным кольцом, и вскоре это стало опознавательным сигналом, так что, бывало, я после ужина прислушивался, ожидая знакомых трех коротких звонков или стуков, за которыми после паузы последуют еще два. Значительно реже я отправлялся к нему в гости и с завистью примечал, что снова в его библиотеке добавились неизвестные мне фолианты.
Дерби окончил Мискатоникский университет в Аркхеме, поскольку родители не позволили ему уезжать далеко от дома. Студентом он стал в шестнадцать и завершил полный курс обучения за три года, специализировавшись на английской и французской литературе и получив высокие отметки по всем предметам, кроме математики и естественных наук. С другими студентами он общался мало, хотя с некоторой завистью посматривал на дерзко ведущих себя или богемного стиля типов, стараясь подражать их как бы заумному языку и бессмысленно-ироническому позерству и пытаясь перенять их легкомысленное отношение к жизни.
При этом он сделался фанатичным приверженцем магической мудрости древних подземелий, книжными памятниками каковой славилась Мискатоникская библиотека. Постоянный обитатель области фантазий и странностей, теперь он погрузился в настоящие руны и загадки, сохранившиеся с легендарной древности то ли в назидание, то ли в качестве предостережения. Он читал такие сочинения, как пугающая «Книга Эйбона», «Неупоминаемые культы» фон Юнцта и запретный «Некрономикон» безумного араба Абдулы Альхазреда, не сообщив родителям даже, что вообще их видел. Эдварду было двадцать, когда у меня родился сын, единственный мой ребенок, и, кажется, он был польщен, узнав, что в его честь я назвал новорожденного Эдвард Дерби Аптон.
К двадцати пяти годам Эдвард Дерби был невероятно образованным человеком, вполне известным поэтом и автором сказочных историй, хотя ограниченность общения и отсутствие жизненного опыта замедляли его литературный рост, поскольку произведения его были подражательными и слишком книжными. Мне довелось быть, возможно, его ближайшим другом — я находил в нем неисчерпаемый источник теоретических познаний, тогда как он обращался ко мне за советами в любых делах, в которые не хотел посвящать родителей. Он оставался холостяком скорее вследствие своей застенчивости, инертности и родительской опеки, нежели по природной предрасположенности, в обществе появлялся крайне редко и в основном по формальным поводам. Когда началась война, слабое здоровье и укоренившаяся робость удержали его дома. Я же отправился в Платтсбург на сборы для присвоения воинского звания, но за океан так и не попал.
Шли годы. Мать Эдварда умерла, когда ему было тридцать четыре, и он на долгие месяцы стал недееспособным, пораженный неким странным душевным расстройством. Отец, однако, увез его в Европу, и там его недуг рассеялся без всяких видимых последствий. После чего его словно бы захватило нечто типа странно преувеличенного оживления, словно он избавился от какого-то незримого бремени. Он стал вращаться в среде более «прогрессивных» студентов, невзирая на свой уже вполне взрослый возраст, присутствовал на нескольких крайне буйных мероприятиях, а однажды ему даже пришлось откупаться немалой суммой (занятой у меня), чтобы его отцу не сообщили о его участии в неких событиях. Некоторые из распространявшихся шепотом сплетен относительно буйной группы мискатоникских единомышленников были крайне необычными. Они включали слухи о сеансах черной магии и другие совершенно невероятные происшествия.
Глава 2
Эдварду было тридцать восемь, когда он познакомился с Асенат Уэйт. Предполагаю, ей тогда было двадцать три года и она посещала в Мискатоникском университете специальный курс средневековой метафизики. Дочь одного моего приятеля уже встречалась с ней раньше — в школе Холл в Кингспорте — и старалась избегать общения с соученицей из-за ее странной репутации. Асенат была смугла, невысока ростом, красива лицом, которое, правда, слегка портили слишком выдающиеся вперед глаза, но что-то в ее внешности отталкивало слишком чувствительных людей. Но более всего сторониться Асенат заставляли ее происхождение и манера разговаривать. Она была из иннсмутских Уэйтов, а о древнем полузаброшенном Иннсмуте и его людях уже десятки лет ходили мрачные предания; в них рассказывалось о каких-то ужасных торговых сделках 1850 года и о диковинных «не вполне человеческих» членах семей в старинных родах этого пришедшего в упадок портового городка — такие легенды, какие могли сочинять лишь старожилы-янки, рассказывая их с должными, внушающими страх интонациями.
В случае с Асенат это все усугублялось тем фактом, что она была дочерью Эфраима Уэйта, ребенком, рожденным уже от старика его никому не известной женой, которая, появляясь перед посторонними людьми, всегда скрывала лицо вуалью. Эфраим жил в Иннсмуте в очень древнем особняке на Вашингтон-стрит, и те, кто видел это здание (аркхемские жители стараются по возможности не навещать Иннсмут), уверяли, что окна мансард там всегда закрыты ставнями и по вечерам оттуда доносятся странные звуки. Старик был известен в свое время как великий знаток магии, и сохранились предания, что он обладал властью вызвать или усмирить шторм на море. Я видел его всего лишь раз или два в юности, когда он приезжал в Аркхем посмотреть запрещенные фолианты в университетской библиотеке, и, помню, мне очень не понравилось его волчье, крайне мрачное лицо и спутанная серо-стальная борода. Он умер после полной потери рассудка при весьма загадочных обстоятельствах как раз перед тем, как его дочь (по завещанию — наследница всего его имущества) начала учиться в школе Холл, и она, надо сказать, была его ревностным подражателем и временами даже выглядела столь же демонически, как и он.
Когда начали ходить слухи о дружбе Эдварда с Асенат Уэйт, мой приятель, чья дочь знала Асенат по школе, пересказал много любопытного о ней. В школе Асенат изображала из себя чуть ли не волшебницу, и, похоже, действительно умела делать некие поразительные вещи. Она заявляла, что способна вызвать грозу, хотя ее успехи в такого рода делах люди обычно связывали с каким-то необъяснимым даром предвидения. Все животные явным образом не любили ее, и она почти незаметным движением правой руки могла заставить любую собаку завыть. Бывало, что она демонстрировала совершенно исключительные познания в науках и языках — даже шокирующие для столь юной девушки, — и в такие минуты часто пугала соучениц, ибо в ее глазах вдруг загорались злобно-плотоядные огоньки, но она, казалось, относилась к внезапной перемене в себе с какой-то остро непристойной иронией.
Впрочем, самое необычное заключалось в том, что были достоверно подтвержденные случаи ее воздействия на других людей. Она, без сомнения, обладала подлинной способностью гипнотизировать. Уставив особый странный взгляд на одноклассницу, она почти неизменно вызывала у той отчетливое ощущение взаимообмена душами, словно она вдруг оказывалась в теле школьной волшебницы и получала способность видеть со стороны свое собственное тело, на котором глаза начинали блестеть и выпячиваться, принимая несвойственное им выражение. Асенат часто высказывала очень странные представления о природе сознания и о его независимости от физической оболочки — или как минимум от жизненных процессов в физической оболочке. Ее бесил сам тот факт, что она не мужчина, ибо она считала, что мозг мужчины обладает уникальным космическим могуществом. Она заявляла, что, будь у нее мужской мозг, она могла бы не только сравняться, но и превзойти своего отца в способности повелевать неведомыми силами.
Эдвард познакомился с Асенат на собрании «интеллигенции» у одного из студентов и не мог говорить ни о чем другом, заглянув повидаться со мной на следующий день. Он нашел ее эрудированной девушкой с разносторонними интересами, а кроме того, был пленен ее красотой. Я же тогда еще не видел эту девушку и мог лишь примерно припомнить отзывы о ней, но прекрасно знал, кто она такая. Казалось скорее печальным, что Дерби воспылал страстью к ней, но я не сказал ни слова против, ибо противодействие лишь раздувает пламя влюбленности. Он не собирался, по его словам, сообщать своему отцу о ней.
В последующие несколько недель я слышал от юного Дерби исключительно только об Асенат. Люди стали подмечать в Эдварде запоздалое пробуждение галантности, хотя все соглашались, что выглядит он заметно моложе своих лет и не кажется недостойным спутником для своего диковинного божества. Несмотря на склонность к праздному и почти неподвижному образу жизни, он был лишь слегка полноват и без единой морщины на лице. У Асенат же, напротив, в уголках глаз появились преждевременные морщинки — обычный признак частых усилий по напряжению воли.
Как-то Эдвард заглянул ко мне со своею девушкой, и я сразу же заметил, что влюблен он не безответно. Она буквально пожирала его хищным взглядом, и я понял, что их близость — не только духовная. Спустя какое-то время меня посетил старый мистер Дерби, которого я всегда ценил и уважал. Он прослышал о новом увлечении сына и сумел добиться правды «от мальчика». Эдвард задумал жениться на Асенат и уже присматривал дом в пригороде. Зная, что сын обычно слушается моих советов, отец спросил, не мог бы я как-то расстроить эти опрометчивые планы; но я с сожалением выразил свои сомнения. В данном случае проблема была не в слабоволии Эдварда, а в сильной воле молодой женщины. Великовозрастный ребенок перенес свою зависимость с отцовского образа на новый, более сильный, и с этим ничего нельзя было поделать.
Свадьба состоялась через месяц; по желанию невесты их брак регистрировал мировой судья. Мистер Дерби, следуя моему совету, не стал препятствовать браку сына и вместе со мной, моей женой и моим сыном почтил своим присутствием краткую церемонию; помимо нас было также несколько молодых друзей молодоженов, учащихся в университетском колледже. Асенат купила старый дом Кроуниншилдов, уже практически за пределами города, в самом конце Хай-стрит, где молодые решили поселиться после короткой поездки в Иннсмут, откуда нужно было забрать трех слуг, кое-какие книги и разное домашнее имущество. Скорее всего, Асенат сподвигло поселиться в Аркхеме, вместо того чтобы вернуться в родной дом, не столько соблюдение интересов Эдварда и его отца, сколько желание быть поближе к университету, его библиотеке и «эстетам».
Когда Эдвард заглянул ко мне после медового месяца, мне показалось, что он внешне переменился. Асенат настояла, чтобы он избавился от жидких усиков, но дело было не только в этом. Он казался уверенным и более внимательным, и его обычная капризная детская насупленность сменилась выражением почти подлинной печали. Я не сразу смог разобраться, нравится ли мне или не нравится эта перемена. Несомненно, в тот момент он более напоминал зрелого мужчину, чем прежде. Возможно, женитьба для него оказалась полезным делом — разве смена опекуна не могла бы подтолкнуть к полному избавлению от опеки, ведя его к самостоятельности и независимости? Он пришел один, ибо Асенат была занята. Она привезла огромное количество книг и приборов из Иннсмута (Дерби содрогнулся, произнеся это название) и заканчивала приводить в порядок кроуниншилдское имение.
Ее дом — в том городе — оказался скорее все-таки мерзким местом, но с помощью кое-чего, что было там, он изучил некие удивительные вещи. Сейчас под руководством Асенат он быстро овладевал эзотерическими учениями. Они собираются вместе провести ряд опытов весьма дерзкого характера, если даже не запретного — он не полагал себя вправе рассказывать мне о них подробнее, — но он полностью доверяет ее способностям и намерениям. Трое их слуг оказались весьма странной компанией: старая-престарая супружеская пара, прожившая всю жизнь со стариком Эфраимом и рассказывавшая о нем и о покойной матери Асенат очень странные истории, и здоровая девка с изуродованным лицом, от которой, казалось, постоянно воняло рыбой.
Глава 3
Следующие два года я видел Дерби все реже и реже. Порой до полумесяца я не слышал вечерами знакомых трех и двух ударов в дверь; и когда он приходил или же, что случалось все реже, когда я сам заглядывал к нему, он был мало расположен обсуждать важные темы. Мой друг ничего более не говорил о тех оккультных изысканиях, о которых некогда рассказывал с таким восторгом, и старался не говорить вовсе о своей жене. Со времени их женитьбы она на вид заметно постарела и теперь — что было весьма странно — казалась заметно старше его. На ее лице всегда была такая сосредоточенная решительность, какой я ни у кого более не встречал, и в целом она мне казалась преисполненной какой-то скрытой и необъяснимой враждебностью. Мои жена и сын тоже заметили это, и мы со временем перестали зазывать ее к себе в гости — за что она, как заметил однажды Эдвард со свойственной ему мальчишеской бестактностью, была нам весьма благодарна. Иногда чета Дерби отправлялась в долгие путешествия — вроде бы как в Европу, хотя Эдвард намекал на иные, более экзотические маршруты.
После первого же года их совместной жизни люди начали обсуждать происшедшие с Эдвардом Дерби перемены. Подмечали это как бы между прочим, ибо перемена носила чисто психологический характер; но сопутствовали ей любопытные обстоятельства. Время от времени Эдварда замечали с таким выражением лица и за такими занятиями, которые никак не соответствовали его натуре. К примеру, хотя прежде он не умел водить автомобиль, теперь его иногда видели за рулем принадлежавшего Асенат мощного «Паккарда», мчащегося к старому кроуниншилдскому особняку или обратно, причем Дерби управлялся с ним как профессионал, справляясь со сложностями вождения со сноровкой и решительностью, обычно ему совершенно чуждыми. Выглядело это всегда так, будто он только что вернулся из очередной поездки или, напротив, отправляется куда-то, но что это за поездки — никто не догадывался, хотя чаще всего он выбирал дорогу на Иннсмут.
Как ни странно, происшедшая с Дерби перемена не казалась однозначно хорошей. Говорили, что в такие моменты он очень похож на свою жену или даже на самого старика Эфраима Уэйта; впрочем, возможно, в такие моменты он выглядел нехарактерно как раз по причине их нечастого характера. Порой он возвращался из путешествия спустя много часов, распростертый без чувств на заднем сиденье машины, которой управлял нанятый им шофер или автомеханик. Но при этом, появляясь на людях, что случалось все реже, поскольку он ограничивал общение со старыми знакомыми (в том числе, должен заметить, стал реже заглядывать и ко мне), он проявлял свою прежнюю нерешительность, а безответственное ребячество проявлялось даже сильнее, чем в прошлом. В то время как лицо Асенат старело, на лице Эдварда — за исключением упомянутых выше случаев — словно застыла маска гипертрофированной апатии, и лишь изредка по нему пробегала тень печали или понимания. Все это действительно озадачивало. В то же время супруги Дерби практически выпали из университетского кружка — не покинули его, но, по слухам, ушли из-за того, что некоторые их новые темы изучения и опыты шокировали даже самых циничных из декадентствующей компании.
На третий же год их брака Эдвард начал открыто намекать мне о своих страхах и разочаровании. Он обронил замечание, что чего-то «зашло слишком далеко», и туманно говорил, что ему нужно «обрести свою личность». Сначала я пропускал подобные замечания мимо ушей, но потом стал задавать осторожные вопросы, вспомнив, что рассказывала дочь моего приятеля о способности Асенат оказывать гипнотическое воздействие на других девочек — когда школьницам казалось, будто они оказывались в ее теле и смотрели со стороны на самих себя. Мои вопросы, похоже, пробудили в нем одновременно тревогу и благодарность, и однажды он даже пробормотал, что поговорит со мной более серьезно, но потом. Примерно тогда умер старый мистер Дерби, за что я впоследствии благодарил судьбу. Эдвард тяжко переживал это событие, хотя оно не выбило его из колеи. Со времени женитьбы он виделся с отцом удивительно редко, ибо Асенат обратила на себя всю его тягу к семейным узам. Некоторые говорили, что он отнесся к утрате родителя с поразительной бесчувственностью, особенно принимая во внимание, что после смерти отца его лихие поездки на автомобиле участились. Теперь он захотел переселиться обратно в старый родительский особняк, но Асенат настаивала на том, чтобы оставаться в кроуниншилдском доме, который ей более привычен.
Вскоре после того моя жена услышала нечто удивительное от подруги, входившей в число тех немногих, кто не прервал отношения с супругами Дерби. Однажды та отправилась на Хай-стрит к ним в гости и увидела стремительно отъезжающий от кроуниншилдского дома автомобиль, за рулем которого сидел Эдвард с необычным самоуверенным и почти насмешливым выражением лица. Она позвонила в дверь, и омерзительного вида девка сообщила, что Асенат тоже отсутствует. Но, уходя, посетительница поглядывала в окна дома, и в одном из окон библиотеки Эдварда заметила быстро спрятавшееся лицо — лицо с выражением неописуемого страдания, отчаяния и тоскливой беспомощности. Это было — во что, впрочем, верилось с трудом из-за свойственной ей надменности — лицо Асенат, но рассказывавшая готова была поклясться, что в тот момент на нее смотрели печальные и смущенные глаза бедного Эдварда.
Теперь визиты Эдварда ко мне случались все чаще, а его намеки становились все более конкретными. Трудно было поверить в то, о чем он говорил, даже в овеянном древними легендами Аркхеме, но он исповедовался в своих темных знаниях с такой искренностью и убежденностью, что вызывал беспокойство за его душевное здоровье. Он рассказывал об ужасных сборищах в укромных местах, об исполинских руинах в глубине мэнских лесов, где бесконечная каменная лестница ведет в бездну, полную мрачных тайн, где комплексные углы позволяют пройти через незримые стены в иные измерения времени и пространства, и о пугающих сеансах взаимообмена душами, который позволяет исследовать дальние и потаенные места — в других мирах, в иных пространственно-временных континуумах.
Время от времени для подтверждения каких-то совсем безумных заявлений он демонстрировал предметы, повергавшие меня в полное замешательство — предметы неуловимой окраски и с переменчивым узором, какие не встретишь на нашей земле и чьи безумные формы и изгибы не соответствовали никакому известному назначению и нарушали законы геометрии. Эти предметы, по его словам, происходили «не отсюда»; только его жена знала, как можно получить их. Порой — но всегда лишь испуганным и полуразборчивым шепотом — он говорил о своих подозрениях относительно старого Эфраима Уэйта, которого, бывало, встречал в студенческие годы в университетской библиотеке. Эти туманные намеки не касались чего-то конкретного, но, похоже, как-то относились к мучившим его сомнениям, вроде того, точно ли старый колдун умер — как в духовном, так и в физическом смысле.
Временами Дерби внезапно прекращал свои откровения, и я даже подумывал, не обладала ли Асенат способностью контролировать его речь на расстоянии и не заставляла ли его умолкать с помощью какого-то телепатического месмеризма, каким-то применением того дара, который проявлялся у нее еще в школе. Конечно, она подозревала, что он мне чего-то рассказывал, ибо долгое время пыталась воспрепятствовать его визитам ко мне — словами и взглядами, полными необъяснимой силы. Ему приходилось преодолевать трудности, чтобы заглядывать ко мне, ибо хотя он и делал вид, будто идет куда-то в другое место, некая незримая сила сдерживала его или заставляла на какое-то время забыть о цели прогулки. Обычно он приходил ко мне, когда Асенат отсутствовала — «вне своего тела», как он однажды выразился. Она всегда позже узнавала об этом — слуги следили за всеми его приходами и уходами, — но, очевидно, не считала нужным принимать решительные меры.
Глава 4
В тот августовский день, когда я получил телеграмму из Мэна, Дерби был женат более трех лет. Мы уже два месяца не виделись, но я слышал, что он уехал «по делам». Асенат вроде бы его сопровождала, хотя глазастые сплетники приметили за двойными портьерами в окнах их дома чью-то тень и проследили, какие покупки совершают слуги. И вот теперь судебный исполнитель Чесанкука телеграфировал мне о вымазанном в грязи безумце, выбежавшем из леса, выкрикивая всякий бред и зовя меня на помощь. Это был Эдвард, и он смог вспомнить только свое имя и адрес.
Чесанкук расположен рядом с лесным поясом Мэна — обширным и мало освоенным густым лесным массивом, — и потребовался целый день безумной тряски на автомобиле по удивительной и малоприятной глуши, чтобы туда добраться. Я нашел Дерби в подвальном помещении стоящей в черте города фермы в состоянии сменяющих друг друга буйства и полной апатии. Он сразу узнал меня и тут же начал изливать маловразумительный и отчасти бессвязный поток слов.
— Дэн, во имя Господа! Впадина шогготов! На шесть тысяч ступеней вниз… Мерзость из мерзостей!.. Я бы ни за что не позволил ей взять меня с собой — и вот я здесь… Иа! Шаб-Ниггурат!.. Тень восстала от алтаря, и было там пять сотен воющих… Тварь в одеянии с капюшоном блеяла: «Камог! Камог!» — таково было тайное имя старика Эфраима на этом шабаше… Я оказался там, куда она обещала меня не брать… За минуту до того я был заперт в библиотеке, а затем оказался здесь, куда она ушла с моим телом, — в проклятом месте, в нечестивой глубокой впадине, где начинается царство черной мглы, врата в которое охраняют стражи… Я видел шоггота… он менял свое обличье… я не вынесу этого… я убью ее, если она еще раз отправит меня туда… я убью это отродье… ее, его, это нечто… я убью это! Убью это собственными руками!
У меня ушел час на то, чтобы успокоить его, и наконец он затих. На следующий день я купил для него в поселке пристойную одежду и отбыл с ним в Аркхем. Истерия закончилась, и он погрузился в молчание, хотя вдруг начал бормотать что-то самому себе, когда автомобиль проезжал по Огасте, словно вид городских построек пробудил в нем какие-то неприятные воспоминания. Было ясно, что возвращаться домой он не хочет, и, предвкушая бредовые откровения о его жене — порожденные, безусловно, каким-то гипнотическим воздействием, действительно на него оказанным, — я подумал, что будет лучше, если он туда не вернется. Я решил, что на время размещу его в своем доме, и не важно, как к этому отнесется Асенат. Потом я помогу ему получить развод — ибо, несомненно, здесь сказывались некие психические факторы, которые делали этот брак для него самоубийственным. Как только мы покинули лесистую местность и поехали по открытому полю, бормотание Дерби стихло, и он задремал рядом со мной в машине.
Когда мы перед закатом ехали через Портленд, он снова начал бормотать, более членораздельно, чем раньше, и я услышал поток безумных откровений об Асенат. Судя по его протяженности, нервы Эдварда были уже на пределе, ибо он сплел диковинный клубок всякого бреда. Нынешнее происшествие с ним, судя по его отрывочным фразам, было лишь одно из длинного ряда подобных. Она пользовалась им, и он знал, что настанет день, когда она заберет его насовсем. Сейчас она, возможно, была вынуждена отпустить его потому лишь только, что не способна удерживать его очень долго. Она то и дело забирала его тело и удалялась в неведомые края для совершения неведомых обрядов, а его оставляла в ее собственном теле и запирала в доме, но иногда ей не удавалось удерживаться в нем, и он оказывался внезапно в своем теле, но в каком-то далеком и жутком месте. При этом иногда ей удавалось вновь завладеть им, но не всегда. Часто он оказывался один в незнакомом месте, вроде того, где я его нашел, и всякий раз ему приходилось искать дорогу домой черт знает откуда, находить кого-нибудь, кто готов сесть за руль его автомобиля.
Самое ужасное, что власть Асенат над ним сохранялась с каждым разом все дольше. Она хотела стать мужчиной — человеком в полном смысле слова, — вот для чего в нем нуждалась. В нем она разгадала сочетание прекрасного интеллекта и слабой воли. Со временем ей удалось бы вытеснить его и поселиться в его теле — поселиться, чтобы стать великим магом, как и ее отец, — а его бы она оставила в женской оболочке, которая не вполне даже человеческая. Да, теперь он знает правду об иннсмутском роде. В древности здесь велись какие-то темные дела с тварями из моря, и это было ужасно… И старый Эфраим… Он знал эту тайну и, состарившись, совершил нечто чудовищное, чтобы продлить свою жизнь — а желал он жить вечно… с Асенат ему все удалось… одно удачное перевоплощение уже свершилось.
Слушая бормотанье Дерби, я посмотрел на него внимательнее, чтобы проверить полученное от предыдущего осмотра впечатление о происшедшей в нем перемене. Странным образом он казался в лучшей форме, чем обычно, — более крепким физически и вполне нормально развитым, без малейшего намека на болезненную немощь, вызванную ленным образом жизни. Похоже, что, несмотря за всю свою прежнюю затворническую жизнь, он стал по-настоящему активным, а его тело должным образом натренировано, из чего я сделал вывод, что Асенат заставила его направить силы и волю в непривычное русло. Но прямо сейчас его разум находился в плачевном состоянии, ибо он бубнил сумасбродную чушь про свою жену, про черную магию, про старика Эфраима и про какое-то разоблачение, которое должно будет рассеять даже мои сомнения. Он повторял имена, которые я припомнил из когда-то давно просмотренных запретных книг, но временами заставлял меня содрогнуться от осознания стройности его мифических измышлений — их логичной связности, — проходившей через все его излияния. Время от времени он делал паузы, словно пытаясь набраться мужества для какого-то последнего и ужасного признания.
— Дэн, Дэн, ты разве не помнишь его: дикий взгляд, растрепанная борода, которая так и не поседела полностью? Однажды он посмотрел на меня так, что я этого никогда не забуду. Теперь она смотрит на меня таким же взглядом! И я знаю почему! Он нашел ее в «Некрономиконе», эту формулу! Я не смею пока назвать тебе точную страницу, но, когда назову, ты сам прочитаешь и поймешь. Тогда ты узнаешь, что меня поработило. Дальше, дальше, дальше, дальше — тело за телом — он не собирается умирать! Сияние жизни… он знает, как прервать связь… оно может мерцать, даже если тело мертво. Я дам тебе намек, и, может быть, ты догадаешься. Слушай, Дэн, — ты знаешь, почему моя жена прилагает столько усилий, чтобы писать так по-дурацки, с наклоном в обратную сторону? Ты когда-нибудь видел рукописи старика Эфраима? Хочешь знать, почему меня пробрала дрожь, когда я однажды увидел сделанные Асенат второпях записи?
Асенат… да существует ли такая личность? Почему подозревали, что у мертвого Эфраима в желудке был яд? Почему Гилманы рассказывают шепотом, что он орал словно напуганный ребенок, когда сошел с ума и Асенат заперла его в глухой комнате на мансарде, где был… тот, другой? Душа ли старика Эфраима оказалась заперта там? Кто кого запер? И почему он искал много месяцев кого-нибудь с ясным умом и слабой волей?.. Почему он сыпал проклятиями из-за того, что у него не сын, а дочь? Скажи мне, Дэниел Аптон, что за дьявольский обмен совершился в том доме ужаса, где это богохульное чудовище по своей прихоти распоряжалось доверчивым и слабовольным получеловеческим ребенком? Разве не сделал он переход постоянным — и разве не то же хочет она в итоге сделать со мной? Скажи мне, почему эта тварь, что называет себя Асенат, оставаясь в одиночестве, пишет по-другому, так, что ее почерк и не отличишь от…
В этот момент что-то случилось. Голос Дерби в процессе разговора перешел на визг, затем вдруг он осекся и почти с механическим щелчком замер. Я вспомнил, как подобное случалось во время бесед у меня дома — когда его излияния внезапно резко обрывались, и я почти воочию видел воздействие неуловимой телепатической силы Асенат, лишавшей его дара речи. Однако на сей раз это было несколько иначе — и, по моему ощущению, несравненно более жутко. Лицо человека рядом со мной на мгновение неузнаваемо исказилось, а тело сотрясла дрожь, словно все кости, внутренние органы, мышцы, нервы и железы приспосабливались к совершенно другой осанке, к другой манере поведения и вообще к другой личности.
В чем именно заключался кошмар, я сказать не сумею; тем не менее меня захлестнула такая мощная волна отвращения и тошноты — и сковало такое сильное ощущение неестественности и ненормальности происходящего, — что я едва не выпустил руль из рук. Тот, кто сидел рядом со мной, казался сейчас не столько моим старым другом, сколько неким чудовищным захватчиком из космоса, неким дьявольским воплощением неведомых и злобных космических сил.
Я потерялся всего лишь на мгновенье, но мой спутник тут же схватился за руль и заставил меня поменяться с ним местами. Сгустились уже сумерки, а огни Портленда остались далеко позади, так что я почти не различал его лица. Однако глаза его удивительным образом светились, и я понял, что он, должно быть, сейчас в том странно возбужденном состоянии, совершенно ему не свойственном, в каком его уже не раз замечали. Это казалось странным и неправдоподобным: что робкий Эдвард Дерби, который никогда не умел настоять на своем и даже не пытался научиться водить автомобиль, мог приказать мне уступить место за рулем моей машины — но все же именно так и произошло. Некоторое время он сохранял молчание, и я, охваченный необъяснимым ужасом, был этому рад.
В свете уличных фонарей Биддефорда и Соко я различил его плотно сжатый рот и поежился от блеска его глаз. Люди были правы — в таком расположении духа он был дьявольски похож на свою жену и на старика Эфраима. И меня не удивляло, почему он в таком состоянии казался отталкивающим — сейчас в нем определенно было что-то сверхъестественное, и я остро чувствовал зловещую составляющую происходящего, ибо только что выслушивал его дикий бред. Для меня, знающего Эдварда Пикмана Дерби всю жизнь, этот человек был незнакомцем, как-то проникшим к нам из черной бездны.
Он не говорил ни слова до тех пор, пока мы не оказались на неосвещенном участке шоссе, а когда заговорил, его голос звучал как-то незнакомо. Он стал более глубоким, более жестким и более решительным, чем обычно; даже выговор и произношение переменились — впрочем, слегка, вызывая не более чем смутное беспокойство. В его тембре мне показалось присутствие глубокой и неподдельной иронии — не мимолетной и бессмысленно дерзкой псевдоиронии желторотых «эстетов», которой старался подражать Дерби, но некой мрачноватой, имеющей глубокую основу, всеобъемлющую и несущую потенциальную склонность ко злу. Меня изумило, как быстро самообладание сменило приступ панического словоблудия.
— Надеюсь, ты выбросишь из головы эту мою истерику, Аптон, — сказал он. — Ты знаешь, как я нервничаю, и, полагаю, простишь меня. Я крайне благодарен, конечно, за то, что ты согласился доставить меня домой. И выбрось из головы весь тот безумный бред, те глупости, что я наговорил тебе о своей жене и вообще обо всем. Такое случается из-за чрезмерной образованности. У меня в голове много самых диковинных концепций, и когда мозг переутомляется, он порождает всякого рода фантастические измышления. Мне необходимо как следует отдохнуть — возможно, некоторое время ты меня не увидишь, но не стоит корить за это Асенат.
Это мое путешествие наверняка кажется несколько странным, но все объясняется очень просто. В северных лесах сохранилось множество древних реликвий индейцев — священные камни и тому подобное, — имеющих большое значение для фольклора, и мы с Асенат занимаемся их изучением. Мы провели очень сложные поиски, так что у меня, похоже, крыша поехала. Придется послать кого-нибудь за моей машиной, когда вернусь домой. Месяц покоя меня полностью восстановит.
Не помню, что я тогда отвечал, ибо все мои мысли были сосредоточены на пугающей чуждости облика моего спутника. С каждой минутой мое ощущение трудного для восприятия космического ужаса усиливалось, и наконец меня охватило почти маниакальное желание, чтобы эта поездка поскорее закончилась. Дерби не предложил мне снова сесть за руль, но я только радовался, что Портсмут и Ньюберипорт мы миновали на бешеной скорости.
На развилке, где главное шоссе уходит глубже в материк и огибает Иннсмут, я испугался, что мой водитель может свернуть на пустынную дорогу, идущую ближе к берегу и проходящую через проклятый город. Однако он этого не сделал, и мы стремительно пронеслись мимо Роули и Ипсвича к пункту нашего назначения. Мы прибыли в Аркхем до полуночи, и в окнах старого кроуниншилдского дома еще горел свет. Дерби вышел из машины, торопливо повторяя слова благодарности, и я, с чувством очень странного облегчения, поехал домой. Это была ужасная поездка — ужас был тем сильнее, что я не мог понять его причины, — и я ничуть не опечалился замечанию Дерби, что мы не увидимся теперь долгое время.
Следующие два месяца в городе ходили разные слухи. Поговаривали, что Дерби все чаще видят в состоянии крайнего возбуждения, а Асенат почти не показывается даже тем, кто заходит к ней в гости. Эдвард посетил меня лишь раз, ненадолго заехав в автомобиле Асенат — который вернули каким-то образом из Мэна — забрать кое-какие книги, которые давал мне почитать. Он находился в своем новом состоянии и пребывал в моем доме не дольше, чем потребовалось для нескольких малозначащих реплик. Было вполне ясно, что в этом состоянии ему со мной обсуждать нечего, и я обратил внимание, что он не удосужился даже подать обычный условный сигнал — три и два звонка в дверь. Как и тогда в автомобиле, я ощутил вызывающий головокружение бесконечно глубокий ужас, причин которого не понимал, поэтому то, что он вскоре ушел, воспринял с нескрываемым облегчением.
В середине сентября Дерби уехал на неделю, и кое-кто из декадентствующих студентов, говоря об этом со знанием дела, намекал на встречу с печально знаменитым главой секты, который после изгнания из Англии обосновался в Нью-Йорке. Я же никак не мог выбросить из головы ту странную поездку из Мэна. Преображение, свидетелем которого я стал, глубоко поразило меня, и я снова и снова ловил себя на том, что пытаюсь дать какое-то объяснение ему — и тому крайнему ужасу, который оно во мне вызвало.
Но самые странные слухи сообщали о каких-то рыданиях, доносящихся из старого кроуниншилдского дома. Голос, похоже, был женский; и кое-кто из молодежи полагал, что он похож на голос Асенат. Рыдания всегда были недолгими, и всякий раз прерывались, словно бы насильно заглушенные. Поговаривали даже о желательности полицейского расследования, но все это развеялось, когда Асенат однажды появилась на улицах города и стала сама навещать своих знакомых, извиняясь за свое отсутствие и между делом упоминая о нервном расстройстве и истерике своей гостьи из Бостона. Ту гостью никто никогда не видел, но появление Асенат погасило все кривотолки. А затем кто-то еще более усложнил ситуацию, рассказав шепотом, что несколько раз из дома доносились мужские рыдания.
Однажды вечером в середине октября я услышал знакомые три и два звонка в дверь. Открыв сам, я увидел на пороге Эдварда и тотчас отметил, что он — прежний, каким я не видел его с той ужасной поездки из Чесанкука. На его лице был отпечаток бури эмоций, среди которых, похоже, преобладали страх и торжество, а когда я закрывал за ним дверь, он украдкой посмотрел назад через плечо.
Неловко проследовав за мной в кабинет, он попросил виски, чтобы успокоить нервы. Я едва сдерживал желание задать ему кучу вопросов, выжидая, пока он сам не расскажет о том, о чем хочет сказать. Наконец он сдавленно сообщил:
— Асенат уехала, Дэн. Вчера вечером, когда слуги ушли спать, мы с ней долго беседовали, и я добился от нее обещания больше не мучить меня. Конечно, я использовал некоторые… оккультные средства защиты, о которых никогда тебе не рассказывал. И ей пришлось уступить, хотя она и была страшно разгневана. Она собрала вещи и отправилась в Нью-Йорк… ушла, предполагая успеть на бостонский поезд в восемь двадцать. Полагаю, пойдут сплетни, но что поделаешь… Пожалуйста, не говори никому, что у нас была размолвка, просто скажи, что она уехала в долгую научную экспедицию.
Скорее всего, она будет жить с кем-то из ее жутких поклонников. Надеюсь, она поедет на запад и там подаст на развод… как бы то ни было, я добился от нее обещания держаться подальше и оставить меня в покое. Это было ужасно, Дэн… она выкрадывала мое тело… вытесняла меня… превратила меня в узника. Я вел себя тихо и делал вид, что на все согласен, но был начеку. Действуя осторожно, я мог спланировать свои действия, ибо она не умела в буквальном смысле прочитывать все мои мысли. Из моих тайных замыслов она смогла понять только склонность к бунту, но она всегда считала меня беспомощным. У меня не было ни малейших иллюзий, что я могу оказаться сильнее ее… но я знаю несколько заклятий, и они сработали.
Дерби снова бросил взгляд через плечо и отпил еще виски.
— Когда эти чертовы слуги утром проснулись, я дал им расчет. Им это ужасно не понравилось, они стали задавать вопросы, но все же ушли. Они все чем-то на нее похожи — эти иннсмутцы, — и почти приятели… Надеюсь, они оставят меня в покое… Мне очень не понравилось, как они посмеивались, когда уходили. Надо бы снова нанять прежних папиных слуг. Я теперь перееду обратно в наш дом.
Подозреваю, ты можешь счесть меня сумасшедшим, Дэн, — но в истории Аркхема полно подтверждений такого, что я тебе рассказывал… и что еще расскажу. Ты же видел одно из преображений — тогда, в автомобиле, по дороге домой из Мэна, после того как я рассказал тебе про Асенат. Тогда она завладела мною и изгнала из моего тела. Последнее, что помню, — это как начал рассказывать тебе, что она за дьявол. Затем она овладела мною, и через мгновение я оказался дома в библиотеке, где меня заперли эти чертовы слуги, в ее проклятом сатанинском теле, которое даже не вполне человеческое… Ты же понимаешь, что это она ехала с тобой домой… эта хищная волчица в моей шкуре… Ты же не мог не ощутить разницу!
Дерби ненадолго умолк, а меня пробрала дрожь. Конечно, я заметил разницу — но мог ли принять в качестве объяснения такую безумную фантазию? Однако мой гость, пребывающий в полном смятении, стал рассказывать еще более невероятное.
Я должен был спасти себя — должен был, Дэн! Она бы окончательно завладела мною в День всех святых — они устраивают шабаши под Чесанкуком, и все закончилось бы обрядом жертвоприношения. Она бы окончательно завладела мною — она стала бы мной, а я ею… навсегда… и стало бы слишком поздно. Мое тело навсегда стало бы ее телом, она сделалась бы мужчиной — в полной мере человеком, как ей хотелось… подозреваю, что после этого она собиралась убрать меня со своего пути… убить свое бывшее тело со мной внутри, будь она проклята, как уже делала раньше… как она или оно делало раньше… — Лицо Эдварда теперь исказила свирепость, и он приблизил свой рот почти вплотную к моему уху, понизив голос до шепота. — Ты должен знать о том, о чем я намекал в машине, — что она вовсе не Асенат, а не кто иной, как сам старик Эфраим. Я заподозрил это полтора года назад, а теперь в точности знаю. Об этом свидетельствует ее почерк, когда она перестает себя жестко контролировать, — порой она делает какие-нибудь записи в точности тем же почерком, каким написаны рукописи ее папаши, в каждой черточке, и, бывало, рассказывала такое, чего никто, кроме старика Эфраима, не смог бы рассказать. Он обменялся с ней телом, когда почувствовал приближение смерти — она была единственной, кого ему удалось найти с нужным ему складом ума и достаточно слабой волей, — и завладел ее телом навсегда, точно так же, как она уже почти завладела моим, а затем отравил старое тело, в которое переселил ее. Разве ты не видел десятки раз душу старика Эфраима, глядящую из ее дьявольских глаз — и из моих, когда она контролировала мое тело?
У него сперло дыхание, и он сделал паузу, чтобы успокоиться. Я молча ждал; когда он продолжил, голос его звучал почти нормально. Вот, подумал я, кандидат в психиатрическую лечебницу; но я не хотел быть тем человеком, который его туда отправит. Возможно, время и свобода от Асенат его вылечат. Я видел, что у него нет желания снова погружаться в мрачные глубины оккультизма.
— Я потом расскажу тебе больше… сейчас мне нужен долгий отдых. Я расскажу кое-что о тех запретных ужасах, в которые она меня ввергала, кое-что о кошмарах древних времен, которые до сих пор прячутся в потаенных уголках мира благодаря ужасным жрецам, поддерживающим в них жизнь. Некоторым людям ведомо о мироздании нечто такое, чего смертные знать не должны, и они способны делать то, чего никому делать не следует. Я увяз в этом по шею, но с меня довольно. Будь я хранителем библиотеки Мискатоникского университета, я спалил бы немедленно проклятый «Некрономикон» и все прочие книги.
Но теперь она не сможет мной завладеть. Я должен съехать из того проклятого дома как можно скорее и перебраться в свой старый дом. Ты поможешь мне, я уверен, если это понадобится. Эти ее дьявольские слуги… и если люди будут допытываться, где Асенат… Понимаешь, я же не могу дать им новый адрес… И еще есть определенные группы исследователей — разные секты, ну, ты понимаешь, — которые могут неправильно истолковать наш разрыв… У некоторых из них просто чудовищные воззрения и методы. Я знаю, что ты мне поможешь, чего бы ни случилось — даже если я расскажу тебе нечто, шокирующее тебя…
Я оставил Эдварда ночевать в одной из гостевых комнат, и к утру он, похоже, успокоился. Мы обсудили с ним детали его предполагающегося переезда в фамильный особняк Дерби, и я надеялся, что он не замедлит переменить свой образ жизни. На следующий вечер он ко мне не зашел, но в последующие недели мы виделись часто. В разговорах мы старались как можно меньше касаться странных и малоприятных тем и в основном обсуждали предстоящий ремонт в старом доме Дерби и мои с сыном летние путешествия, к которым Эдвард обещал присоединиться.
Об Асенат мы почти не говорили, ибо я видел, что эта тема беспокоит его слишком сильно. Слухов в городе, конечно, хватало, но ничего удивительного в этом не было, принимая во внимание все прежние странности, связанные со старым кроуниншилдским домом. Не понравилось мне лишь то, что банкир Дерби как-то не в меру разоткровенничался в Мискатоникском клубе о чеках, которые Эдвард регулярно посылал в Иннсмут неким Моисею и Абигейл Сарджент и Юнис Бабсон. Было похоже, что он платил какую-то дань прежним мерзким на вид слугам, но мне ничего про это не рассказывал.
Я с нетерпением ждал лета — и каникул у моего сына, студента Гарварда, — чтобы мы вместе с Эдвардом отправились в Европу. Но я замечал, что он поправляется не так быстро, как хотелось бы, ибо в случавшихся у него время от времени приступах бодрого отношения к жизни проскальзывало что-то истерическое, а вот подавленность и депрессия охватывали его все чаще. Ремонт в старом особняке Дерби к началу декабря был завершен, но Эдвард то и дело откладывал свой переезд. Хотя он ненавидел кроуниншилдский дом и явно страшился его, но в то же время был словно порабощен им. Он все еще не начал укладывать вещи и придумывал любые предлоги, лишь бы отложить это. Когда же я прямо указал ему на это, он почему-то вдруг перепугался. Старый дворецкий его отца — он проживал вместе с ним, вместе с прежними слугами Дерби — однажды сообщил мне, что ему кажутся странными бесцельные блуждания Эдварда по дому и особенно частые посещения подвальной кладовки. Я поинтересовался, не присылала ли ему Асенат письма с какими-нибудь требованиями, но дворецкий сказал, что от нее не было вообще никаких писем.
Заглянув ко мне в гости как-то вечером накануне Рождества, Дерби вдруг совсем сломался. Я осторожно подводил беседу к совместному путешествию будущим летом, как он вдруг завопил и буквально выпрыгнул из кресла с выражением шокирующего, неконтролируемого ужаса на лице — здравомыслящему человеку подобную безмерную панику и омерзение, наверное, могла бы внушить лишь разверзшаяся пучина кошмаров.
— Мой мозг! Мой мозг! Боже, Дэн… это давит… извне… стучится… царапается… эта дьяволица… прямо сейчас… Эфраим… Камог! Камог! Впадина шогготов… Иа! Шаб-Ниггурат! Козел с легионом младых!.. Пламя… пламя… извне тела, извне жизни… в земле… о Боже!
Я толкнул его назад в кресло и, когда безумная истерика сменилась апатией, влил ему в рот немного вина. Он не сопротивлялся, но его губы двигались так, словно он разговаривал сам с собой. Вскоре я понял, что он пытается что-то сказать мне, и приблизил ухо к его рту, пытаясь разобрать едва слышные слова.
— Опять… опять… она пытается… я мог бы догадаться… ничто не остановит эту силу — ни расстояние, ни магия, ни смерть… оно приходит и приходит, как правило, по ночам… я не могу сбежать… это ужасно… о Боже, Дэн, если бы ты мог представить, как это ужасно…
Когда он снова впал в апатию, я подложил ему подушки и позволил спокойно уснуть. Врача вызывать я не стал, ибо понимал, что услышу относительно душевного здоровья своего друга, и решил дать его организму шанс самому справиться с этим. Около полуночи он проснулся, и я отвел его наверх в постель, но утром он ушел. Он бесшумно выскользнул из дома, и когда я позвонил ему домой, его дворецкий сообщил, что он вернулся и в волнении расхаживает по библиотеке.
С того момента состояние рассудка Эдварда быстро ухудшалось. Сам он ко мне больше не заходил, зато я стал навещать его ежедневно. Он все время сидел в своей библиотеке, уставясь в пустоту и прислушиваясь к чему-то, ведомому лишь ему. Иногда он поддерживал вполне разумный разговор, но только на заурядные повседневные темы. Любые упоминания о его несчастье, или о планах на будущее, или об Асенат приводили его в буйство. Его дворецкий рассказал, что по ночам с ним бывают пугающие припадки, во время которых он способен случайно нанести себе увечья.
Я долго и не раз беседовал с его врачом, банкиром и адвокатом и в конце концов призвал к Эдварду врача-терапевта и двух его коллег более узкой специализации. Взрыв гнева после первых же заданных ему вопросов был яростным, но достойным жалости, и тем же вечером его отчаянно сопротивляющееся и извивающееся тело увезли в закрытом автомобиле в аркхемскую психиатрическую лечебницу. Я взялся быть его опекуном и навещал дважды в неделю, выслушивая чуть ли не со слезами на глазах безумные выкрики и монотонное повторение страшным шепотом одних и тех же фраз, вроде: «Я должен был это сделать… я должен был это сделать… оно завладеет мной… оно завладеет мной… там… там, во тьме… Мама! Мама! Дэн! Спаси меня… спаси меня…»
Было неведомо, есть ли надежда на его выздоровление, но я старался сохранять оптимизм. У Эдварда должна быть крыша над головой, когда его отпустят, потому я перевез его слуг в особняк Дерби, что он, безусловно, давно сделал бы сам, будь у него с головой все в порядке. Но я не мог решить, как поступить с кроуниншилдским домом, со всей этой кучей сложных приборов и собранием невероятно диковинных вещей, поэтому оставил все, как было, попросив слуг Дерби заходить туда раз в неделю и прибирать в главных комнатах, а истопнику дав указание в эти дни затапливать печь.
Заключительный кошмар приключился перед Сретением, чему предшествовал, по жестокой иронии, проблеск ложной надежды. В конце января мне как-то утром позвонили из лечебницы и сообщили, что к Эдварду внезапно вернулся рассудок. У него по-прежнему есть провалы в памяти, сказали мне, однако ясность ума восстановилась. Конечно, ему еще предстоит побыть какое-то время под присмотром врачей, но благоприятный исход дела сомнений не вызывает. Если все будет хорошо, через неделю его можно забрать.
Я поспешил к Эдварду, переполненный радостью, но остолбенел, когда сиделка привела меня в его палату. Больной поднялся, чтобы приветствовать меня, и с вежливой улыбкой протянул мне руку; но я тут же увидел, что он находится в том самом странно возбужденном состоянии, которое совершенно чуждо его натуре — та уверенная в себе личность, когда-то ужасно напугавшая меня, которая, как клялся когда-то Эдвард, была не кем иным, как захватившей его тело Асенат. Тот же пылающий взгляд, так похожий на взгляд Асенат и старика Эфраима, тот же плотно сжатый рот, а когда он заговорил, я ощутил в голосе ту же угрюмую, распространяющуюся на все иронию — глубокую иронию, пронизанную готовностью совершить любое зло. Это была та самая личность, что сидела за рулем моего автомобиля в тот вечер пять месяцев назад, та личность, которую я не видел с того дня, когда он, забыв позвонить в дверь условным сигналом, породил во мне смутный страх, — и теперь он вызвал во мне то же невнятное ощущение дьявольской чуждости и невыразимой мерзостности.
Он заговорил о необходимых приготовлениях перед выпиской из лечебницы, и мне оставалось только соглашаться с ним, несмотря на удивительные провалы в его воспоминаниях о недавних событиях. И в то же время я ощущал в этом что-то ужасное, необъяснимо неправильное и ненормальное. Это существо вызывало во мне ужас непонятного происхождения. Это был человек совершенно в здравом уме — но был ли это тот Эдвард Дерби, которого я знал? Если нет, то кто или что это — и куда делся Эдвард? Следует ли выпустить эту тварь на свободу или держать под замком? Или ее надо вообще стереть с лица земли? В каждом слове, изрекаемом этом существом, чувствовалось что-то бездонно сардоническое, а взгляд, похожий на взгляд Асенат, придавал особую и омерзительную насмешливость его словам о близком освобождении, завоеванном ценой заточения в слишком стесненных условиях. Должно быть, я не смог скрыть своего замешательства и почел за благо поскорее убраться оттуда.
Весь тот день и последующий я ломал голову над этой проблемой. Что же случилось? Что за разум глядел на меня из чужих глаз на лице Эдварда? Я не мог думать ни о чем, кроме как об этой ужасной загадке, и оставил все попытки заниматься своей обычной работой. На второй день утром позвонили из лечебницы и сообщили, что состояние выздоравливающего пациента не изменилось, и к вечеру я был в состоянии, близком к нервному расстройству, — это я могу откровенно признать, хотя кто-то может сказать, что именно мое тогдашнее состояние сказалось на моем поведении. Против этого я могу сказать только, что моим безумием невозможно объяснить все произошедшее после этого.
Глава 5
Ночью — на второй день после моего посещения лечебницы — меня охватил неодолимый ужас, сдавливающий в тисках панического черного страха, от которого не удавалось избавиться. Началось это с телефонного звонка около полуночи. Из всех домочадцев только я не спал и потому сонно взял трубку в библиотеке. Никто не отозвался с того конца провода, и я уже собрался положить трубку и отправиться в постель, как мое ухо уловило какой-то слабый звук. Может, кто-то с трудом пытается со мной поговорить? Вслушиваясь, я вроде бы разобрал хлюпающий звук и в нем с удивлением распознал намек на невнятные неразличимые слоги и даже слова. «Кто здесь?» — обратился я, но в ответ услышал лишь: «буль… буль… буль-буль…». Мне показалось, что этот звук был каким-то механическим; вообразив, что это какой-нибудь сломанный аппарат, способный лишь принимать, но не издавать звуки, я добавил: «Вас не слышно. Лучше повесьте трубку и обратитесь в справочное бюро». И тут же услышал, как трубку на том конце положили.
Это, как я сказал, случилось около полуночи. Когда потом проследили, откуда поступил звонок, оказалось, что звонили из кроуниншилдского дома, хотя оставалась еще добрая половина недели до очередного посещения его слугами. Замечу здесь, что в доме действительно обнаружили какие-то следы, в дальней подвальной кладовке все было перевернуто, повсюду грязь, выкинуты вещи из комода, мерзкие отпечатки на телефонной трубке, разбросаны листы писчей бумаги, и, наконец, повсюду стояла отвратительная вонь. Полицейские, дурачки, признают только свои глупые гипотезы и до сих пор пытаются найти злодеев-слуг, которым посреди нынешнего переполоха удалось скрыться. Уверяют, что те так мерзко отомстили, а я попал в число жертв, потому что был ближайшим другом Эдварда и его советчиком.
Идиоты! Они вообразили, что эти глупые скоморохи могли подделать его почерк? Они вообразили, что те могли учинить все то, что произошло далее? Неужели они настолько слепы, что не заметили изменений в теле Эдварда? Что же касается меня, сейчас я верю всему, что рассказывал мне Эдвард. За гранью жизни есть ужасы, о которых мы даже не подозреваем, но время от времени человеческие злодеяния призывают их, позволяя вторгаться в нашу жизнь. Эфраим — Асенат — это отродье дьявола призвало их, и они поглотили Эдварда так же, как сейчас пытаются поглотить меня.
Могу ли я быть уверенным в своей безопасности? Эти силы способны выжить даже после смерти физического тела. На следующий день после полудня, когда я вышел из прострации и вновь обрел способность связно говорить и контролировать свое тело, я отправился в сумасшедший дом и застрелил его — ради Эдварда и ради всего человечества, но все это без толку, пока его не кремировали! Тело сохраняют для какого-то дурацкого вскрытия, которое будут производить несколько врачей, но я утверждаю: его необходимо кремировать. Его необходимо кремировать — того, кто был вовсе не Эдвардом Дерби, когда я в него стрелял. Я сойду с ума, если этого не сделают, ибо я, возможно, следующий. Но у меня воля вовсе не слабая, и я не позволю подорвать ее теми кошмарами, которые, я знаю, бурлят вокруг. Это некая одна тварь: Эфраим, Асенат, Эдвард — и кто следующий? Я не позволю изгнать меня из собственного тела! Я не стану меняться душой с изрешеченным пулями исчадием ада, оставшимся там, в психбольнице!
Но позвольте мне связно рассказать о последнем кошмаре. Я не стану напирать на то, что полиция упрямо игнорирует рассказы про кого-то низкорослого, уродливого и ужасно зловонного, которого встретили как минимум трое прохожих на Хай-стрит около двух часов ночи, и необычные отпечатки ног в определенных местах. Скажу только, что около двух меня разбудил звонок и стук в дверь; в звонок звонили и кольцом стучали попеременно и как бы неуверенно, в тихом отчаянье, причем тот, кто звонил и стучал, пытался воспроизвести наш с Эдвардом старый условный сигнал: три-пауза-два.
Вырванный из крепкого сна, мой разум метался в смятении. Дерби возле моей двери — и он вспомнил старый код! Но та новая личность не могла вспомнить его… Может, душа Эдварда вдруг вернулась к нему? Но почему он пришел ко мне в такой очевидной спешке или возбуждении? Его отпустили раньше времени или, может быть, он сбежал? Возможно, думал я, накидывая халат и спускаясь по лестнице вниз, возвращение его прежнего «я» сопровождалось бредом и физическими страданиями, такими, что он не смог вынести и решился на отчаянный побег. Что бы ни случилось, это был снова старый добрый Эдвард, и я должен был ему помочь!
Когда я распахнул дверь во тьму вязовой аллеи, порыв ветра обдал меня таким невыносимым зловонием, что я едва не потерял сознание. Но я смог подавить приступ тошноты и через секунду с трудом различил на ступенях крыльца согбенную маленькую фигурку. Меня призвал к двери Эдвард, но тогда кто эта мерзкая смердящая пародия на человека? И как Эдвард мог так внезапно исчезнуть? Ведь он звонил всего лишь за секунду до того, как я открыл дверь.
На пришельце было пальто Эдварда, полы которого почти волочились по земле, а рукава, хотя и были подвернуты, все же закрывали кисти рук. На голову была глубоко надвинута фетровая шляпа, лицо скрывал черный шелковый шарф. Когда я неуверенно сделал шаг вперед, фигурка издала хлюпающий звук, похожий на тот, что я слышал по телефону: «буль… буль…» — и рука протянула мне на кончике длинного карандаша большой и плотно исписанный лист бумаги. Пошатнувшись от нестерпимого зловония, я схватил бумагу и попытался прочитать ее при свете, падающем из открытой двери.
Без сомнения, это был почерк Эдварда. Но для чего он стал писать мне, если только что был возле моей двери? И почему все буквы такие кривые, грубые, словно написанные трясущейся рукой? При тусклом освещении я не смог разобрать написанное, поэтому отступил в холл, а низкорослая фигура автоматически двинулась за мной, замешкавшись лишь на порожке внутренней двери. От этого необычного ночного гостя исходил ужасный смрад, но я понадеялся (к счастью, не напрасно), что моя жена не проснется и не окажется сейчас здесь.
Затем, читая написанное на бумаге, я почувствовал, что колени у меня подогнулись, а в глазах потемнело. Придя в себя, я обнаружил, что лежу на полу, а этот проклятый листок все еще зажат в моей сведенной от ужаса судорогой руке. Вот что на нем было написано:
«Дэн, отправляйся в лечебницу и убей это. Уничтожь. Это больше не Эдвард Дерби. Она завладела мной — это Асенат, — хотя сама она уже три с половиной месяца как мертва. Я обманул тебя, сказав, что она уехала. Я убил ее. Это было необходимо. Все случилось неожиданно, мы были одни, а я пребывал в своем теле. Я схватил подвернувшийся под руку подсвечник и пробил ей голову. Она собиралась завладеть мною полностью в День всех святых.
Я закопал ее в дальней подвальной кладовке под какими-то старыми ящиками и убрал все следы. У слуг утром зародились некоторые подозрения, но у них самих есть такие секреты, что они не смеют обращаться в полицию. Я отослал их прочь из дома, но одному лишь Богу известно, что они и прочие члены секты способны совершить.
Шли дни, и мне казалось, что я в полном порядке, но потом я стал ощущать, будто мой мозг что-то вытягивает. Я моментально понял, что это, — ведь как я мог забыть! Такая душа, как у нее — как у Эфраима, — лишь частично соединена с телом и не покидает земной мир до тех пор, пока само тело вообще существует. Она взяла надо мною власть, заставила поменяться с ней телом — то есть отобрала мое тело, а меня загнала в свой труп, зарытый в подвальной кладовке.
Я понял, что меня ждет, вот почему вел себя буйно, вынуждая отправить меня в сумасшедший дом. Затем это случилось… Я обнаружил себя задыхающимся в темноте… Запертым в разлагающемся теле Асенат, в подвальной кладовке, под ящиками, где я его закопал. И я знал, что она должна теперь оказаться в моем теле в лечебнице — навсегда, ибо День всех святых уже прошел, и жертвоприношение сработает даже и без нее: она переселится в мое тело, обретая свободу и неся угрозу для всего человечества. Я был в отчаянье, но, несмотря ни на что, смог отрыть себя и выбраться.
Я уже слишком плох, чтобы говорить — мне не удалось поговорить с тобой по телефону, — но пока что способен писать. Сейчас я соберусь с силами и доставлю тебе свое последнее слово и предупреждение. Убей этого демона, если тебе дорого спокойствие и благополучие мира. И необходимо, чтобы эту тварь сожгли. Если этого не сделать, она будет продолжать жить, вечно переходя из тела в тело, и я не могу сказать, на что еще она способна. Держись в стороне от черной магии, Дэн, это сатанинское занятие. Прощай; ты был замечательным другом. Расскажи полиции что-нибудь правдоподобное; и я ужасно сожалею, что втянул тебя во все это. Скоро я обрету покой — эти остатки тела долго не протянут. Надеюсь, ты сможешь прочитать это. И убей это нечто — убей его!
Твой Эд».
Вторую половину письма я смог прочитать лишь значительно позже, ибо упал в обморок, едва дочитав третий абзац. Я снова упал в обморок, когда увидел зловонное нечто, лежащее на моем пороге и разлагающееся в теплом воздухе. Ночной пришелец более не шевелился и не приходил в сознание.
Дворецкий, нервы которого оказались крепче, чем у меня, не упал в обморок, явившись утром. Напротив, он тут же позвонил в полицию. Когда они приехали, меня перенесли наверх и уложили в кровать, а эта… некая груда… осталась лежать там, где свалилась ночью. Полицейские, проходя мимо, прикрывали носовыми платками носы.
В ворохе одежды Эдварда они обнаружили полуразложившуюся плоть и кости, а также пробитый череп. По следам работы стоматолога этот череп был идентифицирован как принадлежавший Асенат.
МУЗЫКА ЭРИХА ЦАННА
Я самым тщательным образом изучил карты города, но так и не смог найти на них улицу д’Осейль. Карты эти были не только современные, ибо мне известно, что названия улиц нередко меняются. Напротив, я тщательно изучил историю этих мест и, более того, лично обследовал все те районы, где могла бы находиться улица, известная мне как д’Осейль, вне зависимости от табличек с названиями и вывесок. Но несмотря на все эти усилия, вынужден признать тот постыдный факт, что не смог отыскать дом, улицу и даже приблизительно определить район, где в последние месяцы нищей жизни, будучи студентом университета, изучающим метафизику, я слушал музыку Эриха Цанна.
В моей памяти есть провалы, но это вовсе не удивительно, ибо за время жизни на улице д’Осейль мое как физическое, так и умственное здоровье оказалось серьезно подорвано, и потому я не в состоянии вспомнить ни одного из немногочисленных тамошних знакомых. Но то, что мне не удается отыскать само это место, кажется мне крайне странным и поистине обескураживающим, ибо располагалось оно не далее чем в получасе ходьбы от университета, и обладало рядом весьма специфических особенностей, которые трудно забыть любому, кто хотя бы однажды там побывал. Мне не удалось найти ни одного человека, побывавшего на улице д’Осейль.
Улица эта пересекала по массивному мосту из черного камня темную реку, текущую между огромными кирпичными складскими строениями с помутневшими окнами. Берега реки постоянно скрывала тень, как если бы дым расположенных поблизости фабрик навечно закрыл от нее солнце. Сама река была источником особого зловония, какого я не встречал более нигде, и это когда-нибудь поможет мне отыскать это место — я тут же узнаю его по запаху. За мостом сначала проходили огражденные перилами и мощенные булыжником улицы, а затем начинался подъем, сперва относительно пологий, но потом, как раз совсем рядом с д’Осейль, совсем крутой.
Мне нигде более не доводилось видеть такой узкой и крутой улицы, как д’Осейль. Почти подъем на скалу, закрытый для любого вида транспорта, поскольку местами тротуар на ней сменялся лестничными ступенями, упиравшимися наверху в высокую, увитую плющом стену. Мостовая в разных местах была разная: местами каменные плиты, где-то обычный булыжник, а то и просто голая земля с пробивающимися серовато-зелеными побегами какой-то растительности. Дома — высокие строения с остроконечными крышами, невероятно древние и опасно накренившиеся в разные стороны. Кое-где как бы падавшие друг навстречу другу дома почти смыкались крышами, образуя подобие арки; конечно, в таких местах всегда стоял полумрак. Между некоторыми домами через улицу были перекинуты соединявшие их мостики.
Обитатели этих мест произвели на меня особое впечатление. Поначалу мне казалось, что это от их замкнутости и неразговорчивости, но потом я решил, что причина в том, что все они все очень старые. Не знаю, как получилось, что я решил поселиться на этой улице, но я был в то время немного не в себе. Ввиду постоянной нехватки денег мне пришлось сменить немало убогих мест проживания, пока я наконец не набрел на тот покосившийся дом на улице д’Осейль, в котором распоряжался паралитик по фамилии Бландо. Это был третий от конца улицы дом и самое высокое на ней здание.
Моя комната располагалась на пятом этаже и была единственным заселенным на нем помещением, поскольку в этом доме почти никто не жил. В ночь после моего вселения я услышал странную музыку, доносившуюся из спрятанной под заостренной крышей мансарды, и на следующий день спросил о ней у Бландо. Он ответил мне, что играл на виоле старик-немец, немой и чудаковатый, подписывающийся «Эрих Цанн», подрабатывающий по вечерам в оркестре какого-то дешевого театра; и добавил, что этот Цанн любит играть по вечерам, по возвращении из театра, и потому специально выбрал самую высокую, изолированную комнату в мансарде, слуховое окно которой — единственное место на всей улице, откуда открывается вид на панораму по ту сторону ограничивающей улицу стены.
С того времени я каждую ночь слышал музыку Цанна, и хотя она определенно мешала мне заснуть, я был очарован ее полным таинственности звучанием. Слабо разбираясь в музыкальном искусстве, я был уверен, что все эти созвучия не имеют ничего общего с тем, что мне доводилось слышать ранее, и сделал вывод, что этот старик — композитор невероятно оригинального склада. Чем дольше я слушал, тем сильнее восхищался, и наконец через неделю набрался смелости и решил познакомиться со стариком.
Как-то вечером я подстерег в коридоре возвращавшегося с работы Цанна и сказал ему, что хотел бы с ним познакомиться и послушать вблизи, как он играет. Он был невысок ростом, тщедушный, сутулый мужчина в потертой одежде, с голубыми глазами на забавном, похожем на физиономию сатира лице и почти лысой головой; его первой реакцией на мои слова были, как мне показалось, гнев и страх. Мое явное дружелюбие, однако, успокоило его, и он неохотно махнул, призывая следовать за ним по темной, скрипучей и расшатанной лестнице на мансарду. Его комната была одной из двух под крутой крышей, а именно западной, со стороны высокой стены, в которую упиралась улица. Помещение было довольно просторным и казалось еще больше из-за необычной скудости обстановки и общей крайней запущенности. Из мебели здесь были только узкая металлическая койка, грязноватый умывальник, маленький столик, большой книжный шкаф, железный пюпитр и три старомодных стула. На полу хаотично лежали груды нотных тетрадей. Стены комнаты были совершенно голыми и, похоже, никогда не знали штукатурки, в то время как изобилие пыли и паутины придавало помещению скорее вид необитаемого, чем жилого. Очевидно, представление Эриха Цанна о комфорте в жилище лежало далеко в стороне от традиционных воззрений на этот счет.
Жестом предложив мне садиться, немой старик закрыл дверь, задвинул большой деревянный засов и зажег еще одну свечу в дополнение к той, с которой пришел. Затем он извлек свою виолу из побитого молью футляра и уселся с ней на самый удобный из стульев. Пюпитром он не пользовался, и, не поинтересовавшись моими пожеланиями, играя по памяти, более чем на час заворожил меня мелодиями, подобных которым я никогда еще не слышал; мелодиями, которые, должно быть, были его собственного сочинения. Человеку, не разбирающемуся в музыке, описать их характер попросту невозможно. Это походило на фуги с периодически повторяющимися пассажами самого пленительного свойства, но я для себя отметил, что в них совершенно отсутствовали те полные таинственности мотивы, которые я время от времени слышал по ночам из своей комнаты.
Те таинственные мотивы я хорошо запомнил и даже нередко пытался неумело насвистывать их, и потому, как только музыкант отложил смычок, я спросил его, не мог бы он исполнить какой-то из них. Как только я завел об этом речь, его лицо сатира утратило ту прежнюю усталую безмятежность, с которой он только что играл, и на нем вновь появилась смесь гнева и страха, замеченная мною в первый момент нашей встречи. Я начал уже было его уговаривать, восприняв это как старческий каприз, и даже попытался вызвать у хозяина квартиры тот самый музыкальный настрой, насвистев ему несколько запомнившихся мне мелодий из тех, что я слышал накануне ночью. Но продолжалось все это не более нескольких секунд, ибо едва немой музыкант узнал в моем неуклюжем свисте знакомые напевы, как его лицо исказила неописуемая гримаса, а длинная, холодная, костистая рука потянулась к моим губам, чтобы остановить эту грубую имитацию. Сделав это, он еще раз продемонстрировал свою эксцентричность, бросив напряженный взгляд в сторону единственного зашторенного окошка, словно опасаясь, что оттуда кто-то появится — что было вдвойне нелепо и абсурдно, поскольку комната старика располагалась на большой высоте, выше крыш соседних домов, а кроме того, как сказал мне консьерж, это было единственное окно, из которого можно посмотреть за стену в конце улицы.
Взгляд старика напомнил мне эти слова Бландо, и у меня возникло желание выглянуть из этого окошка и полюбоваться зрелищем залитых лунным светом крыш и городских огней по ту сторону холма, доступного из всех обитателей улицы д’Осейль одному лишь сгорбленному музыканту. Я направился к окну и хотел было раздвинуть ужасного вида шторы, когда немой жилец вновь подскочил ко мне, с еще более страшной гримасой; он стал кивать головою на дверь и обеими руками потащил меня в том же направлении. Эта выходка старика вызвала у меня отвращение, я потребовал отпустить мою руку и сказал, что немедленно ухожу. Он ослабил хватку, а заметив мое возмущение и обиду, похоже, несколько успокоился. Он снова сжал мою руку, но на сей раз в более дружелюбной манере, подталкивая меня к стулу; затем с задумчивым видом подошел к захламленному столу и стал писать карандашом на вымученном французском, какой бывает у иностранцев.
Записка, которую он наконец протянул мне, содержала просьбу проявить терпимость и простить его. Цанн написал, что он стар, одинок и подвержен странным приступам страха и нервным расстройствам, имеющим отношение к его музыке и к некоторым другим вещам. Ему понравилось, как я слушал его игру, и он будет рад, если я приду снова, но просил не обращать внимания на его чудачества. Но он не может при посторонних исполнять свои таинственные мотивы и не выносит, когда их воспроизводят другие; кроме того, он терпеть не может, когда чужие люди трогают какие-либо вещи в его комнате. До нашей беседы в коридоре он не подозревал, что я слышал его игру у себя в комнате, и будет рад, если я при содействии Бландо переселюсь куда-нибудь пониже, где не буду слышать его по ночам. Он написал, что готов сам доплачивать разницу в арендной плате.
Разбирая его ужасный французский, я стал к нему более снисходительным. У него, как и у меня, физическое и нервное расстройства, а погружение в метафизику приучило меня быть добрее к людям. В тишине от окна донесся какой-то слабый стук — наверное, на ночном ветру задребезжали ставни, — и я почему-то вздрогнул от него почти так же, как и Эрих Цанн. Дочитав записку, я пожал музыканту руку, и расстались мы друзьями.
На следующий день Бландо предоставил мне более дорогую комнату на третьем этаже, между апартаментами престарелого ростовщика и комнатой респектабельного обивщика мебели. На четвертом этаже никаких жильцов не было.
Вскоре я обнаружил, что благорасположенность Цанна к моему обществу значительно меньше, чем это казалось тогда, когда он уговаривал меня съехать с пятого этажа. Сам он меня не приглашал, а когда я заходил по собственной инициативе, он казался встревоженным и играл явно без души. Происходило это всегда по ночам — днем Цанн всегда спал и никого не принимал. Моя симпатия к нему вовсе не росла, хотя и сама комната в мансарде, и доносившаяся из нее таинственная музыка сохраняли для меня непонятную притягательность. Меня почему-то тянуло выглянуть из того окна, посмотреть через стену на тот склон, который я никогда не видел, на поблескивающие крыши и шпили по ту сторону. Как-то раз я поднялся в мансарду, когда Цанн был в театре, но дверь оказалась заперта.
Преуспел я только в том, что продолжал подслушивать ночную игру старого немого музыканта. Вначале я прокрадывался на бывший свой пятый этаж, затем набрался смелости и взбирался по скрипучей лестнице на самый верх. Стоя на мансарде, в узком холле перед закрытой дверью с прикрытой замочной скважиной, я нередко вслушивался в звуки, наполнявшие меня смутным страхом — словно я стал причастным к озадачивающему чуду и непонятной тайне. Нельзя сказать, что эти звуки были зловещими — нет, не были; просто ничего подобного этому звучанию не было на земле, а порой оно казалось симфоническим, таким, что трудно было поверить, что оно создается одним-единственным музыкантом. Несомненно, Эрих Цанн был каким-то самородным гением. Проходили недели, и его музыка становилась все более необузданной, даже неистовой, а сам он заметно осунулся и стал выглядеть еще более жалким. Теперь он отказывался принимать меня в любое время суток, а если мы встречались на лестнице, уклонялся от разговоров.
Однажды ночью, стоя возле его двери, я вдруг услышал, что звучание виолы сделалось почти хаотическим набором звуков; свистопляска, заставившая меня усомниться в собственном здравом рассудке, если бы вместе с ней из-за запертой двери мансарды не доносились горестные подтверждения того, что там действительно происходит что-то ужасное — жуткие, невразумительные стоны, какие мог издавать только немой, которые могли родиться лишь в мгновения сильнейшего страха или мучений. Я несколько раз постучал в дверь, но ответа не было. Затем я еще подождал в темном холле, вздрагивая от холода и страха, пока не услышал шорох, явно свидетельствующий, что несчастный музыкант пытается подняться с пола, опираясь на стул. Будучи убежденным, что он только что очнулся от внезапного припадка, я возобновил попытки достучаться до него, произнося при этом ободряющим тоном свое имя. Судя по звукам, Цанн доковылял до окна, закрыл не только его створки, но и ставни, после чего доковылял до двери и с трудом, с заминками, отпер ее. На сей раз я нисколько не сомневался, что он искренне рад моему приходу, ибо лицо его буквально светилось от радости при виде меня, в то время как он цеплялся за мой плащ наподобие того, как ребенок хватается за юбку матери.
Дрожа всем телом, старик усадил меня на стул, после чего сам опустился в другой, рядом с которым на полу небрежно валялись его виола и смычок. Какое-то время он сидел совершенно неподвижно, непонятно почему покачивая головой, но при этом странным образом к чему-то внимательно и напряженно прислушиваясь. Через какое-то время он, похоже, успокоился, прошел к столу, написал короткую записку, передал ее мне, после чего вернулся к столу и принялся быстро и непрерывно строчить. В записке он взывал к моему милосердию и просил ради удовлетворения собственного же любопытства дождаться, когда он закончит более подробные объяснения, уже по-немецки, о тех чудесах и кошмарах, что его окружают. Я ждал, а немой музыкант водил карандашом по бумаге.
Прошло, наверное, около часа, пока я сидел, наблюдая, как старик исписывает один лист за другим, и вдруг заметил, что он вздрогнул, словно чего-то испугался. Без сомнения, он смотрел на зашторенное окно и с ужасом прислушивался. Тогда мне почудилось, что я расслышал какой-то звук; правда, вовсе не пугающий, но скорее необычайно низкую и доносящуюся откуда-то издалека мелодию, будто бы ее играл неведомый музыкант в одном из соседних домов или где-то за высокой стеной, заглянуть за которую мне пока не доводилось. На Цанна звук этот произвел устрашающее воздействие — отбросив карандаш, он резко поднялся, схватил свою виолу и принялся заполнять ночную тишину дичайшими мелодиями, подобные которым я слышал только стоя под его дверью.
Бесполезно даже пытаться описать игру Эриха Цанна в ту страшную ночь. Ничего более страшного мне слышать еще не доводилось, а кроме того, на сей раз я видел выражение лица музыканта, который словно бы испытывал чистейший ужас. Он старался производить как можно больше звуков, словно хотел что-то отогнать, услать прочь — не могу представить, что именно, но, судя по всему, довольно жуткое. Его игра скоро приобрела фантастическое, бредовое, истеричное звучание, и все же продолжала нести на себе отпечаток несомненной музыкальной гениальности этого странного старика. Я даже разобрал мотив — это была бурная венгерская пляска, из тех, что часто используются в театрах, и в тот же момент автоматически отметил, что впервые слышу, чтобы Цанн исполнял чужое произведение.
Громче и громче, яростнее и яростнее взвивались визжащие и стонущие звуки отчаянной игры на виоле. Сам музыкант покрылся крупными каплями пота и кривлялся как обезьяна, то и дело поглядывая на зашторенное окно. При звуках его бешеных мотивов мне представлялись сумрачные фигуры сатиров и вакханок, несущиеся в пляске среди бурлящих облаков, дыма и сверкающих молний. А затем мне показалось, что я расслышал более пронзительный, но спокойный звук, исходящий определенно не от виолы — степенный, размеренный, полный скрытого значения и чуть насмешливый, доносящийся откуда-то издалека с запада.
И сразу же в порывах завывающего за окном ветра застучали ставни — словно бы отреагировав на безумную музыку. Визгливая виола Цанна теперь исторгала из себя такие звуки, на которые, как мне прежде казалось, этот инструмент не способен. Ставни загрохотали еще громче, соскочили с защелки и стали оглушительно биться об оконную раму. Затем от непрестанных сильных ударов стекло со звоном лопнуло, и в комнату ворвался леденящий ветер, из-за чего зашипели сальные свечи и зашуршали исписанные листы, на которых Цанн начал раскрывать свою страшную тайну. Я посмотрел на старика и увидел, что его взгляд лишен какой-либо осмысленности. Его голубые глаза заметно выпучились, остекленели и бессмысленно пялились, а отчаянная игра переросла в слепую, механическую, невообразимую оргию неистовых звуков, описать которую пером невозможно.
Внезапный порыв ветра, более сильный, чем другие, подхватил исписанные листы и потащил их к окну. Я отчаянно кинулся спасать их, но они исчезли в ночи прежде, чем я оказался возле окна. Тогда я вспомнил про свое давнее желание выглянуть из того окна — единственного окна на улице д’Осейль, из которого можно заглянуть за стену и увидеть город по ту сторону холма. Ночь была темной, но городские огни всегда заметны издалека, и я ожидал увидеть их несмотря на дождь и ветер. Тем не менее, когда я под шипение свеч и завывания безумной виолы выглянул в это расположенное выше всего прочего слуховое окно, то не увидел ни простирающегося города, ни приветливого света уличных фонарей, но только беспредельное черное пространство, невообразимое пространство, оживленное движением и музыкой, не схожее ни с чем на земле. И пока я стоял и смотрел в ужасе, порыв ветра задул обе свечи, оставляя меня окутанным жестокой и непроницаемой темнотой, с хаосом и кромешным адом перед глазами и демоническими завываниями отгоняющей тьму виолы за спиной.
Не имея возможности зажечь свет, я отшатнулся назад, затем наткнулся на стол, опрокинул стул и наконец двинулся туда, где в темноту исторгалась ужасающая музыка. Пусть и не представляя, с какой силой мне довелось столкнуться, я должен был попытаться спасти себя самого и Эриха Цанна. В какой-то момент я ощутил холодное прикосновение и пронзительно вскрикнул, но голос мой потонул в зловещем плаче виолы. Внезапно в меня ткнулся конец обезумевшего смычка, и я понял, что музыкант совсем близко. Продолжая двигаться на ощупь, я коснулся спинки стула Цанна, затем отыскал его плечи и принялся трясти, пытаясь привести старика в чувство.
Он не отреагировал, тогда как виола продолжала оглушительно завывать. Я поднял руки к его голове, остановил его машинальное кивание и прокричал в ухо, что нам обоим нужно спасаться бегством от непонятных ночных созданий. Но он ни ответил, ни прекратил своей ошалелой игры, пока все на этой мансарде не пустилось в пляс в странных порывах и завихрениях ветра. Когда моя рука коснулась уха старика, я вздрогнул, не понимая почему; не понимая, пока не ощупал его неподвижное лицо — ледяное как лед, окоченевшее, без признаков дыхания, пялящееся остекленевшими глазами в пустоту. Затем каким-то чудом я отыскал входную дверь и массивный деревянный засов на ней, после чего бросился в дикой спешке прочь, подальше от этого нечто с остекленевшими глазами и от мерзких завываний его проклятой виолы, ярость которых все усиливалась.
Я прыгал, скользил, перелетал через ступени бесконечной лестницы темного дома; мчался беспамятно по узкой и крутой улочке с покосившимися домами; сбегал по булыжнику и ступеням к расположенным ниже улицам и зловонной, зажатой в высоких берегах реке; пыхтя пересек огромный темный мост, чтобы оказаться на более широких, светлых улицах и знакомых мне бульварах; все эти ужасные впечатления навечно остались в моей памяти. И насколько я помню, ветра на улице не было, как и луны, а вокруг мерцали городские огни.
Несмотря на тщательнейшие поиски и расспросы, мне так и не удалось найти улицу д’Осейль. Но я и не особенно сожалею ни о самой улице, ни о потерянных в невообразимой бездне исписанных мелким почерком листах, которые одни только могли бы раскрыть мне тайну музыки Эриха Цанна.
ЗАТАИВШИЙСЯ СТРАХ
Глава 1
Тень на печке
В ночь, когда я направлялся в заброшенный особняк на Горе Бурь, чтобы понять, что же такое этот затаившийся страх, в небе гремели грозовые раскаты. Я был не один: страсть ко всему сверхъестественному и ужасному тогда еще не сопровождалась тягой к безрассудному риску, которая впоследствии превратила мою жизнь в нескончаемую цепь опасных предприятий и в литературе, и в жизни. Со мной были два преданных и мужественных друга, призванных мною, когда пришла на то пора. Эти люди и раньше сопровождали меня в моих небезопасных вылазках — именно в таких спутниках я нуждался.
Мы покинули селение, соблюдая строжайшую конспирацию, чтобы не привлечь внимания журналистов: те так и кружили вокруг в надежде что-нибудь пронюхать после кошмарных событий прошлого месяца, прозванных «ползучей смертью». Впоследствии я жалел, что ускользнул от репортеров — их присутствие могло пригодиться. Прими они участие в нашем походе, мне не пришлось бы так долго хранить одному ужасную тайну из страха прослыть сумасшедшим или рехнуться на самом деле. Теперь, позволив наконец себе выговориться, чтобы не стать законченным маньяком, я жалею, что не сделал этого раньше. Ведь только одному мне известно, что таит в себе эта безлюдная таинственная гора.
Проехав в автомобиле несколько миль по холмистой, заросшей девственным лесом местности, мы оказались у подножья горы. Во мраке ночи это место выглядело еще более зловещим, чем днем, при обычном теперь стечении любопытствующего народа. Мы с трудом сдерживались, чтобы не включить фары, свет которых мог бы привлечь внимание. Чем-то необычным веяло от этого ночного пейзажа, и мне кажется, я почувствовал бы некую скрытую опасность, даже ничего не зная о случившемся здесь ужасном событии. Никакой живности поблизости не было — звери, как никто, ощущают близость смерти. Старые, иссеченные молниями деревья казались неестественно большими и искривленными, остальная же растительность была на удивление роскошной и обильной. Странные продолговатые холмики и бугры, возвышающиеся над землей, кое-где глубоко взрытой, а кое-где заросшей сорной травой, напоминали своими очертаниями гигантских змей и человеческие черепа.
Страх поселился на Горе Бурь более ста лет назад. Об этом я узнал из газетной статьи о жутком событии, впервые привлекшем внимание к небольшому селению в той части Катскиллских гор, которую датчане цивилизовали лишь слегка, как бы мимоходом, и ушли, оставив после себя несколько теперь уже разрушенных временем особняков и разбросанные тут и там по склонам жалкие лачуги скваттеров. Так называемые нормальные люди редко сюда заглядывали, потом, правда, эти места стали навещать патрули государственной полиции, впрочем, нельзя сказать, чтобы часто. О затаившемся страхе местные жители наслышаны чуть ли не с самого рождения. Даже выбираясь за пределы родных мест, эти полукровки постоянно толкуют о нем на корявом своем наречии, когда пытаются выменять самодельные корзины на предметы первой необходимости — ведь они не умеют ни стрелять дичь, ни выращивать злаки, ни делать еще что-нибудь путное.
Затаившийся страх угнездился, по слухам, в уединенном и заброшенном особняке Мартенсов, стоящем на вершине высокого пологого холма, обладающего способностью притягивать к себе грозы и получившего поэтому название Горы Бурь. Уже более ста лет об этом старинном каменном доме, расположенном посреди небольшой рощицы, ходили жуткие слухи. Рассказывали страшные истории об обитающей здесь бесшумной ползучей смерти, выбирающейся на свет божий каждое лето, и о некоем демоне, похищающем во тьме одиноких путников. Иногда он уносил их с собой, а иногда тут же безжалостно загрызал. Понизив голос, скваттеры рассказывали также о кровавых следах, ведущих к уединенному особняку. Некоторые считали, что именно гром вызывает затаившийся страх из его убежища, другие утверждали, что гром — это его голос.
Люди со стороны не верили этим противоречивым россказням. Да и описание самого демона, хоть и было впечатляющим, тоже вызывало сомнения. И все же никто из фермеров и жителей ближайших деревень не сомневался, что в особняке Мартенсов водится нечистая сила. Они упорно стояли на своем, хотя ни один из смельчаков, попытавшихся на месте проверить их полные ужасающих подробностей рассказы, не нашел в особняке ничего подозрительного. Старухи рассказывали захватывающие истории о призраке Мартенса; упоминалось при этом и само семейство, с его наследственной чертой — разного цвета глазами, и преступные деяния этого рода, которые увенчались неслыханным по коварству убийством, навлекшим на него проклятье.
Лично меня привлекло сюда неожиданное и ужасное подтверждение одной из самых невероятных местных легенд. Однажды летней ночью после необычайно сильной грозы вся округа была разбужена неким фермером, в панике примчавшимся в селение. Вскоре все уже вопили и стенали, нисколько не сомневаясь, что на них надвигается беда. Никто еще ничего не видел собственными глазами, но по крикам, доносившимся из ближайшей деревушки, все поняли, что ползучая смерть объявилась снова.
Поутру жители поселка вместе с полицейскими и дрожащими от страха скваттерами проследовали к месту бедствия. По деревушке действительно прошлась смерть. После сокрушительного удара молнии земля осела, разрушив несколько самых ветхих строений, однако обилие человеческих жертв затмило все материальные разрушения. Из семидесяти пяти человек никто не остался в живых. Развороченная земля смешалась с кровью и кусками человеческих тел, на которых были четко видны следы зубов и когтей демона, — но странное обстоятельство: от места этой страшной бойни не вели никакие следы. Полиция пришла к выводу, что здесь побывал некий чудовищный зверь. Теперь уже никто не пытался отнести это загадочное преступление на счет злодейских убийств, обычных в таких примитивных сообществах. Эта версия, правда, возникла снова, когда выяснилось, что среди мертвых отсутствуют останки двадцати пяти человек, но тогда возникал вопрос: как эти двадцать пять сумели погубить вдвое большее число людей? В конце концов порешили, что в ту летнюю ночь сошла с небес кара Господня, оставив после себя мертвую деревушку, усеянную чудовищно изуродованными, в клочья разорванными и растерзанными телами.
Насмерть перепуганные люди немедленно связали случившееся с подозрительным домом Мартенсов, хотя до него было свыше трех миль. Полиция отнеслась к этой версии скептически, но все же формальности ради обследовала особняк, ничего там не нашла и потеряла к нему всякий интерес. Крестьяне же, напротив, проявили поразительное усердие: перевернули весь дом, вырубили кусты, а также обследовали все ближайшие пруды и речушки, прочесали вокруг леса. Но все впустую — ползучая смерть не оставила никаких следов.
Уже на второй день газетчики пронюхали об этом кошмарном событии и буквально наводнили Гору Бурь. Они расписали случившееся во всех подробностях, не умолчав и о страшных легендах, рассказанных им сельскими стариками. Занимаясь проблемами сверхъестественного, я внимательно следил за развитием событий и спустя неделю, 5 августа 1921 года, почувствовав, что атмосфера сгущается, прибыл в Леффертс-Корнерз, ближайший к Горе Бурь и району поисков поселок, и остановился в гостинице, прямо-таки кишевшей репортерами. Спустя три недели почти все журналисты разъехались, и я со своими друзьями мог начать свое опасное расследование, опираясь и на рассказы очевидцев, и на собственные предварительные выводы.
И вот летней ночью под шум отдаленных раскатов грома, оставив автомобиль у подножья, мы начали восхождение на Гору Бурь. Наконец наши фонарики вырвали из тьмы укрывшиеся среди могучих дубов призрачные серые стены. В неясных проблесках света, лишь изредка раздвигающих черноту ночи, громадное квадратное здание наводило ужас еще больший, чем днем. И все же моя решимость убедиться в правоте своих предположений не поколебалась. Я был убежден, что именно гром вызывает демона смерти из его тайного убежища, и хотел знать, появляется ли он во плоти или же в виде плазмообразного сгустка зла.
Заранее изучив обветшавший дом, я продумал план действия. Местом для наблюдений я избрал комнату Яна Мартенса, об убийстве которого так много говорилось в местных преданиях, интуитивно чувствуя, что жилище этой давней жертвы более всего подходит для моих целей. В этой комнате площадью около двадцати квадратных метров сохранился разный хлам, бывший когда-то мебелью. Комната была расположена на втором этаже южной части особняка, большое окно выходило на восток, окно поменьше — на юг. На обоих не было ставен, не говоря уже о стеклах. Напротив большого окна стояла громадная голландская печь, изразцы которой живо воспроизводили легенду о блудном сыне; напротив маленького — просторное, встроенное в нишу ложе.
Гром, заглушаемый прежде листвой деревьев, здесь гремел вовсю, и я приступил к дальнейшим предусмотренным мною действиям. Прежде всего прикрепил к карнизу большого окна три принесенные с собой веревочные лестницы, предварительно убедившись, что они достигают земли. Затем мы втроем приволокли из соседней комнаты массивный остов кровати и приставили его вплотную к окну. Набросав лапника, мы устроились на нем с оружием. Двое дремали, один был на страже. Откуда бы ни появился демон, отступление нам гарантировано. Если он объявится изнутри дома, мы воспользуемся веревочными лестницами, если снаружи — будем отступать по коридорам. Исходя из того, что нам было известно, мы полагали: даже в самом худшем случае демон не станет долго преследовать нас.
Я бодрствовал с полуночи до часу, но потом, несмотря на зловещую атмосферу дома, выбитое окно и приближающуюся грозу, почувствовал непреодолимую сонливость. Я лежал посередине, Джордж Беннет — у окна, а Уильям — ближе к печи. Беннет спал, похоже, не совладав с той противоестественной сонливостью, которую испытывал и я. Дежурил Тоби, хотя он тоже клевал носом. Интересно, что все это время я и в полузабытьи все-таки не сводил глаз с печи.
Нарастающие раскаты грома, видимо, повлияли на мои сновидения — даже за тот короткий отрезок времени, что я дремал, меня одолевали апокалиптические картины. Разбудил меня сильный удар в грудь — спящий у окна непроизвольно толкнул меня. Еще не совсем проснувшись и не сориентировавшись, спит Тоби или бодрствует, я почувствовал недоброе. Никогда прежде мне не доводилось так отчетливо испытывать почти физическую близость Зла. Все же я забылся опять, но из пучины видений меня вырвал на этот раз истошный, полный отчаяния крик, с которым не могло сравниться ничто из слышанного мною когда-либо. Казалось, этим криком исторгнуты все потаенные страхи и боль человеческой души, очутившейся у самых врат небытия. Проснулся я в мучительном, волнами накатывающем страхе, с ощущением, что мне глядит в лицо само кровавое безумие с издевательским оскалом сатанизма. Было темно, но пустующее справа от меня место говорило, что Тоби исчез. Тяжелая рука соседа слева все еще лежала у меня на груди. Раздался оглушительный удар грома, потрясший до основания всю гору, огненная молния проникла в самые укромные уголки развалившихся склепов и расколола надвое старейшину среди скособоченных гигантских деревьев. В зловещем отблеске чудовищной вспышки лежащий рядом резко поднялся. Его тень упала на печь, куда был устремлен мой взгляд. Боже, что я увидел!.. То, что я остался жив и невредим, — необъяснимое чудо. Тень принадлежала не Джорджу Беннету или какому-нибудь другому человеку, а мерзкому чудовищу, восставшему из самых глубин ада, — безымянному, бесформенному и гнусному созданию, которое немыслимо представить себе или описать. Через секунду я уже был в комнате один — дрожащий от страха, бормочущий невесть что. Джордж Беннет и Уильям Тоби безвозвратно пропали, не оставив даже следов борьбы. Больше о них никто не слышал.
Глава 2
Прогулка в грозу
После ужасных событий в затерянном среди леса загадочном особняке я долгое время лежал совершенно больной в гостиничном номере, не покидая Леффертс-Корнерз. Не помню, как в ту злосчастную ночь добрел до автомобиля, как завел его, как добрался незамеченным до поселка. В памяти остались только пугающие очертания громадных деревьев, дьявольские раскаты грома и зловещие тени на могилах вокруг этого жуткого места.
Вспоминая с содроганием омерзительную тень, я понимал, что заглянул в глубочайшую, непостижимую бездну — ту, о существовании которой мы можем только догадываться по неясным знакам, доходящим до нас из сокровенных недр бытия. Наше ограниченное восприятие не позволяет нам, к счастью, вглядеться в этот мир пристальнее. Мне трудно понять, чью тень я видел на печи. Кто-то лежал между мной и окном, но, как только я пытаюсь понять, кто это был, меня охватывает ужас. Лучше бы оно зарычало. Или залаяло. Или захохотало — все бы хоть чуть-чуть снялся тот безграничный ужас; но оно молчало. А эта тяжелая рука — или нога? — у меня на груди… Она была живой… или когда-то живой… Ян Мартенс, чью комнату мы заняли, покоится на кладбище неподалеку от дома… Нужно отыскать Беннета и Тоби, если только они живы… Почему он унес их, а не меня? И почему мной овладела тогда такая сонливость, а сны были полны кошмаров?..
Вскоре меня неудержимо потянуло поделиться с кем-нибудь пережитым, чтобы не сойти с ума. К тому времени я уже решил, что непременно продолжу поиски затаившегося страха, полагая, в опасном заблуждении, что неопределенность всегда хуже самого страшного знания. Теперь следовало обдумать, кому можно поведать свои злоключения и каким образом выследить то, что похитило двух людей и отбрасывало столь чудовищную тень.
Моими ближайшими знакомыми в Леффертс-Корнерз оставались общительные журналисты, кое-кто из них еще жил в гостинице, ловя отголоски недавней трагедии. Решив отыскать среди них конфидента, я размышлял, кому отдать предпочтение, и наконец остановился на Артуре Манро, смуглом худощавом человеке лет тридцати пяти, чье образование, интересы, ум и темперамент говорили об отсутствии косности и предвзятости.
И вот как-то днем в начале сентября Артур Манро выслушал мою исповедь. С самого начала было видно, что история заинтриговала и даже захватила его, а после завершения рассказа он проанализировал случившееся, проявив изрядный ум и здравый смысл. Более того, совет его не торопиться и тщательно изучить все исторические и географические свидетельства, связанные с домом Мартенсов, — был чрезвычайно полезен. По его инициативе мы прочесали всю округу в поисках информации о таинственной семье Мартенсов, и нашли человека, владевшего некоторыми весьма красноречивыми документами. Мы много беседовали с теми горными жителями, которые не сбежали от всех этих бед в более спокойные районы, а также методично и скрупулезно обследовали места, особенно часто упоминавшиеся в легендах скваттеров.
Первое время результаты наших поисков были неясны для нас самих, хотя при тщательном анализе кое-что вырисовывалось. Самое главное — большинство ужасных событий случалось неподалеку от заброшенного особняка или окружающего его мрачного леса с поразительно обильной растительностью. Исключения, правда, бывали — например, упоминавшееся мною кошмарное происшествие произошло на открытом месте, вдали от особняка и зловещего дома.
Относительно же природы и внешних примет затаившегося страха мы ничего не могли добиться от темных и запуганных обитателей горных хижин. Они называли его то змеем, то великаном, то демоном, прилетающим вместе с громом, то летучей мышью, то хищной птицей, то шагающим деревом. Из всего этого мы сделали вывод, что это живой организм, очень чуткий к электрическим разрядам, и хотя в некоторых историях ему приписывали крылья, все же его нелюбовь к открытым пространствам говорила за то, что передвигается он по земле. Единственное, что нарушало стройность нашей теории, так это способность существа перемещаться с огромной скоростью: только так оно могло совершить все приписываемые ему деяния.
Узнав скваттеров поближе, мы даже полюбили их. Это были примитивные создания, опускавшиеся все ниже и ниже по эволюционной шкале из-за плохой наследственности и удушающей изоляции от остального человечества. Хотя они побаивались новых людей, но вскоре привязались к нам и очень помогли, когда мы в поисках затаившегося страха разломали перегородки в старинном доме и облазили все заросли вокруг. Они, правда, сразу грустнели, когда мы просили помочь нам отыскать Беннета и Тоби, потому что их собственный опыт говорил им, что жертвы страха исчезают навсегда. Мы же, зная, как много погибло их несчастных земляков, предчувствовали, что на этом дело не кончится, и ждали дальнейшего разворота событий.
Однако до конца октября ничего не случилось, и это весьма озадачивало нас. Стояли тихие, спокойные ночи, видимо, поэтому дремала и злая сила. Ничего не найдя в доме и его окрестностях, мы стали склоняться к мысли, что затаившийся страх — нематериальная субстанция. К сожалению, приход холодов мог сорвать все наши планы: было замечено, что зимой демон ведет себя спокойно. В палатке, которую мы поставили в брошенной деревушке, часто посещаемой страхом, воцарилось беспокойное ожидание.
Эта деревушка с дурной репутацией была безымянной, хотя существовала издавна, приютившись в расщелине между двумя возвышенностями — Коун-Маунтин и Марпл-хилл. Она стояла ближе к Марпл-хилл, и некоторые жители построили хижины прямо на склонах этого холма. В двух милях к северу начиналось подножье Горы Бурь, еще через милю — дубрава с укрывшимся в ней заброшенным особняком. Большая часть этого расстояния представляла собой открытую равнину, довольно плоскую, если не считать немногочисленных змеевидных холмиков, поросших травой. Зная рельеф местности, мы решили, что демон должен появиться со стороны Коун-Маунтин — южный ее склон подходил к западному отрогу Горы Бурь. Мы внимательно обследовали смещения почвы в том районе, где росло высокое дерево, расщепленное молнией в один из визитов демона.
Обследовав раз двадцать самым тщательным образом злосчастную деревушку, мы с Артуром Манро испытали сильное разочарование, к которому примешивался и неопределенный страх. Он был какого-то жуткого свойства — в самом деле, разве не странно, что после таких чудовищных событий не осталось ничего, что могло бы указать на виновника катастрофы? Вот и сейчас мы уныло бродили под мрачным свинцовым небом, испытывая смешанное чувство необходимости и одновременно бессмысленности наших действий. Наш осмотр и на этот раз был скрупулезнейшим: мы заново обошли каждую хижину, искали на склонах непогребенные тела, обследовали каждую яму, каждую норку — и все безрезультатно. И опять повсюду витал страх, как будто громадный крылатый грифон взирал на нас из космических бездн.
Тучи понемногу сгущались, и мы уже с трудом различали в сумерках отдельные предметы. Вдали слышались раскаты грома — над Горой Бурь собиралась гроза. Нас, понятное дело, охватило волнение, хотя до ночи было еще далеко. Надеясь, что гроза затянется и злая сила как-то себя проявит, мы оставили наши поиски на склоне и направились в сторону ближайшего обитаемого жилища в надежде уговорить скваттеров помочь нам. Наш авторитет заставил нескольких молодых людей преодолеть робость, и они дали согласие следовать за нами.
Но только мы двинулись в путь, как обрушился такой ливень, что какой-нибудь кров стал совершенно необходим. Тьма сгустилась, да настолько, что мы спотыкались на каждом шагу, и только отдельные вспышки молний да наше доскональное знание местности помогли нам добраться до полуразвалившейся хижины. Это было жалкое сооружение из досок и бревен; чудом сохранившаяся дверь и единственное окно выходили на Марпл-хилл. Закрыв дверь на засов, мы, наученные нашими помощниками, затворили также и ставни, укрывшись таким образом от дождя и резких порывов ветра. Уныло сидели мы на шатких ящиках в полной темноте, только огоньки трубок да изредка свет фонарика оживляли гнетущую атмосферу. Время от времени мы видели сквозь щели в стене блеск молний — темнота была столь густой, что их стрелы вырисовывались очень четко.
Это бдение в грозу вдруг напомнило мне незабываемую ночь на Горе Бурь. Поежившись от страха, я в очередной раз задал себе вопрос, на который пока не мог ответить: почему демон из трех сидевших в засаде людей уничтожил двух по краям и оставил того, что был в середине? Почему он так внезапно исчез после электрического разряда чудовищной силы? Почему нарушил последовательность и не забрал меня вторым? Что скрывалось за этим? Может, он знал, что я зачинщик, и готовит мне участь пострашнее?
Прервав мои размышления, а вернее, внеся в них дополнительный драматизм, все небо прорезала огромная молния, за которой последовал удар грома, сотрясший землю. Одновременно поднялся сильный ветер, его завывания нарастали в зловещем крещендо. Мы были убеждены, что молния вновь ударила в одинокое дерево на склоне Марпл-хилл, и Манро, поднявшись, подошел к крошечному окошку удостовериться в этом. Ветер и дождь ворвались в открытые им ставни с оглушительным ревом, и я не смог расслышать произнесенных им слов. Проверяя, насколько значительны разрушения, он высунулся из окна и замер, как бы вглядываясь во что-то.
Вскоре ветер утих и мрак рассеялся. Буря кончилась. Мои надежды на то, что она продлится и ночью, не оправдались, и как бы в подтверждение этого сквозь щели пробился слабый солнечный лучик. Считая, что свет нам не повредит, даже если ливень начнется снова, я снял засов и распахнул грубо сколоченную дверь. Земля снаружи превратилась в сплошное месиво, а ливень приносил со склонов все новые потоки грязи. Однако ничего такого, что объяснило бы, почему мой друг так долго не отходит от окна, я не увидел. Подойдя поближе, я дотронулся до его плеча — он не шевелился. Тогда я шутливо потряс его и повернул к себе… И тут же почувствовал, как меня начинает душить несказанный ужас, наплывающий откуда-то из глубины столетий, из бездонных краев ночи, существующей во веки веков.
Артур Манро был мертв. А его голова — вернее лицевая ее часть — была изуверски выедена.
Глава 3
Что означал ослепительный блеск
В ночь на 8 ноября 1921 года, когда бушевала такая страшная гроза, что казалось, небеса разверзлись, я при тусклом свете лампы раскапывал, сам не зная зачем, могилу Яна Мартенса. Я принялся за дело после обеда, когда понял, что собирается буря, и теперь радовался неистовой стихии, безжалостно рвущей и уносящей с собой столь роскошную в этой местности листву.
Думаю, что после событий 5 августа я несколько тронулся рассудком. Дьявольская тень в особняке, затем страшное нервное напряжение в течение долгого времени, разочарование и, наконец, трагедия в хижине в ту октябрьскую ночь — согласитесь, всего этого многовато для одного человека. И вот теперь я разрывал могилу Мартенса, чтобы понять, почему погиб Артур Манро. Все же остальные, кто, как и я, не могут этого уразуметь, пусть считают, что убийца где-то странствует. Мы облазили все вокруг, но так и не нашли его. Скваттеры наверняка что-то предполагали, но я, не желая их еще больше запугивать, не говорил с ними об этой смерти. Сам же я очерствел. Шок, пережитый мною в особняке, сказался на моем рассудке, и я думал только о том, как отыскать этот затаившийся страх, выросший в моем сознании до фантасмагорических размеров. Но теперь, помня о судьбе Манро, я поклялся действовать в одиночку.
Один лишь вид раскопанной могилы вывел бы нормального человека из равновесия. Мрачные старые деревья неестественных размеров и форм склонялись надо мной, как своды нечестивого храма друидов. Гром и зловещий шум ветра стихали под ними, почти не пропускали они и дождевых струй. За иссеченными молнией могучими стволами вырисовывался в слабых отблесках света контур заброшенного особняка, утопающего в мокром плюще. Немного поодаль был разбит голландский сад, теперь основательно запущенный, его гряды и клумбы сплошь заросли бледной зловонной растительностью, почти никогда не видевшей дневного света. Рядом раскинулось кладбище, все в искривленных деревьях, уродливые ветви которых, казалось, питались ядом от залегавших в неосвященной земле корней. Под густым коричневатым слоем листвы, гниющей во мраке этого первобытного леса, я видел то тут, то там пугающие очертания низких надгробий.
Сама история привела меня к этой старой могиле. История — вот что осталось мне после того, как все остальное потонуло в жутком оскале сатанизма. Теперь я считал, что затаившийся страх — не материальная субстанция, а призрачный оборотень, рожденный ночной молнией. Исходя из преданий и документов, раздобытых мной вместе с Артуром Манро, этим призраком мог быть Ян Мартенс, скончавшийся в 1762 году. Поэтому-то я и рылся, видимо, бессмысленно, в его могиле.
Особняк Мартенсов был возведен Герритом Мартенсом, богатым купцом из Нового Амстердама, не смирившимся с переменами, которые принесло английское владычество. Он построил это величественное здание на горе, в уединенном лесном районе, приглянувшемся ему своей девственной первозданностью. Единственным существенным недостатком здесь были частые и сильные грозы. Когда Мартенс выбирал место и затем строил, он полагал, что эти природные явления — особенность текущего года, но со временем понял, что ошибся. Убедившись, что грозы неблагоприятно действуют на его сосуды, он выстроил себе подвальное помещение, куда спускался всякий раз с приближением грозы.
О потомках Геррита Мартенса известно еще меньше, чем о нем самом. Они ненавидели все английское и сторонились тех колонистов, которые приняли новые порядки. Их жизнь протекала в строгом уединении, и, по слухам, изоляция плохо сказывалась на их умственных способностях и речи. У всех членов семейства была наследственная особенность — разные глаза: один голубой, другой карий. Их контакты с внешней средой слабели с каждым годом — они даже жен себе брали из собственной челяди. Многочисленные отпрыски семейства стали явными вырожденцами. Одни, спускаясь в долину, смешивались с метисами и вливались в ту среду, которая поставляла скваттеров. Другие, напротив, не покидали родовое гнездо, мрачно пестуя свою обособленность от остального мира и все чувствительней реагируя на грозы.
Многое о жизни этой семьи стало известно от молодого Яна Мартенса — влекомый беспокойной своей натурой, он вступил в армию колонистов, когда слухи о съезде в Олбани достигли Горы Бурь. Он первым из потомков Геррита повидал мир, и когда спустя шесть лет вернулся домой, то стал объектом ненависти домочадцев, которые смотрели на него как на чужака, хотя у него, как и у всех Мартенсов, были разные глаза. Да и сам он с трудом выносил теперь странный, полный нелепых предрассудков уклад семейства; не вызывали у него былого восторга и грозы в горах. Все приводило его в уныние, и он часто писал другу в Олбани, что собирается покинуть родной кров.
Весной 1763 года Джонатан Джиффорд, друг Яна Мартенса, живший в Олбани, давно не получая от него писем, забеспокоился, тем более что знал о сложных отношениях и частых ссорах в доме Мартенсов. Решив лично убедиться, что там все в порядке, он отправился верхом в горы. Из его дневника следует, что до Горы Бурь он добрался 20 сентября. Его поразила обветшалость здания, но еще больше — угрюмые разноглазые Мартенсы с их диковатыми, звериными повадками; они-то и поведали ему на ломаном, изобилующем гортанными звуками английском языке, что Ян умер. По их словам, еще прошлой осенью его убило молнией. Похоронили его здесь же, неподалеку от заросшего сорняками сада; хозяева показали гостю и могилу — голый холмик без всякого памятника. Что-то в поведении Мартенсов покоробило Джиффорда и вызвало подозрения. Через неделю он тайно вернулся в эти места с лопатой и киркой. Разрыв могилу, он увидел то, что и предполагал, — череп его друга был жестоко проломлен в нескольких местах. Вернувшись в Олбани, Джиффорд возбудил против Мартенсов уголовное дело, обвиняя их в убийстве родственника.
Хотя прямых улик не хватило, слухи об убийстве распространились по округе, и с тех пор Мартенсов подвергли остракизму. Никто не хотел иметь с ними дело, а от самого дома старались держаться подальше, считая его проклятым местом. Мартенсам все же удавалось как-то сводить концы с концами за счет натурального хозяйства, и долгое время об их существовании говорили лишь огоньки, загоравшиеся по вечерам высоко в горах. Со временем они светились все реже, а с 1810 года и вовсе перестали загораться.
Постепенно дом и сама местность вокруг обросли страшными легендами. Напуганные жуткими рассказами, люди обходили его стороной. Так продолжалось до 1816 года, когда скваттеры вдруг спохватились, что огней на горе уже давно не видно. К дому направилась группа добровольцев, которая нашла его пустым и уже изрядно обветшалым.
Отсутствие скелетов и недавних захоронений наводило на мысль, что обитатели не вымерли, а переселились в другое место. Это случилось, видимо, несколько лет назад. Многочисленные пристройки к дому говорили о том, что перед своим исходом семейство Мартенсов было весьма многочисленным. Судя по всему, они совсем опустились, об этом говорили и обшарпанная мебель, и разбросанное столовое серебро, которое, похоже, не чистилось годами. Но хотя ненавистные Мартенсы и ушли, страх, связанный с их домом, остался и даже возрос, а среди жителей гор распространились новые жуткие слухи. Дом же продолжал стоять — заброшенный, вызывающий ужас, прибежище мстительного духа Яна Мартенса; таким он стоял и в ту ночь, когда я разрывал могилу.
Я назвал свое занятие бессмысленным, и оно действительно ни к чему не привело. Гроб Яна Мартенса показался довольно скоро, но в нем не было ничего, кроме горсти праха. Однако я, одержимый яростной решимостью отыскать его восстающий дух, продолжал все глубже зарываться в землю. Мне и самому было непонятно, что я надеялся увидеть, одно лишь знал: я раскапываю могилу человека, чей дух рыщет вокруг по ночам.
Я копал и копал, не имея представления, какой уже достиг глубины, как вдруг моя лопата, а за ней и ноги провалились под землю. Меня сковал ужас. Существование подземелья подтверждало мои самые сумасшедшие предположения. При падении потухла лампа, но с помощью электрического фонарика я сумел-таки осмотреть узкий подземный ход, расходящийся в две стороны. Мужчина моей комплекции мог пробираться по нему лишь ползком, и хотя ни один человек, будучи в здравом уме, не решился бы на это, особенно ночью, я, забыв об опасности, не слушая доводов рассудка и не обращая внимания на грязь, опустился на колени, охваченный одним желанием: повстречаться наконец с затаившимся страхом. Решив ползти по направлению к дому, я бесстрашно протиснулся в узкую нору и, извиваясь, быстро пополз вперед в полной темноте, лишь изредка освещая путь фонариком, который держал перед собой.
Не найдется слов, чтобы описать затерянного в глубинах земли человека, описать, как он ползет, извиваясь, царапая комья глины, — с удушливым хрипом прокладывает безумец путь среди витков ночного мрака, не имея представления ни о времени, ни о последствиях своих действий, не зная ни направления, ни конечной цели. Это за пределами человеческого понимания, но именно так я поступил. Я полз так долго, что забыл свою прошлую жизнь, превратившись, казалось, в существо из темных глубин — крота или червя. Лишь случайно, после долгого перерыва, я включил фонарик, о котором совсем забыл, и неровная глиняная поверхность уходящей вдаль норы зловеще осветилась.
Некоторое время я полз в одном направлении, теперь уже экономя батарейки, но затем ход резко свернул вверх. И вдруг впереди я неожиданно увидел что-то вроде двух горящих в темноте дьявольских копий моего гаснущего фонарика. Излучаемый ими свет гипнотически подействовал на меня, будя какие-то неясные воспоминания. Я непроизвольно замер, вместо того чтобы отпрянуть. Глаза все приближались. Я не мог различить весь облик существа, которому они принадлежали, зато хорошо видел его когти. Вот это было зрелище! Вдруг над моей головой послышался отдаленный шум. Это был грохот грома, вскоре усилившийся до оглушительных раскатов, — значит, я основательно продвинулся вверх, совсем близко к поверхности. Гром гремел, а глаза все смотрели на меня с тупой злобой.
Слава Богу, я не знал тогда, что это было, иначе наверняка умер бы от страха. Меня спас гром — один из тех раскатов, которые пробудили эту ужасную тварь: после томительной паузы с невидимых небес обрушился оглушительный удар, сотрясший горы. Такое здесь случалось и раньше, об этом говорили перевернутая земля, глубокие провалы и обнаженная горная порода. Молния с яростью циклопа била в землю прямо над дьявольским подземным ходом, оглушая меня и почти лишая сознания.
Земля сотрясалась и ходила ходуном, я же беспомощно копошился в ней, пока меня не выбросило на поверхность. Я лежал с мокрым от дождя лицом. Картина вокруг была знакомой — крутой юго-западный склон, почти лишенный растительности. Грозовые вспышки, охватывающие пламенем грозовое небо, освещали искореженную землю и то, что осталось от диковинного низкого холма, который прежде, причудливо извиваясь, тянулся сюда от лесистой части горы. Озираясь вокруг, я не мог понять: откуда меня выбросило, как я высвободился из гибельной ловушки? Сумятица в моей голове не уступала хаосу в природе, и когда на южном склоне вспыхнуло ослепительное алое зарево, я еще не осознал, чего мне удалось избежать.
Уяснил я это только два дня спустя, когда скваттеры рассказали мне, что означала та вспышка яркого пламени. Вот тут-то меня охватил настоящий ужас — больше, чем при встрече в подземелье с обладателем страшных глаз и когтей. Их рассказ мог хоть кого напугать до смерти. В деревушке на расстоянии двадцати миль от того места, где меня выбросило на поверхность, после оглушительного раската грома последовала очередная оргия страха: омерзительного вида существо спрыгнуло с искривленного дерева на ветхую крышу одной из хижин. Оно успело сделать свое черное дело, но выбраться на волю не смогло — скваттеры в панике спалили хижину вместе с чудовищем. Как я понял, оно спрыгнуло с дерева как раз в тот момент, когда в другом месте земля погребла в себе нечто с ужасными когтями и горящими глазами.
Глава 4
Ужасные глаза
Трудно счесть здоровым человека, который, зная столько, сколько знал я о зловещих делах, вершащихся на Горе Бурь, рвался бы туда снова — докопаться, что же за страх затаился там. Тот факт, что по меньшей мере два материальных воплощения страха были к тому времени уничтожены, давал лишь очень слабую гарантию психической и физической безопасности в этом Ахероне многоликого сатанизма, и все же я, несмотря ни на что, возобновил поиски с еще большим рвением.
Узнав два дня спустя после моей опасной подземной встречи с демоническим существом, что в тот самый миг, когда на меня смотрели ужасные глаза, в двадцати милях другое злобное существо готовилось к фатальному прыжку, я пережил очередной приступ неуемного страха. Впрочем, сопутствующие ему страстное любопытство и непонятное возбуждение делали этот страх почти сладостным. Так иногда посреди ночного кошмара, когда невидимые силы несут тебя поверх загадочных мертвых городов к оскалившейся пасти Ниса, нет большего блаженства, чем с диким воплем броситься добровольно в ужасный водоворот сновидений и нестись, не думая о разверзшейся впереди бездне. Точно такие же чувства будил во мне таинственный, перемещающийся в пространстве страх Горы Бурь. Открыв, что там обитали два монстра, я ощутил необузданное желание взрыть всю тамошнюю землю, перекопать голыми руками и освободить наконец от смерти, отравляющей каждый ее дюйм.
Я снова поспешил на могилу Яна Мартенса и принялся рыть на прежнем месте. Однако земля завалила подземный ход, дождь уничтожил все следы моей прежней работы, и трудно было определить, на какой глубине этот ход начинается. Я предпринял также нелегкое путешествие к хижине, где сожгли смертоносное чудовище, но усилия мои не были вознаграждены. В пепле сохранилось несколько костей, но ни одна из них не принадлежала чудовищу. По словам скваттеров, все ограничилось одной жертвой, но они, очевидно, ошибались: помимо одного хорошо сохранившегося человеческого черепа я нашел остатки и другого. Хотя многие видели молниеносный бросок чудовища, никто не мог сказать, как оно выглядело, все говорили просто: дьявол. Внимательно осмотрев дерево, на котором оно пряталось, я не нашел ничего подозрительного. Попытался было отыскать возможные следы в темном лесу, но не смог вынести вида уродливых пней и змеевидных корней, зловеще сплетающихся, перед тем как навечно погрузиться в землю.
Затем я еще раз внимательно осмотрел ту брошенную хижину, которую страх посещал чаще всего и где Артур Манро увидел перед смертью нечто, его потрясшее, о чем не успел рассказать. Мои предыдущие осмотры, несмотря на все тщание, не принесли осязаемых результатов. Теперь же следовало проверить новую версию: невероятное путешествие под землей убедило меня, что по крайней мере одно из обличий чудовища — подземный монстр. И в памятный день 14 ноября я опять осматривал те склоны Коун-Маунтин и Марпл-хилл, которые спускались к печально прославившейся хижине, обращая особое внимание на свежие выбросы земли.
День поисков ничего не принес; сумерки застали меня на склоне Марпл-хилл, я стоял и задумчиво глядел в сторону хижины и Горы Бурь. Роскошный пламенный закат сменился лунным серебристым светом, разлившимся по долине, горным склонам и странным низким холмам, попадавшимся здесь особенно часто. Словом, идиллическая картина. Мне же она была отвратительна: уж я-то знал, что за ней скрывалось. Я равно ненавидел и эту ухмыляющуюся луну, и лицемерную равнину, и гнилостную гору, и эти зловещие холмы. Связанное гнусным союзом с невидимыми силами Зла, все вокруг, казалось мне, напоено ядом.
Устремив взор на залитую лунным светом землю, я вдруг явственно осознал, что в открывшейся предо мной картине есть некое единство. Не знакомый основательно с геологией, я все же с самых первых дней заинтересовался частыми в этой местности странными змеевидными холмами. Они располагались вокруг Горы Бурь, и в долине их было меньше, чем на самой возвышенности, где доисторическое оледенение мало препятствовало образованию этих причудливых, фантастических смещений коры. Теперь, при свете убывающей луны, отбрасывающей длинные таинственные тени, меня поразило, что углы и линии этой своеобразной системы каким-то образом соотносились с вершиной Горы Бурь. Она, вне всяких сомнений, была центром, откуда во все стороны разбегались лучами эти странные холмы. Дом Мартенсов как бы распустил во все стороны ужасные щупальца… При мысли о щупальцах меня словно подбросило, и тут я впервые подверг критическому анализу свою версию о ледниковом происхождении здешних холмистых складок.
Чем больше я думал, тем менее вероятной представлялась мне эта версия. Мной овладела новая, ужасная и невероятная мысль, подсказанная и формой холмов, и тем, что я увидел под землей. Еще не вполне осознав свое открытие, я бессвязно бормотал, как в бреду: «Боже!.. Ячейки… проклятое место… должно быть, изрешечено сотами… множеством сот… и тогда ночью в особняке… они взяли сначала Беннета и Тоби… тех, кто был ближе… по краям». Не теряя времени, я начал судорожно раскапывать ближайший холм, испытывая отчаяние, страх и одновременно восторг… Так я копал, изредка выкрикивая нечто нечленораздельное, не в силах сдержать обуревавших меня чувств, пока не наткнулся на подземный ход или нору, подобную той, по которой я полз памятной ночью.
Потом я, помнится, бежал с лопатой в руках, бежал, объятый ужасом, по освещенным лунным светом холмистым лужайкам, а затем — по чахлому, призрачному леску, расположенному на крутом склоне, бежал, крича и отдуваясь, перепрыгивая через препятствия, бежал прямо к зловещему особняку Мартенсов. Дальше, помню, копал без всякой системы на развалинах заросшего шиповником подвала, надеясь отыскать центр этой злокачественной опухоли. Помню, как дико я расхохотался, наткнувшись на подземный ход у основания старой печи, где густо рос сочный высокий бурьян, отбрасывающий диковинные тени при свете зажженной мною свечи. Я еще не знал, обитает ли кто-нибудь в этом адском улье, таясь и ожидая грома, чтобы выйти наружу. Два монстра уже погибли, может, других и нет? Меня подгоняло острое желание разгадать наконец секрет страха, который, теперь я был убежден, является материальной, органической субстанцией.
Стоя в нерешительности, я размышлял, обследовать ли мне ход самому, прямо сейчас же, прибегнув к помощи электрического фонарика, или отложить поиски и набрать в подмогу группу скваттеров-добровольцев. Вдруг резкий порыв ветра, прервав мои мысли, задул свечу, оставив меня в полной темноте. Лунный свет не проникал в подвал сквозь щели и отверстия в крыше, и тут, охваченный тревожным предчувствием, я услышал леденящие душу раскаты грома, полные для меня теперь нового значения. Повинуясь отчетливо осознанной необходимости спрятаться подальше, я на ощупь пробрался в дальний угол подвала, не сводя, однако, глаз с вырытой рядом с печью ямы. При вспышках молний я мог различать разрушенную временем кирпичную кладку и неестественно пышную растительность. Меня охватили одновременно ужас и любопытство. Что на этот раз вызовет к жизни гроза? Или под землей уже ничего не осталось? После одной ослепительной вспышки я, осмотревшись, перебрался в другое место и спрятался среди особенно густой поросли. Отсюда была хорошо видна яма, сам же я оказался под надежным прикрытием.
Если Провидение будет благосклонно ко мне, то оно вытравит из моей памяти увиденное в ту ночь и даст спокойно дождаться конца моих дней. Ведь стоит мне теперь услышать отдаленный гром, я не могу уснуть и принимаю успокоительное.
Все началось мгновенно и неожиданно. Демон, напоминающий своим видом крысу, похрюкивая и сопя, вырвался на волю из далеких, неведомых бездн. А вслед за ним из той же ямы выкатилось множество всякой нечисти, целое сонмище мерзких уродцев — гнусные порождения ночи. Самое извращенное воображение не смогло бы породить ничего подобного. Клубясь, они вылетали из зияющего отверстия — кипящий, бурлящий, бушующий фонтан — и, подобно заразе, мгновенно заполнили все вокруг. Они лезли через щели наружу и устремлялись далее, неся с собой в проклятые леса ужас, безумие и смерть.
Бог знает, сколько их там было — должно быть, тысячи. Этот нескончаемый поток, который я различал при слабых вспышках молний, сковал мое сердце страхом. Когда же поток стал редеть, из сплошной массы начали выделяться отдельные особи. Это были уродливые волосатые чертенята, а может, и обезьяны — дьявольские карикатуры на этих уважаемых животных. От их молчания мороз пробегал по коже. Даже когда один из отставших привычно, отработанным приемом ухватил более слабого, чтобы им закусить, даже тогда я не услышал ни звука. Остальные с жадностью набросились на остатки этого безмолвного пиршества. И вот тогда, несмотря на отвращение и страх, любопытство, которое все это время направляло мои поиски, взяло верх. Я вытащил пистолет и, когда последний из уродцев выбрался наружу из неведомого кошмарного мира, пристрелил его под прикрытием грома.
Пронзительный визг… упоение кровавой охотой… мятущиеся тени, преследующие друг друга в ярких коридорах, прорезаемых молниями… бесплотные призраки, калейдоскопические смены омерзительных сцен… лес и в нем патологически пышные, перекормленные дубы, чьи змеевидные, сплетенные корни тянут неведомые соки из земли, кишащей миллионами дьявольских существ, пожирающих друг друга… замаскированные под холмы щупальца, протянувшиеся из самого центра подземного злокачественного образования… невиданные по силе грозы, бушующие над заросшими плющом мрачными стенами и аркадами, утопающими в пышных зарослях… К счастью, инстинкт привел меня, от страха почти лишившегося чувств, к людям — в мирную деревушку, безмятежно спавшую в мерцании звезд на побледневшем уже небе.
Через неделю я настолько оправился от потрясения, что послал в Олбани за людьми, которым поручил взорвать динамитом дом Мартенсов вместе с вершиной Горы Бурь. Они же должны были уничтожить все подземные ходы под змеевидными холмами, а также выкорчевать перекормленные дубы с пышными кронами, один вид которых мог повергнуть в безумие. Только после завершения этих работ я стал иногда понемногу спать, хотя с тех пор, зная тайну затаившегося страха, уже никогда не мог спать спокойно. Меня преследовала мысль: а вдруг не вся нечисть погибла? И кто знает, не может ли нечто подобное возникнуть еще где-нибудь? Трудно без страха размышлять о неведомых земных кавернах, обладая моим знанием. До сих пор я не могу без содрогания видеть колодец или вход в метро… Ну почему доктора не дадут мне какое-нибудь лекарство, чтобы я наконец нормально уснул, почему не успокоят пылающий мозг?
Разгадка тайны, открывшаяся мне во время вспышки, когда я выстрелил в молчаливое, отставшее от других существо, оказалась настолько проста, что прошла по меньшей мере минута, прежде чем я все осознал. Вот тогда-то меня и обуял подлинный ужас. У этого омерзительного гориллоподобного уродца была сизоватая кожа, желтые клыки и свалявшиеся волосы. Явно предел вырождения — плачевный результат изолированного существования, родственных браков и каннибализма; живое воплощение хаоса и звериного оскала страха, таящихся под землей. Уродец глядел на меня в предсмертной агонии, и его глаза своей необычностью напомнили мне другие, виденные под землей и пробудившие тогда неясные воспоминания. Один глаз был голубой, другой — карий. Именно такими, согласно преданьям, были глаза Мартенсов. И тогда в приступе безмолвного ужаса я понял, что случилось с исчезнувшей семьей, с этим проклятым домом Мартенсов, ввергнутым в безумие громами.
КАРТИНКА В ДОМЕ
Искатели острых ощущений посещают странные и весьма далекие места. Для них были созданы катакомбы Птолемеев и украшенные резьбой мавзолеи в глубине полудиких стран. Они взбираются при свете луны на развалины рейнских замков и отважно спускаются по черным, поросшим лишайником ступеням в каменные останки давно забытых азиатских городов. Заколдованный лес и одинокая гора посреди пустоши — их святыни, и они надолго задерживаются возле зловещих монолитов на необитаемых островах. Но подлинные ценители грозных опасностей, для которых очередное потрясение при созерцании неописуемо отвратительного зрелища — вожделенный финал, увенчивающий долгие поиски, пожалуй, превыше всей этой экзотики оценят древний и одинокий фермерский дом где-нибудь в провинциальной глуши Новой Англии, ибо в таком месте темные элементы потаенной силы, гнетущего одиночества, гротескной вычурности и дремучего невежества сливаются для создания изумительной мерзости.
Самыми зловещими бывают именно маленькие некрашеные деревянные домики поодаль от проезжих дорог, обычно притулившиеся на сыром травянистом склоне или прислонившиеся к гигантскому обнажившемуся каменному пласту. Двести, а то и более лет назад они уже были покосившиеся или приземистые, и лоза оплетала их стены, а деревья простирали над их крышами ветви. Сейчас они почти незаметны среди безудержного буйства зелени и замаскированы тенью, но их окна, из множества мелких застекленных секций, по-прежнему поглядывают тревожно, словно подмигивая сквозь мертвящее оцепенение, защищающее разум от помешательства, притупляя воспоминания о неописуемых событиях.
Многие поколения в таких домах жили странные люди, подобных которым свет не видывал. Ведомые мрачной и фанатичной верой, отдалившей их от остальных людей, их предки искали самые глухие места, желая обрести там свободу. В подобных местах потомки этих свободолюбивых искателей и в самом деле росли в полной свободе, не обремененные ограничениями и тяготами своих сверстников, но попадали в рабские оковы мрачных фантазий их собственного разума. Вдали от света цивилизации сила этих пуритан направлялась порой по весьма странным каналам, и в своей изоляции, в своем болезненном самоограничении и борьбе за жизнь с безжалостной природой они подчас перенимали самое темное и загадочное из доисторических глубин обитателей холодных северных краев. По необходимости практичные и суровые по складу характера, эти люди не были прекрасны в своих грехах. Ошибаясь, как и все смертные, они понуждались их строгими религиозными догмами найти тайное убежище от всего этого и потому со временем все меньше осознавали, что именно старались скрыть. Только молчаливые, сонные, пугливо глазеющие окнами домики в захолустье могли бы поведать, что именно скрывается с давних времен, но обычно они неразговорчивые, не желающие стряхивать с себя дремоту, помогающую им забыть былое. Иногда даже кажется, что милосерднее будет вообще снести эти домики, ибо они часто погружены в грезы.
Именно в таком вот сокрушенном временем строении я оказался в ноябре 1896 года, когда разразившийся во второй половине дня холодный проливной дождь вынудил меня искать хоть какое-то убежище. Я уже несколько дней путешествовал по сельской местности Мискатонской долины в поисках кое-какой генеалогической информации, а поскольку интересовавшие меня места в основном располагались вдали от дорог и были труднодостижимы, то, несмотря на позднюю осень, путешествовал я на велосипеде. Желая добраться до Аркхема кратчайшим путем, я оказался на старой и, по всей видимости, заброшенной дороге, и когда вдали от населенных пунктов меня застигла гроза, в поисках убежища я наконец наткнулся на древнее и неказистое деревянное строение неподалеку от основания каменистого холма, щурящееся мутными окнами из-за двух огромных, уже облетевших вязов. Даже издалека, как только я заметил его от дороги, это строение произвело на меня неприятное впечатление. Порядочные и благопристойные дома не смотрят на путешественника так лукаво и в то же время завораживающе, а кроме того, благодая генеалогическим изысканиям я был знаком с местными преданиями, настраивающими против посещения подобных мест. Однако гроза оказалась сильнее предрассудков, и вскоре я уверенно крутил педали вверх по пологому склону в сторону запертой двери, наводящей на мрачные мысли и в то же время манящей.
На первый взгляд мне показалось, что дом заброшен, однако по мере приближения к нему я был все меньше в этом уверен, ибо хотя ведущая к нему тропинка заросла травой, вид ее наводил на мысль, что ею изредка пользуются. Поэтому я не стал решительно тянуть на себя ручку двери, а осторожно постучался, ощущая внутреннее волнение, которое едва ли мог объяснить. Ожидая возможного ответа на грубом, поросшем мхом камне, служившем своего рода порогом, я посмотрел на ближайшие окна, затем поднял взгляд на оконце над дверью и обратил внимание, что стекла в них грязные и старые, но не разбиты. Значит, дом все еще обитаем, хотя и удален от дороги и имеет заброшенный вид. Однако на мой стук так никто и не ответил, я постучал снова, а потом потрогал заржавленную щеколду и обнаружил, что дверь не заперта. За ней оказалась маленькая прихожая, со стен которой осыпалась штукатурка, а изнутри дома доносился странный неприятный запах. Я вошел, неся в руке велосипед, и закрыл за собой дверь. Прямо передо мной узкая лестница уходила вверх, к маленькой двери, ведущей, наверное, в мансарду, тогда как справа и слева от меня располагались закрытые двери, ведущие в комнаты.
Поставив велосипед к стене, я открыл левую дверь и оказался в небольшом помещении с низким потолком, куда свет едва проникал сквозь запыленные окна, обставленном скудно и самым примитивным образом. Похоже, это было чем-то типа гостиной, поскольку здесь стояли стол и несколько стульев, а кроме того был огромный камин, на полке над которым тикали старинные часы. Книг и газет было мало, а названия их при таком освещении я разобрать не смог. Но прежде всего я обратил внимание на царившую в доме атмосферу старых времен, проступавшую буквально в каждой детали. В большинстве домов в этих краях я замечал разнообразные реликвии прошлого, но здесь любовь к старине казалась доведенной до своего предела, ибо я не обнаружил ни единого предмета, относящегося к периоду после войны за независимость. Не будь обстановка здесь такой скромной и невзрачной, это был бы рай для собирателя старины.
Осматривая это странное жилье, я ощущал все более сильную антипатию, зародившуюся во мне уже при первом взгляде на унылое строение. Я никак не мог определить, что это, неприязнь или, может, потаенный страх, но отчетливо ощущал во всей атмосфере мрачность и грубую порочность старины, некие тайны, о которых давно следовало бы забыть. Садиться мне почему-то не хотелось, и потому я начал бродить по комнате, осматривая те предметы, на которых останавливался мой взгляд. Первым таким предметом оказалась книга средних размеров, лежавшая на столе и имевшая настолько древний вид, что казалось, будто ее взяли из какого-нибудь музея. Издание в кожаном переплете с металлическими уголками и прекрасной сохранности казалось неуместным в таком примитивном помещении. Когда я открыл ее и увидел титульный лист, мое изумление возросло многократно, ибо это оказалось не что иное, как редчайшие описание Пигафетты района Конго, написанное на латыни на основе воспоминаний моряка Лопеса, изданное во Франкфурте в 1598 году. Мне часто доводилось слышать об этой книге, снабженной крайне любопытными иллюстрациями, выполненными братьями Де Брай, и потому я на какое-то время совершенно забыл про беспокойство и принялся листать ее. Гравюры действительно оказались весьма интересными, основанными на фантазии и небрежных описаниях; туземцы на них были с белой кожей и характерными для европейцев лицами; вероятно, я не скоро бы закрыл эту книгу, если бы не одно странное обстоятельство, задевшее мои усталые нервы и оживившее ощущение непонятного беспокойства. Эта книга непонятно почему норовила раскрыться на одном и том же месте, а именно на иллюстрации XII, где в омерзительных подробностях была изображена мясная лавка каннибала королевства Анзику. Я даже устыдился своей неприязни к какой-то заурядной картинке, однако иллюстрация эта все же вызывала у меня беспокойство, особенно потому, что к ней прилагалось что-то типа справки по гастрономическим пристрастиям каннибалов.
Я обратил взгляд к книжной полке и осмотрел ее скудное содержимое: Библия XVIII века; «Путешествия пилигрима» примерно того же периода, с вычурными гравюрами и изданные составителем альманахов Исайей Томасом; заметно подпорченный громадный том «Magnalia Christi Americana» Коттона Матера и еще несколько книг тех же времен, а затем мое внимание привлек внезапный звук шагов в комнате наверху. Поначалу изумившись, поскольку никто не ответил на мой стук в дверь, я вскоре решил, что хозяин дома, скорее всего, только что очнулся после долгого сна, и уже с меньшим удивлением слушал поскрипывание ступеней. Поступь спускавшегося по лестнице человека была тяжелой и в то же время какой-то настороженной, что мне особенно не понравилось. Войдя в комнату, я инстинктивно запер за собой дверь. После недолгой тишины, пока хозяин, очевидно, осматривал мой оставленный в прихожей велосипед, послышалось звякание щеколды, а затем дверь в гостиную стала медленно открываться.
В дверном проеме стоял человек столь необычной внешности, что я не вскрикнул лишь потому, что с детства был приучен к сдержанности. Старый, с белой бородой и в поношенной одежде, хозяин дома внушал удивление и уважение своим видом и телосложением. Ростом он был примерно метр восемьдесят и, несмотря на возраст и явную нищету, казался крепким и энергичным. Лицо, почти полностью скрытое длинной бородой, росшей чуть ли не от самых глаз, казалось неестественно румяным и не столь морщинистым, как следовало ожидать; над высоким лбом торчала копна седых волос, лишь чуть поредевшая с годами. Взгляд голубых глаз, слегка налитых кровью, казался пронзительным и даже пылающим. Если бы не чудовищная неряшливость, старик производил бы впечатление важной персоны. Эта неряшливость, даже при таких лице и фигуре, делала его внешность отталкивающей. Невозможно было определить, что представляла собой его одежда, ибо мне она показалась массой каких-то лохмотьев, колышущейся над высокими, тяжелыми ботинками; его же личная нечистоплотность вообще не поддается описанию.
Появление этого человека и тот инстинктивный страх, который он внушал, заставляли меня ожидать какой-то враждебности, потому я почти вздрогнул от изумления и проникся ощущением несообразности, когда он указал рукой в сторону стула и обратился ко мне тонким, слабым голосом, полным льстивого почтения и угодливости. Речь его была весьма любопытной — крайне ярко выраженная форма североамериканского диалекта, который, как мне казалось, давно вышел из употребления, — и я внимательно вслушивался в нее, пока он усаживался напротив меня, чтобы побеседовать.
— Попали под дождь, да? — произнес он в качестве приветствия. — Рад, что вы оказались неподалеку и догадались заглянуть. Похоже, я спал, иначе бы услышал, как вы вошли. Годы уже не те, хочется вздремнуть даже днем. Путешествуете? С тех пор, как отменили дилижанс на Аркхем, редко доводится видеть кого-то на этой дороге.
Я ответил, что направляюсь в Аркхем, и извинился за грубое вторжение в его жилище, после чего он продолжил:
— Рад видеть вас, молодой сэр… в здешних местах редко доводится видеть нового человека, и поболтать не с кем. Похоже, вы из Бостона, да? Я там никогда не был, но человека из города видно сразу… в восемьдесят четвертом приезжал к нам сюда один школьный учитель, но потом пропал внезапно, и с тех пор никто о нем не слышал…
При этих словах старик захихикал, но не ответил на мой уточняющий вопрос об учителе. Похоже, он пребывал в игривом расположении духа, но все же от него можно было ожидать чудачества. Некоторое время он продолжал нести какой-то вздор, пребывая в состоянии преувеличенного радушия, пока мне не пришло в голову поинтересоваться, каким образом у него оказалась столь редкая книга, как «Regnum Congo» Пигафетты. Я все еще пребывал под впечатлением от этой книги и испытывал некоторое колебание, прежде чем спросить о ней, однако любопытство победило страхи, что постепенно накапливались с того момента, когда я впервые увидел этот дом. К моему облегчению, этот вопрос не озадачил его, ибо старик свободно и легко продолжил болтовню:
— А, эта книга про Африку? В шестьдесят восьмом выторговал ее у капитана Эбенезера Холта — а потом он был убит на войне.
Упоминание Эбенезера Холта заставило меня резко взглянуть на старика. Я уже встречал это имя в своих генеалогических изысканиях, и все упоминания относились исключительно к периоду до войны за независимость. Подумав, что хозяин дома может оказать помощь в моих изысканиях, я решил позже расспросить его подробнее. Между тем он продолжал:
— Эбенезер долгое время ходил на салемском торговом судне и покупал в портах всякие забавные вещицы. Эту привез, думаю, из Лондона — любил он захаживать во всякие местные магазины… Как-то раз я был у него дома — это на холме, он там лошадьми торговал, — и увидел эту книгу. Мне в ней картинки понравились, и я ее выменял. Она чудная… дайте-ка надеть очки…
Старик покопался в лохмотьях и извлек грязные и подлинно антикварные очки — с маленькими восьмиугольными линзами в стальной оправе. Нацепив их на нос, он потянулся к лежавшей на столе книге и принялся аккуратно, почти любовно листать ее.
— Эбенезер немного читал на этой… на латыни, а я вот не научился. Я просил нескольких школьных учителей почитать мне немного, и еще Пэссона Кларка… говорят, он потом утонул… а вы что-нибудь в этом понимаете?
Я ответил, что да, и перевел ему один из первых абзацев. Если я где и ошибся, старик все равно не мог этого заметить, и при этом он почти по-детски радовался моему переводу. Между тем находиться совсем рядом с ним становилось все более невыносимо, но я не видел способа избежать этого, не обижая старика. Меня забавляла детская увлеченность этого пожилого человека картинками в книге, которую он не мог прочитать, и я задавался вопросом, может ли он прочитать те немногочисленные английские книги, что украшают комнату. Эта демонстрация простодушия почти отмела мои смутные опасения, и я с улыбкой продолжал слушать болтовню хозяина дома.
— А странно все-таки, что картинки могут наводить на всякие мысли. Взять хотя бы эту, в самом начале. Вы когда-нибудь видели такие деревья — с большими листьями, которые качаются вверх-вниз? Или вот эти люди: это не могут быть негры — те совсем не такие. Скорее индусы, даже если они в Африке. Из этих вот некоторые похожи на обезьян — или наполовину обезьяны, наполовину люди. А про таких чудищ я никогда не слышал. — В этом месте он ткнул в очередное порождение фантазии художника, изобразившего нечто вроде дракона с головой крокодила. — Но сейчас я покажу вам самую лучшую — вот тут, почти в середине…
Голос старика стал чуть глуше, а в глазах появился блеск; его подрагивающие пальцы сделались еще более неуклюжими, чем ранее, но со своей задачей справились. Книга раскрылась почти сама, как будто ее особенно часто открывали именно на этом месте — на той самой двенадцатой иллюстрации, где была изображена лавка мясника-каннибала из Анзику. Ощущение беспокойства вернулось ко мне, хотя я постарался этого не показывать. Особо нелепым казалось то, что художник изображал африканцев совсем как белых людей — части тел, свисавшие со стен лавки, выглядели омерзительными, тогда как мясник с топором на их фоне смотрелся крайне неуместно. Но хозяину дома, похоже, эта иллюстрация нравилась настолько же, насколько мне внушала отвращение.
— Ну, что думаете об этом? Небось, никогда ничего подобного не видели, а? Я как только это увидел, так сказал Эбу Холту: «На это как глянешь — сразу чувствуешь, как кровь по жилам бежит». Когда я читал в Библии про убийства — про истребление мадианитян, например, — то мог только подумать, но не представить картинку. А здесь сразу видно, как все это делается — грех, конечно, но разве все мы не родились в грехе и не живем в нем?.. Этот парень, которого на куски порубили, — я как гляну на него, так кровь по жилам быстрее бежит. Я подолгу смотрю на это — видишь, как мясник ему ноги оттяпал? Вот его голова на лавке, рядом с ней одна рука, а другая — с другой стороны, висит на стене.
Пока старик бормотал все это в шокирующем экстазе, выражение его заросшего лица в очках неописуемо изменялось, а голос становился тише. Не берусь описать, какие я при этом испытывал чувства. Весь тот ужас, который я смутно ощущал, нахлынул вдруг с новой силой, и я осознал, что ненавижу это древнее и гнусное существо, сидящее так близко ко мне. Его безумие или, во всяком случае, почти патологическая извращенность стали для меня очевидными. Он перешел почти на шепот и говорил с хрипотцой, которая была ужаснее крика, а я, дрожа всем телом, продолжал слушать его.
— Вот я и говорю — странно, что эти картинки наводят на мысли. Знаете, молодой сэр, ведь на этой картинке почти про меня. После того как я забрал у Эба эту книгу, я помногу смотрел ее, особенно послушав воскресную проповедь Пэссона Кларка — он читал их в большом парике. И однажды я попробовал кое-что забавное — только не бойтесь, молодой сэр, потому как все, что я сделал, — это просто посмотрел на эту картинку перед тем как зарезать овцу, которую затем отвез на рынок… так вот, гораздо веселее убивать после того, как посмотришь на такое…
Голос старика стал совсем тихим, так что я едва различал произносимые им слова. Я слышал дождь, стук капель по маленьким тусклым оконным стеклам, и вдруг прозвучали раскаты грома, хотя гроза была крайней редкостью для этого времени года. Затем с ужасающей вспышкой и оглушительным грохотом рядом ударила молния, сотрясая ветхий домишко до самого основания, однако мой нашептывающий собеседник, казалось, ничего не заметил.
— Как посмотрел, прирезать овцу стало немного веселее, но все равно этого было как-то недостаточно. Странно чувствовать, как тебя охватывает жажда чего-то такого, особенного… Если вы, молодой человек, любите Господа нашего всемогущего, то никому не рассказывайте, но я поведаю вам правду… глядел я на эту картинку, и внутри у меня поднимался голод по такой пище, которую я не мог ни купить, ни получить еще как-то… да сидите же спокойно, что с вами?.. Я же не сделал ничего такого, только подумал, а что если сделаю?.. Говорят, что мясо питает нашу плоть и кровь, дает нам новую жизнь, вот я и подумал, что человек может жить значительно дольше, если будет есть сродное самому себе…
Но продолжения фразы не последовало. Старик прервался не из-за моего страха и не из-за усиливавшейся грозы. Произошло это по самой простой и совершенно неожиданной причине.
Между нами лежала та самая книга, раскрытая на омерзительной иллюстрации. Как только старик прошептал «самому себе», я услышал слабый звук, похожий на легкий шлепок, и на пожелтевшей странице появилось пятно. Я подумал о дожде и протекающей крыше, но дождь не бывает красным. Поблескивающее на изображении лавки мясника каннибалов королевства Анзику маленькое красное пятнышко придавало кошмарной сцене на старинной гравюре особую достоверность. Старик тоже увидел пятно и тут же замолчал, еще до того, как выражение ужаса на моем лице заставило бы его сделать это; он быстро поднял взгляд к потолку — полу той комнаты, которую он покинул менее часа назад. Я проследил за его взглядом и увидел над нами, на отслаивающейся штукатурке старого потолка, большое темно-красное пятно, которое, как мне показалось, расширялось буквально на глазах. Я не закричал и даже не двинулся с места, а лишь крепко закрыл глаза. Мгновение спустя раздался неимоверно громкий удар грома; чудовищной силы удар молнии сокрушил этот проклятый дом со всеми его жуткими тайнами и принес мне забытье — то единственное, что могло спасти мою душу.
ТЕНЬ НАД ИННСМУТОМ
Глава 1
Зимой 1927/28 года чиновники федерального правительства провели секретное расследование неких событий, происшедших в старинном массачусетском порту Иннсмут. Население впервые узнало об этом в феврале, когда последовали многочисленные облавы и аресты, а затем в той же обстановке таинственности были взорваны и сожжены вытянувшиеся вдоль берега многочисленные ветхие и замшелые лачуги, давно уже покинутые своими хозяевами.
Некоторые из окрестных жителей по простоте душевной связывали действия властей с преследованием нарушителей сухого закона. Зато люди более или менее образованные изумлялись столь массовым арестам, не менее озадачивало их большое число привлеченных правоохранительных сил и тщательная конспирация в отношении арестованных. Печать хранила упорное молчание. Велись ли по этому делу судебные процессы? Были ли предъявлены обвинительные заключения? Так или иначе, в государственные тюрьмы не поступил ни один из обвиняемых. Ходили слухи о некой эпидемии и о специальных лагерях, а позднее — о размещении заключенных в военных тюрьмах, но ни во что определенное эти слухи так и не вылились.
Долгое время Иннсмут оставался наполовину вымершим городом, только недавно в нем появились первые признаки возрождения.
Либеральные круги выступили с протестами по поводу утаивания от общественности фактов расследования, и тогда отдельным депутациям позволено было посетить некоторые лагеря и тюрьмы. Любопытно, что после этих поездок протесты мгновенно прекратились. Труднее оказалось заткнуть рот прессе, но и она в конце концов сдалась. Только одна бульварная газетенка с неодолимой тягой ко всему скандальному проболталась, что некая подводная лодка сбросила за Рифом Дьявола несколько глубоководных бомб. Однако это сообщение, поданное со слов моряков, сочли не относящейся к делу болтовней — зловещий риф лежал не менее чем в полутора милях от Иннсмутской гавани.
Жители округи и близлежащих городов долго толковали об этих событиях, но в большой мир слухи не просочились. Впрочем, население здешних мест поговаривало о черных делах, творившихся в постепенно вымиравшем Иннсмуте вот уже почти сто лет, причем и сами рассказы, и недомолвки равно приводили в трепет. Люди здесь приучились держать язык за зубами, и никакими силами невозможно было их разговорить. Да и знали они на самом деле не так уж много: огромные солончаковые болота, где не жила ни одна живая душа, отделяли Иннсмут от ближайших поселений.
И вот теперь я решаюсь наконец пролить свет на таинственные события. Со всей этой нечистью, убежден, покончено насовсем, и потому гласность не принесет вреда, разве что заставит испытать глубокое отвращение, пережитое некогда участниками операции в Иннсмуте. Кроме того, сами события не однозначны и могут навести на иные объяснения. Уверен, что даже мне не известна вся правда, хотя, надо сказать, и у меня есть причины не копать глубже. Слишком уж близко соприкоснулся я с этим делом — ближе, чем любой из местных жителей, и то, что испытал при этом, требует и посейчас от меня крайней осторожности.
Ведь именно я в панике покинул Иннсмут ранним утром 16 июля 1927 года и затем бомбардировал правительство полными беспредельного ужаса письмами, где описывал случившееся со мной, требуя незамедлительного расследования и самых жестких мер. Пока шло следствие, я ни с кем не откровенничал. Теперь же, когда страсти утихли и все, как говорится, быльем поросло, меня тянет поведать о тех страшных часах, что я провел в этом морском порту с дурной репутацией, в городе, где свили себе гнездо смерть и безграничное зло. Сама попытка поделиться пережитым укрепляет меня в мысли, что я не безумец и не жертва чудовищной галлюцинации. Она, уверен, даст мне силы и для последнего ужасного шага, который мне предстоит совершить.
Прежде у меня не было случая побывать в Иннсмуте. Но тем летом, отмечая свое совершеннолетие, я путешествовал по Новой Англии, знакомясь с ее достопримечательностями и славным прошлым. Преследовал я и личные цели: намереваясь лучше ознакомиться со своей родословной, собирался из старинного Ньюберипорта направиться прямо в Аркхем, откуда происходило семейство матушки. Машины у меня не было, и я старательно избирал повсюду самый дешевый вид транспорта, путешествуя то автобусом, то поездом, то троллейбусом. В Ньюберипорте мне сказали, что до Аркхема ходит только поезд, проезд на нем стоил довольно дорого, и вот тут-то я впервые услышал об Иннсмуте. О нем упомянул кассир, плотный мужчина с хитроватым лицом и, судя по речи, не местный. Догадавшись о скудости моего кошелька, он отнесся к моему положению с пониманием и посоветовал добраться до Аркхема другим путем.
«Туда еще ходит автобус, — нерешительно протянул он. — На нем не любят ездить, хотя он и не петляет. Все потому, что автобус идет через Иннсмут. Водит его Джо Сарджент, сам-то он родом из Иннсмута. Странно, что автобус до сих пор не сняли с линии: ни здесь, ни в Аркхеме в него не садятся. Ни разу не видел в нем больше двух-трех человек, а ведь билеты недорогие. Только иннсмутцы и ездят. Автобус отправляется с площади, прямо от аптеки Хеммонда, в десять утра и в семь вечера, если ничего не изменилось. Старая развалина, никогда сам не ездил в нем».
Вот так я услышал впервые о загадочном Иннсмуте. Разумеется, меня сразу заинтересовал этот город, не нанесенный на карту и не упоминавшийся в последних путеводителях, а таинственные намеки кассира только разожгли мое любопытство. Город, способный пробудить такую неприязнь у соседей, думал я, наверняка таит в себе нечто необычное и заслуживает внимания путешественника. Если автобус останавливается в нем перед Аркхемом, пожалуй, сойду. Придя к такому решению, я обратился к кассиру с просьбой рассказать еще что-нибудь об этом городке. Тот, осторожно подбирая выражения, начал свой рассказ, и в тоне его чувствовалось некоторое пренебрежение к теме разговора.
«Иннсмут? Занятный городишко, расположен в устье Меньюксета. Раньше был довольно многолюдным. Известный перед войной 1812 года порт. Но за последние сто пятьдесят лет все изменилось. Поезда туда не ходят — ветка из Раули давно травой заросла.
Теперь в нем больше пустых домов, чем людей. Заняться нечем, разве что ловить рыбу или омаров. Тамошние жители ездят продавать улов сюда, в Аркхем или в Ипсвич. Раньше в городке было несколько фабрик, но теперь все они закрыты, кроме ювелирной, да и та на ладан дышит — когда работает, когда на замке.
В свое время фабрика славилась на всю округу, а ее нынешний владелец, старый Каин Марш, слыл богатым человеком — сам Крез ему в подметки не годился. Теперь же стал чудаком и затворником. Все отсиживается в своем доме. То ли из-за кожного заболевания, то ли еще какой порок открылся. Дело основал его дед, капитан Абед Марш. Мать Каина была иностранка, кажется, с Карибских островов, и поэтому многие высказывали свое неудовольствие, когда Каин пятьдесят лет назад женился на девушке из Ипсвича. С уроженцами Иннсмута не любят родниться, а те, в ком течет их кровь, стараются это скрыть. Впрочем, дети и внуки Марша ничем не отличаются от прочих людей. Они не раз покупали у меня билеты. Старшие что-то давно не появлялись. А самого старика я вообще никогда не видел.
И чем этот Иннсмут всем не угодил? Послушайте меня, молодой человек, не обращайте вы внимания на эту болтовню! Здешних людей трудно завести, зато когда заведешь, не остановишь. Об Иннсмуте всякое толкуют последние сто лет, шушукаются по углам, а у страха, сами знаете, глаза велики. Некоторые истории вообще смехотворны. Вроде того, что капитан Марш заключил сделку с дьяволом и заселил Иннсмут дьяволятами прямехонько из ада. Или басня о культе сатаны и об ужасных жертвоприношениях, воздаваемых ему где-то в районе верфи. На их следы якобы наткнулись в 1845 году. По счастью, я не местный, родом из Пентона, штат Вермонт, и в такую чепуху не верю.
А чего только не болтают старожилы об этом мрачном утесе, который они называют Рифом Дьявола! Он почти всегда выступает из воды, и все же островом его не назовешь. Рассказывают, что там видели полчища нечистой силы. Облепили весь утес, шмыгают туда-сюда из пещеры в пещеру, каких там много поближе к вершине. Торчит себе этот риф щербатым уродцем примерно в миле от берега, корабли в ту пору, когда еще был порт, делали большой крюк, только бы не пройти с ним рядом.
Со временем моряки совсем отказались заходить в Иннсмут. По их словам, капитан Марш иногда приставал к рифу во время прилива. Может, и приставал — у скалы любопытное строение. Или искал припрятанный пиратами клад. Возможно, и нашел. Но говорили другое: якобы капитан видится там с чертями. Думаю, из-за Марша такая у рифа дурная слава.
Во время страшной эпидемии 1846 года поумирало более половины иннсмутцев. Никто так и не узнал, что это за болезнь объявилась. Похоже, что-то заморское: должно быть, моряки завезли из Китая или еще откуда. Жуткое было дело. Начались волнения и прочие безобразия, о которых сами жители не очень-то распространялись перед другими. Эпидемия довела город до чудовищного состояния. В конце концов болезнь отступила и больше не возвращалась, но в городе теперь живет всего триста-четыреста человек.
Мне все-таки кажется, что за неприязнью людей к этому месту скрываются обычные расовые предрассудки. Трудно осуждать их, сам не выношу этих типов из Иннсмута. Ноги моей не будет в их городишке. Вы ведь знаете, хотя сами-то вы, судя по выговору, с Запада, что суда из Новой Англии плавают и в Африку, и в Азию, и в Южную Америку. В какие только порты они не заходят, каких только людей не видят! А иногда кого-нибудь и с собой прихватят. Может, слышали о жителе Салема, который женился на китаянке? А в районе Кейп-Кода целое поселение выходцев с островов Фиджи.
В уроженцах Иннсмута тоже ощущается что-то заморское. Трудно, правда, докопаться до истоков: место окружено болотами и рукавами реки — практически отрезано от остального мира. Думаю, это старый капитан Марш понавез разных туземцев, ведь в двадцатые-тридцатые годы он владел тремя кораблями. В жителях городка есть что-то диковинное. Не знаю, как объяснить, но иногда посмотришь на такого — и мороз по коже. Взять хоть Сарджента. Сами увидите, если сядете в его автобус. Головы у них обычно вытянутые, носы сплюснутые, а глаза так выпучены, что непонятно, как они умудряются их закрывать. Да и кожа странная — шершавая какая-то и словно паршой покрыта. На шее лежит складками. Рано лысеют. Особенно уродливы старики, но их, слава Богу, нечасто видишь. Может, помирают быстро. Посмотрят на себя в зеркало — и дух вон. Животные иннсмутцев не выносят. Трудно им было ладить с лошадьми, пока не появился автотранспорт.
Жители Аркхема и Ипсвича не хотят иметь с ними дела, да они и сами нелюдимы. В город приезжают — держатся в сторонке. И не приведи Господи ловить в их краях рыбу. А там всегда ее пропасть. Нигде нет, а там кишмя кишит. Но только попробуй пристроиться — сразу прогонят. Раньше оттуда добирались по железной дороге, шли до Раули пешком, а там садились в поезд. Но после того, как ветку прикрыли, ездят на автобусе.
Говорите, гостиница? Как же, есть. Называется «Джилмен-Хаус», но не думаю, что приличная. Не советую в ней останавливаться. Лучше проведите ночь в нашем городе, а утром садитесь на десятичасовой. А там уже пересядете на тот, что идет в Аркхем. Он отходит в восемь вечера. Пару лет назад один инспектор фабричного дела останавливался в «Джилмен-Хаус». Остался, говорят, недоволен. Там, судя по всему, собирается черт знает кто. Хотя вроде бы большинство номеров были пустыми, но он слышал в них голоса. Жуткие голоса. У него кровь в жилах застывала. Говорили не по-нашему. Один голос был особенно ужасен: какой-то неестественный, говорит — будто хлюпает. Инспектор побоялся даже ложиться, так и просидел одетый всю ночь. Только рассвело — сразу деру. А те голоса всю ночь не умолкали.
Этот человек, его имя Кейси, рассказывал, что иннсмутцы глаз с него не спускали и держались настороже. Его очень озадачило положение дел на фабрике Марша — той, что в старом здании, на нижнем берегу Меньюксета. Я об этом слышал и раньше. Бухгалтерские книги в непотребном состоянии, учет ведется как Бог на душу положит. Вечная загадка — где Марш достает золото для обработки. Он и прежде, когда вовсю торговал драгоценностями, не закупал его помногу.
На фабрике, говорят, делают разные странные штуковины, их иногда тайком продают моряки или фабричные рабочие. Может, подражают иноземным драгоценностям? Женщины из семейства Марша тоже носят диковинные украшения. Не исключено, что капитан Абед наменял их в какой-нибудь заморской гавани, ведь он всегда брал с собой в плавание стеклянные бусы и прочие дешевые безделушки, на которые так падки туземцы. Некоторые уверяют, что тут не обошлось без клада пиратов, — он его будто бы отыскал на Рифе Дьявола. Но вот что любопытно. Марши продолжали скупать всю эту стеклянную дребедень и после смерти капитана, все шестьдесят лет, а ведь после Гражданской войны ни один мало-мальски приличный корабль не покинул иннсмутского порта. Может, сами жители любят наряжаться как попугаи? Тогда они ничем не лучше африканских каннибалов и дикарей с Гвинеи.
Эпидемия сорок шестого года скосила лучшие семьи города. Теперь там живут одни отбросы. Марши и другие богачи ничем не отличаются от остальных. Я уже говорил, что в городе осталось не более четырехсот человек, хотя места хватает. Таких, как они, — ленивых, хитрых и бессовестных — на Юге зовут «белой рванью». Они ловят рыбу, омаров и развозят на грузовиках. Откуда только в их краях столько рыбы?
Никто не знает, что у них там творится; школьные инспектора и чиновники, ведающие переписью населения, просто голову с ними теряют. Иннсмут не любит соглядатаев. Слышал, что несколько человек — бизнесмены и государственные служащие — там пропали, как в воду канули. А один, побывавши у них, сошел с ума и теперь томится в денверской психиатрической лечебнице. Чем уж они его так напугали?
Будь я на вашем месте, ни за что бы не отправился туда на ночь. Не бывал там и не собираюсь, но думаю, если поехать днем, ничего не случится. Конечно, найдутся такие, что будут вас отговаривать, но не слушайте их. Если хотите увидеть настоящую старину, Иннсмут — то, что надо».
Часть вечера я провел в публичной библиотеке Ньюберипорта, отыскивая информацию об Иннсмуте. Расспрашивал и местных жителей — в магазинах, закусочных, гаражах, пожарном депо, — но, как и предупреждал кассир, все они отмалчивались. Поняв, что только зря теряю время, я прекратил расспросы: при первом же упоминании об Иннсмуте люди настораживались, словно в одном только интересе к этому городку заключалось нечто дурное. Служащий из клуба Союза христианской молодежи, где я остановился, очень удивился моему желанию побывать в столь убогом городке. Та же реакция была и у сотрудников библиотеки. По-видимому, в глазах городской интеллигенции Иннсмут являл собой пример крайнего падения нравов.
Просмотрев в библиотеке книги по истории Эссекского округа, я узнал из них крайне мало. Город был основан в 1643 году. До революции его жители занимались в основном судостроением, и в начале девятнадцатого столетия Иннсмут уже стал процветающим торговым портом. Позже получила некоторое развитие и другая промышленность: фабрики, осевшие на берегах Меньюксета, пользовались энергией реки. Об эпидемии 1846 года и последующих волнениях в документах говорилось мало, — может, считалось, что это бросает тень на весь округ?
Почти не встречалось упоминаний о последующем запустении города, хотя к такому выводу можно было прийти самостоятельно, изучив косвенные источники. После Гражданской войны вся промышленность Иннсмута свелась к деятельности ювелирной фабрики Марша, и продажа золотых изделий стала единственной статьей городского дохода, не считая извечного рыбного промысла. Однако у рыбаков скоро наступили тяжелые времена: цены на рыбу упали из-за конкуренции крупных компаний. И все же у берегов Иннсмута рыбы всегда было вволю. Сохранилось туманное свидетельство, что польских и португальских рыбаков, забросивших там как-то сети, прогнали самым жестоким образом. С тех пор чужаки редко промышляли в тех водах.
Но самым интересным для меня было мимолетное упоминание о диковинных иннсмутских украшениях. Они, видимо, производили большое впечатление на местных жителей, потому что некоторые из них заняли место в музее Мискатоникского университета в Аркхеме и в коллекции Исторического общества в Ньюберипорте. В описании драгоценностей, кратком и маловыразительном, я сумел все же уловить намек на их исключительную оригинальность. Мое воображение настолько разожглось, что я только о них и думал и, несмотря на поздний час, вознамерился увидеть один из хранившихся в городе экземпляров — массивный золотой предмет необычных пропорций, нечто вроде тиары. Во всяком случае, так он классифицировался в справочниках.
Библиотекарь дал мне записку к куратору общества, мисс Анне Тилтон, жившей неподалеку, и эта милая пожилая дама была настолько любезна, что специально для меня открыла здание и показала коллекцию. Там хранились прелюбопытные экспонаты, но мой взгляд сразу же остановился на сверкавшем в дальнем углу стенда странном предмете.
Я буквально рот раскрыл от изумления перед этим буйством фантазии — захватывающей, неземной красоты вещь лежала передо мной на алой бархатной подушечке. Даже теперь затрудняюсь сказать, что же все-таки я увидел. То есть это, конечно, была тиара, научное описание не обманывало, и все же… Ее передняя, довольно высокая часть контрастировала с асимметричными боковыми; создавалось впечатление, что она предназначена для нестандартной головы овальной формы. Изготовлена она была почти исключительно из золота, хотя странный блеск говорил о примеси неизвестного, необычайно эффектного металла. Тиара находилась в отличном состоянии, можно было часами любоваться этим удивительным, ни на что не похожим творением. Искуснейший мастер резьбы по металлу изобразил на ее поверхности тончайшие геометрические узоры, а также орнамент с морской символикой.
Чем больше я смотрел на эту вещь, тем больше околдовывался ею, и в этом гипнотическом влечении было что-то тревожное, нечто не поддающееся рациональному объяснению. Сначала я приписал свое непонятное беспокойство непривычному, нездешнему облику этого произведения искусства. Все в таком роде, виденное мною ранее, носило черты эстетической принадлежности к определенной расе или нации или же являло собой авангардистский вызов традиционным течениям. Тиару же я не мог причислить ни к одному из известных направлений. Необычайно высокая техника исполнения говорила о сложившейся, зрелой художественной школе, но фокус заключался в том, что ее не существовало в природе — ни на Востоке, ни на Западе, ни в древнем, ни в современном мире! Ни о чем подобном я не слышал и, уж конечно, не видел. Казалось, это творение заброшено с другой планеты.
Но охватившее меня волнение имело и другую, не менее важную причину. Меня будоражила странная живописная и математическая символика тиары. Она навевала мысли о непостижимых, сокровенных тайнах, о пучинах времени и пространства, а морская тематика резьбы какой-то тоской отдавалась в сердце. Среди отдельных рельефов выделялись фантастические чудовища — наполовину рыбы, наполовину жабы, злобный вид которых вызывал отвращение. Глядя на них, я, казалось, вспоминал что-то давно позабытое, испытывая при этом неприятное чувство потревоженного подсознания — псевдопамяти, как если бы они вызывали образы из самых недр клеток и тканей. Ведь их способность к запоминанию ведет свое начало от примитивных организмов и таинственным образом передается по наследству. И теперь, когда я смотрел на этих чудовищных рыболягушек, меня не покидало чувство, что каждый изгиб жуткой плоти этих тварей источает неведомое и нечеловеческое зло.
На фоне охвативших меня эмоций краткий комментарий мисс Тилтон звучал особенно прозаично. По ее словам, тиару почти за бесценок заложил в ломбарде на Стейт-стрит пьяный житель Иннсмута, вскоре погибший в драке. Общество выкупило ее у ростовщика и поместило в постоянную экспозицию, как она того и заслуживает. Согласно выдержанной в уклончивых выражениях атрибуции, происхождение тиары могло быть ост-индским или индокитайским.
Учитывая различные гипотезы о происхождении драгоценности и ее появлении в Новой Англии, мисс Тилтон склонялась к тому, что тиара была найдена капитаном Абедом Маршем вместе с пиратским сокровищем. Такая догадка подкреплялась и неоднократными предложениями со стороны семейства Маршей выкупить у музея золотой убор за солидную сумму. Несмотря на решение общества не расставаться с тиарой, Марши не унимались и регулярно возобновляли свое предложение.
На прощанье почтенная дама дала мне понять, что просвещенные жители округа не сомневаются: богатство Маршей напрямую связано с найденным кладом. Сама она относилась к Иннсмуту, где никогда не бывала, с нескрываемым отвращением. По ее словам, люди там совсем утратили человеческий облик. Она же уверила меня, что слухи о пустившем там корни культе Сатаны до некоторой степени соответствуют истине. В городе действительно существует некая секта, набравшая большую силу и основательно потеснившая официальную церковь.
Секта называлась «Тайный союз Дагона»[52] и была, как выразилась эта почтенная дама, не чем иным, как языческой пакостью, завезенной с Востока сто лет назад, в те времена, когда у берегов Иннсмута стало меньше рыбы. Приверженность к секте простого народа вполне объяснима: ее зарождение совпало с внезапной миграцией рыбы на прежние места. Секта очень быстро приобрела огромную популярность, потеснив франкмасонов, и вскоре собрания ее членов стали проводиться в помещении Масонского общества на Нью-Черч-Грин-стрит.
Все эти обстоятельства давали благоверной мисс Тилтон прекрасный повод избегать нечестивый город, меня же услышанное еще более подстегивало к поездке. Если раньше меня привлекали там старинная архитектура и прочие исторические памятники, то теперь к этому присоединился и острый антропологический интерес, который разгорался все сильнее, так что я в своей маленькой комнатушке Христианского союза еле дождался рассвета.
Глава 2
Незадолго до десяти часов я уже стоял перед аптекой Хеммонда на площади Старого рынка с небольшим чемоданчиком в руках, дожидаясь автобуса на Иннсмут. Ко времени прибытия автобуса площадь заметно опустела, праздный люд разошелся кто куда, часть осела в кафе «Идеальный ланч», расположенном как раз напротив аптеки. Да, кассир явно не преувеличил неприязни местного населения к Иннсмуту и его обитателям. Послышалось тарахтение, и на Стейт-стрит выехал небольшой старенький автобус грязно-серого цвета. Развернувшись, он подкатил к тротуару и остановился неподалеку от меня. Еще не рассмотрев автобус хорошенько, я уже знал, что это именно тот, который мне нужен, и действительно, табличка с полустертыми названиями — Аркхем — Иннсмут — Ньюберипорт — подтвердила мою догадку.
В автобусе сидели только три пассажира — все молодые, смуглолицые и весьма неопрятные мужчины угрюмого вида. Когда водитель открыл дверцы, они неуклюже вывалились на улицу и стали молча слоняться по Стейт-стрит с теми же угрюмыми лицами. Шофер тоже вышел и направился в аптеку. Это наверняка был Джо Сарджент, о котором упоминал кассир. Не успел я еще толком его рассмотреть, как меня окатила волна Бог весть откуда взявшегося отвращения. Неудивительно, подумалось мне, что местные жители избегают ездить на автобусе, который водит такой субъект, или посещать город, где живут подобные ему люди.
Когда шофер вышел из аптеки, я стал буквально пожирать его глазами, пытаясь определить причину своей антипатии. К автобусу шел худощавый сутулый мужчина меньше шести футов ростом, в потертом синем костюме и выцветшей шапочке для гольфа. По туповатому, лишенному выражения лицу ему можно было дать лет тридцать пять, хотя сзади он казался старше, по-видимому, из-за глубоко залегших складок на шее. Голова его была сильно вытянута, а водянистые глаза настолько выпучены, что меня взяло сомнение, могут ли они вообще закрываться. Нос был приплюснут, маленькие уши выглядели недоразвитыми. Над толстой верхней губой и на пористой коже щек практически не было никакой растительности, если не считать нескольких рыжеватых волосков, кудрявившихся на значительном расстоянии друг от друга. Сама кожа выглядела бугристой и шелушилась, как бывает при некоторых кожных заболеваниях. На крупных кистях вздувались вены непривычного серовато-голубого цвета. По сравнению с кистями пальцы казались на редкость короткими и как бы ввинченными в ладонь. Он шел к автобусу, странно подволакивая ноги, и я успел заметить непропорционально громадные ступни. Удивительно, как он умудрялся подбирать себе обувь.
Во всем его облике ощущалась неряшливость и нечистоплотность, и это еще больше отвращало меня. Шофер явно либо подрабатывал на разделке рыбы, либо жил неподалеку от этого места — слишком уж специфический запах исходил от него. Относительно его происхождения трудно было сказать что-либо определенное. Я понимал, почему в нем могли видеть иноземца, но не находил признаков ни азиатских народов, ни полинезийских, ни левантийских, ни негроидных. На мой взгляд, тут речь шла скорее о вырождении, нежели о примеси иной крови.
Мне стало не по себе, когда я увидел, что, кроме меня, никто в автобус садиться не собирается. Ехать одному с этим водителем не хотелось. Но когда наступило время отправляться, я победил свои сомнения и, войдя вслед за шофером, протянул ему доллар и пробормотал одно только слово: «Иннсмут». Он с любопытством посмотрел на меня, но, ничего не сказав, дал сорок центов сдачи. Я сел подальше от него, но на той же стороне, чтобы во время поездки любоваться морем.
Наконец старая развалина рывком тронулась с места и загремела по Стейт-стрит мимо старинных кирпичных зданий, оставляя за собой клубы дыма. Наблюдая из своего окна за прохожими, я ощущал их желание не видеть автобус, поскорее отвернуться или по крайней мере сделать вид, что они не замечают его. Мы свернули налево и очутились на Хай-стрит. Здесь дорога стала ровнее. Медленно проехав мимо величественных старых особняков, возведенных в первые годы Республики, и еще более древних домов колонистов, автобус миновал улицы Лоуэр-Грин и Паркер-Ривер и выехал на бескрайний простор побережья.
День стоял теплый и солнечный, однако песчаные дали, поросшие низким кустарником и осокой, становились все безлюднее. Из окон была хорошо видна синяя кромка воды и песчаная линия Плам-Айленда. После того как мы свернули с основной магистрали на Раули и Иннсмут, дорога приблизилась к самому морю. Местность по-прежнему оставалась необитаемой, а по ужасному состоянию дороги я заключил, что любой транспорт здесь — явление редкое. Невысокие ветхие столбы несли только два телефонных провода. Нам частенько приходилось проезжать по деревянным, грубо сколоченным мостам, переброшенным через глубоко врезавшиеся в берег узкие излучины, которые наполнялись водой только во время прилива. Такая природная особенность тоже во многом способствовала изоляции района.
Иногда среди этой песчаной пустыни попадались гнилые пни и осыпающиеся фундаменты домов, а ведь некогда здесь был плодородный и густонаселенный край. Перемены совпали, если верить хранившимся в библиотеке документам, с эпидемией 1846 года и в народе связывались воедино: считалось, что обе беды ниспосланы свыше. В действительности дело обстояло значительно проще: наступление песков вызвала необдуманная вырубка леса на побережье.
Но вот и Плам-Айленд скрылся из виду, теперь перед нами ширился только безграничный простор Атлантического океана. Узкая дорога пошла резко вверх. Глядя на пустынный гребень горы, туда, где изрытая глубокими колеями дорога сливалась с небом, я вдруг испытал неизъяснимое беспокойство. Казалось, что автобус, дойдя до вершины, расстанется с нашей грешной землей и сольется с таинственными сферами небес. В запахе моря ощущалась новая, неприятная примесь, а напряженная, согнутая спина водителя и его узкая голова, казалось, излучали ненависть. Теперь я видел, что волосы не росли у него не только на бороде, но и на затылке, если не считать нескольких жиденьких завитков на сероватой морщинистой коже.
Мы въехали на гребень. Перед нами раскинулась долина, где Меньюксет прокладывала себе путь к северу от длинной цепи скал, самой величественной из которых казалась Кингспорт-Хед, и, извиваясь, текла к Кейп-Энн. В туманной дымке я с трудом различал контуры гигантской скалы, увенчанной, как короной, необычной старинной постройкой, о которой ходило множество легенд. Но сейчас не она приковала мое внимание. Я с любопытством разглядывал раскинувшееся в долине селение, понимая, что наконец-то вижу обросший слухами, загадочный Иннсмут.
Город выглядел довольно крупным и плотно застроенным, но сразу бросалось в глаза, что жизнь в нем еле теплится. Редко из какой трубы вился дымок, а три возвышавшихся над крышами собора, шпили которых были хорошо видны на фоне голубых далей, поражали своей неухоженностью. С венца одного полностью осыпалась штукатурка, а у двух других на том месте, где полагалось быть городским часам, зияли дыры. У большинства домов кровли провисли, фронтоны были, по всей видимости, источены червями, а когда мы спустились пониже, я обратил внимание, что многие крыши просто обвалились. Однако сверху выделялось и несколько монументальных особняков в стиле короля Георга, с шатровым покрытием и лестницами с перильцами, которые еще зовут «утехой вдовушки». Эти дома отстояли дальше прочих от побережья, и два-три из них были в довольно неплохом состоянии. Вдалеке виднелись проржавевшие и заросшие травой рельсы бывшей железной дороги, вдоль которой тянулся ряд покосившихся телеграфных столбов без проводов и различались колеи заброшенных проселочных дорог, ведущих в Раули и Ипсвич.
У самого берега разруха ощущалась сильнее, но и там я разглядел хорошо сохранившееся кирпичное здание под белой крышей, похожее на небольшую фабрику. Занесенную песком гавань окружал волнорез, у которого сидело несколько рыбаков. По обвалившемуся фундаменту можно было догадаться, что на одном конце его когда-то стоял маяк. С годами ветер нанес в гавань песчаные холмы. На них я различил несколько ветхих хибарок, замшелые плоскодонки и разбросанные верши для омаров. Самым глубоководным местом здесь казалась та часть реки, где стояла фабрика. Затем река поворачивала на юг и впадала в океан сразу за волнорезом.
То тут, то там из песка выступали гниющие остатки верфи, а по мере продвижения на юг свалка отбросов все нарастала. Несмотря на прилив, далеко в море виднелась длинная темная линия, слегка приподнятая над водой. Глядя на нее, я почувствовал некую скрытую угрозу и понял, что это, по-видимому, и есть Риф Дьявола. Но по мере того как я всматривался в далекий риф, к первоначальному неприятному чувству присоединилось какое-то неясное влечение — меня словно манило туда, и эта вот тяга испугала меня, как ни странно, гораздо больше.
На дороге мы никого не встретили, но вблизи города я увидел несколько брошенных ферм, в той или иной степени тронутых обветшанием. Затем показались нежилые по виду дома: окна заткнуты тряпками, рядом, в захламленных двориках, обломки раковин и тухлая рыба. Пару раз нам повстречались люди, которые вяло копались у себя в неухоженных садах или собирали моллюсков на пропахшем рыбой пляже, а также ребятишки с обезьяньими мордашками, играющие на заросших сорняками ступеньках. Вид людей подействовал на меня даже более удручающе, чем состояние их жилищ: в лицах и пластике было что-то отталкивающее. Я пробовал было доискаться до причин отвращения, но безрезультатно. На мгновенье мне показалось, что их внешность вызывает в моей памяти виденные ранее и позабытые иллюстрации, которые я рассматривал в моменты тревоги или грусти, но вскоре я отмел это предположение.
Автобус спускался все ниже, и можно было уже уловить движение отдельных струй водопада, который сверху казался неподвижной светлой лентой. А покосившиеся, давно не крашенные дома теперь плотно выстраивались на нашем пути двумя рядами, что выглядело уже по-городскому. Поле обозрения все более сужалось: я видел только улицу, по которой мы ехали, и по отдельным признакам угадывал, где в прошлом проходила мощенная булыжником мостовая, а где — клинкерный тротуар. В домах явно никто не жил. Иногда между отдельными строениями зияла пустота, и только по остову печи и завалившемуся входу в погреб было ясно, что когда-то здесь стоял жилой дом. Над всей этой разрухой висел стойкий и мерзкий запах рыбы.
Скоро начали попадаться перекрестки и боковые улочки. Те, что вели налево, неизбежно упирались в замусоренный и нищий прибрежный район, те же, что шли вправо, сохраняли какое-то подобие былой респектабельности. На улицах по-прежнему было пустынно, но теперь стали появляться отдельные признаки обжитого жилья: занавески на окнах да кое-где обшарпанный автомобиль, припаркованный у обочины. Тротуары здесь уже не сливались с мостовыми, а деревянные и кирпичные дома, хотя и построенные где-то на заре девятнадцатого века, выглядели вполне прилично. При виде этого нетронутого островка прошлого я, будучи страстным поклонником старины, почти перестал замечать отвратительный запах и утратил чувство неведомой опасности.
Но до конца пути мне пришлось еще раз испытать довольно сильные и неприятные ощущения. Автобус выехал на площадь, откуда расходилось в разные стороны несколько улиц. В центре ее пробивалась сквозь грязь зелень жалкого газончика, по двум сторонам возвышались церкви, но мое внимание привлек дом с колоннами, расположенный на правой стороне площади. Краска на этом когда-то белом здании потемнела и облупилась, а надпись над входом настолько выцвела, что с трудом можно было разобрать слова: «Тайный союз Дагона». Видимо, этот дом и был прежде Масонским обществом, а ныне стал приютом приверженцев дикого первобытного культа. Пока я силился разобрать слова на фронтоне, начали бить часы. Я обернулся.
Звук шел из церкви, построенной значительно позже всех остальных зданий: бросались в глаза низкий купол (грубое подражание английской готике), непропорционально высокое основание и ложные окна. Хотя самих часов я не увидел, но и так догадался, что пробило одиннадцать. И вдруг сердце мне неожиданно сжал такой необузданный и необъяснимый страх, что вмиг улетучились все мысли, в том числе и о времени. Дверь церкви распахнулась, обнажив зияющую черную пустоту. А потом я увидел, как кто-то движется в этом черном прямоугольнике, и это видение мгновенно породило в моем сознании ощущение кошмара, тем более мучительного, что для него не было никаких оснований.
По церкви ходил человек — первый, если не считать водителя, увиденный мною в центральной части города, и будь я в нормальном состоянии, то вряд ли испугался бы. Мне тут же стало ясно, что это, конечно, пастор. «Союз Дагона» изменил церковный ритуал в городе, а вместе с ними облачения священников. Возможно, неосознанный мой ужас был вызван высокой тиарой на голове пастора — точной копией той, что вчера вечером показывала мне мисс Тилтон. Должно быть, именно это сходство роковым образом подействовало на мое воображение и наделило зловещими чертами неразличимое в темноте лицо и неясную фигуру. Поразмыслив, я пришел к выводу, что другой причины внезапного и острого пробуждения моей псевдопамяти о Зле просто не могло существовать. Таинственный культ вызвал к жизни появление своеобразных головных уборов. Ну и что? Первая тиара, возможно, попала к жителям города случайно — скажем, из клада.
Теперь на нашем пути изредка попадались уродливые молодые люди — поодиночке или молчаливыми группами по два-три человека. Кое-где на нижних этажах осыпающихся домов мелькали закопченные вывески магазинов, а пару раз мы встретили грузовик. Шум водопада все приближался. Наконец я разглядел впереди высокий берег реки, через нее пролегал широкий мост с железными поручнями, откуда открывался прекрасный вид. Пока мы, дребезжа, переезжали через мост, я успел обозреть окрестности и заметил на крутом, утопающем в зелени берегу и на самом склоне несколько фабричных зданий. Внизу бушевал могучий поток. Со скалы низвергались две мощные струи и, объединяясь, падали дальше, на следующую ступень. Стоял оглушительный гул. Миновав реку, мы вскоре въехали на полукруглую площадь и подкатили к высокому дому с куполообразной крышей. На выцветших желтоватых стенах я увидел вывеску с наполовину стертыми буквами, гласившую, что предо мной гостиница «Джилмен-Хаус».
Мне не терпелось покинуть автобус, и я поспешил побыстрее внести свой чемодан в обшарпанный гостиничный холл. Там никого не было, кроме пожилого мужчины, и хотя он отличался обликом от типичного иннсмутца, я все же не рискнул задать ему те вопросы, которые вертелись у меня на языке. Слишком уж мрачные слухи ходили об этой гостинице. Сдав багаж на хранение, я снова вышел на площадь, которую автобус уже успел покинуть, и внимательно огляделся.
С одной стороны площадь ограничивалась набережной, от которой полукругом расходились дома с остроконечными крышами, построенные в начале девятнадцатого века. Их разделяли улочки, идущие на юг, юго-восток и юго-запад. Уличных фонарей почти не было, да и в немногих уцелевших, как я заметил, лампы были разбиты. И хотя ожидалось полнолуние, я порадовался про себя, что уеду отсюда до наступления темноты. Дома на площади были в хорошем состоянии, в некоторых из них размещались магазины — я насчитал около дюжины. Среди них выделялась бакалея из сети Национальной торговли, с ней соседствовали аптека и рыбный магазинчик, неподалеку приютился унылого вида ресторан, а ближе к реке, у восточной границы площади, находилась контора единственного городского предприятия, а именно — фабрики Марша. Неподалеку слонялось около десятка человек; четыре-пять легковых и грузовых машин застыли в разных частях площади. Так выглядел центр Иннсмута. Далеко на востоке виднелась размытая синева гавани, эту синь прорезали шпили трех некогда прекрасных соборов конца девятнадцатого — начала двадцатого века. На противоположном берегу реки можно было различить здание под белой крышей, которое я принял за фабрику Марша.
Нужные мне справки я решил навести в бакалее — по моим представлениям, продавцы там не могли быть из местных жителей. Войдя в магазин, я увидел за прилавком юношу лет семнадцати и, разговорившись с ним, с радостью убедился, что он смышлен, контактен и счастлив возможностью с кем-нибудь перемолвиться словом. Вскоре выяснилось, что город ему отвратителен, особенно его угрюмые обитатели и невыносимый запах тухлой рыбы. Встреча с посторонним человеком развязала ему язык. Он был родом из Аркхема, здесь же жил и столовался у уроженцев Ипсвича и, как только представлялась возможность, наезжал домой. Родителям не нравилось, что сын служит в Иннсмуте, но сюда его направила компания Национальной торговли, а он, дорожа службой, не посмел отказаться.
По его словам, в Иннсмуте нет ни библиотеки, ни торговой палаты, но кое-что посмотреть все-таки стоит. Улица, по которой я приехал, именуется Федеральной. К западу от нее пролегают Броуд-стрит, улицы Вашингтона, Лафайета и Адамса — лучшие кварталы, где стоят дома бывших хозяев города. К востоку идут улицы, где обитает беднота, эти трущобы тянутся к побережью. А замеченные мною старые, давно заброшенные соборы высятся на Мейн-стрит. Однако ходить по тем местам следует с превеликой осторожностью, особенно к северу от реки — люди там отличаются враждебностью и подозрительностью. Кое-кто из любопытных даже сгинул в той стороне.
По словам паренька, некоторые места в городе слывут запретной зоной для приезжих. Он, в частности, не советовал мне слоняться в районе фабрики Марша, здания с колоннами на Нью-Черч-Грин-стрит, где располагается «Тайный союз Дагона», а также неподалеку от действующих церквей. Службы в этих храмах отличаются крайним своеобразием, даже по части церковных облачений, недаром благочестивые святые отцы не признают нового учения, почитая его за ересь. Да так оно и есть, ибо в таинственных верованиях иннсмутцев содержатся намеки на некоторые удивительные превращения, в результате которых бессмертие якобы может быть достигнуто при жизни.
Относительно молодежи юноша сказал, что она просто не знает, куда себя деть. Молодые люди так же сторонятся чужих, как и старшие, и живут, похоже, как звери в норах, лишь изредка появляясь на улицах. Трудно представить себе, что они делают в свободное от рыбной ловли время. Впрочем, если судить по изрядному количеству незаконно приобретаемого алкоголя, который они регулярно потребляют, возможно, в дневные часы они отходят от тяжелого похмелья. Этих угрюмых молодцов объединяет своеобразное чувство товарищества: кажется, они единодушно презирают этот мир, словно знают другой, несравненно лучший. Выглядят они преотвратительно, особенно безобразны выпуклые, никогда не мигающие глаза, которые никто не видел закрытыми, да и голос у них звучит мерзко. Так и хочется заткнуть уши, когда они распевают вечерами в церквах, особенно в дни праздников или религиозных бдений, которые устраиваются дважды в год: 30 апреля и 31 октября.
Иннсмутцы очень любят воду и много плавают в реке и в заливе. Особой популярностью пользуются соревнования по плаванию к Рифу Дьявола. Останови на улице любого и предложи участвовать в таком заплыве — можешь не сомневаться, что тот согласится и с честью выдержит нелегкое испытание. Впрочем, ничего удивительного, ведь на улице встречается в основном молодежь, ну а те, что постарше, выглядят так, словно они больны. Исключения бывают только среди тех, кого нельзя назвать типичными иннсмутцами, вроде клерка в гостинице. Никто не знает, какие биологические изменения сопутствуют старению местных жителей и не являются ли типичные для иннсмутца черты внешности признаками неизвестной и незаметно подкрадывающейся болезни, которая с годами набирает силу.
С приходом зрелости эта неведомая науке болезнь вызывает в их организме значительные изменения, затрагивающие даже костные ткани — форма черепа, и та становится иной. Впрочем, обо всех признаках болезни, как справедливо заметил юноша, судить трудно: местные жители не вступают ни в какие отношения с приезжими, даже если те годами живут в Иннсмуте.
Юноша не сомневался, что самых безобразных городские власти где-то прячут. Время от времени люди слышат какие-то странные звуки. По общему мнению, ветхие хибары в северной части реки соединены между собой подземными туннелями, возможно, там-то и скрываются эти уроды. На мой вопрос, есть ли в местных жителях примесь чужой крови, юноша ничего не смог ответить. Точно известно лишь одно: когда в город наезжают государственные служащие и другие посланцы из внешнего мира, иннсмутцы делают все, чтобы скрыть от них отталкивающие стороны своей жизни.
Самое бесполезное занятие, сказал юноша, задавать местным жителям вопросы. На них отвечает только один человек — не похожий на прочих иннсмутцев старик, живущий в северной части города, в богадельне, он весь день шатается по улицам, чаще всего в районе пожарного депо. Этого седовласого старика девяноста шести лет от роду зовут Зедок Аллен. Он немного не в себе и давно носит титул городского пьянчужки. Странный, диковатого вида старик все время оглядывается, словно чего-то боясь, и на трезвую голову никогда не вступает в разговор с посторонними. Однако ему бывает невмоготу отказаться от рюмочки-другой спиртного, после чего язык у него тут же развязывается, и тогда можно услышать диковинные вещи.
Но и от старика правды не узнаешь: все его истории — порождение больной фантазии, безумный бред, полный неясных намеков на немыслимые ужасы и чудеса. Никто не верит ему, но горожанам все же не нравится, когда он пьет и болтает с приезжими. Открыто приставать к нему с вопросами небезопасно. Но, очевидно, именно его рассказы породили фантастические легенды о здешних несуразностях.
Кое-кто из приезжих, живших здесь по роду службы некоторое время, рассказывал о каких-то будто бы виденных ими кошмарах. Впрочем, имея все время перед глазами уродливых горожан и слушая рассказы старого Зедока, немудрено спятить. Теперь гости города никогда не выходят поздно вечером из дома — считается, что это тоже опасно. Да и улицы почти не освещаются.
Говоря о занятиях местного населения, юноша упомянул, что рыба у здешних берегов просто кишмя кишит, но этим не умеют пользоваться. Цены на улов падают, а конкуренция растет. Так что самым надежным делом в городе является работа на золотообрабатывающей фабрике, контора которой находится рядом, на площади, в нескольких шагах отсюда. Старика Марша никто давно не видел, но иногда он проезжает мимо, к себе на фабрику, в машине с зашторенными окнами.
О внешности Марша ходят разные слухи. Когда-то он был большим щеголем; говорят, что и теперь по-прежнему носит элегантные костюмы с узкими брюками, которые с трудом подгоняют по его обезображенной фигуре. Еще недавно его сыновья принимали клиентов в конторе, но теперь их что-то тоже не видно. По последним сведениям, делами занялось младшее поколение. Сыновья же и дочери Марша стали как-то странно выглядеть, особенно те, что постарше. По слухам, их здоровье сильно пошатнулось.
Одна из дочерей Марша, уродливая, похожая на жабу женщина, носит причудливые драгоценности, выполненные, как я понял, в той же экзотической манере, что и тиара. Юноша видел тиару несколько раз и слышал, что ее нашли в каком-то кладе — то ли пиратов, то ли самого нечистого. Местные священники или пасторы — кто знает, как их величают, — тоже носят такой убор с таинственным орнаментом. Да только посмотреть на это убранство редко удается. Похожие драгоценности, по слухам, водятся еще кое у кого в Иннсмуте, но сам юноша их не видел.
Марши и еще три семьи местной знати — Уайты, Джилмены и Элиоты — держатся особняком. Живут они в просторных домах на Вашингтон-стрит и, как поговаривают, укрывают там тех своих родственников, чей облик стал непереносим для окружающих. К слову сказать, город почитает этих родственников покойными.
Юноша предупредил меня, что на многих улицах отсутствуют таблички с названиями, и по собственной инициативе начертил примитивный, но вполне пригодный для использования план центральной части города. Едва взглянув на план, я понял, что он будет для меня большой подмогой, и, горячо поблагодарив своего наставника, сунул листок в карман. Отнесясь с опаской к грязному заведению, именуемому здесь рестораном, я тут же, в магазине, купил себе на ланч сырных крекеров и имбирных вафель. Пожалуй, надо будет обойти все главные улицы города, побеседовать с теми прохожими, у которых нет типично иннсмутского облика, а в восемь вечера сесть на автобус, отправляющийся в Аркхем. Я уже понял, что Иннсмут представляет собой законченный пример глубокого социального вырождения, но, не будучи социологом, положил для себя ограничиться осмотром архитектурных достопримечательностей.
Для начала я принялся систематически, одну за другой, прочесывать узкие, запущенные городские улицы. Пересек мост и направился в сторону рокочущего водопада, подойдя довольно близко к фабрике Марша. Удивляло отсутствие обычного для таких мест индустриального шума. Фабричное здание стояло на крутом берегу реки неподалеку от моста и той площади, к которой сходились улицы и которую я принял за изначальный центр города, впоследствии, после Революции, переместившийся на Городскую площадь.
Переправившись мостом через ущелье в район Мейн-стрит, я оказался в таких трущобах, что мне стало не по себе. На голубом небе проступали угловатые очертания прилепившихся друг к другу кособоких крыш. Над ними высился полуразрушенный старинный собор, креста на шпиле не было. Лишь немногие дома на Мейн-стрит выглядели обитаемыми, большинство же пустовало. По обеим сторонам улицы с незаасфальтированными пешеходными дорожками тянулся длинный ряд покинутых хибар с осевшим фундаментом, кренившихся к земле под самыми немыслимыми углами. Вместо окон зияли черные пустые дыры. Все это навевало такую жуть, что требовалось изрядное мужество, чтобы пройти по улице к порту. Ведь если вместо одного покинутого жилища видишь целое покинутое селение, страх возрастает даже не в арифметической, а в геометрической прогрессии. Ни одна самая пессимистичная концепция не может пробудить в душе такого первозданного страха и панического неприятия, как вид бесконечных, вызывающих мысли о смерти молчаливых улиц. Что может быть мрачнее пустующих просторов темных жилищ, отданных во власть паутины, воспоминаний и торжествующих червей-древоточцев?
Фиш-стрит с ее более пристойными зданиями из кирпича и камня выглядела пореспектабельней, но и она пустовала. Уотер-стрит могла бы считаться ее двойником, если бы не провалы в тех местах, где раньше были доки, а теперь виднелось море. До сих пор я не встретил ни одного живого существа, если не считать нескольких рыбаков, бродивших в отдалении по берегу океана, и не услышал ни единого звука, кроме шума волн, доносившегося из гавани, да рева водопада. Все это вместе взятое так взвинтило мои нервы, что я, еще когда вступил на шаткий мост Уотер-стрит, стал поминутно оглядываться. В соответствии с планом мост на Фиш-стрит действительно оказался разрушенным.
На северных берегах реки кое-где были заметны следы человеческого существования — на Уотер-стрит шла активная расфасовка рыбы, из труб тянулся дымок, дыры в крышах были на скорую руку заделаны. Невесть откуда доносились странные звуки, а изредка на мрачных улочках и немощеных дорожках появлялись и тут же исчезали неуклюжие фигуры. На меня это подействовало даже более угнетающе, чем полное безлюдье южного района: люди здесь выглядели еще уродливее, чем в центре. Вид их вызывал у меня фантастические ассоциации с неким неведомым злом, но докопаться до истоков этих ассоциаций мне не удавалось. Примесь чужеродной крови ощущалась в жителях прибрежного района сильнее, если только своеобразие их облика объяснялось смешением рас, а не таинственной болезнью. Если же это все-таки была болезнь, то здесь встречались, несомненно, самые запущенные случаи.
Меня беспокоил также источник раздававшихся время от времени неясных звуков. Они доносились не из заселенных домов, а чаще и громче всего слышались в глубине наглухо заколоченных лачуг. То это был шорох, то хруст, а то и совсем необъяснимые звуки, вроде хрипов, и я с тяжелым сердцем вспомнил слова юного продавца о тайных убежищах. Неожиданно мне пришло в голову, что я не представляю себе, как звучат голоса горожан. Ведь за все время я ни разу не слышал их речи. И тут же подумалось, что и не хотел бы услышать.
Ненадолго задержавшись на Мейн-стрит и Черч-стрит, чтобы взглянуть на две прекрасные, но обветшавшие церкви, я заторопился прочь из отвратительного района трущоб. Было бы логично отправиться теперь на Нью-Черч-Грин-стрит, но мне претила даже сама мысль оказаться рядом с церковью, где я видел чем-то испугавшего меня священника в таинственной тиаре. Да и юноша советовал держаться подальше от церквей, возле которых, так же как и возле здания «Тайного союза Дагона», присутствие чужаков не поощрялось.
Я продолжал идти на север параллельно Мейн-стрит, но, дойдя до Мартин-стрит, повернул в сторону реки, пересек Федеральную улицу, стараясь держаться на почтительном расстоянии от действующей церкви, и начал осмотр фешенебельного района: Броуд-стрит, Вашингтон-стрит, Лафайет-стрит и Адамс-стрит. Хотя благородные старые улицы находились в полном запустении, они все же, укрывшись под сенью вековых вязов, сумели сохранить некоторое благообразие. Один за другим я рассматривал обветшалые и в большинстве своем забитые особняки, утопающие в тенистых запущенных садах; только один-два дома на каждой улице выглядели обитаемыми. На Вашингтон-стрит четыре или даже пять особняков подряд вместе с окружавшими их садами и лужайками были в отличном состоянии. Я решил, что самый великолепный из них, с террасными цветниками, идущими вплоть до Лафайет-стрит, принадлежит старому Маршу, немощному хозяину фабрики. Улицы были пустынны, ни одной живой души; странно, подумалось мне, куда могли подеваться все собаки и кошки? И еще один вопрос не давал мне покоя: почему даже в самых пристойных домах так тщательно закрываются окна верхних этажей и мансард? В этом безмолвном городе, где, казалось, безраздельно властвуют отчуждение и смерть, отовсюду веяло тайной и скрытой опасностью. Мне все время чудилось, что из-за каждого куста за мной жадно следят непроницаемые, никогда не закрывающиеся глаза.
Я поежился, когда слева от меня часы на башне хрипло пробили три. Слишком уж врезалась в память мне церковь с низким куполом, откуда донесся такой же бой. Идя по Вашингтон-стрит в направлении реки, я вскоре попал еще в одну, вернее, бывшую некогда таковой промышленно-торговую зону: прямо передо мной высились развалины фабрики, правда, ближе к ущелью темнели очередные руины, в которых я распознал бывшее здание железнодорожного вокзала и мост через пути.
В этом месте через реку был переброшен сомнительного вида мостик, снабженный знаком «опасно», но я все же рискнул и перебрался на южный берег, где снова обнаружилось присутствие человека. Несуразные существа исподтишка поглядывали в мою сторону, а те, кто выглядел понормальнее, смотрели на меня с холодным любопытством. Почувствовав, что сыт Иннсмутом по горло, я направился по Мейн-стрит к центральной площади, порешив выбраться из города любым транспортом, не дожидаясь зловещего автобуса на Аркхем, который когда еще отправится. Вот тогда-то я и увидел слева от себя полуразрушенное пожарное депо и на скамейке перед ним — одетого в неописуемые лохмотья краснолицего старого бородача с бесцветными глазами. Он беседовал с двумя потертого вида пожарными, не производившими, впрочем, впечатления неполноценных людей. Это мог быть только Зедок Аллен, полоумный пьяница под сто лет, рассказывающий неправдоподобные и жуткие истории об Иннсмуте и его тайнах.
Глава 3
Тут меня, должно быть, черт попутал — так или иначе, но планы мои в очередной раз решительно изменились. Поначалу я намеревался ограничиться осмотром архитектурных памятников. Теперь же, не досмотрев, спешил в центр, чтобы поскорее выбраться из этого смрадного города, навевающего раздумья о запустении и смерти. Однако при виде старого Зедока Аллена мысли мои потекли в ином направлении, и я невольно замедлил шаг.
Хотя у меня уже сложилось впечатление, что старик всего лишь разносит нелепые и бессмысленные бредни, а кроме того, меня предупредили, что беседовать с ним небезопасно, все же меня неудержимо тянуло поговорить со старцем, на глазах которого город постепенно пришел в такой упадок, со свидетелем, помнившим дни, когда корабли и фабрики были обычным явлением в жизни горожан. В конце концов, даже самые невероятные мифы часто оказываются символическим отражением реальности, а старик живет в Иннсмуте более девяноста лет и многое повидал. Здравый смысл и осмотрительность отступили перед вмиг вспыхнувшим любопытством, и я в тщеславии молодости возомнил, что смогу различить крупицы истины в сбивчивом, бессвязном повествовании, которое надеялся услышать с помощью виски.
О том, чтобы заговорить со стариком в присутствии пожарных, и речи не было: они бы этого не допустили. Да и надо было сначала раздобыть у бутлеггеров спиртное, благо продавец из бакалеи подсказал мне, где его всегда можно достать. Я положил вернуться сюда уже с бутылью и с самым безмятежным видом слоняться недалеко от депо, дожидаясь, когда Зедок отправится бродить по городу. По словам продавца, старик отличался непоседливостью и никогда не сидел здесь более часа-двух кряду.
Кварту виски я заполучил довольно легко, хотя и недешево, в одном магазинчике на Элиот-стрит, неподалеку от центральной площади. Конечно, с черного хода. Неопрятный мужчина, вынесший бутылку, бросил на меня типичный «иннсмутский» взгляд, но в остальном был даже любезен: судя по всему, привык обслуживать чужаков, желающих как-то скрасить время, — шоферов, скупщиков золотых изделий и прочий заезжий люд.
Выходя в очередной раз на площадь, я понял, что мне повезло: со стороны Мейн-стрит показалась длинная, тощая фигура старого Зедока Аллена, который, пошатываясь, плелся к гостинице. Я постарался привлечь его внимание к только что купленной бутылке и, добившись своего, повернул на Уэйн-стрит и зашагал в сторону безлюдного района. Старик, плотоядно поглядывая на бутылку, зашаркал следом.
Сверяясь с полученным от продавца планом, я продвигался к пустынному месту на южном побережье, где уже побывал сегодня. Кроме маячивших вдали на молу рыбаков, вокруг никого не было. Чтобы полностью обезопасить себя, я собирался пройти еще дальше. Там, на заброшенной верфи, в укромном местечке можно было вдоволь наговориться, не боясь быть замеченным. Но не успел я дойти до Мейн-стрит, как услышал за спиной хриплый голос старика, с трудом окликающего меня: «Эй, мистер, погодите!» Приостановившись, я подождал, пока он поравняется со мной, а затем предложил несколько раз основательно приложиться к бутылке.
На улицах не было ни души, нас окружали одни только причудливые скособоченные лачуги. Я попробовал разговорить старика, но тот оказался более твердым орешком, чем можно было предполагать. Наконец между двумя полуразваленными стенами я увидел проход к морю, а дальше на берегу — поросшие сорной травой руины верфи. С севера этот уголок был закрыт от любопытных взоров старым складом, а на мху у самой воды можно было удобно расположиться. Идеальное место для задушевной беседы, подумал я и предложил своему спутнику последовать за мной к морю. Там мы уселись на камни. Сердце мое сжималось от запустения и тлена, которыми, казалось, даже воздух был пропитан, голова кружилась от невыносимого рыбного зловония, но я твердо решил держаться до конца.
До отправления аркхемского автобуса оставалось четыре часа, и я принялся за свой скудный ланч, время от времени давая пьянице отпить из бутылки. Боясь, как бы Зедок не набрался до бесчувствия, внимательно отмерял порции, следя за его состоянием. Спустя час у старика развязался язык, но, к моему глубокому разочарованию, мои расспросы о загадочном прошлом Иннсмута он пропускал мимо ушей. Зато с видимым удовольствием болтал о текущих событиях, неожиданно обнаружив хорошее знакомство с прессой. Было видно, что он любит пофилософствовать на деревенский манер — с яркими, назидательными афоризмами.
К концу второго часа я стал опасаться, что кварты виски оказалось недостаточно для удовлетворения моего любопытства, и стал подумывать: а не лучше ли оставить старого Зедока в покое и уйти с миром? И вот тогда-то случай сделал то, чего я не смог добиться всеми своими уловками. Старческая хриплая болтовня неожиданно переключилась на интересующий меня предмет, и я подался вперед, напряженно вслушиваясь. Все это время я сидел спиной к морю, откуда доносился все тот же мерзкий рыбный запах, старик же — лицом к нему. Видимо, бесцельно блуждающий взгляд его остановился на четко и эффектно вырисовывавшемся вдали Рифе Дьявола. Зрелище ему, однако, не понравилось, и он, чертыхаясь про себя, доверительно зашептал, заговорщицки мне подмигивая. Склонившись ближе и ухватив меня за лацкан пиджака, он делился все более красноречивыми признаниями.
— С этого паскудного места все и началось, все зло в нем. Это врата ада, и ни один лот не достанет там дна. Капитан Абед принес нам беду. Он нашел здесь больше богатства, чем в южных морях.
Все пошло тогда прахом. Торговля сворачивалась, фабрики — даже новые — закрывались, лучшие мужчины занялись каперством. Все они погибли в войне 1812 года или пропали без вести на кораблях Джилмена — бриге «Элиза» и барже «Рейнджер». У Абеда Марша было три судна: бригантина «Колумба», бриг «Хетти» и барк «Королева Суматры». Только он один из всех ходил в Вест-Индию и Тихий океан и торговал там на островах с дикарями.
Да, такого чертова отродья, как капитан Абед, не было еще на свете. Помню его рассказы о заморских краях, и еще как он обзывал болванами тех, кто исправно посещает церковь и безропотно несет свой крест. По его словам, там, где он торговал, жители поклоняются более могущественным богам. Те, дескать, прислушиваются к молитвам людей и посылают им много рыбы.
Мэтт Элиот, его первый помощник, тоже много чего рассказывал, но его не очень-то трогали, скорее отвращали все эти языческие штучки. Так вот он говорил, что к востоку от Отахейта лежит остров с древними каменными божками, старше которых нет ничего на свете. Они похожи на тех, что встречаются на Понапе в группе островов Сенявина, но резными чертами лиц напоминают каменных великанов с острова Пасхи. Неподалеку есть еще один остров, вулканического происхождения, тоже с каменными диковинками. Эти камни такие гладкие, словно долгое время пробыли под водой. На них, однако, сохранились изображения страшных чудищ.
Так вот, сэр, рыба в тех местах, по словам Мэтта, не переводится. А народ щеголяет в головных уборах и браслетах из невиданного золота, испещренного изображениями тех же жутких чудищ — помеси рыбы с лягушкой или вроде того. И вот эти-то чудовища запечатлены на украшениях в разных позах, будто люди. Жители никому не говорят, откуда у них эти богатства. Туземцы с соседних островов удивлялись, отчего рыба здесь всегда ходит, даже когда ее нигде в помине нет. Мэтт этого понять не мог, и капитан Абед тоже. Потом Абед заметил, что каждый год с острова исчезают непонятно куда красивые молодые люди, а стариков вообще не видно. И еще он обратил внимание, что некоторые обитатели острова выглядят год от года все более странно.
Капитан Абед докопался-таки до истины. Как он это сделал, не знаю. Но только вскоре он начал прицениваться к золотым вещам. Спрашивал, откуда они и можно ли достать еще. Наконец некий Валакеа рассказал ему древнюю легенду. Никто, кроме Абеда, не поверил бы этому светлокожему старому дьяволу, но капитан понимал туземцев и читал их души, как книги. Ха-ха! Никто не верит моим рассказам, и вы, молодой человек, тоже наверняка не поверите, хотя с виду вы такой же смышленый, как и капитан Абед. Да и глаза у вас точь-в-точь как у него.
Старик зашептал еще тише, и хотя я был уверен, что слышу всего лишь пьяные бредни, неподдельный ужас, зазвучавший в его голосе, заставил меня содрогнуться.
— Так вот что я вам скажу, сэр. Абед узнал такое, о чем не знал никто в целом свете. Да и знал бы — не поверил. Оказывается, жители Канаки — так назывался остров — приносили своих юношей и девушек в жертву неведомым богам, живущим в морской пучине, а те взамен ниспосылали им свое благоволение. Абед решил, что изображения страшных чудищ на вулканическом острове как-то связаны с этими богами. Те, возможно, были амфибиями — отсюда и все эти русалочьи рассказы. Толковали, что на дне моря у них целые города. Маленький вулканический остров, что поднялся из глубины, как раз оттуда. А в каменных жилищах, от которых остались одни развалины, эти существа жили. Кое-кто из них жил на том месте, которое островом поднялось над водой. Туземцы с Канаки увидели их, объяснились знаками и заключили сделку.
Этим лягушкам пришлись по нутру человеческие жертвоприношения. За долгие годы под водой они совсем утратили связь с землей. Никто не видел, что они делают с жертвами, и я думаю, капитан Абед был достаточно умен, чтобы не расспрашивать об этом. Жертвы приносились дважды в год — на первое мая и на тридцать первое октября, в канун Дня всех святых. Кроме того, существам преподносились также полюбившиеся им резные безделушки — изделия местных умельцев. Они же обязались подгонять к острову рыбу и сдержали слово: рыба со всего моря круглый год кишела у тамошних берегов. И еще они время от времени дарили туземцам разные золотые вещи.
Туземцы на каноэ переправляли жертв и подарки на вулканический островок, а обратно везли те золотые драгоценности, которые им приглянулись. Поначалу рыболягушки не появлялись на большом острове, но со временем им захотелось его повидать. Они, казалось, стремились к обществу туземцев и не прочь были участвовать в их праздниках, вроде Майского дня или Дня всех святых. Любопытно, что они могли жить и в воде, и на суше, — настоящие амфибии, черт их подери. Туземцы предупредили соседей: если жители других островов пронюхают об их существовании, то им несдобровать. Но лягушки только посмеялись над этим: они, мол, нисколько не боятся. Сами могут кого хочешь уничтожить. Им не страшен никто, кому неподвластна магия Почивших Старцев. Однако, не желая лишних хлопот, они все же погружались в воду, если кто-то чужой приплывал на остров.
Когда выходцы из моря объявили, что хотели бы породниться с туземцами, те вначале заартачились. Но, как выяснилось, они и так уже были в родстве с морскими тварями. Все живое вышло из воды и при желании может снова в нее вернуться. Дети от смешанных браков, объяснили туземцам рыболягушки, рождаются похожими на людей, но с годами в их облике больше проступают черты морских предков. В конце жизни они должны переселиться в море, присоединившись к жителям подводной страны. Но вот что самое главное, молодой человек… Жители острова, превращаясь на склоне лет в рыболягушек и погружаясь в море, становятся бессмертными. Ведь эти морские существа никогда не умирают своей смертью. Их можно только убить.
Так вот, сэр. Когда Абед впервые попал на остров, во всех туземцах уже текла кровь морских тварей. Стариков там скрывали от посторонних глаз — уж очень они менялись — до тех пор, пока они окончательно не «дозреют» и не сойдут в море. Были и некоторые сложности. Большинство туземцев легко превращались в рыболягушек, но были и такие, которым это давалось с превеликим трудом. Быстро менялись те, кто уже рождался похожим на морских предков, те же, в ком побеждало человеческое начало, часто оставались на острове. Но их заставляли совершать пробные погружения. Переселившиеся в воду туземцы часто всплывали, чтобы посмотреть, как идут дела на острове. И никого не удивляло, если какой-нибудь молодой человек беседовал со своим прапрапрапрадедушкой, уже двести лет живущим в море.
Все перестали бояться смерти. Она отступила. Ты жил вечно, если только… не погибал в войне с другими дикарями, если тебя не приносили в жертву, если тебя не укусила ядовитая змея, если ты не сгорел от быстротечной болезни. Словом, если с тобой не случилось чего-нибудь непредвиденного перед окончательным переселением в воду. Теперь все готовились не к смерти, а к перемене обличья и образа жизни. Страх исчез. Туземцы считали, что выиграли в этой сделке, и могу поклясться, то же самое думал и капитан Абед, когда старый Валакеа рассказывал ему все это. Сам Валакеа был одним из немногих, кто не породнился с лягушками: принадлежа к семейству вождя, он должен был жениться на равной себе, то есть на дочери предводителя соседнего племени.
Тот же Валакеа познакомил Абеда с обрядами и заклинаниями, без знания которых невозможно было общаться с морскими тварями. Он также показал кое-кого, кто уже был ближе к рыболягушке, чем к человеку. Однако он не познакомил его ни с одной морской тварью. Под конец Валакеа подарил капитану какую-то, кажется свинцовую, штуковину, с помощью которой можно было вызывать этих тварей. Брось ее в воду, произнеси заклинание — и они тут как тут. По словам Валакеа, эти твари живут повсюду, и любой человек, знающий магические слова, может поднять их с морского дна.
Мэтту не нравились переговоры капитана, и он уговаривал Абеда не связываться с жителями проклятого острова. Однако мысль о легкой наживе не давала капитану покоя, ведь богатство само плыло ему в руки. Дело пошло. Через несколько лет у Абеда было уже столько золотых вещиц, что он открыл в Иннсмуте золотообрабатывающую фабрику, купив у Уайта прогоревшее предприятие. Он не осмеливался продавать драгоценности в том виде, в каком они к нему поступали, — боялся расспросов. В руки команды иногда попадали отдельные вещицы, и хотя матросы поклялись держать язык за зубами и не хвастаться поживой, но вы же знаете, как слаб человек. Кроме того, капитан разрешил женщинам из своего семейства носить такие украшения, правда, из тех, что поскромнее, чтобы экзотичность их не бросалась в глаза.
Примерно году в тридцать восьмом, мне тогда исполнилось семь лет, Абед, наведавшись в очередной раз на остров, не нашел там никого. По-видимому, туземцы с соседних островов пронюхали-таки про морских тварей. Возможно, они отняли у местных магические талисманы, повиноваться которым были обязаны морские существа. Никто не знал, сколько их попало в руки туземцев Канаки, когда море выбросило из своих глубин остров с развалинами старше самого всемирного потопа. Преданные своим богам туземцы не оставили никаких священных свидетельств иной веры на вулканическом острове, кроме очень больших каменных изваяний, которые нельзя было сдвинуть с места. Кое-где валялись мелкие камешки, возможно талисманы, с начертанной на них свастикой. Может, это и были магические знаки Старцев? Люди исчезли, золотых украшений тоже как не бывало, а туземцы с соседних островов дружно помалкивали о случившемся. Все выглядело так, будто на острове никто никогда не жил.
Капитан Абед тяжело переживал все это: хорошо налаженная выгодная торговля неожиданно порушилась. Да и остальным иннсмутцам стало хуже: золотым промыслом кормился весь город. Большинство горожан не роптало и смиренно переносило испытание, хотя беды сыпались одна за другой: рыба не ловилась, фабрика бездействовала.
Тогда-то Абед и начал стыдить горожан. Они-де как овечки молятся христианскому Богу, которому нет до них никакого дела. А вот он, капитан, знал одно племя, так оно поклонялось могущественным богам, и те даровали все необходимое своим подопечным, и даже более того. И еще капитан сказал, что если люди поддержат его, то, может быть, удастся связаться с такими силами, которые пошлют им и рыбу, и золото. Матросы, ходившие с ним на «Королеве Суматры», сразу смекнули, в чем дело, и отмалчивались, их вовсе не тянуло связываться с морскими тварями. Но другие, соблазненные речью Абеда, умоляли открыть им истинную веру, которая помогает людям жить.
Тут старик прервал свой рассказ и, пробормотав что-то невнятное себе под нос, умолк. Было похоже, что его неожиданно охватил страх. Он то нервно оглядывался, то подолгу, как зачарованный, смотрел в сторону далекого черного рифа. На вопросы не отвечал, и пришлось опять прибегнуть к спасительной бутылке. Меня чрезвычайно заинтересовал безумный рассказ старика. Я считал, что притчевая основа истории вызвана особенностями внешнего облика иннсмутцев, а яркое воображение старика, несомненно знакомого с морскими легендами, разукрасило ее аллегориями на потребу слушателей, придав ей вид захватывающей были. Ни на секунду не поверил я, что за этим увлекательным бредом скрыта хоть крупица истины, и все же, услышав о диковинных драгоценностях, в разряд которых попадала и зловещая тиара, виденная мной в Ньюберипорте, испытал чувство, близкое к ужасу. Возможно, конечно, и другое. Родиной украшений действительно был далекий остров, остальное же присочинил капитан Абед, а этот антикварный старик лишь повторял выдумки с чужих слов.
Я протянул Зедоку бутылку, и тот осушил ее до последней капли. Удивительное дело, он так много выпил, а язык у него не заплетался. Облизав горлышко бутылки, старик привычным жестом сунул ее в карман. Наконец стал клевать носом, что-то бормоча. Придвинувшись поближе, я ловил каждый звук, и мне почудилось, что в седой его бороде мелькнула насмешливая улыбка. Бормотание вновь складывалось в связные предложения, и вот что я услышал:
— Бедняга Мэтт был с самого начала против всей этой затеи, отговаривал людей, настраивал священников, но все впустую. Жители прогнали из города католического священника, за ним Иннсмут покинули Бэбкот, глава баптистской церкви, и методист. Я был маленьким мальчиком, но то, что тогда видел и слышал, никогда не изгладится из моей памяти: Дагон и Ашторет, Велиар и Вельзевул, Золотой телец, ханаанские и филистимлянские идолы, вавилонские мерзости… Мене, текел, фарес…
Старик снова замолк, и по мутному взгляду выцветших голубых глаз я понял, что он вот-вот впадет в пьяное оцепенение. Однако, когда я легонько потряс его за плечо, он резко вскинулся и озадачил меня еще несколькими бредовыми фразами:
— Не верите? Ну тогда объясните мне, молодой человек, зачем капитан Абед с двадцатью молодчиками ездили глубокой ночью на Риф Дьявола и распевали там гимны так громко, что при береговом ветре весь город не спал? Ну-ка, ответьте… А еще объясните, зачем капитан Абед бросал с рифа в воду какие-то тяжелые вещи? И что он сделал со свинцовой штуковиной, которую дал ему Валакеа? Что вы на это скажете, юноша? И что они вытягивали из воды на Майский день и в канун Дня всех святых? И почему священники в новых молельнях, все из бывших матросов, расхаживали в диковинных одеждах, с золотыми уборами на головах, похожими на те, что раньше привозил Абед? Почему?
Выцветшие глаза старика горели теперь сатанинским огнем, грязная бороденка торчала дыбом. Зедок, видимо, заметил, что я непроизвольно отпрянул назад, и злобно захихикал:
— Ха-ха-ха! Смекаешь теперь? Хотелось бы, наверное, быть на моем месте в те далекие деньки, когда я сидел на крыше своего дома, не спуская глаз с рифа. Дети все слышат — взрослые за разговорами просто не замечают их. И я тоже слышал, как шептались о капитане и его дружках, и решил все проверить сам. Ха-ха-ха! Однажды я взял у отца бинокль и залез, как обычно, на крышу. И увидел ночью на рифе странные фигуры, которые с восходом луны попрыгали в воду. Абед с командой находились в лодке, а то были какие-то неизвестные существа. Нырнув, они больше не показывались на поверхности… Что бы вы почувствовали на моем месте, если бы вот так мальчишкой сидели на крыше, смотрели в бинокль и неожиданно поняли, что странные фигуры — не люди и формы у них не человеческие?.. А? Ха-ха!
Старик был на грани истерики, и меня охватил безотчетный страх. Он положил на мое плечо свою руку с шишковатыми пальцами, и мне показалось, что дрожь в ней была совсем не от опьянения.
— И вот представьте себе, однажды вы видите, как с лодки Абеда в воду бросают какой-то тяжелый предмет, а затем на следующий день узнаете, что один юноша исчез из дома. Каково, а? О Хираме Джилмене никто больше не слышал. Никогда. И о Нике Пирсе, и о Лили Уайт, и об Адониреме Сотуике, и о Генри Гаррисоне. Каково, а? Ха-ха-ха!.. Эти фигуры на рифе объяснялись знаками… размахивали руками.
Так вот, сэр. Абед снова стал понемногу становиться на ноги. Из трубы замершей было фабрики опять пошел дымок, а три дочери капитана надели на себя золотые украшения, каких никто на них раньше не видел. Да и другие горожане зажили лучше — в гавань повалила рыба, и от Иннсмута пошли груженые суда в Ньюберипорт, Аркхем и Бостон. Тогда же Абед проложил к Иннсмуту железнодорожную ветку. Рыбаки из Кингспорта прослышали о богатых уловах и пришли к нам на шлюпах, но все как один сгинули. Больше их никто не видел. Тогда же в нашем городе создали «Тайный союз Дагона», который обосновался в помещении Масонского дома. Мэтт Элиот, сам масон, был против продажи, но его не послушали, а потом он куда-то пропал.
Не думаю, что Абед собирался обставить дела в Иннсмуте так же, как на острове Канаки. Вряд ли он помышлял смешивать расы, постепенно приучать юношество к водной жизни, вряд ли задумывался о последующем переселении соплеменников навечно в море. Он хотел только золота и был готов за него платить сполна. Какое-то время это устраивало морских хозяев…
К сорок шестому году горожане стали задумываться, не слишком ли много непонятного появилось в их жизни. Неизвестно куда пропадали люди, с мест субботних сборищ неслись какие-то дикие песнопения, ходили разные слухи о таинственном рифе. Я тоже внес свою лепту, рассказав члену городского управления Маури о том, что видел с крыши. И вот однажды, когда Абед с командой отправился, как обычно, на риф, за ним вдогонку послали лодку, и я слышал звуки перестрелки. На следующий день Абед и тридцать два его приятеля сидели уже в тюрьме, а горожане терялись в догадках, какое обвинение им предъявят. Боже, если бы мы только знали, что нас ждет! Ведь время шло, минуло две недели, а этим тварям никого не принесли в жертву…
Зедок выглядел измученным, его, казалось, вновь охватил страх. Я не торопил его, но со значением поглядывал на часы. Начинался прилив, и шум волн вроде бы придал ему силы. Начало прилива меня тоже обрадовало: в это время ослабевал зловонный запах. Шепот возобновился, и я опять напряг слух.
— Жуткая ночь… Я все видел с крыши… Их было великое множество… Лавина… Они карабкались через риф и плыли к гавани, потом по Меньюксету… Боже, что творилось той ночью на улицах Иннсмута… Они ломились и в нашу дверь, но отец не открыл… Потом он выбрался через окно с ружьем в руках и побежал разыскивать Маури, чтобы помочь… Горы трупов, крики умирающих… выстрелы, вопли… паника на Старой площади, на Городской площади, на Нью-Черч-Грин-стрит, двери тюрьмы распахнуты… воззвание… измена… Потом, когда выяснилось, что погибло более половины жителей, заговорили о якобы опустошившей город эпидемии… В живых остались только Абед со своими сподвижниками, морские твари и те, кто умел терпеть и держать язык за зубами. Отца же своего я больше никогда не видел…
Старик тяжело дышал и обливался потом. Он все сильнее стискивал мое плечо.
— К утру от побоища не осталось никаких следов, все было убрано. Всем заправлять стал Абед, он-то и объявил о новшествах. Гости теперь участвовали вместе с нами в обрядовых песнопениях, а потом расходились по нашим домам… Они хотели смешаться с людьми, как было на Канаки, и капитан не собирался им в этом препятствовать. Абед зашел слишком далеко, разум его совсем помутился. Он только и толковал, что у нас всегда будет рыба и золото, надо только уступить…
В остальном в нашей жизни ничего не изменилось, разве только мы стали больше сторониться приезжих, понимая, что так будет лучше для нас. Все мы принесли клятву Дагону, а позднее некоторые из нас принесли также вторую и третью клятвы. Те, кто был особенно активен, получали награды: золото, драгоценности и прочее. Идти против морских тварей было бессмысленно — миллионы их жили в морях. Они предпочли бы не выходить из воды и не убивать, но не могли смириться с тем, что их обманули. У нас же не было талисманов, с помощью которых туземцы прогнали рыболягушек.
Что им было нужно? Человеческие жертвоприношения, побрякушки и приют в городе, когда их почему-либо сюда тянуло. Дай им это, и они оставят тебя в покое. Но если чужак со стороны захочет пошпионить, я ему не завидую. Все посвященные — члены «Союза Дагона», а также дети, рожденные от смешанных браков, — не умирают, а возвращаются к Матери Гидре и Отцу Дагону — туда, откуда мы все вышли… Иа! Иа! Ктулху фхтагн! Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’лайх вгах’нагл фхтагн…
Старик понес что-то совсем уж невнятное, и у меня сжалось сердце. Бедняга, подумал я, до каких безумных галлюцинаций довело тебя пьянство и невыносимый вид всей этой разрухи, упадка и ущербности окружающего! Но какое мощное воображение! Старик слабо застонал, слезы струились по морщинистым щекам его, теряясь в густой бороде.
— Чего только не повидал я с тех пор… Мене, текел, фарес! Кто-то исчезал навсегда, другие кончали с собой… Тех же, что пытались рассказать правду о нашей жизни в Аркхеме или Ипсвиче, называли сумасшедшими. Вот и вы небось считаете меня таким. Но Бог мой, чего только я не перевидал… Они давно прикончили бы меня — слишком много знаю, только не могут. Я принес две клятвы Дагону и потому нахожусь под особой защитой. Да и надо сначала доказать, что я вправду проболтался… Но третью клятву не дам — скорее умру.
Незадолго до Гражданской войны начали подрастать дети, рожденные после сорок шестого года. После той кошмарной ночи, испытав ее ужасы, я уже не осмеливался подглядывать и совать нос в чужие дела и поэтому никого из морских тварей не видел. Потом отправился на войну и, будь чуток поумнее, никогда бы сюда не возвратился. Но родные написали, что все изменилось к лучшему. Еще бы, ведь в городе после шестьдесят третьего года находились правительственные войска. Однако после войны все пошло еще хуже. Люди уезжали, фабрики и магазины закрывались, корабли больше не покидали гавань, да и сама гавань обветшала, железнодорожные пути заросли травой, но они… они по-прежнему приплывали к нам с проклятого рифа. И потому закрывались наглухо все новые чердачные окна, а из покинутых жилищ доносились странные звуки.
О нас ходит много историй. Вы, наверное, тоже наслышаны, если, конечно, интересовались и задавали вопросы. Всего ведь не утаишь. Взять хотя бы диковинные золотые украшения. Не все из них попадают на фабрику. Да, слухи ползут, но ведь это всего лишь слухи. Ничего определенного. Кто им поверит! Считают, что эти драгоценности — из пиратского клада, а необычную внешность местных жителей объясняют примесью чужеродной крови или неизвестной болезнью. А что можно узнать со стороны? Да ничего. Горожане отпугивают всех приезжих, а те, что все-таки задерживаются в городе, любопытства не проявляют — боятся. Здесь опасно бродить поздним вечером. Животные не слушаются полукровок, лошади и мулы упираются и не хотят везти. Вопрос разрешился, только когда появились автомобили.
В сорок шестом году капитан Абед женился второй раз, но его жену никто никогда не видел. Поговаривали, что он не хотел жениться, но твари его заставили. От этого брака у него родилось трое детей. Двое исчезли в юном возрасте, а вот дочь по виду не отличалась от обычных людей и училась в Европе. Абед обманом выдал ее замуж за одного парня из Аркхема, который ни о чем не подозревал.
Теперь ведь никто не хочет иметь дело с иннсмутцами. Сейчас фабрикой управляет Барнабас Марш — внук Абеда от первой жены. Он сын Онесифоруса, старшего сына Абеда, жена у него была тоже из тех тварей и никогда не показывалась на людях.
У Барнабаса нынче пора перерождения, глаза у него уже не закрываются, изменилась и фигура. Говорят, одежду еще носит, но скоро, видать, перейдет в воду. Может, уже и опускался. У них так заведено — что-то вроде пробных заплывов. Десять лет он таится от людских глаз. Бедняжка жена… Вот уж, наверное, переживает. Взял ее из Ипсвича. Его чуть не линчевали пятьдесят лет назад, когда он за ней ухаживал. Сам Абед умер в семьдесят восьмом году. Из следующего поколения тоже никого не осталось. Дети от первой жены поумирали, а что с остальными… Бог знает.
Шум прибоя все усиливался. Он как-то влиял на старика: хмельное нытье сменилось настороженностью. Он поминутно прерывал рассказ, оглядываясь по сторонам или напряженно всматриваясь туда, где виднелся риф. Несмотря на явную неправдоподобность истории, настроение старика передавалось и мне. Зедок говорил теперь громче, как бы стараясь придать себе смелости.
— Что же вы молчите? Ну скажите, понравилось бы вам жить в городе, где все вокруг гниет и рушится, а на заколоченных темных чердаках и в глубоких подвалах ползают чудовища? Мычат, лают и скачут. Везде и всюду, куда ни войдешь. А завывания, доносящиеся каждый вечер из церквей и бывшего Масонского дома? Страх берет, когда слышишь их, да еще знаешь, что там происходит! А крики с ужасного рифа в Майский день и в канун Дня всех святых! Что? Думаете, старик свихнулся? Ну так знайте, это еще не все.
Черт бы вас побрал… Не смотрите на меня его глазами. Абед Марш в аду и будет там вечно. Ха-ха! Точно говорю — в аду. Самое там ему место.
Меня ему не достать. Я ничего плохого не сделал и никому ничего не сказал.
Знаете что, молодой человек… Я и в самом деле никому ничего не говорил, но сейчас скажу. Слушайте меня внимательно… Это еще никому не известно… После той ночи, как вы уже слышали, шпионить я перестал, но тем не менее кое-что выведал!
Хотите знать самое что ни на есть ужасное? Да? Ну так слушайте… Страшно не то, что натворили эти морские дьяволы… А то, что они собираются натворить! Они тайно растят в брошенных домах пакостных чудовищ. Уже не один год переправляют их в город и скоро закончат свое черное дело. Дома, расположенные на север от реки, между океаном и Мейн-стрит, кишат нечистью. Морскими тварями и теми, кого они принесли с собой. И вот когда у них все будет готово… Слушайте, когда все будет готово… Вы что-нибудь знаете о шогготе? Тогда слушайте. Я знаю, что они там растят. Однажды ночью видел… А-а-а-а-а!
Я чуть не лишился сознания от неожиданного крика, полного нечеловеческого ужаса, который издал старик. Взгляд его был все так же устремлен в сторону смрадного моря, глаза расширились от страха. Лицо являло собой ожившую трагическую маску греческого театра. Он не шевелился, но костлявая рука с силой впилась в мое плечо. Я обернулся посмотреть, что его так напугало.
Но ничего не увидел. Море спокойно катило свои волны, одна волна была заметно ближе остальных. Зедок потряс меня за плечо, и я снова повернулся к нему. Старик весь дрожал, не в силах вымолвить ни звука. Наконец голос вернулся к нему, и он заговорил прерывающимся шепотом:
— Бегите отсюда! Скорей бегите! Они заметили нас. Бегите и никогда не возвращайтесь, не мешкайте! Они пронюхали. Бегите скорей из этого города…
Тяжелая волна ударила о кирпичную стену заброшенной верфи. Неожиданно шепот старика опять перешел в истерический вопль, от которого в жилах леденела кровь:
— А-а-а-а!
Не успел я прийти в себя от изумления, как старик, оставив наконец мое плечо, бросился как полоумный бежать вдоль разрушенной стены на север — в сторону города.
На море по-прежнему ничего не было видно. А когда я дошел до Уотер-стрит, Зедока Аллена уже и след простыл.
Глава 4
Вряд ли смогу описать свое состояние после этой душераздирающей сцены. Она была фантастична, ужасна и вместе с тем вызывала жалость к безумному старику. Хотя продавец из бакалеи предупреждал меня, действительность превзошла все мои ожидания. История производила впечатление ребяческой, но серьезность, с какой Зедок говорил, и его неподдельный ужас не могли не передаться. Во мне нарастало беспокойство, а если учесть изначальную мою неприязнь к городу и смутное ощущение нависшей над ним опасности, то немудрено, что меня тянуло поскорее его покинуть.
Я решил, что позже поломаю голову над этой аллегорией и постараюсь извлечь из нее рациональное зерно, сейчас же лучше выбросить ее из головы. Время неслось с угрожающей быстротой — часы показывали пятнадцать минут восьмого, а аркхемский автобус в восемь часов отходил с Городской площади. Стараясь перевести мысли в более практическое русло, я быстро шел пустынными улицами мимо покосившихся домов с завалившимися крышами, торопясь как можно скорее добраться до гостиницы, забрать оставленный там чемодан и сесть в автобус.
Хотя вечернее солнце проливало мир и покой на старинные кровли с осевшими трубами, наделяя их таинственной прелестью, я все же поминутно с опаской оглядывался. Мне не терпелось вырваться из зловонной и пугающей атмосферы Иннсмута. Жаль, что не было выбора. Предпочел бы ехать на чем угодно, только не садиться в автобус, который вел Сарджент — шофер со зловещей наружностью. Рассчитав, что на всю дорогу мне потребуется не более получаса, я позволял себе изредка бросить взгляд на дома с интересной архитектурой.
Желая добраться до площади новым путем, я выбрал на плане тот, что шел через Марш-стрит. Неподалеку от поворота на Фолл-стрит стали попадаться небольшие группки шушукающихся горожан, а выйдя наконец на площадь, я увидел, что вся праздношатающаяся публика околачивается около дверей «Джилмен-Хаус». Когда я вышел с багажом из гостиницы, мне показалось, что все они настороженно смотрят на меня своими выпученными, водянистыми, немигающими глазами. Как мне хотелось, чтобы никто из них не оказался моим соседом в автобусе!
Еще не было восьми часов, когда послышалось характерное громыхание и появился автобус с тремя пассажирами. Неприятный на вид мужчина, один из шатающихся у гостиницы, что-то тихо сказал шоферу. Сарджент, взвалив на плечо мешок с почтой и держа в руках пачку газет, вошел в гостиницу. Пассажирами оказалась все та же троица, прибывшая в Ньюберипорт утром. Они неуклюже выбрались из автобуса, обменялись с мужчиной, разговаривавшим с водителем, несколькими репликами на странном гортанном языке. Могу поклясться, то был не английский. Войдя в пустой салон, я сел на прежнее свое место. Но не успел толком устроиться, как вернувшийся Сарджент пробормотал своим гнусным голосом нечто, донельзя меня огорчившее. Получалось так, что мне катастрофически не повезло. Хотя автобус прибыл из Ньюберипорта с исключительной точностью, но дальше не шел: по словам шофера, барахлил мотор. На мой вопрос, есть ли надежда, что поломку удастся быстро устранить и могу ли я рассчитывать попасть в Аркхем еще сегодня, Сарджент ответил отрицательно. Нет, никаким другим транспортом туда не добраться. Он очень сожалеет, но мне придется заночевать в гостинице. Учитывая обстоятельства, с меня, возможно, возьмут неполную плату. В любом случае другого выхода нет. Ошеломленный неожиданной задержкой и раздосадованный тем, что придется провести ночь в этом угрюмом, гнилостном городе, я покинул автобус и снова вошел в гостиничный холл. Мрачный ночной портье, показавшийся мне подозрительным, сказал, что я могу занять комнату 428 на втором этаже — просторную, но без воды. Стоить это будет доллар.
Что мне оставалось делать! Расписавшись в регистрационной книге и заплатив доллар, я последовал за неразговорчивым портье, несшим мой чемодан, по скрипучей лестнице наверх, а затем по пыльным безлюдным коридорам — к моему отдаленному номеру. Это оказалась довольно унылая, бедно обставленная комната, одно окно которой выходило на грязный двор, а другое — на ряд заброшенных кирпичных домов. Вдали, за накренившимися полуразрушенными крышами, тянулось болотистое предместье. В конце коридора помещалась ванная, каких уже нигде не встретишь. В этой обитой заплесневелыми деревянными панелями комнате я разглядел при слабом освещении старую мраморную ванну, жестяной тазик и умывальник.
Было еще светло. Я спустился на площадь и огляделся, желая где-нибудь пообедать. Прохожие все так же недоброжелательно пялились на меня. Бакалея уже закрылась, и поэтому мне пришлось-таки отправиться в столь не понравившийся ресторан. Посетителей обслуживали сутулый мужчина с головой огурцом и выпученными немигающими глазами и девочка с приплюснутым носом и невероятно толстыми неловкими руками. У ресторана не было своей кухни, здесь подавали еду из консервов и пакетов, но меня это только порадовало. Быстро съев тарелку овощного супа с крекерами, я вернулся в гостиницу, купил в киоске у хмурого продавца вечернюю газету и засиженный мухами журнал и поднялся в свою мрачную комнату.
Сумерки сгущались. Я включил тусклую электрическую лампочку, висевшую над простой железной кроватью, и попытался сосредоточиться на чтении. Мне необходимо было отвлечься. Ни в коем случае, сказал я себе, не стоит сейчас думать о странностях, замеченных мною в этом старом, погибающем городе. По крайней мере до тех пор, пока я его не покину. Безумный монолог престарелого пьянчужки не сулил мне приятных сновидений. Надо было во что бы то ни стало стереть из памяти эти дикие, выцветшие, слезящиеся глаза.
Хорошо бы позабыть и рассказ некоего инспектора фабрик об этой гостинице и таинственных ночных голосах, переданный мне кассиром в Ньюберипорте. И мелькнувшее в темноте церкви лицо под тиарой, ужаснее которого я не видел в своей жизни. Не будь комната столь промозглой, было бы легче не думать обо всех этих неприятных вещах. Но пронизывающая сырость ассоциировалась у меня в мозгу с царящим в городе рыбным зловонием и поневоле вызывала мысли о смерти и разложении.
Беспокоило и отсутствие на двери задвижки. Свежие следы говорили о том, что ее сняли недавно. Видимо, она не работала, как и многое в этом ветхом здании. Нервно оглянувшись, я увидел задвижку на комоде. Несомненно, это была именно она. Следы соответствовали ее размеру. Чтобы как-то разрядиться и справиться с нахлынувшим волнением, я занялся прилаживанием ее на прежнее место. Чего только я не использовал при этом: и складной нож, и отвертку, благо оба эти предмета всегда возил с собой на кольце для ключей. Справившись с этим делом, я несколько успокоился: теперь перед сном можно было запереться. Я не очень-то полагался на прочность засова, но даже эта символическая защита действовала в такой ситуации умиротворяюще. Похожие запоры были на дверях, ведущих в две соседние комнаты, я их тоже постарался укрепить.
Я не раздевался, решив почитать, а потом лечь, сняв только пиджак, воротничок и ботинки. Достав из чемодана зажигалку, сунул ее в брюки: если проснусь в темноте, смогу взглянуть на часы. Спать, однако, все не хотелось. Помаявшись, я поймал себя на том, что постоянно прислушиваюсь к малейшему шороху, словно чего-то ожидаю. Неведомого и ужасного. Рассказ инспектора произвел, видимо, на меня более сильное впечатление, чем я думал. Попробовал было снова читать, но вскоре бросил эти бесплодные попытки.
Некоторое время спустя на лестнице и в коридоре послышался скрип, кто-то ходил, и я подумал, что, должно быть, прибыли новые постояльцы. Голосов, однако, не было слышно, да и ходили как-то чересчур осторожно, будто таясь. Это мне не понравилось, и я решил, что спать не стоит. В городе попадались подозрительные личности, несколько приезжих здесь уже пропало. Может, в гостинице убивают с целью грабежа? Но я не произвожу впечатления состоятельного человека. Или же местный люд не выносит любопытных туристов? Тогда мой очевидный интерес к городу, прогулки и листок с планом города, в который я то и дело заглядывал, могли произвести неприятное впечатление. Поразмыслив, я в конце концов решил, что у меня просто шалят нервы. Подумаешь, какой-то скрип… И все же жаль, что у меня нет при себе оружия.
Время шло. Спать не тянуло, зато навалилась усталость. Я закрыл дверь на задвижку, выключил свет и лег не раздеваясь, прямо в пиджаке и ботинках, на жесткую неровную постель. В темноте каждый звук казался зловещим, и меня одолели тревожные мысли. Зачем я только выключил свет? Но подняться и зажечь его снова недоставало сил. После некоторого затишья половицы опять заскрипели, а затем послышались звуки, в происхождении которых сомневаться не приходилось. Сбывались мои самые дурные предчувствия. Ошибки не было: кто-то осторожно и опасливо пробовал открыть ключом дверь.
Страх, испытанный мною в эти минуты, наверняка был бы еще острее, не предшествуй ему смутное ожидание опасности. Без особых на то оснований я все время находился настороже, и теперь это помогло мне. Что бы ни случилось, я ко всему был готов. И все же переход от неопределенных предчувствий к реальной угрозе оказался довольно резким. У меня сжалось сердце. Кто-то мог просто ошибиться номером, но мне это даже не приходило в голову. Убеждение, что за дверью стоит злоумышленник, крепло, я затаил дыхание и прислушался, ожидая, что будет дальше.
Вскоре тихое бряцание ключей прекратилось, а затем я услышал, как кто-то вошел в соседний номер. Опять повторилась история с ключом, теперь пытались открыть боковую дверь. Но и здесь задвижка не подвела. Пол снова заскрипел. Взломщик удалился. Через пару минут тихо щелкнул замок левого номера, на этот раз вошли туда. Подергав смежную дверь, неизвестный снова вышел в коридор. По удаляющемуся скрипу я понял, что он, миновав коридор, спустился по лестнице. Итак, взломщик понял, что я обхитрил его, и на какое-то время сдался. На какое? Мне это предстояло узнать.
План действий созрел быстро. Должно быть, подсознательно я ждал какого-то подвоха, потому и готовился к отступлению. С самого начала было ясно, что речь может идти только об отступлении — сопротивляться не имело смысла. Нужно было уносить ноги из гостиницы как можно скорее, пока цел, но ни в коем случае не через парадный вход.
Неслышно поднявшись, я зажег карманный фонарик, чтобы поскорее найти выключатель. Чемоданом придется пожертвовать, но кое-что из вещей можно с собой захватить. Однако, сколько я ни щелкал выключателем, лампочка не загоралась. Свет отключили. Против меня, судя по всему, затевается крупная акция. Как только она будет осуществляться? Пока я так стоял, держа руку на выключателе, и размышлял, этажом ниже послышался приглушенный скрип и, как мне показалось, голоса беседовавших людей. Но минуту спустя появилось сомнение: слишком уж не походили на человеческую речь эти хриплые, лающие звуки, а то и откровенное кваканье. Только теперь я осознал, что именно слышал инспектор ночью в этом ветхом и зловещем доме.
Набив карманы при свете фонарика всем необходимым, я надел шляпу и на цыпочках подкрался к окну. Меня интересовало, можно ли бежать этим путем. Против всех правил, пожарная лестница в гостинице отсутствовала. Окна номера выходили на мощенный булыжником двор. Однако справа и слева к гостинице примыкали кирпичные постройки. Можно попытаться спрыгнуть на пологую крышу одной из них, но только не из моей комнаты. Для побега придется перейти в третий от меня номер — справа или слева, и я стал лихорадочно соображать, как удачнее это проделать.
Выходить в коридор опасно, могут услышать. Мне не дадут даже ступить в нужную комнату. Может, пробраться через менее прочные смежные двери, выбив их плечом со всеми замками и задвижками? Учитывая ветхость дома и самих засовов, это вполне возможно. Но тут вставал другой вопрос: как попасть туда бесшумно? Спасти меня могла только скорость. Нужно добраться до окна раньше, чем враги сообразят, в какой комнате я нахожусь. Свою дверь, стараясь не производить лишнего шума, я припер комодом.
Понимая, что шансы на спасение ничтожны, я был готов ко всяким неожиданностям. Даже если мне удастся попасть на соседнюю крышу, это ничего не решит. Нужно еще спуститься на землю и выбраться из города. Обнадеживало лишь то, что прилегающие к гостинице строения походили на груду развалин и явно пустовали. В их крышах зияли внушительные дыры.
По плану юноши-продавца получалось, что из города проще выбраться с южной стороны, и поэтому сначала я занялся той дверью, что была обращена к югу. Она открывалась ко мне, и после тщательного обследования задвижки и замка стало ясно, что с ней придется повозиться. Этот путь к спасению отпадал, и я придвинул к южной двери кровать, чтобы обезопасить себя и с этой стороны. Вторая же дверь открывалась от меня, и хотя она тоже была закрыта и на замок, и на задвижку, я остановился на ней.
Мой план сводился к следующему. Оказавшись на крыше дома, выходящего на Пейн-стрит, и беспрепятственно спустившись вниз, я, возможно, смогу пулей промчаться через двор и выбраться через соседние дома на Вашингтон-стрит или Брейт-стрит. В худшем случае пробегу по Пейн-стрит и на первом же повороте сверну к югу, попав опять же на Вашингтон-стрит. Без этой улицы мне не обойтись: нужно срочно выбираться из центра города. Особенно следовало избегать Пейн-стрит: дежурство на пожарной вышке могло продолжаться и ночью.
Прикидывая так и эдак, я не спускал глаз с раскинувшейся внизу бесконечной и унылой череды ветхих крыш, залитых ярким полнолунием. Справа панораму прорезала река, падавшая в черную пасть ущелья, а вдоль нее лепились к берегам брошенные фабрики и железнодорожный вокзал. Отсюда в глубину заболоченной местности, усеянной сухими кочками, уходили ржавые рельсы и проселочная дорога на Раули. Слева у расширявшегося устья реки в лунном сиянии виднелась узкая дорога на Ипсвич. Столь нужное мне шоссе на Аркхем с этой стороны не просматривалось.
Я все еще размышлял, каким способом лучше всего открыть боковую дверь, да еще притом бесшумно, как снизу до моего слуха донесся какой-то шум, а затем ступени лестницы пронзительно заскрипели. Сквозь щель пробился слабый отблеск света, а пол в коридоре глухо застонал: тащили что-то тяжелое. Все это сопровождалось чем-то отдаленно похожим на человеческую речь, а скорее — бормотание. Затем раздался мощный удар в дверь.
Затаив дыхание, я замер. До следующего удара, казалось, прошла вечность. Резко и явственно усилился и без того невыносимый рыбный запах. И вот ударили снова. Затем еще и еще. С каждым разом дверь все больше поддавалась. Нужно было действовать. Открыв задвижку на боковой двери, я приготовился ее высадить. Наружная дверь оглушительно сотрясалась, так что вряд ли меня услышат. Несколько раз я с силой ударил в дверь плечом, не обращая внимания на сильную боль. Казавшиеся тонкими доски, однако, не уступали. Но я не сдавался. Снаружи тоже били почем зря.
Наконец дверь поддалась, но с таким грохотом, что его не могли не услышать в коридоре. В ту же минуту оттуда заколотили еще яростнее, а вскоре справа и слева от меня загремели ключи. Противники явно поняли, в чем дело. Рванувшись вперед, я влетел в соседний номер и мигом закрыл задвижку на двери, ведущей в коридор, еще до того, как в замок вставили ключ. Только успел я это сделать, как услышал, что вставляют ключ в наружную дверь третьей комнаты, из окна которой я собирался бежать.
У меня упало сердце. Из номера, где я очутился, побег был невозможен, я находился в ловушке.
Меня охватил ужас, вдобавок ко всему мой фонарик внезапно высветил на полу следы взломщика, пытавшегося проникнуть в мою комнату. Чудовищные, ни на что не похожие следы! Кто мог оставить их? Несмотря на полную безнадежность ситуации, я шагнул к следующей двери и толкнул ее, уже автоматически стремясь помешать вторжению из коридора.
Мне неожиданно повезло: дверь оказалась не только незаперта, но и приоткрыта. В мгновение ока я, подскочив к наружной двери, припер ее плечом и правым коленом. Это сбило с толку взломщика, а мне дало время укрепить задвижку. Получив небольшую передышку, я попытался собраться с мыслями. В наружные двери уже не барабанили. Зато за южной боковой дверью, которую держала кровать, слышалось растерянное бормотание.
Стало быть, мои враги проникли в южную комнату и теперь готовят атаку оттуда. Одновременно заскрипела наружная дверь в другой соседней комнате. Новая опасность поджидала меня!
Хотя вход в соседний номер был свободен, у меня уже недоставало времени преградить путь преследователю. Я бросился к боковой двери, запер ее на задвижку, а затем проделал то же самое с противоположной. К одной придвинул комод, к другой кровать, а к наружной — умывальник. Теперь осталось только надеяться, что таким образом я выиграю время и успею выбраться из окна на крышу дома, а оттуда — на Пейн-стрит. Но даже в этот опаснейший момент меня ужасала не столько моя почти полная беззащитность, сколько то, что преследователи не издали ни единого нормального человеческого звука, а только мерзко пыхтели, хрюкали и приглушенно, отрывисто лаяли.
Придвинув к дверям мебель, я бросился к окну и тогда же услышал громкий топот в коридоре. В южной комнате стало тихо — все побежали в примыкающую к моей с северной стороны. Враги, по-видимому, надумали сосредоточить свои усилия и выломать там тонкую боковую дверь. Я выглянул из окна. Луна ярко освещала крутой скат кровли — прыгать на него было опасно.
Все взвесив, я выбрал второе, более удобное окно, решив прыгать на скат, спускающийся во внутренний дворик, и с крыши проникнуть внутрь дома через слуховое окно. Если не подоспеет погоня, то разыщу в этом ветхом строении путь вниз и выскользну на улицу. Потом буду выбираться отсюда, петляя и прячась в подворотнях и темных дворах, пока не выйду на Вашингтон-стрит. А там уж прямо на юг — прочь из города…
Удары сотрясали смежную дверь, я видел уже, как гнутся тонкие доски. Взломщики, очевидно, использовали для тарана что-то массивное. И все-таки приставленная кровать держала дверь довольно прочно, и это давало мне некоторый шанс на спасение. Открывая окно, я заметил, что по обеим его сторонам свисают тяжелые велюровые занавеси, прикрепленные медными кольцами к карнизу. И еще увидел снаружи железку для закрепления ставен, которая вполне могла сойти за крюк. Появилась возможность избежать опасного прыжка, и я, недолго думая, сорвал шторы вместе с карнизом и всем прочим. Надев два кольца на крюк, я выбросил шторы наружу. Их тяжелые складки коснулись крыши. У меня не было сомнений, что занавеси и крюк выдержат меня. Выбираясь из окна и спускаясь по импровизированной веревочной лестнице, я надеялся, что навсегда покидаю зловещее место.
Благополучно съехав на крутую, крытую шифером крышу, я без помех добрался до слухового окошка и неслышно скользнул в него. Окно только что покинутой мною комнаты оставалось пока темным, зато вся северная часть города светилась зловещими огнями. Они горели в «Союзе Дагона», в бывшей баптистской и, наконец, в бывшей конгрегационистской церкви — той, о которой я не мог вспомнить без содрогания. Двор тоже пока оставался пуст, и я надеялся миновать его, прежде чем обнаружится, что мне удалось улизнуть. Направив луч фонарика вниз, я убедился, что никакого спуска от слухового окна нет — остается прыгать вниз. Высота, к счастью, была небольшая. Я приземлился на заставленный трухлявыми ящиками и бочками пол, взбив облако пыли.
Помещение выглядело премерзко, но у меня не было времени осматриваться. Фонарик выхватил из тьмы лестницу, и я тут же бросился к ней. Перед этим успел, правда, взглянуть на часы: было ровно два часа ночи. Ступени под ногами заскрипели, правда не так уж громко, и, миновав пролет похожего на казарму второго этажа, я оказался внизу. Там царило полное запустение — шаги мои гулко отзывались в тишине. Наконец я увидел в отдалении слабо освещенный прямоугольник — выход на Пейн-стрит. На противоположной стороне я нашел открытой дверь черного хода и, перелетев одним прыжком пять каменных ступеней, оказался на поросших травой камнях внутреннего двора.
Лунный свет не проникал сюда, но мне все же удавалось различать путь, не прибегая к фонарику. Некоторые окна гостиницы тускло светились, оттуда доносился неясный шум. Пробираясь к пустым строениям, граничащим с Вашингтон-стрит, я заметил в них несколько распахнутых дверей и вошел в тот дом, который, на мой взгляд, лучше других подходил для моих целей. Внутри было темно и пусто. Я быстро пересек помещение, но тут же убедился, что дверь на Вашингтон-стрит плотно заколочена. Решив попытать счастье в другом доме, стал ощупью пробираться назад, к черному ходу, но на пороге застыл, объятый страхом.
Из дверей гостиницы на улицу выходили одна за другой темные диковинные фигуры. Мерцали огни фонарей. Между собой эти тени обменивались какими-то жуткими квакающими звуками, каких и в помине нет в английском языке. Они беспорядочно метались то туда, то сюда. Значит, не представляли, куда я мог деться, и это открытие несколько обнадеживало. Однако страх не отпускал меня, и вот почему. Хотя я не мог разглядеть лиц, на меня производила чрезвычайно отталкивающее впечатление их шаркающая походка на полусогнутых ногах. Но особенно неприятно поразило необычное облачение одного из моих врагов, а также уже знакомая тиара, украшавшая его голову. Существа рассеялись по всему двору — мне стало совсем жутко. А что, если из этого дома нет другого выхода? Рыбное зловоние усиливалось, и у меня уже не хватало сил выносить его. На ощупь ориентируясь в потемках, я снова побрел через холл, наткнулся на какую-то дверь, открыл ее и попал в пустую комнату. Стекла в окнах здесь отсутствовали, а сами окна были полуприкрыты ставнями. Не задумываясь, я перемахнул через подоконник и, спрыгнув на тротуар, захлопнул побыстрее ставни.
Итак, я находился на Вашингтон-стрит, вокруг ни души. Ни огонька, только слабый свет луны. За спиной слышались хриплые голоса и топот, мало чем напоминающий привычное эхо человеческих шагов. Нельзя было терять ни минуты. Я представлял себе, в каком направлении следует двигаться, хорошо еще, что на улицах не горят фонари. Прекрасная все-таки привычка в этих бедных провинциях — экономить электричество! Ночью вполне можно обойтись и светом луны. С южной стороны раздались голоса, но я все же решил не уклоняться от маршрута, а в случае чего переждать опасность в подворотне одного из заброшенных домов.
Я шел быстро и бесшумно, стараясь держаться поближе к ветхим домам. Потеряв во время стремительного спуска шляпу, изрядно помятый, я не отличался теперь особой элегантностью и мог при встрече с ночным гулякой сойти в темноте за своего. Увидев на углу Бейт-стрит две шаркающие фигуры, я тут же нырнул в подворотню, переждал, а затем снова пустился в путь и вскоре вышел на открытое место, где пересекались Элиот-стрит и Вашингтон-стрит. Хотя во время прогулки по городу я сюда не заходил, но этот перекресток и раньше, когда я изучал его на плане, вызывал у меня сомнения. И не зря — здесь все оказалось залито лунным светом. Миновать его было невозможно: другие пути либо изобиловали опасностями, либо уводили далеко в сторону. Оставалось только одно: смело, не таясь, пересечь злополучное место, имитируя походку иннсмутца. И при этом надеяться, что никто из преследователей не окажется рядом.
Я не имел ни малейшего представления ни о масштабах погони, ни о ее причинах. В городе было еще довольно тихо. Возможно, известие о моем побеге пока не распространилось. Мне же следовало поскорее перейти на другую улицу, идущую в том же направлении: компания из гостиницы в конце концов должна была догадаться, куда лег мой путь.
В центре открытого пространства, залитого серебристым светом, темнел запущенный, огражденный железной изгородью скверик. К счастью, поблизости никого не было, хотя со стороны городской площади нарастал чудной гул или, точнее, рокот. Выходящая на этот же перекресток и отличавшаяся большой шириной Саут-стрит спускалась к морю, открывая взору бесконечные водные просторы. Оставалось только надеяться, что, пока я буду пересекать полосу света, меня не увидят.
Одолеть перекресток удалось благополучно. Ничто не говорило о том, что мой след обнаружен. Оглядевшись, я невольно замедлил шаг, не в силах оторвать глаз от величественно блиставшего в лунном сиянии океана. У самого горизонта смутным темным пятном вырисовывался Риф Дьявола, и при виде его я тут же вспомнил жуткие легенды, услышанные мною за последние сутки. В них эта выщербленная, неровная скала представала чуть ли не вратами самого ада — ужасным, богохульственным местом.
Неожиданно на рифе вспыхнули и замелькали огоньки. Нет, это не обман зрения, слишком ярко они горят; я вгляделся и почувствовал, как мною овладевает мистический ужас. Все тело напряглось, готовясь к паническому бегству, однако какое-то гипнотическое наваждение сковало мои члены. А тут еще на куполообразной крыше гостиницы, которая находилась теперь к северо-востоку от меня, засветились похожие огоньки, только интервалы между вспышками были иными. Ясно — это ответный сигнал.
С трудом очнувшись от странных чар, я вдруг сообразил, какой прекрасный сейчас из меня объект для обозрения, и снова зашаркал характерной походкой местного жителя. Но пока Саут-стрит, а с ней и океан были видны, я не спускал глаз с дьявольского рифа. Не понимая смысла этого обмена сигналами, я решил, что присутствую при некоем диковинном ритуале, как-то связанном с Рифом Дьявола. А может, просто компания гуляк высадилась с корабля на эту мрачную скалу. Огибая слева запущенный скверик, я продолжал всматриваться в призрачно блистающий океан, следя за таинственными огоньками, вспыхивающими, как сигнальный огонь маяка.
Тогда я и увидел то страшное зрелище, из-за которого, потеряв остатки самообладания, бросился сломя голову бежать; ноги сами несли меня по этой кошмарной пустой улице к югу, мимо темных подворотен и подозрительно распахнутых окон. Дело в том, что серебрящиеся в лунном свете воды между рифом и берегом были не пустынны. А точнее говоря, они прямо кишмя кишели некими диковинными существами, которые плыли к городу. Даже на большом расстоянии и за то краткое время, что я, пораженный, всматривался в темные очертания, мне стало ясно: эти выныривающие головы и рассекающие волны руки не имеют ничего общего с человеческой природой. Не могу сказать, в чем состояло отличие, но, клянусь, оно было.
Не пробежав и квартала, я замедлил свой сумасшедший бег, услышав слева шум и крики, говорящие, похоже, об организованной погоне. Слышался топот, гортанные звуки, а также дребезжанье автомобиля, двигающегося на юг вдоль Федеральной улицы. Нужно было срочно менять план отступления. Южный район оцеплен, значит, придется выбирать другой путь. Но какой? Я скользнул в подворотню, радуясь, что успел до погони, свернувшей на параллельную улицу, проскочить освещенный перекресток.
Но радоваться, собственно говоря, было нечему. Если погоня идет по другой улице, выходит, преследователи не знают, где я. Они просто хотят отсечь мне все пути к бегству. Стало быть, и остальные дороги, ведущие из города, взяты под контроль. Они ведь не знают, какой маршрут я предпочту! Может быть, держаться подальше от основных дорог и поискать какую-нибудь лазейку? Но что тут отыщешь! Город окружен болотами и речными протоками. От ощущения полной безнадежности, а вдобавок ко всему еще и резко усилившегося зловония у меня даже голова закружилась.
И тут я вспомнил про заброшенную железнодорожную ветку на Раули. Ведь от стоящего у горного ущелья полуразрушенного вокзала идут на северо-запад поросшие сорняками шпалы с проржавевшими рельсами. Этот путь мои враги могли упустить из виду, заросли вереска делали его почти непроходимым. Недаром я сам едва вспомнил о нем. Я видел колею из окна гостиницы и примерно представлял себе, как до нее добраться. К сожалению, начальный ее отрезок хорошо просматривался с дороги на Раули и вообще со всех высоких точек города, и я порешил, добравшись туда, ползти под прикрытием зелени. Попытка не пытка, другого пути у меня все равно нет.
В своей подворотне я еще раз при свете фонарика просмотрел полученный от молодого продавца план. Первым делом предстоит как-то пробраться к вокзалу. Изучив чертеж, я пришел к выводу, что безопаснее всего пройти вперед по направлению к Бебсон-стрит, а затем повернуть на запад и выйти на Лафайет-стрит. Там осторожно продвигаться прямо, избегая открытых и освещенных мест, вроде того перекрестка, который я так лихо пересек. Дальше мой путь пойдет, извиваясь, в северо-западном направлении: мимо Бейтс-стрит, Адамс-стрит и Бенк-стрит, окаймляющей край ущелья. А там рукой подать до заброшенного вокзала, который я видел из гостиничного окна. Решение мое начать путешествие с Бебсон-стрит, а уже затем повернуть на запад объяснялось тем, что мне хотелось, во-первых, избежать по возможности освещенных мест, а во-вторых, — широких улиц вроде Саут-стрит.
Я перешел на правую сторону улицы, чтобы как можно незаметнее пробраться на Бебсон-стрит. С Федеральной улицы по-прежнему доносился шум, и, обернувшись, я увидел блики света неподалеку от подворотни, где только что прятался. Стремясь как можно скорее покинуть Вашингтон-стрит, я перешел на легкую рысцу, надеясь, что счастливая звезда спасет меня от встречи со случайным прохожим. У самого поворота на Бебсон-стрит я, к своему ужасу, наткнулся на дом, в котором кто-то жил, о чем говорили занавески на окнах. По счастью, в нем было темно, и я миновал опасное место без происшествий.
Бебсон-стрит пересекала Федеральную улицу, и поэтому здесь я жался как можно ближе к облупившимся, перекошенным домам. Дважды, заслышав громкие голоса, нырял в подворотню. Прямо передо мной расстилалась большая, залитая лунным светом площадь, но мой путь, к счастью, проходил в стороне от нее. Во второй раз я спрятался, услышав шум уже с другой стороны, и, осторожно выглянув, заметил ехавший по освещенной площади автомобиль. Он показался с Элиот-стрит, которая пересекала одновременно и Бебсон-стрит, и Лафайет-стрит.
Ослабевший было запах неожиданно снова усилился. Я задыхался, не мог дальше сделать ни шагу. И тут увидел следом за автомобилем шеренгу скрюченных и шаркающих фигурок. Видимо, это был патруль, направляющийся на ипсвичскую дорогу — продолжение Элиот-стрит. Двое из патрульных путались в широченных, падавших тяжелыми складками одеяниях, а голову одного из них венчала ярко сверкавшая на свету тиара. Походка последнего была настолько странной, что при виде его у меня мороз по коже пробежал. Мне даже показалось, что он передвигался прыжками.
Как только экзотическая компания скрылась, я возобновил свой путь. Обогнув угол, прошмыгнул на Лафайет-стрит, а затем поспешно пересек Элиот-стрит, стараясь не попасться на глаза патрульным из арьергарда. И хотя вдали, у городской площади, еще слышались громкое кваканье и отрывистые, лающие звуки, меня никто не заметил. Я благополучно оказался на противоположной стороне, но теперь мне предстояло самое рискованное испытание. Нужно было перейти широкую и прекрасно освещенную Саут-стрит. К тому же я не мог без содрогания думать о жутком зрелище, открывавшемся оттуда на море. При переходе меня легко могли увидеть с двух сторон. В последний момент я решил не перебегать улицу, а проковылять через нее тем же манером, подражая шаркающей походке иннсмутца.
Когда передо мной, теперь уже с правой стороны, открылась гладь океана, я некоторое время боролся с собой, отводя глаза в сторону. Но искушение победило, и я бросил любопытный взгляд на воду, продолжая шаркать и приволакивать ноги — спасительная тень еще не укрыла меня. Думая увидеть корабль, я был несколько озадачен, разглядев на волнах направлявшуюся к разрушенной верфи гребную шлюпку, а в ней что-то громоздкое, прикрытое брезентом. Разглядеть гребцов было почти невозможно, и все же они почему-то вызывали глубокое отвращение. Тут и там виднелись отставшие от основной массы пловцы. На далеком черном рифе мигающие огоньки сменились слабым, но постоянным свечением необычного оттенка. Впереди над остроконечными крышами чернел купол «Джилмен-Хаус». Невыносимое зловоние, унесенное на время благословенным бризом, вернулось с удесятеренной силой.
Не успел я перейти улицу, как услышал голоса преследователей, поспешавших по Вашингтон-стрит с севера. Они дошли до того светлого места, где предо мной впервые открылась в серебристых водах океана поразившая меня картина диковинного заплыва. Мои враги находились менее чем в квартале от меня, и я уже хорошо различал отдельные звероподобные лица, в очередной раз ужасаясь чудовищной иннсмутской походке — на полусогнутых ногах, со скрюченной спиной; в этих фигурах не было ничего человеческого. Один передвигался совсем как обезьяна, слегка касаясь руками земли. Другой — в пышном облачении и с тиарой на голове — скакал, как лягушка. Это, наверное, была та самая компания, от которой я прятался в гостиничном дворе, — они так и висели у меня на хвосте. Кое-кто смотрел в мою сторону, и я, хоть и был охвачен страхом, все же неуклюже дошаркал до темного местечка, притворяясь их собратом. Не знаю, заметили меня или нет. Если да, значит, моя уловка помогла, потому что они, не сменив направления, пересекли освещенное место и направились дальше, все так же квакая и лопоча на своем гнусном гортанном наречии.
Под покровом темноты я возобновил бег трусцой вдоль обшарпанных старых домов, мрачно возвышавшихся в ночи. Свернув на Бейтс-стрит, я побежал по южной ее стороне, миновав на своем пути два обитаемых дома, в одном из которых на верхнем этаже горел свет. К счастью, опять меня не заметили. На Адамс-стрит я почувствовал себя в большей безопасности, но тут же пережил шок: из темноты подворотни прямо на меня вышел человек. Он, однако, оказался не опасен, так как был мертвецки пьян, и я благополучно добрался до унылых складских трущоб на Бенк-стрит.
Эта улица близ ущелья казалась вымершей. Шум водопада заглушал мои шаги. До вокзала было еще довольно далеко, и я опять перешел на бег. Мрачные высокие стены нагоняли на меня здесь еще больше страху, чем в районе жилых домов. Наконец я увидел впереди арку старого вокзала или, вернее, его руин и, не задерживаясь, устремился к путям.
Рельсы хоть и заржавели, но все были на месте, а вот добрая половина шпал сгнила. Идти, а тем более бежать стало трудно, но я не унывал и продвигался вперед весьма быстро. Сначала рельсы шли вдоль ущелья, затем по длинному мосту, перекинутому через бездну на головокружительной высоте. Тут я заколебался: продолжать путь по этому сомнительному переходу или поискать где-нибудь поблизости мост попрочнее?
При обманчивом свете луны полоса шпал передо мной выглядела вроде бы неповрежденной. Я осторожно ступил на мост, светя себе фонариком, но меня тут же чуть не сбила с ног взметнувшаяся стая летучих мышей. Приблизительно посреди моста поджидала новая неприятность — пары шпал не было и в путях зияла дыра. Это препятствие могло все погубить, и тогда я, рискуя свернуть себе шею, прыгнул — и удачно приземлился.
Трудно представить себе мою радость, когда ущелье осталось позади. Далее пути пересекали под углом Ривер-стрит и направлялись в луга, где зловоние постепенно убывало. Травостой и заросли вереска мешали быстро продвигаться вперед, колючки безжалостно расправлялись с одеждой, но я все терпел, понимая, что густая зелень в случае опасности спасет: ведь с дороги, ведущей на Раули, пути хорошо просматривались.
Вскоре начались болота. Здесь колея лишь слегка возвышалась над открытой местностью, а травы и кустарник поредели. К счастью, вскоре железнодорожные пути пошли по более высокому месту и по обеим сторонам вновь зашумели кустарник и куманика. Меня несказанно обрадовал этот живой заслон: именно здесь дорога на Раули подходила к путям особенно близко. Как раз в конце зеленого туннеля дорога и колея пересекались, а потом снова расходились на безопасное расстояние. К этому моменту я почти уверовал в то, что железнодорожный путь не патрулируется.
Перед тем как вступить в заросли, я огляделся — вокруг никого не было. Издали старинные шпили и крыши гибнущего Иннсмута, затянутые таинственной вуалью из лунного света, выглядели необычайно живописно. Как же хороши они, видимо, были, подумал я, в те дни, когда Зло еще не распростерло свои крыла над городом! Блуждая, взор мой соскользнул с мирной картины ночного города на нечто такое, что заставило меня похолодеть.
Если зрение не обманывало, к югу от меня, у городской черты, зарождалось какое-то лихорадочное бурление. Казалось, город исторгал из себя целые полчища неких тварей, которые изливались на ровную ипсвичскую дорогу. На таком большом расстоянии трудно было различить отдельные фигуры, но меня стала бить дрожь от самого вида этой гадостной движущейся колонны. Как-то слишком уж равномерно она колыхалась и слишком ярко переливалась в лучах луны, переместившейся к этому времени в западную часть неба. Хотя ветер дул в противоположную сторону, мне слышались скрежет когтей и звериный рык, по омерзительности эффекта превосходивший даже те гнусные звуки, которые издавали мои преследователи.
В мозгу вспыхивали самые разные предположения. Может, это те иннсмутцы, которые превратились со временем в морских чудовищ и теперь укрываются в разрушенных домах у верфи? А может, таинственные пловцы, увиденные мной в водах океана? Поражало, однако, количество этих сверкающих тварей. Оно было слишком большим для такого безлюдного городка, как Иннсмут, тем более что часть местных жителей патрулировала другие дороги.
Откуда могли взяться эти толпы? Неужели в старых, заброшенных складах действительно таилась тщательно скрываемая от посторонних глаз неизвестная жизнь? Или некий корабль тайно высадил на дьявольский риф тысячи неведомых пришельцев? Кто они? Зачем появились здесь? Они заполнили всю ипсвичскую дорогу, — может, и на других творилось то же самое?
Я вступил наконец на заросший кустарником отрезок пути и медленным шагом стал продираться сквозь заросли. Неожиданно зловоние резко усилилось. Видимо, направление ветра переменилось, подумал я, наверное, теперь он дует с моря. Одновременно, к моему большому удивлению, послышалась гортанная речь. Раздавались и другие звуки, что-то вроде «шлеп-хлоп» или «плюх-бух», вызвавшие у меня неприятные ассоциации. Вне всякой логики я почему-то подумал о колышущейся по ипсвичской дороге колонне.
Звук и зловоние нарастали, и я, дрожа от страха, затаился, благодаря судьбу за надежное укрытие. Именно здесь дорога на Раули подходила к путям особенно близко, прежде чем пересечься и разойтись в разные стороны. Прижавшись к земле, я решил переждать, пока невидимое шествие минует меня и направится на запад. Благодарение небесам, они не искали меня с собаками. Те наверняка напали бы на мой след, если только им не помешал бы омерзительный смрад. Теперь же я чувствовал себя в полной безопасности, хотя знал, что патруль пересечет колею всего в сотне ярдов отсюда, и тихонько лежал, скрючившись, в песчаной ямке, отгороженный от врагов густой растительностью. Я смогу их видеть, они же, если не случится нечто непредвиденное, меня не заметят.
Услышав топот совсем рядом, я не решился посмотреть в ту сторону. Просто лежал и представлял себе, как в эту минуту залитая лунным светом дорога заполняется немыслимыми существами. Выглядят, должно быть, еще гнуснее тех, что я видел в Иннсмуте. До смерти не забудешь!
Я задыхался от невыносимого зловония, но еще больше меня терзали звуки, нисколько не напоминавшие человеческую речь. Чудовищная какофония из кваканья, лая и рыка. Неужели это голоса моих преследователей? Может, все-таки с ними собаки? В городе я не видел домашних животных. Но кто может так шлепать и топать? Дегенеративные иннсмутцы? Вряд ли. Я решил как можно крепче зажмурить глаза и не открывать, пока не стихнет шум. Орда была совсем рядом: земля дрожала. Я уже почти не мог дышать и только все сильнее сжимал веки.
Что было дальше — ужасная явь или кошмарная галлюцинация? Правительственная комиссия, работавшая здесь после моих отчаянных призывов вмешаться и положить конец дьявольскому сговору, подтвердила: да, все происходило на самом деле. Но и они могли подпасть под власть галлюцинаций. Этот старинный, захваченный злой силой город, возможно, вызывал у людей массовый психоз. Такие места уникальны, к ним надо подходить с особой меркой. Завораживающая воображение легенда хоть кому замутит голову, особенно на фоне вымерших улиц с их удушливым зловонием, среди покосившихся шпилей и гниющих крыш. А может, микроб безумия проник в атмосферу города? Может, это болезнь, принесенная неким злом издалека? Ну у кого, скажите, могло сохраниться чувство реальности после рассказов Зедока Аллена? Позже полиция искала его, но не нашла. Кто знает, что с ним стало? И где кончается безумие и начинается объективная реальность? Возможно, мои недавние страхи — тоже иллюзия?
Но вернемся к тому, что я видел (или мне померещилось) в ту зловещую ночь, когда луна прямо-таки полыхала на небосводе. Когда я лежал, скорчившись, в кустах дикой ежевики, разросшейся на старой железной дороге, прямо передо мной двигалось в Раули сонмище прыгающих существ. Конечно же, любопытство победило, и я открыл глаза. А кто бы удержался на моем месте? Ведь всего в сотне ярдов шлепала мимо со страшным шумом, квакая и лая, неизвестная науке жизнь.
Казалось, после всех испытаний последнего дня меня ничто уже не могло устрашить. Человеческое начало почти отсутствовало в моих преследователях, и я не удивился бы, завидев существ, вовсе его лишенных. Просто другую жизнь. Жуткий шум и топот переместились тем временем вперед, и, по моим представлениям, дьявольская шеренга находилась теперь как раз там, где заросли немного расступались, открывая место пересечения двух дорог. До сих пор я держал глаза плотно закрытыми, но сейчас открыл, не в силах унять любопытство и уверив себя, что способен вынести любое зрелище, какое только ни предстанет в зловеще-желтом свете луны.
То, что я увидел, означало для меня конец прежней жизни. Конец спокойному существованию, душевному равновесию, вере в гармонию природы и человеческого разума. Ничто не могло соперничать в богохульстве с их противоестественным видом. Поверь я в россказни старого Зедока, и тогда не смог бы вообразить ничего, даже отдаленно приближающегося к увиденному. Меня можно упрекнуть в том, что я только и делаю, что намекаю на нечто ужасное, но поверьте, мне стоит большого труда написать, как все обстояло на самом деле. Сколь могу, оттягиваю этот момент. Как могут рождаться существа, подобные этим, на нашей планете? И как случилось, что человеческому зрению открылись — словно это была обычная плоть — креатуры, существующие лишь в инфернальных легендах или больном воображении?
Но как бы то ни было, а я увидел их. Бесконечную вереницу кошмарных тварей — шлепающих, прыгающих, квакающих, блеющих. Они, казалось, исполняли зловещую, бесовскую сарабанду в призрачном лунном свете. Головы некоторых венчали высокие тиары из неизвестного светлого металла, похожего на золото, на других колыхались странные одеяния, а тот, что шел впереди всех, был одет в черный, неприятно оттопыренный на спине пиджак и полосатые брюки, на бесформенной массе, отдаленно напоминавшей голову, торчала фетровая шляпа.
В их окраске преобладал серовато-зеленый цвет, животы были белыми. На блестящей и скользкой коже резко выделялись покрытые чешуей спинные позвонки. Если фигурой они еще как-то отдаленно напоминали антропоидов, то головы этих пучеглазых существ были несомненно рыбьи. На шеях пульсировали жабры, а длинные кисти и ступни были с перепонками. Они хаотично и бессистемно прыгали то на двух, то на четырех ногах, и я порадовался, что у них было только четыре конечности. Отрывистая речь напоминала то кваканье, то лай и своей мрачной экспрессией вполне компенсировала отсутствие мимики на лицах.
И все же дьявольское зрелище не застало меня совсем уж врасплох — ведь я видел эти уродливые фигурки на зловещей тиаре в Ньюберипорте. Теперь же, встретившись с адскими тварями — рыболягушками — лицом к лицу, все равно не мог не содрогнуться от ужаса. Вот кого напоминала согбенная фигура священника, мелькнувшая под темными церковными сводами! А рыболягушки все шли и шли. Конца колонне не было видно. Мгновение спустя все поплыло у меня перед глазами, и я погрузился в благословенное забытье, впервые в жизни потеряв сознание.
Очнулся я только днем от теплого мелкого дождя, струившегося по лицу. Впереди, на пересекавшей колею дороге, не осталось никаких следов дикой орды. Зловоние тоже исчезло. На юго-востоке темнели развалины Иннсмута, среди которых кое-где вздымались одинокие шпили церквей. А вокруг меня простиралась безлюдная заболоченная равнина. Мои часы показывали, что полдень уже миновал.
Хотя случившееся со мной казалось только страшным сном, я не мог отделаться от ощущения, что все вокруг пропитано ядом. Нужно было поскорее убираться подальше от зловещего Иннсмута. Превозмогая чудовищную слабость, голод, пережитый ужас и смятение чувств, я поднялся на ноги. Выйдя на размытую дождем, грязную дорогу, я поплелся по направлению к Раули. Деревни я достиг еще до наступления вечера. Поужинав и раздобыв кое-какую одежду, сел на ночной поезд до Аркхема и уже на следующий день, добившись приема у представителей власти, обстоятельно рассказал все, что видел и пережил в Иннсмуте. Позже мне пришлось повторить то же самое, слово в слово, в Бостоне. То, что последовало за этим, известно многим. Хотелось бы, чтобы здесь наступил конец истории. Однако мне кажется, что беда только приближается и настоящий кошмар — или чудо? — еще впереди.
Как и следовало ожидать, многие из моих планов рухнули. У меня недостало сил продолжать путешествовать по окрестностям, любуясь природой, памятниками архитектуры и прочими древностями. Не отправился я и в музей Мискатоникского университета, чтобы взглянуть на загадочные украшения. Духу не хватило. И все же часть намеченного удалось выполнить. Я навел справки относительно своего происхождения и кое-что разведал. Разрозненные и обрывочные сведения, но на досуге можно было покорпеть над ними и попытаться систематизировать. Очень помог мне в этих изысканиях член Аркхемского исторического общества Э. Лэфем Пибоди, отнесшийся к моему делу заинтересованно. Он проявил большое участие, узнав, что я являюсь внуком Илайзы Орн, уроженки этих мест, родившейся в 1867 году и в семнадцатилетнем возрасте выданной за жителя штата Огайо Джеймса Уильямсона.
Оказалось, что мой дядя по материнской линии много лет назад тоже интересовался своей родословной. И еще: семейство моего деда всегда вызывало у местного населения нездоровое любопытство. По словам мистера Пибоди, особенно много толков вызвала женитьба отца Илайзы, Бенджамена Орна, состоявшаяся вскоре после Гражданской войны. Дело в том, что происхождение невесты казалось загадочным. Она была круглой сиротой из рода Маршей, живших в Нью-Хэмпшире, получила образование во Франции и мало что ведала о своих предках. Опекун поместил родительские деньги в Бостонский банк, проценты от них шли на ее содержание, а также на оплату гувернантки-француженки. В Аркхеме не знали имени опекуна, а со временем он и совсем пропал из виду. Тогда его обязанности в судебном порядке возложили на гувернантку. Француженка оказалась на редкость скрытной особой, хотя, по мнению горожан, могла бы многое порассказать.
Самое удивительное заключалось в том, что о пресловутых родителях девушки, Иноке и Лидии Марш, никто слыхом не слыхивал в Нью-Хэмпшире. Предполагали, что она была внебрачной дочерью одного из Маршей — характерные для этого семейства глаза выдавали происхождение. Много пересудов вызвала и ее ранняя смерть в родах, когда она дала жизнь своему единственному ребенку — моей бабушке. Нельзя сказать, чтобы все эти открытия порадовали меня: слишком мрачные ассоциации возникали при упоминании имени Маршей, а сознание того, что я состою с ними в родстве, угнетало вдвойне. Неприятно поразило и замечание Пибоди, что у меня типично «маршевские» глаза. И все же я был благодарен ему за предоставленные сведения, которые, вне всякого сомнения, могли пригодиться. Сняв копии со всех документов, где упоминалось имя Орнов, я уехал домой в Толедо.
Проведя месяц в Моми, где приходил в себя после пережитых потрясений, я вновь возобновил занятия на последнем курсе Оберлинского университета. Вплоть до следующего июня я увлеченно занимался наукой, почти забыв об ужасах минувшего лета. О них мне изредка напоминали лишь визиты государственных чиновников в связи с расследованием, начало которому положили мои рассказы. Спустя год после иннсмутских событий, в середине июля, я гостил в Кливленде у родных покойной матушки, занимаясь уточнением раздобытых мной документов и сверкой их с тем, что находилось в семейном архиве. Мне хотелось свести все данные воедино, чтобы получить наконец-то ясную картину истории моего рода.
Нельзя сказать, что я получал удовольствие от своих занятий. Прежде всего потому, что атмосфера дома Уильямсонов всегда тяготила меня. В ней было нечто гнетущее, и, помнится, матушка с неодобрением относилась к моим поездкам сюда. А вот визиты ее отца к нам в Толедо доставляли ей удовольствие. Моя бабушка, та, что была родом из Аркхема, всегда казалась мне какой-то чудной. Я побаивался ее и потому не очень горевал, когда она исчезла из моей жизни. Тогда мне, восьмилетнему, сказали, что бабушка не смогла пережить самоубийства дяди Дугласа, своего старшего сына, и, потеряв голову от горя, ушла из дому и сгинула. Дуглас застрелился сразу же после поездки в Новую Англию, когда посетил Историческое общество в Аркхеме.
Дядю я тоже не любил — слишком уж он напоминал лицом бабушку. Встречая на себе взгляд их выпуклых глаз, я всегда поеживался от неясного беспокойства. Моя мать и дядя Уолтер были совсем другими — они пошли в отца. А вот кузен Лоренс, сын Уолтера, казался даже в детстве миниатюрной копией бабушки. Теперь он, бедняга, по состоянию здоровья томится в Кентонском санатории. Я не видел его уже четыре года, но, по словам дяди, физическое и психическое состояние больного оставляет желать лучшего. Это семейное несчастье повлекло за собой два года назад преждевременную смерть его матери.
Теперь в Кливленде жили только дед да овдовевший Уолтер, но в доме все напоминало о прошлом. Я по-прежнему с трудом переносил его атмосферу и торопился поскорее завершить свои дела. Дед поведал мне все предания, связанные с родом Уильямсонов, а также предоставил в мое распоряжение уйму всяких документов. Дядя Уолтер же ознакомил меня с архивом рода Орнов, включавшим разные записи, письма, вырезки из газет и журналов, фамильные вещи, фотографии и миниатюры.
По мере того как я изучал письма и рисунки из архива Орнов, меня охватывал все больший ужас. Как уже говорилось, мне всегда были чем-то неприятны бабушка и дядя Дуглас. И вот теперь, годы спустя, всматриваясь в их портреты, я чувствовал еще большую неприязнь и отчуждение. Почему? Сначала причина была неясна, но постепенно, против моей воли, в мое подсознание стало вкрадываться смутное подозрение о некоем ужасном сходстве. Выражение их лиц говорило мне теперь много больше, чем прежде. Я боялся задумываться об этом, предчувствуя, что разгадка может стать для меня катастрофой.
Но худшее еще предстояло. Дядя показал мне фамильные драгоценности Орнов, хранившиеся в банковском сейфе. Некоторые из них поражали изяществом и филигранной работой. А вот шкатулку, где хранились украшения моей загадочной прабабушки, дядя долго не хотел открывать. По его словам, оригинальность изделий по гротескной фантастичности замысла нарушала границы дозволенного и была даже отталкивающей. Бабушка никогда не носила драгоценностей на людях, но часто в одиночестве любовалась ими. По преданию, они приносили своим владелицам несчастье, хотя француженка-гувернантка моей прабабушки считала, что их неблагоприятное воздействие ощущается только в Новой Англии, а в Европе они безопасны.
Предупредив, чтобы я не пугался необычных и даже жутких узоров на украшениях, дядя осторожно и как бы нехотя вынул шкатулку. Художники и археологи, видевшие эти сокровища, единодушно признали непревзойденное мастерство и экзотичность ювелирной работы, хотя никто из них так и не сумел определить ни школу исполнения, ни сам металл. Среди таинственных поделок были два браслета, тиара и необычное нагрудное украшение. Выгравированные на нем фигурки побивали по своей инфернальной причудливости самую необузданную фантазию.
Еще во время дядиного рассказа, как я ни пытался сдерживать свои чувства, лицо мое выдавало нарастающий страх. Взглянув на меня, дядя сокрушенно покачал головой и отложил шкатулку. Я жестом успокоил его, все, мол, в порядке, и тогда он с явным неудовольствием открыл шкатулку. Извлекая на свет первый предмет, он, несомненно, ждал с моей стороны эмоций, однако не столь сильных, какие последовали. Да и сам я, казалось, был уже готов ко всему, понимая, какие драгоценности мне предстоит увидеть, но когда тиара открылась предо мной во всей своей зловещей таинственности, я потерял сознание, пережив такой же обморок, какой настиг меня год назад в зарослях на железнодорожной колее.
С того дня жизнь моя отравлена неотвязными мыслями и подозрениями. Как узнать, где кончается ужасная истина и начинается сумасшествие? Итак, моя бабушка происходила из семейства неких Маршей и жила в Аркхеме. Но Зедок Аллен говорил, что рожденную от рыболягушки дочь Абеда Марша выдали обманом за жителя Аркхема. Помнится, старый пьяница что-то бормотал о моих глазах, напомнивших ему глаза Абеда Марша. И услужливый член Исторического общества тоже отметил, что у меня типично «маршевские» глаза. Значит, капитан Марш — мой прапрадедушка? А кто же тогда моя прапрабабка? Попробуй разберись. Украшения из белого металла могли быть, конечно, куплены отцом прабабушки у какого-нибудь иннсмутского матроса. Что же касается необычно выпуклых глаз и бабушки, и дяди-самоубийцы, то, скорей всего, это мои фантазии. После пережитого в Иннсмуте шока воображение у меня разыгралось не на шутку. И все же почему дядя покончил с собой после поездки в Новую Англию, где наводил справки о предках?
Более двух лет я с переменным успехом боролся с одолевавшими меня сомнениями. По рекомендации отца я получил место в страховой компании и ушел с головой в работу. Но зимой 1930/31 года меня замучили сны. Вначале они посещали меня редко, заставая врасплох, потом чаще, становясь все ярче и красноречивее. Мне снились бескрайние морские просторы, гигантские подводные стены, увитые водорослями. Я плутал в этом каменном лабиринте, проплывая под высокими портиками в сопровождении диковинных рыб. Рядом скользили еще какие-то неведомые существа. Наутро при одном лишь воспоминании о них меня охватывал леденящий душу страх. Но в снах они нисколько не пугали меня — ведь я сам был одним из них. Носил те же причудливые одеяния, плавал, как они, и так же совершал богохульственные моления в дьявольских храмах.
Проснувшись, я помнил не все, кое-что ускользало из памяти, но и того, что оставалось, с избытком хватило бы, чтобы объявить меня безумцем или гением. Однако мне хватало ума не записывать свои сны. Я постоянно ощущал на себе пугающее воздействие некой посторонней силы, стремящейся вырвать меня из привычного окружения и перенести в чуждый, неведомый и страшный мир. Все это плохо сказалось на моем здоровье. Меня словно что-то подтачивало, выглядел я ужасно и вскоре, уйдя с работы, засел дома, ведя неподвижную и уединенную жизнь тяжелобольного человека. Ко всему присоединилось и странное нервное расстройство — временами я был не в состоянии закрыть глаза.
Именно тогда я начал подолгу с тревогой изучать свое отражение в зеркале. Всегда мучительно видеть разрушительное действие болезни, в моем же случае перемены были, кроме того, весьма странного свойства. Отец, видимо, тоже заметил их, и в его взгляде читалось любопытство, граничащее с ужасом. Что происходило со мной? Неужели я становился похож на бабушку и дядю Дугласа?
Однажды мне приснился страшный сон. В своих путешествиях под водой я встретил бабушку, которая жила в сверкающем дворце со множеством колонн, в окружении дивных коралловых садов, полных диковинной вьющейся растительности. Она тепло и слегка насмешливо приветствовала меня. Бабушка очень изменилась, как меняются все, навеки переселившиеся в океан. Она призналась мне, что не умерла, как все считают, а отправилась на то место, о котором узнал из бумаг покойный сын, поднялась на камень и бросилась вниз — в наше царство. Сын мог бы наслаждаться чудесами этого мира вместе с ней, но предпочел пулю.
Это царство ожидало и меня, — третьего, считая и дядюшкин, пути не было. Я тоже никогда не умру и буду жить с теми, кто существовал под водой еще до появления на земле человека.
Я встретился также с той, что была ей бабушкой. Восемьдесят тысяч лет прожила Пфтьялйи в Йхантлее и после смерти Абеда Марша вновь вернулась сюда. Они рассказали мне, что даже глубоководные бомбы, которые войска бросали в океан, не смогли разрушить Йхантлей. Повредили, но не разрушили. Обитатели Глубин не могут погибнуть, хотя древняя магия Почивших Старцев иногда способна повредить им. Теперь придется выждать. Но наступит время, и они снова всплывут за данью для могущественного Ктулху и на этот раз выберут город богаче и величественней Иннсмута. Они планируют расширить свои владения, и те, кого они растят на берегу, должны помочь им в этом. Но пока нужно затаиться. За то, что я навлек на них беду, меня ожидает наказание, но, по словам бабушки, не слишком суровое. В этом же сне я впервые увидел шоггота и тут же, вопя от ужаса, проснулся, не в силах вынести зрелища. Наутро, подойдя к зеркалу, я убедился, что приобрел типично «иннсмутское» выражение лица.
Я не застрелился, как дядя Дуглас, хотя купил автоматический пистолет и почти решился на этот шаг. Меня остановили сны. Страх понемногу ослабевал. Теперь морская пучина скорее манила, чем пугала меня. Во сне я видел и сам совершал странные вещи, но, просыпаясь, пребывал не в отчаянии, а в восхищении. Думаю, мне не следует по примеру остальных дожидаться полного преображения.
Неровен час, отец упрячет меня в санаторий, как бедного кузена. Под водой же меня ожидают величественные дивные зрелища, и я должен увидеть их! Иа-Р’лайх! Ктулху фхтагн! Иа! Иа! Нет, я не застрелюсь! Никто не заставит меня это сделать!
Первым делом надо похитить из Кентонской лечебницы кузена и вдвоем добраться до чудесного Иннсмута. Мы поплывем к чернеющему вдали рифу и нырнем с него в темную бездну. Туда, где раскинулась великая родина моих предков, где возвышаются царственные колонны Йхантлея. Там, в этом пристанище Обитателей Глубин, среди чудес и великолепия, мы будем пребывать вечно.
ТЕНЬ БЕЗВРЕМЕНЬЯ
Глава 1
После двадцати двух лет, полных ужаса и кошмаров, сохранив рассудок лишь благодаря отчаянной надежде на мифическую природу моих впечатлений, не хочу ручаться в истинности того, что я, вероятно, обнаружил в Западной Австралии в ночь с 17 на 18 июля 1935 года. У меня еще есть основания надеяться, что пережитое мной целиком или хотя бы частично является галлюцинацией, тем более что существует немало подобных примеров. Но иллюзия моя была настолько отвратительна и ужасна, что временами я не могу более находить оснований для надежды.
Если все случилось со мной взаправду, человеку придется покориться космосу и примириться с собственным скромным местом в кипящем круговороте времен, не впадая в панику при одном упоминании о грядущей судьбе. Нам, людям, придется встать против потаенного зла, которое пусть и не в силах уже погубить целую расу, но еще опасно для отдельных ее предприимчивых членов.
Вот по этой причине я прошу, всей силой моего существа умоляю прекратить любые попытки очистить от земли таинственные стены из допотопных каменных блоков, ради которых я и отправился в экспедицию.
Если предположить, что в ту ночь я был здоров и оставался в своем уме, мне пришлось пережить такое, с чем еще не приходилось сталкиваться людям. Увы, кое-какие обстоятельства, к ужасу моему, подтверждают истинность происшествия, которое мне легче было бы считать бредом или кошмарным сновидением. Впрочем, к счастью, у меня нет решительных доказательств, ибо в страхе своем я потерял тот самый предмет, который, будь он реален и окажись за пределами этой отвратительной бездны, мог послужить окончательным и неоспоримым свидетельством реальности происшествия.
Кошмарное место это я обнаружил сам, в одиночку, и пока еще никому не говорил о нем. Я не вправе запретить остальным проводить поиски, но случай и сыпучие пески скрывают от людей эти камни. А теперь время кое-что пояснить — не только чтобы сохранить свой умственный покой, но и чтобы все, кому случится прочесть эти строки, отнеслись к ним серьезно.
Страницы эти с самого начала покажутся знакомыми внимательному читателю, следящему за прессой, в том числе и научной. Я пишу их в каюте корабля, отвозящего меня домой. Эти записки я передам сыну, Уингейту Пизли, профессору Мискатоникского университета, — единственному члену моей семьи, не отвернувшемуся от меня после странной амнезии, посетившей меня много лет назад, человеку, знакомому со всеми секретами и обстоятельствами моего дела. Из всех смертных он едва ли не в последнюю очередь может отнестись с пренебрежением к моему рассказу о той роковой ночи.
Я решил ничего не говорить ему до отплытия — пусть он узнает все из моей рукописи. Имея возможность на досуге вновь обратиться к моим запискам, он сумеет составить обо всем более убедительное представление, чем то, что способен поведать мой смятенный язык.
С рукописью он вправе делать все что угодно — в том числе предоставлять ее с соответствующими комментариями любому, кому подобное чтение может послужить во благо. Но простому читателю начало моей истории, скорее всего, неизвестно, и рассказ о роковой ночи я предваряю достаточно кратким изложением предшествующих событий.
Мое имя — Натаниэль Уингейт Пизли, и те, кто помнит еще газетные побасенки прежнего поколения — или же письма и статьи в журналах по психологии шести-семилетней давности, — должны знать, кто я такой и что из себя представляю. В 1908–1913 годах газеты подняли достаточно шума о моей странной амнезии; чаще всего статейки писались в привычном стиле ужасных сказок, с детства знакомых жителям старинного городка в Массачусетсе, где я обитал тогда, как и теперь. Но я хочу, чтобы все знали: ни наследственность моя, ни прежняя жизнь не таили в себе безумия или зла. Для меня это весьма существенно: тень пала на меня извне.
Быть может, столетия мрачных дум придали ветхому, живущему одними слухами Аркхему особую чувствительность к такого рода мрачным историям. Впрочем, едва ли — памятуя те случаи, о которых мне пришлось узнать позднее. Главное то, что ни предки мои, ни их образ жизни не обнаруживали никаких отклонений от нормы, и все, что случилось со мной, обусловлено было иными причинами… явилось из… даже теперь мне трудно подобрать нужные слова.
Я — сын Джонатана и Ханны (Уингейт) Пизли, родители мои принадлежали к здоровой хаверхиллской породе. Вырос я и был воспитан в Хаверхилле в старом домовладении, что на Дощечной возле Золотой горки, и в Аркхем перебрался, лишь когда поступил работать в Мискатоникский университет преподавателем политической экономии.
Тринадцать лет жизнь моя катилась гладко и приносила одни только радости. В 1896 году я женился на Алисе Кизар из того же Хаверхилла, трое моих детей — Роберт, Уингейт и Ханна — родились друг за другом в 1898, 1900 и 1903 годах. В 1898 году я сделался ассистентом и в 1902 году — профессором. В то время оккультизм и аномалии психики меня не интересовали.
Это случилось во вторник 14 мая 1908 года — тогда и началась моя странная амнезия. Все произошло внезапно, хотя позже я понял, что короткие, хаотической чередой сменявшиеся видения предшествующих часов — весьма меня обеспокоившие потому, что не было ничего подобного в моей памяти, — и являлись предваряющими болезнь симптомами. Голова моя разламывалась, и меня мучило четкое ощущение: все казалось, что кто-то пытается овладеть моими мыслями.
Приступ случился в 10:20 утра. Я вел занятия по шестому разделу курса политической экономии — истории и новейшим тенденциям в экономике — перед первокурсниками и немногими «козерогами» со стажем. Перед глазами моими рябили странные формы, мне казалось, что я нахожусь в каком-то необычном помещении — совсем не в классной комнате.
А когда мои мысли отклонились от темы занятия, студенты поняли, что случилось нечто серьезное. Я сел в кресло и лишился сознания, оцепенев в столбняке, из которого меня так и не смогли вывести. И больше не видел дневного света в здравом рассудке — пять лет четыре месяца и тринадцать дней.
О том, что случилось потом, я узнал, конечно же, от других. В течение шестнадцати с половиной часов я не обнаруживал и проблеска сознания, даже когда меня доставили в собственный дом — Журавлиная, 27 — под присмотр лучших врачей.
В три часа утра 15 мая глаза мои раскрылись и я заговорил, но мои слова и выражение лица долго еще пугали врача и мою семью. Ясно было, что я не помню себя и собственного прошлого, хотя по неизвестным причинам пытаюсь утаить это. Глаза мои со странным выражением глядели на окружающих, а движения лицевых мускулов близким были и вовсе незнакомы.
Сама речь моя стала чужой и неуклюжей. Голосовые органы действовали неловко, дикция сделалась подчеркнутой, словно бы я был знаком с английской речью только по книгам. Произношение стало каким-то варварским и чужестранным, а идиомы казались или немыслимо архаичными, или вовсе непостижимыми.
Одну из моих тогдашних фраз настойчиво и не без легкого ужаса лет через двадцать принялись вспоминать молодые врачи. Выражение это в те дни нашло широкое употребление сперва в Англии, а потом и в Соединенных Штатах и, невзирая на всю свою сложность и неоспоримую новизну, до последней буквы воспроизводило слова, произнесенные в 1908 году странным аркхемским пациентом.
Физические силы возвратились немедленно, хотя некоторое время пришлось поучиться вновь владеть руками, ногами, да и всем телом. Поэтому-то и из-за прочих неприятностей, связанных с потерей памяти, некоторое время я находился под строгим медицинским надзором.
Заметив, что попытки скрыть провал в памяти не имеют успеха, я признал его наличие и обнаружил жажду ко всякого рода познаниям. Доктора решили, что, осознав случившееся, я потерял весь интерес к прежней своей личности.
Они сумели подметить, что в основном меня занимают некоторые аспекты истории, искусства и науки, лингвистики и фольклора — иногда сверхсложные, а иногда по-детски простые, но в любом случае выходящие за пределы прежних моих интересов.
В то же время я не мог скрыть от них свои непостижимо глубокие познания во многих почти неисследованных областях — и, стараясь умалчивать, то и дело непроизвольно проговаривался, с непреложной уверенностью называя отдельные события, происходившие в едва известные науке времена, находящиеся за пределами общеизвестной истории, — а потом старался свести дело к шутке, заметив удивление, которое вызывали подобные воспоминания. Кроме того, я нередко предрекал события будущего, два или три раза вызвав в присутствующих неподдельный ужас.
Необъяснимые озарения скоро прекратились, иные из наблюдавших за мной объясняли все осторожностью, но не исчезновением странных познаний. Тем временем я с немыслимой прытью впитывал в себя речь, обычаи и взгляды нашего времени — словно пытливый гость из далеких и чуждых земель.
Как только мне разрешили выходить, я немедленно стал засиживаться в библиотеке и вскоре положил начало своим странным поездкам, что вызвали столько кривотолков в последующие несколько лет, проявив неожиданный интерес к ряду специальных курсов, читавшихся в университетах Америки и Европы.
Все это время я не мог пожаловаться на отсутствие контактов с учеными — странное заболевание успело создать мне некоторую известность среди психотерапевтов. Меня демонстрировали в ходе лекций как типичный пример раздвоения личности… даже невзирая на то, что в ходе лекций я то и дело озадачивал лекторов очередным умопомрачительно тонким симптомом или даже тщательно завуалированной колкостью.
Дружелюбия ко мне никто не проявлял. И мой облик, и речи внушали смутный страх и опасение всем, кого мне приводилось встречать, словно бы я находился за гранью, разделявшей мир на нормальную и нездоровую части. Во мне видели нечто черное и ужасное, порожденное таинственным всплеском загадочной координаты.
Моя семья не составила исключения. От самого мгновения загадочного пробуждения жена относилась ко мне с неприкрытым ужасом и отвращением, полагая во мне злого духа, овладевшего телом ее мужа. В 1910 году она добилась официального развода и даже не согласилась встретиться со мной, когда я наконец очнулся в 1913 году. Старший мой сын и младшая дочь полностью разделяли ее чувства, их с той поры я также не видел.
Лишь средний мой сын, Уингейт, сумел одолеть ужас и отвращение, вызванные моим преображением. Он понимал, что я ему сделался чужд, но, несмотря на свой тогдашний возраст (ему было восемь), крепко держался за веру в то, что мое истинное «я» возвратится еще в свое тело. И, когда эго мое вернулось, извлек меня оттуда, куда я попал, и суд отдал меня под опеку сына. В последующие годы он помогал мне в исследованиях, к которым меня неудержимо влекло, а ныне, в тридцать пять лет, сделался профессором психологии в Мискатоникском университете.
Меня не удивляет, что я вызвал у людей ужас; вне сомнения, ум, голос, даже выражение лица существа, пробудившегося 15 мая 1908 года, не имели ничего общего с Натаниэлем Уингейтом Пизли.
Не буду обращаться к подробностям своей жизни с 1908 по 1913 год — читатели легко могут ознакомиться со всеми внешними проявлениями ее, перелистав подшивки старых газет и научных журналов, что приходится делать и мне самому.
Мне предоставили доступ к собственным средствам, и я в основном тратил их мудро — на путешествия и занятия в различных научных центрах. Тем не менее поездки мои были до крайности странными, я подолгу оставался в далеких и уединенных краях.
В 1904 году я провел месяц в Гималаях, через семь лет, в 1911-м, привлек к себе внимание общества переходом на верблюдах через неизвестные пустыни Аравии.
Что происходило со мной в этих скитаниях, я так никогда и не узнал.
Летом 1912 года я нанял корабль и направился в Арктику, в море, побывал севернее Шпицбергена и по возвращении не обнаружил никакого разочарования.
В том же году, ближе к концу его, я неделями скитался в обширных известняковых пещерах Западной Виргинии, не знавших исследователя ни до, ни после меня, в мрачных лабиринтах, запутанных настолько, что искать меня по следам даже не пытались.
Занятия в университете свидетельствовали о необыкновенно быстрой ассимиляции моей второй личности; ее интеллект, казалось, намного превосходил мой собственный. Я разыскал свидетельства того, что мои темпы чтения в индивидуальных занятиях казались очевидцам просто феноменальными. Бегло перелистав любую книгу, я запоминал все во всех подробностях, а мое умение мгновенно интерпретировать самые сложные чертежи и рисунки воистину вселяло трепет.
Время от времени мне попадались сообщения достаточно гадкие; о власти моей второй личности над мыслями и поступками других, хотя я тогда старался не обнаруживать этого.
Прочие пакостные сведения относились к близкому моему знакомству со всякого рода гуру и преподавателями разнообразных оккультных наук и с учеными, подозревавшимися в связях с безликими разрозненными группами отвратительных иерофантов старшего мира. Слухи эти, неизменно остававшиеся без доказательств, вне сомнения, порождены были известным направлением моего чтения: редкими книгами в библиотеках нельзя воспользоваться втайне.
Есть вполне достоверные доказательства — в виде пометок на полях, — что я успел проглядеть такие книги, как «Cultes de ghules» графа Д’Эрлетта, «De Vermis Mysteriis» Людвига Принна, «Unaussprechlichen Kulten» фон Юнцта, уцелевшие фрагменты ошеломляющей «Книги Эйбона» и ужасный «Некрономикон» безумного араба Абдулы Альхазреда. Нельзя отрицать и того, что время моей странной мутации совпало с новой и особо злобной волной оживления черных культов.
К лету 1913-го я начал терять интерес ко всему вокруг, стал намекать различным сподвижникам, что скоро во мне произойдет перемена. Я начал говорить тогда о воспоминаниях прежней жизни; впрочем, большинство слушателей считали мои речи неискренними, поскольку я ограничивался подробностями незначительными — такими, которые можно было извлечь из старых личных бумаг.
К середине августа я возвратился в Аркхем — в свой давно пустовавший дом на Журавлиной. В нем я соорудил некий механизм весьма любопытного облика, по частям изготовленный различными фирмами Америки и Европы, и тщательно скрывал устройство от глаз всякого, кто мог обладать достаточным умением, чтобы вдуматься в его смысл.
Видевшие его — работник, служанка и новая домоправительница — говорили, что странное нагромождение стержней, колес и зеркал занимало около двух футов в высоту и по футу в ширину и глубину. Центральное зеркало было круглым и выпуклым. Все это стало известным от тех изготовителей, кого удалось обнаружить потом.
Вечером в пятницу 26 сентября я отпустил домоправительницу и служанку до следующего полдня. В окнах дома допоздна горел свет.
На автомобиле прибыл гость — худощавый темноволосый мужчина, странным образом похожий на чужеземца. В последний раз свет в доме видели около часа ночи. Полисмен засвидетельствовал, что в 2:15 он был уже погашен, но автомобиль незнакомца находился на прежнем месте. К четырем часам утра машины его не стало.
Около шести нерешительный голос с иностранным акцентом попросил доктора Уилсона прибыть в мой дом, чтобы вывести хозяина из странного припадка. Этот звонок — междугородний, как выяснилось позже, — произведен был с уличного аппарата на Северной станции в Бостоне, но никаких следов странного незнакомца не обнаружили.
Прибывший в мой дом доктор нашел меня в гостиной — я сидел без сознания в кресле, к которому был придвинут стол. На его полированной крышке остались царапины — с нее явно убрали какой-то тяжелый предмет. Странная машина исчезла, о ней более никто не слыхал. Вне сомнения, ее забрал с собой худощавый и темноволосый незнакомец.
В камине библиотеки обнаружилась кучка пепла, очевидно, оставшегося от всех бумаг, написанных мной после наступления амнезии. Мое дыхание показалось доктору Уилсону странным, но после инъекции оно сделалось более регулярным.
В 11:15 утра 27 сентября я пошевелился, и на застывшем лице проступило человеческое выражение. Доктор Уилсон заметил, что я сделался похожим не на вторую свою личность, а скорее на первую, нормальную. Около 11:30 я забормотал… Весьма необычные звуки ничем не напоминали человеческую речь. И я тоже, казалось, с чем-то боролся. Сразу же после полудня — тем временем служанка и домоправительница вернулись — я заговорил по-английски.
«…Из всех ортодоксальных экономистов этого времени Джевонс в наибольшей степени выражает тенденции к научной корреляции. В его попытке связать коммерческий цикл преуспевания и депрессий с солнечными пятнами видится, быть может, апогей…»
Так вернулся Натаниэль Уингейт Пизли… и дух его все еще пребывал в 1908 году — в том самом вторнике перед студентами, внимательно следящими за исписанной доской над помостом.
Глава 2
Повторное вхождение в нормальную жизнь стоило мне многих трудов и усилий. Потеря целых пяти лет жизни создает много больше трудностей, чем это можно предположить, но я пытался относиться к делу настолько философски, насколько это было возможно. Наконец, пребывая под опекой моего среднего сына Уингейта, я поселился вместе с ним в доме на Журавлиной и попытался вновь обратиться к преподаванию, поскольку колледж любезно восстановил меня в прежней должности.
Я начал прямо с февраля, со второго семестра, и продержался на кафедре целый год. К тому времени я сумел осознать, насколько потрясло меня пережитое. Пребывая — как я надеялся — в абсолютно здравом рассудке, не ощущая изменений ни в каком аспекте собственной личности, я обнаружил, что полностью потерял энергию прежних дней. Непонятные сны, странные идеи постоянно смущали меня, и когда начало мировой войны обратило мой ум к истории, я обнаружил, что события и даты складываются в моей голове самым странным образом.
Мои представления о времени — способность различать последовательные и одновременные события — претерпели тонкие изменения: у меня сложилась химерическая идея о том, что можно жить в одном веке и в поисках знаний о грядущих и прошлых веках посылать свой ум в обе стороны вечности.
Война странным образом заставила меня припомнить некоторые из отдаленных последствий ее — я словно бы знал заранее, как она закончится, и, обладая всей информацией, мог поглядеть на нее из будущего.
Подобные квазивоспоминания приносили с собой боль и ощущение того, что путь их из памяти прегражден неведомо кем поставленным психологическим барьером.
Когда я робко намекал прочим на собственные впечатления, реакция бывала различной. Некоторые просто прятали глаза, но на факультете математики мне сказали о новых разработках в области относительности — тогда они были известны лишь в ученых кругах и им еще предстояло обрести известность и славу. По словам моих коллег, доктор Альберт Эйнштейн вот-вот должен был свести время к статусу четвертого измерения пространства.
Но сны, тревоги одолевали, и в 1915 году мне пришлось оставить постоянную работу. Видения определенного рода просто не оставляли меня, вызывая настоятельную убежденность, что моя амнезия на самом деле представляла нечто вроде богомерзкого обмена, что вторая моя личность и в самом деле была внешней силой, вторгшейся в мою душу из неведомых мест и изгнавшей неведомо куда истинную.
Так начались смутные и пугающие размышления относительно места пребывания моего истинного «я» в те годы, когда чужое эго правило моим телом. Странные знания и загадочное поведение прежнего обитателя моего тела все более и более смущали меня по мере того, как из журналов, газет и бесед я узнавал очередные подробности.
Все странности, смущавшие окружающих, удивительным образом гармонировали с мрачными потайными знаниями, угнездившимися в безднах моего подсознания. Я принялся лихорадочно разыскивать каждый клочок информации, касавшейся моих путешествий и занятий в минувшие темные годы.
Не все мои трудности носили столь полуабстрактный характер. Кроме них были сны, которые становились все образнее и подробнее. Понимая, как отнесется к ним большая часть общества, я редко упоминал о них кому бы то ни было, кроме сына или некоторых психологов, пользовавшихся моим доверием. Но постепенно мне удалось разыскать подобные случаи и взглядом ученого определить, насколько типичными являются подобные видения для страдавших амнезией.
Полученные мною результаты, подкрепленные свидетельствами психологов, историков, антропологов и опытных специалистов, знакомых со всеми аспектами деятельности рассудка от времен веры в овладевавших телом демонов до случаев, заверенных медицинской наукой, поначалу больше встревожили меня, чем успокоили.
Я скоро обнаружил, что во всем своде сведений об амнезиях сны мои не имеют полной аналогии. Впрочем, некоторое количество случаев много лет озадачивали меня сходством с пережитым. Некоторые из них попадались мне среди древних преданий, другие удалось извлечь из медицинских анналов, один или два — даже из анекдотов, нередких на страницах известных исторических хроник.
Оказалось, что, несмотря на крайне редкую природу моей хвори, некоторые черты ее знакомы человечеству от зари его дней. В одном столетии такие случаи могли повториться — дважды и трижды, — в другом отсутствовать вовсе — по крайней мере, о них не сохранилось свидетельств.
Суть оставалась одной и той же: личность, причем обладающая острым умом, вдруг начинала иную жизнь. Все начиналось с непродолжительной скованности — речевой и телесной, за ней следовало полное преуспевание в науках, истории, искусствах и антропологии, причем заболевший проявлял немыслимые способности в усвоении знаний. А потом внезапно возвращалась прежняя личность, и лишь смутные сны о неизвестных местах намекали на какие-то забытые кошмарные переживания.
Близкое сходство жутких сновидений с моими, в особенности совпадение ряда мелких подробностей, заставило меня утвердиться в мысли об их типичной природе. Пожалуй, один или два случая в известной мере напоминали мне собственные кощунственные воспоминания — так, словно известие о них дошло до меня по какой-то загадочной космической связи и было забыто как слишком отвратительное и ужасное.
Но более заинтересовали меня во время исследования такие случаи — их было больше, — когда обычные для меня кошмары ненадолго, наскоком являлись людям, избежавшим полной амнезии.
В основном таких можно было отнести к умам посредственным, иногда настолько примитивным, что даже речи не могло быть о том, чтобы они сумели вместить сверхъестественный разум, обладающий способностями, немыслимыми для нас, людей. Лишь на секунду могли они оказаться во власти чуждого духа — но и мгновенное возвращение оставляло память о нечеловеческих ужасах.
За последнюю половину столетия такое случалось трижды, и в последний раз лишь пятнадцать лет назад. Неужели нечто, таящееся в неведомых безднах природы, на ощупь подыскивало в пространстве подходящий объект? Или же эти ничем, собственно, не завершившиеся случаи явились результатом чудовищных и гнусных экспериментов, делом существ, по природе своей и могуществу непостижимых для нормального людского рассудка?
Так размышлял я в часы слабости, и мифы, к которым обращалась моя мысль, подкрепляли мои фантазии. Усомниться было немыслимо: иные из мотивов известны были с незапамятной древности; о них не могли знать врачи — а тем более пораженные амнезией пациенты, чьи воспоминания потрясали и ужасали сходством с тем, что пришлось пережить мне.
Я до сих пор едва ли не со страхом обращаюсь к природе видений и впечатлений, становившихся все нагляднее; настолько безумны были они… Порой мне и в самом деле казалось, что я теряю рассудок. Неужели такие иллюзии посещают всякого, кто перенес подобный перерыв в памяти? Я не мог исключить, что мое подсознание, обнаружив зияющий пробел в памяти, пытается заполнить его псевдовоспоминаниями, способными породить странные прихотливые фантазии.
Эта мысль помогала — пусть, в конце концов, более приемлемой мне показалась альтернативная теория, основывающаяся на фольклоре. Многие специалисты, помогавшие мне в розыске сходных случаев, разделяли мое удивление, когда — это случалось нередко — обнаруживались точные соответствия.
Состояние мое безумием не называли, просто определяли его как невротическое расстройство. И мое желание проследить и выявить источник его, а не просто постараться все позабыть, признано было правильным и соответствующим всем принципам психологии. В особенности ценил я тогда мнения тех врачей, что обследовали меня в то время, когда в теле пребывала вторая личность.
Первые мои ощущения не носили визуального характера, они были связаны с более абстрактными материями, о которых я уже упоминал. Я и сам относился к себе с глубоким и необъяснимым ужасом. С непонятным страхом глядел я на собственное тело, словно глаза мои могли увидеть в зеркале нечто полностью не от мира сего, непостижимо мерзкое и отвратительное.
Опуская взгляд и замечая под скромной синей или серой тканью привычные очертания человеческого тела, я всегда ощущал странное облегчение — хотя для того, чтобы достичь его, мне приходилось преодолевать бесконечную жуть. Зеркал я избегал, если мог это сделать, и старался бриться у парикмахера.
Прошло немало времени, прежде чем мне удалось связать эти неприятные ощущения с короткими видениями, которые с некоторых пор начали являться мне. В первую очередь так вышло с тем странным барьером в моей памяти.
Я начал понимать, что обрывочные видения эти имеют глубинный и страшный смысл; весь ужас усугублялся тем, что они были связаны со мной самим, но чей-то преднамеренный умысел не позволял мне понять ни их смысл, ни отношение ко мне. А потом начались всякие странности со временем и отчаянные попытки разместить кусочки снов в каком-то порядке, последовательности и во времени, и в пространстве.
Сами видения на первых порах были скорее просто странными, а не ужасными. Я видел себя в огромной сводчатой палате, искусной работы каменные стрельчатые арки почти терялись в тенях над головой. Какое бы место и время ни представало передо мной, арка была здесь известна и обыденна — как в Древнем Риме.
Еще там были колоссальные круглые окна, высокие сводчатые двери, какие-то пьедесталы или столы высотой с обычную комнату. У стен — на громадных полках из темного дерева — теснилось нечто вроде невероятного размера книг со странными иероглифами на корешках.
Каменные стены повсюду покрывала резьба; с криволинейными математическими фигурами соседствовали надписи, сделанные теми же самыми знаками, что и на чудовищных книгах.
Темные гранитные стены складывались из огромных мегалитов, и блоки с выпуклым и вогнутым верхом чередовались, образуя волны на стенах.
Стульев не было, но огромные постаменты занимали книги, бумага… нечто, подобное писчим приборам: странные фигурные кувшины из красноватого металла и стержни с окрашенными торцами. Пьедесталы были высокими, но я-то глядел на них сверху. Кое-где на них располагались лампы — огромные шары из светящегося хрусталя — и загадочные машины, собранные из прозрачных трубок и металлических стержней.
Окна перекрывало что-то прозрачное и прочная на вид решетка. Хотя я не решался подойти поближе и выглянуть наружу, но со своего места мог видеть раскачивавшиеся верхушки деревьев с весьма характерной листвой. Пол выложен был массивными восьмигранными плитами; ковров или чего-нибудь похожего на гобелены я не заметил.
Потом я стал видеть себя передвигающимся по циклопическим помещениям, каменным коридорам, опускающимся и поднимающимся по наклонным пандусам, выложенным из того же самого камня. Лестниц не было вообще, проходы — не уже тридцати футов. Некоторые из сооружений, на крыши которых мне случалось подниматься, уходили в небо не менее чем на тысячу футов.
В подземельях несчетными рядами тянулись черные склепы, никогда не открывавшиеся двери их заложены были тяжелыми металлическими засовами, смутно намекавшими, что за дверью таится нечто опасное.
Должно быть, я считал себя пленником, поскольку ужас окутывал все, что мне приходилось видеть. Насмешливые и зловредные иероглифы на каменных стенах — я знал это — могли испепелить душу, не храни меня благодетельное невежество.
Позднее появились далекие виды — из круглых окон и с титанической крыши, с ее заманчивыми садиками, огромным плоским простором и высоким парапетом из округлых отдельных камней; к ней поднимался самый высокий из наклонных пандусов.
На бесконечные лиги тянулись среди садов шеренги гигантских зданий, выстроившихся вдоль мощеных дорог шириной не менее двухсот футов.
Внешне строения различались, но лишь некоторые в основании были меньше пяти сотен футов и высотой не превышали тысячи футов. Многие сооружения казались настолько огромными, что фасады их тянулись, должно быть, не на одну тысячу футов; холмами вздымались они к серому облачному небу.
Возведены они были из камня или бетона, повсюду стены обнаруживали ту самую волнистую кладку, что запомнилась мне. На ровных плоских крышах располагались сады, в основном огражденные зубчатыми парапетами. Иногда видны были террасы, постройки на них, просторные открытые площади посреди садов. На огромных дорогах заметно было движение, но поначалу я не мог разложить впечатления на детали.
Кое-где располагались невероятной величины каменные цилиндры, башнями возносившиеся высоко над остальными сооружениями. Происхождение их было иным, чем зданий вокруг; каменная кладка обнаруживала следы древности и обветшания. Сложены они были из квадратных базальтовых блоков и сужались к скругленной макушке. Эти башни не имели окон, даже узкой бойницы — только огромные двери подножия. Заметил я и строения более низкие — источенные вековой непогодой, обликом схожие с мрачными цилиндрами. И над каждым сохранившимся сооружением из базальтовых блоков словно висело облако жути и сгустившегося страха — как возле закрытых дверей в подземельях.
Вездесущие сады едва ли ужасали своим странным обличьем, разнообразием непривычной растительности, качавшейся под ветерком вдоль странных аллей, обставленных искусно обработанными монолитами. Доминировали невероятно огромные папоротники, некоторые зеленые, другие отвратительно бледного гнилостного цвета.
Над папоротниками вздымались огромные призрачные каламиты. Подобные бамбуку стволы их возносились на невероятную высоту. Сказочными кучками росли цикадовые, сменяясь причудливыми темно-зелеными кустами и деревьями, похожими на хвойные.
Маленькие и блеклые цветы трудно было заметить, они росли в клумбах буквально повсюду, образуя геометрические узоры.
Кое-где на террасах и в садах на крышах пестрели цветы, явно искусственной природы — более крупные и яркие, почти кричащей расцветки. Грибы немыслимой величины в фантастическом изобилии форм и цветов усеивали все вокруг, что говорило о неизвестной мне, но вполне устоявшейся агрокультуре. В садах пообширнее — на земле — еще пытались сохранить некоторую природную иррегулярность, но на крышах растительность свидетельствовала о глубоких познаниях в земледелии и о развитом декоративном искусстве.
Небо почти всегда оставалось дождливым и пасмурным, иногда вроде бы случались жуткие ливни. Однажды, кажется, вдруг проглянуло солнце — оказавшееся слишком большим, другой раз луна — пятна на ней располагались не так, как обычно, — но различия так и остались за пределами моего разумения. Когда — крайне редко — на ночном небе появлялся просвет, выступившие на нем звезды редко складывались в известные мне созвездия. Изредка случалось заметить привычные очертания, и по положениям немногих знакомых групп звезд я мог судить, что нахожусь где-то в Южном полушарии Земли, невдалеке от тропика Козерога.
Горизонт вечно казался туманным и неразличимым, но я угадывал вдали огромные джунгли, где росли таинственные древовидные папоротники, каламиты, лепидодендроны и сигиллярии, что словно в насмешку надо мной шелестели своей фантастической листвой в ползущих туманах. То там то здесь в небе мелькали движущиеся тени, но ранние видения не открывали мне их природы.
К осени 1914 года я начал видеть сны о том, как странным образом проплываю над городом или ближайшими его окрестностями. Я видел неописуемые дороги через леса, заросшие жуткими растениями с пятнистыми, желобчатыми и перетянутыми стволами; дороги уходили к другим городам, столь же странным, как и тот, чьи виды настойчиво являлись мне.
На полянах посреди лесов, где царил вечный сумрак, я видел чудовищные сооружения, выложенные из черного или радужного камня, потом парил над болотами — такими мрачными, что и теперь не могу сказать ничего определенного об их сочной высокой растительности.
Однажды подо мной оказались источенные веками базальтовые руины; остатки стен напоминали те лишенные окон башни с округлым верхом, что высились в городе.
И один только раз я видел море — беспредельный простор под клубами тумана за колоссальным каменным пирсом в городе безмерных куполов и арок. Огромные бесформенные тени скользили над водой, там и сям с поверхности ее вздымались весьма подозрительного вида фонтаны.
Глава 3
Но я уже говорил, что не эти безумные картины вселяли в меня ужас. Многим случалось видеть во сне и более странные вещи… сложившиеся, повинуясь капризам сна, в фантастические образы из несвязных обрывков повседневности, впечатлений от прочитанных книг и от картин.
Некоторое время я считал свои видения естественными, несмотря на то, что прежде не был подвержен экстравагантным снам. Многие из этих странных картин, полагал я, можно считать порождением тривиальных источников, чересчур многочисленных, чтобы легко было выделить влияние каждого; фон же видений казался сошедшим со страниц какой-нибудь книги о растениях и природе древних времен… о мире, существовавшем сто пятьдесят миллионов лет назад, во дни перми или триаса.
Но месяцы шли, и видения становились ужаснее. Именно тогда сны мои начали неотвратимо приобретать облик воспоминаний; ум мой стал увязывать видения с нараставшей смутной тревогой, с напрасными попытками вспомнить минувшее и безумным представлением о времени, которым наделила меня мерзкая моя вторая личность, а также неоднократно испытанным необъяснимым отвращением к себе самому.
По мере того как во снах стали появляться новые подробности, порождаемый ими ужас возрастал тысячекратно… Наконец, в октябре 1915 года я осознал, что следует что-либо предпринять. Тогда я и приступил к изучению разных случаев амнезии и занялся содержанием видений, полагая, что таким образом сумею выявить причины своей хвори и вырваться из ее эмоциональной хватки.
Однако, как я уже упоминал, на первых порах результат оказался полностью противоположным. Меня глубоко встревожило, что подобные сны с прискорбным постоянством наблюдались и у других людей, тем более что известия о подобных случаях оставались со времен, предшествовавших началу геологического познания мира, когда о первобытных ландшафтах ничего еще не было известно.
Более того, видения эти нередко содержали ужаснейшие подробности — в том, что касалось огромных зданий и буйных садов. И сами наваждения, и эти впечатления от них полны были скверны, о чем свидетельствовали с той или иной степенью уверенности и другие визионеры, впавшие в безумие и кощунство. Но что хуже всего, моя собственная псевдопамять теперь порождала еще более дикие сны, обнаруживала знаки грядущего откровения. Впрочем, большинство врачей в целом одобряли мой образ действий и рекомендовали продолжать в этом же духе.
Я систематически занялся психологией; покоряясь властному стимулу, сын мой Уингейт последовал примеру отца, и углубленные занятия в конце концов привели его к профессорскому званию. В 1917 и 1918 годах я прослушал в Мискатонике специальные курсы. К тому времени труды мои над медицинскими, историческими и антропологическими анналами сделались неустанными, я начал ездить в далекие библиотеки и даже приступил к чтению тех самых мерзких книг об основах запретных наук, которыми столь возмутительным образом интересовалась моя вторая личность.
Иногда я получал те же самые экземпляры, к которым уже обращался и в измененном состоянии. И тогда мне случалось испытывать истинное потрясение, ибо нанесенные на полях заметки и поправки гнусных текстов обнаруживали поистине нечто нечеловеческое.
Надписи на полях делались по большей части на том же языке, на котором была написана книга. Оставивший их явно владел материалом с академической непринужденностью. Впрочем, одна из пометок на полях «Неупоминаемых культов» фон Юнцта оказалась совершенно иной — и жуткой. Сделана она была какими-то кривыми иероглифами — теми же самыми чернилами, что и поправки в немецком тексте, но так, словно писал не человек. Иероглифы эти были, без сомнения, сходны со знаками, которые я то и дело видел во снах — по временам мне даже казалось, что я понимаю их смысл или вот-вот начну понимать.
Полностью повергли меня в черное смятение библиотекари, заверившие меня в том, что, с учетом предыдущих проверок просмотренных мною томов, все пометки могли быть сделаны только мною самим — в прежнем состоянии. И все это несмотря на то, что я и тогда не знал, и теперь не знаю трех языков из числа тех, к которым прибегала моя вторая личность. Складывая воедино разбросанные сведения, древние и новые, медицинские и антропологические, я составил вполне правдоподобную смесь мифа и галлюцинации, масштабы и буйство которой совершенно ошеломили меня. Утешало одно: мифы относились ко временам весьма ранним. Из каких забытых познаний могли донестись впервые сведения о палеозойском или мезозойском ландшафте, примитивные сказки, я не мог и представить… но места сомнениям, увы, не оставалось: именно такие виды являлись фоном для вполне определенных событий.
Общая схема мифов, конечно же, была порождена случаями амнезии; но со временем замысловатое порождение само стало воздействовать на страдавших амнезией, расцвечивая псевдовоспоминания подробностями. Еще со времен обретения памяти мне были знакомы все ранние случаи, и теперешнее исследование только все подтвердило.
Кое-какие из мифов обнаруживали многозначительное родство с туманными легендами, оставшимися от дочеловеческого мира, в особенности хорошо сохранившимися у индусов — при ошеломляющей временной глубине их сказаний, положенных в основу нынешней теософии.
Первобытные мифы и видения безумцев нашего времени сходились в одном: человечество только одна из рас — не исключено, что самая скромная, — возникавших и доминировавших на этой планете за всю ее долгую и по большей части неведомую людям жизнь. Создания, чей облик неведом людям, утверждалось в сказаниях, вздымали к небу свои башни, погружались во все тайны природы задолго до того, как самый первый, земноводный еще предок человека выполз на бережок из теплого моря за триста миллионов лет до наших дней.
Некоторые расы спускались на Землю из космоса, другие же были древними, словно само Творение, третьи вырастали из засеянных в землю семян, далеко превосходящих то семя, что породило наш цикл жизни. Мифы говорили о тысячах миллионолетий, о связи с иными галактиками и вселенными. И о том, что самого времени в нашем человеческом восприятии не существует.
Однако по большей части и сказания, и впечатления относились к расе относительно поздней — замысловатое обличье ее не было сходно ни с чем известным науке, — жившей лишь за пятьдесят миллионов лет до человечества. Это и была, утверждали они, самая великая из рас, потому что она одна сумела овладеть секретом времени. Ей было известно все, что знали тогда, и все то, что будут еще знать на Земле, потому что силой разума мудрецы ее умели на миллионы лет переноситься в прошлое и будущее — чтобы изучать познания всякого века. Свершения этой расы и породили легенды о пророках, в том числе и в человеческой мифологии.
В огромных библиотеках ее хранились тома и изображения, объемлющие всю историю Земли — анналы и описания каждого вида разумных существ, что были или еще будут, и сведения об искусстве, достижениях, речи и психологии каждого из них.
Обнимая знанием целый эон, Великая Раса извлекла из каждой эры и жизненной формы такие мысли, искусства и умения, которые могли послужить ей наилучшим образом в соответствии с ее природой. Постижение прошлого путем пересылки разума в давние времена за пределы всяких привычных чувств давалось им куда труднее, чем исследование будущего.
В последнем случае все происходило легче и в более материальной форме. С помощью некоторых инструментов разум отправлялся в грядущее, слепым экстрасенсорным способом прощупывая его, пока не попадал в нужные времена. Там, после предварительных проб, он овладевал лучшим из попавшихся ему представителей высочайшей жизненной формы этих времен, входил в мозг этого создания и устанавливал в нем собственные вибрации. Тем временем вытесненный разум прежнего владельца откатывался назад, ко временам, откуда явился непрошеный гость, и оставался в его теле, пока тот не производил обратный переход.
Спроектированный в будущее разум, обретая обличье той расы, в теле члена которой он воплощался, как можно более спешно приступал к изучению всех познаний нового века.
Разум, отброшенный в прошлое, попадал в тело существа давнишней эпохи, его тщательно охраняли. Тело, в котором он обитал, оберегали от повреждений, которые способен был причинить своему вместилищу неловкий временный обитатель, ну а все его познания умело извлекали из его памяти опытные в этом деле специалисты. Иногда с ним даже беседовали на его родном языке — если предыдущие вылазки в будущее успели доставить сведения о его речи.
Если вытесненный разум принадлежал телу, речь которого Великая Раса не могла воспроизвести, создавались умные устройства, словно музыкальный инструмент, издававшие чуждые звуки.
Внешне члены Великой Расы представляли собой огромные морщинистые конусы десяти футов в высоту; голова и прочие органы крепились к толстым, в фут, вытяжным конечностям, находившимся вверху тела. Разговаривали они, пристукивая или царапая огромными клешнями или когтями на конце двух из четырех конечностей, а ходили, выбрасывая и подтягивая вязкий слой на десятифутовой подошве тела.
Когда изумление и тревога пленного разума ослабевали — если происходил он из тела, обличьем отличавшегося от Великой Расы, — когда пленник переставал испытывать ужас от незнакомого, пусть и временного обиталища, ему позволяли заняться изучением окрестностей, познать великие чудеса мудрости, доступные истинному хозяину этого тела.
За некоторые услуги ему со значительными предосторожностями позволяли переноситься над всем обитаемым миром в титанических воздушных судах или же ездить по широким дорогам в колоссальных наземных машинах, похожих на лодки, только снабженных атомными двигателями. Еще разрешали без ограничений рыться в библиотеках, знакомиться с прошлым и будущим планеты.
Подобное примиряло пленников с собственной участью; все попавшие сюда обладали тонким умом, и познание сокровенных тайн Земли, потаенных в ее прошлом секретов, головокружительных водоворотов грядущего, на несчетные века опережающих достижения науки их собственного времени, невзирая на все ужасы, связанные с пребыванием в чужом теле, приносило узникам высшее удовлетворение.
Пленникам позволялось встречаться с другими невольными гостями из будущего — каждый мог обменяться мыслями с разумом, жившим за сотню, тысячу или миллион лет до него или после. И всех поощряли усердно писать о себе и своем времени на родном языке, а документы эти передавались в огромный главный архив.
Можно добавить, что одной группе пленников предоставлялись большие привилегии, чем всем остальным. Это были те, чьими телами в грядущем сумели овладеть хитроумные члены Великой Расы, которым в своем времени грозила неизбежная смерть.
Эти грустные силуэты встречались куда реже, чем мы могли бы предположить: долголетие членов Великой Расы уменьшало их любовь к жизни, особенно среди высших умов ее, способных перемещать свой разум во времени. Случаи подобного невозвращения послужили основой для многих известных истории случаев преображения личности, в том числе и среди рода людского.
Обычно же исследователь будущего, постигнув все, что интересовало его в данном времени, сооружал аппарат, подобный тому, который отправил его в грядущее, и повторял процесс проекции в обратном порядке. Оказавшись в собственном теле и в собственном времени, он отправлял заточенную душу назад — в присущие ей времена.
Обмен этот оказывался невозможным лишь когда то или другое из тел погибало. В таких случаях, конечно, исследователю приходилось, подобно спасавшимся от смерти, оставаться в будущем и жить в ином теле, а заточенному разуму предстояло окончить жизнь в обличье Великой Расы и во дни ее бытия.
Такая судьба оказывалась не столь ужасной, если пленник сам принадлежал к этой расе: подобное случалось нередко, ибо во все времена Великая Раса была озабочена собственным будущим. Члены Великой Расы редко умирали в вечном изгнании — в основном из-за ужасных кар, назначенных за вытеснение собственных потомков из будущего.
Проекция разумов позволяла разыскать таких преступников и в новых телах, иногда их вынуждали совершать обратный обмен.
Случались и сложные случаи вытеснения разумов — если этому подвергался исследователь или его жертва, такие ситуации старались немедленно исправлять. После освоения проекции разумов во все времена крохотная, но открытая для узнавания часть населения всегда состояла из членов Великой Расы, заявившихся в будущий век на тот или иной срок.
Перед возвращением в собственное время пленный разум с помощью сложного механического гипноза освобождался от сведений, приобретенных им во времени Великой Расы, — из-за определенных негативных последствий передачи знаний в будущее.
Редкие случаи сохранения познаний, случалось, вызывали или вызовут ужасающие последствия. Как гласят древние мифы, человечество узнало о Великой Расе от двух прежних пленников.
От этого мира, удаленного от нас на эоны, до нашего времени дошли только остатки руин в далеких краях и на дне океана, да еще часть текста гнусных Пнакотических рукописей.
Так побывавший в плену разум возвращался в собственный век, обладая лишь смутными, крайне отрывочными воспоминаниями о том, что с ним происходило. Он забывал все, что можно было стереть, так как в большинстве случаев оставалась лишь полоса забытья, нарушаемого лишь редкими снами. Некоторым, впрочем, удавалось кое-что вспомнить, и о запретной древности узнавали в грядущих веках.
В истории Земли, наверное, не было ни одного мгновения, когда кто-нибудь из ее обитателей тайком не поклонялся обрывкам древнего знания, создавая гнусные культы. «Некрономикон» свидетельствовал о существовании подобного культа и среди рода людского, что было полезно для разумов, посылаемых Великой Расой в отдаленное будущее.
Тем временем Великая Раса добилась всеведения и обратилась к общению с умами иных планет, к исследованию будущего и прошлого далеких миров. Обратилась она и к собственному прошлому, к происхождению того черного, целую вечность назад погибшего шара в далеком космосе, что породил ее собственных предков — ведь разум Великой Расы возрастом превосходил ее телесное обличье.
Порожденные уже умирающим древним миром, наделенные знанием предельных тайн, отыскали они новую планету с существами, в телах которых могли обитать долго и благополучно, и однажды разом переселились в ту будущую расу, что наилучшим образом подходила им, — в тела конусовидных существ, живших на нашей Земле миллиард лет назад.
Так на Земле возникла Великая Раса, а мириады вытесненных ею умов были отброшены на гибнущую планету, чтобы в ужасе умереть там в невозможных, непостижимых телах. Кончина ожидала Великую Расу и на новом месте, но она выжила снова, переправив лучшие свои умы дальше в будущее — в тела иных существ, тех, что сменят на Земле человечество.
Так переплелись легенды и галлюцинации. И в 1920 году, приводя в порядок результаты своих исследований, я ощутил, как постепенно ослабевает напряженность, которую разбудило во мне начало работ. В конце концов, невзирая на разгул фантазий, порожденных слепыми эмоциями, разве не нашлось рационального объяснения всему пережитому мной? Чистая случайность могла обратить меня во время амнезии к чернокнижию, к древним и гнусным культам. Они-то и поставили весь материал для снов, послужили причиной волнений после возвращения.
Что касается заметок на полях — нанесенных знакомыми иероглифами или на неизвестных еще языках, — разве не мог я ознакомиться с языками во время беспамятства? Иероглифы же, вне сомнения, представляли только плод моей собственной фантазии, незаметно проникший в сновидения. Я даже решил было установить некоторые опорные точки, переговорив с наставниками черных культов, но так и не сумел нащупать нужные связи.
Временами сходство случаев, разбросанных по самым разным векам, угнетало меня, но, с другой стороны, я сумел заметить, что подобные сказания в прошлом были более распространены, чем теперь.
Конечно, все остальные жертвы подобной судьбы давно и детально знали те повествования, которые я узнал во втором существовании. И когда они теряли память, то невольно отождествляли себя с существами из знакомых миров — сказочными врагами из иного мира, похищающими рассудок людей в поисках знаний, чтобы взять их обратно с собой, в придуманное, как им казалось, нечеловеческое прошлое.
Когда память вновь возвращалась к ним, они уже представлялись себе бывшими пленниками, а не вытеснителями. Так, следуя канве традиционного мифа, возникали сны и псевдовоспоминания.
Невзирая на кажущуюся тяжеловесность подобных объяснений, в конце концов они вытеснили все прочие из моей головы — в основном вследствие слабости конкурирующих теорий. И довольно значительное количество видных антропологов и психологов постепенно согласилось со мною.
И чем больше я размышлял, тем более убедительными казались мне собственные аргументы; наконец я возвел из них надежную стену, ограждавшую меня от видений и снов, по-прежнему мне досаждавших. Пусть я вижу странные сновидения — в них нет ничего такого, о чем бы я не читал и не слышал. Пусть я ощущаю странное отвращение, вижу странные виды, обладаю псевдовоспоминаниями — они лишь отзвуки миров, усвоенных мной во вторичном состоянии. И никакие, никакие ощущения не могут иметь реального значения.
Укрепленный подобными мыслями, я достиг куда большего нервного равновесия, хотя видения — теперь уже не абстрактные впечатления — приходили все чаще и являли глазу все более возмутительные подробности. В 1922 году я ощутил в себе силы вновь приняться за постоянную работу и обратил к собственной пользе приобретенные мною познания, приняв должность преподавателя психологии в университете.
Прежнее мое место на кафедре политической экономии давно уже нашло достойного заместителя, к тому же и методы преподавания экономики успели значительно измениться. Сын мой в то время как раз окончил университет и приступил к исследованиям, сделавшим его профессором, — и мы хорошо поработали вместе.
Глава 4
Тем не менее я продолжал тщательно регистрировать qutre[53] сновидения, с такой частотой и отчетливостью являвшиеся мне. Подобные заметки, как я полагал, имели несомненную ценность в качестве психологического документа. Видения приобретали навязчивый облик воспоминаний, и этому чувству я с некоторым успехом противился.
В своих заметках я полагал фантасмагории эти реальными, но вообще старался о них забыть — как и подобает обращаться с пустыми ночными иллюзиями. Я ни с кем не заводил разговоров о подобных вещах, однако известия о существовании моих записей тем не менее пробивались наружу, возбуждая в обществе всяческие кривотолки о моем душевном здоровье. Впрочем, интересно отметить, что подобные слухи распространялись только среди обывателей, не сыскав даже одного сторонника между врачами и учеными.
Из всех видений 1914 года я упомяну лишь некоторые, поскольку серьезному исследованию нетрудно получить более полный и надежный отчет. Со временем сила загадочного ограничения, наложенного на мою память, явно ослабевала. Тем не менее воспоминания так и остались разбросанными обрывками, не составляющими цельной последовательной картины.
В снах моих я постепенно обретал все большую и большую свободу передвижения. Я проплывал по коридорам каменных сооружений, скользил по подземным ходам, явно бывшим в этих краях обычными путями сообщения. Иногда я вновь оказывался на нижнем уровне, перед гигантскими замкнутыми дверьми, окруженными извечной аурой страха и запрета.
Я видел огромные обложенные мозаикой бассейны, комнаты, уставленные загадочной утварью. А потом появились пещеры, полные сложных машин; их очертания и назначение удивляли меня, даже издаваемый ими звук я сумел ощутить в своих снах лишь через многие годы. Могу добавить, что в привидевшемся мне мире я обладал лишь слухом и зрением.
Истинный ужас начался в мае 1915 года, когда я увидел во сне нечто живое. Это случилось еще до того, как мои исследования мифов и истории болезни открывали мне, чего именно следует ожидать; когда ментальные преграды начали обрушиваться, я стал замечать облака тонкого тумана в разных частях зданий и на улицах подо мной.
Постепенно они обретали облик и форму, и наконец чудовищные эти обличья стали являться глазу с безрадостной четкостью. Я начал видеть повсюду огромные радужные конусы высотой футов десять и столько же в основании, покрытые какой-то гребнистой и чешуйчатой, упругой на вид субстанцией. Из верхушки их выдавались четыре гибких цилиндрических члена, каждый в фут толщиной, покрытых той же гребнистой кожей, что и они сами.
Иногда эти члены втягивались внутрь, почти исчезая; иногда образовывали конечности длиной до десяти футов. Два из них заканчивались огромными клешнями или когтями. На конце третьего виднелось четыре красные воронки, четвертый оканчивался неправильной формы желтым шаром около двух футов в диаметре, по периметру которого находились три больших темных глаза. С нижней стороны этой странной головы свисали восемь зеленоватых антенн или щупалец.
Окружали ее четыре тонких серых стебелька, заканчивавшихся каким-то подобием цветка. Понизу конус обрамляла полоса резинообразной серой субстанции. Сжимая и растягивая ее, существо передвигалось.
Даже абсолютно безвредные действия этих созданий ужасали меня еще больше, чем их вид, — гнусно видеть, как чудища делают такое, на что, по нашему мнению, способны только человеческие существа. Конусы эти вполне осмысленно передвигались по комнатам, брали книги с полок, клали их на огромные столы или же производили эти действия в обратном порядке… Иногда они вполне осознанно что-то писали особыми стержнями, используя для этого зеленоватые головные щупальца. Огромными клешнями они пользовались для переноски книг или при разговоре. Речь их складывалась из постукиваний.
Твари эти не носили одежды, лишь в верхней части конического тела было прикреплено нечто вроде сумки или рюкзака. Голова и поддерживающий ее член располагались обычно вровень с верхушкой конуса, хотя существа эти, случалось, поднимали и опускали ее.
Остальные три большие конечности обычно покоились по бокам конуса, сокращаясь футов до пяти, если не были в употреблении. По скорости чтения, письма и управления машинами — те, что были расставлены на столах, некоторым образом управлялись мыслью — я заключил, что интеллект конусов во много раз превосходит людской.
В последующих видениях я видел их уже повсюду: они расхаживали по огромным палатам и коридорам, обслуживали огромные машины под сводами валов, носились по просторным дорогам в гигантских машинах, похожих на лодки. Я перестал бояться, конусы эти теперь стали казаться мне в высшей мере естественной частью моего окружения.
Я начал различать отдельные особи. Некоторые из них, казалось, находились в угнетенном состоянии. Ничем особым внешне не отличаясь, впечатление это они производили своими жестами и привычками, разными у каждого и совершенно иными, чем у большинства конусов.
Все много писали — и даже мой затуманенный взгляд свидетельствует об этом, — но пользуясь разными типами букв, а не теми обычными криволинейными иероглифами, которые были в ходу у конусов. Некоторые из них, как мне кажется, пользовались даже европейским алфавитом. Работали они по большей части куда медленнее, чем прочие существа.
И все это время я казался себе самому развоплощенным разумом, свободно парящим вокруг, видящим более, чем обычное существо, но все же привязанным к обычным путям и способам передвижения. До августа 1915 года никакие телесные ощущения не смущали меня. Я говорю «не смущали», ибо первая фаза была достаточно абстрактной, хотя и безгранично ужасной, — со сценами из видений увязывалось уже отмеченное прежде отвращение к собственному телу.
Какое-то время во снах я стал стараться не глядеть вниз — на себя самого. Помню ту радость, которую чувствовал оттого, что в странных комнатах вовсе не было зеркал. И все же постоянно беспокоило то, что огромные столы — высотой не менее десяти футов — я видел как бы сверху или сбоку, но не снизу.
Ну а потом отвратительное искушение взглянуть на себя стало сильнее и сильнее, и однажды ночью во сне я уже больше не мог противиться ему. Сперва обращенный вниз взгляд совсем ничего не обнаружил. Чуть позже я понял: это оттого, что голова моя оказалась на конце невероятно длинной шеи. Втянув шею внутрь и внимательно приглядевшись, я заметил чешуйчатое кожистое тело в радужных разводах… десять футов вышиной и десять в основании… Выскочив из пропасти сна, воплем своим я, наверное, поднял пол-Аркхема. Потребовались недели ужаса, переживаний… прежде чем я сумел привыкнуть к своему чудовищному обличью. В новых снах я уже в телесном виде двигался среди прочих существ, брал ужасные книги с бесконечных полок и, часами оставаясь возле стола, писал длинным стилом, который сжимало зеленое щупальце, свисавшее под головою.
В памяти моей стали возникать обрывки того, что я читал или записывал. Я знакомился с ужасающими анналами других миров и вселенных, узнавал о бесформенном и грозном шевелении жизни, заключающей в себе все вселенные. Повествования о странных созданиях, населявших наш мир в забытом прошлом, перемежались жуткими хрониками существ, чьи немыслимые тела будут обитать на нашей планете через миллионы лет после смерти последнего человека.
Я читал главы из истории человечества — ни один из ученых наших дней даже не подозревает об их существовании. В основном записи эти были сделаны иероглифами. Язык этот я изучал с помощью каких-то непонятных жужжащих машин, он явно относился к агглютинирующим, но система корней полностью отличалась от существующей в человеческой речи.
Тома, написанные на других неведомых языках, я изучал тем же странным способом. Знакомыми мне буквами записано было не так уж много. Невероятно помогали мне исключительно точные рисунки, помещенные среди текста или переплетенные в отдельные тетради. Чтение я перемежал трудами — писал на английском историю нашего времени. Просыпаясь по утрам, я помнил крохотные бессвязные отрывки текстов на неведомых языках, которые выхватывала из мира слов моя память, а из собственной истории даже целые фразы не разлучались со мной.
Так я узнал — даже во сне изучая сходные случаи и древние мифы, конечно же, породившие мои сны, — так я узнал, что нахожусь среди членов величайшей расы нашей планеты, покорившей само время и разославшей пытливых исследователей во все его концы. Я теперь понимал, что был выхвачен из собственного времени, что другой разум тем временем пользуется моим телом и что в телах некоторых странных созданий возле меня заключены подобные мне плененные умы. Странным образом пристукивая своими клешнями, мне случалось говорить с мудрецами, попавшими сюда тем же путем, что и я сам, изо всех уголков Солнечной системы.
Был среди нас тонкий ум с планеты, которую мы называем Венерой, ему еще предстоит жить… через неисчислимые годы, через геологические эпохи. Другой мудрец был родом с одной из внешних лун Юпитера, он обитал там шесть миллионов лет назад. Среди землян попадались и представители звездоголовой крылатой, но полурастительной расы, населявшей Антарктику в палеозое; один разум был из числа разумных ящеров из сказочной Валусии; трое душ мохнатых гиперборейцев, предшественников человека, почитателей Цатоггуа; разум абсолютно мерзкого Чо-Чо; души двоих жителей Земли из последней эпохи ее — века арахнидов[54], пятеро выносливых колеоптеров[55], что будут наследовать нам, людям. В их тела Великая Раса вольет свой могучий разум, отступая перед лицом ужасной угрозы. Обитали там и души нескольких людей, принадлежавших к разным ветвям человечества.
Я беседовал с разумом Янь Ли, философа из жестокой империи Тцан-Чан, что грядет в пятом тысячелетии Anno Domini[56]; вождем большеголового народа, распоряжавшегося Южной Африкой за пятьдесят тысяч лет до Христа; с Бартоломео Кореи, флорентийским монахом двенадцатого столетия, а еще с королем Ломара, правившим в суровой полярной земле сотню тысячелетий назад, прежде чем низкорослые желтокожие инуиты явились с запада, чтобы захватить ее.
Говорил я с разными умами: Нуг-Сота, колдуна чернокожих завоевателей шестнадцатого тысячелетия новой эры, и с римлянином по имени Семпроний Блезий, квестором, жившим во времена Суллы; с Хефне, обитавшим в Египте при четырнадцатой династии, — он-то и поведал мне про мерзкого и загадочного Ньярлатотепа; и со жрецом времен Среднего Царства Атлантиды; и с джентльменом из Саффолка Джеймсом Вудвиллом, доставленным сюда из времен Кромвеля; с разумом придворного астронома перуанского королевства, существовавшего еще до инков; и с австралийским физиком Невиллом Кингстон-Брауном, которому суждено умереть в 2518 году от Р. X.; с архимагом потонувшей в тихоокеанских глубинах Ики, и с Теодотидом, грекобактрийским чиновником, жившим за двести лет до Христа, и с пожилым французом Пьером-Луи Монтаньи, состарившимся при Людовике XIII, и с Кром-Я, вождем киммерийцев, что жил в пятнадцатом тысячелетии до Р. X., и еще со многими… И разум мой не в силах теперь хранить ужасные тайны и потрясающие чудеса, о которых мне довелось узнать от них.
Каждое утро я просыпался в лихорадочном возбуждении, иногда отчаянно пытаясь подтвердить или опровергнуть ту информацию, которая укладывалась в рамки современных познаний. Известные факты становились шаткими и сомнительными, и я удивлялся играм фантазии, способной порождать в сновидении столь удивительные поправки к истории и науке.
Я только поеживался, представляя себе тайны, что могли укрываться под пологом прошлого, трепетал от ужасов, которые способно породить грядущее. Существа, принадлежащие к расе, которая унаследует от человечества Землю, поведали мне о конце рода людского такое, чего лучше вовсе не упоминать.
После человека возникла могущественная цивилизация жуков, телами которых избранные умы Древней Расы овладеют, когда на стародавний мир обрушится чудовищная судьба. Потом, на исходе существования самой Земли, разум расы вновь перенесется через пространство и время — на место новой остановки — в тела клубнеобразных, растительных по природе обитателей Меркурия. Но даже после этого на Земле еще будут возникать новые расы, патетически льнущие к остывающей планете, зарывающиеся в полную ужасов земную кору, и так до самого конца.
Но там, во снах, я все писал для главных архивов свою историю нашего времени — наполовину по собственному желанию, наполовину расплачиваясь за обещанные путешествия и посещения новых библиотек. Архивы Великой Расы сохранялись в колоссальном подземном сооружении возле городского центра — я это знаю потому, что часто бывал там и беседовал о разном. Сооружение это должно было хранить документы, пока существует раса, выдерживать самые страшные из содроганий Земли, посему титаническое хранилище превосходило все прочие сооружения весом и прочностью блоков, напоминая пещеры, устроенные внутри скалы.
Все, что писалось или печаталось на огромных листах невероятно стойкой целлюлозной ткани, переплеталось в книги, листы которых соединены были сверху наподобие блокнота; их хранили в тонких футлярах — из неизвестного металла, крайне легкого, нержавеющего, с серым отливом, — украшенных математическими узорами, на которых скругленными иероглифами Великой Расы выведены были названия.
Футляры эти хранились на стеллажах из того же самого металла, снабженных замысловатыми витыми ручками. Собственной моей истории отведено было особое место в хранилищах низшего уровня, где хранились материалы по истории позвоночных: в секции, отведенной культурам человечества и мохнатой и ящероподобной рас, предшествовавших нам во владычестве над Землей.
Но ни разу сон не позволил мне воспроизвести последовательность событий одного дня. Я видел всегда туманные, несвязанные и хаотически сменявшие друг друга отрывки. Например, я весьма смутно представляю себе помещение, где обитал в этом призрачном мире… Впрочем, кажется, мне была предоставлена огромная комната. Ограничения на мою свободу постепенно снимались, и некоторые из видений напоминают мне об интересных поездках по могучим дорогам, протянутым через джунгли, о недолгом пребывании в странных городах, о руинах… огромных, мрачных, лишенных окон… Даже сами члены Великой Расы избегали их в непонятном страхе. Совершал я и долгие морские вояжи в огромных многопалубных кораблях, с необыкновенной быстротой несущихся по волнам, и полеты над дикими краями в замкнутых, похожих на снаряд летательных аппаратах, поддерживаемых силой электрического отталкивания.
За широким теплым океаном тоже высились города Великой Расы, а на одном из далеких континентов я видел примитивные деревни черномордых крылатых тварей, которые породят новую доминирующую расу, после того как Великой Расе придется, спасаясь от ползучего ужаса, отослать в будущее лучшие умы. Равнины и зелень повсюду окружали меня. Редкие горы были невысоки и обычно обнаруживали признаки вулканизма.
О животных, которых мне приходилось видеть, можно было написать целые тома. Все они оставались дикими; механизированная культура Великой Расы давно покончила с домашними зверями, пища же была целиком растительной или синтетической. Неуклюжие огромные рептилии паслись во влажных лугах, били крыльями в густом воздухе, подымали волны в морях и озерах; среди них, как мне казалось, можно было различить небольших еще прародителей многих архаических существ — динозавров, птеродактилей, ихтиозавров, лабиринтодонтов, плезиозавров и подобных им тварей, с которыми нас познакомила палеонтология. Ни птицы, ни млекопитающие мне не попадались.
Земля и болота постоянно были в движении: там ползали змеи, ящерицы и крокодилы. Среди сочной листвы напряженно гудели разные насекомые. Далеко от берега неведомые, невиданные чудовища вздымали к пасмурным небесам гороподобные столбы пара. Однажды меня взяли под воду в оснащенной прожекторами субмарине, и я увидел разные живые страхи, воистину потрясающие своей величиной. Видел я и руины немыслимых затонувших городов, и расцвет подводной жизни: криноидеи[57], брахиоподы[58]; кораллы, рыбы изобиловали повсюду.
О психологии, праве и подробной истории Великой Расы видения мои донесли весьма немного информации, и все, что я заношу сюда, в основном было извлечено из древних легенд и известных мне историй болезни, а не из моих видений.
Со временем, конечно, чтение и раздумья принесли свои плоды и стали опережать приход видений, так что смысл некоторых отрывков я сумел постичь заранее, подтверждая таким образом то, что мне уже удалось узнать. Это утешило меня и укрепило уверенность в том, что схожее чтение и интересы моей второй личности и явились основой всей ужасной ткани псевдовоспоминаний.
Сны мои относились ко времени, удаленному от нашего примерно на 150000000 лет, — рубежу палеозойской и мезозойской эры. Тела, в которых обитала Великая Раса, не оставили известных науке потомков не только среди ныне живущих и даже вымерших существ, они представляли собой особый, почти гомогенный и в высшей степени специализированный тип, занимавший промежуточное положение между животным и растительным мирами.
Уникальное строение клеток их организмов исключало усталость, не имели они и нужды во сне. Пища, всасываемая через красные воронки-отростки на одной из больших гибких конечностей, обычно была полужидкой, и состав ее во многом не был похож на питание ныне живущих существ.
Существа, приютившие разум Великой Расы, были наделены двумя знакомыми нам чувствами — зрением и слухом, органами которого служили подобные цветкам завершения серых стеблей над их головой, Кроме них они обладали некоторыми чувствами, чуждыми людям. И разум, далекий от Великой Расы, даже вселяясь в тело, не мог овладеть им в полной мере. Три глаза располагались вокруг головы, и поле зрения их было шире, чем у человека. Кровь же представляла собой некий густой темно-зеленый ихор.
Среди них не было полов, размножались они семенами, или скорее спорами, выделявшимися из основания конусов и развивавшимися лишь под водой. Молодь их росла в огромных и легких баках, впрочем, молодых выращивали немного — в связи с долголетием отдельных личностей; в среднем существо, принадлежавшее к Расе, жило четыре-пять тысяч лет, от обнаруживавших какие-либо дефекты немедленно избавлялись. Лишенные осязания и физической боли, о заболеваниях и приближении смерти они судили по внешнему виду.
Мертвых кремировали с уважением и почетом. Время от времени кому-нибудь из особо смышленых удавалось избежать смерти, отправляя разум в грядущее, но такое происходило нечасто. И когда подобное случалось, к разуму, изгнанному из будущего, относились с предельной добротой до самого распадения живой темницы, в которую был заточен невольный гость.
В общественном отношении Великая Раса как будто образовывала единую нацию или вольный союз, имевший общие главные институты, но подразделявшийся на четыре крупные части. Политико-экономическая система в каждой из них представляла собой нечто вроде гибрида фашизма и социализма: основные ресурсы подлежали рациональному распределению, вся власть была предоставлена небольшому правительству, избранному голосами тех, кто способен был успешно пройти определенные образовательные и психологические тесты. Семейные отношения не подчеркивались, но общее происхождение признавалось, и молодежь по большей части воспитывали родители.
Наибольшее сходство с человеческими учреждениями и привычками проступало в тех областях, где приходилось иметь дело с абстрактными представлениями, или же наоборот — там, где доминировали основные потребности, общие для всей органической жизни. Несколько схожих черт явились следствием сознательного заимствования — Великая Раса изучала будущее и копировала удачные, с ее точки зрения, решения.
Участие в высокомеханизированном производстве занимало не много времени в жизни каждого гражданина, и имевшийся у всех досуг заполнялся интеллектуальной и эстетической деятельностью.
Науки были вознесены до невероятных высот, искусство вливалось в жизнь составной ее частью, хотя ко времени моих снов миновало и вершину свою, и даже средний уровень, достигнутый в прошлом. Производство, постоянно напрягая свои силы, поддерживало в целостности пелену жизни, которую ткали в больших городах, то и дело подвергавшихся сокрушительным геологическим бурям первобытных времен.
Преступлений было на редкость мало, с ними расправлялась уверенная и эффективная полицейская служба. Наказания изменялись от лишения привилегий до пожизненного заключения либо истязания основных эмоций; впрочем, их никогда не применяли, не разобравшись тщательно в мотивах действий преступника.
Войны в последние несколько тысячелетий в основном были гражданскими, только изредка возникали конфликты с крылатыми и звездоголовыми древними существами, еще гнездившимися в Антарктике. Случались они нечасто, но бывали опустошительными. Для целей, о которых не полагалось упоминать, но явно в связи с непрестанной тревогой, которую внушали древние, лишенные окон башни и огромные, заложенные засовами двери, всегда под рукой была огромная армия, вооруженная похожим на наши нынешние фотоаппараты оружием, производившим могучие электрические разряды.
Страх перед базальтовыми руинами и заложенными дверями был предметом единодушного умолчания, а в лучшем случае каких-то слухов. Все подробности, которые могли бы объяснить его причины, отсутствовали в книгах, имевшихся на обычных полках. Он оказался единственной запретной темой: чувствовалась в нем и память о прошлых ужасных битвах, и о еще ожидаемых в будущем бедствиях, которые заставят Великую Расу разом отправить в будущее сразу всех своих мудрецов.
Почерпнутые из легенд и разговоров, несовершенные и фрагментарные представления мои об этом вопросе, как и обо всем прочем, становились здесь еще более неопределенными. Туманные древние мифы умалчивали о многом… или же все упоминания о случившемся по какой-то причине оказались выброшенными из них. Ну а в снах, что видел я сам и другие, содержалось чрезвычайно мало подробностей. Существа Великой Расы никогда не заводили речи на эту тему; все, что удалось мне узнать, выяснили отточенные умы представителей иных рас, одаренные особо острой наблюдательностью.
Как они сумели понять, страхи порождены были расой жуткой и древней… Какие-то полуполипы, существа, совершенно чуждые Земле, явились в нашу Вселенную из неизмеримых далей шестьсот миллионов лет назад и потом правили нашей планетой. Они были материальны только частично — с позиции нашего понимания материи, — и все чувства их, даже само мышление, невероятным образом отличалось от свойств организмов земной природы. Например, они обходились без зрения; и умственный образ их мира непонятным образом ограничивался иными чувствами.
Впрочем, они были достаточно материальны, чтобы извлекать из материи пользу, если оказывались в космосе возле нее; наверное, им необходимо было жилье, быть может и странное на наш взгляд. Хотя чувствами они могли пронизывать материальные барьеры, тела их не были способны на это, и особым образом организованные электрические токи несли им смерть. Невзирая на отсутствие крыльев и каких бы то ни было видимых средств для левитации, они могли перемещаться в воздухе. Разум их был настолько отличен от всех известных Великой Расе, что не допускал возможности обмена умами.
Попав на Землю, твари эти соорудили могучие города из базальта, с их башнями без окон, и безжалостно уничтожали все живое, что им только попадалось. Тогда-то разумы, слагающие Великую Расу, бежали из своего далекого и неведомого трансгалактического мира, именуемого Йит в сомнительных и возмутительных Эльдаунских Скрижалях.
Новые пришельцы во всей мощи созданного ими оружия легко победили космических хищников и загнали в полые недра планеты, которые те и так давно считали своими и уже начали заселять.
Тогда были закупорены все ходы, уводящие в глубь земли, и тварей внизу предоставили собственной судьбе. Впоследствии Великая Раса заняла и их огромные города, лишь некоторые сооружения были сохранены по причинам, связанным скорее с суевериями — не с безразличием, не по безрассудству или из исторических и мемориальных соображений.
Но шли эоны, и явились первые смутные знаки того, что злые Древние силы крепнут и множатся внутри Земли. В удаленных и небольших городах Великой Расы из глубей земных начались вторжения особо мерзкого свойства; происходили они и в некоторые покинутых городах Древних, которые Великая Раса не посещала, — там пути, уводящие в подземные пропасти, не были должным образом перекрыты или же не охранялись.
После этого предприняты были великие предосторожности; тогда завалили многие из уходящих под землю дорог — впрочем, иные из них перекрыли дверями, оставленными в стратегических целях: дабы в случае необходимости самим напасть на порождения тьмы, если они вырвутся наружу в неожиданном месте.
Вторжения Древних, судя по всему, были ужасны превыше всякой меры — такой отпечаток наложили они на саму психологию Великой Расы. Таким ужасом веяло от них, что конусы старались даже не упоминать об этих тварях. Я так и не смог ясно представить себе, на что они были похожи.
Говорили о чудовищной текучести их тел, то видимых, то на мгновение исчезавших; по слухам, нападая и защищаясь, они прибегали к ветрам огромной силы. Еще связывался с ними некий посвист и появление отпечатков как бы ступни с пятью округлыми пальцами.
Было ясно, что ждущая Великую Расу зловещая участь, которой так панически опасались все члены ее, — участь, способная подвигнуть миллионы острейших умов броситься через разверстую пропасть времени в тела странных существ в неведомом, но безопасном грядущем, — и могла быть только самым последним, наконец успешным нападением Древних сил.
Благодаря переброске разумов через века Раса давно уже узнала свою судьбу в грядущем. Тогда же было решено, что всякий, кто сумеет спастись, имеет право на это. То, что нападение будет произведено скорее из мести, чем в попытке вновь завоевать поверхность планеты, они знали из дальнейшей истории: последующие расы будут сменять друг друга, не ведая о чудовищах, затаившихся в сердце Земли.
Может быть, существа эти сами предпочитали внутренние пропасти и расселины Земли ее разнообразной, подверженной бурям поверхности — ведь свет им не был нужен. Впрочем, возможно, пролетевшие эоны понемногу унесли с собой их прежнюю силу. И в самом деле, ни одного из них уже не останется в живых ко времени разумных жуков — наследников человечества, в тела которых и переселятся беглецы.
Ну а пока Великая Раса осторожно следила за внутренностями планеты и держала наготове оружие, пытаясь не вспоминать о кошмарных врагах слишком часто, не упоминать о них — ни устно, ни письменно. Но тень безымянного страха вечно реяла над мрачными башнями без окон и бойниц и перед заложенными дверями.
Глава 5
Таков был мир, смутные отблески которого каждую ночь проявлялись в моих снах. Не могу даже надеяться описать весь ужас, все отвращение, рожденное подобными отзвуками. И все они обладали одним, полностью нематериальным свойством: создавали острое ощущение псевдовоспоминания.
Как я сказал, занятия мои постепенно смогли защитить меня от подобных чувств, дали прошлому рационально-психологическое объяснение, и благотворное воздействие их уже подкреплялось легким прикосновением привычки, как всегда, приходящей с течением времени. Но, несмотря на все, неясный ползущий ужас то и дело охватывал мое сердце. Теперь он уже не поглощал всего меня целиком, как было прежде, и после 1922 года я стал вести вполне нормальную жизнь, чередуя работу и отдых. С годами я стал ощущать, что пережитое следует обобщить и опубликовать и, добавив примеры из родственных случаев амнезии и сводные мотивы, обнаруженные в фольклоре, сделать доступным для серьезного исследователя; потому-то я и занялся подготовкой серии статей, вкратце охарактеризовал в них основные моменты и сопроводил их грубыми набросками существ и сооружений, запомнившихся оценок, декоративных мотивов и иероглифов, которые мог воспроизвести по снам.
Статьи по одной печатались в «Журнале американского психологического общества» с 1928 по 1929 год, но особого внимания не привлекли. Я же тем временем продолжал тщательно записывать сны, не считаясь со скопившейся грудой материалов.
Но 10 июля 1934 года мне доставили письмо из Психологического общества, а за получением его и последовала кульминирующая и самая жуткая фаза всей моей кошмарной истории. На штемпеле значился городок Пилбарра в Западной Австралии; подпись, как я узнал, наведя справки, принадлежала одному из известнейших в своих кругах горных инженеров. К нему были приложены весьма любопытные снимки. Их я во всей полноте воспроизвожу в тексте, и любой читатель немедленно поймет, сколь ужасный эффект оказали они на меня.
На какое-то время мною словно овладели паралич и недоверие; хотя я часто думал, что какие-то моменты легенд, так окрасивших мои сны, должны наконец найти и материальное подтверждение, но тем не менее совсем не был готов к тому, что от затерянного в прошлом мира кое-что еще может дойти до нас. Эти фотоснимки со всем своим холодным и неопровержимым реализмом произвели сокрушительный эффект. Из песка выступали ветхие каменные блоки, источенные ветром, каплями дождя и летучим песком. Выпуклый верх и вогнутый низ говорили сами за себя.
Взявшись за увеличительное стекло, я различил… слишком отчетливо… среди всех ямок и бороздок на камне следы огромных криволинейных фигур и стертые иероглифы, те, что делали ужасными мои сны. Но пусть лучше письмо говорит само за себя.
49, Дэмпьер-стрит
Пилбарра, 3, Австралия
18 мая 1934 г.
Профессору Н.У. Пизли
корреспонденту Ам. Психологического общества
30 В. 41-я стрит
Нью-Йорк Сити, США
Мой дорогой сэр!
Недавний разговор с доктором Ю.М. Бойлем из Перта и несколько журналов с Вашими статьями, которые он только что переслал мне, заставляют меня сообщить Вам о неких предметах, обнаруженных мною в Большой Песчаной пустыне к востоку от наших золотоносных полей. Учитывая странные легенды о древних городах, сложенных из чудовищно огромных блоков, и описываемые Вами загадочные изображения и иероглифы, полагаю, что мне удалось обнаружить нечто выдающееся.
Чернокожие всегда много рассказывали о попадающихся здесь огромных камнях с отметинами, не скрывая ужаса перед подобными находками. В их представлении камни эти загадочным образом связаны с общеизвестными в наших краях легендами о Буддаи, гигантском старике, на неисчислимые века уснувшем под землей, положив голову на локоть. Однажды он проснется и пожрет Землю.
Существуют еще очень древние, полузабытые сказки о подземных домах, сложенных из огромных камней. Коридоры их уводят все ниже и ниже, и в глубинах гнездится ужас. Еще чернокожие утверждают, что некогда их воины, потерпев поражение в битве, попытались укрыться в таком доме, но ни один так и не вышел обратно, а из подземных ходов тут же задули жуткие ветры. Однако к словам туземцев не следует проявлять слишком большого доверия.
Но это еще не все. Два года назад, проводя изыскания в пустыне — почти в пяти сотнях миль отсюда к востоку, — я наткнулся на множество разбросанных камней примерно 3Ч2Ч2 фута в размере, обработанных и источенных непогодой почти до предела.
Сперва я не мог обнаружить на них тех отметин, о которых рассказывают черные, но все-таки, приглядевшись, заметил глубоко врезанные линии, странные, изогнутые, как те, о которых мне рассказывали. По-моему, там было тридцать или сорок таких блоков, все они были обнаружены в круге в четверть мили диаметром.
Заметив первые камни, я стал разыскивать остальные и произвел тщательную инструментальную съемку местности. Кроме того, я заснял десять-двенадцать самых типичных блоков и прилагаю к письму эти снимки.
Всю информацию и копии фотоснимков я передал правительственному представителю в Перте, пока не обнаружившему к ним интереса.
Позже я встретился с доктором Бойлем, читавшим Ваши статьи в «Журнале Американского психологического общества», и упомянул в разговоре с ним о своей находке. Он выказал огромный интерес, сменившийся неподдельным возбуждением, когда я показал ему снимки, и сообщил мне, что и камни, и знаки на них полностью подобны тем, которые Вы видели во снах и знаете из легенд.
Доктор Бойль собирался написать Вам, но не сумел. Однако он переслал мне несколько журналов с Вашими статьями, и я сразу же понял из рисунков и текста, что мои камни принадлежат именно к той самой разновидности, которую Вы описали. Это, как Вы увидите сами, подтверждают и прилагаемые снимки. Через некоторое время доктор Бойль сам обо всем вам расскажет.
Нетрудно понять, насколько важным явится для Вас это сообщение. Вне сомнения, мы обнаружили останки неведомой цивилизации, куда более древней, чем могло даже присниться, — той самой, которая послужила источником возникновения всех Ваших легенд.
Я — горный инженер и имею представление о геологии, но могу признаться Вам: невероятная древность этих каменных блоков даже пугает меня. Материалом для их изготовления в основном послужили песчаник или гранит, впрочем, некоторые показались сделанными из какой-то разновидности цемента или бетона.
На камнях заметны следы воздействия воды, да такие, словно бы целая часть света погружалась здесь под воду и лишь через несчетные века вышла опять на поверхность… И все это уже после того, как были изготовлены и сложены эти блоки. Можно не сомневаться, им не меньше нескольких сотен тысячелетий, но о точном их возрасте знают одни небеса.
Учитывая Ваш скрупулезный труд над легендами и всем, что связано с ними, не сомневаюсь, что Вы захотите возглавить экспедицию в пустыню и произвести там археологические раскопки. Мы с доктором Бойлем готовы оказать содействие в подобной работе, если известные Вам организации способны оплатить расходы по их проведению.
Я могу подыскать дюжину шахтеров для выполнения тяжелых работ. Чернокожих привлекать бесполезно, я уже успел убедиться, что они испытывают почти маниакальный страх перед этими местами. Кроме Вас, мы с Бойлем никого не информировали об открытии: право первооткрывателя в данном вопросе принадлежит Вам.
От Пилбарры до места находки можно добраться за четыре дня на колесном тракторе, который потребуется нам для перевозки приборов. Камни расположены к юго-западу от маршрута экспедиции Варбэртона 1873 года, в сотне миль к юго-востоку от Джоанна-Спринг. Туда можно добраться и по воде — по реке Де Грея[59], но все конкретные вопросы мы обсудим позже.
Приблизительно камни находятся в месте с координатами 22 градуса 3 минуты 14 секунд южной широты и 125 градусов 0 минут 39 секунд восточной долготы. Климат там тропический, пустынный.
С нетерпением жду от Вас новых сведений, готов принять участие в любом плане, который Вы можете предложить. Изучение Ваших статей укрепило во мне уверенность в глубочайшей важности всего нашего дела. Доктор Бойль напишет Вам позже. Если потребуется быстро связаться с нами, телеграммы в Перт принимают по беспроволочному телеграфу.
С глубокой надеждой на скорый ответ,
самым искренним образом Ваш
Роберт Б.Ф. Маккензи
О том, что последовало за получением этого письма, можно узнать из прессы. Мне посчастливилось заручиться поддержкой Мискатоникского университета, а мистер Маккензи и доктор Бойль оказали неоценимую помощь при устройстве всех дел в Австралии. Мы не стремились вдаваться в особые подробности, поскольку, вне сомнения, подобное открытие немедленно привлекло бы к себе внимание сенсационных и юмористических отделов дешевых газет. В итоге печатные сообщения выглядели немногословными, но все-таки рассказывали достаточно много о причинах нашего интереса к загадочным австралийским руинам и отражали различные приготовительные шаги.
Уильям Дайер, профессор геологического факультета, возглавлявший Антарктическую экспедицию университета в 1930–1931 годах, Фердинанд К. Эшли с факультета древней истории, Тайлер М. Фриборн с факультета антропологии вместе с моим сыном Уингейтом дали согласие сопровождать меня.
В начале 1935 года мой корреспондент Маккензи прибыл в Аркхем и помог завершить приготовления. Он оказался потрясающе компетентным и любезным человеком примерно пятидесяти лет, его начитанностью и глубоким знанием условий Австралии можно было только восхищаться.
Его трактора ждали нас в Пилбарре, и мы зафрахтовали болтавшийся без дела небольшой пароходик, способный пройти в верховья реки до нужного места. Мы были готовы проводить раскопки в скрупулезной научной манере — просеивая каждую песчинку, оставляя на месте всякий камень, что мог еще оказаться в своем исходном положении.
28 марта 1935 года мы вышли из Бостона на пыхтящем «Лексингтоне», словно на увеселительное путешествие, через Атлантику, в Средиземное море и по Суэцкому каналу и Красному морю — в Индийский океан, а там и прямо к нашей цели. Не буду даже вспоминать, насколько вид невысоких и песчаных австралийских берегов угнетал меня, насколько отвратительным показался мне унылый городок горняков и скучные золотые копи, где мы загрузили трактора последними припасами.
Встречавший нас доктор Бойль оказался приятным пожилым интеллектуалом, а познания его в психологии позволили мне и сыну вести с ним долгие дискуссии.
В душе каждого члена нашего отряда сомнения странным образом перемешивались с нетерпением, когда наконец мы, восемнадцать человек, начали отсчитывать лиги сухого песка и камня. В пятницу 31 мая мы пересекли приток реки Де Грея и вступили в края вовсе уединенные. И пока мы приближались к истинному месту захоронения останков прежнего мира, древнего мира легенд, все сильнее охватывал меня ужас, еще более усиленный снами и псевдовоспоминаниями, что по-прежнему мучили меня.
Первый из полузасыпанных блоков мы увидели в понедельник 3 июня. Не могу даже описать чувства, с которыми я впервые — в истинной реальности — прикоснулся к циклопической кладке, во всем подобной той, что представала мне в видениях. Знаки на камнях оказались достаточно ясными, с трепетом я узнавал кривые линии, адовой мукой истомившие меня за годы мучительных ночных кошмаров и утомительных исследований.
За месяц раскопок мы сумели обнаружить около 1250 каменных блоков, находившихся на разных степенях целостности и разрушения. По большей части все они оказались резными мегалитами с криволинейным верхом и низом. Некоторое количество камней имело меньший размер — уплощенные, ровные, не имеющие узоров, они были квадратными или восьмигранными, как те, что покрывали полы и улицы в моих снах, — и совсем немного оказалось чрезвычайно массивных, изогнутых и криволинейных — словно служивших для перекрытия свода или образовавших памятные мне округлые окна.
Чем глубже и дальше к северу-востоку закапывались мы в землю, тем больше находили блоков, хотя по-прежнему нам не удавалось обнаружить каких-нибудь признаков упорядоченности в их расположении. Непомерная древность находок все еще потрясала профессора Дайера, а Фриборн обнаружил аналоги мрачных символов, знакомых ему из папуасских и полинезийских легенд незапамятной древности. Состояние разбросанных блоков упорно доказывало головокружительный возраст их, свидетельствовало о геологических катаклизмах космической мощи.
Мы располагали аэропланом, и мой сын Уингейт частенько поднимался на разные высоты, пытаясь обнаружить на песчано-каменистой почве следы каких-либо контуров, оставшихся от стен или складывающихся из разбросанных блоков. Результаты оказалась полностью отрицательными. Правда, иногда ему казалось, что он сумел обнаружить нечто существенное, но повторный пролет неминуемо ничего не давал — столь быстро менялись очертания холмов, состоявших из несомого ветром песка.
Впрочем, раз или два эти эфемерные образования успели странным и неприятным образом подействовать на меня. Они как будто бы складывались в очертания, жутким образом схожие с теми, которые я видел во снах или же знал из книг, но все-таки не мог припомнить, откуда мне известно о них. Нечто кошмарно знакомое чудилось всякий раз, когда я с опаской оглядывал безжизненный и невеселый ландшафт.
И к первой неделе июля оказалось, что эти пустынные края на северо-востоке Австралии рождают во мне весьма противоречивые чувства. Я испытывал ужас и любопытство, а еще — словно бы постоянно пытался припомнить нечто забытое.
Стараясь выбросить все это из головы, я перепробовал все психологические методы, но без успеха. Меня одолевала бессонница, и я был даже рад ей, потому что мог видеть меньше снов. Я взял себе в обычай подолгу бродить в одиночестве по пустыне в ночные часы и уходил из лагеря на север или северо-восток, куда настойчиво влекли меня все эти странные побуждения.
Иногда на прогулках мне случалось в буквальном смысле спотыкаться об утопающие в песке остатки древних блоков. Здесь, на поверхности, камни попадались реже, чем там, где мы начинали раскопки, но я был уверен — под песком их значительно больше. Местность сделалась не такой ровной, как у нашего лагеря, и господствующие ветры гнали по ней фантастические песчаные волны, которые там и сям открывали древние камни и снова прятали их.
Я чувствовал странную потребность поскорее перевести раскопки сюда и одновременно опасался того, что они могли бы открыть. Должно быть, мне становилось все хуже, но, к собственному прискорбию, я не мог этого заметить.
Только свидетельством скверного состояния нервов может послужить моя реакция на непонятную находку, сделанную мной во время одного из ночных странствий. Было это вечером 11 июля, когда луна озаряла таинственные холмы мертвенными лучами.
Зайдя дальше, чем мне приходилось прежде, я обнаружил огромный камень, явно отличавшийся от всех, что нам приходилось здесь видеть. Он едва выступал из песка, но я старательно очистил его собственными ладонями, после чего принялся внимательно изучать странный объект, помогая лучом собственного фонарика лунному свету.
В отличие от прочих каменных блоков этот был обработан ровно, и стороны квадратной плиты не обнаруживали ни вогнутостей, ни выпуклостей. Мне показалось, что вытесан он из темного базальта, совершенно непохожего на гранит, песчаник и бетонные блоки, с которыми мы уже привыкли иметь дело.
Тут я вскочил, словно подброшенный, повернулся и бегом припустил к лагерю. Бегство было совершенно иррациональным и бессознательным, и, только оказавшись возле собственной палатки, я полностью осознал, почему бегу. Я наконец понял: загадочный темный камень был связан — сны и книги свидетельствовали об этом — с предельным ужасом вековечных легенд.
Я увидел один из тех древних базальтовых блоков, к сооружениям из которых Великая Раса относилась с таким неподдельным трепетом. Из подобных ему были сложены высокие башни без окон, оставленные на земле порождениями мрака, что нашли себе пристанище в земных пропастях, некогда закрытых удерживавшими мощь могучих ветров огромными дверями, возле которых находилась неусыпная стража.
Всю ночь я не мог уснуть, но с приходом рассвета понял, что глупо пугаться каких-то сказок. Не испуг подобал здесь, но энтузиазм исследователя.
Пока не наступил полдень, я поведал остальным о своей находке и вместе с Дайером, Фрименом, Бойлем и сыном отправился разыскивать неведомый блок. Однако нас ждала неудача. Я не смог точно заметить местонахождение камня, и недавно поднявшийся ветер успел изменить очертания песчаных холмов.
Глава 6
Теперь я подхожу к критической и самой трудной части своего повествования, тем более трудной, что я не могу поручиться за ее истинность. Временами я чувствую весьма смущающую меня уверенность в том, что случившееся не было ни сном, ни иллюзией; именно это чувство и потрясающие последствия всей истории и заставляют меня браться за перо.
Мой сын, опытный психолог, во всех подробностях знающий все, что было со мной, будет главным судьей того, о чем я теперь должен рассказать.
Сперва хочу описать все обстоятельства — какими они представлялись нам. В ночь с 17 на 18 июля я рано возвратился в лагерь после ветреного дня, но не мог уснуть. Вскоре после одиннадцати я встал и, покоряясь странному притяжению, манившему меня на северо-восток, отправился на одну из привычных ночных прогулок. Выходя из лагеря, я встретил одного из членов экспедиции — австралийца-шахтера по фамилии Таппер, поздоровался с ним.
Недавно миновавшая полнолуние луна светила с ясного неба и заливала древние пески мертвенным белым светом, казавшимся мне тогда безгранично мерзким. Ветер утих — не менее чем на пять часов, — так засвидетельствовал Таппер и прочие, кто заметил тогда мой удалявшийся силуэт на фоне залитых нездоровой бледностью таинственных холмов.
Вновь ожил он ночью, около 3:30, когда яростный шквал вдруг обрушился на лагерь, разбудил всех и повалил три палатки. На небе не было даже облачка, и прокаленная луна по-прежнему заливала пустыню больным своим светом. Устанавливая шатры на место, все заметили, что меня нет в лагере, но, зная про частые ночные отлучки, никто не встревожился. Тем не менее трое австралийцев уверяли: в воздухе сгущается нечто зловещее.
Маккензи постарался убедить профессора Фриборна в том, что страхи эти порождены сказками чернокожих — искусной тканью зловещего мифа, объяснявшего причины сильнейших ветров, изредка с ясного неба обрушивающихся на здешние пески. Такие ветры, шептали предания, дуют из огромных подземных хижин, где творится ужасное; подобных шквалов не бывает там, где на песке нет огромных камней с отметинами. К четырем ветер утих, изменив вид и расположение песчаных холмов.
Около пяти, когда одутловатая нездоровая луна опустилась к самому горизонту, я вернулся в лагерь — без шляпы и электрического фонарика, в лохмотьях, исцарапанный, ни кровинки в лице. Почти все возвратились ко сну, лишь профессор Дайер курил трубку перед палаткой. Увидев меня таким потрясенным, движущимся почти автоматически, он позвал доктора Бойля, и вдвоем они сумели устроить меня на ложе. Разбуженный возней сын вскоре присоединился к ним, и втроем они попытались заставить меня полежать и уснуть.
Но сон не шел ко мне. Психологическое состояние мое было весьма необычным — подобного мне еще не приходилось испытывать. Через какое-то время я принялся говорить, нервно и замысловато объясняя свое состояние.
Я рассказал всем, что почувствовал усталость и решил подремать на песке. Тут, как я утверждал, мне привиделся сон, куда более жуткий, чем все посещавшие меня прежде. Потом неожиданный ветер разбудил меня, и нервы мои не выдержали. Я бежал в панике, то и дело спотыкаясь о выступающие из песка камни и падая. Спал я, должно быть, долго, что и было причиной продолжительного отсутствия.
О том, что на деле со мной могло случиться нечто иное, я не проговорился ни словом, обнаружив огромный самоконтроль. Но намекнул, что планирую пересмотреть всю работу экспедиции и настоятельно советую прекратить все работы на северо-востоке.
Аргументация моя была достаточно слабой: я говорил, что блоков там немного, что не нужно оскорблять чувства суеверных шахтеров, опасался возможного прекращения финансирования со стороны колледжа, говорил о других неверных или абсолютно не относящихся к делу предметах. Естественно, мои новоявленные пожелания не удостоились внимания даже моего собственного сына, явно обеспокоенного ухудшением моего состояния.
Наутро я был на ногах, но провел целый день в лагере, стараясь не подходить к раскопкам. Потом объявил, что, опасаясь за собственное здоровье, решил немедленно возвратиться домой. И сын обещал доставить меня на самолете в Перт, за тысячу миль к юго-востоку, сразу как только завершит воздушное обследование той области, которую я предлагал оставить в покое.
Все-таки, думалось мне, если то, что я видел вчера, можно еще заметить, придется предупредить всех, даже рискуя показаться смешным. Можно было предполагать, что знакомые с местными сказаниями шахтеры поддержат меня. Чтобы подбодрить меня, сын тем же утром облетел все места, где я мог побывать ночью. Однако ему не удалось заметить ничего обнаруженного мною.
Случилось как и с тем непонятным базальтовым блоком — сыпучий песок укрыл все следы. На какой-то миг я даже пожалел, что потерял во время своего отчаянного бегства некий жуткий предмет, хотя уже тогда я понимал, сколь благодетельна эта потеря. Во всяком случае, я еще могу надеяться, что пережил все во сне… в особенности если адская пропасть останется необнаруженной.
20 июля Уингейт доставил меня в Перт, но отказался оставить экспедицию и возвратиться домой вместе со мной. Он пробыл со мной до 25-го числа, когда в Ливерпуль отправлялся очередной пароход. И теперь, в каюте «Императрицы», я думаю, как поступить… И все-таки хотя бы сын должен узнать все. Ему решать, что можно открыть человечеству.
Чтобы избежать любых случайностей, выше я изложил всю подоплеку, уже отчасти известную людям, и теперь приступаю собственно к истории — к сжатому изложению того, что произошло со мной в пустыне в эту жуткую ночь.
Напряженный, в каком-то извращенном рвении подгоняемый необъяснимым, смешанным с ужасом, глубинным стремлением на северо-восток, я шагал вперед под лучами зловещей луны. Во все стороны от меня из песка выступали первобытные циклопические блоки, оставшиеся от безымянных, позабытых эонов.
Неизмеримая их древность и ужас, повисший над чудовищной пустошью, угнетали меня в ту ночь как никогда прежде, и я не мог не вспоминать о своих безумных сновидениях, о жутких легендах, что связаны с ними, и о том страхе, с которым и теперь туземцы и шахтеры относятся к этой пустыне и тесаным камням ее.
Но я шагал вперед, словно стремясь навстречу с нечистой силой, все более и более поддаваясь фантазиям, устремлениям… псевдовоспоминаниям. Я размышлял о контурах, которые, как иногда казалось сыну, с воздуха образовывали лежащие камни, и удивлялся, почему они кажутся мне столь знакомыми и зловещими. Нечто копошилось возле задвижки, на которую заперты были мои воспоминания, уже ею гремело, но иная сила старалась удержать их под замком.
Ветра не было, и склоны наметанных им дюн морскими валами изгибались под бледными лучами луны. Я шел в никуда, но так, словно мне было назначено свидание. Сны мои вдруг хлынули в этот мир, и каждый утопавший в песке мегалит начинал казаться мне остатком стены дочеловеческих времен, со всеми символами и иероглифами, памятными мне с годов заключения в теле члена Великой Расы.
Временами мне даже казалось, что всеведущие конические чудовища деловито снуют рядом со мной по привычным делам, и я боялся опустить долу глаза, чтобы не увидеть себя таким же. И все это время передо мной проходили засыпанные песком блоки, я видел комнаты, коридоры… ослепительный свет луны и хрустальные лампы… бесконечную пустыню и колыхание гигантских папоротников над нею… Я не спал, но грезил наяву.
Не знаю, долго ли шел и далеко ли зашел… не знаю даже наверное, в каком направлении… когда вдруг заметил целое нагромождение блоков, открытых сегодня ветром. Более крупного скопления мне еще не попадалось, и оно оказало на меня столь сильное впечатление, что видения минувших эонов мгновенно поблекли.
И снова передо мной оказалась всего только пустыня, диск луны и части шарады из непонятного прошлого. Я подошел поближе и направил на камни лучи фонаря, помогая ими лунному свету. Унесенный песок открыл низкую, неправильной формы округлую массу мегалитов и камней поменьше, около сорока футов в поперечнике и от двух до восьми футов в вышину.
С самого начала я заметил в этих камнях нечто особенное. Дело было не только в числе их, превосходившем все известное мне, — источенная ветрами поверхность камней — узоры на ней — заставили разглядеть их повнимательнее, посвечивая фонариком.
По виду они ничем не отличались от попадавшихся прежде. Отличие… крылось в ином… Но полное впечатление сложилось, лишь когда взгляд мой сумел обежать разом несколько блоков.
Меня словно озарило. Криволинейные знаки на блоках образовывали единый рисунок. Впервые за все время пребывания среди этих вековечных песков мне удалось увидеть сохранившийся кусок кладки — неровной и покосившейся, но камни в ней оставались на своем законном месте.
Приподнявшись на какой-то бугорок, я принялся руками очищать от песка поверхность камней, одновременно стараясь следить за размером, формой, стилем и взаимосвязью узоров.
Тут я сумел получить некоторое представление о природе искусственного сооружения и о рисунках, некогда нанесенных на огромной поверхности первобытной кладки. И полное совпадение с тем, что было во снах, как никогда прежде тревожило и смущало.
Когда-то здесь пролегал циклопический коридор шириной и высотой футов в тридцать, вымощенный восьмигранными блоками, перекрытый прочными сводами. С правой стороны должны были размещаться комнаты, а в конце находился один из наклонных ходов поверхностей, что уводили в недра земные.
Я вздрогнул, представив все это, — одно расположение блоков не могло дать достаточных оснований для столь подробных выводов. Откуда мне знать, что этот уровень — из самых низких? Откуда мне знать, что уводящий вверх пандус остался позади? Какие у меня основания считать, что долгий подземный ход к Площади Колонн лежал слева в одном уровне надо мной?
Откуда мне знать, что зал с машинами и правый туннель в центральные архивы лежит ниже — на два уровня? Откуда же знать мне, что одна из этих жутких, заложенных железными полосами дверей находится в самом низу… через четыре уровня? Нечаянное вторжение снов бросило меня в озноб… и в холодный пот.
И тут случилось совсем уже нестерпимое: я ощутил легкое дуновение, струйку прохладного воздуха, сочащуюся вверх из углубления в центре огромной груды. И разом, как было недавно, видения отступили, оставив после себя только злой свет луны, задумчивую пустыню и неровную груду камней, оставшихся от дома, построенного в палеозое. Нечто реальное, ощутимое и насквозь пронизанное темными тайнами лежало передо мной. Струйка воздуха говорила: под россыпью камней таилась огромная полость.
Первым делом мне вспомнились мрачные легенды чернокожих об укрытых под мегалитами громадных подземных хижинах, где творятся ужасы и рождаются великие ветры. Потом мысль моя обратилась к собственным снам, и я ощутил, что псевдовоспоминания словно тянут меня за рукав. Что может крыться внизу? Какой первобытный и непостижимый кошмар, породивший мифы немыслимой древности, населяет жуткое подземелье, которое мне удалось открыть?
Колебался я лишь какой-то момент. Не одно лишь любопытство и исследовательский пыл подгоняли меня — нечто еще более сильное преодолевало мой крепнущий страх.
Я двинулся почти автоматически, словно покоряясь неизбежной участи. Спрятав фонарик в карман, с силой, на которую не мог и рассчитывать, я отвалил в сторону один колоссальный камень, следом за ним другой. И вот снизу дунул влажный ветер, так не похожий на сухой воздух пустыни. Под ногами показалась черная щель, и наконец, когда я отодвинул все обломки, какие были мне под силу, зловещий свет луны бледными лучами обрисовал отверстие достаточной величины, чтобы можно было проникнуть в него.
Достав фонарик, я посветил ярким лучом вниз. Подо мной хаотическая осыпь обработанных камней уходила к северу, спускаясь под углом сорок пять градусов, — осыпь явно была следствием давнего обвала.
Между поверхностью осыпи и сводом висела непроглядная тьма, поверху обнаруживавшая очертания колоссального напряженного свода, пески пустыни здесь, казалось, легли прямо на поверхность титанического сооружения, уцелевшего со времен юности нашей планеты… Хотя как оно сумело выдержать эоны геологических сотрясений, я не знаю и не пытаюсь даже догадываться.
Обращаясь мыслью назад, соглашусь: одно только желание спускаться в одиночку в столь сомнительную пропасть, да еще когда никто не знает, где ты находишься, окажется истинным знаком безумия. Наверное, так оно и было, только в ту ночь я не колебался.
Конечно, какой-то зов, рок или судьба вели меня этим путем. Включая фонарик лишь изредка, чтобы сэкономить батарейки, я пустился в безумный спуск по циклопическому склону, уводившему вниз от отверстия, — иногда лицом вперед, но по большей части обратившись к груде мегалитов, чтобы держаться понадежнее.
Пообок с обеих сторон поднимались ветхие стены из тесаного камня, фонарик мой освещал их. Впереди была тьма.
Спускаясь, я не следил за временем, настолько мой ум переполняли загадочные смутные картинки. Они приобретали четкость, оттесняя реальность в неисчислимые дали. Все физические чувства вдруг отказали, только страх, превратившись в призрачную горгулью, насмешливо щерился на меня.
Наконец я достиг ровной поверхности, заваленной упавшими вниз блоками, бесформенными обломками камня, песком и различным мусором. С каждой стороны — футах в тридцати, кажется, — вверх вздымались массивные стены, завершавшиеся чудовищной величины сводами. То, что камни были покрыты резьбой, я все-таки различал, но разглядеть рисунки не удавалось.
Более всего внимание мое приковывал к себе свод над головой; луч фонарика не достигал его, но нижние части чудовищных арок были вполне различимы. И с такой идеальной точностью отвечали они тому, что видел я в несчетных снах — видениях древнего мира, что я впервые по-настоящему содрогнулся.
Позади, высоко над головой, слабо светящееся пятно напоминало, что над миром все еще шествует луна. Слабые остатки осторожности твердили мне, что пятно это не следует упускать из виду, иначе я не смогу вернуться наверх.
Тогда я приблизился к левой стене, на которой резьба была заметнее. Пересечь загроможденный пол было не легче, чем спуститься по осыпи, но я сумел одолеть трудный участок пути.
В одном месте я сдвинул в сторону несколько блоков, чтобы посмотреть, как вымощен пол, и вновь ощутил трепет при виде бесконечно знакомых выпуклых к центру роковых восьмигранников, еще державшихся вместе, образуя новый пол.
Очутившись на подходящем расстоянии от стены, я медленно повел фонариком, освещая стертые временем остатки резьбы. Должно быть, некогда поток воды оставил свои следы на песчаных стенах, но причин образования загадочных инкрустаций я не мог понять.
Кое-где кладка была нарушена, а камни обнаруживали явные следы разрушения; и оставалось только гадать, сколько же эонов первобытное сооружение просуществовало в недрах земли, сохраняя свою форму наперекор всем мыслимым катаклизмам.
И все-таки сильнее всего потрясла меня резная поверхность стен. Невзирая на действие времени, вблизи узоры были вполне различимы. Полное, предельное совпадение деталей, памятное мне по видениям, поражало воображение. Конечно, обличье этой поседевшей от времени стены было мне знакомо, но пока увиденное не выходило за рамки рационального.
Некогда вид этих камней равным образом потряс и создателей мифов. Оставленные ими знания влились в поток тайной науки, неизвестным образом впечатанной в мою память во время амнезии, и теперь пробудили яркие видения в моем подсознании.
Но как же тогда объяснить, что все линии и спирали вплоть до мельчайших подробностей совпадают с теми, что я видел во снах целых двадцать лет? Какая сокровенная мифология и иконография могла запечатлеть все тончайшие нюансы столь точно и подробно, до каждой мелочи совпадая с тем, что ночь за ночью открывалось мне в сновидениях?
Это не было случайностью… или совпадением. Вне всяких сомнений, древний, едва ли не вечность назад сооруженный, сокрытый на несчетные столетия коридор, в котором я находился, и породил те самые картины, знакомые мне по снам не хуже, чем собственный дом в Аркхеме, на Журавлиной. Конечно, в сновидениях я видел это сооружение во времена расцвета, но его реальность от этого не убывала, просто я чуть ошибался.
Часть сооружения, в котором я теперь находился, была мне знакома. Помнил я и где искать ее в этом странном, приснившемся мне древнем городе. С жуткой и инстинктивной уверенностью ощутил я, что могу безошибочно разыскать любой уголок в этом здании и городе… Если только он избежал разрушения. Но что, о Господи, все это значит? Как получилось, что мне известно все это? И какая ужасающая истина прячется за древними легендами о существах, обитающих в лабиринтах из первобытного камня?
Слова способны выразить лишь долю ужаса и тревоги, что терзали тогда мою душу. Я знал, где нахожусь. Знал, что именно можно отыскать, спускаясь пониже; помнил, что находилось на несчетных верхних этажах, рассыпавшихся в пыль и прах, ставших песком этой пустыни. И зачем, думал я, содрогаясь, зачем теперь мне этот слабый, но еще видимый отблеск неба?
Меня раздирали стремление бежать обратно и жгучая лихорадочная смесь любопытства и безысходности. Что произошло с чудовищным мегаполисом давних дней за те миллионы лет, что протекли здесь со времени моих снов? И что могло остаться от подземных лабиринтов, соединявших под городом все титанические башни, после столь многих конвульсий земной коры?
Неужели мне открылся во всей своей мерзости сохранившийся в целости погребенный уголок архаичного мира? Сумею ли я теперь найти дом учителя письма и башню, где С’гг’ха, плененный разум звездоголового растительного хищника из Антарктики, вырезал на чистой стене некие картинки?
Свободен ли переход со второго уровня, уводящий вниз, в палату чуждых разумов, или же он окажется заваленным и засыпанным? В том зале плененный разум невероятного, наполовину искусственного существа, жителя полой внутренней части неизвестной еще людям планеты, находящейся за Плутоном, — он будет жить там через восемнадцать миллионов лет — лепил из глины нечто невообразимое.
Закрыв глаза и прижав ладони к вискам, я тщетно старался выбросить из головы все эти безумные кошмарные мысли. Тут впервые я остро ощутил движение окружающего воздуха, прохладного и сырого. Содрогаясь, я осознавал, что эоны не видавшая жизни безжизненная цепь зияющих черных пустот под ногами в любой момент может разверзнуться рядом или подо мной.
И я думал о страшных палатах и коридорах, о наклонных ходах, какими знал их во снах. Может ли оказаться открытым путь к центральным архивам? И снова роковой зов прозвучал в моем мозгу — я вспомнил повергающие в трепет писания в чехлах из нержавеющего металла.
Там, говорили легенды и сны, почивает история, вся история — до мельчайших подробностей будущего или прошлого, занесенная на страницы пленными умами со всех миров Солнечной системы во все века ее бытия. Безумно было думать такое, но что оставалось мне — разве был нормален мир, в котором я очутился?
Я думал о запертых металлических полках, о том, как следует поворачивать ручки, чтобы открывать их. Перед внутренним взором появилась одна из полок. Как часто приходилось мне прибегать к этой сложной серии поворотов, чередующихся с нажатиями… в разделе позвоночных, на первом уровне! И я вспомнил их все до единого.
Если только я найду эти полки, то сумею их открыть. И безумие вновь овладело мной. Через какой-то миг я уже прыгал с камня на камень, опускаясь в земные недра по весьма памятному мне пандусу.
Глава 7
Начиная с этого мгновения едва ли стоит полагаться на мои дальнейшие впечатления — все-таки последняя отчаянная надежда не оставила меня, и не исключено, что мой рассказ все еще окажется навеянным демонами сновидением или болезненным бредом. Разум мой жгла лихорадка, и внешние впечатления доносились словно из тумана, чередуясь с моментами беспамятства.
Лучи света таяли в окружающей темноте, вспышками своими выхватывая невыносимо знакомые стены и узоры, поддавшиеся руке времени. В одном месте обрушился свод, и мне пришлось перелезать через высокий завал, едва не достигавший каменного потолка, с которого густо свисали причудливые сосульки сталактитов.
Таков был предельный разгул кошмара, еще усугублявшийся постоянными напоминаниями кощунственной псевдопамяти. Одного только чувства прежде не ведал я — собственного ничтожества посреди чудовищного сооружения. Невесть откуда явившееся ощущение собственной малости угнетало меня, словно мне еще не приходилось видеть эти стены, находясь в обычном человеческом теле. Вновь и вновь я бросал встревоженный взгляд на себя, смутно обеспокоенный человеческими очертаниями собственной фигуры.
Вперед, в беспредельный мрак этой пропасти шагал я, прыгал и спотыкался, часто падая и ушибаясь, один раз едва не разбив фонарик. Каждый камень, каждый уголок этого обиталища демонов был мне знаком, и нередко я останавливался, посвечивая в обрушившиеся, но все же не совсем еще заваленные знакомые проходы.
Некоторые залы обрушились полностью, в других не было ничего, в третьих только обломки. Кое-где я замечал груды металлических деталей — целых и ломаных, в них я узнал колоссальные столы или пьедесталы из моих снов; чем они были на самом деле, я не смел даже догадываться.
Я наткнулся на отлогий спуск и повернул вниз, но через какое-то время на пути моем разверзлась пропасть, ощерившаяся камнями; в самой узкой части своей она была едва ли меньше четырех футов. Здесь обломки камня падали вниз, в неизведанные глубины черной гибельной бездны.
Я знал, что в этом титаническом сооружении должно быть еще два уровня с неведомыми подземельями, и невольно затрепетал в страхе, вспомнив про окованные металлом двери на самом дне. Теперь возле них не могло быть охраны — ведь зло, что таилось за ними, давно уже завершило свои отвратительные и мерзкие дела и после долгого упадка кануло в вечное забвение. Придет конец человечеству — ко времени разумных жуков не станет и обитателей мглы. Но все же, памятуя о местных преданиях, я невольно затрепетал.
Колоссальным усилием воли я заставил себя перепрыгнуть через зияющую пропасть — загроможденный пол не позволял как следует разбежаться, но безумие несло меня вперед. Я выбрал местечко поближе к левой стене, там, где щель в полу была всего уже и камней по обеим ее сторонам было поменьше, и отчаянным прыжком перемахнул на другую сторону.
Наконец добравшись до нижнего уровня, я миновал зал машин. Посреди него из-под камней проступали фантастические изломы металла, погребенного наполовину обрушившимся сводом. Все осталось на прежних местах — где, как я знал, и должно было находиться. И я уверенно перебирался через груды камней, закрывавших вход в огромный поперечный коридор. Насколько я помнил, он должен был увести меня в недра города — к центральным архивам.
Словно бесконечные века сменяли друг друга, пока я ковылял, спотыкался, брел и перепрыгивал с камня на камень по заваленному коридору. То тут то там я мог различить не стертые прикосновением веков узоры на стенах — одни были знакомыми, другие появились здесь явно уже после моего пребывания. Меня вела подземная дорога между домами, и арки исчезали над головой, появляясь, только когда путь вновь приводил меня к нижним этажам других зданий.
Оказываясь на таких перекрестках, я оглядывался, даже задерживался иногда, чтобы заглянуть в прекрасно знакомые залы. Только дважды воспоминания подвели меня, но в обоих случаях дорогу преградила заложенная засовом окованная дверь.
Меня трясло, я ощущал странную перемежающуюся слабость — но поспешно, пусть не без колебаний, шел подвалом одной из огромных башен, не ведающих окон. Базальтовые блоки буквально кричали о жутких своих создателях, о которых лучше умолчать.
Первобытное это сооружение было округлым — не меньше двухсот футов в поперечнике, и на темных камнях не осталось ни знаков, ни следов. На полу здесь не было ничего, кроме песка и пыли, только зияли ходы, уводящие вверх и вниз. Ни лестниц, ни пандусов — такими и рисовали сны эти древние башни, оставленные в неприкосновенности Великой Расой. Их строителям не нужны были лестницы и наклонные пути.
В снах моих ведущие вниз отверстия оставались плотно закрытыми, и их бдительно сторожили. Теперь крышек не было, черные пятна зияли, извергая потоки прохладного и влажного воздуха. О безграничных кавернах под ними, в которых таилась и додумывала свой срок вечная ночь, я боялся думать.
Позже, с трудом одолев особенно заваленный участок коридора, я добрался до места, где свод обрушился полностью. Обломки легли холмом, за которым оказалось огромное пустое пространство, свет моего фонарика не достигал ни стен, ни сводов. Тут, подумал я, находился дом металлодобытчиков, выходящий на третью площадь, что была уже возле архивов. Что здесь некогда произошло, невозможно было даже догадаться.
За горой обломков и камня я вновь нашел коридор, но и в нем едва ли не сразу наткнулся на высокий завал, преградивший мне путь почти до самого грозно ощерившегося потолка. Как удалось мне пролезть через эту щель, раздвигая в сторону камни, как посмел я тревожить слежавшиеся обломки, когда малейшее нарушение равновесия могло подтолкнуть вниз всю массу камней надо мною и раздавить мое тело, я даже не представляю.
Чистое безумие гнало меня вперед и направляло мои действия — если только, как я все еще надеюсь, все мое подземное приключение не было адским видением наяву или в долгом кошмарном сне. Но я все-таки проделал проход через завал, или же мне приснилось это. Извиваясь, прокладывал я себе путь через эту груду обломков, удерживая зубами фонарь, включенный на ровный свет, и тело мое рвали опускавшиеся с потолка зубастые сталактиты.
Наконец я оказался возле огромного подземного хранилища, которое и притягивало меня.
Оступаясь и скользя по обратной стороне барьера, потом по оставшемуся коридору, посвечивая вперед зажатым в руке фонариком, я наконец добрался до низкого круглого подземелья, по всем сторонам которого открывались удивительно хорошо сохранившиеся арки.
Стены, точнее часть их, доступная свету моего фонарика, плотно покрывали иероглифы и обычные криволинейные символы, некоторые из них были добавлены уже после времени моих снов.
Здесь, понял я, ждала меня судьба. Не колеблясь, повернул к знакомой арке слева. Как ни странно, я даже не усомнился в том, что сумею пройти по наклонным ходам во всех сохранившихся уровнях. Огромное погребенное в земле хранилище, укрывающее анналы всей Солнечной системы, выстроено было с нечеловеческим мастерством, и прочности его достало бы пережить кончину самого Солнца.
Блоки немыслимого размера, размещенные гениями математики, скрепленные цементом невероятной прочности, образовывали массу, твердостью подобную скалистой коре планеты. Просуществовав века, даже числа которых я не умел представить, погребенный колосс стоял, как прежде. На огромных, лишь кое-где запорошенных полах были обычные в других местах обломки. Отсюда мой путь сделался относительно более легким, что неожиданным образом сказалось на мне. Все прежнее рвение, которому мешали проявиться препятствия, вдруг вылилось в стремление мчаться, и я действительно пустился бежать среди невысоких, столь жутко знакомых мне шкафов, что оказались за аркой.
Теперь меня уже не удивлял знакомый облик всего, что я видел.
С каждой стороны высились огромные металлические дверцы полок, какие-то из них оставались на месте, другие же были открыты, а третьи вовсе помяты и покорежены давнишними геологическими бурями, так и не одолевшими титаническую кладку.
Тут и там покрытые пылью груды под пустыми полками отмечали места, где дрожание земное сбросило ящики с полок. Кое-где на случайных столбиках попадались огромные символы и буквы, означающие разделы классификации.
Остановившись перед открытой камерой, в которой металлические ящики оказались на местах, пусть и под слоем вездесущей пыли, я достал один из тех, что потоньше, не без усилия, — и положил на пол, чтобы приглядеться. Он был надписан вездесущими криволинейными иероглифами, хотя в расположении знаков чудилось нечто непривычное.
Странный запор с крюками был мне прекрасно знаком, и, приподняв чистую, без пятнышка ржавчины крышку, я извлек из ящика книгу. Она была дюймов двадцать на двадцать пять и дюйма два толщиною. Переплет тоже был из металла.
К прочным целлюлозным страницам словно бы не прикоснулись пронесшиеся над ними мириады временных циклов, и я разглядывал оставленные кистью буквы странного цвета, отличавшиеся от обычных загогулин иероглифов, непохожих на любой алфавит, ведомый человеческому знанию, — глядел, словно что-то припоминал.
Тогда я понял, что таков был язык одного из пленных разумов — из тех, кого я знавал в моих снах, — разума, зародившегося на огромном астероиде, где сохранилось многое из архаической жизни и знаний первородной планеты, когда ей заблагорассудилось отделить от себя частицу. И еще я сообразил, что этот уровень отдан был материалам о планетах Солнечной системы.
Подняв глаза от невероятного документа, я увидел, что свет моего фонаря поблек, и торопливо вставил запасную батарейку, которую всегда брал с собой. Вооружившись более ярким светом, я вновь припустил по коридорам, разделяющим бесконечные островки, то и дело отыскивая взглядом знакомые полки, и лишь откуда-то издали ощущал акустический переполох, который производили мои шаги в этих катакомбах.
Сами отпечатки, оставленные мною в пыли, миллионы лет остававшейся на своем месте, заставляли меня ежиться. Никогда еще, если в моих безумных снах была хоть крупица истины, человеческие ноги не ступали по этим забывшим про возраст камням.
Куда я бегу и зачем, сознание мое не знало, не ведало. Какая-то злая сила, недобрая сущность влекла меня к себе и лишала памяти. Но смутно я все-таки ощущал, что бегу не вслепую.
Я оказался возле наклонного спуска и направился по нему в глубины. Этажи мелькали, я не задерживался, чтобы изучить их, голова кружилась, в висках пульсировал некий ритм, и правая рука моя задергалась в унисон. Я стремился отпереть нечто и ощущал все сложные повороты и нажимы, необходимые для этого… как в современном сейфе с комбинационным замком.
Во сне или нет, но я знал это, знаю и до сих пор; неужели можно во сне или из бессознательно усвоенной легенды обрести навыки в подробностях настолько мелких, сложных и незначительных?.. Я уже ничего не старался себе объяснить. Я понимал, что оставил уже те пределы, где властвует здравый рассудок. Ведь все, что происходило со мной: и обнаруженное мною жуткое знание руин немыслимой давности, и чудовищно точное совпадение всего увиденного с тем, что я считал почерпнутым из снов и преданий, — было ужаснее всего, с чем приходилось мне сталкиваться.
Быть может, тогда я невольно предполагал — как и сейчас, когда мой рассудок уже возвратился в какое-то подобие нормы, — что я не бодрствую, что весь этот похоронный город явлен мне в горячечной галлюцинации.
Наконец я достиг самого нижнего уровня и пустился вправо от пандуса. Тут по какой-то неосознанной причине, забыв про скорость, я начал смягчать звук собственных шагов: на этом самом нижнем этаже было место, куда я боялся ступить. Но только оказавшись рядом с ним, я вспомнил, чего именно боялся. Это была одна из заложенных металлическими брусьями тщательно охраняемых дверей. Теперь стражи не будет, и я затрепетал, привстав в страхе на цыпочки, словно в подземелье той базальтовой башни, где зияла открытой подобная дверь.
Я снова ощутил, как и там, прикосновение прохладного влажного воздуха и пожалел, что оказался здесь. Что несет меня сюда и зачем?.. Я не мог понять.
Приблизившись к страшному месту, я увидел, что дверь распахнута настежь. За ней вновь начинались полки, и я увидел груду ящиков, едва припорошенных пылью; видно было, что они упали не так давно. В тот же миг новая волна паники накрыла меня, и некоторое время я не мог понять почему.
Не в упавших ящиках было дело, такое мне уже приходилось видеть в этом подземелье; целые эоны конвульсии Земли сотрясали забывший свет лабиринт, и грохот упавших ящиков неоднократно нарушал его тишину. Только миновав пространство перед дверью, я понял причины.
Дело было не в ящиках, это пыль на полу возле них смутила мое зрение. Даже при свете моего фонаря становилось понятно: она лежала не так, как положено, кое-где ее почти не было, словно бы покой ее нарушали, и не столь уж давно, считаные месяцы назад. Впрочем, уверенности в этом нельзя было испытывать, даже там, где пыли оказалось поменьше, слой ее оставался толстым.
И когда я приблизил фонарик к одному из этих странных пятен, сердце мое упало — очертания его имели странно правильный облик, рядом шли три цепочки следов, размером чуть более квадратного фута… пять круглых вмятин размером в три дюйма, одна впереди остальных.
Отпечатки вели в обе стороны, словно кто-то выходил и вернулся. Конечно же, они были достаточно слабыми, они вполне могли быть иллюзией или случайностью. Но неясный ужас словно облаком окутывал их. След с одной стороны упирался в полки, с которых так недавно попадали ящики, с другой — в зловещее отверстие двери, откуда дул холодный ветер, оставлявший без охраны и присмотра путь в недра — к пропастям, превышающим разумение человека.
Глава 8
Настолько глубинным было это странное притяжение, что страх мой полностью покорился ему. Какая причина, какой мотив мог заставить меня сделать хотя бы шаг после этих ужасных следов и той беспричинной жути, о которой они напоминали? Но пусть тело и сотрясалось от страха, правая рука моя уже водила пальцами — так манил меня запор, который еще предстояло найти. И, понимая это, я уже оказался за грудой недавно свалившихся ящиков, на цыпочках торопясь к тому месту, которое знал… трепеща от страха, предвкушая ужасное… но без тени сомнения.
Разум пульсировал вопросами, о происхождении и уместности которых сам я лишь начинал догадываться. Сможет ли человеческое тело дотянуться так высоко? Сможет ли человеческая рука эоны спустя воспроизвести правильные манипуляции с замком? Что, если замок поврежден или заржавел? И что делать мне… что осмелюсь я сделать с тем самым, что, как я только что понял, надеюсь и боюсь обнаружить? Неужели я найду доказательство истинности своей истории, безумной, попирающей все основы, или же наконец подтвердится, что я только спал?
А потом я понял, что не бегу на цыпочках, а стою, вглядываясь в ряды полок с безумно знакомыми иероглифическими надписями. Они сохранились почти идеально — во всем стеллаже лишь три дверцы оказались открытыми.
Нельзя описать отношение мое к этим полкам, столь полным и настойчивым было ощущение прежнего знакомства с ними. Я глядел снизу на верхний ряд, находившийся вне пределов моей досягаемости, и гадал, где лучше вскарабкаться. В этом могла помочь открытая дверца в четырех рядах внизу, а запоры закрытых дверей способны были послужить неплохой опорой для рук и ног. Фонарик придется держать в зубах, что я делал и прежде там, где нужны были обе руки. Но главное — нельзя производить никакого шума.
Как опустить вниз то, что я рассчитывал там обнаружить? Это сделать было несложно, если зацепить застежку книги за воротник куртки и спускаться с ней, как с рюкзаком. И снова я подумал: цел ли замок? Я не сомневался в том, что сумею повторить знакомые движения. Оставалось только надеяться, что замок не станет скрипеть и трещать и что моя рука действительно справится с ним.
Но еще обдумывая все это, я взял зубами фонарь и полез вверх. Выступающие замки не предоставляли надежной опоры, но, как я и ожидал, весьма полезной оказалась открытая дверца. Она ходила свободно; так что, поднимаясь, я воспользовался ею и краем полки, умудрившись обойтись без особого шума.
Став на верхнем краю ее и потянувшись вправо, я едва сумел дотянуться до нужного мне замка. Пальцы мои, онемевшие от подъема, сперва действовали неловко, но скоро я убедился, что анатомическое строение их вполне дает возможность выполнить поставленную цель. Сила моторной памяти не ослабевала. Замысловатые секретные движения пальцев неизвестным путем во всех подробностях добрались до моего мозга… Менее чем через пять минут усердного труда послышался щелчок, настолько знакомый, что я даже испугался: рассудком я не ожидал никаких звуков. И через какое-то мгновение металлическая дверца, чуть скрипнув, медленно распахнулась.
Дикими глазами взирал я на ряды торцов сероватого цвета, испытывая одно лишь наполняющее душу мою необъяснимое чувство. В пределах досягаемости правой руки оказался ящик; витые иероглифы на нем заставили меня поежиться от ощущения куда более сложного, чем простой страх. Все еще содрогаясь, я ухитрился извлечь его и под лавиной пыли подтащить к себе без особого шума.
Как и первый ящик, с которым мне пришлось иметь дело, он оказался размером чуть более двадцати дюймов на пятнадцать, низким рельефом были вытеснены на нем математические символы. Толщиной он превосходил три дюйма.
Прижимаясь телом к поверхности, возле которой балансировал, я принялся возиться с застежкой и наконец справился с ней. Потом перекинул тяжелый предмет за спину, так чтобы получившимся крючком зацепить за ворот куртки. Освободив руки, я неловко сполз вниз и принялся исследовать свою добычу.
Согнувшись на коленях в пыли, я снял ящик со спины на пол перед собою. Руки мои тряслись, и я боялся извлечь эту книгу не менее страстно, чем желал этого — и не мог уже противиться более своему желанию. Мне уже стало ясным, чего я ищу, но само понимание словно парализовало меня.
Если я прав… если книга оказалась на своем месте и я не сплю — последствия этого будут непереносимыми для человеческого духа. Но более всего мучила меня собственная неспособность ощутить, что все творящееся со мной и вокруг — только сон. Ощущение реальности происходящего просто терзало… Оно и сейчас медленно обретает прежнюю силу, едва я начинаю вспоминать эту сцену.
Наконец трясущимися руками я извлек из емкости книгу и принялся завороженно разглядывать прекрасно знакомые знаки на обложке ее. Книга была в превосходном состоянии, и витые арабески знаков заголовка завораживали меня, словно я и впрямь способен был прочитать его. Действительно, не стану божиться, что мне не доводилось читать их в том ужасном минувшем… в моем безумном сне… или воспоминании.
Не знаю, сколько времени прошло, прежде чем я осмелился поднять металлическую обложку. Я тянул время и, оправдывая себя тем, что хочу поберечь батарейку, выключил фонарь. И в темноте, набравшись храбрости, открыл книгу — не включая света. И наконец мигнул фонариком на открывшуюся страницу — заранее успокоив себя, чтобы ни звуком не отреагировать на все, что бы ни открылось моим глазам.
Смотрел я только какой-то миг — а потом повалился. Но, стиснув зубы, молчал. Опустившись на пол, я притронулся рукой ко лбу… в полнейшем мраке. Я увидел именно то, что ожидал увидеть, именно то, чего так боялся. Или я сплю — или пространство и время лишь звук пустой.
Конечно, я сплю, но это можно проверить: я возьму с собой книгу, чтобы показать сыну, если она и в самом деле реальна. Голова моя плыла и кружилась, хотя чему во тьме кружить перед моими глазами? Туманя все чувства, меня охватили исполненные отчаяннейшего ужаса видения, порожденные одним только этим взглядом.
Я вспомнил о том, что показалось мне отпечатками, оставленными в пыли, и затрепетал от звука собственного дыхания. Снова включил фонарик и поглядел на страницу — так жертва удава глядела бы в глаза своего губителя и на клыки его.
И тогда, обессилевшей рукой, в темноте я закрыл книгу, положил ее обратно в коробку, опустил крышку ее и защелкнул вычурный крючок застежки. Значит, ее-то и суждено нести мне во внешний мир назад, если только эта вещь истинно существует… и если сама эта бездна не порождена кошмаром, и если существую я сам вместе с вмещающим меня миром.
Когда я поднялся на ноги и пустился в обратный путь, не могу сказать. Знаю одно: я был настолько далек от всего внешнего мира, что ни разу не взглянул на часы за это жуткое, проведенное под землей время.
С фонарем в одной руке, другой прижав к телу зловещий ящик, не помня себя самого, шел я на цыпочках в безмолвном ужасе мимо пропасти, извергавшей лишь дуновение, мимо кошмарных следов. Приступив к подъему, я оставил предосторожность, но все не мог стряхнуть с себя тень жуткого предчувствия, которого не ощущал во время спуска. Я страшился ждущей впереди черной базальтовой крипты, что была старше самого города; места, где холодный ветер извергался из далеких глубин. Я думал об ужасе Великой Расы, еще обитавшем внизу, пусть ослабев, пусть умирая. Я подумал об отпечатках — пяти кружках — и о странных ветрах и свисте, которые связывались с ними в моих снах. Вспомнил о рассказах местных чернокожих, в которых ужасные звуки и жуткие ветры были связаны друг с другом.
По врезанному в стену знаку я сумел опознать нужный этаж и наконец, миновав оставленную на полу первую книгу, добрался до круглого зала с противоположными арками. Справа я немедленно угадал ту самую арку, через которую попал сюда. Туда я и направился, сознавая, что завалы снаружи здания архивов замедлят мой путь. Трофей мой начинал оттягивать руку, и теперь мне становилось труднее сохранять спокойствие, спотыкаясь ногой об очередной обломок на полу.
А потом была высокая, до потолка, груда камней, над которой я едва пробрался по дороге сюда. С бесконечным страхом подступал я к ней, понимая, как много шума наделал в первый раз, минуя ее. Теперь, видев эти отпечатки, шума я опасался прежде всего. Металлический ящик все больше и больше мешал моим движениям.
Но наверх я поднялся без всяких трудов и там стал толкать ящик перед собой. Сам же полз следом — фонарик в зубах, — царапая спину о сталактиты.
Когда я наконец попробовал ухватить ящик, он вдруг поехал вперед по склону с шумом и грохотом, вызвавшим эхо, от которого меня бросило в холодный пот. Я немедленно рванулся за ним и поднял, прекратив шум, но, буквально через секунду, оступившись, снова против желания поднял грохот.
Он и погубил меня. Показалось мне или нет, но откуда-то из-за моей спины донесся жуткий ответ. Мне показалось, что был это пронзительный свист, ни на что на Земле не похожий, немыслимый, описать который невозможно никакими словами. В случившемся угадывалась мрачная ирония: если бы не страх, не паника, второго падения никогда не случилось бы.
Ну а тогда остервенение мое сделалось полным, непереносимым. С фонариком в руке, чуть не роняя металлический ящик, я прыгал с камня на камень, ничего более не ощущая, кроме безумного желания выбраться скорее из этого кошмарного подземелья в живой мир пустыни, к лунному свету, оставшемуся надо мной.
Не знаю, когда я добрался до горы обломков, уходившей кверху, в непроглядный мрак под обрушившейся крышей, и, ставя синяк за синяком, с новыми и новыми ссадинами полез вверх, по крутому склону из блоков и острых обломков.
Тогда разразилось несчастье. Едва я перевалил через вершину, ноги мои поехали, и я вдруг покатился вниз в лавине камня, с пушечным грохотом, сотрясающим черный воздух пещеры, оглушая уши сокрушительными реверберациями.
Не знаю, как я выбрался из этого хаоса, но, на мгновение придя в сознание, помню, как прыгал, карабкался, полз по коридору в утихающем грохоте… Ящик и фонарь еще были со мной.
Но истинное безумие настало, едва я приблизился к первобытной базальтовой крипте, которой так опасался. Когда стихло эхо поднятой лавины, я вдруг услышал тот жуткий свист, бесконечно чуждый уху людскому, тот, что слышал уже. На этот раз сомневаться не приходилось, но хуже всего было то, что свист доносился не сзади — откуда-то спереди.
Кажется, я завизжал. Смутно помню, как бежал адским базальтовым подземельем прежнего мира, а проклятый свист доносился из разверстой тьмы беспредельных черных глубин. Подул ветер — не прохладный сквознячок, как прежде, — свирепый могучий порыв яростно и гневно вырвался из отвратительной бездны, откуда недавно еще вырывался лишь непристойный свист.
Помню еще, как я прыгал, как перелезал препятствия, а ветер толкал меня в спину, и свист становился сильнее и сильнее, охватывал меня словно щупальцем… как бы разил из далеких подземных глубин.
Но ветер, дувший в спину, не помогал мне — он задерживал мое продвижение, останавливал меня на пути, подобно удавке или лассо. Но я шел — наперекор свисту — и, осилив завал, снова оказался за барьером из огромных блоков — там, где начинался подъем к поверхности.
Помню, как через арку глянул в машинный зал и едва не закричал, заметив наклонный спуск, уводящий к одной из этих кощунственных дверей, оставшихся в двух уровнях подо мной. Но крика не вышло, я только бормотал про себя, что это только сон и я скоро проснусь, что на самом деле я в лагере, а может быть, и дома — в Аркхеме. Надежды эти укрепили мой рассудок, и я принялся подниматься по склону на более высокий уровень.
Конечно же, я помнил, что мне предстоит перебраться через четырехфутовую щель, но прочие страхи не позволяли еще осознать всего ужаса до тех пор, пока пропасть не оказалась передо мною. Одно дело прыгать вниз, но смогу ли я столь же непринужденно перепрыгнуть расщелину вверх по склону… в панике, утомленный, отягощенный металлическим ящиком и ненормальным сопротивлением дующего в спину дьявольского ветра? Я подумал обо всем этом в последний момент… и о безымянных тварях, что гнездились в черной пропасти подо мной.
Свет фонаря слабел, но по памяти я все-таки заранее понял, что очутился возле расщелины. Порывы холодного ветра, тошнотворный визг позади на какой-то миг показались мне благодетельным даром, притупившим ужас мой перед разверстой пастью впереди. И тут я ощутил новые порывы ветра и свист — но уже спереди — приливами мерзости, извергавшимися из глубин непредставимых и непредставляемых.
Теперь вокруг меня творился сущий кошмар. Рассудок померк, и, забыв обо всем, кроме животного стремления к бегству, я рванулся по склону вверх, словно никакой пропасти не существовало. И когда передо мной предстал край ее, я прыгнул, отчаянно… вкладывая в движение все силы, которыми обладал, и на миг исчез в пандемониуме, черном кружащем водовороте мерзких звуков, перемешанных с угольной… что там… ощутимой пальцами тьмой.
Тут, насколько я могу вспомнить, все и закончилось. Все последующие мои впечатления целиком принадлежат к области фантасмагории или бреда. Сон, безумие, воспоминания странным образом смешивались, порождая одну за другой фантастические обрывочные иллюзии, ни в коей мере не связанные с реальностью.
Неисчислимые лиги летел я сквозь вязкую разумную тьму посреди вавилонского столпотворения звуков, каких не знала Земля, не слышал никто из обитавших на ней. Во мне вдруг начали пробуждаться какие-то рудиментарные чувства, указывая ямы и полости, в которых гнездился ужас, не знающие солнца ущелья, подземные океаны, а возле них города с черными базальтовыми башнями, в которых не было света.
Тайны первозданной планеты, со всеми незапамятными эонами ее истории, без звука, без света вспыхнули в моем мозгу, и я познал тогда вещи, которые не могли бы открыться мне прежде — даже в самых дичайших из моих видений. И все время холодные пальцы влажных облаков крутили и вертели меня, а ведьмин проклятый визг покрывал чередующиеся мгновения молчания, которыми то и дело прерывалось вавилонское столпотворение голосов в водоворотах кромешной тьмы.
А потом я вновь увидел циклопический город моих снов не в руинах — таким, как он мне представлялся. Я вновь пребывал в нечеловеческом коническом теле и бродил посреди толп Великой Расы, среди заточенных ею умов, торопившихся с книгами по коридорам и просторным пандусам.
Но поверх этих картин в жуткие, молниеподобные моменты озарения накладывалось слепое ощущение отчаянной схватки… щупалец свистящего ветра и безумного полета летучей мыши по отвердевшему воздуху, лихорадочного бегства в продутой ветром мгле, камней под ногами и руками, подъема.
Наконец что-то вспыхнуло наверху… далекий голубоватый неясный клочок. А потом мне снился сон: как карабкался вверх и ветер дул мне в спину, сардонический свет луны, ухмылявшейся наверху, пока я выползал по груде обломков, осыпавшейся под ногами и обрушившейся, покоряясь мерзкому урагану, едва я очутился на твердом месте. И злобные и унылые колыхания сулящего безумия лунного света поведали мне наконец, что я вернулся в мир, некогда казавшийся мне реальным.
Я вцепился руками в пески австралийской пустыни, а вокруг меня бушевала буря, какой мне еще не приходилось видеть на родной планете. Одежда моя висела клочьями, тело, казалось, все было покрыто царапинами и синяками.
Сознание во всей своей полноте возвращалось медленно, и не было такого мгновения, когда я мог сказать: вот, сгинуло наваждение и возвратилась память. Да, был передо мной холм из титанических блоков и пропасть под ним… и откровение, явленное мне из прошлого… и жуткий кошмар, которым и кончилось все… Но что же из всего этого было на самом деле?
Фонарик исчез, металлический ящик тоже, если на самом деле я нес его наружу. Так был ли этот ящик… и пропасть… и холм над нею? Приподняв голову, я оглянулся, но позади оставались только чистые волны пустынных песков.
Дьявольский ветер сгинул, распухшая болезненная луна краснела, закатываясь на западе. Поднявшись на ноги, я побрел на юго-восток — к лагерю. Что же на самом деле случилось со мной? Может быть, я просто забылся в пустыне и бродил, подчиняясь иллюзиям, по пескам возле погребенных блоков? А если не так, как осмелюсь я оставаться в живых?
Так рассыпалась вся моя вера в рожденную мифами ирреальность моих видений, уступая место прежним адским сомнениям. Если реальна эта пропасть, значит, реальна Великая Раса, а ее кощунственные устремления и метания в охватывающем весь космос водовороте времен не миф, не кошмар, но ужасная, сокрушающая душу реальность?
Неужели я, как ни мерзко понимать это, во время своей амнезии побывал в мире, что существовал за сто пятьдесят миллионов лет до человека? Неужели и тело мое послужило средством передвижения отвратительно чуждому существу, рожденному на грани палеозоя?
Неужели я в числе разумов, плененных этими неуклюжими чудищами, побывал в их проклятом каменном городе во времена его первобытного величия и расхаживал по коридорам в мерзком теле, принадлежащем пленившему меня?
Значит, и в самом деле сны, мучившие меня больше двадцати лет, — воспоминания… истинные и чудовищные?
Значит, и в самом деле приходилось мне разговаривать с умами, обитавшими в недостижимых уголках пространства и времени, узнавать секреты Вселенной… тем, что были, и тем, что еще ожидают своей череды… и писать анналы о собственном веке для титанических архивов с их металлическими коробками? Значит, существуют и эти… древние существа, твари, повелевающие адскими ветрами и визжащие дьявольскими голосами… те, что прячутся, выжидая, таятся в черных недрах планеты, медленно теряя в них силу, пока по растрескавшейся от возраста земной поверхности жизненным путем шествуют привычные нам существа?
Я не знаю. Если эта бездна реальна, если в ней действительно обитает то самое — надежды нет. И тогда на всем этом мире людей лежит коварная и насмешливая тень из вневременья. Но благодарение Богу, у меня нет тому доказательств, и перенесенное мною может оказаться новым обострением заболевания. Я не смог донести металлический ящик, что явился бы доказательством, а подземные коридоры до сих пор не найдены.
Впрочем, если Вселенная действительно повинуется милосердию, их никогда не найдут. Но я должен рассказать сыну, что видел или думал, что видел, и пусть он как психолог рассудит, реально ли это, а потом поведает свои выводы миру.
Я уже говорил: та ужасная правда, что таится за годами мучительных моих видений, возможно, и существует, если истинно то, что я видел в этих циклопических подземных руинах. Мне и в самом деле трудно описать самое мучительное, хотя читатель не мог уже не догадаться об этом. Конечно же, дело в той книге, что оказалась в металлическом ящике, с такими сложностями извлеченном мной с полки из-под пыли бесконечной вереницы веков.
Ни один глаз, ни одна рука не прикасались к ней со времени появления человека на этой планете. Но когда на дне той жуткой пропасти я посветил фонариком на целлюлозные листы ее, хрупкие, потемневшие от пролетевших миллионов лет, я увидел не иероглифы из времен юности нашей планеты — буквы родного нашего алфавита, складывающиеся в слова английской речи, выписанные моим собственным почерком.
Примечания
1
Здесь и далее имеется в виду полуостров Росса.
(обратно)2
Пер. К. Чуковского.
(обратно)3
Мачу-Пикчу — город-крепость инков XIV–XV вв.
(обратно)4
Киш — центр одного из древнейших месопотамских государств (XXVIII в. до н. э.).
(обратно)5
En masse — все вместе (фр.).
(обратно)6
Борхгревинк, Карстен (1864–1934) — норвежский путешественник.
(обратно)7
Мегалиты — сооружения из больших блоков грубо обработанного камня.
(обратно)8
Зиккурат — культовое сооружение в древнем Двуречье.
(обратно)9
Коттон Мэзер (Cotton Mather, 1663–1728) — американский ученый, биолог и медик, проповедник, писатель и памфлетист. Близко общался со многими из судей, участвовавших в процессе Салемских ведьм; в связи с процессом написал трактат о доказательной силе тех или иных свидетельств.
(обратно)10
Макс Карл Эрнст Людвиг Планк (Max Karl Ernst Ludwig Planck, 1858–1947) — выдающийся немецкий физик, основатель квантовой теории.
Вернер Карл Гейзенберг (Werner Karl Heisenberg, 1901–1976) — немецкий физик-теоретик, один из создателей квантовой механики.
Виллем де Ситтер (Willem de Sitter, 1872–1934) — нидерландский математик, физик и астроном.
(обратно)11
Эпическая поэма Джона Мильтона, впервые изданная в 1667 году в десяти книгах, описывающая белым стихом историю первого человека — Адама.
(обратно)12
Доре Гюстав (1832–1883) — французский гравер, иллюстратор и живописец.
(обратно)13
Честерфилд Филип Дормер Стенхоп (1694–1773) — граф, английский государственный деятель, дипломат и публицист. Автор наставительных «Писем к сыну» (изд.1774).
(обратно)14
Рочестер Джон Уилмот (1648–1680) — граф, английский поэт, фаворит Карла II.
(обратно)15
Гей Джон (1685–1732) — английский поэт и драматург, автор комедии «Опера нищих» (1728). Прайор Мэтью (1664–1721) — английский поэт и дипломат. Автор эпиграмм, баллад, стихотворных пародий на самых веселых римских остроумцев и рифмоплетов.
(обратно)16
Перевод Дм. Раевского.
(обратно)17
Палинур — рулевой корабля Энея, направлявшегося из Карфагена в Италию. Палинур заснул за рулем, упал за борт и погиб в волнах.
(обратно)18
Тюхе (Тихе, Тихэ, Тихея, «случайность», то, что выпало по жребию) — в греческой мифологии — богиня случая и удачи. В древнеримской мифологии ей соответствует Фортуна. Тюхе не встречалась в классической мифологии, а появилась только в эпоху эллинизма как сознательное противопоставление древнему представлению о неизменной судьбе. Она символизирует изменчивость мира, его неустойчивость и случайность любого факта личной и общественной жизни.
(обратно)19
Граждане, оказывавшие по личной инициативе или по поручению своего полиса гостеприимство и помощь послам или гражданам другого полиса и пользовавшиеся за это в чужом городе рядом привилегий.
(обратно)20
«Образ мира» (фр.).
(обратно)21
Peninsular and Oriental Steamship Company — крупная судоходная компания, осуществляющая рейсы в Индию, Австралию и на Дальний Восток.
(обратно)22
Фердинанд Мари де Лессепс (1805–1894) — французский дипломат, инженер, автор проекта и руководитель строительства Суэцкого канала.
(обратно)23
Легкая четырехколесная коляска с откидным верхом.
(обратно)24
Эгипан, то есть Пан-козел, некоторыми считается существом, отличающимся от Пана, в то время как другие считают его идентичным Пану. Согласно Гигину, являлся сыном Зевса.
(обратно)25
Корона, по форме напоминавшая бутылку, вставленную в кольцо. Такую сдвоенную корону красно-белого цвета стали носить фараоны после объединения Нижнего и Верхнего Египта в одно централизованное государство.
(обратно)26
Общее название различных стадий классицизма в англо-американской архитектуре периода царствования в Великобритании четырех сменявших друг друга королей по имени Георг (1714–1830).
(обратно)27
Ручной ударный музыкальный инструмент, схожий с кастаньетами, деревянный или металлический, бывший в употреблении у греков и римлян.
(обратно)28
Парацельс, настоящее имя Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенхайм или Гогенгейм (1493–1541) — знаменитый алхимик, врач и оккультист.
Альберт Великий (1193–1280), он же Св. Альберт, Альберт Кельнский, Альберт фон Больштедт, — философ, теолог, ученый. Видный представитель средневековой схоластики, доминиканец.
Иоганн Тритемий (1462–1516) — автор книг по истории, криптографии и оккультизму. Его имя представляет собой латинизированную форму названия его родного города Триттенхайм.
Гермес Трисмегист (Триждывеличайший) — имя синкретического божества, сочетающего в себе черты древнеегипетского бога мудрости и письма Тота и древнегреческого бога Гермеса. Считается весьма древним автором ряда «герметических» произведений, в подлинности которых отцы церкви не сомневались. Лактанций полагает Трисмегиста гораздо более древним, чем Пифагор и Платон, и считает Трисмегиста одним из важнейших языческих провидцев, предсказавших приход христианства.
Пьер Борель (Petrus Borellius) (1620–1671) — французский химик (алхимик), врач и ботаник, занимался оптикой, древней историей, филологией и библиографией.
(обратно)29
Элизабет Котсворт. «Небесный лотус».
(обратно)30
У. Шекспир. «Все хорошо, что хорошо кончается». Пер. Т.Л. Щепкиной-Куперник.
(обратно)31
Дж. Мильтон. «Il Penseroso». Пер. Е.В. Витковского.
(обратно)32
Дж. Китс «Ода греческой вазе», пер. Г.М. Кружкова.
(обратно)33
Один из четырех лондонских иннов, профессиональных ассоциаций судей и адвокатов.
(обратно)34
Независимая школа для мальчиков Харроу расположена на северо-западе современного Лондона (город Харроу). Некоторые свидетельства указывают на то, что она существует с 1243 года, однако официальной датой основания, согласно хартии Елизаветы I, считается 1572 г. Среди выпускников школы числятся восемь премьер-министров, два короля, многочисленные государственные деятели, а также видные деятели искусств и науки.
Оксфордский университет, расположенный в городе Оксфорд, занимает второе место в списке самых старых университетов мира и является старейшим англоязычным университетом в мире, а также первым университетом Великобритании. Хотя точная дата основания университета неизвестна, есть доказательства, что преподавали там еще в XI веке.
(обратно)35
Район Лондона, расположенный между Стрендом и Друри-лейн. Получил свое название от продуктового рынка, учрежденного там Джоном Холлесом, вторым графом Клэр, в XVII веке.
(обратно)36
Эдуард Вудсток, «Черный принц» (1330–1376) — принц Уэльский, принц Аквитанский, старший сын короля Англии Эдуарда III.
(обратно)37
Оборонительное укрепление длиною 120 км, построенное римлянами при императоре Адриане в 122–126 гг. для предотвращения набегов пиктов и бригантов с севера.
(обратно)38
Каллиграфический вариант одного из основных типов латинского письма III–V вв., называемого иногда первоначальным минускулом (от лат. minus — малый). Характеризуется крупными, округлыми буквами, почти не выходящими за пределы строки, без острых углов и ломаных линий.
(обратно)39
Театр большой марионетки (фр.).
(обратно)40
Э. По. Страна сновидений. Пер. Н. Вольпина.
(обратно)41
Перевод Л. Володарской.
(обратно)42
Перевод С. Сухарева. — Здесь и далее примеч. переводчиков.
(обратно)43
БОЖ… ВЕЛИКАЯ МАТЕ…
(обратно)44
Семи саксонских королевств, существовавших с V по VIII в. от Р. X.
(обратно)45
Чудеса (лат.).
(обратно)46
Группа мелких индейских племен, проживавшая в долине реки Коннектикут от западного Массачусетса до юго-западного Нью-Гэмпшира. В результате войн и переселений перемешались с другими племенами.
(обратно)47
Иоганн Тритемий считается одним из основателей современной криптологии, его книга «Polygraphiae» (1508) посвящена методам шифрования; «De Furtivis Literarum Notis» («Про скрытую значимость отдельных букв») (1563) — фундаментальный труд по криптологии; в «Traicté des Chiffres ou Secrètes Manières d’Escrire» («Трактат о цифрах и тайнописи) (1586) Блеза де Виженера описывается метод шифрования, впоследствии названный «шифр Виженера»; Джон Фальконер — автор книги «Cryptomenysis Patefacta» (1685); Джон Дэвис — автор работы «An Essay on the Art of Decyphering: in which is inserted a Discourse of Dr. Wallis» (1737); Филип Тикнес — автор работы «A Treatise on the Art of Decyphering and of Writing in Cypher» (1772); Уильям Блэйр — автор статьи «Шифрование» в «Новой энциклопедии» 1819 года; Георг Фридрих фон Мартенс — автор трехтомного «Cours diplomatique ou tableau des relations extérieures des puissances de l’Europe» (1801); И.Х. Клюбер — автор книги «Kryptographik» (1908). Имена и названия Лавкрафт выписал из статьи «Криптография» в Британской энциклопедии 1911 года.
(обратно)48
Язва, ходящая во мраке (лат.; Пс 90:6).
(обратно)49
«Культы вурдалаков» (фр.).
(обратно)50
«Неупоминаемые культы» (нем.).
(обратно)51
«О Черве Таинственном» (лат.).
(обратно)52
Дагон (финик.) — западносемитский бог, покровитель рыбной ловли.
(обратно)53
Сверхъестественные (фр.).
(обратно)54
Паукообразных.
(обратно)55
Жукообразных.
(обратно)56
После Рождества Христова (лат.).
(обратно)57
Криноидеи — морские лилии.
(обратно)58
Брахиоподы — разновидность моллюсков.
(обратно)59
Расположена на северо-западном побережье Австралии.
(обратно)Комментарии
1
Роберт Браунинг (1812–1889) — английский поэт и драматург. Пользуется репутацией поэта-философа с нарочито усложненным и несколько затуманенным языком.
(обратно)2
Генри Джеймс (1843–1916) — американский писатель, теолог и философ.
(обратно)3
Оливер Венделл Холмс (1809–1894) — американский врач, анатом, физиолог, историк медицины, поэт и писатель.
(обратно)4
Фрэнсис Мэрион Кроуфорд (1854–1909) — американский писатель.
(обратно)5
Шарлотта Перкинс Гилман (1860–1935) — видный американский социолог, романист, публицист, автор коротких рассказов и стихов, пропагандист общественной реформы. Утопическая феминистка.
(обратно)6
Уильям Ваймарк Джейкобс (1863–1943) — английский писатель.
(обратно)7
Салемские суды над ведьмами происходили в колониальные времена в графствах Саффолк, Эссекс, и Миддлсекс в Массачусетсе между февралем 1692 года и маем 1693 года.
(обратно)8
Альберт Великий (1193? — 1280), также св. Альберт, Альберт Кельнский, Альберт фон Больштедт — философ, теолог, ученый. Видный представитель средневековой схоластики, доминиканец.
(обратно)9
Раймонд Луллий (ок. 1235–1315) — поэт, философ и визионер, один из наиболее оригинальных представителей средневекового миросозерцания.
(обратно)10
Нострадамус (1503–1566) — французский астролог, врач, автор знаменитых «Центурий» (1558), предсказаний о будущем; Иоганн Тритемий (1462–1516) — автор книг по истории, криптографии и оккультизму. Его имя представляет собой латинизированную форму названия его родного города Триттенхайма; Джон Ди (1527–1609), английский математик, географ, астроном, алхимик, герметист и астролог валлийского происхождения; Роберт Фладд (1574–1637) — английский врач, философ-мистик, астролог.
(обратно)11
Преподобный Сэбайн Бэринг-Гулд (1834–1924) — английский агиограф, антиквар, романист и ученый.
(обратно)12
Главное его произведение — аллегорическая рыцарская поэма «Королева фей», оставшаяся незаконченной. Первое издание в трех книгах вышло в 1590 году, второе издание в шести книгах в 1596 году.
(обратно)13
Оссиан (правильнее Ойсин) — легендарный кельтский бард III века, от лица которого написаны поэмы Джеймса Макферсона и его подражателей.
(обратно)14
Уильям Блейк (1757–1827) — английский поэт и художник, мистик и визионер.
(обратно)15
Джеймс Хогг (1770–1835) — шотландский поэт, автор исторических баллад в стиле Вальтера Скотта. Как поэт испытал сильное влияние Бернса. Помогал Скотту собирать народные песни и фольклор.
(обратно)16
Готфрид Август Бюргер (1747–1794) — немецкий поэт. Сын пастора. Получил юридическое образование. Один из выразителей идей «Бури и натиска». В литературной деятельности вначале подражал поэтам рококо. Опираясь на фольклорные традиции, создал новый для немецкой литературы жанр серьезной баллады, введя элементы чудесного, таинственного, иррационального. В его балладах действуют мертвецы, привидения, оборотни.
(обратно)17
Хорас Уолпол, 4-й граф Орфорд (1717–1797) — английский писатель, основатель жанра готического романа.
(обратно)18
Анна Летиция Барбоулд, урожденная Эйкин (1743–1825) — видная английская романтическая поэтесса, эссеист и детский писатель.
(обратно)19
Клара Рив (1729–1807) — представитель готического жанра, последовательница Хораса Уолпола. Оставила заметный след в истории готического романа, впервые разграничив определения жанров и подчеркнув значение морали в готике.
(обратно)20
София Ли (1750–1824) — английская романистка и драматург.
(обратно)21
Чарлз Брокден Браун (1771–1810) — американский романист, историк и издатель, считающийся наиболее честолюбивым и совершенным американским писателем до Фенимора Купера, а также важнейшей фигурой в американской литературе конца XVIII — начала XIX века.
(обратно)22
Уильям Годвин (3 марта 1756 — 7 апреля 1836) — английский журналист, политический философ и романист. Муж Мэри Уолстонкрафт, отец Мэри Шелли.
(обратно)23
Точные годы жизни неизвестны.
(обратно)24
Эдвард Джордж Эрл Бульвер-Литтон, 1-й барон Литтон (1803–1873) — английский писатель.
(обратно)25
Джордж Вильям Макартур Рейнольдс (1814–1879) — британский писатель и журналист. Практически забытый теперь, при жизни он пользовался большей популярностью, чем Диккенс или Теккерей; в своем некрологе журнал «The Bookseller» назвал Рейнольдса «самым известным писателем нашего времени». Наибольшей известностью пользовался его сериал «Лондонские тайны», в известной мере находившийся под влиянием «Парижских тайн» Эжена Сю.
(обратно)26
Джон Уильям Полидори (1795–1821) — английский писатель и врач итальянского происхождения. Известен своими связями с романтическим движением и считается некоторыми создателем вампирического жанра фэнтези. Наибольшим успехом среди его произведений пользовался короткий рассказ «Вампир», опубликованный в 1819 году, первый в Англии на подобную тему.
(обратно)27
Томас Мур (1779–1852) — поэт-песенник и автор баллад. Один из основных представителей ирландского романтизма. Наиболее известными его произведениями являются «Последняя роза лета» и сборник «Ирландские мелодии».
(обратно)28
Томас Де Квинси (1785–1859) — английский писатель, автор знаменитой «Исповеди англичанина, употребляющего опиум».
(обратно)29
Уильям Гаррисон Эйнсворт (1805–1882) — английский исторический романист, добившийся известности романом «Руквуд».
(обратно)30
Фредерик Марриет (1792–1848) — офицер английского военного флота, романист и знакомый Чарлза Диккенса, известный в качестве одного из пионеров морской тематики в литературе.
(обратно)31
Джозеф Шеридан ЛеФаню (1814–1873) — ирландский писатель, один из лучших авторов готической прозы. Уильям Уилки Коллинз (1824–1889) — английский писатель, автор 27 романов, 15 пьес и более чем полусотни рассказов. Считается создателем детективного жанра. Генри Райдер Хаггард (1856–1925) — английский прозаик, юрист и специалист по агрономии и почвоведению, классик мировой приключенческой литературы, наряду с Льюисом Кэрроллом и Эдгаром По основоположник жанра фэнтези. Сэр Артур Игнатиус Конан-Дойль (Дойл) (1859–1930) — шотландский и английский писатель, всемирную известность которому принесли детективные произведения — о Шерлоке Холмсе, приключенческие и научно-фантастические — о профессоре Челленджере, юмористические — о бригадире Жераре, а также исторические романы. Герберт Джордж Уэллс (1866–1946) — британский писатель и публицист, автор известных научно-фантастических романов «Машина времени», «Человек-невидимка», «Война миров» и др. Роберт Льюис Стивенсон (1850–1894) — шотландский писатель и поэт, автор всемирно известных приключенческих романов и повестей, крупнейший представитель английского неоромантизма.
(обратно)32
Эмили Джейн Бронте (1818–1848) — английская поэтесса, автор романа «Грозовой перевал».
(обратно)33
Фридрих Генрих Карл де ля Мотт Фуке (1777–1843) — родом из французских эмигрантов-гугенотов, осевших в Пруссии.
(обратно)34
Иоганн Вильгельм Мейнольд (1797–1851) — померанский священник, поэт, драматург и романист.
(обратно)35
Ганс Гейнц Эверс (1871–1943) — немецкий писатель и поэт, автор мистических рассказов и романов готической направленности.
(обратно)36
Виктор Гюго (1802–1885) — французский писатель (поэт, прозаик и драматург), глава и теоретик французского романтизма. Член Французской академии (1841).
(обратно)37
Оноре де Бальзак (1799–1850) — французский писатель. Имя при рождении — Оноре Бальса; частицу «де», означающую принадлежность к дворянскому роду, начал использовать около 1830 года, также изменил фамилию для благозвучия.
(обратно)38
Пьер Жюль Теофиль Готье (1811–1872) — французский поэт и критик романтической школы.
(обратно)39
Гюстав Флобер (1821–1880) — французский романист, автор романов «Мадам Бовари» (1856) и «Саламбо» (1862).
(обратно)40
Шарль Бодлер (1821–1867) — поэт и критик, классик французской и мировой литературы.
(обратно)41
Жорис-Карл Гюисманс, официально Шарль Жорж Мари Гюисманс (1848–1907) — французский писатель, первый президент Гонкуровской академии (с 1900).
(обратно)42
Проспер Мериме (1803–1870) — французский писатель, член Французской академии.
(обратно)43
Анри Рене Альбер Ги де Мопассан (1850–1893) — выдающийся французский писатель, гениальный романист и автор новелл, которые по праву считаются шедеврами мировой литературы.
(обратно)44
Фиц-Джеймс О’Брайен (1828–1862) — американский писатель ирландского происхождения, некоторые из произведений которого считаются предваряющими современную научную фантастику.
(обратно)45
Этим псевдонимом пользовались французские писатели Эмиль Эркманн (1822–1899) и Александр Шатриан (1826–1890), написавшие совместно почти все свои произведения.
(обратно)46
Филипп Огюст Матиас Вилье де Лиль-Адан (1838–1889) — французский писатель, граф.
(обратно)47
Морис Левель (1875–1926) — французский писатель и драматург, специализировавшийся на коротких зловещих историях, регулярно публиковавшихся в парижских газетах.
(обратно)48
Густав Майринк, настоящее имя Густав Майер (1868–1932) — австрийский писатель-экспрессионист, драматург, переводчик и банкир. Всемирную славу ему принес роман «Голем», который стал одним из первых бестселлеров XX века.
(обратно)49
С. Анский (Энский?), псевдоним Соломона Занвеля Раппопорта (1863–1920), — русский писатель и фольклорист еврейского происхождения, более всего известный упомянутой пьесой.
(обратно)50
Эдгар Алан По (1809–1849) — американский писатель, поэт, литературный критик и редактор, представитель американского романтизма.
(обратно)51
Шарль-Пьер Бодлер (1821–1867) — поэт и критик, классик французской и мировой литературы.
(обратно)52
Эдвард Джон Мортон Дракс Планкетт, восемнадцатый барон Дансени (1878–1957) — ирландский англоязычный писатель и поэт. Богатый аристократ, Дансени писал для развлечения. По признаниям Говарда Лавкрафта и Роберта Э. Говарда, оказал большое влияние на их творчество. Считается одним из пионеров современного фэнтези.
(обратно)53
Чарлз Брокден Браун (1771–1810) — первый значительный американский романист.
(обратно)54
Вашингтон Ирвинг (1783–1859) — выдающийся американский писатель-романтик, которого часто называют «тцом американской литературы.
(обратно)55
Пол Элмер Мор (1864–1937) — американский критик, просветитель и философ; преподавал санскрит и классическую литературу, был издателем газеты.
(обратно)56
Натаниэль Готорн (1804–1864) — один из первых и наиболее общепризнанных мастеров американской литературы. Внес большой вклад в становление жанра рассказа (новеллы) и обогатил литературу романтизма введением элементов аллегории и символизма.
(обратно)57
Дэвид Герберт Лоуренс (1885–1930) — английский писатель. Один из самых известных писателей начала двадцатого столетия, знаменитый благодаря своим психологическим романам: также писал эссе, стихи, пьесы, записки о своих путешествиях и рассказы.
(обратно)58
Амброз Гвиннет Бирс (1842–1913?) — американский писатель, журналист, автор юмористических и «страшных» рассказов.
(обратно)59
Фредерик Тейбр Купер (1864–1937) — американский издатель и писатель.
(обратно)60
Оливер Уэнделл Холмс-старший (1809–1894) — американский врач, поэт и писатель.
(обратно)61
Роберт В. Чемберс (1865–1933) — американский художник и писатель.
(обратно)62
Дама Дафна дю Морье или леди Дафна Браунинг (1907–1989) — английская писательница и биограф, писавшая в жанре психологического триллера, в России чаще публикуется как Дафна Дюморье.
(обратно)63
Мэри Элеанор Уилкинс Фримен (1852–1930) — видная американская писательница XIX века.
(обратно)64
Ральф Адамс Крам (1863–1942) — плодовитый и влиятельный американский архитектор, создатель церквей и соборов, часто в готическом стиле.
(обратно)65
Ирвин Шрюсбери Кобб (1876–1944) — американский писатель, юморист и обозреватель, автор более 60 книг и 300 коротких рассказов.
(обратно)66
Леонард Лэнсон Клайн (1893–1929) — американский романист, поэт, автор коротких рассказов и журналист.
(обратно)67
Кларк Эштон Смит (1893–1961) — американский поэт и писатель, художник, скульптор. В основном известны его рассказы в жанре фантастики и фэнтези, но при жизни его ценили как поэта.
(обратно)68
Патрик Лафкадио Хирн (полное имя — Патрисио Лафкадио Тессима Карлос Хирн) (1850–1904) — ирландско-американский прозаик, переводчик и востоковед, специалист по японской литературе. Имя получил от острова Лефкас, на котором родился. Отец — военный врач-ирландец, мать — коренная гречанка. Увлекшись японской культурой, стал страстным поклонником и пропагандистом Востока, принял японское имя Коидзуми Якумо, взятое им из древнеяпонского эпоса «Кодзики». Также принял японское гражданство. Женился на японской женщине по имени Сэцу Коидзуми, дочери самурая. Считается человеком, по сути дела познакомившим европейцев с культурой Японии.
(обратно)69
Мэтью Фиппс Шил (1865–1947) — плодовитый британский писатель вест-индийского происхождения. Известен в основном своими сверхъестественными и научными повествованиями.
(обратно)70
Ричард Марш (1857–1915) — псевдоним британского писателя Ричарда Бернара Хелдманна; более всего он известен своим романом ужасов «Жук».
(обратно)71
Артур Генри Сарсфилд Вард (1883–1959), более известный как Сакс Ромер, — плодовитый английский романист. Более всего известен серией криминальных романов про доктора Фу Манчу.
(обратно)72
Френсис Бретт Янг (1884–1954) — английский романист, поэт, драматург и композитор.
(обратно)73
Джон Бьюкен (1875–1940) — 1-й барон Твидсмур. Был также членом парламента и генерал-губернатором Канады в 1935–1940 гг. Бьюкены, или Буханы, — один из кланов равнинной части Шотландии.
(обратно)74
Клеменс Хаусман (1861–1955) — писательница, иллюстратор, активистка женского движения суфражисток.
(обратно)75
Артур Мичелл Рэнсом (1884–1967) — английский писатель и журналист, наиболее известный детскими книгами.
(обратно)76
Уолтер Джон де ла Мар, также Уолтер Деламар (1873–1956) — известный английский поэт, писатель и романист, наиболее знаменитый своими произведениями для детей.
(обратно)77
Джеймс Мэтью Барри (1860–1937) — шотландский драматург и романист, автор известной детской сказки «Питер Пэн».
(обратно)78
Эдвард Фредерик Бенсон (1867–1940) — английский романист, биограф, мемуарист и автор коротких рассказов.
(обратно)79
Герберт Расселл Уэйкфилд (1890–1964) — английский романист, автор коротких рассказов и издатель, наиболее известный своими рассказами о привидениях.
(обратно)80
Сэр Хью Сеймур Уолпол (1884–1941) — английский романист, опубликовавший тридцать шесть романов, пять томов коротких историй, две пьесы и мемуары в трех томах.
(обратно)81
Вильям Джон Меткалф (1891–1965) — преподаватель, романист, автор коротких рассказов.
(обратно)82
Эдвард Морган Форстер (1879–1970) — английский романист, автор коротких рассказов, эссеист и либретист.
(обратно)83
Пользовалась псевдонимом Тео Дуглас.
(обратно)84
Лесли Поулс Хартли (1895–1972) — британский писатель, известный своими романами и короткими рассказами.
(обратно)85
Псевдоним Мэри Амелии Сент-Клер (1863–1946) — популярной британской писательницы, создавшей около двух дюжин романов, короткие истории и стихи.
(обратно)86
Уильям Хоуп Ходжсон (1877–1918) — английский писатель, автор многих эссе и коротких рассказов и романов, жанровая принадлежность которых находится между литературой ужаса, фантастикой и научной фантастикой; писал стихи, занимался атлетикой, был фотографом. Погиб под Ипром в возрасте 40 лет.
(обратно)87
Роберт Браунинг (1812–1889) — английский поэт и драматург. Браунинг имеет репутацию поэта-философа, пользовавшегося нарочито усложненным языком.
(обратно)88
Псевдоним Юзефа Теодора Конрада Коженёвского, в устаревшей форме — Теодора Иосифа Конрада Корженевского (1857–1924) — английского писателя. Поляк по происхождению, он получил признание в качестве классика английской литературы.
(обратно)89
Уильям Карлтон (1794–1869) — ирландский романист.
(обратно)90
Томас Крофтон Крокер (1798–1854) — ирландский антиквар, занимавшийся сбором старинной ирландской поэзии и фольклора.
(обратно)91
Джейн Франческа Агнес, леди Уайльд (1821–1896) — ирландская поэтесса, писавшая под псевдонимом Сперанца, поддерживала националистическое движение, собирала ирландские сказки.
(обратно)92
Дуглас Хайд, 1860–1949, первый президент Ирландии с 25 июня 1938-го до 24 июня 1945-го. Был одним из первых профессоров ирландского языка в Национальном университете Ирландии и известным поэтом и фольклористом.
(обратно)93
Уильям Батлер Йийтс (1865–1939) — англо-ирландский поэт и драматург, одна из ключевых фигур литературы XX века.
(обратно)94
Эдмунд Джон Миллингтон Синг (1871–1909) — ирландский драматург, поэт, прозаик, собиратель фольклора.
(обратно)95
Изабелла Августа, леди Грегори (1852–1932) — ирландский драматург и фольклорист.
(обратно)96
Падраик Колум (1881–1972) — ирландский поэт, романист, драматург, биограф, собиратель фольклора.
(обратно)97
Джеймс Стефенс (1882–1950) — ирландский романист и поэт, создавший много пересказов ирландских мифов и сказок.
(обратно)98
Артур Мэкен, на отечественной почве также Махен, Мейчен, Макн (1863–1947) — валлийский писатель и мистик 1890-х годов и начала XX века. Считается влиятельным автором в области ужасного, сверхъестественного и фэнтези, а также классиком литературы ужасов.
(обратно)99
Алджернон Генри Блэквуд (1869–1951) — английский писатель и путешественник, один из ведущих авторов-мистиков, классик литературы ужасов первой половины XX века. Автор 13 романов, более 200 рассказов и повестей, опубликованных в периодике и многочисленных сборниках и антологиях.
(обратно)100
М.Р. Джеймс (1862–1936) — английский писатель, историк, специалист по Средневековью, ректор Королевского колледжа в Кембридже и Итоне, вошедший в историю мировой литературы как классик зловещего жанра.
(обратно)101
Чаша Птолемеев представляет собой ониксовую или халцедоновую камейную двуручную чашу-канфар, ныне хранящуюся в парижской Национальной библиотеке.
(обратно)


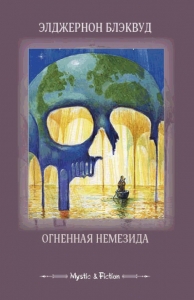
Комментарии к книге «Собрание сочинений. Избранные произведения в одном томе», Говард Лавкрафт
Всего 0 комментариев