С любовью Стэну Уайсу и Кристоферу Уайсу, Джону Престону, Элис О'Брайен Борчардт, Тамаре О'Брайен Тинкер, Карен О'Брайен и Микки О'Брайен Коллинзу, а также Дороти Ван Бевер О'Брайен, которая в 1959 году купила мне первую в моей жизни пишущую машинку, не пожалев при этом времени и сил, чтобы найти хорошую модель.
И дождь окрашен в цвет мозга. И раскаты, грома словно нечто, вспоминающее о чем-то.
Стэн Райc1
Доктор проснулся в испуге. Ему вновь приснился тот старый дом в Новом Орлеане. Он видел женщину в кресле-качалке. И мужчину с карими глазами.
Даже сейчас, в своем тихом номере на одном из верхних этажей нью-йоркского отеля, доктор испытывал давнее чувство неопределенности. Он снова говорил с кареглазым мужчиной. О том, что ей следует помочь.
«Нет, это всего лишь сон, и я хочу из него выбраться».
Доктор сел на постели. Ни звука, кроме слабого гудения кондиционера. Тогда почему же в эту ночь в номере «Паркер Меридиен» его голова забита всем этим? Некоторое время доктору не удавалось отделаться от всплывшего в памяти видения – образа старого дома. Перед глазами вновь возникала женщина: ее склоненная голова и бессмысленный взгляд. Он почти слышал жужжание мух за сеткой, натянутой по периметру старой террасы. А кареглазый мужчина говорил, почти не размыкая губ, словно восковая кукла, в которую вдохнули жизнь…
Все! С него хватит!
Доктор встал с кровати и по устланному ковром полу прошлепал босиком к окну с прозрачными белыми занавесками. Он вглядывался в черные, точно сажа, крыши окрестных домов и неяркие неоновые огни, мерцающие на кирпичных стенах. Над унылым бетонным зданием напротив где-то за облаками занимался рассвет. Как хорошо, что здесь нет изнуряющей жары. И доводящего до дурноты запаха роз и гардений.
Постепенно в голове у доктора прояснилось.
Ему вновь вспомнилась встреча с англичанином в баре вестибюля. Так вот с чего все началось! С беседы англичанина с барменом и с упоминания о том, что незнакомец совсем недавно приехал из Нового Орлеана и что это воистину город призраков. В облегающем костюме из полосатой льняной ткани, с золотой цепочкой от часов, свисавшей из кармана жилета, этот весьма любезный господин производил впечатление истинного джентльмена Старого Света. Редко теперь можно встретить человека, обладающего столь отчетливыми мелодичными интонациями голоса, свойственными британскому актеру, и блестящими, неподвластными возрасту голубыми глазами.
– Да, насчет Нового Орлеана вы правы, вы совершенно правы, – обратился к нему тогда доктор. – Я сам видел в Новом Орлеане призрака, причем не так уж и давно.
Потом доктор, будто смутившись, умолк и уставился в стоявший перед ним бокал с бурбоном, в хрустальном донышке которого резко преломлялся свет.
Опять жужжание летних мух, запах лекарства. Такая доза торазина? Нет ли здесь ошибки?
Англичанин проявил вежливое любопытство. Он пригласил доктора вместе пообедать, сказав, что коллекционирует такого рода свидетельства. Какое-то время доктор боролся с искушением. Предложение было заманчивым, к тому же доктору понравился этот человек и он сразу проникся к нему доверием. Да и приятный интерьер наполненного светом вестибюля «Паркер Меридиен», где царила людская суета, представлял собой полную противоположность тому мрачному району Нового Орлеана – старого, унылого, исполненного таинственности города, полыхавшего нескончаемым Карибским зноем.
Но доктор не мог рассказать свою историю.
– Если вы все же передумаете, позвоните мне, – сказал ему англичанин. – Меня зовут Эрон Лайтнер.
Он подал доктору визитную карточку с названием какой-то организации.
– Мы, если можно так выразиться, собираем рассказы о призраках – правдивые, разумеется.
«ТАЛАМАСКА.
Мы бдим.
И мы всегда рядом».
Любопытный девиз.
Ну вот, все встало на свои места. Именно англичанин с его забавной визитной карточкой, где были указаны европейские телефонные номера, заставил его вновь окунуться в воспоминания. Англичанин собирался отправиться на Западное побережье, чтобы увидеться с одним человеком из Калифорнии, который недавно утонул, но был возвращен к жизни. Доктор читал об этом происшествии в нью-йоркских газетах – один из тех случаев, когда в момент клинической смерти человек видит некий свет.
– Видите ли, теперь он утверждает, что обрел экстрасенсорные способности, – сказал англичанин, – и нас это, естественно, заинтересовало. Дотрагиваясь до предметов руками, он якобы видит образы. Мы называем это психометрией.
Доктор был заинтригован. Он сам слышал о нескольких подобных пациентах, жертвах сердечных заболеваний. И если он правильно помнит, вернувшиеся к жизни утверждали, что видели будущее. «Побывавшие на грани смерти» – в последнее время в медицинских журналах попадалось все больше статей об этом феномене.
– Да, – отозвался Лайтнер, – лучшие исследования на эту тему были проведены врачами-кардиологами.
– По-моему, несколько лет назад был даже снят фильм, – припомнил доктор. – О женщине, которая, вернувшись к жизни, обрела дар целительства. На удивление впечатляющая история.
– О, да у вас непредвзятое отношение к этому феномену, – с довольной улыбкой произнес англичанин. – Вы и в самом деле уверены, что не хотите рассказать мне о своем призраке? Я улетаю только завтра, ближе к полудню, и готов выполнить любые ваши условия, лишь бы услышать эту историю!
Нет, только не эту. Ни сейчас, ни когда-либо.
Оставшись один в полутемном гостиничном номере, доктор вновь ощутил страх. Там, в Новом Орлеане, в длинном пыльном зале тикали часы. Он слышал шарканье ног своей пациентки, прогуливавшейся в сопровождении сиделки. До него вновь доносились запахи новоорлеанского дома: раскаленной летней жарой пыли и старого дерева. С ним опять говорил тот мужчина…
До той весны доктору не доводилось бывать в старинных новоорлеанских особняках, построенных еще до Гражданской войны. С фасада дом украшали традиционные белые колонны с каннелюрами, но краска на них давно облупилась. Дом в стиле так называемого греческого ренессанса – длинное городское строение фиолетово-серого цвета – стоял в мрачном, тенистом углу Садового квартала. Два громадных дуба у входа словно сторожили его покой. Выполненный в виде роз узор ажурной железной ограды был едва различим за обильно увивавшими ее плющами: пурпурной вистерией, желтой виргинской «ползучкой» и пламенной темно-красной бугенвиллеей.
Остановившись на мраморных ступенях, доктор любовался дорическими колоннами. Растения, их оплетавшие, источали пьянящий аромат. Сквозь густые ветви солнце с трудом пробивалось к их пыльным стеблям. Под облупившимися карнизами в лабиринтах зеленых блестящих листьев жужжали пчелы. Их не волновало, что здесь слишком темно и влажно.
Доктора будоражил даже сам проход по пустынным улицам. Он медленно шел по щербатым и неровным тротуарам, выложенным кирпичом «в елочку» или серыми плитами. Над головой арками изгибались дубовые ветви. Свет на этих улицах всегда оставался приглушенным, а небо скрывалось за зеленым пологом. Возле самого крупного дерева, подпиравшего своими толстыми жилистыми корнями железную ограду, доктор всегда останавливался, чтобы передохнуть. Ствол этого дерева, занимавшего практически все пространство от тротуара до самого дома, был поистине необъятным, а скрюченные ветви, словно когти, цеплялись за перила балконов и оконные ставни, переплетаясь с цветущим плющом.
И все же царившее здесь запустение тревожило доктора. В кружевных розах ограды соткали свои тонкие замысловатые сети пауки. В некоторых местах железо настолько проржавело, что при малейшем прикосновении рассыпалось в прах. А дерево балконов прогнило насквозь.
В дальнем углу сада когда-то располагался плавательный бассейн – обширный длинный восьмиугольник, окаймленный плитняком. С течением времени он постепенно превратился в болото с темной водой и дикими ирисами. Даже запах, исходивший оттуда, будил в душе страх. Теперь полноправными обитателями болота стали лягушки – их отвратительные монотонные песни слышались в сумерках. Грустно было видеть, как маленькие фонтанчики, устроенные в противоположных стенках бывшего бассейна, по-прежнему посылают изогнутые струйки в вонючее месиво. Доктору страстно хотелось ликвидировать мерзкое болото, вычистить его, собственными руками, если понадобится, отдраить стенки. Столь же сильным было желание залатать разбитую балюстраду и вырвать сорняки, заполонившие цветочные вазы.
Даже от престарелых теток его пациентки – мисс Карл, мисс Милли и мисс Нэнси – исходил дух гнилости и запустения. И виной тому вовсе не седые волосы или очки в проволочной оправе. Дело было в их манерах. И еще – в запахе камфары, пропитавшем их одежду.
Как-то доктор забрел в библиотеку и взял с полки книгу. Из нее высыпались маленькие черные жучки. Он в испуге поставил книгу на место.
Будь здесь кондиционеры, все выглядело бы по-другому. Но старый дом был слишком обширен для подобных устройств – по крайней мере, так тогда говорили его обитатели. Высота потолков достигала четырнадцати футов, а ленивый ветерок повсюду распространял запах плесени.
Однако следует признать, что за его пациенткой ухаживали хорошо. Миловидная черная сиделка по имени Виола по утрам выводила ее на террасу, затянутую сеткой от насекомых, а вечером уводила в дом. Время от времени Виола вытаскивала свою подопечную из кресла и заставляла двигаться, терпеливо, шаг за шагом подталкивая ее.
– Она совсем не доставляет мне хлопот, – уверяла она и ласково подбадривала больную: – Ну же, мисс Дейрдре, покажите доктору, как вы ходите. Я с нею уже семь лет, – вновь обращалась Виола к доктору. – Это моя сладкая девочка.
Семь лет в таком состоянии! Стоит ли удивляться, что у этой женщины ноги подворачиваются в лодыжках и руки норовят крепко прижаться к груди, если сиделка силой не заставляет больную опустить их на колени.
Обычно Виола вела свою подопечную вдоль длинного двухсветного зала, мимо арфы и рояля фирмы «Бёзендорф», покрытых толстым слоем пыли. Оттуда – в такую же просторную столовую с поблекшими фресками, на которых были изображены замшелые дубы и возделанные поля.
Ноги, обутые в шлепанцы, шаркали по вытертому обюссоновскому ковру. Пациентке доктора был сорок один год, однако она казалась одновременно и старой, и юной – этакое спотыкающееся бледное дитя, не тронутое ни заботой, ни страстью взрослого мира. Так и хотелось спросить: «Дейрдре, у вас когда-нибудь был возлюбленный? Вы когда-нибудь танцевали в этом зале?»
Полки библиотеки были заполнены внушительного вида книгами в кожаных переплетах, на корешках которых сохранились выведенные выцветшими красными чернилами даты: «1756», «1757», «1758»… На каждом томе золотом вытиснено родовое имя: «Мэйфейр».
Ах, эти старые семьи Юга! Доктор искренне завидовал присущей им преемственности поколений. Недопустимо, чтобы история семейств со столь богатым наследием завершалась подобным запустением. Надо признаться, сам доктор не знал ни всех имен собственных предков, ни того, где они родились.
Мэйфейры – старинный колониальный клан. С портретов, украшавших стены особняка, на доктора смотрели мужчины и женщины в нарядах восемнадцатого века; были здесь и более поздние изображения: дагерротипы, ферротипы и первые фотографии. В холле висела пожелтевшая карта Сан-Доминго в грязной раме. Обратил внимание доктор и на потемневшее полотно, изображающее большой плантаторский дом.
А драгоценности на его пациентке! Они, несомненно, фамильные – достаточно взглянуть на старинные оправы. Но какой смысл нацеплять все это на женщину, которая вот уже семь лет как не произнесла ни слова и не сделала самостоятельно ни одного движения?
Сиделка рассказывала, что она никогда не снимает цепочку с изумрудным кулоном, даже когда купает мисс Дейрдре.
– Позвольте мне открыть вам маленький секрет, доктор: не вздумайте когда-либо дотронуться до этого кулона!
«Это почему?» – хотел было спросить доктор, но промолчал. С тяжелым чувством он следил за тем, как сиделка надевает на его пациентку рубиновые серьги и бриллиантовое кольцо.
Точно покойницу наряжает, подумалось ему. А за стенами дома темные дубы хлестали ветвями по пыльным оконным сеткам. И сад шелестел на отупляющей жаре.
– Взгляните-ка на ее волосы, – с нежностью говорила сиделка. – Вы когда-нибудь видели такие прекрасные волосы?
Действительно, длинные, на удивление красивые волосы – темные, густые, вьющиеся. Сиделка любила расчесывать их, наблюдая, как под гребнем они закручиваются в завитки. А глаза пациентки, при полной бессмысленности взгляда, были ясно-голубыми. Но из уголка рта мисс Дейрдре почти постоянно сочилась тонкая серебряная струйка слюны, отчего на груди ее белой ночной рубашки темнело не просыхающее пятно влаги.
– Поразительно, что никто не попытался украсть эти драгоценности, – сказал доктор, обращаясь больше к самому себе. – Ведь она совершенно беспомощна.
Сиделка одарила его надменной, понимающей улыбкой.
– Никто из работающих здесь не стал бы и пытаться.
– Но ведь она часами сидит одна на боковой террасе. Ее можно увидеть с улицы.
Сиделка засмеялась.
– Не беспокойтесь об этом, доктор. Люди вокруг не настолько глупы, чтобы войти в эти ворота. Разве что только старый Ронни приходил подстригать лужайку, но он всегда это делал, целых тридцать лет. Правда вот, в последнее время у старика не все в порядке с головой.
– Тем не менее… – пробормотал доктор, но тут же прикусил язык.
В самом деле, как он может говорить об этом в присутствии безмолвной женщины, способной лишь слегка поводить глазами, несчастной, чьи руки остаются в той позе, в какой их сложит сиделка, а ноги безжизненно касаются истертого пола? Как легко можно забыться, перестать думать об уважении к этому бедному созданию! Кто знает, до какой степени она способна понимать смысл ведущихся в ее присутствии разговоров.
– Можно было бы иногда выводить ее на солнце, – переменил тему доктор. – У нее такая бледная кожа.
Но он сознавал, что гулять в саду невозможно, даже вдалеке от зловония бывшего бассейна. Из-под дикой лавровишни пробивались заросли колючих бугенвиллей. Статуи пухленьких херувимчиков, заляпанные осклизлой грязью, точно призраки, выглядывали из разросшихся кустов лантаны.
А когда-то здесь играли дети.
Кто-то из них – мальчик или девочка? – вырезал на толстом стволе гигантского миртового дерева, растущего у забора, слово «Лэшер»{1}. Буквы врезались настолько глубоко, что теперь белели на фоне восковой коры. Странное, надо сказать, слово. И странно, что с ветки стоящего в отдалении дуба до сих пор свисают всеми забытые деревянные качели.
Доктор направился к одинокому дереву, присел на качели и оттолкнулся ногами от примятой травы – качели дернулись, заскрипели проржавевшие цепи…
Отсюда южный фасад дома показался доктору громадным и потрясающе красивым. Цветущие лианы карабкались, минуя закрытые зелеными ставнями окна, до самой крыши, до двойных труб над верхним этажом. Колеблемые легким ветром ветви бамбука ударяли по оштукатуренным каменным стенам. Банановые деревья с блестящими листьями настолько разрослись вширь и ввысь, что образовали возле кирпичной стены настоящие джунгли.
Эта старая усадьба чем-то напоминала его пациентку: такая же прекрасная, но потерянная во времени и никому не нужная.
Лицо мисс Дейрдре можно было бы назвать очаровательным, не будь оно совершенно безжизненным. Видела ли она подрагивающие за окнами тонкие пурпурные завитки вистерии и удивительное разнообразие всех остальных цветов? Способны ли ее глаза разглядеть за деревьями белый дом с колоннами, стоящий на другой стороне улицы?
Однажды доктор поднимался вместе с мисс Дейрдре и сиделкой в диковинном, но исправно работающем лифте с медными дверцами и вытертым ковриком внутри. Когда кабинка тронулась, выражение лица Дейрдре ничуть не изменилось. Звук лифтового мотора, похожий на грохот маслобойки, встревожил доктора. В его воображении этот механизм рисовался как нечто древнее, покрытое толстым слоем пыли, черное и липкое от грязи.
В санатории, где работал доктор, он, естественно, забросал вопросами пожилого психиатра, своего непосредственного начальника.
– Я вспоминаю себя в вашем возрасте, – сказал старик. – Тогда я намеревался вылечить всех своих пациентов. Я собирался разубеждать параноиков, возвращать шизофреников в реальный мир и заставлять кататоников пробудиться. Вы, сынок, ежедневно устраиваете ей такую же встряску. Но в этой женщине не осталось ничего от нормального человека. Мы просто делаем все, что в наших силах, дабы удержать ее от любых крайних проявлений… Я имею в виду возбуждение.
Возбуждение? Вот, значит, в чем причина введения его пациентке сильнодействующего лекарства? Ведь даже если завтра прекратить делать ей уколы, пройдет не меньше месяца, прежде чем действие препарата полностью прекратится. Дозы были настолько велики, что другого пациента они попросту убили бы. До такого лекарства надо «дорасти».
Но если ее столько времени держат на лекарствах, разве можно с уверенностью судить об истинном состоянии здоровья этой женщины? Если бы ему удалось сделать ей электроэнцефалограмму…
Приблизительно через месяц после первого посещения дома мисс Дейрдре доктор попросил разрешения ознакомиться с ее историей болезни. Просьба была вполне обычной, и никто ничего не заподозрил. Доктор просидел в санатории за письменным столом целый день, разбирая каракули десятков его коллег и читая их туманные и противоречивые диагнозы: мания, паранойя, полное истощение, бредовое состояние, психический срыв, депрессия, попытка самоубийства… Доктор двигался назад во времени, к подростковым годам Дейрдре. Нет, даже дальше: когда девочке было десять лет, какой-то врач осматривал ее в связи с подозрением на «слабоумие».
Скрывалось ли за этими рассуждениями хоть что-то стоящее? Где-то в дебрях чужой врачебной писанины доктор обнаружил сведения о том, что в восемнадцать лет его пациентка родила девочку и отказалась от ребенка, находясь в «тяжелом параноидальном состоянии».
Так, значит, поэтому к его пациентке применяли то шоковую терапию, то инсулиновую блокаду? И что она вытворяла с сиделками, если те без конца уходили, жалуясь на «физические нападения»?
Одна из записей сообщала, что Дейрдре «сбежала», другая свидетельствовала о ее «насильственном водворении» обратно. Доктор обнаружил, что дальше в истории болезни недостает страниц. Что происходило с Дейрдре на протяжении нескольких последующих лет, оставалось загадкой. В 1976 году чьей-то рукой было написано: «Необратимое повреждение мозга. Пациентка отправлена домой. Для предотвращения паралича и маниакальных состояний предписаны инъекции торазина».
История болезни Дейрдре не содержала ровным счетом никаких ценных сведений, способных пролить свет на истинное положение вещей. Доктор почувствовал себя обескураженным. Интересно, хоть кто-то из этого легиона эскулапов разговаривал с Дейрдре, как это делал сейчас он сам, сидя рядом с ней на боковой террасе?
– Сегодня прекрасный день, не правда ли, Дейрдре?
И действительно, легкий ветерок наполнен множеством восхитительных ароматов. Запах гардений вдруг сделался дурманящим, однако не стал от этого менее приятным. На мгновение доктор закрыл глаза.
Интересно, какие чувства она испытывает к нему? Ненавидит? Смеется над ним? Или вообще не осознает его присутствия? Только сейчас он заметил в ее волосах несколько седых прядок. Рука Дейрдре холодна как лед, и прикосновение к ней не доставляет удовольствия.
Вошла сиделка, держа в руке голубой конверт. Внутри оказалась моментальная фотография.
– Это от вашей дочери, Дейрдре. Видите? Ей уже двадцать четыре года.
Сиделка держала снимок так, чтобы его видел и доктор… Девушка стояла на палубе большой белой яхты, и ветер развевал ее белокурые волосы. Хорошенькая, очень хорошенькая. «Залив Сан-Франциско, 1983 год» – было написано на обороте снимка.
В лице Дейрдре ничто не изменилось. Сиделка откинула черные волосы со лба своей подопечной. Потом махнула снимком в сторону доктора.
– Видите эту девушку? Она тоже доктор!
Виола высокомерно кивнула.
– Пока еще она интерн, но станет настоящим врачом, как вы, это уж точно.
Возможно ли такое? Неужели эта девушка никогда не приезжала навестить собственную мать? Доктор неожиданно почувствовал неприязнь к хорошенькой блондинке. Разумеется, она «станет настоящим врачом».
Сколько же времени прошло с тех пор, как его пациентка в последний раз надевала платье и туфли? Ему вдруг нестерпимо захотелось включить для нее радио. Быть может, ей было бы приятно послушать музыку. Сама сиделка целыми днями смотрела по телевизору мыльные оперы, устроившись на задней кухне.
Постепенно доктор перестал доверять сиделкам, равно как и теткам своей пациентки.
Та, долговязая, которая подписывала чеки на выплату ему гонорара, – мисс Карл – служила адвокатом, хотя ей, должно быть, уже перевалило за семьдесят. В свой офис на Каронделет-стрит и обратно она ездила на такси, поскольку подняться по высоким деревянным ступенькам в вагон новоорлеанского трамвая ей было уже не по силам. Как-то, встретив доктора у ворот, она рассказала ему, что в течение пятидесяти лет ездила на трамвае.
Однажды Виола, расчесывая волосы Дейрдре, как обычно медленно и осторожно водя по ним гребнем, заметила:
– Да, мисс Карл очень умна. Она работает с судьей Флемингом. Одна из первых женщин, окончивших Школу права имени Лойолы, – поступила туда в семнадцать лет. Ее отец – старый судья Макинтайр, и она всегда им гордилась.
Мисс Карл никогда не разговаривала с Дейрдре, по крайней мере в присутствии доктора. С его пациенткой общалась – и, как ему казалось, весьма неуважительно, даже грубо – другая тетка, дородная мисс Нэнси.
– Говорят, у мисс Нэнси никогда не было особых шансов получить образование, – сплетничала сиделка– Вечно хлопоты по дому и забота о других. Такой же была здесь и старая мисс Белл.
В поведении мисс Нэнси ощущалось что-то угрюмое, почти вульгарное. Грузная, неопрятная, в своем вечном переднике, она тем не менее разговаривала с сиделкой нарочито покровительственным тоном. Когда мисс Нэнси смотрела на Дейрдре, на ее губах появлялась едва заметная глумливая усмешка.
Отношение к больной со стороны мисс Милли – самой старшей из трех теток – еще можно было назвать родственным. Классический старушечий наряд мисс Милли – черное шелковое платье и башмаки со шнуровкой – неизменно дополняли потертые перчатки и небольшая черная соломенная шляпка с вуалью, без которых доктор не видел ее ни разу. Мисс Милли приветливо улыбалась доктору и не забывала поцеловать Дейрдре.
– Милая моя бедняжечка, – с дрожью в голосе неизменно говорила она при этом.
Как-то доктор нашел мисс Милли стоящей на разбитых плитах возле бассейна.
– Все кончено, все позади, доктор, – печально произнесла она.
Доктор не имел права приставать с расспросами, но при упоминании о том, что трагическое событие действительно имело место, внутри у него что-то встрепенулось.
– А как Стелла любила здесь плавать, – продолжила мисс Милли. – Она-то и построила этот бассейн. У нее всегда было такое множество планов и мечтаний. Вы знаете, ведь именно Стелла установила в доме лифт. И таких дел она совершила множество. А какие вечеринки она устраивала! Помню, в доме собирались сотни людей, накрытые столы расставляли по всей лужайке оркестры играли. Вы слишком молоды, доктор, чтобы помнить ту жизнерадостную музыку. Стелла заказала драпировку для двухсветного зала. А теперь ткань слишком обветшала, чтобы ее почистить. Нам сказали, что при малейшем прикосновении она просто расползется. И опять-таки Стелла проложила дорожки из плитняка вокруг всего бассейна. Видите. Те плиты, что спереди и сбоку, – они похожи на старинные флаги…
Старуха умолкла, указывая рукой в направлении длинной стены дома, туда, где находился дальний дворик, ныне буйно заросший травами. Она словно была не в состоянии говорить дальше. Потом мисс Милли медленно подняла голову и посмотрела на видневшееся под крышей чердачное окно.
«Но кто такая Стелла?» – хотелось спросить доктору.
– Милая бедняжка Стелла.
Доктор мысленно видел бумажные фонарики, свисавшие с деревьев.
Возможно, эти женщины просто слишком стары. А та, молодая, – интерн или кто она там еще? – находится за две тысячи миль отсюда…
Мисс Нэнси часто задирала безгласную Дейрдре. Обычно она наблюдала, как сиделка ведет больную, а затем кричала несчастной прямо в ухо:
– Ну же, возьми ноги в руки! Ты же великолепно знаешь, что можешь ходить сама, когда захочешь!
– У мисс Дейрдре все в порядке со слухом, – прерывала ее выпад сиделка. – Доктор говорит, что она прекрасно слышит и видит.
Однажды, когда мисс Нэнси подметала лестницу, ведущую в зал, доктор попытался задать ей вопрос. Быть может, думал он, в состоянии гнева она прольет хоть немного света на эту историю.
– Вы когда-либо замечали хоть малейшие перемены в ее состоянии? Она когда-нибудь разговаривает… произносит хотя бы слово?
Женщина, сощурившись, долго глядела на доктора. Пот струился по ее круглому лицу. Переносица болезненно покраснела от тяжести сидевших на ней очков.
– Я скажу вам, что интересует меня! – ответила мисс Нэнси. – Кто будет ухаживать за ней, когда нас не станет? Думаете, ее избалованная доченька, что сидит себе в Калифорнии, вернется и возьмет на себя все заботы? Эта девчонка даже имени своей матери не знает. Снимки сюда присылает Элли Мэйфейр. – Мисс Нэнси презрительно фыркнула. – Нога Элли Мэйфейр не ступала в этот дом с того самого дня, когда девчонка появилась на свет. Она и приходила лишь затем, чтобы забрать ребенка. Все, что она хотела, это взять новорожденную девчонку, ибо она не могла иметь детей и до смерти боялась, что муж ее бросит. Там, где они живут, он большая юридическая шишка. Вам известно, что Карл заплатила Элли? Заплатила за то, чтобы девчонка никогда не возвращалась домой. Точнее, чтобы убрать ее из дома, – таков был замысел. Она заставила Элли подписать бумагу.
Толстуха горько усмехнулась и вытерла руки о передник.
– Ее отвезли в Калифорнию, к Элли и Грэму, чтобы она жила в шикарном доме на берегу залива Сан-Франциско и каталась на большой яхте. Вот что случилось с дочерью Дейр-дре.
Значит, девушка ничего не знает, подумал доктор, но вслух не произнес ни слова.
– Пусть Карл и Нэнси остаются здесь и обо всем заботятся! – продолжала толстуха. – Знакомая семейная песенка. Пусть Карл подписывает чеки, а Нэнси стряпает и драит дом. Интересно знать, какого черта здесь ошивается Милли и чем она занимается? Милли всего-навсего ходит в церковь и молится за всех нас. Ну разве не великое занятие? Тетушка Милли еще более бесполезна, чем была когда-то тетушка Белл. Я вам скажу, что лучше всего умеет тетушка Милли. Срезать цветы. Тетушка Милли без конца срезает розы, а потом кусты дичают. – Мисс Нэнси громко засмеялась (и смех ее едва ли можно было назвать приятным), а затем прошествовала мимо доктора в спальню пациентки, вцепившись в засаленную ручку швабры. – Нельзя попросить сиделку подмести пол! Нет, как же, они теперь не унижаются до этого! Скажите на милость, почему какая-то там сиделка не может подмести пол?
В спальне Дейрдре царили чистота и порядок. Скорее всего, эта большая, полная воздуха комната, выходящая на северную сторону, была хозяйской спальней. В мраморном камине лежал пепел. А такие массивные кровати, как та, на которой спала Дейрдре, – с высоким балдахином из орехового дерева и стеганого шелка, – делали в конце прошлого века.
Доктору понравился запах мастики и свежего белья. Однако расставленные по всей комнате религиозные предметы производили весьма устрашающее впечатление. На мраморном туалетном столике он увидел статую Святой Девы с обнаженным красным сердцем в груди – зрелище зловещее и отталкивающее. Чуть поодаль – распятие с фигуркой истерзанного, скорчившегося Христа, натуралистично раскрашенной, вплоть до темных струек крови, вытекавших из-под пронзивших руки гвоздей. В красных бокалах, возле которых лежал высохший кусочек пальмы, горели свечи.
– Она уделяет внимание всем этим штучкам? – спросил доктор.
– Черта с два, – ответила мисс Нэнси, наводя порядок в ящиках туалетного столика, откуда резко пахнуло камфарой. – Как же, великое благо сотворят эти святые под здешней крышей!
Сквозь выгоревшие атласные абажуры виднелись четки, свешивавшиеся с медных, украшенных гравировкой ламп. Казалось, в этой комнате десятилетиями ничто не менялось. Неподвижно замерли желтые кружевные занавеси, успевшие кое-где истлеть. Они словно ловили в плен бившие в окна солнечные лучи, а вместо них посылали в комнату свой собственный свет – тусклый и мрачный.
На мраморной крышке столика возле кровати стояла шкатулка с драгоценностями. Крышка была откинута, словно внутри лежали дешевые стекляшки, а не настоящие камни. Даже доктор, слабо разбиравшийся в таких вещах, не сомневался в их огромной ценности.
Возле шкатулки стояла фотография дочери-блондинки. А за ней – более старый, выцветший от времени снимок той же девушки: она и в детстве была весьма миленькой. Под снимком было что-то нацарапано. Доктору удалось разобрать лишь часть надписи: «…Школа Пасифик-Хейтс, 1966…»
Едва доктор дотронулся до бархатной обивки шкатулки с драгоценностями, мисс Нэнси резко обернулась и крикнула:
– Доктор, не трогайте там ничего!
– Боже мой, неужели вы думаете, что я вор?
– Вы многого не знаете об этом доме и о своей пациентке. Как вы думаете, доктор, почему здесь поломаны все ставни? Почему они готовы вот-вот сорваться с петель? А почему отвалилась с кирпичей штукатурка? – Мисс Нэнси замотала головой, отчего затряслись ее дряблые щеки и искривился бесцветный рот. – Только позвольте кому-нибудь попытаться починить эти ставни. Или попросите кого-нибудь приставить к стене лестницу и попробовать покрасить этот дом…
– Я не понимаю, о чем вы, – пробормотал доктор.
– Никогда не прикасайтесь к ее камешкам, доктор, вот о чем я говорю. Не трогайте ни в доме, ни вокруг него ни одной вещи, если они не связаны с вашей работой. Взять, например, бассейн. Ведь он весь забит листьями и грязью, но надо же – старые фонтаны по-прежнему действуют. Вы когда-нибудь задумывались об этом? Только попробуйте закрыть их краны, доктор!
– Но кто…
– Оставьте в покое ее драгоценности, доктор. Вот вам мой совет.
– А что, перемена в окружающей обстановке способна заставить ее заговорить? – в лоб спросил доктор. Терпению его пришел конец, да и перед этой тетушкой он не испытывал такого страха, как перед мисс Карл.
Мисс Нэнси засмеялась.
– Нет, ее это не заставит что-либо сделать, – с презрительной усмешкой ответила она.
Мисс Нэнси с шумом задвинула ящик обратно. Задребезжали стеклянные бусины четок, ударяясь о небольшую статую Иисуса.
– А теперь извините, мне нужно убрать еще и в ванной.
Доктор посмотрел на бородатого Иисуса, указывавшего пальцем на терновый венец вокруг своего сердца.
Быть может, они здесь все не в своем уме? А если он не уберется из этого дома, то, вероятно, и сам лишится рассудка.
Как-то днем, когда доктор находился в столовой один, он вновь увидел то же слово – «Лэшер», – выведенное на покрытом густым слоем пыли столе. Писали как будто кончиком пальца. Начертание заглавной буквы было на удивление затейливым. Что же все-таки могло означать это слово? На следующий день надпись исчезла – оказалась стертой вместе с пылью. На его памяти это было первым и последним вторжением в пыльное царство столовой. Серебряный чайный сервиз, стоявший в буфете, давно уже почернел от грязи. Фрески на стенах потускнели, но если бы доктор внимательно вгляделся в них, то увидел бы тот же самый плантаторский дом, что был изображен на картине, висевшей в холле. Долго и внимательно рассматривая люстру, доктор вдруг понял, что ее никогда не переделывали под электричество. Подсвечники по-прежнему сохраняли следы воска. Какой же грустью веяло от всей окружающей обстановки!
Даже ночью, в собственной, вполне современной квартире, выходившей окнами на озеро, доктор не мог избавиться от невеселых мыслей о своей пациентке. Неужели она и спит с открытыми глазами?
– Быть может, это мой долг?… – вслух произнес доктор.
Но в чем состоит этот долг? Ее врач имел репутацию прекрасного психиатра. Бесполезно оспаривать его диагноз. Бесполезно пытаться провести какой-нибудь дурацкий эксперимент – скажем, вывезти ее за город или принести на террасу приемник. Или… прекратить введение седативных препаратов и посмотреть, к чему это приведет…
Или… снять трубку и связаться с ее дочерью, будущим медиком. «Заставила Элли подписать бумагу…» – вспомнил он. Двадцать четыре года – девочка уже вполне взрослая, чтобы узнать правду о своей матери.
Здравый смысл настойчиво советовал доктору сократить число инъекций. А что касается полного пересмотра диагноза… Он должен был хотя бы предложить это.
– Вам нужно лишь вводить ей лекарство в предписанных дозах, – сказал старый врач, и на сей раз в его голосе ощущалась холодность. – Проводите возле нее по часу в день. Это все, что от вас требуется.
Старый болван!
Не удивительно, что доктор очень обрадовался, впервые встретив у Дейрдре посетителя.
Начался сентябрь, но было по-прежнему жарко. Войдя в ворота, доктор увидел сквозь сетку террасы мужчину, беседовавшего с больной.
Высокий худощавый брюнет.
Доктора разбирало любопытство. Кто же этот неизвестный? Нужно с ним познакомиться – быть может, он сумеет пролить свет на то, о чем не желают говорить женщины. В самой позе незнакомца – в том, как близко он стоит, склонившись к Дейрдре, – ощущалось нечто интимное. Определенно это давний друг его пациентки.
Однако, когда доктор вошел на террасу, посетителя там не было. Никого не оказалось и в передних комнатах.
– Знаете, я только что видел здесь какого-то мужчину, – сказал доктор вошедшей сиделке. – Он разговаривал с мисс Дейрдре.
– Я его не видела, – отрезала Виола.
Мисс Нэнси лущила горох в кухне. В ответ на вопрос доктора она смерила его долгим взглядом, а затем так резко мотнула головой, что подбородок ее затрясся.
– Не слышала, чтобы кто-то входил.
Что за чертовщина! Да, действительно, незнакомец лишь мелькнул за сетками террасы, но доктор был совершенно уверен, что видел на террасе человека.
– Ну почему, почему вы не можете поговорить со мной?! – обратился доктор к Дейрдре, когда они остались одни и он готовился сделать ей укол. – Если бы только вы могли сказать… хотите ли вы, чтобы вас навещали, если для вас это важно…
Рука женщины была совсем тонкой. Держа наготове шприц, доктор повернулся к пациентке и вдруг увидел, что она пристально смотрит на него!
– Дейрдре?
У доктора заколотилось сердце.
Ее глаза закатились влево и уставились в пространство – перед доктором была все та же немая и равнодушная ко всему женщина… И жара, которая уже начала нравиться доктору, вдруг показалась ему гнетущей. Все поплыло перед глазами, он чувствовал, что вот-вот упадет в обморок. Лужайка за пыльной и грязной сеткой словно сдвинулась с места…
Доктор ни разу в жизни не падал в обморок, и, когда он задумался о происходящем, вернее, когда он попытался задуматься, он вдруг понял, что беседует с мужчиной. Да, тот человек здесь… точнее, в данный момент его здесь нет… Но он только что стоял на террасе! Их беседа находилась в самом разгаре, а сейчас он утерял ее нить. Или нет, это было не так. Доктор неожиданно для себя не мог вспомнить, как долго продолжался их разговор. Странно: столько времени проговорить с человеком и не вспомнить, с чего все началось.
Доктор вдруг осознал, что пытается привести в порядок мысли и получше разглядеть незнакомца. Что тот сказал? Все происходящее совершенно сбивало с толку, поскольку рядом никого не было – никого, кроме Дейрдре, – а значит, и беседовать он ни с кем не мог. Однако он только что сказал брюнету:
– Конечно, следует немедленно прекратить инъекции…
Столь безапелляционную точку зрения, несомненно, следовало бы выслушать старому врачу.
– Да, он глуп! – отозвался брюнет.
В общем, жуть какая-то… И ее дочка, живущая в Калифорнии…
Доктор вздрогнул. Потом вскочил на ноги. Что это было? Он уснул в плетеном стуле на террасе. И видел сон. Жужжание пчел сделалось раздражающе громким, а аромат гардений одурманивал, словно наркотическое зелье. Доктор перегнулся через перила и окинул взглядом дворик по левую руку. Кажется, там что-то промелькнуло?
Ничего… Только ветви деревьев, в которых шелестел ветер. Доктор тысячи раз наблюдал в Новом Орлеане этот грациозный танец деревьев – они словно перебрасывали друг другу ветер. Какое приятное, ласковое тепло. «Прекратить инъекции! Она проснется».
По сетке медленно и неуклюже ползла бабочка-монарх. Величественные крылья. Постепенно доктор сосредоточил взгляд на теле этого существа – маленьком, черном и блестящем. Бабочка исчезла. Перед ним было какое-то отвратительное насекомое.
– Я должен пойти домой, – ни к кому не обращаясь, вслух произнес доктор. – Что-то мне нехорошо. Наверное, следует полежать.
Имя того мужчины… Как его звали?… Доктор только что знал это… такое звучное имя… да, каково значение слова, тем ты и являешься… Но имя действительно было прекрасным… Стоп. Опять начинается. Хватит! Больше он не допустит ничего подобного!
– Мисс Нэнси! – вскакивая со стула, позвал доктор.
Его пациентка по-прежнему смотрела в пространство; на фоне халата сияло изумрудное колье. Весь мир наполнился зеленым светом, дрожащими листьями, неясными очертаниями бугенвиллей.
– Виной всему жара, – прошептал доктор. – А сделал ли я ей укол?
Господи! Да он же уронил шприц, и тот разбился!
– Вы звали меня, доктор? – Мисс Нэнси, на ходу вытирая руки о передник, появилась в дверях в сопровождении темнокожей женщины и сиделки.
– Ничего страшного, просто жара, – пробормотал доктор. – Понимаете, я уронил шприц. Но у меня, разумеется, есть другой.
Устремленные на него взгляды женщин были пристальными, изучающими.
«Думаете, я тоже схожу с ума?»
Но в пятницу доктор снова увидел того мужчину.
В тот день он немного запоздал – был срочный вызов в санатории – и теперь, в час ранних осенних сумерек, торопливо шел по Первой улице, не желая мешать семейному обеду. К воротам он уже не подошел, а подбежал.
Мужчина стоял в тени террасы, скрестив руки и опершись плечом о столб. Его темные, широко раскрытые глаза были устремлены на доктора, но взгляд их свидетельствовал о том, что незнакомец погружен в размышления. Высокий, худощавый, в безупречно скроенной одежде.
– Ага, значит, вы все же существуете, – со вздохом облегчения пробормотал доктор. Поднявшись по ступенькам, он протянул незнакомцу руку. – Разрешите представиться: доктор Петри.
Но… Как передать это словами? На крыльце не было ни души.
– Теперь я точно знаю, что не ошибся, – входя в кухню, обратился доктор к мисс Карл. – Я видел его на террасе, а потом он просто растаял в воздухе.
– А какое нам дело до того, что вы видели, доктор? – вопросом ответила ему старуха.
Весьма странные слова… До чего же все-таки резка эта женщина! Про нее не скажешь: дряхлая старуха. В своем извечном синем габардиновом платье мисс Карл стояла очень прямо, глаза ее за стеклами очков в проволочной оправе свирепо взирали на доктора, а сомкнутые губы сжались в тонкую линию.
– Мисс Карл, я уже видел этого мужчину возле моей пациентки. Ни для кого не секрет, что в настоящее время она совершенно беспомощна. И если неизвестный человек появляется здесь, когда ему заблагорассудится, и столь же беспрепятственно исчезает…
Впрочем, его мнение никого не интересовало. Мисс Карл либо не поверила ему, либо ей было все равно. А мисс Нэнси даже не подняла головы от тарелки и продолжала ковырять вилкой еду. Однако, как заметил доктор, глаза мисс Милли встревоженно перебегали с него на мисс Карл и обратно.
Ну и семейка!
Охваченный раздражением, доктор вошел в пыльную кабинку лифта и нажал черную кнопку на медном пульте.
Бархатные портьеры были задернуты, и в спальне царил почти полный мрак – лишь маленькие свечки потрескивали в красных бокалах. Статуя Святой Девы отбрасывала на стену причудливую тень. Доктору не сразу удалось отыскать выключатель, а когда он его наконец нашел и повернул, зажглась лишь маленькая лампа возле кровати. Рядом с лампой стояла раскрытая шкатулка для драгоценностей. Да-а… впечатляющая вещица.
При виде пациентки у доктора перехватило горло. Она лежала с открытыми глазами, черные волосы разметались по несвежей, в пятнах, подушке, на щеках играл непривычный румянец.
Что это? Кажется, ее губы шевелятся?…
– Лэшер…
Что она прошептала? Какое слово произнесла? Она ведь сказала: «Лэшер» – именно это слово. То самое, которое было вырезано на дереве и которое доктор увидел начертанным на пыльном обеденном столе. К тому же… где-то он уже слышал это слово… И поэтому знал, что это имя. По спине поползли мурашки: его пациентка, находящаяся в состоянии кататонии, заговорила! Нет, хватит! Все это конечно же лишь плод его воображения! Причиной всему непомерное желание, чтобы нечто подобное когда-нибудь случилось, чтобы с нею произошла чудесная перемена. Дейрдре, как обычно, лежала в состоянии транса. Любого другого такая доза торазина непременно убила бы…
Доктор поставил свой чемоданчик сбоку от кровати. В то время как он аккуратно наполнял шприц лекарством, в голову снова пришла все та же мысль: что, если ввести пациентке лишь половину дозы, или четверть, или вообще не делать укол, а просто посидеть подле нее и понаблюдать?… И вдруг доктор отчетливо увидел, как он поднимает Дейрдре на руки и выносит из дома… как везет ее на машине за город… Вот они бредут рука об руку по тропинке, вьющейся среди травы до самой дамбы над рекой. Дейрдре улыбается, и ветер треплет ее волосы…
Что за ерунда! Уже половина седьмого, он изрядно запоздал с уколом. Ну вот, шприц готов.
В этот момент его словно что-то толкнуло. Доктор был уверен, что именно так и было, хотя и не мог разобрать, куда пришелся толчок. Он качнулся, ноги подкосились, и шприц полетел на пол.
Придя в себя, доктор обнаружил, что стоит на коленях и внимательно разглядывает густую бахрому пыли, скопившейся на полу под кроватью.
– Что за чертовщина!
Восклицание вырвалось прежде, чем ему удалось совладать с собой. Шприц для подкожных инъекций куда-то запропастился. Наконец он увидел его в нескольких ярдах от себя, за комодом. Но шприц был сломан, нет, даже раздавлен, словно кто-то на него наступил. Весь торазин вытек из сплющенного пластмассового цилиндрика прямо на дощатый пол.
– Что происходит? – прошептал доктор, поднимая с пола изуродованный шприц.
Конечно же, у него были с собой запасные шприцы – дело не в этом. А в том, что сейчас повторилась та же история, что и на террасе… Доктор подошел к постели и стал вглядываться в лежащую на ней женщину, снова и снова задавая себе все тот же вопрос: «Боже милостивый, что же здесь творится?»
На доктора вдруг пахнуло жаром. Легкий шелест… Какое-то движение в комнате… Лишь бусины четок, висевших на медной лампе, вздрогнули. Доктор отер пот со лба. Он продолжал всматриваться в лицо Дейрдре, но до его сознания постепенно дошло, что по другую сторону кровати стоит темная фигура: темная жилетка, пиджак с темными пуговицами… Доктор поднял голову и увидел, что это мужчина.
В доли секунды удивление сменилось ужасом: происходящее не было ни галлюцинацией, ни сном. Мужчина находился здесь, и мягкий, внимательный взгляд его карих глаз был устремлен прямо на доктора. В следующее мгновение человек исчез. В комнате стало холодно. Ветер теребил портьеры. Доктор услышал собственный крик, точнее, если быть до конца честным, вопль.
В тот же вечер, в десять часов, доктор был поставлен в известность о прекращении его визитов к Дейрдре. Старый психиатр лично явился в его квартиру. Они спустились вниз, к озеру, и медленно пошли по бетонной набережной.
– Ох эти старинные кланы, с ними не повоюешь. Не думаю, что вы захотите ввязаться в дело против Карлотты Мэйфейр. Эта женщина всех знает. Вы и представить себе не можете, сколько людей по тем или иным причинам считают себя обязанными ей или судье Флемингу. А этим людям принадлежит в городе едва ли не все. И если вы только…
– Говорю вам, я это видел, – упрямо твердил доктор.
Однако старый психиатр не обращал внимания на его слова. Старик не сводил со своего молодого коллеги цепкого взгляда, и в его глазах читалось плохо скрываемое подозрение, хотя тон беседы неизменно оставался вполне дружеским.
– Да, знаете ли, эти старинные кланы…
Впредь доктору запрещено появляться в этом доме.
Он больше ничего не сказал старому психиатру. Честно говоря, доктор чувствовал себя в дурацком положении. Ведь он ни в коем случае не принадлежал к тем, кто верит в привидения! Но в данный момент он не мог привести старику ни единого разумного довода относительно Дейрдре, ее состояния и необходимости пересмотра доз вводимого ей препарата. Его уверенность куда-то пропала.
Да, доктор не сомневался, что видел мужскую фигуру. Трижды! И до конца своих дней не сможет забыть тот неясный, воображаемый разговор. Незнакомец действительно присутствовал, но в бестелесной форме! И доктор знал его имя: мужчину звали… Лэшер!
Но даже если не принимать во внимание эту похожую на сон беседу, если обвинить во всем странную тишину усадьбы и адскую жару, если допустить, что имя было подсказано вырезанной на стволе надписью… есть то, что невозможно отбросить: ведь он своими глазами отчетливо видел человеческую фигуру. И никто не заставит его поверить, что этого не было.
Проходили недели, но работа в санатории не смогла заставить доктора забыть о том, что произошло. Тогда он попытался описать увиденное, стараясь вспомнить все подробности, не упустить ни одной детали… Темные волосы незнакомца были слегка вьющимися. Глаза большие. Бледная кожа, такая же, как у несчастной Дейрдре. Молодой человек, на вид – не более двадцати пяти. Невыразительное лицо. Доктор вспомнил даже его руки – тоже ничего примечательного: просто красивые руки. Удивительно, но, несмотря на худобу, мужчина был пропорционально сложен. Необычной казалась лишь его одежда: не покрой костюма, который был достаточно распространенным, а сама текстура ткани, столь же гладкая, как и лицо незнакомца. Казалось, что одежда, тело и лицо были из одного и того же материала.
Однажды утром доктор проснулся с поразительно четкой мыслью: тот таинственный человек не хотел, чтобы Дейрдре вводили седативные препараты! Он знал об их разрушительном действии. А больная, естественно, была беспомощна и не могла выступить в свою защиту. Призрак ее оберегал!
«Ну кто, ей-богу, поверит во все это?» – думал доктор. Ему захотелось вернуться в родной дом в штате Мэн и работать в отцовской клинике, а не в этом сыром, чужом городе. Отец сумел бы понять. Впрочем, нет. Его это лишь встревожило бы.
Доктор попытался было «окунуться с головой в работу». Но санаторий, по правде говоря, был местом скучным. Работа не отнимала много времени. Старый психиатр поручил ему нескольких новых пациентов, однако их заболевания не представляли особого интереса. Тем не менее доктор понимал, что необходимо работать и вести себя как ни в чем не бывало, дабы развеять все подозрения старика на его счет.
Когда осень сменилась зимой, доктору стала сниться Дейрдре – здоровая, жизнерадостная: вот она стремительно идет по городской улице, и ветер развевает ее волосы. Всякий раз, просыпаясь после подобного сна, доктор гадал, жива ли еще несчастная женщина. Вполне могло случиться, что она умерла.
Наступила весна. Доктор уже целый год прожил в Новом Орлеане. Ощутив однажды нестерпимую потребность вновь увидеть тот дом, он доехал в старом такси до Джексон-авеню и оттуда, как всегда прежде, пошел пешком.
Ничего не изменилось: террасы все так же скрывались за пышно цветущими колючими бугенвиллеями, в запущенном саду мелькали маленькие белокрылые бабочки, сквозь черную металлическую решетку пробивались оранжевые цветки лантаны.
И Дейрдре все так же сидела в кресле-качалке на боковой террасе, затянутой ржавой сеткой от насекомых.
Доктор испытал нестерпимую душевную боль. Пожалуй, такого беспокойства он еще не чувствовал в своей жизни. Хоть кто-нибудь должен как-то помочь этой женщине!
Потом доктор бесцельно бродил по городу и в конце концов очутился на незнакомой грязной и людной улице. На глаза ему попался захудалый кабачок. Внутри заведения царили приятная прохлада – спасибо кондиционерам! – и относительная тишина. Лишь несколько стариков негромко беседовали за стойкой бара. Доктор взял пиво и отправился в самый дальний угол зала.
То состояние, в котором по-прежнему пребывала Дейрдре Мэйфейр, вызывало в его душе мучительную боль. А тайна мужчины-призрака лишь усугубляла терзания. Доктор вспомнил о живущей в Калифорнии дочери Дейрдре. Набраться смелости и позвонить ей? Поговорить как врач с врачом… Но он даже не знает ее имени!
– К тому же у тебя нет права вмешиваться, – шепотом убеждал он себя, с удовольствием потягивая холодное пиво и время от времени вслух произнося странное имя: – Лэшер…
Что это за имя – Лэшер? Дочь Дейрдре непременно примет его за сумасшедшего! Доктор сделал еще один большой глоток.
Ему вдруг показалось, что в зале стало чересчур жарко, словно кто-то открыл дверь и впустил раскаленный ветер пустыни. Даже старики, восседавшие за стойкой со своим пивом, заметили это. Доктор видел, как один из них вдруг вытер лицо грязным носовым платком, а потом вернулся к прерванному спору.
Поднося к губам кружку, доктор увидел прямо перед собой все того же таинственного человека: тот сидел за столиком у входной двери.
То же восковое лицо. Карие глаза. Та же безупречная одежда из необычной ткани, настолько гладкой, что в полумраке кабачка казалось, будто она слегка светится.
Старики за стойкой продолжали беседовать как ни в чем не бывало, а доктор ощутил нарастающий внутри неподдельный ужас, знакомый ему с того вечера в полутемной спальне Дейрдре Мэйфейр.
Мужчина сидел не шелохнувшись и пристально смотрел на доктора. Их разделяло менее двадцати футов. Яркий дневной свет, проникавший сквозь окно, освещал сбоку его лицо и четко очерчивал линию плеча.
Он здесь! Рот доктора наполнился слюной, к горлу подступила тошнота. Казалось, он вот-вот потеряет сознание. Люди подумают, что он перепил. Одному Богу известно, что случится в следующий момент… Доктор изо всех сил старался удержать в руке кружку. Только не дать панике завладеть им, как это случилось в спальне Дейрдре!
Но произошло другое: мужчина задрожал, словно изображение на экране, и исчез прямо на глазах у доктора. По залу пронесся холодный ветер.
Бармен обернулся и схватил грязную салфетку, не давая ей улететь. Где-то громко хлопнула дверь. Казалось, разговор за стойкой сделался громче. В висках у доктора застучало.
– Схожу с ума! – прошептал он.
Никакая сила на земле не уговорит его еще раз пройти мимо дома Дейрдре Мэйфейр.
Возвращаясь домой вечером следующего дня, доктор снова увидел странного незнакомца. Это произошло возле кладбища в районе Кэнел-бульвара. Мужчина стоял под фонарем, в желтом свете которого фигура совершенно отчетливо выделялась на фоне белой как мел кладбищенской стены.
Видение было мимолетным, но доктор знал, что не ошибся. Его охватила непреодолимая дрожь. На какое-то время он словно забыл, как управлять машиной, а потом ринулся вперед, нарушая все правила и не думая о последствиях, как будто брюнет гнался за ним. Лишь оказавшись в собственной квартире, доктор почувствовал себя в безопасности.
Еще через день, в пятницу, он увидел этого человека при ярком дневном свете на Джексон-сквер – тот неподвижно стоял на траве. Проходившая мимо женщина обернулась и бросила мимолетный взгляд на стройного брюнета. Да, он, несомненно, был там, как, впрочем, до этого и в других местах! Доктор бросился бежать по улицам Французского квартала. У подъезда какой-то гостиницы он прыгнул в такси и приказал водителю ехать как можно быстрее. Не важно куда, только бы выбраться отсюда!
В последующие дни страх доктора сменился ужасом. Он не мог ни есть, ни спать. Не в силах был на чем-либо сосредоточиться. В крайне подавленном состоянии он бродил из угла в угол. Встречаясь со старым психиатром, доктор неизменно взирал на него с немой яростью.
Да разве мог он вести себя иначе с этим монстром, которого и близко нельзя было подпускать к несчастной женщине? Хватит уколов и шприцев! Довольно лекарств, получаемых из рук этого чудовища!
«Неужели вы не видите, что я перестал быть вашим врагом?»
Доктор сознавал: просить кого-либо о помощи или понимании рискованно для его репутации и даже для всей его будущей карьеры. Психиатр столь же безумный, как и его пациенты?… Доктор был в отчаянии. Нужно бежать от призрака. Кто знает, когда тот может явиться снова? А что, если он способен проникнуть даже в его квартиру?
В понедельник утром у доктора окончательно сдали нервы. Входя с трясущимися руками в кабинет старого психиатра, он не раздумывал над тем, что скажет. Все! Он больше не в состоянии выдерживать такое напряжение. Вскоре он поймал себя на том, что несет старику какую-то чушь насчет тропической жары, головных болей, бессонных ночей и необходимости побыстрее оформить его увольнение.
В тот же день он уехал из Нового Орлеана.
Только очутившись в Портленде и чувствуя себя в полной безопасности за стенами отцовского кабинета, доктор наконец нашел в себе силы рассказать всю историю от начала до конца.
– Его лицо никогда не выражало угрозу, – объяснял он отцу. – Скорее оно было каким-то странным, совершенно без морщин. И ласковым… Как образ Христа, висевший на стене в ее комнате. Он просто внимательно смотрел на меня. Но этот призрак стремился помешать мне делать ей уколы! И он пытался меня напугать.
Отец терпеливо выслушал доктора, но не спешил с ответом. Наконец он стал неторопливо рассказывать о странных событиях, свидетелем которых ему довелось быть за годы работы в психиатрических клиниках. Бывали случаи, когда врачи словно заражались неврозами и психозами от своих пациентов. Один его знакомый врач, лечивший кататоников, сам впал в кататоническое состояние.
– Самое главное для тебя сейчас, Ларри, это хороший отдых, – сказал отец. – Он избавит тебя от всех последствий пережитого потрясения. И больше никому не рассказывай об этом.
Прошло несколько лет. Доктор успешно работал в своем родном городе в штате Мэн. Постепенно у него создалась собственная обширная частная практика.
Что касается того призрака, он остался в Новом Орлеане, вместе с воспоминаниями о Дейрдре Мэйфейр, неподвижно сидящей в своем кресле.
И все же доктору не давал покоя страх, что рано или поздно он вновь столкнется с таинственным существом. Ведь если такая встреча произошла однажды, она может повториться при совершенно иных обстоятельствах. Время, проведенное в сыром и мрачном Новом Орлеане, не прошло даром: тот ужас, который пришлось пережить доктору, навсегда изменил его восприятие мира.
И вот теперь, стоя у окна в полутемном номере нью-йоркского отеля, доктор чувствовал, как минувшие события снова завладевают им. И он прибегнул к уже старому, тысячи раз испытанному способу: стал анализировать эту странную историю, пытаясь отыскать и постичь ее глубинный смысл.
Действительно ли это привидение охотилось за ним в Новом Орлеане или же он неправильно истолковал действия молчаливого призрака?
Возможно, тот мужчина вовсе и не стремился его напугать. А что, если он всего лишь просил доктора позаботиться о несчастной женщине? Вполне вероятно и такое объяснение: появление призрака было результатом странной и необъяснимой проекции отчаянных мыслей самой Дейрдре, разум которой, лишенный каких-либо иных способов общения, посылал окружающим неясные образы.
Но и эта идея не приносила успокоения. Слишком жутко вообразить, чтобы беспомощная женщина просила его о чем-то через посредничество… призрака, который к тому же по каким-то неведомым причинам не мог разговаривать, а лишь на несколько мгновений возникал перед доктором.
Но кто способен постичь истинный смысл этой странной головоломки? Кто отважится подтвердить правоту доктора?
Может, этот англичанин, Эрон Лайтнер, коллекционирующий истории о привидениях, который дал ему визитную карточку со словом «Таламаска»? Он говорил, что хочет помочь тому спасенному утопленнику из Калифорнии. Доктор вспомнил его слова: «Возможно, этот человек не знает, что подобное происходило и с другими. Быть может, мне необходимо рассказать ему, что и другие люди возвращались с порога смерти, обладая аналогичными способностями».
Да, действительно. Вполне вероятно, что, узнав о встречах других людей с призраками, он испытает облегчение.
Но увидеть призрака – это еще не самое худшее. Нечто гораздо более ужасное, чем страх, заставляло доктора вновь и вновь возвращаться на террасу с проржавевшими сетками, к неподвижной фигуре женщины в кресле-качалке. Этим нечто было чувство вины – непростительной вины в том, что он не предпринял более энергичных усилий, не сделал всего, что было в его силах, чтобы помочь Дейрдре, – он даже не позвонил на Западное побережье ее дочери.
Над городом вставал новый день. Доктор долго наблюдал, как меняется небо, как тускнеет свет реклам на грязных стенах окрестных домов. Наконец он направился к гардеробу и достал из кармана пиджака визитку англичанина:
«ТАЛАМАСКА.
Мы бдим.
И мы всегда рядом».
Доктор поднял телефонную трубку…
К удивлению самого доктора, его рассказ длился уже целый час: он старался воскресить в памяти малейшие детали минувших событий. Он не возражал против включенного маленького магнитофона, подмигивавшего красным глазком, – в конце концов, он не называл ни конкретных имен, ни номеров домов, ни даже дат. Речь шла просто об одном из старых домов в Новом Орлеане. Доктор все говорил и говорил… И только завершив свое повествование, он сообразил, что за все это время не притронулся к завтраку, однако успел опустошить несметное число чашек кофе.
Лайтнер оказался превосходным слушателем. Он ни разу не прервал рассказчика и лишь слегка кивал, словно подбадривая. Однако, закончив свой рассказ и наблюдая, как Лайтнер убирает в портфель магнитофон, доктор не испытал облегчения – напротив, он чувствовал себя весьма глупо и даже не удосужился попросить копию записи.
Первым молчание нарушил Лайтнер.
– Я должен вам кое-что объяснить, – начал он, кладя поверх чека несколько купюр. – Надеюсь, мои слова в какой-то мере помогут вам излечить свой разум.
– Что именно?
– Помните, я говорил вам, что собираю свидетельства о встречах с привидениями? – спросил Лайтнер.
– Да.
– Так вот, я знаю тот старый дом в Новом Орлеане. Я видел его. У меня есть записи свидетельств многих людей, видевших мужчину, о котором вы говорили.
Доктор буквально онемел от удивления, услышав, с какой убежденностью произнес эти слова Лайтнер – столь авторитетно и уверенно, что в их правдивости не оставалось никаких сомнений. Доктор внимательно всмотрелся в Лайтнера, словно видел его впервые: англичанин был старше, чем показалось при первой встрече, – возможно, лет шестидесяти пяти или даже семидесяти, – а выражение его лица было столь любезным и благожелательным, что невольно располагало к ответному доверию.
– Многих?… – прошептал доктор. – Вы уверены?
– Я слышал рассказы других людей, и некоторые из них имеют весьма много общего с вашим. Я пытаюсь убедить вас в том, что произошедшая история отнюдь не плод вашего воображения. А следовательно, у вас нет причин для беспокойства. Кстати, помочь Дейрдре Мэйфейр невозможно: Карлотта Мэйфейр не позволит. А потому лучше всего начисто выбросить эту историю из головы и никогда больше о ней не вспоминать.
Доктор почувствовал вдруг невероятное облегчение, словно побывал на исповеди и получил от священника полное отпущение грехов. Однако ощущение длилось недолго: понадобилось лишь несколько мгновений, чтобы до него в полной мере дошел смысл сказанного Лайтнером.
– Вы знаете этих людей! – в полнейшем замешательстве прошептал доктор, и краска бросилась ему в лицо. Ведь женщина, о которой он рассказал Лайтнеру, была его пациенткой!
– Нет. Но я знаю о них. И, будьте уверены, сохраню полную конфиденциальность в отношении вашего рассказа. Как вы помните, при записи мы не упоминали никаких имен. И даже свои имена не назвали.
– Тем не менее я настоятельно прошу вас отдать мне пленку, – возбужденно проговорил доктор. – Я нарушил конфиденциальность. Мне и в голову не могло прийти, что вы с ними знакомы.
С совершенно невозмутимым видом Лайтнер тут же вытащил кассету и отдал ее доктору.
– Разумеется, это ваше право, – сказал он. – Я понимаю.
Доктор пробормотал слова благодарности, но его замешательство лишь усилилось. Однако и чувство облегчения не исчезло окончательно. Итак, другие люди тоже видели этого призрака. И англичанину об этом известно – он не лжет. Выходит, доктор не сошел с ума и никогда не терял рассудка. Внезапно его охватила грусть, он испытывал горечь по отношению к своему новоорлеанскому начальству, к Карлотте Мэйфейр, к горластой мисс Нэнси…
– Важно, чтобы все случившееся отныне перестало вас тревожить, – негромко заметил Лайтнер.
– Да, конечно, – отозвался доктор. – Ужасно все это… та женщина… лекарства… – Все, хватит об этом! Доктор вдруг замер и уставился на кассету, потом медленно перевел взгляд на пустую кофейную чашку. – А эта женщина, она по-прежнему…
– Да, все такая же. Я был там в прошлом году. Ваш главный недруг, мисс Нэнси, умерла. Мисс Милли покинула этот мир еще раньше. А со слов местных жителей и из отчета мне известно, что состояние Дейрдре не изменилось.
Доктор вздохнул:
– Да, вы действительно все о них знаете… все имена…
– Поэтому очень прошу поверить мне: другие тоже видели этого призрака, – сказал Лайтнер. – И вы не должны страдать от безосновательного беспокойства о состоянии своего разума – никакого помешательства не было.
Доктор вновь медленно, изучающе оглядел Лайтнера. Англичанин застегнул портфель, проверил авиабилет, убедился, что все в порядке, и опустил его в карман пиджака.
– Мне пора на самолет, но прежде позвольте мне дать вам совет, – сказал Лайтнер. – Никому не рассказывайте о том, что произошло, – вам не поверят. Понять и принять такого рода свидетельства может лишь тот, кто сам видел подобное. Как ни трагично, но это неопровержимый факт.
– Да, вы правы, – ответил доктор. Ему страстно хотелось задать англичанину еще один вопрос, но он не мог решиться. – Вы… – только и произнес доктор и тут же умолк.
– Да, я его видел, – сказал Лайтнер. – Зрелище воистину пугающее, как вы и описывали.
Он встал, готовясь выходить.
– Кто он? Дух? Призрак?
– Честное слово, я не знаю. Все истории очень похожи. Там все остается без изменений, все повторяется, год за годом… А теперь я должен идти. Позвольте мне еще раз выразить свою благодарность, а если у вас возникнет желание снова побеседовать со мной, вы знаете, куда обратиться. У вас есть моя визитная карточка.
Лайтнер протянул руку.
– До свидания.
– Подождите. А дочь, что стало с нею? Я имею в виду ту женщину с Западного побережья. Тогда она была интерном.
– Ну, теперь она хирург, – ответил Лайтнер, бросая взгляд на часы. – Нейрохирург, кажется. Недавно сдала экзамены. Дипломированный специалист – по-моему, это так называется? Однако в то время я не был знаком с нею. Я лишь иногда слышал о ней. Наши пути пересеклись только однажды.
Англичанин замолчал, и на лице его промелькнуло некое подобие почти официальной улыбки.
– Всего хорошего, доктор, и еще раз спасибо.
После ухода Лайтнера доктор долго сидел в задумчивости, ничуть, однако, не раскаиваясь в своем решении рассказать обо всем. Нельзя отрицать, что беседа с этим необычным человеком из Таламаски принесла ему невероятное облегчение. Фактически неожиданную встречу с англичанином можно воспринимать как подарок, как милость судьбы, позволившую снять с души самое тяжкое бремя из всех когда-либо выпавших на его долю. Лайтнер знал и понимал ход событий в этой истории. Лайтнер знал и дочь Дейрдре.
Наверное, англичанин сообщит молодому нейрохирургу все, что той следует знать, если уже не сообщил… Да, с него сняли ношу, ее больше нет. А ощущает ли ее Лайтнер, его не волнует.
И вдруг доктору пришла в голову мысль, не посещавшая его вот уже много лет, – одна весьма любопытная деталь. Ему никогда не доводилось очутиться в Садовом квартале и в том доме во время ливня. А наверное, здорово было бы наблюдать, как хлещет за массивными окнами дождь, слушать, как тяжело стучат капли по крышам террас. Скверно, что он упустил такую возможность. Тогда он часто думал об этом, но никогда не попадал в дом Мэйфейров во время дождя. А дожди в Новом Орлеане были так прекрасны.
Ну что ж, воспоминания наконец-то покидают его навсегда. Доктор снова поймал себя на том, что воспринимает заверения Лайтнера как непререкаемую истину, провозглашенную в стенах церкви, так, словно они действительно обладали некой религиозной силой. Все, хватит! Пора выбросить все это из головы!
Доктор подозвал официантку. Он вдруг осознал, что голоден, и решил, что хороший завтрак ему отнюдь не повредит. Достав из кармана визитку Лайтнера, он рассеянно пробежал глазами по списку телефонных номеров – тех, по которым он может позвонить в случае необходимости, но по которым никогда не позвонит, – а затем разорвал карточку на мелкие кусочки, сложил их в пепельницу и поджег спичкой.
2
Девять часов вечера. В комнате темно, если не считать голубоватого сияния телевизионного экрана. На экране – мисс Хэвишем из его любимого романа «Большие надежды». Разумеется, это она, женщина-призрак в подвенечном платье.
Сквозь широкие, ничем не прикрытые окна видны огни центральной части Сан-Франциско. Целые мириады огоньков перемигиваются сквозь пелену легкого тумана. А чуть ниже виднеются островерхие крыши выстроившихся вдоль противоположной стороны Либерти-стрит невысоких домов, построенных в стиле эпохи королевы Анны. Как он раньше любил эту улицу! Его красивый дом, судя по всему задуманный проектировщиками как особняк, величественно возвышался над всеми остальными строениями квартала. Шум и суета района Кастро его словно не касались.
Он восстановил этот дом собственными руками и знал здесь каждый гвоздь, каждую балку и карниз. Он сам крыл крышу черепицей, работая на солнце без рубашки, и даже сам заливал бетонный тротуар.
Теперь он чувствовал себя в безопасности только здесь и вот уже четыре недели никуда не выходил из этой комнаты, разве что в примыкавшую к ней небольшую ванную.
Он часами лежал в постели, уставившись на призрачный черно-белый телеэкран. Рукам было нестерпимо жарко в черных кожаных перчатках, которые он не мог и не хотел снимать. Кассеты с записью любимых фильмов, на которые когда-то ходил вместе с матерью, – а их у него было великое множество – помогали воочию увидеть мечту. Это были «фильмы о домах», поскольку они рассказывали не только об удивительных судьбах прекрасных людей – его любимых героев и героинь, – но и позволяли лицезреть прекрасные здания. В «Ребекке» был Мандерли. В «Больших надеждах» – гибнущий в запустении особняк мисс Хэвишем. «Газовый свет» дарил возможность побывать в уютном городском доме, стоящем на лондонской площади. В «Красных туфельках» грациозная танцовщица отправляется в дом на самом берегу моря, чтобы именно там узнать о том, что вскоре станет прима-балериной труппы.
Да, фильмы о домах, фильмы о детских мечтах, о людях, столь же величественных, как и те здания… Глядя на экран, он беспрестанно пил пиво, время от времени погружаясь в сон и вновь просыпаясь. Руки, закованные в перчатки, саднило. Он не отвечал на телефонные звонки и не выходил к посетителям. Этим занималась его тетя – Вивиан.
Она часто заходила к нему в комнату. Приносила новую порцию пива и еду.
Ел он редко, а в ответ на привычную уже просьбу тети: «Майкл, поешь, прошу тебя», – лишь улыбался:
– Потом, тетя Вив.
Он ни с кем не виделся, за исключением доктора Морриса. Однако доктор Моррис не в силах был ему помочь. Равно как и друзья. Теперь им даже разговаривать с ним не хотелось – они устали выслушивать монологи о том, как он в течение часа находился за порогом смерти, а затем вернулся к жизни. Сам же Майкл не испытывал ни малейшего желания общаться с сотнями жаждущих увидеть демонстрацию его паранормальных способностей.
Эти способности уже невероятно утомили его. Странно, что никто этого не понимает. Самый заурядный балаганный трюк: снять перчатки, дотронуться до какого-то предмета и увидеть нечто банальное и малоинтересное, а затем с важным видом произнести что-нибудь вроде: «Этот карандаш вы получили вчера от вашей сослуживицы по имени Герта». Или, например: «Сегодня утром вы надели этот медальон, хотя на самом деле хотели надеть жемчужное ожерелье, но не могли его отыскать».
Чисто физическое действие – он словно живая антенна. Возможно, тысячи лет назад все люди обладали такими способностями.
Неужели так трудно постичь, в чем состоит подлинная трагедия? Да в том, что он не может вспомнить то, что видел, когда утонул! Сколько раз он пытался рассказать об этом тете:
– Тетя Вив, там, наверху, я действительно видел людей. Мы были мертвы, все! У меня был выбор: возвращаться обратно или нет. Меня послали сюда с какой-то целью.
Тетя Вивиан, бледная копия его покойной матери, лишь кивала головой:
– Я понимаю, дорогой. Возможно, со временем ты вспомнишь.
Со временем…
Его друзья высказывались куда более резко:
– Майкл, это бред сумасшедшего. Да, случается, что люди тонут и их возвращают к жизни. О какой еще особой цели ты говоришь?
– Майкл, да по тебе психушка плачет!
Тереза лишь причитала сквозь слезы:
– Майкл, ну какой смысл мне оставаться здесь? Ты стал другим человеком.
Да. Другим человеком. Прежний Майкл утонул. Он снова и снова пытался вспомнить детали своего спасения: ту женщину, которая вытащила его из воды и привела в чувство. Если бы он мог поговорить с нею еще раз, если бы только доктор Моррис разыскал ее… Майклу хотелось услышать из ее собственных уст, что тогда он ничего не сказал. Ему хотелось снять перчатки и взять женщину за руку – кто знает, вдруг он таким образом сумеет вспомнить…
Доктор Моррис настаивал на дальнейшем обследовании, но Майкл решительно отказывался:
– Оставьте меня в покое! Только разыщите эту женщину – уверен, вы можете ее найти. Вы же говорили, что она вам звонила и сказала, как ее зовут.
Хватит с него больничных палат, сканирования мозга, электроэнцефалограмм, уколов и пилюль.
Пиво – совсем другое дело. Майкл понимал в нем толк. И иногда пиво здорово помогало ему вспомнить…
…Там был целый мир. И великое множество людей. Но все виделось словно сквозь легкую дымку. И там была она… Но кто? Она сказала… А потом все исчезло…
«Я это сделаю! Даже если это вновь будет стоить мне жизни, я все равно сделаю!»
Неужели он действительно так говорил? Но разве можно выдумать подобное – выдумать мир, столь сильно отличающийся от его настоящего мира, плотного и реального? И откуда эти странные мимолетные образы, будто он находится далеко отсюда, будто он вернулся домой, в город своего детства?
Он не знал. Теперь он вообще практически ничего не знал.
Он помнил, что его зовут Майкл Карри, что ему сорок восемь лет, что его состояние насчитывает пару миллионов долларов и он владеет собственностью примерно на такую же сумму, и это весьма кстати, поскольку его строительная компания прекратила свое существование. Майкл был более не в силах управлять ею. Его лучшие плотники и маляры ушли работать в другие компании. Он потерял важный заказ, который в свое время так много для него значил, – на реставрацию старого отеля на Юнион-стрит.
Майкл знал: если бы он снял перчатки и начал касаться окружающих предметов – стен, пола, жестянки с пивом, раскрытых страниц «Давида Копперфильда», – поток бесполезной информации немедленно свел бы его с ума. Если, конечно, он уже не лишился разума.
Майкл знал: до того как утонуть, он был счастлив. Не сказать чтобы полностью, но счастлив. И жить ему было хорошо.
Утром того дня, когда все это случилось, Майкл проснулся поздно. Он нуждался в отдыхе, а начинавшийся день вполне подходил для этого. Его люди прекрасно работали самостоятельно, и сегодня их можно не проверять. Было первое мая. Майкл вдруг вспомнил эпизод далекого детства: долгую поездку на машине из Нового Орлеана во Флориду вдоль побережья. Должно быть, то были пасхальные каникулы. Сказать наверняка он не мог, а те, кто мог бы – родители, дед, бабушка, – уже умерли.
Он отчетливо запомнил прозрачную зеленую воду и белый пляж: день был очень теплым, а песок под ногами походил на сахарный.
Майкл вспомнил, как на закате они отправились поплавать в волнах. Ни одного холодного дуновения ветра. И хотя большое оранжевое солнце все еще висело в западной части неба, прямо над головой сияла полная луна.
«Смотри, Майкл, как чудесно!» – воскликнула мама, указывая на представшее их глазам зрелище. Даже отец, который вообще не обращал внимания на подобные вещи, негромко заметил, что это красивое место.
Воспоминания вызывали в душе боль. Холод был единственной особенностью Сан-Франциско, которую Майкл ненавидел всей душой. Впоследствии он так и не мог объяснить, почему воспоминание о южном тепле побудило его отправиться в тот день в Оушен-Бич – по мнению многих, самое холодное место на всем побережье залива Сан-Франциско. Уж он-то знал, как отвратительно плещется вода под белесым угрюмым небом. Знал, как пробирает до костей ледяной ветер, от которого не спасет никакая одежда.
Тем не менее в этот бесцветный, унылый день желание побыть наедине с воспоминаниями о южном море, о том, как когда-то он ехал в старом «паккарде» с поднятым верхом, подставив лицо нежному, ласкающему южному ветру, заставило Майкла отправиться в Оушен-Бич.
Выезжая из города, Майкл не стал включать в машине радио и потому не слышал предупреждения о высоком приливе. А если бы и слышал? Он и без того знал, что Оушен-Бич – место опасное. Каждый год волны там уносили в пучину и местных жителей, и туристов.
Возможно, мысль об опасности и мелькнула у него в голове, когда он шел к прибрежным скалам, над которыми возвышался ресторан «Клифф-Хауз». Что ж, там всегда скользко, и потому следует быть очень осторожным. Однако Майкл не боялся упасть. Его не пугало ни море, ни что-либо другое. Он снова думал о юге, о летних вечерах в Новом Орлеане, когда цветет жасмин. Он снова вспоминал запах цветов ялапы, которая росла в бабушкином дворе, и ее другое, более привычное, название: «четыре часа».
Должно быть, от удара волны он потерял сознание, поскольку совершенно не помнил, как его смыло. Он лишь ясно сознавал, как поднимается в пространство и с высоты видит собственное тело, качающееся на приливной волне, как указывают на него и размахивают руками люди, как кто-то бросается в ресторан за помощью. Да, Майкл отчетливо видел, что делают все эти люди. Он не то чтобы наблюдал за ними откуда-то с высоты – он словно знал о них все. И до чего же радостно и безопасно было ему находиться там, в вышине! Впрочем, слово «безопасно» даже приблизительно не определяет его ощущения в тот момент. Майкл чувствовал себя свободным – настолько свободным, что не мог понять, отчего те люди на берегу так суетятся, почему их столь заботит его тело, ставшее игрушкой волн.
Последовавшее затем продолжение, скорее всего, относилось ко времени, когда Майкл уже умер и оказался в окружении других умерших… Сколько удивительного довелось ему увидеть! И он вдруг обрел понимание – понимание всего: как самых простых, так и самых сложных вещей. Он понимал, зачем ему нужно вернуться назад. Он понимал, что такое портал и в чем смысл обещания… А потом он, невесомый, вдруг вновь оказался в своем теле, лежавшем на палубе яхты, в теле утопленника, которое в течение часа оставалось мертвым. Он ощутил все оттенки боли и вернулся в мир живых, оглядываясь по сторонам, знающий все и готовый делать именно то, ради чего его послали обратно. Какими невероятными знаниями он обладал!
В первые несколько мгновений Майкл безуспешно пытался рассказать, где побывал и что видел, поведать о своем долгом странствии. Да, конечно, он пытался это сделать! Однако сейчас он помнил лишь неимоверную боль в груди, во всем теле, а также неясную фигуру склонившейся над ним женщины – хрупкой, с тонким бледным лицом; ее волосы скрывала темная шапочка, а серые глаза на один только миг вспыхнули перед ним, точно два огня. Тихим голосом она попросила его лежать спокойно и пообещала, что о нем позаботятся.
Невозможно представить, чтобы эта миниатюрная незнакомка вытащила его из залива и откачала воду из легких. Но в тот момент Майкл не понимал, что именно она его спасительница.
Потом какие-то мужчины уложили его переполненное болью тело на носилки и пристегнули ремнями. Ветер хлестал в лицо. Майклу было трудно держать глаза открытыми. Немного погодя он почувствовал, как носилки подняли.
Что происходило дальше, он не помнил. Неужели опять потерял сознание? Быть может, именно тот момент стал рубежом полного забвения? Кажется, никто не мог с уверенностью сказать, что случилось – или не случилось – за этот короткий отрезок времени. Все говорили, что Майкла спешно доставили на берег, где его уже ждали машина «скорой помощи» и репортеры.
Он помнил щелчки и вспышки фотоаппаратов, многократное повторение своего имени. Он помнил саму машину и то, как кто-то пытался всадить иглу ему в вену. Кажется, до него донесся голос тети Вивиан. Он просил их прекратить все это и пытался сесть. Нет, он не позволит снова привязать себя к носилкам!
– Успокойтесь, мистер Карри, прошу вас, успокойтесь… Кто-нибудь, помогите мне справиться с этим парнем!
И все-таки они вновь пристегнули его ремнями к носилкам. И при этом обращались с ним словно с преступником. Майкл отчаянно сопротивлялся, но все его попытки не привели к успеху. Он почувствовал, как ему сделали укол в руку. И на него надвинулась тьма…
Он вновь увидел перед собой тех, с кем недавно встретился наверху. Они что-то говорили ему…
– Я понимаю, – ответил им Майкл. – Я не позволю этому случиться. Я поеду домой. Я знаю, где это. Я помню…
Когда он пришел в себя, все вокруг было залито ярким светом… Больничная палата. Майкл бросил взгляд на медицинскую аппаратуру. Возле кровати сидел его лучший друг Джимми Барнс. Майкл попытался заговорить с Джимми, но кровать окружили врачи и медсестры.
Они без конца ощупывали его тело, руки, ноги, задавали вопросы. Но Майкл был не в состоянии сосредоточиться и дать им вразумительные ответы. Перед его глазами проносились самые разные видения: мелькали лица медсестер и санитарок, больничные коридоры. Что все это значит? Майкл знал, что врача зовут Рэнди Моррис и что перед уходом из дома он поцеловал свою жену Дини. А Майклу-то что до этого? Образы и сведения буквально сыпались в его голову. Невыносимо! Он словно пребывал на границе сна и яви, в каком-то беспокойном, лихорадочном состоянии.
Майкл вздрогнул, силясь выбросить все это из головы.
– Послушайте, я ведь стараюсь, – сказал он. В конце концов, он ведь прекрасно понимал, зачем его ощупывают: после всего, что с ним произошло, врачи хотят убедиться в отсутствии нарушений функционирования головного мозга.
– Не волнуйтесь, я в отличной форме. Мне нужно выбраться отсюда, уложить вещи и как можно скорее вернуться домой…
Заказ билетов на самолет, закрытие компании… Портал, обещание и его цель, исключительно важная…
Но в чем она состояла? Почему ему было так необходимо вернуться домой? Хлынул новый поток образов: санитарки, убирающие в его палате… кто-то вытирает хромированную спинку кровати, пока он спит… Хватит! Нужно вернуться к самому главному, к цели, которая…
И тут до него наконец дошло: он никак не может вспомнить, в чем состоит эта цель! Он не помнил того, что видел, когда был мертв! Он вообще ничего не помнил оттуда: ни людей, ни мест, ни того, что ему говорили… Невероятно! Ведь все казалось предельно понятным. И там на него рассчитывали. Там ему говорили: «Майкл, ты же знаешь, что вовсе не обязан возвращаться, – ты можешь отказаться». Но он заявил, что непременно вернется и сделает… Что? Озарение обязательно придет – подобно вспышке… как сон, который был забыт и вдруг вспомнился целиком!
Майкл сел, вытащил одну из иголок, вставленных в его руку, и попросил ручку и бумагу.
– Вам следует лежать спокойно, – ответила сиделка.
– Успеется. Прежде мне нужно кое-что записать.
Однако записывать было нечего! Он помнил, как стоял на скале, думая о давно прошедшем лете во Флориде, о теплом море… И вдруг… он лежит на носилках, мокрый, окоченевший, и боль во всем теле.
Все исчезло.
Майкл закрыл глаза, пытаясь не обращать внимания на странное тепло в ладонях и на усилия сиделки вновь уложить его на подушку. Кто-то просил Джимми покинуть палату… Тот не хотел уходить… Почему он видит все эти странные и ненужные картины: снова мелькают лица санитарок, лицо мужа этой сиделки, имена. Зачем ему их имена?
– Перестаньте вбивать мне в голову разную чушь, – потребовал Майкл.
Важно было лишь то, что произошло там, над океаном!
Неожиданно у него в руках оказалась ручка.
– Если вы будете вести себя очень тихо…
Едва он коснулся ручки, опять всплыл образ: сиделка достает эту ручку из ящика стола на посту дежурного в коридоре. Майкл коснулся бумаги: какой-то мужчина кладет блокнот в металлический шкафчик. А тумбочка у кровати? Появилось лицо женщины, которая недавно вытирала ее тряпкой; на тряпке полно микробов, принесенных из другой палаты. Потом мимолетный образ какого-то мужчины, возящегося с приемником.
А сама кровать? Последней, кто на ней лежал, была миссис Уна Патрик, умершая вчера в одиннадцать часов утра, раньше, чем он решил отправиться в Оушен-Бич. Нет! Выбросить все это из головы! И вновь мимолетная картина: ее тело в больничном морге.
– Я больше так не могу!
– Что случилось, Майкл? – спросил доктор Моррис. – Расскажите мне.
В коридоре Джимми о чем-то спорил. Майкл услышал голос Стейси. Стейси и Джимми были его лучшими друзьями.
Майкла била дрожь.
– Да, конечно, – шепотом ответил он доктору. – Я расскажу вам, но только в том случае, если вы не будете мять и ощупывать меня.
Майкл в отчаянии поднес руки к голове и провел пальцами по волосам. К счастью, он ничего не ощутил. Он снова погружался в сон. «Хорошо, – думал он, – это произойдет так же, как и раньше: она окажется здесь и тогда я пойму». Но даже в состоянии дремы Майкл отчетливо сознавал, что не знает, кто она.
Но ему необходимо вернуться домой. Да, домой, после всех этих долгих лет, в течение которых «домой» успело превратиться в некую фантазию.
– Вернуться туда, где я родился, – шептал Майкл. До чего трудно ему сейчас говорить. Непреодолимо клонит в сон… – Если вы будете и дальше пичкать меня лекарствами, клянусь, я вас убью.
Не кто иной, как его друг Джимми принес ему на следующий день эти кожаные перчатки. Майкл сомневался, что они помогут, но решил попробовать. Его возбужденное состояние граничило с помешательством. Он без умолку говорил, обращаясь ко всем подряд.
Когда журналисты звонили ему в больницу, он торопливо описывал им «происходящее». Когда же они прорвались к нему в палату, Майкла было не остановить. Он говорил без остановки, снова и снова подробно излагая свою историю, и при этом снова и снова повторял:
– Я не могу вспомнить!
Ему давали различные предметы и просили коснуться их. Майкл прикасался и рассказывал, что видит.
– Это не имеет никакого смысла, – добавлял он.
Потом камеры выключили, и одновременно смолкли мириады электронных звуков. Больничная администрация выпроводила журналистов. Майкл боялся дотронуться даже до вилки или ножа. Он перестал есть. Персонал больницы валом валил в палату, чтобы сунуть ему в руки тот или иной предмет.
Принимая душ, Майкл коснулся стены и опять увидел ту недавно умершую женщину. Она провела в палате три недели. Майкл слышал, как она убеждала невестку: «Я не хочу идти в душ. Неужели ты не понимаешь, что я больна?»
Но невестка все-таки заставила ее встать под душ… Вон из душевой кабины, и поскорее! Изможденный, Майкл повалился на кровать и засунул руки под подушку.
Когда он впервые натянул черные кожаные перчатки, перед глазами вспыхнуло несколько картин. Тогда он медленно потер руки одну о другую, надеясь, что образы потускнеют. Какое-то время видения еще проносились перед глазами, но уже не были четкими. В мозгу звенело от многочисленных имен. Затем наступила тишина.
Майкл медленно потянулся к подносу с ужином и осторожно взял нож. Что-то на миг возникло, но образ был бледный, немой, а вскоре и вовсе исчез. Майкл поднес ко рту стакан, выпил молока. Только легкое мерцание перед глазами. Прекрасно! Значит, фокус с перчатками удался! Задача лишь в том, чтобы все движения были по возможности быстрыми.
И еще в том, чтобы поскорее убраться отсюда! Однако врачи не отпускали его.
– Хватит с меня сканирования мозга, – настойчиво твердил Майкл. – Мой мозг в превосходном состоянии. Это руки сводят меня с ума.
Все, кто его окружал, старались помочь: и доктор Моррис, и главный врач, и друзья, и тетя Вивиан, которая часами сидела возле его постели. По настоянию Майкла доктор Моррис связался с бригадой «скорой помощи», береговой охраной, службой по чрезвычайным ситуациям, а также с той женщиной, которая возвращала Майкла к жизни, пока люди из береговой охраны искали ее яхту. Словом, со всеми, кто мог помнить, говорил ли Майкл тогда что-либо важное. Одного-единственного слова достаточно, чтобы взломать замки его памяти.
Но оказалось, что никаких слов Майкл не произносил. Владелица яхты сообщила: открыв глаза, он что-то пробормотал, но она не расслышала. По мнению женщины, слово начиналось на букву «л». Возможно, чье-то имя. Вскоре его забрала береговая охрана. В машине «скорой помощи» он стал буянить – пришлось сделать ему успокоительный укол.
Майкл все равно хотел поговорить со всеми этими людьми, особенно с женщиной, приводившей его в чувство. Об этом он сказал тележурналистам, пришедшим брать интервью.
Каждый вечер Джимми и Стейси засиживались в его палате допоздна. Каждое утро приходила тетя Вивиан. Наконец пришла и Тереза, робкая, испуганная. Она, видите ли, не выносит больничную обстановку и не может находиться среди больных людей!
Майкл рассмеялся. Это же надо договориться до такого! Затем, поддавшись импульсу, он не удержался: стянул перчатки и схватил Терезу за руку.
«Боюсь… не люблю тебя, ты теперь стал центром внимания… послать бы все это подальше… не верю, что ты там утонул, это смешно… я хочу отсюда уйти… прежде чем туда ехать, ты должен был мне позвонить…»
– Поезжай-ка домой, голубушка, – сказал ей Майкл.
Однажды во время тихого часа одна из сиделок сунула ему в руку авторучку в серебряном корпусе. Майкл только что очнулся от крепкого сна. Перчатки лежали на тумбочке.
– Назовите мне ее имя, – попросила сиделка.
– Я не знаю ее имени. Я вижу письменный стол.
– Постарайтесь.
– Красивый письменный стол из красного дерева, столешница обтянута зеленым сукном.
– Но как зовут женщину, которая пользовалась этой ручкой?
– Эллисон.
– Правильно. А где она находится?
– Не знаю.
– Попробуйте еще раз.
– Говорю вам, я не знаю. Женщина дала вам эту ручку, вы положили ее в сумочку, а сегодня утром достали. Это всего лишь образы, картинки. Я не знаю, где эта женщина. Вы сидите в кафе и что-то рисуете этой ручкой на бумажной салфетке. Вы думаете о том, чтобы показать ручку мне.
– Она умерла, не так ли?
– Говорю вам, я не знаю. Не вижу. Эллисон – это все, что я могу сказать. Она писала этой ручкой список продуктов. Ради Бога, неужели вы хотите, чтобы я перечислил вам, что туда входило?
– Вы должны видеть больше.
– А я не вижу!
Майкл натянул перчатки. Теперь ничто не заставит его снять их снова.
На другой день Майкл покинул больницу.
Три следующие недели были сплошным мучением. Майклу позвонили двое служащих береговой охраны, а также один из водителей «скорой помощи», но никто из них не смог ему помочь. Что касается его спасительницы, то женщина не желала, чтобы где-либо упоминали ее имя. Доктор Моррис обещал выполнить эту просьбу. Между тем береговая охрана сообщила прессе, что они не успели записать ни название судна, ни его регистрационный номер. Один из журналистов утверждал, что это прогулочная океанская яхта. Если так, сейчас она вполне может находиться в другом полушарии.
К этому времени Майкл понял, что рассказал свою историю уже слишком большому числу людей. Каждый популярный журнал в стране стремился напечатать на своих страницах интервью с ним. Куда бы Майкл ни пошел, он повсюду сталкивался с газетчиками или просто любопытными, норовившими сунуть ему в руки бумажник или фотографию. Телефон звонил беспрерывно. У входной двери громоздились груды писем. Хотя Майкл все это время «собирал чемоданы», он никак не мог решиться на отъезд – вместо этого целыми днями пил ледяное пиво, а когда оно недостаточно замораживало мысли, брался за бурбон.
Друзья Майкла старались не оставлять его в беде. Они по очереди пытались успокоить его и отвлечь от выпивки, но все их усилия оказывались безрезультатными. Стейси даже читала Майклу вслух, поскольку он не мог читать сам… Майкл понимал, что уже довел всех до ручки.
А дело было в том, что мозг его лихорадочно работал, пытаясь все расставить по полочкам. Если он не может вспомнить, то должен хотя бы разобраться во всем, что связано с этим ужасным, потрясшим его до глубины души происшествием. Но Майкл сознавал, что его мысли постоянно крутятся вокруг «жизни и смерти», возвращаются к тому, что случилось «там». Он размышлял о разрушении барьеров между жизнью и смертью как в популярном, так и в серьезном искусстве. Неужели этого никто не замечает? Фильмы и книги всегда рассказывают людям о происходящем. Чтобы понять, достаточно лишь внимательно читать и смотреть. Сам он понял это еще до того, как все случилось.
Взять, например, фильм Бергмана «Фанни и Александр». Там мертвые запросто приходят, гуляют и разговаривают с живыми. То же происходит в «Чертополохе». И в драме «Шепоты и крик», где разговаривают восставшие мертвецы. Есть даже какая-то комедия с подобным сюжетом. Да и вообще, в фильмах легкого жанра такое случается весьма и весьма часто. Взять хотя бы «Женщину в белом», где мертвая девочка появляется в спальне маленького мальчика. А в «Джулии» с Миа Фэрроу героиню преследует мертвый ребенок, гоняясь за ней по всему Лондону.
– Майкл, ты просто чокнутый, – говорили ему друзья.
– А вы разве не видите, что речь об этом идет не только в фильмах ужасов? Это происходит во всем нашем искусстве. Кто-нибудь из вас читал «Белый отель»? Так вот, повествование там продолжается и после смерти героини, события происходят уже в загробном мире… Говорю вам, что-то должно случиться. Барьер рушится. Я сам говорил с мертвыми и потом вернулся. На каком-то подсознательном уровне мы все понимаем, что барьер трещит.
– Майкл, тебе нужно успокоиться. Эта история с твоими руками…
– Да оставьте вы в покое мои руки!
Но что греха таить, Майкл действительно чокнутый. И таковым намерен оставаться. Ему нравится быть чокнутым… Майкл позвонил и заказал очередную упаковку пива. Тете Вив не придется ни за чем выходить. К тому же у него припрятан неплохой запас «Гленливет Скотч» и еще больший запас «Джека Дэниелса». Так что он может не просыхать до самой смерти. Никаких проблем.
По телефону Майкл ликвидировал в конце концов и свою компанию. Когда он попытался вновь заняться делом, сотрудники без обиняков велели ему отправлялся домой. Они не смогли работать под его нескончаемую болтовню. Майкл перескакивал с темы на тему. Вдобавок там же болтался репортер, упрашивавший Майкла продемонстрировать свои способности ради какой-то женщины из округа Сонома… Существовала еще одна особенность, которая тоже мучила его и о которой он не мог никому рассказать. Майкл ощущал эмоциональное воздействие людей независимо от того, касался он их или нет.
Нечто похожее на спонтанную телепатию. Не нужно было даже снимать перчатки. Майкл получал не информацию – просто сильное эмоциональное впечатление, говорившее о симпатии, антипатии, правде или лжи. Иногда он так глубоко погружался в этот поток, что видел лишь движение губ человека – а слов не слышал вообще.
Столь тесная близость – если это подходящее название для такого рода явления – угнетала его до глубины души.
Майкл отказался от всех контрактов, в один день передав их другим фирмам, проследил за тем, чтобы все его сотрудники получили другую работу, и закрыл свой небольшой магазин на Кастро-стрит, торговавший предметами Викторианской эпохи для оформления интерьеров.
Теперь можно было оставаться дома, лежать в комнате с задернутыми шторами и пить. Тетя Вив готовила в кухне, что-то напевая, но есть Майклу не хотелось. Пытаясь отвлечься от тяжелых мыслей, он время от времени брал в руки «Давида Копперфильда». В самые худшие моменты своей жизни Майкл всегда отправлялся в какой-нибудь дальний уголок земного шара и читал «Давида Копперфильда». Этот роман был легче и по стилю, и по содержанию, чем «Большие надежды» – самое любимое его произведение. Но сейчас Майкл понимал прочитанное лишь потому, что знал роман практически наизусть.
Тереза отправилась на юг Калифорнии, навестить брата. Майкл знал, что это ложь. Он не подходил к телефону, просто прослушал ее сообщение на автоответчике. Что ж, прекрасно. Всего наилучшего.
Когда из Нью-Йорка позвонила Элизабет, его прежняя подруга, он говорил с ней, пока не вырубился. На следующее утро она позвонила снова и заявила, что он должен обратиться к психиатру, пригрозив, что бросит работу и немедленно прилетит, если он откажется пойти к врачу. Майкл согласился. Солгал, чтобы она отстала. Никуда он не пойдет.
Ему не хотелось ни с кем откровенничать – объяснять, насколько обострены сейчас все его чувства, а тем более рассказывать о руках. Единственное, о чем ему хотелось говорить, так это о видениях. Но разговоры о падающем занавесе, разделяющем живых и мертвых, никого не интересовали.
Как только тетя Вив отправлялась в постель, Майкл приступал к изучению обретенной им силы прикосновения. Неторопливо прикасаясь к тому или иному предмету, он уже мог рассказать о нем многое. А если Майкла интересовал конкретный вопрос, то есть он придавал своей силе направленность, полученная информация была поистине исчерпывающей. Но возникающие при этом ощущения, все эти внезапно вспыхивающие в мозгу образы вызывали лишь раздражение. Если и существовала причина, по которой ему была дарована такая восприимчивость, эта причина позабылась вместе с видением и осознанием цели, обусловившей его возвращение в жизнь.
Стейси принесла ему книги о людях, которые, как и он, однажды тоже умерли, но потом вернулись к жизни. В больнице доктор Моррис рассказывал Майклу о трудах на эту тему – классических исследованиях «опыта на грани смерти», проводимых Муди, Ролингсом, Сэйбомом и Рингом. Преодолевая пьяное оцепенение, возбуждение, полную неспособность надолго сосредоточиться на чем-либо, Майкл заставил себя прочитать некоторые из работ.
Да, все очень знакомо! Все правда! Да, он тоже поднимался высоко над телом, и это не было сном. Только он не видел прекрасного света, его не встречали дорогие сердцу люди, отошедшие в мир иной. Он не был допущен в рай небесный, полный цветов и удивительных красок. С Майклом происходило нечто совершенно иное. Его перехватили на полпути и заставили осознать, что ему предначертано выполнить некую весьма трудную, но чрезвычайно важную задачу и что от результата его миссии зависит очень многое.
Рай… Единственный рай, который когда-либо видел Майкл, располагался в городе, где он вырос и откуда уехал в семнадцать лет, – в Новом Орлеане. Этот рай представлял собой обширную территорию с приблизительно тремя десятками домов и назывался Садовым кварталом.
Да, вернуться туда, где все начиналось! В Новый Орлеан, который не видел с семнадцати лет. И что самое забавное: когда перед его мысленным взором проносилась вся жизнь – говорят, это происходит со всеми тонущими, – первое, что отчетливо вспомнилось Майклу, это вечер, открывший ему, шестилетнему ребенку, волшебство классической музыки… Сидя на задней веранде бабушкиного дома, он дышал пряным ароматом сумерек и слушал старый ламповый приемник. В темноте сияли лепестки ялапы. В листве деревьев звенели цикады. Дед с любимой сигарой в зубах устроился на ступеньках… Именно тогда в душу Майкла вошла божественная музыка…
Почему же он так полюбил классическую музыку, когда никого вокруг она не трогала? Но так уж случилось, что Майкл с самого рождения отличался от других. И своей любовью к музыке обязан был отнюдь не матери и семейному воспитанию. Для матери, по ее собственному признанию, любая музыка была не более чем шумом. И тем не менее Майкл до такой степени увлекся классикой, что его нередко заставали за малопонятным для остальных занятием: стоя в темноте, он едва слышно напевал себе под нос какую-либо мелодию и дирижировал, широко размахивая палочкой.
Семейство усердных работяг Карри обитало в районе Ирландского канала. Отец Майкла принадлежал к третьему поколению семьи, занимавшей половину небольшого дома в прибрежном квартале, где селились многие ирландцы. Спасаясь от голода, вызванного катастрофическим неурожаем картофеля, его предки отправились в Америку в пустом трюме одного из кораблей, перевозивших хлопок. Такие суда регулярно отплывали из Ливерпуля к берегам американского Юга за прибыльным товаром, увозя на далекий континент все новых и новых беженцев.
Достигнув наконец вожделенных берегов Америки, переселенцы оказались в «сырой могиле» – иного определения условия их существования не заслуживали. Едва живые от голода, одетые в большинстве своем в лохмотья, они хватались за любую работу и сотнями умирали от желтой лихорадки, чахотки и холеры. Оставшиеся в живых копали городские каналы – рассадники комаров, кидали уголь в топки больших пароходов, грузили хлопок на корабли и работали на железной дороге. Некоторые становились полицейскими и пожарными.
То была порода сильных людей, и именно от них Майкл унаследовал крепкое телосложение и решимость. Он них же исходила и его любовь к работе руками, которая в конце концов взяла в нем верх, несмотря на годы учебы.
Он рос, слушая рассказы о тех далеких днях: о том, как рабочие-ирландцы сами построили большую приходскую церковь Святого Альфонса, как они вытаскивали из реки камни и делали кладку, как собирали деньги, чтобы заказать в Европе прекрасные статуи.
«Мы должны превзойти немцев, – говорили эти люди. – Вы же знаете, что на другой стороне улицы они строят церковь Святой Марии. Ничто не заставит нас ходить вместе с ними к мессе».
Вот почему в этом квартале вместо одной выросли две великолепные приходские церкви, где каждое утро служили мессу одни и те же священники.
Дед Майкла служил в портовой полиции. На этих же причалах прадед мальчика когда-то грузил тюки с хлопком. Дед водил внука смотреть, как приходят корабли с грузом бананов, как тысячи бананов движутся по лентам конвейеров и исчезают в недрах складов. Он рассказывал, что иногда в связках плодов прячутся большие черные змеи, которых зачастую удается обнаружить, лишь когда бананы попадают на рынок.
Отец Майкла был пожарным и оставался им до конца своих дней – он погиб во время пожара на Чупитулас-стрит. Майклу тогда было семнадцать. Потеря отца стала поворотным пунктом в жизни юноши – к тому времени его дед и бабушка уже умерли, и Майкл с матерью уехали в ее родной Сан-Франциско.
В сознании Майкла никогда не возникало ни малейшего сомнения в том, что Калифорния отнеслась к нему по-доброму. Да и двадцатый век отнесся к нему по-доброму. Майкл оказался первым из членов старинного ирландского клана, кто окончил университетский колледж и получил возможность жить в мире книг, картин и красивых зданий.
Даже будь отец жив, Майкл все равно не пошел бы по его стопам. Майкла интересовали такие вещи, о которых едва ли задумывались его предки.
И речь в данном случае не о музыке, которую он открыл для себя тем летним вечером, но прежде всего о его страсти к книгам. Майкл полюбил их, как только научился складывать буквы. В девять лет он запоем прочел Диккенса, и с тех пор «Большие надежды» навсегда остались для него самым любимым романом.
В Сан-Франциско Майкл так и назвал свою строительную компанию: «Большие надежды».
В школьной библиотеке, где остальные мальчишки стреляли друг в друга шариками из жеваной бумаги, он брал «Большие надежды» или «Давида Копперфильда» и забывал обо всем на свете. Сверстники дергали его за руку и грозились поколотить, если он не перестанет корчить из себя «тихоню» – этим словом жители Ирландского канала называли любого, у кого недоставало здравого смысла быть крепким, грубым и презирать все, что недоступно мгновенному пониманию.
И тем не менее поколотить Майкла не удавалось никому. У него хватало унаследованной от отца здоровой злости, чтобы отомстить каждому, кто осмелится поднять на него руку. Даже в детстве Майкл был крепким и не по годам сильным.
Физические действия, пусть и жестокие, были для него совершенно естественными. К тому же Майкл любил драться. И мальчишки пришли к выводу, что его лучше не задевать, а сам он научился надежно скрывать потаенные уголки своей души. Поэтому ребята прощали ему некоторые странности и, можно сказать, любили его.
Однако пристрастие Майкла к длинным пешим прогулкам оставалось непонятным для сверстников, равно как впоследствии и для его подружек. Рита Мей Двайер смеялась над ним. Мария Луиза называла его повернутым. «Ну что ты находишь в этой ходьбе?» – недоумевала она.
Но Майкл с раннего возраста увлекался ходьбой. Ему нравилось пересекать Мэгазин-стрит – своего рода разделительную черту между скоплением узких, опаленных солнцем улочек, на которых он вырос, и величественным, исполненным спокойного достоинства Садовым кварталом.
В Садовом квартале находились самые старые аристократические особняки. Скрываясь в тени садов, они словно дремали под неусыпной охраной вековых дубов. Засунув руки в карманы, Майкл бродил по кирпичным тротуарам, насвистывая какой-нибудь мотивчик и мечтая о том, что когда-нибудь и у него здесь будет собственный особняк. Обычно он рисовал в своем воображении дом с белыми колоннами и выложенные плитами дорожки. У него будет рояль – вроде тех, что он видел мельком за широкими, во всю стену, окнами. У него будут кружевные занавеси и люстры. И тогда он целыми днями станет читать Диккенса, сидя в прохладе библиотеки, где шкафы с книгами доходят до потолка, а по решеткам террасы вьются кроваво-красные азалии.
А пока Майкл лишь украдкой смотрел на то, чем, по его мнению, непременно должен владеть, пусть и в отдаленном будущем, и испытывал те же чувства, что и диккенсовский Пип.
Надо сказать, что в своем пристрастии к прогулкам Майкл не был одинок: его мать тоже любила подолгу ходить. Возможно, это был один из нескольких важных даров, которые она передала сыну.
Как и Майкл, его мать любила дома и понимала в них толк. С самого раннего детства он приходил с ней в этот заповедник старинных особняков, и она показывала сыну свои любимые уголки и большие ухоженные лужайки, скрывавшиеся за кустами камелии, учила слушать пение птиц в листве деревьев и музыку невидимых фонтанов.
Особенно ей нравилось одно здание, которое Майкл никогда не забудет: большой, мрачноватого вида особняк с увитыми бугенвиллеей боковыми террасами. Когда они проходили мимо этого дома, Майкл часто видел какого-то странного человека, одиноко стоявшего среди высоких неухоженных кустов в самом конце заброшенного сада. Казалось, он так безнадежно затерялся и запутался меж зеленых ветвей, настолько тесно слился с темной листвой, что какой-нибудь другой прохожий вряд ли сумел бы его заметить.
У них с матерью даже было что-то вроде игры, связанной с тем человеком. Обычно мать говорила, что не видит его.
– Ну как же, мама, он ведь там стоит, – каждый раз возражал ей Майкл.
– Хорошо, тогда расскажи мне, как он выглядит.
– У него темные волосы и карие глаза, и он нарядно одет, словно собирается в гости. Но, мама, он следит за нами, и нам не стоит здесь стоять и разглядывать его.
– Майкл, да нет же там никакого человека, – упорно твердила мать.
– Ты что, смеешься надо мной?
Но однажды мать действительно увидела того мужчину, и он ей не понравился. Однако произошло это не в запущенном саду красивого дома.
В канун Рождества – Майкл был тогда еще ребенком – в боковом алтаре церкви Святого Альфонса поставили ясли с лежащей в них фигуркой младенца Иисуса. Майкл пришел вместе с матерью преклонить колени перед алтарем и в восхищении застыл перед статуями Марии и Иосифа. А младенец Иисус улыбался и протягивал к нему свои пухлые ручонки. Везде ярко сияли огни, на фоне которых пламя свечей казалось особенно нежным и мягким. Церковь наполняли приглушенные звуки шагов и тихие голоса.
Наверное, это было первое Рождество, которое Майкл запомнил. Так или иначе, тот человек стоял в полумраке алтарной части храма и спокойно оглядывал прихожан, а увидев Майкла, по обыкновению слегка улыбнулся. На нем был костюм. Выражение лица мужчины казалось совершенно невозмутимым, но сомкнутые ладони оставались крепко сжатыми. В целом выглядел он точно так же, как в саду того дома на Первой улице.
– Мама, смотри, это он! – воскликнул Майкл. – Тот человек из сада!
Бросив на незнакомца быстрый взгляд, мать тут же испуганно отвела глаза и прошептала:
– Вижу. Не смотри больше на него.
Уже выходя из церкви, мать еще раз обернулась…
– Мама, это же человек из сада, – повторил Майкл.
– О чем ты болтаешь? Из какого сада?
Через некоторое время, прогуливаясь вместе с матерью по Первой улице, Майкл опять увидел все того же странного мужчину. Но в ответ на попытку мальчика привлечь внимание матери к незнакомцу она почему-то вновь затеяла прежнюю игру, со смехом заявив, что в саду никого нет.
Нет так нет. Тогда это не имело значения. Но Майкл не забыл об увиденном.
Гораздо важнее существовавшая между Майклом и его матерью крепкая дружба – им всегда было хорошо вместе.
Когда Майкл подрос, мать преподнесла ему еще один подарок: кино. По субботам они садились в трамвай и ехали в центр города на дневной сеанс. Отец называл фильмы сентиментальным дерьмом и заявлял, что никто не затащит его на такие дурацкие картины.
Майкл навсегда запомнил «Ребекку», «Красные туфельки», «Сказки Гофмана» и итальянский фильм-оперу «Аида». Чуть позже он узнал удивительную историю пианиста в фильме «Незабываемая песня», навсегда полюбил «Цезаря и Клеопатру» с Клодом Рейнсом и Вивьен Ли, а также «Покойного Джорджа Эпли» с Роналдом Колменом, у которого был самый красивый голос, какой Майклу доводилось когда-либо слышать.
Досадно, что порою он не понимал содержания фильмов, а иногда не успевал расслышать даже реплики актеров. В иностранных фильмах субтитры сменялись прежде, чем Майкл успевал их прочесть, а в английских лентах актеры говорили слишком быстро, и он не улавливал смысл их отрывистой речи.
На обратном пути мать кое-что ему объясняла. Они проезжали мимо своей остановки – до самой Кэрролтон-авеню, где было так приятно побродить вдвоем. Им обоим нравилось разглядывать внушительного вида здания на этой улице. В большинстве своем они были построены после Гражданской войны и не отличались вкусом и изысканностью, свойственными старинным особнякам Садового квартала. Тем не менее исполненная великолепия и помпезности архитектура этих домов привлекала к себе внимание и вызывала интерес.
Тихая боль охватывала Майкла при воспоминании о тех неспешных поездках, о времени, когда хочешь так много, а понимаешь так мало. Ему нравилось срывать цветки ползучего мирта, высунув руку из открытого трамвайного окошка. Он мечтал походить на Максима де Винтера. Он старался выяснить и запомнить названия классических пьес, которые слышал по радио, и радовался, когда удавалось выучить и правильно произнести вслед за дикторами малопонятные иностранные слова.
Ему казалось странным, что в старых фильмах ужасов, демонстрировавшихся по соседству – в грязной киношке «Счастливый час» на Мэгазин-стрит, он зачастую видел все тот же изысканный мир и элегантных людей. Отделанные деревянными панелями библиотеки, мужчины в смокингах и миловидные сладкоречивые женщины соседствовали с чудовищным Франкенштейном или дочерью Дракулы. Наиболее элегантным мужчиной был некий доктор ван Хельсинг, а Клод Рейне, некогда игравший Цезаря, заливался безумным смехом в «Человеке-невидимке».
Сам того не желая, Майкл постепенно проникся презрением к Ирландскому каналу. Он любил своих родителей, деда и бабушку. Он в достаточной мере любил своих друзей. Но он ненавидел невзрачного вида двухквартирные домики, вытянувшиеся по двадцать кряду на целый квартал, с крошечными передними двориками и низенькими заборчиками из колышков. Он ненавидел бар на углу, где в задней комнате гремел музыкальный автомат и постоянно лязгала затянутая сеткой входная дверь. Майклу было противно смотреть на толстых женщин в цветастых платьях, которые прямо на улице нашлепывали своих детей, а иногда даже лупили их ремнем.
Он презирал толпы, которые ранними субботними вечерами болтались по Мэгазин-стрит. Ему казалось, что дети этих людей всегда ходят в грязной одежде и с чумазыми лицами. Продавщицы в универмаге, торговавшем разного рода дешевым товаром, грубили. Тротуары воняли прокисшим пивом. Из убогих квартир над магазинами, принадлежавших железной дороге, неслись отвратительные запахи. Несколько его друзей – из самых бедных семей – вынуждены были довольствоваться именно таким жильем. Зловоние ощущалось в старых обувных лавках, в мастерских по ремонту приемников и даже в зале «Счастливого часа». Зловоние стало неотъемлемой частью Мэгазин-стрит. Коврики на ступенях домов напоминали бинты. Все вокруг покрывал толстый слой грязи. Мать Майкла не ходила на Мэгазин-стрит даже за катушкой ниток. Она шла пешком через Садовый квартал, потом садилась в трамвай и ехала в район Кэнал-стрит.
Майклу было совестно за свою ненависть. Он стыдился ее так же, как стыдился своей ненависти Пип в «Больших надеждах». Однако чем больше видел, узнавал и понимал Майкл, тем сильнее становилось презрение.
Но ничто не вызывало в нем такого раздражения, как люди – да, именно люди. Он стыдился явно выраженного акцента, который сразу выдавал в человеке жителя Ирландского канала. Говорили, что такой акцент можно слышать и в нью-йоркском Бруклине, и в Бостоне, и в любом другом месте, где селились выходцы из Ирландии и Германии. Обитатели аристократических кварталов города обычно пренебрежительно говорили:
– Знаем, знаем, откуда ты. Из приходской школы. По выговору ясно.
Майкл терпеть не мог даже монахинь, преподававших в этой школе: голосистых грубых «сестриц», которые без каких-либо на то оснований – только лишь по собственной прихоти или по причине плохого настроения – пороли и всячески унижали мальчишек.
Особенно Майкл возненавидел монахинь после одного случая, свидетелем которого ему довелось стать в шестилетнем возрасте. Одного мальчишку-первоклассника, «нарушителя спокойствия», монахини выволокли из их класса и потащили к учительнице другого первого класса, в школу для девочек. Только потом ребята узнали, что там этого беднягу заставили влезть в мусорную корзину. Красный от стыда, он стоял перед девчонками и плакал. Монахини без конца толкали и пинали его, приговаривая: «Марш обратно в помойку! Пошел!» Девчонки видели все это своими глазами и позже рассказали обо всем, что тогда происходило.
От их рассказа у Майкла похолодело внутри. Его охватил немой, неизъяснимый ужас: а что, если нечто подобное случится и с ним? Ведь он знал, что не позволит так с собой обращаться. Он сумеет постоять за себя, и тогда отец его выпорет. Отец часто грозил Майклу расправой, но до сих пор дальше пары ударов веревкой дело не шло. Жестокость, которую Майкл всегда ощущал в себе и которая так или иначе проявлялась в его отце, деде и во всех знакомых ему мужчинах, могла неожиданно вспыхнуть, выйти из-под контроля и втянуть его в этот хаос. Сколько раз на его глазах пороли других ребят. Сколько раз Майкл слышал полные холодной иронии шутки своего отца насчет порки, которую задавал ему его отец. Майкл боялся, и его немой, всеобъемлющий и парализующий страх не поддавался словесному выражению. Это был ужас перед зловещим, неотступно надвигающимся моментом, когда на него посыплются удары.
Несмотря на присущие ему от природы непоседливость и упрямство, Майкл стал вести себя в школе воистину по-ангельски примерно задолго до того, как действительно осознал, что для осуществления мечтаний ему необходимо усердно учиться. А тогда он сделался тихим мальчиком, прилежным учеником, всегда выполняющим домашнее задание. Страх перед невежеством, страх перед наказанием и унижением подхлестывал его не в меньшей степени, чем впоследствии честолюбие.
Майкл уже никогда не узнает, почему этот страх не повлиял на других ребят, учившихся вместе с ним. Но если оглянуться назад, несомненно одно: он с самого начала отличался высокой приспособляемостью. Она-то и сыграла в его судьбе ключевую роль. Майкл учился у самой жизни, извлекал уроки из всего, что видел вокруг, и соответственно менялся сам.
Его родители не обладали такой гибкостью. Да, мать Майкла была терпеливой и сдержанной женщиной, со временем она научилась скрывать то отвращение, которое вызывали у нее нравы окружающих. Но она не мечтала, не строила грандиозных планов, поскольку не обладала необходимой для этого созидательной силой. Она не умела меняться, приспосабливаться и не добилась больших успехов ни в чем.
Что касается отца – тот был милым, добрым, хотя иногда резковатым и не слишком хорошо воспитанным человеком. Отважный огнеборец, он получил множество наград. Отец погиб, пытаясь спасти чужие жизни, и это было вполне в его натуре. Но в его натуре было и стремление отгородиться от всего, чего он не знал или не понимал. Глубоко спрятанное в душе тщеславие заставляло его в присутствии по-настоящему образованных людей ощущать себя «человеком маленьким».
Он постоянно напоминал Майклу о необходимости выполнять домашнее задание, но только потому, что считал это непреложной родительской обязанностью. Отцу и в голову не приходило, что Майкл вытягивал из приходской школы все знания, какие только мог, что в переполненных классах под руководством усталых, чрезмерно загруженных работой монахинь его сын получал прекрасное образование.
Какими бы ужасными ни были условия в той школе, монахини превосходно обучали ребят чтению и письму, даже если необходимые знания приходилось вбивать в них палкой. Благодаря монахиням ученики писали не только красиво, но и грамотно. В школе преподавали арифметику, а также латынь, историю и в какой-то мере – литературу. Наставницам удавалось призвать к порядку самых отъявленных шалунов и драчунов. И хотя Майкл всем сердцем ненавидел «сестриц» и не переставал ненавидеть их еще много лет после окончания школы, он не мог не признать, что монахини – пусть по-своему – проповедовали духовные ценности и порождали в своих подопечных стремление к достойной жизни.
Когда Майклу исполнилось одиннадцать, произошли три события, решительным образом повлиявшие на всю его дальнейшую жизнь. Первое из них – приезд из Сан-Франциско тети Вивиан.
Визит тети Вивиан – сестры матери – был кратким. Она приехала поездом на вокзал Юнион и остановилась в отеле «Поншатрен» на Сент-Чарльз-авеню. На следующий вечер она пригласила родителей Майкла и его самого на обед в «Карибский зал». Так назывался изысканный ресторан в этой гостинице. Отец отказался, заявив, что ему нечего делать в подобных местах. К тому же его костюм находился в чистке.
Майкл, приодетый, настоящий маленький мужчина, отправился вдвоем с матерью. Как всегда, они шли пешком через Садовый квартал.
«Карибский зал» буквально потряс мальчика. Это был почти лишенный звуков призрачный мир горящих свечей, белых скатертей и похожих на привидения официантов. Нет, в своих черных пиджаках и белых накрахмаленных рубашках они скорее напоминали вампиров из фильмов ужасов.
Но подлинным откровением для Майкла стало то, что и мать и тетя чувствовали себя здесь как дома: непринужденно беседуя, они негромко смеялись, задавали официанту всевозможные вопросы насчет черепахового супа, шерри и белого вина, поданного к обеду.
Уважение мальчика к матери возросло. Майкл понял, что она не делала вид, а действительно была хорошо знакома с этой жизнью. Теперь ему стало ясно, почему она иногда плакала и говорила, что хочет вернуться домой, в Сан-Франциско.
После отъезда сестры мать надолго слегла. Она не вставала с постели и отказывалась от всего, кроме вина, которое называла своим лекарством. Майкл сидел рядом и время от времени читал ей вслух. Если в течение часа мать не произносила ни слова, его охватывал непреодолимый страх. Постепенно состояние ее улучшилось, и в конце концов она встала на ноги – жизнь пошла привычным чередом.
Однако Майкл часто вспоминал обед в «Карибском зале» и то, как легко и непринужденно мать и тетя общались между собой. Он часто проходил мимо отеля «Поншатрен», с тихой завистью разглядывая богато одетых людей, стоявших на улице под навесом в ожидании такси или лимузина. Разве его желание жить в их мире вызвано лишь алчностью? Разве вся эта красота лишена духовности? Майкл ломал голову над множеством непонятных вещей. Его распирало от желания учиться, постигать и иметь. Но до сих пор все заканчивалось в расположенной по соседству аптеке Смита, куда он ходил читать комиксы ужасов.
Вторым важным событием того времени стало знакомство с публичной библиотекой. Майкл лишь незадолго до этого узнал о существовании библиотек – и вдруг такое открытие!
В детском читальном зале Майкл бродил между стеллажей, выискивая что-нибудь легкое и занимательное. Неожиданно на одной из полок он увидел новенькую книжку в твердом переплете. В ней рассказывалось о шахматной игре и о том, как научиться играть.
Шахматы всегда привлекали Майкла и казались чем-то романтичным. Но почему – он толком не мог сказать. Настоящих шахмат он никогда не видел. Майкл принес книгу домой и начал читать. Застав его за этим занятием, отец засмеялся. Сам он постоянно играл в шахматы во время дежурств в пожарной части, но считал, что научиться играть по учебнику невозможно – бессмысленно даже пытаться.
Майкл решительно с ним не согласился и заявил, что непременно освоит все премудрости игры именно по книжке и что уже многое понял.
– Ну, давай, учись, – ухмыльнулся отец. – А потом я с тобой сыграю.
Здорово! Оказывается, его отец умеет играть в шахматы. Может, у них даже появится шахматная доска… Майкл одолел книгу менее чем за неделю. Теперь он знал о шахматах все и в течение часа обстоятельно отвечал на отцовские вопросы.
– Невероятно, но ты действительно знаешь, как играть в шахматы, – удивился отец. – Не хватает лишь доски и фигур.
Отец поехал в центр города и вернулся с таким шахматным набором, о каком Майкл и помыслить не мог. Фигуры представляли собой не просто символические изображения, скажем, лошадиной головы, башни замка или королевской короны – это были настоящие произведения искусства… На коне сидел всадник в рыцарских доспехах, а сам конь стоял на задних ногах. Епископ{2} сложил в молитве руки. У королевы из-под короны ниспадали длинные волосы. А ладья была сделана в виде замка, водруженного на спину слона.
Разумеется, шахматы были пластмассовыми. Отец купил их в универмаге Холмса. И тем не менее фигуры не шли ни в какое сравнение с теми, что были нарисованы в учебнике шахматной игры, и Майкл был не в силах отвести от них завороженный взгляд. И не важно, что отец называл рыцаря на коне «мой всадник». Они играли в шахматы!.. С тех пор их часто можно было увидеть за этим занятием.
Но великим и неожиданным открытием для Майкла было не то, что отец умеет играть в шахматы, и не отцовская доброта, побудившая купить такой великолепный набор. Все это было прекрасно и замечательно. Естественно, шахматы сблизили отца и сына… Великим и неожиданным открытием для Майкла явилось другое: оказывается, книги не только способны поведать занимательные истории, но и позволяют отвлечься от терзающей душу боли, вызванной несбыточностью желаний и мечтаний.
Из книги он узнал то, что, по мнению других, можно освоить лишь на практике, по мере обретения опыта.
После этого Майкл смелее чувствовал себя в библиотеке, не стеснялся беседовать с дежурными библиотекарями. Он узнал о существовании «предметного каталога». Одержимо, наугад Майкл принялся изучать целый круг предметов.
Начал он с автомобилей – о них в библиотеке было множество книг, из которых Майкл получил самую полную информацию об устройстве двигателя, марках и моделях машин. Отец и дед были буквально потрясены его знаниями.
Затем Майкл нашел по каталогу книги о пожарных и пожарах. Он изучил историю создания пожарных команд в крупных городах, принципы устройства механических насосов и выдвижных лестниц… Он прочел все, что имелось, о крупнейших пожарах прошлого, таких как пожары в Чикаго и на фабрике «Треугольник». Теперь он мог обсуждать с отцом и дедом и эту тему.
Майкл вдруг почувствовал, что отныне обладает величайшей силой, и это открытие буквально ошеломило его. И тогда он составил тайный список тем, о котором не рассказывал никому. Первой в этом списке шла музыка.
Поначалу он выбирал самые простенькие, рассчитанные на малышей книжки – слишком уж непростой оказалась тема. Потом перешел к иллюстрированным изданиям для юношества. Они рассказали ему о гениальном мальчике Моцарте, о несчастном глухом Бетховене и безумце Паганини, якобы продавшем душу дьяволу. Майкл узнал, в чем состоит различие между симфонией, концертом и сонатой, о том, что такое нотный стан, четвертинки и половинки, мажор и минор… Он запомнил названия всех инструментов симфонического оркестра.
Следующую строку в его списке занимала архитектура. Майкл быстро научился распознавать стили и твердо усвоил характерные черты каждого из них, будь то греческий ренессанс, псевдоитальянский стиль или стиль поздней Викторианской эпохи. Теперь он с легкостью мог определить архитектурные особенности любого здания, отличить коринфские колонны от дорических и усадебный дом от коттеджа. Обогащенный приобретенными знаниями, Майкл бродил по Садовому кварталу, по-новому оценивая все, что видел вокруг, и все больше и больше влюбляясь в его красоту.
Образно говоря, он «выиграл джек-пот». Хватит жить в неведении. Он мог «дочитаться» до всего. По субботам Майкл просматривал десятки книг по искусству, архитектуре, греческой мифологии, естественным наукам. И даже книги, посвященные современной живописи, опере и балету. Надо признаться, чувствовал он себя при этом неловко и все время опасался, как бы отец не застал его за этим занятием и не поднял на смех.
Третьим важным событием того года был концерт в городском Концертном зале. Отец Майкла, как и многие пожарные, в свободное время подрабатывал. Тогда он продавал бутылки с содовой в фойе Концертного зала, и однажды Майкл вызвался ему помочь. Вообще-то ему не следовало задерживаться допоздна: нужно было делать уроки, а наутро идти в школу. Но Майклу так хотелось увидеть Концертный зал и все, что там происходит, что мать в конце концов разрешила.
Помогать отцу нужно было в антракте между отделениями, по окончании которого они отправятся домой. Перед началом первого отделения Майкл зашел в зал и поднялся на балкон, где были свободные места. Ему вспомнилась сцена из фильма «Красные туфельки», где студенты вот так же сгорали от нетерпения на галерке. Вскоре партер начал заполняться нарядно одетыми обитателями аристократических кварталов Нового Орлеана. Из оркестровой ямы доносились звуки настраиваемых инструментов. Майкл заметил в партере даже странного худого человека с Первой улицы. Тот вскинул голову и смотрел наверх, словно действительно видел затаившегося на балконе мальчика.
Концерт произвел на Майкла неизгладимое впечатление. В тот вечер знаменитый скрипач Исаак Стерн исполнял концерт Бетховена для скрипки с оркестром – одно из самых удивительных и наиболее выразительных произведений классической музыки из всех когда-либо слышанных Майклом. Ничто и никогда так не будоражило его чувства. Ничто и никогда не приводило его в такой экстаз.
Впоследствии Майкл еще не раз насвистывал лейтмотив и воскрешал в памяти бередящее душу звучание оркестра и пронзительно высокий голос скрипки Исаака Стерна, от которого сжималось сердце.
Однако пережитое потрясение породило в Майкле глубокую тоску, отравлявшую жизнь, и сильнейшее, чем когда-либо, недовольство всем миром. Внешне это никак не проявлялось: Майкл научился скрывать свои чувства, как скрывал полученные в библиотеке знания. Он боялся, что эти чувства, дай он им волю, станут источником высокомерия, презрения и неприязни к дорогим для него людям.
Майкл не мог не любить своих родных – при одной только мысли о просыпавшейся в нем временами мелочной неблагодарности ему становилось невыносимо стыдно.
Совсем другое дело – ненависть к соседям по кварталу. Это нормально и объяснимо. Но он не имел права не любить тех, с кем жил под одной крышей, не ладить с ними и не сохранять верность семье.
Разве можно испытывать что-либо, кроме безграничной любви, к заботливой бабушке, чья жизнь, казалось, только и состояла из стряпни, стирки и сушки белья, которое она носила в плетеной корзине на задний двор и развешивала на веревках. А к приходу внука на плите всегда стоял горячий обед.
Майкл обожал деда – невысокого человека с маленькими темными глазами, неизменно ожидавшего его из школы на ступенях крыльца. Майклу никогда не надоедало слушать удивительные рассказы деда о давних временах.
А как он мог не любить отца – мужественного и отважного пожарника, настоящего героя? Часто вместе с другими мальчишками Майкл отправлялся к зданию пожарной части на Вашингтон-авеню, усаживался напротив и буквально сгорал от желания вкусить запретный плод: выехать со взрослыми по тревоге. Наблюдая, как стремительно вылетает из ворот пожарная машина, прислушиваясь к вою сирены и звону колокола, Майкл забывал, до какой степени пугала его мысль о том, что в один прекрасный день и ему, возможно, придется стать пожарным. Пожарным, и больше никем! Пожарным, живущим в убогом двухквартирном домишке!
Как его матери удавалось любить этих людей – тут вопрос особый, и Майклу было трудно ее понять. Он по мере сил старался уменьшить ее тихое страдание, оставаясь для нее самым близким и единственным другом. И в то же время знал, что спасти ее невозможно. Женщина, которая лучше одевается и грамотнее говорит, чем кто-либо из обитателей Ирландского канала, всегда будет чужой среди них. Мать умоляла отца позволить ей поступить на работу продавщицей в какой-нибудь универмаг, но неизменно получала отказ. Она жила в мире романов в мягких обложках: Джон Диксон Карр, Дафна дю Морье, Френсис Паркинсон Кейс… Когда в доме все засыпали, она поудобнее устраивалась на диване в гостиной, оставаясь из-за жары в одном купальнике, и читала эти книги ночи напролет, небольшими глотками потягивая вино из бутылки, обернутой в коричневую бумагу.
Отец Майкла называл жену «мисс Сан-Франциско» и часто упрекал в том, что все в доме приходится делать его матери.
Но Майкл запомнил лишь несколько случаев, когда отец глядел на мать с нескрываемым презрением. Такое случалось, когда от выпитого вина у нее начинал заплетаться язык. Однако удержать ее от выпивки отец не пытался, хотя ему не доставляло удовольствия видеть, как женщина весь вечер пьет, точно мужик, прямо из горлышка. Отец ни разу даже не заикнулся об этом, но Майкл был абсолютно уверен, что думает он именно так.
Возможно, отец опасался, что, попытайся он оказать малейшее давление на жену, она тут же уйдет. А ведь он так гордился ее красотой, ее стройным телом и даже манерой говорить. Он постоянно покупал ей вино – портвейн и шерри, – которое сам терпеть не мог и называл не иначе, как «приторной и липкой бурдой для баб».
Но именно эту «бурду», насколько знал Майкл, обычно пили алкоголики.
Испытывала ли мать ненависть к мужу? Полной уверенности в этом у Майкла не было. Еще в детстве он однажды узнал, что мать на восемь лет старше отца. Однако разница в возрасте не ощущалась. Похоже, мать, как и все окружающие, считала мужа привлекательным мужчиной и хорошо к нему относилась. Впрочем, она ко всем хорошо относилась. Тем не менее Майкл отчетливо помнил частые ссоры между родителями, жуткие приглушенные перепалки за дверью родительской спальни – единственной закрытой дверью в их убогом жилище – и категоричные заявления матери, что никакая сила в мире не заставит ее забеременеть снова.
Историю знакомства родителей Майкл узнал много позже – уже после смерти матери – от тети Вивиан. Надо признаться, достоверность тетушкиной версии вызывала большие сомнения. По ее словам, родители встретились и полюбили друг друга в Сан-Франциско во время Второй мировой войны – отец служил на флоте и в морской форме был поистине неотразим, с легкостью очаровывая девушек.
– Он был похож на тебя, Майк, – говорила тетя Вив. – Темные волосы, голубые глаза, крупные и сильные руки… Ты ведь помнишь, у него был удивительный голос – глубокий, ровный; красоту его звучания не мог испортить даже акцент Ирландского канала.
Вот тогда-то мать Майкла и «втюрилась всерьез». Потом корабль снова ушел в дальние моря. Она получала от любимого нежные, поэтичные письма, которые околдовывали ее и разбивали ей сердце. Однако писал их не отец, а, как выяснилось позже, его лучший боевой товарищ, образованный парень, служивший на том же корабле. Он-то и украшал послания метафорами и цитатами, заимствованными из книг. А мать Майкла ни о чем не догадывалась.
Она буквально влюбилась в эти письма и, веря всему в них сказанному, не раздумывая отправилась на юг, как только обнаружила, что беременна Майклом. Простые и добросердечные родственники будущего мужа приняли ее сразу же и без колебаний и немедленно начали готовиться к свадьбе, чтобы по возвращении Майкла совершить бракосочетание в церкви Святого Альфонса.
Каким потрясением, должно быть, оказались для нее улочка, где не росло ни деревца, тесный дом со смежными комнатами и свекровь, преданно дожидавшаяся прихода мужчин и во время ужина никогда не садившаяся за стол.
Тетушка рассказала, что однажды, когда Майкл был еще совсем мал, отец раскрыл жене правду о письмах. Она пришла в такую ярость, что едва его не убила, а все письма сожгла на заднем дворе. Однако потом женщина успокоилась и попыталась приспособиться к обстоятельствам – ведь ей было уже за тридцать, а на руках маленький ребенок. Ее родители умерли, в Сан-Франциско из родственников живы были лишь сестра и брат, а потому не оставалось иного выбора, кроме как жить с отцом ребенка, тем более что Карри были неплохими людьми.
Особо нежные чувства мать Майкла питала к свекрови – в благодарность за то, что когда-то та без слов приняла ее, беременную. О теплых отношениях между двумя женщинами Майкл знал не понаслышке и видел, как преданно ухаживала мать за больной бабушкой до самой смерти старушки.
Бабушка умерла весной того года, когда Майкл пошел в среднюю школу, а пару месяцев спустя за ней последовал и дед. С течением времени Майклу пришлось провожать в последний путь немало родственников, но те похороны были первыми в его жизни и потому навсегда врезались в память.
Приготовления к печальному обряду, проникнутые атмосферой утонченности, которая так нравилась Майклу, остались для него незабываемыми событиями. Его глубоко поразил тот факт, что погребальные церемонии и все, что с ними связано: обстановка похоронной конторы «Лониган и сыновья», лимузины с серой бархатной обивкой, даже цветы и изысканно одетые рабочие, несущие гроб, – странным образом перекликались с красивой жизнью, показанной в его любимых фильмах. Здесь присутствовало все, что так ценил Майкл: велеречивые мужчины и женщины, прекрасные ковры, резная мебель, богатство оттенков и фактуры, запах лилий и роз… Во время похорон люди словно забывали свою природную жестокость и грубые манеры.
Как будто после смерти человек оказывался в мире «Ребекки», «Красных туфелек» или «Песни на память» и, прежде чем навсегда лечь в землю, получал возможность день-другой провести в изысканной обстановке.
Такая взаимосвязь долго не давала покоя Майклу. Когда в «Счастливом часе» на Мэгазин-стрит он во второй раз смотрел «Невесту Франкенштейна», его интересовали лишь красивые здания, музыка голосов и покрой одежды персонажей фильма. Ему очень хотелось с кем-нибудь поговорить об этом, но его подружка Мария Луиза не понимала, о чем идет речь. По ее мнению, глупо было торчать в библиотеке. На иностранные фильмы с субтитрами она почти не ходила.
В глазах этой девочки Майкл увидел то же выражение, что и в глазах отца: в них читалось отвращение. А Майклу не хотелось, чтобы к нему относились с отвращением.
К тому же теперь он учился в средней школе. Жизнь кардинально менялась, и временами – при мысли о том, что в мире жестокой реальности его мечтам не суждено сбыться, – Майкла охватывал страх. Похоже, и другие думали так же. В один из вечеров отец Марии Луизы, сидевший на крыльце, бросил на него холодный взгляд и резко спросил:
– А с чего это ты взял, что поступишь в колледж? Что, у папаши деньги завелись платить за Школу имени Лойолы?
Он сплюнул на тротуар и смерил Майкла взглядом, в котором тоже читалось омерзение.
Майкл пожал плечами. В Новом Орлеане тогда не было государственных учебных заведений.
– Возможно, я поеду в Батон-Руж, в Луизианский университет, – ответил Майкл. – А может, получу стипендию.
– Чушь собачья! – проворчал отец Марии Луизы. – Почему бы тебе не стать пожарным – пусть даже не таким хорошим, как твой отец?
Возможно, окружающие были правы: настало время задуматься о будущем. Майкл вымахал почти до шести футов – замечательный рост по меркам Ирландского канала и явный рекорд для семьи Карри. Отец купил ему подержанный «паккард» и за неделю научил управлять машиной. После этого Майкл начал подрабатывать: доставлять товар в цветочный магазин на Сент-Чарльз-авеню.
Но только в предпоследний год учебы прежние мечты Майкла начали тускнеть, он увлекся футболом и стал забывать о своих амбициях. Сам того не ожидая, Майкл вошел в основной состав школьной команды и вскоре уже играл на стадионе в городском парке. Ребята на трибунах орали, поддерживая свою команду. «Гол забил Майкл Карри», – звучало из динамиков. После игры Мария Луиза позвонила ему и томным голосом сообщила, что он забил гол прямо в ее сердце и теперь она готова с ним «на что угодно».
Да, то были золотые дни для приходской школы, которая всегда считалась самой бедной из белых школ Нового Орлеана. Перед каждой игрой новая директриса собирала ребят на школьном дворе и, забравшись на скамейку с микрофоном в руках, подбадривала игроков, а потом отправляла учеников в городской парк, чтобы они поддерживали свою команду. Она организовала сбор средств на строительство спортивного зала, и школьная команда начала совершать маленькие чудеса, выигрывая одну встречу за другой благодаря, казалось, одной только силе воли. Но ребята не сдавались и не уступали даже гораздо лучше подготовленному противнику.
Несмотря на то что Майкл продолжал запоем читать книги, в тот год эмоциональным центром его жизни стали футбольные матчи. Агрессивность его характера и физическая сила находили наилучшее применение в игре. Футбол помогал даже справиться с подавленным состоянием. Майкл сделался одной из школьных звезд. Направляясь к восьмичасовой утренней мессе, он ощущал обращенные на него со всех сторон восхищенные взгляды девчонок.
И вот наконец мечта стала реальностью: команда приходской школы выиграла городской чемпионат. Удача улыбнулась тем самым «щенкам» с другой стороны Мэгазин-стрит, чья манера говорить безошибочно выдавала обитателей Ирландского канала.
Одна из крупных городских газет напечатала о них восторженную статью. Школа достигла зенита славы. Мария Луиза и Майкл пустились «во все тяжкие» и потом мучительно ломали голову над тем, что будет, если она забеременеет.
Майкл с головой погрузился в эту новую для него жизнь. Теперь ему хотелось лишь забивать голы, проводить время с Марией Луизой и зарабатывать деньги на загородные прогулки на старом «паккарде». На Марди-Гра{3} они оба нарядились пиратами и отправились во Французский квартал, где пили пиво, а потом обнимались и тискались на скамейке на Джексон-сквер… Ближе к лету Мария Луиза стала все чаще заговаривать о свадьбе.
Майкл пребывал в полной растерянности. Его тянуло к Марии Луизе, однако говорить с ней было не о чем. Фильмы, на которые водил ее Майкл – «Жажда жизни», «Марта» или «Портовый район», – не вызывали у девушки ничего, кроме раздражения. А стоило Майклу заикнуться о колледже, она тут же заявляла, что он бредит.
Потом наступила зима – зима выпускного года. Стояли невиданные холода, и на Новый Орлеан обрушился первый в этом веке снегопад. Занятия окончились рано, и Майкл в одиночестве отправился на прогулку по Садовому кварталу, улицы которого покрыла восхитительная белая пелена. Он любовался неслышно падающим снегом и не испытывал ни малейшего желания делить эти чудесные мгновения с Марией Луизой, предпочитая наслаждаться красотой припорошенных снегом террас и ажурных оград наедине со своими любимыми домами и деревьями.
На улицах играли ребятишки. Машины медленно ползли по ледяной корке и буксовали на перекрестках, рискуя столкнуться. Величественный снежный ковер сохранялся в течение нескольких часов. Когда Майкл наконец вернулся домой, руки закоченели настолько, что он едва смог повернуть ключ…
Мать он застал плачущей: в три часа дня во время пожара, бушевавшего в складском помещении, погиб, пытаясь спасти своего коллегу, отец.
Оставаться на Ирландском канале больше не было смысла. В конце мая дом на Эннансиэйшн-стрит был продан. Перед алтарем церкви Святого Альфонса Майклу вручили аттестат об окончании школы, а через час они с матерью уже сидели в салоне междугородного автобуса, направлявшегося в Калифорнию.
Теперь у Майкла появятся «хорошие вещи», он поступит в колледж и будет жить среди людей, правильно говорящих по-английски. Мечты неожиданно становились реальностью.
Окна уютной квартиры тети Вивиан смотрели на парк Голден-Гейт. Некоторое время Майкл с матерью жили здесь, среди мебели из темного дерева и настоящих картин, написанных маслом, а потом подыскали себе жилье в нескольких кварталах от тетушкиного дома. Не откладывая в долгий ящик, Майкл подал заявление на первый курс университетского колледжа – денег, полученных по отцовской страховке, должно было хватить на все.
Несмотря на постоянный холод, пронизывающий ветер и отсутствие зелени, Майкл полюбил Сан-Франциско, его сдержанные, мрачноватые тона, особенно охристые, оливково-зеленые, кирпично-красные и темно-серые. Большие, обильно украшенные дома Викторианской эпохи напоминали ему любимые особняки Нового Орлеана.
Чтобы восполнить пробелы в математике и естественных науках, Майкл стал посещать летние подготовительные курсы в отделении колледжа, расположенном в самом центре города. Занятия поглощали все время, и ему было некогда скучать по Новому Орлеану, думать о Марии Луизе и вообще о девушках. В свободные минуты он пытался постичь особенности жизненного уклада обитателей Сан-Франциско и понять, в чем же состояло столь разительное его отличие от Нового Орлеана.
Создавалось впечатление, что обширного класса «людей второго сорта», среди которых родился и вырос Майкл, здесь просто не существует. Даже пожарные и полицейские Сан-Франциско владели правильной речью, хорошо одевались и жили в роскошных домах. По внешнему виду человека невозможно было определить, из какой он части города. Мостовые отличались удивительной чистотой, а общение между людьми даже в самых обыденных ситуациях – вежливой сдержанностью.
Во время прогулок в парке Голден-Гейт Майкла поражал тот факт, что многочисленные толпы людей, казалось, отнюдь не лишают прелести его темно-зеленый ландшафт, а, наоборот, усиливают его красоту. Посетители парка катались по дорожкам на изящных импортных велосипедах, устраивали пикники на бархатной траве или собирались у оркестровой раковины, чтобы послушать воскресный концерт. Но подлинным откровением для Майкла стали городские музеи: его удивило не только изобилие в них картин старых мастеров, но и то, что по воскресеньям залы заполняли самые обычные люди. Многие приходили с детьми и, судя по всему, принимали все это великолепие как нечто само собой разумеющееся.
По выходным Майкл урывал часы от своих занятий, чтобы побродить по залам Музея де Янга и в благоговении постоять перед полотном Эль Греко, изображавшим Франциска Ассизского – человека с нездешним выражением лица и землистыми впалыми щеками.
«Неужели все это тоже Америка?» – спрашивал себя Майкл, словно он приехал из другой страны в мир, который лишь изредка видел в кино или на телеэкране. Речь, конечно, не о старых иностранных фильмах с их роскошными особняками и мужчинами в смокингах, а о современных американских лентах и телешоу, где все представало на редкость чистеньким и цивилизованным.
Здесь Майкл впервые увидел свою мать по-настоящему счастливой, какой она никогда не выглядела в Новом Орлеане. Она вновь, как в прошлом, работала продавщицей в парфюмерном отделе крупного универмага и гордилась возможностью самостоятельно зарабатывать и класть деньги на банковский счет. По выходным она навещала сестру и иногда – старшего брата, Майкла, пьяницу со светскими манерами, который продавал «изящный фарфор» в магазине Гампса на Пост-стрит.
В один из вечеров Майкл с матерью отправились в старый театр на Гири-стрит, где давали мюзикл «Моя прекрасная леди». Майкла он восхитил. После этого они часто ходили в разного рода маленькие театрики и смотрели замечательные спектакли: «Калигулу» Камю, «На дне» Горького и еще одну пьесу – диковинную смесь монологов – по мотивам известного романа Джеймса Джойса. В сценическом варианте пьеса называлась «Улисс в ночном городе».
Майкл был буквально зачарован и не находил слов, чтобы в полной мере выразить свою благодарность, особенно когда дядя пообещал ему, что, как только начнется оперный сезон, они пойдут слушать «Богему».
Такое впечатление, что там, в Новом Орлеане, детство обошло его стороной.
А как приятно было бродить по центру Сан-Франциско с его шумными вагончиками канатной дороги, оживленными улицами и большими магазинами. В универмаге недорогих товаров на Пауэлл-энд-Маркет можно было часами стоять у лотка с книгами и читать – никто не обращал на это внимания.
Ему нравились цветочные киоски, торговавшие чудесными букетами красных роз, стоившими сущие гроши, и изысканные магазины на Юнион-сквер. Он любил маленькие кинозалы – их было не меньше дюжины, – где демонстрировали главным образом зарубежные фильмы. Именно там ему довелось посмотреть «Никогда в воскресенье» с Мелиной Меркури и «Сладкую жизнь» Феллини – самый потрясающий фильм из всех, какие только видел Майкл; комедии с Алеком Гиннесом и мрачные, малопонятные философские произведения шведа Ингмара Бергмана, а также массу других великолепных кинолент из Японии, Испании, Франции… В Сан-Франциско такие маленькие кинотеатры пользовались большой популярностью, и посещать их считалось в порядке вещей.
Майклу нравилось пить кофе вместе с другими слушателями летних курсов в залитом огнями ресторане Фостера на Саттер-стрит. Он впервые в жизни получил возможность общаться с выходцами из Азии, нью-йоркскими евреями и образованными людьми с другим цветом кожи, говорившими на превосходном английском языке. На курсах занимались не только молодые, но и вполне зрелые мужчины и женщины, которые ради удовольствия вновь почувствовать себя учениками отрывали время от работы и семейных дел.
Именно в этот период Майкл наконец постиг тайну семьи его матери. Сложив воедино обрывки сведений, он понял, что когда-то семейство было очень богатым. Однако бабушка матери с отцовской стороны промотала все состояние, оставив наследникам лишь украшенный резьбой стул да три пейзажа в массивных рамах. Тем не менее в воспоминаниях об этой потрясающей женщине, истинной богине, не слышалось ничего, кроме восхищения. Рассказывали, что она объездила весь мир, обожала икру и, прежде чем окончательно разориться, сумела-таки дать сыну прекрасное образование в Гарварде.
Что же касается ее сына – «папочки», деда Майкла с материнской стороны, – то он после смерти жены спился и умер. Его супруга происходила из американо-ирландской семьи, жившей в Сан-Франциско в Мишн-дистрикт. В памяти родственников она навсегда осталась «красоткой» и «мамочкой», однако говорили о ней неохотно, и вскоре Майкл понял почему: его вторая бабушка покончила жизнь самоубийством. «Папочка» пил не просыхая, пока его не свалил удар, и оставил троим детям скромную ренту. Мать Майкла и тетя Вивиан окончили школу при монастыре Святого Сердца, после чего нашли работу, где требовались хорошие манеры. Когда их братец, перебрав коньяка, засыпал на диване, они лишь вздыхали и соглашались друг с другом в том, что он являет собой «точную копию папочки».
Дядя Майкл был, пожалуй, единственным продавцом, способным торговать, не двигаясь с места. Изрядно захмелев после выпитого за ленчем, он с раскрасневшимся лицом возвращался в магазин Гампса, плюхался на стул и практически не покидал его до конца рабочего дня. Он просто показывал пальцем на то или иное изделие из фарфора и давал самые подробные объяснения покупателям – преимущественно молодым парочкам, готовившимся к свадьбе, – а те, выслушав его комментарии, принимали решение. При этом посетители магазина находили дядю Майкла необыкновенно очаровательным: он знал про изящный фарфор едва ли не все и действительно был на редкость обаятельным малым.
Постепенное знакомство с историей семьи и образом жизни родственников матери помогло Майклу понять многое. Он, в частности, пришел к выводу, что, сама того не подозревая, мать придерживалась тех же жизненных принципов, что и высшие слои общества. Иностранные фильмы служили для нее развлечением, а не средством расширения кругозора. Поступление сына в колледж она считала необходимым просто потому, что «так принято». По той же причине она посещала магазины молодежной моды и покупала в них Майклу свитера с узким воротом или рубашки на пуговицах, в которых он походил на мальчишку из приготовительного класса. Но ни она, ни ее сестра и брат практически ничего не знали о жизненных ценностях и стремлениях людей среднего класса. Привлекательность работы для матери состояла лишь в том, что она давала ей возможность приятного общения: универмаг считался одним из лучших в городе, и его посетители были в основном людьми с изысканным вкусом. В свободное время мать пила вино – все чаще и все больше, читала романы, навещала приятельниц и чувствовала себя вполне довольной и счастливой.
В конце концов вино ее и погубило. За несколько лет мать превратилась в алкоголичку с изысканными манерами, которая каждый вечер уединялась в своей комнате с хрустальным бокалом в руках и потягивала вино, пока не засыпала. Однажды ночью она упала в ванной и обо что-то ударилась головой. Приложив к ране полотенце, мать вернулась в постель, даже не сознавая, что медленно истекает кровью. Когда Майкл, не достучавшись, выломал дверь, тело уже остыло. Это произошло в доме на Либерти-стрит, который Майкл купил и отремонтировал для всей семьи. Правда, к тому времени дяди уже тоже не было в живых, и тоже по причине пьянства, хотя всем говорили, что дядя Майкл умер от удара.
И все же, несмотря на собственные вялость и полное безразличие ко всему миру, мать Майкла всегда гордилась целеустремленностью сына. Она понимала его желания, поскольку понимала его самого – в нем состоял единственный смысл ее жизни.
Мечты и амбиции Майкла вспыхнули неукротимым огнем, когда осенью его зачислили на первый курс одного из колледжей университета Сан-Франциско.
В обширном университетском городке Майкл ничем не выделялся среди других студентов, происходивших из всех слоев общества и отдававших учебе все время, – он ощущал в себе силы и готовность в полной мере изучить все науки. Он, как и прежде, много времени проводил в библиотеке, однако теперь чтение приносило не только радость, но и вознаграждение: Майкл пожинал плоды неуемного стремления постичь все тайны жизни, которое приносило ему столько неприятностей в прошлом, когда во избежание насмешек приходилось скрывать свою любознательность.
Майкл не мог поверить в свою удачу. Лекции профессоров и невероятно умные вопросы, которые задавали сидевшие рядом с ним студенты, приводили его в восхищение, равно как и тот факт, что, затерявшись среди громадного множества выходцев из низших слоев общества с их рюкзаками и грубыми высокими ботинками, он не привлекал к себе внимания. Плотно заполнив свой учебный график курсами по искусству, музыке, политике, сравнительному литературоведению и даже драматургии, Майкл в конце концов получил настоящее классическое гуманитарное образование.
В качестве окончательной специализации он выбрал историю, поскольку хорошо знал этот предмет и без труда мог писать по нему курсовые и сдавать экзамены. Существовала и еще одна причина такого выбора. Майкл пришел к выводу, что, как бы он ни стремился, воплотить в жизнь давнюю мечту – стать архитектором – ему не суждено. Камнем преткновения стала математика – при всех его стараниях она не позволит набрать необходимое количество баллов для поступления в Архитектурную школу, где после университета нужно учиться еще четыре года. К тому же Майкл любил историю – эта наука занималась вопросами развития общества и позволяла взглянуть на мир как бы со стороны, чтобы понять закономерности его устройства и функционирования. А именно это интересовало Майкла с самого детства.
Синтез, теория, обзор событий и обобщение выводов – все это давалось Майклу на удивление легко. Перспектива стать историком приносила умиротворение душе, поскольку мир, в котором он жил прежде, в корне отличался от того, что он видел вокруг себя в Калифорнии. Больше всего ему нравилось читать добротно написанные книги о городах и эпохах – их авторы описывали людей и события исходя из понятий и представлений тех эпох, о которых шла речь, рассматривали происходящее с учетом современных конкретным фактам социальных и технических достижений, классовых битв, литературы, искусства.
Майкл испытывал нечто большее, чем удовлетворение. Однако деньги, полученные по отцовской страховке и за продажу дома в Новом Орлеане, были на исходе, и Майкл нашел себе работу: стал помощником плотника, реставрировавшего в Сан-Франциско прекрасные здания Викторианской эпохи. Он трудился неполный день и вновь, как когда-то, начал штудировать книги по архитектуре.
К моменту получения Майклом степени бакалавра его прежние друзья по Новому Орлеану вряд ли смогли бы его узнать. Телосложением он по-прежнему походил на футболиста, а плотницкое ремесло помогало поддерживать отличную форму: плечи стали еще более мощными, а грудная клетка раздалась вширь и окрепла. Прежними оставались лишь темные вьющиеся волосы, большие голубые глаза и россыпь веснушек на щеках. Но теперь при чтении он надевал очки в темной оправе и предпочитал носить свитер крупной вязки и твидовый пиджак со специальными заплатами на локтях, из правого кармана которого выглядывала трубка – еще одна приобретенная им новая привычка.
В двадцать один год он одинаково свободно чувствовал себя, когда забивал гвозди в деревянные стропила дома и когда лихорадочно стучал двумя пальцами по клавишам пишущей машинки, печатая курсовую работу под названием «Преследование колдовства в Германии в XVII веке».
Через два месяца после начала работы над дипломом Майкл начал параллельно готовиться к сдаче экзаменов на подрядчика. К тому времени он уже освоил малярное дело, познакомился с тонкостями работы штукатура и умел правильно уложить черепицу на крыше. Ему были под силу все виды реставрационных работ любой сложности, какие только могли входить в будущие заказы.
Глубоко скрытая неуверенность, внутреннее ощущение незащищенности не позволили Майклу бросить занятия в университете. Однако к моменту окончания учебы он уже твердо знал, что никакой кабинетный труд, сколь бы напряженным и интересным он ни был, не сможет принести ему такое удовлетворение, как возможность делать что-то своими руками, работать на свежем воздухе, лазать по лестницам, стучать молотком… Никакие кабинетные изыскания не способны заменить приятную физическую усталость во всем теле под конец рабочего дня и прекрасные здания, которые он реставрировал.
Майклу доставляло неизмеримое удовольствие видеть результаты своего труда: отремонтированные крыши и лестницы, сияющие блеском полы, еще недавно казавшиеся безвозвратно утраченными. Ему нравилось шкурить и лакировать изящные старые столбы винтовых лестниц, балюстрады и дверные коробки. Всегда готовый познавать новое, он учился у каждого рабочего, с которым доводилось вместе трудиться, а иногда удивлял архитекторов, делая для себя копии чертежей, чтобы потом детально их изучить. И при всей своей загруженности Майкл успевал прочитывать или хотя бы просматривать огромную массу книг, журналов и каталогов по реставрации и по Викторианской эпохе.
Любовь Майкла к домам была сродни любви моряков к своим кораблям – иногда казалось, что они представляют для него гораздо большую ценность, чем люди. После работы он часто в одиночестве бродил по комнатам, которым подарил новую жизнь, и с нежностью трогал подоконники, медные ручки и ровную штукатурку стен, словно ведя с ними неспешную беседу.
Через два года Майкл получил звание магистра истории. Но еще раньше он сдал экзамены на подрядчика и основал собственную компанию. Эти события в его жизни совпали по времени со студенческими беспорядками в университетских городках Америки. Молодежь активно протестовала против войны во Вьетнаме и еще более активно употребляла галлюциногенные наркотические препараты, ставшие поголовным увлечением юных обитателей сан-францисского Хейт-Эшбери.
Мир «детей цветов» – хиппи, мир политических революций и трансформации личности через наркотики никогда особо серьезно не трогал Майкла, оставался чуждым и не до конца понятным ему. Да, он танцевал в «Авалоне» под музыку «Роллинг Стоунз», пробовал курить «травку», постоянно жег ароматические палочки. Да, он крутил пластинки с записями Бисмиллы Кан и Рави Шанкара. Он даже ходил с одной своей молоденькой подружкой на «Погружение» – многолюдное сборище в парке Голден-Гейт, где Тимоти Лири призывал новообращенных «настроиться, включиться и выпасть из реальности». Но все это вызывало у него лишь сдержанное любопытство.
Майкл-историк не мог поддаться на раздававшуюся со всех сторон пустопорожнюю, а зачастую и глупую революционную риторику. Он только посмеивался втихомолку над доморощенным марксизмом своих друзей, которые, похоже, сами ничего не знали о человеке труда. А видя, как мощные галлюциногены разрушают душевное спокойствие, а иногда и вовсе лишают разума тех, кого он любил, Майкл приходил в ужас.
Однако стремление понять происходящее и в этом случае позволило ему кое-чему научиться. Галлюциногены провоцировали у людей сильную тягу к цвету и узору, к восточной музыке и восточной эстетике, и, конечно же, Майкл не мог избежать такого влияния. Впоследствии он утверждал, что переворот в сознании, вызванный «великими шестидесятыми», благотворно сказался на каждом жителе страны. Реставрация старых домов, возведение величественных общественных зданий в окружении цветников и парков и даже строительство современных торговых центров с мраморными полами, фонтанами и клумбами – все это напрямую было связано с теми поворотными годами, когда хиппи Хейт-Эшбери развешивали ветки папоротника в окнах своих квартир и украшали убогую мебель красочными индийскими покрывалами, когда девушки вплетали цветы в свои длинные волосы, а юноши сменили унылые деловые костюмы на яркие рубашки и отрастили кудри до плеч.
Майкл ни на секунду не сомневался, что тот период всеобщего смятения, повального увлечения наркотиками и экзотической музыкой самым непосредственным образом отразился на его карьере. По всей стране молодые семьи, уставшие от прямоугольной формы домиков в безликих пригородах, прониклись новой любовью к деталям, фактуре и богатству форм и начали проявлять неподдельный и активный интерес к восхитительно красивым старинным зданиям в центральных кварталах городов. В Сан-Франциско таких зданий было великое множество.
Компания «Большие надежды» никогда не испытывала недостатка в заказчиках. Ее специалисты умели обновлять, воссоздавать и строить заново буквально из ничего, а потому очередь нетерпеливо ожидающих клиентов не уменьшалась. Майклу приходилось обеспечивать реставрационные работы во всех частях города. Ничто не доставляло ему такого удовольствия, как зайти в какой-нибудь ветхий, замшелый особняк, скажем, на Дивисадеро-стрит и с гордостью произнести: «Да, я могу за полгода превратить эту развалину в дворец». Деятельность Майкла была отмечена несколькими наградами. Великолепно выполненные детальные проекты принесли ему известность и славу. Зачастую он вообще обходился без помощи архитектора.
Наконец-то исполнялись все его мечты!
В тридцать два года Майкл приобрел старинный особняк на Либерти-стрит, полностью отреставрировал его и перебрался туда вместе с матерью и тетей. Для себя он отделал комнаты верхнего этажа, откуда открывался чудесный вид на центр города. Именно о таком жилище Майкл всегда мечтал: книги, кружевные занавески, пианино, антиквариат… Специально оборудованная большая наклонная площадка позволяла вбирать в себя капризное солнце Северной Калифорнии. Постоянный туман, наползавший на город с океанского побережья, зачастую рассеивался, не успев достичь здешних холмов. Майклу казалось, что он владеет не только роскошными и изящными вещами, которые там, на Юге, лишь издали видел сквозь окна чужих домов, но и небольшой долей тепла и солнечного света. Воспоминания о жарком южном солнце оставались с ним всегда.
К тридцати пяти годам Майкл превратился в весьма благополучного образованного человека, который, как говорится, «сам себя сделал». Свой первый миллион он надежно и выгодно вложил в муниципальные ценные бумаги. Майкл любил Сан-Франциско – этот город подарил ему все, о чем он когда-либо мечтал.
Хотя Майкл, как, впрочем, и многие другие жители Калифорнии, создал сам себя и свой имидж в соответствии с общепринятыми представлениями о том, каким должен быть вполне независимый и деятельный человек, в чем-то он всегда оставался упрямым мальчишкой с Ирландского канала. Тем самым мальчишкой, который куском хлеба загонял горошину на вилку.
Майкл так и не избавился до конца от своего резкого ирландского акцента, а временами, общаясь с рабочими, вообще переходил на родной говор. Он вынужден был признать, что так и не сумел отказаться от некоторых прежних привычек и представлений.
Однако выбранный им стиль поведения превосходно подходил для Калифорнии – Майкл просто не пытался скрывать свои мелкие недостатки. В конце концов, они тоже были составляющей частью его личности. Зайдя в дорогой ресторан с изысканной новомодной кухней, он мог запросто спросить, пробежав глазами меню: «А где же у вас мясо с картошкой?» (надо сказать, он действительно любил мясо с картошкой и ел его при всяком удобном случае, предпочитая эту пищу многим другим блюдам). Иногда он разговаривал с людьми, прилепив к верхней губе сигарету, как делал его отец.
Друзья Майкла отличались широтой взглядов и были людьми без предрассудков. Ему удавалось неплохо ладить с ними – главным образом благодаря нежеланию участвовать в их спорах. Когда приятели за кружкой пива кричали до хрипоты, обсуждая положение дел в странах, которых никогда не в глаза не видели и в которых никогда не побывают, Майкл рисовал на бумажных салфетках эскизы домов.
Если он и высказывал свои мысли, то делал это весьма завуалированно, в абстрактной форме, словно вынося суждение со стороны, поскольку и в самом деле чувствовал себя аутсайдером в Калифорнии, да и в Америке двадцатого столетия тоже. А потому его ничуть не удивляло, что люди обращали на него мало внимания.
Как бы то ни было, но наиболее близкие и искренние отношения складывались у Майкла с ремесленниками, художниками, музыкантами – словом, с людьми такими же страстными, как и он сам, одержимыми каким-нибудь делом или идеей. Удивительно, но в числе его друзей и любовниц было немало евреев, эмигрировавших из России. Такое впечатление, что именно они лучше всех других понимали его главное желание: прожить жизнь, исполненную смысла, внести в этот мир пусть маленькую, но свою лепту, собственные представления о жизни. Майкл мечтал о возведении громадных зданий по собственным проектам, о перестройке целых городских кварталов, о создании в старых пригородах Сан-Франциско целых районов с кафе, книжными магазинчиками и небольшими гостиницами.
Время от времени – особенно часто после смерти матери – Майкл вспоминал Новый Орлеан и свою прежнюю жизнь, но постепенно события тех лет казалась ему все более нереальными и фантастичными. Здесь, в Калифорнии, люди считают себя свободными, но до чего же они похожи друг на друга. И вот что странно: все, кто переезжает сюда, будь то из Канзаса, Детройта или Нью-Йорка, попадают под влияние местного населения, становятся приверженцами тех же либеральных идей, перенимают тот же стиль в мышлении, одежде, чувствах. Иногда подражание доходило просто до смешного. Друзья, например, вполне серьезно могли спросить: «Не тот ли он человек, которого нам на этой неделе следует бойкотировать?» или «А разве здесь нам не нужно занять отрицательную позицию?»
Фанатиков разного рода хватало и в Новом Орлеане, но и цельные натуры встречались там отнюдь не редко. Майкл отчетливо помнил легендарные истории о прошлом Ирландского канала. Дед рассказывал ему, как однажды, еще мальчишкой, он тайком пробрался в немецкую церковь только лишь потому, что ему очень хотелось услышать, как звучит немецкая латынь. Или как, стремясь ублажить бабушку Гельфанд Карри – единственную немку по происхождению во всем роду, младенцев вначале крестили в церкви Святой Марии, а затем тайком несли в церковь Святого Альфонса, чтобы теперь уже «истинно и правильно» соблюсти ирландские обычаи. Самое удивительное, что в обоих храмах обряд крещения безропотно проводил один и тот же священник.
А какими яркими личностями были дядюшки Майкла, которых он одного за другим потерял еще в юношеские годы. В его ушах до сих пор звучали рассказы о том, как они переплывали с берега на берег Миссисипи и обратно (во времена детства Майкла никто уже не отваживался на такое), как в пьяном виде ныряли с крыш пакгаузов или приделывали лопасти к педалям велосипедов и пытались прокатиться по воде.
Сейчас все эти рассказы вспоминались Майклу как легенды. Можно было ночь напролет слушать о Джеми-Джо Карри, жившем в Алжире, который сделался вдруг таким религиозным фанатиком, что пришлось приковать его цепью к столбу. Или о дядюшке Тимоти, свихнувшемся от типографской краски, – он забил газетами все щели вокруг окон и дверей и целыми днями вырезал из газетной бумаги тысячи и тысячи кукол.
А история красавицы тети Лелии, полюбившей в юности итальянского парня. Много лет потом она плакала, вспоминая его, и только в преклонном возрасте, когда лицо ее покрылось глубокими морщинами, Лелия узнала, что как-то ночью ее братья жестоко избили юношу и выгнали с Ирландского канала: нечего здесь делать итальяшкам! Услышав правду, тетушка в ярости перевернула стол с ужином.
Даже монахини в приходской школе – и те не прочь были поведать какую-нибудь удивительную историю. Взять, например, престарелую сестру Бриджет-Мэри (когда Майкл учился в восьмом классе, она в течение двух недель замещала их учительницу) – на редкость приятную женщину невысокого роста, сохранившую в речи провинциальный ирландский акцент. За те две недели Бриджет-Мэри не провела ни одного урока. Вместо этого она рассказывала ребятам легенды об ирландском привидении Петтикот Луз{4}. И еще – о ведьмах, обитающих (вы не поверите!) в Садовом квартале.
А некоторые из наиболее запомнившихся рассказов о прежних временах касались чисто житейских вопросов: как делали и разливали по бутылкам домашнее пиво, как жили, имея в доме всего две керосиновые лампы, и как по пятницам вечером наполняли водой и ставили перед очагом корыто, чтобы всей семьей помыться в тепле… Это была просто жизнь: на задних дворах в чанах кипятилось белье, воду брали из цистерн с замшелыми стенками, а прежде чем ложиться спать, плотно натягивали сетки от комаров. Давно забытые реалии времени…
Картины детства, точно диковинные вспышки, мелькали перед глазами. Майкл вспоминал запах льняных салфеток, которые гладила бабушка, перед тем как убрать их во вместительные ящики комода из орехового дерева. Он вновь ощущал вкус крабовых палочек, которые ели с крекерами и пивом. В ушах звучал пугающий грохот барабанов на парадах Марди-Гра, а перед внутренним взором возникал разносчик льда, торопливо взбегающий по ступеням с огромной ледяной глыбой на плечах. Снова и снова он слышал удивительные голоса людей, в то время казавшиеся ему грубыми и чересчур резкими. Только теперь, много лет спустя, он смог в полной мере оценить их образные, сочные речевые обороты, не лишенные оттенка театральности интонации, да и просто любовь к родному языку.
А какими увлекательными были рассказы о крупных пожарах, о знаменитых забастовках трамвайщиков, о портовых грузчиках, забрасывавших тюки с хлопком в трюмы кораблей с помощью огромных железных крючьев и певших во время работы. Это было еще до появления хлопкопрессовальных машин.
Оглядываясь назад, Майкл видел великий мир. В Калифорнии же все выглядело подчас слишком стерильным и однообразным: одинаковая одежда, одни и те же машины, схожие суждения и доводы. Возможно, он так и не сумел до конца почувствовать себя здесь своим. Кто знает, удастся ли ему когда-нибудь испытать такое ощущение? А там, в Новом Орлеане? Трудно сказать, ведь за все прошедшие годы Майкл ни разу не побывал дома.
Жаль, что в прежние времена он не был достаточно внимателен ко всем, кто находился рядом. Он слишком боялся взрослых. Поговорить бы сейчас с отцом, посидеть вместе с ним и с его чудаковатыми друзьями возле пожарной части на Вашингтон-авеню.
Интересно, неужели дубы и в самом деле были тогда огромными? Неужели их ветви действительно образовывали подобие арок и по этому зеленому туннелю можно было дойти до самой реки?
Майкл помнил цвет сумерек, когда после затянувшейся тренировки он шел домой по Эннансиэйшн-стрит. Какими красивыми казались оранжевые и розовые цветы лантаны за низкими металлическими оградами! А найдется ли еще где-нибудь на всем белом свете такая палитра красок неба? Едва ли. Цвет небосвода менялся от розового к фиолетовому, а над крышами убогих домишек всплывала золотая полоса…
И конечно, Садовый квартал. Да, Садовый квартал, воспоминания о котором были столь божественно-неземными, что Майкл сомневался в их достоверности.
Иногда он видел Садовый квартал во сне: теплый сияющий рай, царство прекрасных дворцов в окружении цветов и мерцающей зелени листвы. Но наступал момент пробуждения, и вместе с ним приходили невеселые мысли: «Да, я был там… я шел по Первой улице… я вернулся домой… Но этого не могло быть на самом деле…» И его охватывало нестерпимое желание вновь увидеть все это своими глазами.
В памяти вставали отдельные здания Садового квартала: большой, беспорядочно выстроенный дом на углу Колизеум и Третьей улицы, целиком выкрашенный в белый цвет, вплоть до чугунных литых решеток. Больше всего ему нравились дома с украшенными четырьмя колоннами фасадами, с залами-галереями по обе стороны, с длинными флигелями и высокими двойными трубами.
Майкл помнил даже людей, встречавшихся ему во время прогулок: стариков в полосатых льняных костюмах и соломенных шляпах, женщин с тросточками, чернокожих нянек в синих форменных платьях возле колясок с белыми детьми. И того человека… Странного, безупречно одетого мужчину, которого он так часто видел в запущенном саду одного из домов на Первой улице.
Майклу хотелось сопоставить воспоминания с реальностью: увидеть домик на Эннансиэйшн-стрит, где он вырос, посетить церковь Святого Альфонса, где десятилетним мальчишкой прислуживал у алтаря, а также украшенную готическими арками и деревянными статуями святых церковь Святой Марии на другой стороне улицы. Там он тоже участвовал в совершении мессы. Интересно, действительно ли фрески на потолке церкви Святого Альфонса были настолько красивыми?
Иногда, перед тем как погрузиться в сон, Майкл представлял себя стоящим в той церкви в канун Рождества храм заполнен народом, собравшимся на Всенощную… ярко горят свечи на алтарях… слышится ликующий гимн «Adeste Fideles»… Под Рождество по крышам, как правило, с силой барабанил дождь, а после мессы все собирались дома. В углу сияет наряженная елка, пляшут маленькие голубые огоньки газового камина… Как прекрасно! Елочные огни символизируют Свет Миру, а украшения на ней – дары волхвов. Зеленые ароматные ветви даже в зимние холода возвещали о неизбежном наступлении лета.
Потом Майклу вспомнилось одно из всенощных шествий, для которого девчонок-первоклассниц нарядили ангелочками, и они важно прошествовали через святилище и по всему главному нефу к выходу из церкви. Майкл словно вновь вдыхал запах рождественских елок, смешанный с ароматом цветов и запахом расплавленного воска свечей. Девочки пели о младенце Христе. Майкл видел Риту Мей Двайер, Марию Луизу Гвидри и свою кузину Патрицию Энн Беккер, а также многих других знакомых девчонок. До чего мило все они выглядели в белых одеяниях, с крылышками из накрахмаленной ткани. Не маленькие чудовища, какими нередко бывали в обычной жизни, а настоящие ангелы. То было волшебное Рождество. А когда он вернулся домой, под сияющей огоньками елкой лежали все его подарки.
Шествия… Из великого их множества Майкл не любил только те, что проводились в честь Девы Марии. А виной тому злые монахини, причинявшие столько боли мальчишкам, – именно с ними ассоциировался в его сознании образ Святой Девы. Майкл корил себя за отсутствие должного почтения, однако ничего не мог с собой поделать и в конце концов смирился.
Но Рождество Майкл всегда ожидал с нетерпением. Этот праздник с годами не утратил своего волшебства, ибо символизировал собой бесконечную цепь исторических событий, уходившую сквозь тысячелетия в далекое прошлое, в сумрачные леса, где вокруг костров исполняли свои ритуальные танцы язычники. Ясли с улыбающимся младенцем и торжественный полуночный миг рождения Христа вызывали в нем благоговение.
В Калифорнии канун Рождества оставался для Майкла священным днем: даже если приходилось отмечать его в одиночестве, он неизменно просиживал с бокалом вина до полуночи, и огоньки на маленькой елке оставались единственным освещением в комнате. Так же как для многих Новый год, Рождество для него было символом начала новой жизни. Он часто вспоминал последнее Рождество в Новом Орлеане, и прежде всего почему-то снегопад: снег падал мягко и беззвучно, и ветер разносил снежинки… Наверное, снег шел и в тот момент, когда его отец пробирался по крыше горящего склада на Чупитулас-стрит.
Как бы то ни было, но Майкл ни разу не навестил родные места.
Как-то все не получалось – вечно оказывалось, что он не успевает в срок завершить какую-нибудь работу. А короткие отпуска, выпадавшие ему, он проводил в Европе или в Нью-Йорке, бродя по музеям и осматривая достопримечательности. Именно так предпочитали проводить время его многочисленные любовницы. Ну кому захочется смотреть на празднование Марди-Гра в Новом Орлеане, если можно поехать в Рио? К чему тащиться на юг Соединенных Штатов, если есть шанс отправиться на юг Франции?
Однако Майклу все чаще приходила в голову мысль о необходимости вернуться на улицы своего детства, чтобы вновь побродить по Садовому кварталу, посмотреть на тот мир взрослыми глазами и проверить, справедливо ли его убеждение в том, что он наконец обрел все, о чем так страстно мечтал во время давних прогулок. Разве не было в его жизни моментов, когда он ощущал пустоту и словно ждал чего-то другого, чего-то необычайно важного, но не знал, чего именно?
Вот, например, до сих пор ему так и не довелось испытать чувство большой, всепоглощающей любви, однако он был уверен, что она придет, – всему свое время. Вот тогда он вместе со своей невестой посетит родные края и не будет ощущать одиночество, гуляя по дорожкам кладбища или старым тротуарам. Кто знает? Может, ему даже удастся ненадолго задержаться в Новом Орлеане и побродить по знакомым улицам.
За все эти годы у Майкла было несколько любовных связей и по меньшей мере две из них напоминали брак. Обе женщины были еврейками из России – страстные, одухотворенные, блистательные и независимые. Майкл всегда очень гордился своими холеными и умными подругами. Их отношения основывались не только на чувственном влечении, но в равной мере и на духовной близости – после занятий любовью они могли проговорить ночь напролет, а иногда до самого рассвета вели беседы за пивом и пиццей. Таков был стиль поведения Майкла со своими возлюбленными.
Эти отношения дали ему очень много. Открытый, лишенный гордыни и эгоизма Майкл с легкостью вызывал симпатию и завоевывал расположение женщин и с такой же легкостью впитывал в себя все, чему мог у них научиться. Им нравилось ездить с ним в Нью-Йорк, на Ривьеру или в Грецию и наблюдать, с каким восторгом воспринимал он все увиденное. Они обсуждали с ним любимую музыку, любимых художников, любимые блюда, свои предпочтения в одежде или мебели. Элизабет учила его выбирать подходящие костюмы от братьев Брукс и рубашки от Пола Стюарта. Джудит повела его в модный мужской магазин, где они купили первые в его жизни элегантные безделушки, необходимые преуспевающему мужчине. Она приучила его посещать лучшие парикмахерские салоны, познакомила с европейскими винами, показала, как правильно готовить пасту, и объяснила, почему музыка эпохи барокко не менее прекрасна, чем его любимая классика.
Майкл посмеивался над всем этим, однако всегда был прилежным учеником. Обе женщины поддразнивали его из-за веснушек на лице, склонности к излишнему весу и вечно норовившей залезть прямо в голубые глаза челки. Они без конца повторяли, как он нравится их родителям, прохаживались насчет его обаяния «мальчугана-забияки» и утверждали, что он неотразим в черном галстуке. Элизабет называла Майкла «грубиян с золотым сердцем», а Джудит дала ему прозвище Драчун. В свою очередь Майкл таскал их на боксерские матчи «Золотой перчатки», на баскетбол и в хорошие бары, где они пили пиво. По воскресеньям в парке Голден-Гейт он втолковывал своим спутницам, как отличить футбольный матч от игры в регби, и даже готов был научить их приемам уличной самообороны, возникни у них такое желание. Последнее предложение высказывалось скорее ради шутки. Майкл водил обеих женщин на оперные спектакли и симфонические концерты, которые посещал с поистине религиозным рвением. А Элизабет и Джудит познакомили его с творчеством Дейва Брубека, Майлса Дэвиса, Билла Эванса и «Кронос-квартета».
Восприимчивость и страстность Майкла, казалось, могли соблазнить кого угодно.
Следует, однако, признать, что женщины находили весьма привлекательными не только достоинства Майкла, но и его недостатки. Когда он сердился или пугался чего-либо, то мгновенно превращался в насупленного мальчишку с Ирландского канала, причем превращение совершалось с большой убедительностью и уверенностью, а главное – с определенной долей подсознательной сексуальности. Обеих спутниц Майкла восхищали его ремесленные навыки – умение обращаться с молотком и гвоздями, равно как и его бесстрашие.
Страх? Конечно же, Майкл втайне испытывал это чувство: он страшился унижения, его до сих пор преследовали иррациональные детские страхи. Но страх перед чем-то реальным? Такого страха Майкл не знал. Если раздавался крик о помощи, он первым бросался на улицу выяснять, что случилось.
Подобное нечасто встретишь среди мужчин с высшим образованием. Равно как и свойственную Майклу неприкрытую жажду сексуального контакта. Сам он предпочитал секс без затей, но, если партнерше нравились импровизации, с восторгом принимал вызов. Майкл готов был заниматься любовью в любое время, будь то вечером, ночью или ранним утром, едва он успевал проснуться. Стоит ли удивляться, что женщины без оглядки отдавали ему свое сердце?
Разрыв с Элизабет произошел во вине Майкла. Он это сознавал. А причиной всему его молодость и неумение хранить верность. Несмотря на все заверения в любви и в том, что его многочисленные «приключения» на стороне ровным счетом ничего не значат, Элизабет была сыта ими по горло. Ее терпение иссякло, она собрала вещи и уехала. Майкл переживал, раскаивался в своей глупости и в конце концов отправился следом за Элизабет в Нью-Йорк – все напрасно. Вернувшись в опустевшую квартиру, Майкл напился и буквально не просыхал в течение полугода, оплакивая потерю. Узнав, что Элизабет вышла замуж за профессора из Гарварда, он не желал этому верить и искренне обрадовался, когда годом позже брак ее распался.
Он бросился в Нью-Йорк, чтобы утешить Элизабет. Они встретились в Метрополитен-музее, крупно повздорили, и после этой ссоры Майкл проплакал весь обратный полет. Он выглядел таким несчастным, что, когда самолет приземлился, стюардесса взяла его к себе и утешала целых три дня.
Летом следующего года Элизабет приехала в Сан-Франциско, но к тому времени в жизнь Майкла уже вошла Джудит.
Джудит и Майкл прожили вместе почти семь лет, и никому даже в голову не могло прийти, что они расстанутся. Но однажды Джудит случайно забеременела и, как Майкл ее ни упрашивал, отказалась родить ребенка. Ее решение положило конец семейной идиллии.
Майкл никогда еще не чувствовал себя таким подавленным. Нет, он ни в коем случае не подвергал сомнению право Джудит на аборт, ибо не допускал даже мысли о лишении женщины подобного выбора. Как историк, он знал, что законы против абортов никогда не давали желаемого результата, ибо решающую роль в этом вопросе играет ни с чем не сравнимая связь между матерью и ее нерожденным ребенком.
Вот почему Майкл не только не оспаривал право Джудит принять решение, но, по сути, даже отстаивал его. Однако разве мог он предвидеть, что женщина, живущая с ним в роскоши и безопасности, женщина, на которой он готов жениться в любую минуту, стоит ей только согласиться… захочет избавиться от их общего ребенка?
Майкл умолял Джудит не делать аборт. Майкл как отец страстно хотел этого ребенка и не в силах был смириться с мыслью о том, что маленькое существо не получит ни единого шанса появиться на свет. Ребенку совсем не обязательно жить с ними, если Джудит этого не хочет. Майкл найдет для малыша достойное место где угодно. У него достаточно денег.
Он будет навещать ребенка один, втайне от Джудит… Перед его мысленным взором мелькали лица гувернанток, интерьеры частных школ… – словом, все то, чего у него самого никогда не было. Но гораздо более важно, что этот нерожденный ребенок – живое существо, в крошечных жилах которого течет кровь Майкла, и нет никаких разумных оправданий тому, чтобы лишить это существо жизни.
Доводы Майкла приводили в ужас и глубоко задевали Джудит. В тот момент она не чувствовала себя готовой к материнству. Ей предстояло вот-вот получить степень доктора философии в университетском колледже в Беркли, а у нее еще не написана диссертация. А ее тело не инкубатор для вынашивания ребенка с последующей передачей его в другие руки. Она не в состоянии вынести шок от самих родов и тем более от расставания с ребенком. А после ей придется жить с постоянным чувством вины. Непонимание Майкла особенно угнетало Джудит. Она всегда считала, что имеет право избавиться от нежелательной беременности. Образно говоря, эта уверенность была ее спасательным кругом. Теперь ее свобода, достоинство и сам рассудок оказались под угрозой.
Она твердила, что ребенок у них непременно будет, но… в свое время – тогда, когда его появление на свет окажется приемлемым для них обоих. Право дать жизнь человеку подразумевает выбор, и ни один малыш не должен рождаться, если его не любят и не ждут оба родителя.
Рассуждения Джудит казались Майклу бессмыслицей. Значит, лучше смерть, чем жизнь среди чужих людей? Как Джудит может чувствовать вину, отдавая ребенка на воспитание, и не испытывать угрызений совести, хладнокровно уничтожая его? Да, ребенок должен быть желанным для обоих родителей. Но тогда почему только одному из них предоставляется право решающего голоса в вопросе жизни и смерти нового человека? Они же не бедные, не больные, и этот ребенок не был зачат в результате изнасилования. Фактически они живут как муж и жена и, стоит только Джудит захотеть, могут официально зарегистрировать брак. У них есть возможность так много дать малышу – даже если ему придется жить в другой семье. Какого черта это крошечное существо должно страдать? Хватит говорить, что он еще не личность. Он на пути к тому, чтобы стать личностью, иначе Джудит не стремилась бы его убить. Да неужели новорожденный ребенок в большей степени личность, чем тот, что находится еще в материнском чреве?
Споры не утихали, аргументы с каждой стороны становились все острее и сложнее, от личных проблем они то и дело переходили к философским, но приемлемого для обоих решения не было.
Наконец Майкл в отчаянии предпринял последнюю попытку. Если Джудит согласится родить ребенка, Майкл уедет вместе с малышом навсегда – она никогда больше их не увидит. Взамен он сделает все, что Джудит пожелает, выполнит любые ее условия и требования… Умоляя ее, Майкл плакал.
Джудит ощущала себя раздавленной: он предпочел ей ребенка и теперь пытается купить ее страдания, ее тело и то существо, что находится внутри. Нет, она не в силах жить с этим человеком под одной крышей! Джудит проклинала Майкла за все, что он говорил. Она проклинала его происхождение, его невежество и более всего – его поразительную жестокость по отношению к ней. Он думает, ей легко было решиться? Но она инстинктивно чувствует, что должна прекратить этот жуткий процесс, должна исторгнуть из своего тела столь нежеланную новую жизнь, которая теперь впивается в нее, разрастаясь против ее воли и уничтожая любовь Майкла к ней и их совместную жизнь.
Майкл не мог больше ее видеть. Задумала уйти – пусть уходит. Он даже хотел этого – лучше не знать точный день и час, когда ребенка лишат жизни.
Майклом завладел ужас. Окружающая жизнь приобрела серый оттенок. Все вдруг утратило вкус и цвет, и мир словно охватило холодное металлическое оцепенение, в котором потонули все краски и ощущения. Он знал, что Джудит страдает, но помочь ей не в его силах. Откровенно говоря, его охватило непреодолимое чувство ненависти к бывшей возлюбленной.
Ему вспомнились вдруг монахини из приходской школы, награждавшие мальчишек шлепками, их цепкие пальцы хватавшие его за руку, чтобы втолкнуть в общий ряд, бездумная злоба и мелочная жестокость этих женщин. Разумеется, убеждал он себя, их нельзя сравнивать: Джудит – хорошая и заботливая женщина. Но в нынешней ситуации Майкл чувствовал себя столь же беспомощным, как и тогда, когда монахини – эти чудовища в черных одеждах – наводили порядок в школьных коридорах. Он словно вновь слышал стук их грубых, мужского фасона башмаков по натертому полу.
Джудит уехала, когда Майкл был на работе. Через неделю из Бостона пришел счет за медицинские услуги. Майкл отправил чек по указанному адресу. Больше они с Джудит не виделись.
После ее ухода Майкл долго оставался в одиночестве. Случайные связи никогда не доставляли ему особого удовольствия, но теперь сюда примешивался еще и страх. А потому Майкл очень редко позволял себе сексуальные удовольствия и стал крайне осмотрителен, не желая вновь пережить трагедию потери ребенка.
Он никак не мог забыть мертвого малыша, то есть, если быть точным, утробный плод. Не то чтобы он постоянно думал о так и не появившемся на свет ребенке (Майкл про себя называл его Малютка Крис, но другим незачем было знать об этом). Дело было в другом: нерожденные младенцы стали вдруг мерещиться ему в фильмах, которые он смотрел, и даже в газетных кинорекламах.
Кино по-прежнему играло значительную роль в жизни Майкла, оставаясь главным и постоянным источником знаний. В полутемном кинозале он как будто впадал в транс и неизменно ощущал некую внутреннюю связь между происходящим на экране и его собственными мечтами, его подсознанием, его непрекращающимися попытками понять окружающий мир.
И вот теперь Майкл обратил внимание на одну странность, не замеченную, похоже, остальными: на поразительное сходство кинематографических чудовищ с утробными младенцами, которых ежедневно лишают жизни в клиниках страны.
Взять, например, «Чужого» Ридли Скотта. Там маленькое чудовище рождается прямо из груди мужчины. Визгливый эмбрион начинает пожирать людей, быстро растет и тем не менее сохраняет свой необычный облик.
Или другой фильм – «Голова-ластик», где у обреченной на мучения пары рождается похожий на призрак недоношенный младенец, который кричит не переставая.
Майкл вдруг обнаружил, что в кинотеатрах полным-полно фильмов ужасов, где действуют эмбрионы: «Родственники», «Упыри», «Левиафан»… А эти жуткие извивающиеся клонированные существа, вылезающие из чрева в фильме «Вторжение похитителей тел». Решив как-то еще раз посмотреть этот фильм в кинотеатре на Кастро-стрит, Майкл просто не смог вынести кошмарную сцену и вышел из зала.
Одному Богу известно, сколько таких диких фильмов наводняют экраны Америки. Взять хотя бы новую экранную версию «Мухи». Разве там главный герой не приобретает в конце концов облик эмбриона? А «Муха-П» с ее сценами рождения и перерождения? Нескончаемая тема. Майкл вспомнил еще один фильм: «Тыквоголовый». Там огромный мстительный демон с Аппалачских гор вырастал из трупа утробного плода прямо на глазах у зрителей. Голова у этого демона так и осталась непропорционально большой, как у зародыша.
В чем же смысл всего этого? Едва ли он состоит в чувстве вины за содеянное – ведь мы считаем морально справедливым контролировать рождаемость. Скорее это отражение наших ночных кошмаров – плач о невинных младенцах, ставших достоянием вечности, так и не успев родиться. А может, это страх перед самими младенцами, которые хотят предъявить на нас – жаждущих свободы вечных подростков – свои права и сделать нас родителями? Дети ада!.. При мысли об этом Майкл против воли горько рассмеялся.
Он продолжал вспоминать фильмы… «Нечто» Джона Карпентера. Как ужасны там вопящие головы недоношенных младенцев! А ставший уже классикой «Ребенок Розмари»! А глупый фильм «Живой», где маленькое чудовище, проголодавшись, убивает разносчика молока… Жуткие образы мертвых младенцев постоянно преследовали Майкла, они возникали везде, куда бы он ни обратил взгляд.
Майкл никак не мог избавиться от мрачных дум – точно так же, как когда-то в детстве после просмотра какого-нибудь черно-белого фильма ужасов его не оставляли мысли о роскошных особняках и элегантных персонажах…
Обсуждать подобные идеи с друзьями было бесполезно. Они считали, что Джудит права, и не желали вникать в суть его доводов. «Фильмы ужасов – это наши тревожные сны, – думал Майкл. – Сейчас мы озабочены проблемой рождаемости: она падает, она оборачивается против нас». Мысленно Майкл вернулся в обшарпанную киношку своего детства – «Счастливый час». Он как бы снова смотрел «Невесту Франкенштейна». До какой же степени в те годы люди боялись науки, а еще раньше, когда Мэри Шелли записывала свои вдохновенные видения, ученость пугала их еще сильнее.
Нет, едва ли ему удастся прийти к какому-либо заключению. По большому счету он так и не стал ни историком, ни социологом. Его профессия – подрядчик. Лучше перебирать дубовый паркет, отдраивать медные краны и не лезть в другие сферы.
К тому же Майкл вовсе не питал ненависти к женщинам. Не испытывал он и страха перед ними. Они просто люди и иногда бывают лучше мужчин, мягче, добрее. Майкл почти всегда предпочитал женское общество мужскому. И его не удивляло, что женщины понимали его лучше, нежели мужчины, – история с Джудит в данном случае исключение.
Звонок Элизабет и ее искреннее желание возродить прежние отношения заставили Майкла вновь почувствовать себя счастливым, и он немедленно вылетел в Нью-Йорк. Проведенный вместе уик-энд был поистине божественным, если не брать в расчет предпринятые Майклом чрезвычайные меры предосторожности, вызванные его паническим страхом перед зачатием. Они оба сознавали, что еще не все потеряно и что прежние чувства не умерли. От возвращения былого счастья их отделял один шаг… Но Элизабет не хотела покидать Восточное побережье, а Майкл не видел для себя никаких перспектив на Манхэттене. Что ж, они будут перезваниваться и писать друг другу. А там… время покажет…
Однако годы шли, и Майкл постепенно стал терять веру в то, что любовь, о которой он мечтал, когда-нибудь придет.
Но ведь он жил в мире, где многие взрослые люди так и не испытали чувство любви. У них было все: друзья, свобода, свой стиль, богатство, карьера – но только не любовь. Такова, как считалось, особенность современной жизни, а значит, это касалось и его. И постепенно Майкл привык принимать эту особенность как само собой разумеющуюся.
У него была масса приятелей на работе, были старые университетские друзья, да и в женском обществе он не испытывал недостатка. В сорок восемь лет Майкл думал, что впереди еще целая жизнь. Как и многие жители Калифорнии, он выглядел моложе своих лет и ощущал себя по-прежнему юным. Даже веснушки на лице сохранились. Женщины до сих пор провожали его взглядами. Откровенно говоря, сейчас он намного легче привлекал к себе их внимание, чем когда был восторженным юнцом.
И кто знает, возможно, его недавнее случайное знакомство на симфоническом концерте с Терезой выльется во что-то серьезное. Она была слишком молода для него, и поначалу Майкл даже сердился на себя за необоснованные надежды. Но прошло немного времени – и в его квартире раздался звонок:
– Майкл, вы что, решили помучить меня? Почему вы мне не позвонили?
Эти слова могли означать что угодно. Они вместе поужинали, а потом Тереза пригласила его к себе.
Но только ли по настоящей любви тосковал Майкл? Не было ли здесь чего-то еще? Однажды утром он проснулся с пронзительным ощущением, что лето, которого он ждал все эти годы, никогда не наступит и что господствующая в этих местах отвратительная сырость успела пропитать его до мозга костей. Здесь никогда не будет теплых ночей, напоенных ароматом жасмина. Никогда не будет теплого ветерка, дующего с залива или с реки. Как бы там ни было, придется с этим смириться, сказал себе Майкл. Теперь Сан-Франциско – его родной город. Стоит ли мечтать о Новом Орлеане?
И все же временами Майклу казалось, что Сан-Франциско утратил свои сочные кирпично-красные и охристые тона, а вместо них приобрел унылый цвет сепии. И что небо над городом, такое же тускло-серое, притупляет все эмоции.
Даже прекрасные здания, которые он реставрировал, иногда казались не более чем сценическими декорациями, лишенными подлинных традиций, – хитроумными ловушками, предназначенными для имитации никогда не существовавшего прошлого и призванными вызвать ощущение прочности бытия в людях, живущих одним днем и панически боящихся смерти.
И тем не менее Майкл никогда не сомневался в том, что удача на его стороне и что впереди его ждут хорошие времена и радостные события.
Такова была прежняя жизнь Майкла – та жизнь, которая первого мая этого года практически завершилась, ибо он утонул, а после был возвращен из небытия, преследуемый и одержимый какой-то возложенной на него миссией, обреченный на бесконечные странствия между миром живых и миром мертвых. Он не решался снять с рук черные перчатки, ибо боялся, что на него хлынет поток бессмысленных видений, но даже перчатки не могли его спасти, поскольку теперь он обрел способность получать сильные эмоциональные импульсы от людей, даже не дотрагиваясь до них.
С того ужасного дня прошло уже три с половиной месяца. Тереза ушла. Друзья – тоже. А Майкл стал узником в своем собственном доме на Либерти-стрит.
Он сменил номер телефона, а горы приходивших на его адрес писем оставлял без ответа. Если возникала необходимость в чем-то, что нельзя было заказать с доставкой на дом, тете Вив приходилось пользоваться задней дверью, чтобы отправиться за покупками.
На редкие звонки она мягко и вежливо отвечала всегда одной и той же фразой:
– Нет, Майкл здесь больше не живет.
Ее слова всякий раз вызывали у Майкла смешок: тетя говорила правду. Газеты сообщали, что Майкл «исчез», и это тоже его смешило. Примерно раз в десять дней он звонил Стейси и Джиму – только лишь затем, чтобы сообщить, что все еще жив, и повесить трубку. Майкл не считал себя вправе корить их за равнодушие.
Он лежал в темноте, уставясь в экран телевизора с выключенным звуком, и в который уже раз смотрел свои любимые «Большие надежды»: похожая на призрак в своем обветшалом подвенечном платье мисс Хэвишем напутствовала юного Пипа в исполнении Джона Миллза, который отправлялся в Лондон.
Почему Майкл понапрасну растрачивает время? Ему следовало бы поехать в Новый Орлеан. Но в данный момент он слишком пьян, чтобы сдвинуться с места. Настолько пьян, что не в силах даже позвонить и узнать расписание авиарейсов. К тому же в нем по-прежнему теплится надежда, что позвонит доктор Моррис, ведь он знает новый номер телефона. Только с этим врачом Майкл поделился своим главным и единственным планом.
– Если бы я только встретился с той женщиной, с владелицей яхты, которая спасла меня… Если во время разговора с ней я сниму перчатки и возьму ее за руку… Кто знает, а вдруг мне удастся что-нибудь вспомнить? Вы ведь понимаете, о чем я? – спрашивал он доктора Морриса.
– Вы пьяны, Майкл. По голосу слышу.
– Сейчас это не имеет значения. Пора бы привыкнуть – это мое обычное состояние. Да, я пьян и всегда буду пьяным, но вы должны меня выслушать. Если бы я снова оказался на той яхте…
– И что дальше?
– Так вот, если бы я оказался на палубе и своими руками потрогал доски… вы понимаете, те доски, на которых я лежал…
– Майкл, это безумие.
– Доктор, позвоните ей. Вы же можете ей позвонить. Если не хотите, скажите мне ее имя.
– Да что вы, в самом деле! Я что, должен позвонить ей и сказать, что вы желаете поползать по доскам палубы ее судна и, так сказать, ощутить ментальные вибрации? Майкл, у нее есть право быть огражденной от подобных притязаний. Она может не верить в ваши паранормальные способности.
– Но вы-то верите! Вы-то знаете, что они существуют!
– Я хочу, чтобы вы вернулись в больницу.
Майкл в ярости повесил трубку. Благодарю покорно! Он сыт по горло уколами и анализами! Доктор Моррис звонил снова и снова, неизменно повторяя одно и то же:
– Майкл, приезжайте. Мы беспокоимся за вас. Мы хотим вас видеть.
Но в конце концов настал день, когда Майкл услышал обещание доктора:
– Если вы прекратите пить, я попытаюсь. Я знаю, где можно найти эту женщину.
«Прекратите пить…» Лежа в темноте, Майкл вспомнил слова доктора. Он потянулся за стоящей неподалеку баночкой холодного пива и с шумом вскрыл ее. Неограниченное потребление пива – это лучший вид пьянства. В некотором смысле это трезвое пьянство, поскольку Майкл не добавлял в пиво ни водку, ни виски. Вот уж такая смесь поистине первосортная отрава. Доктору следовало бы об этом знать.
Надо позвонить доктору. Надо сказать ему, что он трезв и намерен таковым оставаться и впредь.
Стоп. Кажется, он уже звонил доктору Моррису. А может, это ему приснилось с перепоя? Все равно. Как приятно лежать здесь, как приятно быть до такой степени пьяным, что нет ни волнений, ни тревог, ни боли из-за невозможности вспомнить…
В комнату вошла тетя Вив:
– Майкл, тебе следует поужинать.
Но Майкл был сейчас в Новом Орлеане. Он опять шел по знакомым улицам Садового квартала, ощущая окутывающее его тепло и с наслаждением вдыхая аромат ночного жасмина. Подумать только! За многие годы он едва не забыл прелесть этого сладкого, густого аромата, он так давно не видел, как над верхушками дубов разгорается закат, на фоне которого делается отчетливо видимым каждый листочек. У корней дубов плитки тротуара выпирают из земли. Холодный ветер обжигает его голые пальцы.
Холодный ветер. Ах да. Сейчас не лето, а зима. Суровая, холодная новоорлеанская зима, и они с матерью быстро шагают по темным улицам, чтобы увидеть последний парад Марди-Гра – шествие тайной гильдии Комуса{5}.
Какое красивое название, думал, продолжая грезить, Майкл Впрочем, он и в то время считал его удивительным… Впереди, на Сент-Чарльз-авеню, он видел факелы марширующих и слышал звуки барабанов, всегда пугавшие его.
– Идем же, Майкл, – торопила его мать, почти таща за собой.
До чего же темно на улице. И как холодно. Поистине океанский холод.
– Но посмотри туда, мама. – Майкл еще крепче вцепился в руку матери и указал на сад за чугунной решеткой. – Там, за деревьями, человек.
Их старая игра. Сейчас мать скажет, что там нет никакого человека, и они вместе посмеются. Но человек там действительно был. Как всегда. Он стоял у края большой лужайки, под голыми белыми ветвями ползучего мирта. Видел ли он Майкла? Почти наверняка – да. Они смотрели друг другу прямо в глаза.
– Майкл, у нас нет времени разглядывать незнакомцев.
– Но он там, мама. Он там стоит…
Шествие тайной гильдии Комуса… Под неистовую негритянскую музыку маршировали духовые оркестры, освещенные ярко пылающими факелами. Улицу заполнили толпы гуляющих. С шатких помостов из папье-маше люди в блестящих атласных костюмах и масках разбрасывали ожерелья из стекляшек и деревянные бусы. Зрители, отпихивая друг друга, пытались их поймать. Майкл вцепился в материнскую юбку. Стук барабанов был ему ненавистен. В канаву у его ног летели какие-то безделушки.
Но вот Марди-Гра отшумел, оставив заваленные мусором улицы. Стало еще холоднее, воздух был таким ледяным, что изо рта шел пар. На обратном пути Майкл снова увидел незнакомца. Мужчина стоял на прежнем месте, но в этот раз Майкл предпочел не говорить об этом матери.
– Мне надо вернуться домой, – шептал во сне Майкл. – Вернуться…
Он видел длинную ажурную чугунную решетку того дома на Первой улице, боковую террасу с ржавой сеткой от насекомых. И человека в саду. Как странно, что тот не менялся. А во время последней прогулки по улицам Садового квартала, тогда, в мае, незадолго до отъезда из Нового Орлеана, Майкл вдруг почему-то кивнул ему. В ответ мужчина поднял руку и помахал.
– Да, надо ехать, – прошептал Майкл.
Но неужели они так и не дадут о себе знать? Те, которые приходили к нему в смерти? Ведь им, конечно же, известно, что он не в силах вспомнить. Они просто обязаны помочь. Барьер между живущими и умершими падает. Так пройдите же сквозь него! Но черноволосая женщина сказала:
– Помни, у тебя есть выбор.
– Нет, я не передумал. Просто никак не могу вспомнить.
Майкл сел на постели. Как черно вокруг… Женщина с темными волосами… Что-то висело у нее на шее… Надо собрать вещи… И ехать в аэропорт… Вход… Тринадцатый… Я понимаю…
Тетя Вив шила в гостиной при свете единственной лампы.
Майкл глотнул еще пива. Потом медленно осушил всю банку.
– Пожалуйста, помогите мне, – шептал он, обращаясь неизвестно к кому. – Помогите мне, прошу вас.
Он снова оказался во сне… Дул ветер. Барабаны, сопровождавшие шествие тайной гильдии Комуса, рождали в душе непреодолимый страх. Что это – предупреждение? На телеэкране озлобленная домоправительница предлагала растерянной и испуганной женщине выпрыгнуть из окна… Ведь это же «Ребекка»! И Мандерли! Когда он успел поменять кассету? Майкл мог поклясться, что на экране – мисс Хэвишем. Он отчетливо услышал, как она шепчет на ухо Эстелле: «Ты можешь разбить его сердце». Пип тоже слышал ее слова, но по-прежнему любил Эстеллу.
– Я приведу этот дом в порядок, – шептал Майкл, – впущу в него свет. Эстелла, мы будем счастливы навеки…
Это не школьный двор. И не длинный пустой коридор, ведущий в столовую… И здесь на его пути не вырастет сестра Клементина: «Встань в строй, мальчик!»
«Если она ударит меня так, как ударила Тони Ведроса, я ее убью…»
В темноте у кровати стоит тетя Вив…
– Я пьян, – пробормотал Майкл.
Она подала ему новую банку холодного пива – ну что за ангел!
– Боже, как вкусно!
– Тебя хотят видеть.
– Кто? Женщина?
– Какой-то весьма респектабельный джентльмен из Англии.
– Нет, тетя Вив.
– Но он не репортер. По крайней мере, он так сказал. Очень приятный джентльмен. Его фамилия Лайтнер. Говорит, что из Лондона. Он прилетел в Сан-Франциско нью-йоркским рейсом и сразу же направился сюда.
– Не сейчас. Придется тебе попросить его уйти. Тетя Вив, мне необходимо срочно вернуться в Новый Орлеан. Надо позвонить доктору Моррису. Где телефон?
Майкл вскочил и тут же почувствовал, как в голове все завертелось. Пришлось какое-то время постоять неподвижно, пока головокружение не прошло. Но состояние было не из приятных. Руки и ноги словно налились свинцом. Майкл снова рухнул в постель и мгновенно провалился в сон… Он шел по дому мисс Хэвишем… Человек в саду снова кивнул ему…
Кто-то выключил телевизор.
– Спи, – словно издалека донесся голос тети Вив.
Он слышал ее удаляющиеся шаги… Кажется, звонит телефон?…
– Помогите мне… хоть кто-нибудь… – прошептал Майкл.
3
Просто прогуляться неподалеку… Пересечь Мэгазин-стрит и двинуться по Первой улице, чтобы пройти мимо того громадного обветшалого старого дома – посмотреть, целы ли стекла в окнах фасада, своими глазами увидеть, сидит ли по-прежнему Дейрдре Мэйфейр на боковой террасе. Но ни в коем случае не переступать порог дома и не задавать никаких вопросов.
Почему, черт побери, ему кажется, будто что-то должно произойти?
Отец Мэттингли злился на самого себя. Но ведь это действительно его обязанность – навестить ту семью, прежде чем он вернется к себе на север. Когда-то он был здесь приходским священником и знал всех членов этой семьи. Последняя его встреча с мисс Карл состоялась на похоронах мисс Нэнси – с того дня прошло уже больше года.
А несколько месяцев назад отец Мэттингли получил письмо от одного из молодых священников – тот сообщал, что состояние Дейрдре Мэйфейр заметно ухудшается, что руки ее окончательно утратили чувствительность и словно намертво приросли к груди. Что ж, при подобном заболевании такое не редкость.
Чеки от мисс Карл в адрес прихода продолжали поступать с обычной регулярностью – раз в месяц она добровольно жертвовала приходу по тысяче долларов. За годы ее пожертвования составили целое состояние.
По правде говоря, отцу Мэттингли следовало бы к ним зайти, дабы выразить таким образом свое уважение к семейству и лично поблагодарить за помощь приходу, как он обычно делал в прошлом.
Нынешние священники не были знакомы с Мэйфейрами и ничего не знали о их прошлом. Их никогда не приглашали в тот дом. Все они совсем недавно служат в этом запущенном приходе. Число прихожан заметно уменьшилось, прекрасные здания двух церквей почти все время заперты из-за участившихся случаев вандализма, а старые постройки и вовсе превратились в руины.
Отец Мэттингли помнил те давние времена, когда к утренней мессе собирались толпы прихожан, а в церквах Святой Марии и Святого Альфонса едва ли не ежедневно венчали новобрачных и отпевали покойников. Он помнил майские шествия и многолюдные девятины, всенощные на Рождество, когда в церквах было не протолкнуться. Но все представители старых ирландских и немецких родов давно перешли в мир иной. А здание закрытой средней школы зияет пустотой оконных рам, в которых не осталось ни единого стекла.
Старый священник был рад, что приехал сюда совсем ненадолго, ибо каждый раз глазам его представало все более печальное зрелище. Такое впечатление, будто здесь миссионерский аванпост. В душе он надеялся, что это последнее его возвращение на юг.
Однако отец Мэттингли не мог уехать, не повидав ту семью.
«Да, сходи туда. Ты должен это сделать, – убеждал он себя. – Ты просто обязан посмотреть на Дейрдре Мэйфейр. В конце концов, разве когда-то она не была твоей прихожанкой?»
Нет ничего предосудительного в его желании проверить достоверность сплетен, будто Дейрдре пытались поместить в лечебницу, а она вдруг словно взбесилась и перебила все стекла в окнах, прежде чем снова впасть в кататонию. Говорят, это случилось всего лишь два дня назад, тринадцатого августа.
Кто знает, возможно, мисс Карл благосклонно воспримет его визит.
Но все эти рассуждения отца Мэттингли были не более чем самообманом. Едва ли мисс Карл отнесется к его появлению с меньшей неприязнью, чем в прежние времена. С тех пор как его приглашали в этот дом, минула целая вечность. А Дейрдре Мэйфейр теперь превратилась в «милый пучок морковки», как однажды изволила выразиться ее сиделка.
Нет, он все-таки пойдет туда – хотя бы из любопытства.
Как же это «милый пучок морковки» смог встать на ноги и расколотить стекла в окнах высотою в двенадцать футов? Если поразмыслить, история представляется совершенно неправдоподобной. И почему санитары из лечебницы не забрали Дейрдре туда? Что им стоило надеть на нее смирительную рубашку? Разве не случалось подобного в прошлом?
Однако сиделка Дейрдре почему-то не пустила санитаров на порог и велела им немедленно убираться, заявив, что Дейрдре останется дома и она вместе с мисс Карл позаботится о несчастной.
О том, что тогда произошло, во всех подробностях рассказал старому священнику Джерри Лониган. Водитель санитарной машины, принадлежащей лечебнице, дополнительно подрабатывал за рулем катафалков похоронного заведения «Лониган и сыновья». Этот человек видел все своими глазами… Осколки летели из окна прямо на крышу террасы, что находится со стороны фасада. Судя по звукам, в большой комнате Дейрдре устроила настоящий погром и при этом подняла дикий вой. Жутко вообразить себе такое – словно видишь воскрешение мертвецов.
Ладно, отца Мэттингли это не касалось. Или касалось?
Боже милостивый, да ведь мисс Карл уже за восемьдесят, хотя она по-прежнему ежедневно отправляется на работу. И теперь она живет в этом громадном доме лишь с Дейрдре и приходящей прислугой.
Чем больше отец Мэттингли думал об этом, тем яснее понимал, что просто обязан туда пойти. Даже если и сам дом, и мисс Карл, и все, что он знал об этом семействе, не вызывало в душе ничего, кроме отвращения. Да, надо идти.
В былые времена его отношение к дому на Первой улице было совсем иным… Сорок два года назад, когда отец Мэттингли впервые прибыл из Сент-Луиса в этот приход на берегу реки, он находил женщин семейства Мэйфейр обаятельными – даже грузную и ворчливую мисс Нэнси, не говоря уже о милой мисс Белл и прелестной мисс Милли. Дом заворожил его бронзовыми часами и бархатными портьерами. Молодому священнику понравились большие мутноватые зеркала и закрытые темными стеклами портреты предков, выходцев с Карибских островов.
Отцу Мэттингли импонировали ум и целеустремленность Карлотты Мэйфейр, угощавшей его кофе с молоком. Они сидели в беседке, в белых плетеных креслах, за белым плетеным столом, а вокруг стояли вазы с орхидеями и папоротниками. Отец Мэттингли провел в доме Мэйфейров много приятных дней, беседуя с его обитательницами на самые разные темы, будь то политика, погода или история прихода, которую тогда он столь усердно старался узнать и понять. Да, ему нравились эти люди.
Ему нравилась и маленькая Дейрдре – очаровательная шестилетняя девочка, которую всего через двенадцать лет постигла столь трагическая участь. Он не успел узнать ее как следует – слишком короткими были их встречи. Интересно, написано ли теперь в учебниках по медицине, что электрошок способен начисто уничтожить память взрослой женщины и превратить ее в жалкое подобие себя прежней, в бессловесную куклу, тупо глядящую на падающий дождь, пока сиделка кормит ее с серебряной ложки?
Почему они это сделали? Отец Мэттингли так и не осмелился спросить. Но они сами упорно внушали ему, что единственной их целью было излечить Дейрдре от «галлюцинаций». По их словам, стоило ей остаться одной в комнате, она тут же начинала кричать, обращаясь неизвестно к кому: «Ты это сделал!» Дейрдре без конца проклинала кого-то за смерть человека, удочерившего ее незаконного ребенка.
Дейрдре… Плач по Дейрдре… Да, отец Мэттингли плакал по ней, и никому, кроме Бога, не дано знать, сколько слез он пролил и почему. Но сам он никогда не забудет – все эти годы он помнил и будет помнить исповедь маленькой Дейрдре, услышанную в душной деревянной кабинке. Откровенный рассказ девочки, обреченной впоследствии заживо гнить в увитом плющом доме, в то время как мир за его стенами стремительно несся навстречу своему проклятию.
Просто пойти туда… Нанести визит… Возможно, это будет своего рода безмолвная дань памяти маленькой Дейрдре. Нет, не стоит стараться связать все эти события воедино. Но ведь упоминание о дьяволе, сорвавшееся с уст ребенка, все эти годы эхом отдавалось в ушах священника: «Стоит вам увидеть того человека – и вы пропали!»
Отец Мэттингли решился. Он надел черный плащ, черную рубашку, пасторский воротничок и вышел из прохладной благодаря кондиционеру комнаты дома приходского пастора на раскаленную зноем узкую мостовую Констанс-стрит, стараясь не обращать внимания на траву, пробивавшуюся сквозь каменные ступени церкви Святого Альфонса, и на разрисованные стены старой школы.
Не глядя по сторонам, старый священник быстрым шагом прошел по Джозефин-стрит и завернул за угол. Перед его мысленным взором одна за другой мелькали картины прошлого. Миновав всего лишь пару кварталов, отец Мэттингли очутился как будто совсем в другом мире: палящее солнце исчезло вместе с пылью и уличным шумом.
Окна, закрытые ставнями, тенистые террасы… Негромкий шелест воды, струящейся из разбрызгивателей на газонах, раскинувшихся за узорчатыми оградами. Густой запах суглинка, на котором растут тщательно ухоженные кусты роз.
Все это замечательно, но что он скажет, когда придет туда?
Жара сегодня не столь уж и изнурительная для здешнего августа. И все же молодой священник из Чикаго был прав: выходя из дома, чувствуешь себя очень легко, но постепенно твоя одежда все тяжелеет и тяжелеет…
Знать бы, что думает эта молодежь о царящем вокруг запустении. Что толку рассказывать им о том, как все здесь когда-то было. Но сам город и этот старый квартал – они остались такими же прекрасными, как и прежде.
Наконец над кронами деревьев показалась стена дома Мэйфейров, вся в ржавых потеках, с облупившейся краской; двойные трубы на крыше словно упираются в плывущие облака. Такое впечатление, что плети растений, обвивающие старое здание, тащат его в глубь земли. Со времени его последнего визита прибавилось ржавчины на розетках ограды. А сад превратился в настоящие джунгли.
Священник замедлил шаги – ему действительно не хотелось переступать порог этого дома. Едва ли порадует глаз и заросший сорняками сад, где олеандры и китайские ягоды безуспешно борются с травой, выросшей едва ли не в человеческий рост. Отцу Мэттингли неприятен был вид гниющего во влажном климате Луизианы дерева террас, вся краска с которых облезла.
По правде говоря, ему неприятно было даже находиться в этом тихом, пустынном квартале, где единственными живыми существами, казалось, оставались лишь насекомые и птицы, а деревья и кусты почти полностью заслоняли собой солнечный свет и голубизну неба. Скорее всего, когда-то здесь было болото. Рассадник зла.
Нет, он не должен так думать. Что общего у зла с Божьим творением – землей – и всем, что произрастает на ней, даже если это джунгли запущенного сада Мэйфейров?
И все же священнику постоянно вспоминались весьма странные рассказы о женщинах этого рода, которые ему довелось неоднократно слышать в течение многих лет. Как еще называть колдовство, если не поклонением дьяволу? И что считать худшим грехом: убийство или самоубийство? Да, зло прочно обосновалось здесь. Отец Мэттингли вновь слышал шепот маленькой Дейрдре. Прислонившись к чугунной ограде, он пристально всматривался в нависавшие над головой черные ветви дубов и как будто кожей ощущал окутывающую это место атмосферу зла.
Священник отер платком лоб… В те давние времена маленькая Дейрдре призналась на исповеди, что видела дьявола. Отец Мэттингли слышал сейчас ее голос столь же ясно, как несколько десятков лет назад. Он слышал звук ее шагов, когда малышка выбегала из церкви – прочь от него, от того, кто оказался не в силах ей помочь.
Но все это началось раньше – в один из неторопливо тянувшихся дней… Точнее, в одну из пятниц. Сестра Бриджет-Мэри позвонила и попросила кого-нибудь из священников поскорее прийти на школьный двор. Опять из-за Дейрдре Мэйфейр.
Отец Мэттингли тогда только что приехал на юг после окончания семинарии в Кёрквуде, штат Миссури, и еще ничего не знал о Дейрдре.
Он довольно быстро нашел сестру Бриджет-Мэри. Монахиня стояла на асфальтированном дворе позади старого здания приходской школы. Каким европейским показалось тогда ему это место, печальным и по-странному привлекательным: потрескавшиеся стены, чахлое деревце и деревянные скамейки вокруг него.
В тени здания дышалось легко. И тут молодой священник увидел плачущих маленьких девочек, которые сидели на скамейке. Сестра Бриджет-Мэри держала за запястье одну из них – бледную, буквально белую от страха и дрожащую. Но даже в испуге она была красива: пропорционально сложенная хрупкая фигурка, огромные голубые глаза на худеньком личике и черные волосы, длинными завитками спускающиеся вниз и подрагивающие у щек.
Весь пол вокруг скамейки был завален цветами: крупными гладиолусами, белыми лилиями, листьями зеленого папоротника и даже большими, удивительной красоты красными розами – словно из дорогого цветочного магазина. Но такое количество…
– Вы видите это, отец? – воскликнула сестра Бриджет-Мэри. – И у них еще хватает наглости утверждать, будто это ее невидимый друг – должно быть, сам дьявол – прямо у них на глазах рассыпал цветы по земле и даже вложил ей в руки! Маленькие воровки! Да они просто украли цветы из алтаря церкви Святого Альфонса!
Девочки подняли страшный крик. Одна даже затопала ногами. И все хором с какой-то непонятной злостью не переставали повторять:
– Мы видели, видели, видели!!!
Они хором всхлипывали и буквально задыхались от слез.
Сестра Бриджет-Мэри прикрикнула на девочек и велела им немедленно замолчать. Потом встряхнула ту, которую держала за руку, и потребовала от нее чистосердечного признания. Но девочка молчала и словно бы пребывала в шоке. Обратив умоляющий взгляд на отца Мэттингли, она стояла с широко открытым ртом, но при этом не издала ни звука.
– Подождите, сестра, прошу вас, – с этими словами священник осторожно высвободил руку девочки из цепких пальцев монахини. Малышка изумленно глядела на него и почти не сопротивлялась. Отцу Мэттингли хотелось взять ее на руки и стереть с личика грязные потеки от слез. Но он сдержал свой порыв.
– Ее невидимый друг! – продолжала клокотать монахиня. – Знаете, отец, он находит все потерянные вещи. Представляете, этот дружок даже сует ей в карман мелочь на конфеты! И они все набивают себе рты всякими сластями. Уж будьте уверены, деньги тоже ворованные.
Девочки зарыдали еще громче. Только тут отец Мэттингли заметил, что невольно топчет цветы, а маленькое бледнолицее создание молча и внимательно наблюдает, как его ботинки давят белые лепестки.
– Отпустите детей, пусть они идут в школу, – велел он монахине.
Главное сейчас – взять инициативу в свои руки. Только тогда он сможет вникнуть в смысл того, о чем говорит сестра Бриджет-Мэри.
Когда взрослые остались одни, монахиня продолжила свой рассказ, показавшийся отцу Мэттингли совершенно фантастическим. Дети упорно твердили, что видели, как цветы плыли в воздухе, и уверенно заявляли, что видели цветы в руках Дейрдре. При этом они не переставая хихикали и говорили, что волшебный друг Дейрдре всегда их смешит. А еще этот друг умел найти пропавшую тетрадку или карандаш. Стоило лишь попросить Дейрдре – и он приносил ей потерю. Так обстояли дела. Эти девчонки даже утверждали, что видели его своими глазами: такой симпатичный молодой человек, темноволосый, с карими глазами. Обычно он появлялся возле Дейрдре, но не более чем на секунду.
– Придется отослать ее домой, – сказала сестра Бриджет-Мэри. – Она постоянно выкидывает такие штучки. Мы вынуждены звонить ее старшей тете, Карл, или другой тете, Нэнси. На какое-то время это прекращается. Но потом все начинается снова.
– Но вы-то сами не верите…
– Тут, отец, как говорят, поди разбери. Либо в девчонку вселился дьявол, либо она дьявольски врет и заставляет других верить в свои россказни – она как будто околдовывает окружающих. Ее нельзя оставлять в нашей школе.
Отец Мэттингли сам отвел Дейрдре домой. Они неторопливо шли по этим же улицам и за всю дорогу не произнесли ни слова. Мисс Карл уже успели позвонить на работу, и она стояла рядом с мисс Нэнси на ступенях своего огромного дома, поджидая девочку.
Как привлекательно выглядел тогда этот дом, окрашенный в темно-фиолетовый цвет: зеленые ставни с белыми филенками, чугунные решетки, покрытые блестящей черной краской, позволявшей яснее видеть изящную розетку узора. Плющ и другие вьющиеся растения радовали глаз яркостью и разнообразием цветков и зеленью листьев… Теперь они превратились в отвратительного вида дебри.
– Все дело в ее слишком богатом воображении, святой отец, – в голосе мисс Карл не слышалось и следа тревоги. – Милли, нашей Дейрдре сейчас не помешает теплая ванна.
Девочка молча скрылась внутри дома, а мисс Карл пригласила отца Мэттингли в стеклянную беседку, чтобы за плетеным столом угостить кофе с молоком. Мисс Нэнси, простоватая и угрюмая, поставила перед ними чашки и подала серебряные ложечки. Это был первый его визит в дом Мэйфейров.
Веджвудский фарфор с золотой каймой. Льняные салфетки с вышитой на них буквой «М». Какой остроумной женщиной показалась ему Карлотта. В шелковом, явно сшитом на заказ костюме и гофрированной блузке она выглядела безупречно. Волосы с проседью аккуратно убраны назад, а губы слегка тронуты бледно-розовой помадой. Своей понимающей улыбкой она сразу же расположила к себе священника.
– Избыток воображения, святой отец, это, можно сказать, проклятие нашей семьи, – говорила она, наливая из двух небольших серебряных кувшинов горячий кофе и горячее молоко.
– Мы видим странные сны, нас посещают видения. Наверное, нам следовало бы заниматься поэзией или живописью. А я вот, видите, корплю над бумагами в адвокатской конторе. – Мисс Карл негромко, без напряжения рассмеялась. – Как только Дейрдре научится отличать фантазии от реальности, у нее все будет хорошо, – добавила она.
После кофе мисс Карл показала отцу Мэттингли комнаты первого этажа. Их сопровождала мисс Милли – удивительно женственная, с рыжими волосами, крупными старомодными локонами, окаймлявшими лицо. Подойдя к одному из окон, мисс Милли приветственно помахала старой мисс Белл, срезавшей розы большими садовыми ножницами с деревянными рукоятками. Священнику бросились в глаза украшавшие ее пальцы кольца с драгоценными камнями.
Карлотта сообщила, что дальнейшее воспитание и обучение Дейрдре доверят сестрам монастыря Святого Сердца, как только в их школе появится свободное место. Она искренне сожалела о том, что произошло, и заверила святого отца, что пока Дейрдре, разумеется, останется дома, коль скоро на этом настаивает сестра Бриджет-Мэри.
Священник попробовал возразить, но вопрос был уже решен. Разве сложно будет подыскать для Дейрдре гувернантку, умеющую ладить с детьми?
– Наш род очень древний, – рассказывала мисс Карл, пока они, минуя густую тень террас, возвращались в двухсветный зал. – Мы даже не знаем точно, сколько веков он существует, и теперь никто не может назвать имена всех предков, изображенных на фамильных портретах.
Голос Карлотты звучал жизнерадостно и в то же время утомленно.
– Достоверно известно лишь то, что семья переселилась сюда с островов, с плантации на Сан-Доминго. А в далеком прошлом наши предки жили где-то в Европе, но никаких конкретных сведений об этом не сохранилось. Наш дом полон реликвий, но с чем или с кем они связаны, нам не известно. Иногда все это представляется мне огромной тяжелой раковиной, которую я, словно улитка, вынуждена таскать на спине.
Слегка коснувшись рукой клавиш рояля и струн арфы, мисс Карл призналась, что не испытывает особого интереса к такого рода вещам, однако по иронии судьбы ей приходится быть хранительницей всех этих «фамильных ценностей». Словно в подтверждение слов сестры, мисс Милли с улыбкой кивнула.
А теперь, с позволения святого отца, продолжала тем временем мисс Карл, она должна вернуться на работу – клиенты ждут. Проводив священника до ворот, она еще раз поблагодарила его за заботу.
Таким образом, странный инцидент был исчерпан, и маленькая девочка с бледным лицом и черными кудряшками покинула приходскую школу при церкви Святого Альфонса.
Но отцу Мэттингли по-прежнему не давало покоя необъяснимое появление цветов на школьном дворе, да и вся эта непонятная история в целом.
Разве можно вообразить, чтобы маленькие девочки перелезли через перила алтаря в столь огромном и величественном храме, как церковь Святого Альфонса, и украли оттуда цветы. Даже отпетые уличные хулиганы, которых было немало в годы детства самого отца Мэттингли, не осмелились бы на подобную выходку.
Интересно, а что думает обо всем этом сестра Бриджет-Мэри? Что, по ее мнению, произошло на самом деле? Неужели дети действительно украли цветы? Прежде чем ответить, невысокая, коренастая, круглолицая монахиня долго изучающе смотрела на священника и наконец отрицательно покачала головой.
– Отец, Бог мне свидетель, эти Мэйфейры – проклятое семейство. Много лет назад бабушка этой девчонки – ее звали Стелла – рассказывала точно такие же истории. Эта Стелла Мэйфейр обладала таинственной властью над окружающими. Некоторые монахини до смерти боялись осенить ее крестным знамением и называли не иначе как ведьмой – такое отношение к ней сохранилось и до сих пор.
– Ну, мне кажется, это уж слишком, сестра, – резко прервал ее отец Мэттингли. – Мы же с вами не на туманных дорогах Типперэри, где бродит призрак Петтикот Луз.
– Значит, вы слышали о ней, святой отец? – засмеялась монахиня.
– Да, десятки раз. У меня мать ирландка, и мы жили в нижней части Ист-Сайда.
– Ну что же, тогда позвольте вам рассказать, что однажды эта Стелла Мэйфейр взяла меня за руку, вот так, – монахиня показала, как именно, – и стала рассказывать о моих личных секретах, которыми я не делилась ни с одной живой душой по эту сторону Атлантики. Клянусь вам, отец, это происходило не с кем-то, а со мной. Еще дома я потеряла дорогую для меня, памятную вещицу – цепочку с распятием. Помню, я тогда рыдала как маленькая. Так вот, Стелла Мэйфейр в точности описала мне, как выглядит эта цепочка, и в заключение добавила: «Сестра, а ведь вам очень хочется вернуть ее». В течение всего нашего разговора она продолжала держать меня за руку и ласково улыбалась, совсем как ее внучка Дейрдре – скорее невинно, чем лукаво. «Я верну вам эту цепочку, сестра», – пообещала Стелла. «Взяв в пособники дьявола, ты это имеешь в виду, Стелла Мэйфейр? – ответила ей я. – Нет уж, благодарю покорно!» Но далеко не все сестры, работавшие в приходской школе, обладали твердостью характера. Поэтому Стелле без труда удавалось одерживать над ними духовную победу и каждый раз так или иначе добиваться своего. Так продолжалось до самой ее смерти.
– Все это предрассудки, сестра! – убежденно произнес отец Мэттингли. – Хорошо, а как насчет матери маленькой Дейрдре? Уж не хотите ли вы сказать, что и она была ведьмой?
Сестра Бриджет-Мэри покачала головой.
– Нет, Анта – пропащая душа – была застенчивой милой девочкой, она, похоже, боялась даже собственной тени. Полная противоположность ее мамаши Стеллы – та буйствовала, пока ее не убили. Да, отец, она умерла не своей смертью. Вы бы видели лицо мисс Карлотты на похоронах Стеллы! То же выражение на ее лице было и двенадцать лет спустя, когда хоронили Анту. Что касается самой Карлотты, то, пожалуй, более умной девчонки в школе Святого Сердца не было. Она – хребет всей семьи. Но ее матери было на нее наплевать. Мэри-Бет Мэйфейр заботилась только о Стелле. И старый мистер Джулиен, дядюшка Мэри-Бет, – тоже. От них только и слышалось: Стелла, Стелла, Стелла… А когда бедняжка Анта, которой и всего-то было двадцать лет, вдруг выпрыгнула из окна на чердаке дома и разбила голову о камни, они заявили, что она просто сошла с ума. Представляете?!
– Такая молодая… – прошептал священник.
Он вспомнил бледное испуганное личико Дейрдре Мэйфейр. Сколько же было этой малышке, когда ее юная мать совершила столь ужасный поступок?
– Ее похоронили в освященной земле. Да смилостивится над нею Господь. Разве дано кому-либо судить о состоянии рассудка такого человека? Когда Анта рухнула на камни террасы, ее голова буквально раскололась, словно арбуз. А Дейрдре, совсем крошечная, надрывалась от крика в своей колыбельке… Но временами даже Анта вызывала у людей страх.
Отец Мэттингли спокойно внимал повествованию монахини. Такого рода истории он постоянно слышал в родном доме – они отражали свойственное ирландцам стремление излишне драматизировать любые мрачные события, их чрезмерное пристрастие к трагедиям. По правде говоря, он уже начинал терять терпение и хотел спросить сестру о…
Но тут зазвенел звонок. Дети начали торопливо выстраиваться парами, чтобы идти на занятия. Сестра Бриджет-Мэри тоже направилась было к дверям школы, однако внезапно остановилась и обернулась к отцу Мэттингли.
– Расскажу вам один случай с Антой, самый удивительный из известных мне. – Голос монахини звучал приглушенно, но священник отчетливо слышал каждое ее слово, поскольку в школьном дворе к тому моменту воцарилась тишина. – В те дни сестры сходились к трапезе в полдень. И пока читались благодарственные молитвы, дети во дворе были тише воды, ниже травы. Нынче такого почтения уже не встретишь, но тогда это было в порядке вещей. И вот как-то весной в эти благословенные минуты одной злой и нечестивой девчонке по имени Дженни Симпсон взбрело в голову напугать несчастную тихую Анту найденной под забором дохлой крысой. Едва ее увидев, Анта душераздирающе закричала. Не думаю, отец, что вам когда-либо доводилось слышать подобный вопль. Мы выскочили из-за стола и бросились на улицу. Глазам нашим предстала удивительная картина отпетая мерзавка Дженни Симпсон лежала на земле, ее лицо было залито кровью, а крыса выскользнула из ее рук и перелетела через забор! Скажете, это сделала Анта? Такая же хрупкая малютка, как ее дочь Дейрдре? Ничего подобного! Это сделал все тот же «невидимый друг», сам дьявол, который всего неделю назад заставил цветы лететь прямо в руки Дейрдре.
Отец Мэттингли засмеялся:
– Неужели вы думаете, сестра, что я только вчера родился и способен поверить в подобные россказни?
Монахиня тоже улыбнулась. Однако по опыту священнику было хорошо известно, что ирландки способны одновременно и смеяться над такого рода историями, и верить в их абсолютную правдивость.
Семейство Мэйфейр вызывало у отца Мэттингли неподдельный интерес, как способно привлекать к себе все сложное, непонятное и в то же время изысканное. Все произошедшее со Стеллой и Антой стало уже далеким прошлым и воспринималось теперь как не более чем романтическая история.
В следующее воскресенье отец Мэттингли вновь нанес визит Мэйфейрам. Его опять угостили кофе и приятной беседой. Обстановка вокруг ни в коей мере не соответствовала тому, что рассказывала сестра Бриджет-Мэри. Где-то играло радио, и до священника доносился голос Руди Вэлли. Старая мисс Белл поливала сонно росшие в горшках, равнодушные ко всему орхидеи. Из кухни ароматно пахло жареной курицей. Такой приятный, милый дом.
Хозяева пригласили отца Мэттингли присоединиться к ним за уже красиво накрытым к воскресному обеду столом, на котором лежали стянутые серебряными кольцами плотные полотняные салфетки. Но священник вежливо отказался. Мисс Карл выписала чек для прихода и подала ему.
Уходя, отец Мэттингли мельком увидел в саду бледное личико Дейрдре – спрятавшись за старым, уродливо искривленным деревом, девочка не сводила со священника пристального взгляда. Не замедляя шага, он помахал ей в ответ. Впоследствии что-то вновь и вновь возвращало его к этой мимолетной встрече. Но что? Спутавшиеся кудрявые волосы Дейрдре? Или отсутствующее выражение ее глаз?
Сестра Бриджет-Мэри упорно твердила о безумии. Страшно даже подумать, что оно может угрожать этому маленькому, болезненному существу. Отец Мэттингли не видел в сумасшествии ничего романтического. Люди с разрушенной психикой, по его мнению, вечно пребывают в аду неуверенности, несовпадения реальной жизни с их собственным внутренним миром и не понимают, что происходит вокруг.
Но мисс Карлотта казалась ему вполне современной, разумной женщиной. Ребенок вовсе не обречен следовать по стопам своей покойной матери. Наоборот, девочке постараются предоставить любые возможности и сделают все, чтобы трагедия не повторилась.
Спустя месяц – в тот незабываемый субботний день, когда Дейрдре пришла в церковь Святого Альфонса на исповедь – его представление о семействе Мэйфейр изменилось в корне и навсегда.
В эти специально отведенные часы благочестивые католики из ирландских и немецких семей получали шанс облегчить свою совесть накануне воскресной мессы и причастия.
Отец Мэттингли сидел на узком стуле в украшенной резьбой деревянной исповедальне; от прихожан его отделяла зеленая занавеска из саржи. Он попеременно выслушивал тех, кто заходил в кабинки справа и слева от него и становился там на колени. В том же самом ему могли покаяться прихожане и в Бостоне, и в Нью-Йорке – ничего из ряда вон выходящего, похожий выговор, одни и те же заботы и мысли.
Обычно он предписывал «грешникам» трижды прочесть молитву Пресвятой Деве или столько же раз прочесть «Отче наш». Отец Мэттингли редко назначал своим прихожанам – усердным работникам и добропорядочным домохозяйкам, каявшимся в каких-нибудь пустяшных прегрешениях, – более серьезное наказание.
Детский голосок, звонкий и торопливый, раздавшийся из-за темной и пыльной решетки, застал его врасплох. Судя по всему, он принадлежал маленькой девочке, но умной и развитой не по годам. Священник понятия не имел, кто находится по другую сторону занавески. Следует учесть и тот факт, что до этого Дейрдре Мэйфейр в его присутствии никогда не произносила ни слова.
– Благословите меня, отец, ибо я согрешила. Я уже давно не была на исповеди. Прошу вас, отец, помогите мне. Я не могу побороть дьявола. Я пытаюсь это сделать, но всегда терплю неудачу. Я знаю, что за это попаду в ад.
Чего было больше в этих словах – искренности или влияния сестры Бриджет-Мэри? Но, прежде чем священник успел сказать хоть слово, девочка заговорила опять, и теперь он понял, что слушает исповедь Дейрдре.
– Когда дьявол принес цветы, которых мне хотелось, я не приказала ему убираться прочь, хотя знаю, что должна была это сделать. Тетя Карл не на шутку сердита на меня. Но, святой отец, он только хотел порадовать нас. Клянусь, он ни разу не причинил мне зла. И он плачет, когда я не смотрю на него или не слушаю его. Честное слово, я не знала, что он принес цветы из алтаря! Иногда, отец, он поступает очень глупо, вот как тогда. Словно несмышленый младенец. Но никогда и ни с кем не поступает жестоко.
– Постой, дорогая. Что заставляет тебя думать, будто сам дьявол станет преследовать такую малышку, как ты? Быть может, тебе лучше рассказать, что же произошло на самом деле?
– Отец, он совсем не похож на дьявола из Библии. Клянусь вам. Он высокий и красивый. Совсем как настоящий человек. И он не лжет. Он всегда делает что-нибудь приятное. Когда мне страшно, он приходит, садится на краешек кровати и целует меня. Поверьте, я говорю правду! И еще он отпугивает людей, которые хотят сделать мне что-нибудь плохое!
– Дитя мое, почему же тогда ты говоришь, что это дьявол? Не лучше ли сказать, что это твой воображаемый друг, которого ты выдумала, чтобы не чувствовать себя одинокой?
– Нет, святой отец, он – дьявол, – убежденно возразила девочка. – Он не такой, как обычные люди, но я его не выдумывала. – Голосок Дейрдре звучал теперь печально и устало. Внутри этого ребенка маленькая женщина в отчаянии пыталась справиться с непосильной ношей. – Я знаю, что он всегда рядом, хотя другие об этом даже не подозревают. И только если я долго смотрю на него, он становится видимым и для других. – Голос девочки дрогнул. – Отец, я стараюсь не смотреть на него. Я молюсь Иисусу и Пресвятой Деве и изо всех сил стараюсь не смотреть на него. Я знаю, это смертный грех. Но он делается таким грустным и беззвучно плачет, хотя я его слышу.
– Дитя мое, а ты говорила об этом со своей тетей Карлоттой?
Голос отца Мэттингли звучал спокойно, но столь подробный рассказ ребенка встревожил его не на шутку: то, что он услышал, никак нельзя было объяснить «избытком воображения» или чем-нибудь в том же роде.
– Отец, она все о нем знает. И другие мои тети – тоже. Они называют его «тот человек», но тетя Карл говорит, что он – истинный дьявол. Она одна говорит, что это грех – такой же, как трогать у себя между ногами или думать о чем-нибудь неприличном. Тетя Карл говорит то же самое и про его поцелуи, от которых у меня ползут мурашки и бывают разные ощущения. Она говорит, что это грязно: смотреть на него и позволять ему приходить ко мне в постель. Еще тетя Карл говорит, что он может меня убить. Моя мама видела его всю свою жизнь, потому она и умерла и отправилась на Небеса, чтобы избавиться от него.
Отец Мэттингли был ошеломлен. А еще говорят, что священника на исповеди ничем не удивишь!
– И моя бабушка тоже видела его, – торопливо продолжала Дейрдре напряженным голосом. – Она действительно была плохой, очень плохой, потому что он заставлял ее быть плохой, и из-за него она умерла. Но она вместо Небес попала в ад, и я, наверное, тоже туда попаду.
– Постой, дитя мое. Кто тебе это сказал?
– Моя тетя Карл, – ответила Дейрдре. – Она не хочет, чтобы я, как Стелла, отправилась в ад. Она велит мне молиться и гнать его. Она считает, что я смогу это сделать, если только постараюсь, если буду читать молитвы и не позволю ему приходить. Она очень злится за то, что я разрешаю ему появляться. – Девочка умолкла. Она плакала, хотя явно пыталась подавить слезы. – Тетя Милли очень боится, а тетя Нэнси не хочет на меня смотреть. Тетя Нэнси как-то сказала, что в нашей семье считается: если ты видишь «того человека», с тобой все кончено.
Отец Мэттингли был настолько шокирован, что буквально лишился дара речи. Он быстро прокашлялся.
– Ты хочешь сказать, что, по мнению твоих тетушек, этот человек действительно существует?…
– Отец, они всегда знали о нем. Его может увидеть любой, когда я позволяю ему делаться сильным. Кто угодно. Но для этого я должна заставить его прийти. Для других людей увидеть его не является смертным грехом, потому что это моя вина. Моя! Его бы никто не видел, если бы я этого не допускала. Но, святой отец, я только… только не пойму, как это дьявол может быть так добр ко мне и как он может так горько плакать, когда ему грустно. Я не понимаю, почему он так хочет просто быть рядом со мной…
Голос Дейрдре сменился приглушенными рыданиями.
– Не плачь, Дейрдре! – твердо произнес священник.
Но это же немыслимо! Как может вполне современная, разумная женщина в модном костюме внушать ребенку такие суеверия? Тогда что же говорить о других? Воззрения сестры Бриджет-Мэри кажутся им сродни идеям самого Фрейда. Священник попытался разглядеть Дейрдре сквозь решетку. Похоже, она вытирала слезы кулаком.
И вдруг голосок девочки зазвенел снова, и от ее торопливых слов у отца Мэттингли все сжалось внутри.
– Тетя Карл утверждает, что даже думать о нем или о его имени – это уже смертный грех. Если произнести его имя, он тут же появляется. Когда тетя Карл говорит мне все это, он стоит рядом и заявляет, что она лжет. Святой отец, я знаю, что это ужасно, но она действительно иногда лжет. Я об этом и без него знаю. Но хуже всего, когда он сердится и начинает ее пугать. А тетя Карл ругается и грозится сделать со мной что-нибудь нехорошее, если он не оставит меня в покое!
Голосок Дейрдре снова дрогнул. Она едва слышно плакала. Какой же маленькой казалась она священнику, какой беззащитной!
– Но все время, даже когда я одна и даже когда стою на мессе с другими девочками, я знаю, что он рядом. Я его ощущаю. Я слышу, как он плачет и заставляет плакать меня.
– Дитя мое, а сейчас хорошенько подумай, прежде чем ответить. Твоя тетя Карл действительно говорила, что она видит это существо?
– Да, святой отец.
«Как она измучена! – размышлял священник. – Неужели я ей не верю? А ведь именно о доверии она умоляла меня все это время».
– Дорогая моя, я пытаюсь понять. Я хочу понять, но ты должна мне помочь. Ты уверена, что твоя тетя Карл говорила, будто видит того человека собственными глазами?
– Отец, она видела его, когда я была совсем маленькой и еще не знала, что могу заставлять его приходить. Она видела его в тот день, когда умерла моя мама. Он качал мою колыбель. А когда моя бабушка Стелла была девочкой, он стоял у нее за спиной во время обеда. Я расскажу вам страшную тайну. В нашем доме есть одна фотография. На ней моя мама. Так вот, на том снимке есть и он. Он стоит за маминой спиной. Я знаю об этой фотографии, хотя взрослые старательно прятали ее от меня. Это он разыскал и дал мне снимок. Он открыл комод, даже не прикоснувшись к ручке ящика, и вложил фото мне в руку. Он делает такие вещи, когда бывает сильным, а это случается, когда я провожу с ним много времени и весь день думаю о нем. Тогда все знают, что он находится в доме. Тетя Нэнси встречает тетю Карл у порога и шепчет, что «тот человек» опять у нас, отчего тетя Карл буквально выходит из себя. Это все моя вина, святой отец! Мне страшно, что я не могу его остановить. И все в доме бывают очень расстроенными!
Рыдания Дейрдре стали громче. Они отдавались эхом от деревянных стен кабинки. Наверное, они были слышны и снаружи.
Что он должен сказать этой малышке? Внутри у отца Мэттингли все кипело. Что за безумие могло охватить этих женщин? Неужели ни у кого из них не осталось хоть крупицы здравого смысла, чтобы позвать психиатра и помочь девочке?
– Дорогая, выслушай меня. Я прошу твоего разрешения поговорить об этих событиях за пределами исповедальни, поговорить с твоей тетей Карл. Ты мне позволишь это?
– Нет, святой отец. Нельзя!
– Дитя мое, я не стану что-либо делать без твоего разрешения. Но, поверь, мне просто необходимо побеседовать с твоей тетей Карл обо всем этом. Вместе с ней мы сумеем прогнать это существо.
– Отец, она никогда не простит мне, что я рассказала об этом. Никогда. Рассказывать об этом – смертный грех. И тетя Нэнси никогда мне не простит. Даже тетя Милли разозлится. Отец, нельзя рассказывать – тетя Карл не должна знать, что я открыла вам эту тайну.
У девочки начиналась истерика.
– Дитя мое, я могу снять с твоей души этот смертный грех, – попытался объяснить ей священник. – Я могу дать тебе отпущение грехов. С этого момента твоя душа чиста как снег. Верь мне, Дейрдре. Дай мне возможность поговорить с твоей тетей.
Какое-то время в ответ слышался только плач. Потом он услышал, как повернулась ручка маленькой деревянной двери, но еще прежде, чем до его ушей донесся этот звук, священник понял, что потерял бедную девочку. Дейрдре почти бежала по проходу, прочь от него, и вскоре эхо ее быстрых шагов затихло вдали.
Зачем он сказал не те слова, зачем сделал неверные заключения? Теперь уже ничего нельзя сделать, ибо священник был связан тайной исповеди. И эту тайну поведала ему несчастная девочка, которая была еще слишком мала, чтобы совершить смертный грех или получить истинное облегчение от таинства исповеди.
Отец Мэттингли никогда не забудет, как он, беспомощный, сидел и слушал ее шаги, отдававшиеся эхом у церковных дверей. Теснота и духота исповедальни давили на него. Боже милостивый, что теперь делать?
Но его мучения только начинались…
В течение нескольких недель мысли о том доме и его обитательницах не отпускали священника ни на минуту…
Однако отец Мэттингли не мог ни действовать на основании услышанного, ни повторить произнесенные Дейрдре слова. Тайна исповеди связывала его и в том и в другом.
Он не осмеливался даже расспрашивать сестру Бриджет-Мэри, однако, когда они случайно встретились на игровой площадке, та по собственной инициативе поведала ему достаточно много. Слушая ее рассказ, священник отчего-то чувствовал себя виноватым, но заставить себя уйти не мог.
– Они, конечно же, отправили Дейрдре в школу Святого Сердца! Куда же еще? – воскликнула монахиня. – Думаете, она там удержится? Анту исключили оттуда, когда той было всего восемь лет. И из школы урсулинок ее потом тоже выгнали. Наконец, родственники нашли для нее какую-то частную школу – одно из тех безумных мест, где детям разрешают стоять на голове. А каким несчастным существом была Анта в детстве. Она вечно писала стихи и рассказы, разговаривала сама с собой и расспрашивала о том, как умерла ее мать. Разве вы не знаете, святой отец, что ее мать, Стелла Мэйфейр, на самом деле не умерла, а была застрелена своим братом Лайонелом? И сделал он это прямо у них дома, во время шумного карнавала. Поднялась жуткая паника Когда все стихло, зеркала, стекла в окнах, часы, мебель – все было разбито и поломано, а мертвая Стелла лежала на полу.
Отец Мэттингли только горестно покачал головой.
– Не удивительно, что впоследствии Анта тронулась умом и где-то через десять лет сбежала из дому с каким-то художником, вот так-то. Этот парень не собирался на ней жениться и бросил ее в старом, обшарпанном доме в Гринвич-Виллидж. Там даже лифта не было. На дворе зима, денег – ни гроша. А тут еще Дейрдре только что родилась и, естественно, требует заботы. Пришлось молодой мамаше с позором возвращаться домой. А потом бедняжка прыгнула из чердачного окна. Не было ей жизни в родных стенах – прямо ад кромешный: тети шпионили за ней, контролировали каждый шаг, а на ночь запирали ее в комнате. Почему? Она убегала во Французский квартал и пила там – это в таком-то возрасте! – с поэтами и писателями. Все стремилась, чтобы обратили внимание на ее писанину… Расскажу вам еще одну жуткую вещь. После смерти Анты в течение нескольких месяцев на ее имя продолжала приходить почта: из Нью-Йорка ей возвращали рукописи, которые она туда посылала. Каким же мучением было для мисс Карл, когда в дверь звонил почтальон и добавлял ей боли и страданий, принося очередное напоминание о покойной Анте.
Отец Мэттингли мысленно помолился за Дейрдре: пусть тень зла никогда не коснется ее.
– Мне говорили, что один из рассказов Анты напечатали в каком-то парижском журнале, но по-английски. Когда номер этого журнала прислали сюда, мисс Карл лишь бросила на него взгляд и заперла подальше. Мне об этом рассказывала одна из ее родственниц. Другие Мэйфейры предлагали мисс Карл отдать им маленькую Дейрдре, но мисс Карл отказалась. Она сказала: «Нет, ребенок останется здесь. Это мой долг перед Стеллой, перед Антой и перед самой Дейрдре».
По пути домой отец Мэттингли зашел в церковь. Он долго стоял в тишине ризницы, глядя через открытую дверь на главный алтарь.
Священник готов был простить Мэйфейрам нечестивую историю их семейства: они, как и все, родились во грехе. Но не может быть им прощения за то, что они забивали голову невинной девочки лживыми россказнями о дьяволе, якобы доведшем ее мать до самоубийства. Отец Мэттингли понимал: он бессилен, абсолютно бессилен что-либо сделать для Дейрдре. Он может только молиться за нее, как молился сейчас.
Под Рождество Дейрдре исключили из частной школы Святой Маргариты, и тетушки перевели ее в другую частную школу, находившуюся где-то на севере.
Через некоторое время до отца Мэттингли дошли слухи, что Дейрдре опять дома, занимается с гувернанткой и часто болеет. Однажды лицо девочки мелькнуло в толпе прихожан на утренней мессе, что начиналась в десять часов. К причастию Дейрдре не подошла…
Постепенно отец Мэттингли узнавал все новые и новые подробности о Мэйфейрах. Всему приходу было известно о его визитах в их дом. Однажды, когда он зашел проведать старую Люси О'Хара, та спросила:
– Святой отец, это правда, что вы ходили в дом к Дейрдре и беседовали о ней с ее тетками? Девочку-то, кажется, опять куда-то отправили. Я тоже кое-что знаю про эту семью. Хотите расскажу?
Что ему оставалось делать? Отказаться? Или слушать старушечьи воспоминания? Отец Мэттингли выбрал второе.
– Да, я их знаю, – начала Люси О'Хара. – Хорошо помню Мэри-Бет. Она была истинно светской дамой и многое могла порассказать о прежней их жизни на плантациях. Мэри-Бет родилась сразу после Гражданской войны, а в Новый Орлеан приехала примерно в восьмидесятые годы вместе со своим дядюшкой Джулиеном – вот уж был настоящий джентльмен с Юга. Я до сих пор помню, как мистер Джулиен катался на лошади по Сент-Чарльз-авеню. Скажу вам, таких ладных стариков я еще не видела… Говорят, они владели большим поместьем в Ривербенде. Их дом изображен во многих старых книжках. А потом дом смыло рекой. Мистер Джулиен и мисс Мэри-Бет чего только не делали, чтобы спасти его. Но разве реку остановишь…
А Мэри-Бет отличалась невероятной красотой: смуглая, с горящим взглядом, не такая хрупкая, как Стелла, или неприметная, как мисс Карл. Говорят, Анта тоже считалась красавицей, но ту я не видела, как и ее несчастную дочку Дейрдре. Скажу вам, что Стелла была настоящая колдунья. Да, святой отец, та самая Стелла. Она знала секреты приготовления всяческих снадобий и порошков, знала все обряды, могла даже по картам прочитать будущее. Раз она погадала моему внуку Шону и до полусмерти напугала мальчишку своими пророчествами. Это случилось на одном из жутких сборищ, которые они устраивали у себя на Первой улице. Спиртное там лилось рекой – упивались все. А в танцевальном зале играл оркестр. Организатором всего этого была Стелла.
Ей нравился мой Билли, – продолжала старуха, махнув рукой в сторону выцветшей фотографии на комоде. – Погиб на войне. Говорила я ему: «Билли, послушай меня. Держись подальше от женщин из семьи Мэйфейр». Стелла была сама не своя до красивых молодых парней. Потому-то братец и застрелил ее. Представляете, отец, эта Стелла могла в ясный день нагнать на небо тучи. Бог свидетель, святой отец, это истинная правда. Она частенько пугала сестер в школе Святого Альфонса, устраивая бури прямо над садом. Вы бы видели, какой ураган разразился над их домом, когда Стеллу убили. Рассказывали, что в доме не осталось ни одного целого стекла. Ветер завывал, и ливень хлестал как из ведра. Так Стелла заставила небеса плакать по ней.
Отец Мэттингли сидел молча, делая вид, что пьет остывший чай, куда хозяйка щедро добавила молока и сахара. Но каждое слово старой Люси врезалось ему в память.
Больше к Мэйфейрам он не ходил – не хватало смелости. Священник не мог допустить, чтобы маленькая Дейрдре – если только ее опять куда-нибудь не отправили – заподозрила его в намерении нарушить тайну исповеди. Во время мессы он искал глазами женщин семьи Мэйфейр, но видел их крайне редко. Правда, в здешнем большом приходе было несколько храмов, и Мэйфейры вполне могли посещать, например, церковь Святой Марии или небольшую часовню для богатых, находившуюся в Садовом квартале.
Тем не менее отец Мэттингли знал, что чеки от мисс Карлотты поступают регулярно. Отец Лафферти, ведавший бухгалтерией прихода, как-то под Рождество показал ему чек на две тысячи долларов, не преминув при этом как бы между прочим заметить, что вот так, мол, Карлотта Мэйфейр с помощью денежек поддерживает вокруг тишь да гладь.
– Полагаю, вы уже слышали, что они забрали свою маленькую племянницу из школы в Бостоне? – добавил отец Лафферти.
Отец Мэттингли признался, что ему об этом ничего не известно. Он уже собирался выйти из кабинета казначея, но задержался в дверях в ожидании продолжения.
– А я-то думал, что вы частенько бываете у этих важных дам, – удивленно произнес его собеседник. Этому прямодушному, не склонному к сплетням священнику было уже за шестьдесят.
– Я заходил к ним всего пару раз, да и то ненадолго, – пояснил отец Мэттингли.
– Говорят, малышка Дейрдре часто болеет. – Казначей положил чек на зеленое сукно своего стола. – Не может ходить в обычную школу и вынуждена заниматься дома с учителем.
– Печально, – отозвался отец Мэттингли.
– Да уж, веселого мало. Но Мэйфейрам не станут задавать вопросы. Никто не пойдет к ним домой, чтобы проверить, действительно ли ребенок получает достойное образование.
– У них достаточно денег…
– Верно, достаточно, чтобы заткнуть рот кому угодно, что они всегда и делают. Они смогли замять даже убийство.
– Вы так думаете?
Отец Лафферти продолжал разглядывать чек мисс Карлотты. Казалось, приходский казначей обдумывал, стоит ли продолжать эту тему, и наконец все же заговорил:
– Думаю, вы слышали о том, что Лайонел Мэйфейр застрелил свою сестру Стеллу. Так вот, он ни дня не провел в тюрьме. Мисс Карлотта все устроила. И мистер Кортланд, сын Джулиена, ей помог. Этим двоим под силу было замять любое дело. Расспросов не было.
– Но как они сумели?…
– Обычное дело: Лайонела просто поместили в лечебницу для умалишенных. А уж как ему там живется, неизвестно.
Никто его не видел, с тех пор как на него надели смирительную рубашку.
– Такого быть не может, – удивленно возразил отец Мэттингли.
Отец Лафферти усмехнулся.
– Очень даже может. И снова – никаких вопросов. Как всегда – гробовое молчание. А вскоре после этого убийства в нашу церковь пришла маленькая Анта, дочь Стеллы. Она плакала, кричала и говорила, что это мисс Карлотта заставила Лайонела убить ее мать. Анта говорила с пастором внизу, в левом приделе. Я это слышал собственными ушами, а вместе со мной и отец Морган, и отец Грэм, да и все остальные тоже.
Отец Мэттингли стоял молча.
– Малютка Анта говорила, что боится идти домой, – рассказывал отец Лафферти, – боится мисс Карлотты. Девочка слышала их с Лайонелом разговор и слова Карлотты: «Если ты не можешь все это остановить, ты просто не мужчина». Анта видела, как она дала брату револьвер тридцать восьмого калибра, чтобы застрелить Стеллу. Вы, отец Мэттингли, наверное, думаете, что девочку следовало расспросить поподробнее. Но пастор поступил по-другому: он просто снял трубку и позвонил мисс Карлотте. А через несколько минут подъехал большой черный лимузин и увез Анту.
«Я ведь тоже не задавал вопросов», – промелькнуло в голове отца Мэттингли, но вслух он не произнес ни слова и лишь внимательно смотрел на тщедушного старого священника, который тем временем продолжал:
– Позже пастор объяснил, что девочка не в своем уме. Оказывается, она говорила другим детям, что может слышать, о чем говорят в другой комнате, и читать мысли людей. Он добавил, что девочка скоро успокоится; просто у нее разыгралось воображение в связи со смертью матери.
– Но ведь, насколько мне известно, ее состояние со временем лишь ухудшилось.
– В двадцать лет она выпрыгнула из чердачного окна. Вот так. И снова – никаких вопросов. Объяснение простое: девушка лишилась разума. И к тому же молода, неопытна… Как бы то ни было, по-прежнему гробовое молчание.
Отец Лафферти перевернул чек и поставил на его обратной стороне приходскую печать.
– Вы считаете, что мне необходимо сходить к Мэйфейрам? – спросил отец Мэттингли.
– Нет, не считаю. По правде говоря, я и сам не знаю, зачем все это вам рассказываю. Сейчас я лишь хочу, чтобы мисс Карлотта снова отдала Дейрдре в какую-нибудь частную школу и девочка оказалась бы как можно дальше от этого дома. Слишком много дурных воспоминаний скопилось под его крышей. Ребенку там не место.
Когда однажды весной отец Мэттингли услышал, что Дейрдре опять отправили в какую-то школу, на сей раз в Европу, он решил заглянуть к Мэйфейрам… Со дня исповеди, не дававшей ему покоя, прошло более трех лет. Все это время священника неотступно преследовали мысли о странном семействе и о судьбе девочки. Однако сейчас он неохотно шел в знакомый дом, хотя в глубине души сознавал, что должен это сделать.
Карлотта приняла его вполне радушно и пригласила в двухсветный зал, где на серебряном подносе был подан кофе. Сидя за столом, отец Мэттингли любовался интерьером зала, и в первую очередь прекрасными зеркалами на его стенах. Чуть позже к ним с Карлоттой присоединилась мисс Милли, а потом и мисс Нэнси, извинившаяся за свой грязный передник. Даже старая мисс Белл спустилась в лифте в зал. Отец Мэттингли даже не подозревал, что в доме есть лифт, скрытый за высокой двенадцатифутовой дверью, которая ничем не отличалась от остальных. Нетрудно было заметить, что мисс Белл ничего не слышит.
Отец Мэттингли изучал этих женщин, пытаясь понять, что скрывается за их сдержанными улыбками… Нэнси – это ломовая лошадь, Милли ветрена, у мисс Белл налицо почти все признаки старческого слабоумия. А Карл? Карл в полной мере оправдывала свою репутацию среди родных и знакомых: умная, деловая – настоящий юрист. Ни к чему не обязывающая беседа касалась каких-то общих тем: разговор шел о политике, о коррупции в городе, о растущих ценах и меняющихся временах. Но ни в этот раз, ни в прошлом мисс Карл не произносила имен Анты, Стеллы, Мэри-Бет или Лайонела. По сути, они больше не говорили об истории семьи, и священник не мог заставить себя вернуться к интересующей теме или даже просто задать вопрос о каком-нибудь предмете, находившемся в зале.
Покидая дом, отец Мэттингли бросил быстрый взгляд на мощенный плитняком дворик, который теперь порос травой. «Голова буквально раскололась, словно арбуз», – вспомнилось вдруг ему. Выйдя на улицу, он оглянулся на чердачные окна: сквозь густо обвивавший их плющ едва виднелись ставни.
Это его последний приход сюда, решил отец Мэттингли. Пусть всем отныне занимается отец Лафферти. А еще лучше – вообще никто…
Однако горечь поражения и ощущение вины за допущенную ошибку с годами только усугублялись.
Дейрдре Мэйфейр было десять лет, когда она убежала из дома. Ее нашли через два дня. В насквозь промокшей одежде она бродила под дождем вдоль заболоченного берега одного из рукавов Миссисипи. Потом девочку отправили в очередную закрытую школу – в Ирландию, в графство Корк. Однако спустя некоторое время она снова вернулась домой. Монахини из приходской школы рассказывали, что Дейрдре мучают кошмары, что она ходит во сне и говорит странные вещи.
После этого до отца Мэттингли дошел слух, что Дейрдре находится в Калифорнии. Кто-то из родственников взял ее к себе. Может, перемена климата благотворно подействует на ребенка, думал священник.
Отец Мэттингли знал: плач Дейрдре будет стоять у него в ушах всю жизнь. Боже, почему тогда он не попытался вести себя с нею по-другому? Он молился о том, чтобы Дейрдре встретился какой-нибудь мудрый учитель или врач, которому девочка могла бы довериться и рассказать то же, что открыла ему на исповеди. Отец Мэттингли молился, чтобы хоть кто-нибудь, хоть где-нибудь помог ей, коль скоро ему самому это сделать не удалось.
Священник не слышал о возвращении Дейрдре из Калифорнии. Только позже, году так в пятьдесят шестом, он узнал, что девочка снова в Новом Орлеане, в школе Святой Розы. Потом прошел слух, что ее оттуда исключили и она убежала в Нью-Йорк.
Одна из прихожанок, некая мисс Келлерман, рассказала обо всем этом отцу Лафферти прямо на ступенях храма. Сама она слышала о Дейрдре от своей служанки, которая была знакома с «цветной девчонкой», приходившей иногда убирать в доме Мэйфейров. На чердаке в одном из чемоданов Дейрдре нашла рассказы своей матери – «всю эту чушь о Гринвич-Виллидж». Прочитав их, девочка бросилась в Нью-Йорк, чтобы найти своего отца, хотя никто не знал, жив он или нет.
Поиски Дейрдре закончились в психиатрической клинике Бельвю, и мисс Карлотта летала в Нью-Йорк, чтобы забрать ее оттуда.
Кажется, в 1959 году до отца Мэттингли дошли сплетни об очередном «скандале» в доме Мэйфейров. Говорили, что в свои восемнадцать лет Дейрдре Мэйфейр забеременела. Она бросила колледж в Техасе. А отец ребенка – «нет, вы только представьте себе!» – один из профессоров, женатый человек и вдобавок протестант. И вот теперь он после десяти лет брака намерен развестись и жениться на Дейрдре!
Казалось, весь приход только и говорил о случившемся. По слухам, мисс Карлотта полностью устранилась от происходящего, зато мисс Нэнси лично отправилась с Дейрдре в магазин Гэса Майера и купила ей миленькое подвенечное платье для будущей свадьбы в здании городской ратуши.
К тому времени Дейрдре превратилась в очаровательную девушку, столь же красивую, как в свое время Анта и Стелла. Люди даже сравнивали ее с Мэри-Бет.
Но отец Мэттингли по-прежнему помнил лишь испуганную девочку с побелевшим от страха лицом. И раздавленные цветы под ногами…
Однако свадьбе не суждено было состояться.
Когда Дейрдре была на пятом месяце, отец ребенка погиб в автомобильной катастрофе. Профессор ехал в Новый Орлеан, и на шоссе, идущем вдоль берега Миссисипи, в его стареньком «форде» неожиданно лопнул трос рулевой тяги. Машина потеряла управление, врезалась в дуб и в ту же секунду взорвалась.
Отцу Мэттингли между тем предстояло узнать еще одну невероятную историю, касающуюся семьи Мэйфейр. Он услышал ее жарким июльским вечером во время благотворительного церковного базара и потом многие годы не переставал вспоминать.
Над асфальтом двора сияли разноцветные лампочки. Прихожане в рубашках с короткими рукавами и прихожанки в хлопчатобумажных платьях то и дело подходили к многочисленным деревянным киоскам, где, заплатив пять центов, можно было выиграть шоколадный кекс или плюшевого медвежонка. Асфальт под ногами был мягким от жары, а пиво в наскоро сколоченном дощатом баре лилось рекой. Отцу Мэттингли казалось: куда ни пойди, везде натолкнешься на сплетни о Мэйфейрах.
Дейв Коллинз рассказывал седоволосому Рэду Лонигану, главе семейства владельцев похоронной конторы, о том, что Дейрдре держат взаперти в ее комнате. Сидевший рядом с ними за кружкой пива отец Лафферти не сводил с Дейва хмурого взгляда. Дейв знал Мэйфейров дольше, чем кто-либо, даже дольше Рэда.
Отец Мэттингли взял бутылку холодного пива и присел на дальний конец скамьи.
Дейву Коллинзу очень льстило, что его рассказ слушают двое священников.
– Святой отец, я родился в тысяча девятьсот первом году, – объявил он, хотя отец Мэттингли даже не смотрел в его сторону. – Да, в том же году, что и Стелла Мэйфейр. Я помню, как ее вышвырнули из пансиона урсулинок и мисс Мэри-Бет перевела ее в здешнюю приходскую школу.
– Слишком уж много сплетен вокруг этой семьи, – мрачно заметил Рэд.
– Стелла была настоящей колдуньей, – продолжал Дейв. – Все это знали. И речь вовсе не обо всех этих дешевых колдовских штучках и заклятиях – они были не для Стеллы. Суть в том, что в ее кошельке никогда не переводились золотые монеты.
Рэд негромко и печально рассмеялся.
– Как бы то ни было, концу Стеллы не позавидуешь.
– Зато уж она и пожила с размахом, пока Лайонел ее не пристрелил, – возразил Дейв.
Он сощурился и подался вперед, опершись о правую руку. Левая в это время цепко держала бутылку с пивом.
– Как только Стеллу похоронили, этот кошелечек появился возле кровати Анты. Куда бы тетки его ни прятали, он всегда возвращался на прежнее место.
– Что-то плохо верится, – сказал Рэд.
– Говорю вам, каких только монет не было в том кошельке: итальянские, французские, испанские…
– А откуда ты это знаешь? – поинтересовался Рэд.
– Отец Лафферти их видел! Ведь правда, святой отец? Мисс Мэри-Бет по воскресеньям обычно бросала эти монеты в кружку для пожертвований. Да подтвердите же, что именно так все и было! Помните, что она всегда при этом говорила? «Потратьте эти монеты поскорее, святой отец. Пусть они уйдут от вас до захода солнца, иначе они всегда возвращаются назад».
– Ну и чушь ты городишь! – насмешливо бросил Рэд.
Отец Лафферти молчал. Его маленькие темные глаза перебегали от Дейва к Рэду. Потом он бросил взгляд на отца Мэттингли, сидевшего напротив.
– Как это понимать: «всегда возвращаются назад»?
– Она имела в виду, что монеты снова оказываются в ее кошельке, – с загадочным видом ответил Дейв.
Он замолчал и надолго припал к бутылке, а когда внутри не осталось ничего, кроме пены, хрипло рассмеялся и добавил:
– Мэри-Бет могла сколько угодно раздавать эти монеты, и они всегда к ней возвращались. Об этом она не раз говорила и моей матери лет пятьдесят назад, когда платила ей за стирку. Мать служила прачкой во многих богатых семьях, и все оставались довольны ее работой. А мисс Мэри-Бет всегда платила ей такими монетами.
– Что-то плохо верится, – снова произнес Рэд.
– Тогда я расскажу вам кое-что еще, – Дэйв наклонился вперед, оперся локтями о стол и, прищурив глаза, буквально впился взглядом в Рэда Лонигана. – Дом, драгоценные камни, кошелек – все это взаимосвязано. Причислите сюда же и фамилию Мэйфейр. Как вы думаете, почему женщины в этом семействе всегда оставляют свою девичью фамилию: за кого бы они ни выходили замуж, в конце всегда стоит Мэйфейр? Хотите знать причину? Так вот: ведьмы они, эти женщины! Все без исключения.
Рэд покачал головой и пододвинул свою полную бутылку к Дейву.
– Говорю вам, это чистая правда, – продолжал тот, хватая бутылку за горлышко. – Ведьмовство издавна передается у них по наследству, от поколения к поколению. В те годы люди без конца судачили об этом. Мисс Мэри-Бет была посильнее Стеллы. – Дейв сделал большой глоток из бутылки Рэда. – И поумнее, потому что в отличие от Стеллы умела держать язык за зубами.
– А как ты узнал обо все этом? – спросил Рэд.
Дейв вытащил свой белый мешочек с табаком и зажал его между пальцами.
– Не найдется ли у вас настоящей сигаретки, святой отец? – спросил он у Мэттингли.
Рэд усмехнулся.
Отец Мэттингли протянул Дейву пачку «Пэлл-Мэлл».
– Благодарю вас, святой отец. А теперь вот что я тебе скажу, Рэд. Не подумай, что я хочу увильнуть от ответа на твой вопрос. Обо все этом я знаю от своей матери, а она – от мисс Мэри-Бет. Это было в двадцать первом году. Мисс Карлотта только что окончила юридическую школу имени Лойолы. Все ее поздравляли и хвалили: умница, будет юристом и все такое. А мисс Мэри-Бет сказала моей матери: «Избрана не Карлотта, а Стелла. Стелла обладает даром и после моей смерти получит все». Моя мать, понятное дело, полюбопытствовала, что это за дар. Мисс Мэри-Бет ответила: «Она видела того человека. Та из нас, которая способна видеть того человека, когда бывает одна, наследует все».
Отец Мэттингли почувствовал, как у него по спине побежали мурашки. Прошло уже одиннадцать лет с того дня, как он услышал так внезапно оборвавшуюся исповедь Дейрдре, но он не забыл ни слова из рассказа девочки. Они называют его «тот человек»…
Отец Лафферти гневно смотрел на Дейва.
– «Видеть того человека?» – холодно спросил он. – Ради всего святого, что означает эта чепуха?
– Мне кажется, отец, что благочестивый ирландец вроде вас не нуждается в объяснениях. Разве не известно, что ведьмы величают дьявола человеком? Кто не знает, что именно так они называют его, когда он приходит посреди ночи подбивать их на разные злые дела, о которых и говорить-то противно? – Дейв снова издал хриплый, нездоровый смешок, потом достал из кармана грязный платок и высморкался. – Женщины семейства Мэйфейр – ведьмы, и не мне вам об этом говорить, отец. Они были ведьмами и остаются таковыми. Ведьмовство – их наследственный дар. Помните старого мистера Джулиена? Я-то его хорошо помню. Он был в курсе всего – так мне говорила мать. И вы знаете, что это правда, святой отец.
– Что ж, это действительно наследие, – сердито проговорил отец Лафферти. – Это наследие невежества, завистничества и душевной болезни! Вы когда-нибудь слышали о подобных вещах, Дейв Коллинз? Слышали о ненависти между сестрами, о зависти или безжалостном честолюбии?
Не дожидаясь ответа, старый священник встал и пошел прочь, пробираясь меж группами празднующих.
Отец Мэттингли был ошеломлен вспышкой гнева отца Лафферти. Уж лучше бы тот просто посмеялся, как Дейв Коллинз.
А Дейв Коллинз к этому времени прикончил и бутылку Рэда.
– Рэд, не повторить ли еще парочку? – спросил он, переводя взгляд то на Рэда, то на отца Мэттингли.
Рэд равнодушно взирал на пустые бутылки. Потом медленно извлек из кармана смятую долларовую бумажку.
В тот вечер, перед сном, отцу Мэттингли вспомнились книги, которые он читал в семинарии… Высокий человек, смуглый человек, обходительный человек, инкуб, который появляется по ночам… великан, главенствующий на шабаше! Священник вспомнил пожелтевшие картинки в одной из книг: мастерски нарисованные, но ужасные по своему содержанию.
– Ведьмы, – прошептал отец Мэттингли, погружаясь в сон.
«Отец, она говорит, что он – истинный дьявол. Что даже смотреть на него – это грех».
Он проснулся еще до рассвета, и в ушах его по-прежнему отчетливо звучал сердитый голос отца Лафферти: «…завистничество… душевная болезнь…» Может, это и есть правда, скрытая между строк? Священнику казалось, что в узор головоломки вставлен недостающий кусок. Теперь он почти наяву видел всю картину. Дом, управляемый железной рукой, дом, в котором прекрасные, полные духовных устремлений женщины встречали свой трагический конец. И все же что-то по-прежнему не давало священнику покоя… «Они все его видят, отец…» Цветы под ногами… крупные белые гладиолусы и тонкие ветви папоротника. Отец Мэттингли словно воочию видел, как давит их ботинком.
Дейрдре Мэйфейр отказалась от своей дочери. Она родила ее в новой благотворительной больнице седьмого ноября. В тот же день Дейрдре поцеловала дитя и передала дочку в руки отца Лафферти. Тот совершил обряд крещения новорожденной и поручил ее заботам родственницы из Калифорнии, собиравшейся удочерить ребенка.
Но Дейрдре поставила одно непременное условие: ее девочка должна носить фамилию Мэйфейр и никогда, ни при каких обстоятельствах эта фамилия не может быть изменена. В противном случае, заявила Дейрдре, она не подпишет необходимые бумаги. На том же настаивал и ее старый дядя Кортланд. Даже отцу Лафферти не удалось уговорить ее переменить решение. Дейрдре требовала, чтобы это условие было при ней зафиксировано в свидетельстве о крещении. А несчастный старый Кортланд Мэйфейр – замечательный джентльмен – был к этому времени уже мертв. То страшное падение с лестницы стоило ему жизни.
Отец Мэттингли не помнил, когда он впервые услышал это слово – «неизлечимая». Дейрдре впала в буйство еще до выписки из больницы. Рассказывали, что она беспрерывно разговаривала вслух, хотя рядом никого не было, и все время повторяла одну и ту же фразу: «Ты это сделал, ты убил его!» Медсестры боялись заходить к ней в палату. Однажды Дейрдре прямо в больничном халате отправилась в часовню и там посреди службы начала смеяться и что-то громко выкрикивать. Обращаясь к пустоте, она обвиняла неведомо кого в убийстве своего возлюбленного, говорила, что ее лишили ребенка и бросили одну среди «врагов». Попытки монахинь утихомирить Дейрдре вызвали у несчастной новый приступ буйного помешательства: она буквально взбесилась. Пришлось вызвать санитаров, которые и забрали ее, кричавшую и отбивавшуюся.
Весною отец Лафферти умер. К тому времени Дейрдре поместили в какую-то закрытую лечебницу. Куда именно – никто не знал. Рите Лониган очень хотелось написать Дейрдре, и она попросила своего свекра Рэда узнать адрес. Однако мисс Карл сказала, что в этом нет необходимости – никаких писем.
Только молитвы за Дейрдре…
И потекли годы…
Отец Мэттингли покинул приход. Он трудился в иностранных миссиях. Работал в Нью-Йорке. Вдали от Нового Орлеана он постепенно перестал вспоминать обо всем, что было связано с этим городом. Лишь одно воспоминание не желало оставлять его мысли и неизменно вызывало чувство стыда: Дейрдре Мэйфейр… Несчастная девочка, которой он не помог… Его заблудшая Дейрдре…
Уже в тысяча девятьсот семьдесят шестом году, когда отец Мэттингли ненадолго приехал навестить свой старый приход, он отправился на Первую улицу и за знакомой оградой увидел худощавую бледную молодую женщину, сидевшую в кресле-качалке на боковой террасе, обтянутой ржавой сеткой от насекомых. Эта женщина в белом халате походила на привидение, но священник, увидев рассыпанные по плечам черные локоны, сразу же узнал в ней Дейрдре. А когда отец Мэттингли открыл заржавленные ворота и по дорожке из плитняка подошел к террасе, он увидел, что и выражение лица у нее осталось прежним. Да, то была Дейрдре, та самая девочка, которую однажды, почти тридцать лет тому назад, он привел в этот дом.
Полускрытая провисшей на тонких деревянных рамах сеткой, Дейрдре сидела совершенно неподвижно и никак не отреагировала ни на появление отца Мэттингли, ни на его голос, шепотом позвавший ее:
– Дейрдре.
Шею ее украшал кулон с великолепным изумрудом, а на пальце блестело кольцо с рубином. Те самые драгоценные камни, о которых слышал священник? Как не вязались они с бесформенным халатом.
Встреча с мисс Милли и мисс Нэнси была короткой. Отец Мэттингли чувствовал себя неловко… Да, Карл, разумеется, в своем офисе, работает. Да, на террасе действительно сидит Дейрдре. Теперь она живет дома, но разговаривать с ней бесполезно.
– Она совершенно лишилась разума, – с горькой улыбкой объяснила мисс Нэнси. – Вначале электрошок выбил из нее память, потом и все остальное. Теперь Дейрдре в таком состоянии, что, случись пожар, она, несомненно, сгорит вместе с террасой. Бедняжка то и дело ломает руки, пытается что-то сказать, но не может…
– Прекрати, Нэнси, – прошептала мисс Милли, слегка качнув головой и скривив рот, словно обсуждение таких подробностей свидетельствовало о дурном вкусе.
Она сильно состарилась и превратилась в такую же утонченную седовласую леди, какой когда-то была мисс Белл. Та давно уже умерла.
– Хотите еще кофе, святой отец? – словно стремясь сгладить неловкость, вызванную последним замечанием, спросила мисс Милли.
И все же, несмотря ни на что, женщина, сидевшая в кресле-качалке, оставалась красивой. Шоковая терапия не сделала седыми ее волосы. И глаза Дейрдре оставались все такими же голубыми, хотя сейчас их взгляд был совершенно пустым. Словно церковная статуя. «Отец, помогите мне». На изумруд упал свет, и камень вспыхнул, как маленькая звездочка.
В последующие годы отец Мэттингли редко приезжал на юг, но каждый раз неизменно навещал дом на Первой улице, хотя явственно ощущал, что ему отнюдь не рады. Извинения мисс Нэнси становились все более короткими, и тон их – все более резким. Иногда на его звонок вообще никто не выходил. Если мисс Карл была дома, визит ограничивался торопливым обменом несколькими фразами посреди пыльного зала и атмосфера была весьма натянутой. Ему больше не предлагали выпить кофе в беседке. Отец Мэттингли обратил внимание на толстый слой пыли, покрывавший великолепные люстры. Неужели они даже свет зажигать перестали?
Конечно, женщины постепенно старели. В 1979 году умерла Милли. Похороны были внушительными, и на них съехались родственники со всей страны.
А в прошлом году не стало и Нэнси. Сообщение о ее кончине, полученное от Джерри Лонигана, застало отца Мэттингли в Батон-Руж, и он успел на похороны.
Мисс Карл перевалило за восемьдесят – совсем старуха: костлявая, сухая как щепка, с крючковатым носом, седыми волосами, в очках с толстыми стеклами, из-за которых глаза казались непомерно большими; распухшие лодыжки выпирают из черных туфель со шнуровкой. Во время прощальной церемонии на кладбище она была вынуждена сидеть.
Сам дом неотвратимо разрушался. Когда отец Мэттингли проезжал мимо него на машине, его глазам предстало весьма безотрадное зрелище.
Дейрдре тоже изменилась – от ее хрупкой, тепличной красоты не осталось и следа. Усиленные попытки сиделок заставить ее ходить оставались тщетными: Дейрдре спотыкалась на каждом шагу, а вывернутые в запястьях, как у больных артритом, руки висели точно плети. Сиделки жаловались, что голова у Дейрдре постоянно падает набок, а рот всегда открыт.
Картина даже издали выглядела печальной. А драгоценные украшения на Дейрдре делали ее поистине зловещей. Бриллиантовые серьги в ушах живой статуи. А изумруд величиной с ноготь большого пальца, висевший у нее на шее? Отец Мэттингли, который превыше всего верил в святость человеческой жизни, вдруг подумал, что смерть была бы для Дейрдре благословением.
На следующий день после похорон Нэнси, проходя мимо старого дома, священник столкнулся с незнакомым англичанином, стоявшим у дальнего конца ограды.
Этот представительный человек сообщил, что его зовут Эрон Лайтнер, и без обиняков поинтересовался:
– Вам что-нибудь известно об этой несчастной женщине? Вот уже более десяти лет я вижу ее на этой террасе. Знаете, меня беспокоит ее судьба.
– Меня тоже, – признался отец Мэттингли. – Говорят, ей уже ничем нельзя помочь.
– Какая странная семья, – сочувственно произнес англичанин. – Сейчас так жарко. Как вы полагаете, ощущает ли она зной? На первый взгляд кажется, что ей не должно быть жарко, поскольку под потолком террасы установлен вентилятор. Однако он, похоже, сломан.
Отец Мэттингли сразу же проникся симпатией к англичанину. Напористый, уверенный в себе и в то же время весьма вежливый человек. И как хорошо одет: прекрасный полотняный костюм-тройка. Даже тросточка в руках. Облик Лайтнера заставил отца Мэттингли вспомнить элегантных джентльменов, прогуливавшихся когда-то по Сент-Чарльз-авеню или отдыхавших на передних террасах, наблюдая из-под полей соломенных шляп за прохожими… Да, то была другая эпоха.
Стоя под раскидистыми ветвями дуба, отец Мэттингли негромко беседовал с англичанином и при этом не переставал удивляться тому, как непринужденно и легко себя с ним чувствует. Похоже, все, о чем рассказывал священник: шоковая терапия, лечебницы, новорожденная дочь Дейрдре, увезенная в Калифорнию, – было хорошо знакомо мистеру Лайтнеру. Однако отец Мэттингли ни в коем случае не собирался упоминать о сплетнях Дейва Коллинза относительно Стеллы или «того человека». Повторять подобную чепуху было бы крайне глупо. К тому же услышанное в тот июльский вечер слишком уж тесно соприкасалось с тайнами, которые Дейрдре поведала ему на исповеди.
За разговорами священник не заметил, как они с Лайтнером оказались возле ресторана «Дворец командора». Англичанин пригласил отца Мэттингли на ленч. Для священника это было большим удовольствием. Он уже не помнил, когда обедал в дорогих новоорлеанских ресторанах вроде этого, со скатертями на столиках и льняными салфетками. Англичанин заказал превосходное вино.
Во время ленча он искренне признался, что интересуется историей семейств, подобных Мэйфейрам.
– В свое время у них была плантация на Гаити, давно, когда остров еще назывался Сан-Доминго. Думаю, что та плантация называлась на французский манер – Мауе Faire. Еще до восстания рабов на Гаити предки нынешних Мэйфейров нажили себе состояние на кофе и сахаре.
– Неужели вам известно столь далекое прошлое этого семейства? – удивленно спросил священник.
– Да, конечно. Об этом написано в книгах по истории, – пояснил Лайтнер. – Плантацией управляла сильная и властная женщина – Мари-Клодетт Мэйфейр Ландри, пошедшая по стопам своей матери Анжелики Мэйфейр. Но к тому времени на Гаити сменилось уже четыре поколения Мэйфейров. Первой на острове появилась Шарлотта, она приплыла из Франции еще в тысяча шестьсот восемьдесят девятом году. Ее дети-близнецы Петер и Жанна Луиза прожили по восемьдесят одному году.
– Неужели? Я и понятия не имел, что это такое старинное семейство.
– Я привожу вам лишь те факты, которые подтверждены документально, – слегка пожав плечами, откликнулся англичанин. – Самое интересное, что даже черные бунтари не осмелились сжечь плантацию. Мари-Клодетт удалось эмигрировать вместе со всей семьей и громадным состоянием. На берегу Миссисипи, ниже Нового Орлеана, они создали новое поместье – Ля Виктуар на Ривербенде. Думаю, они называли его просто Ривербенд.
– Там родилась мисс Мэри-Бет.
– Да! Правильно. Так, дайте-ка мне вспомнить. Кажется, это было в тысяча восемьсот семьдесят первом году. В конце концов река все-таки смыла их дом. А он был подлинным шедевром, с колоннами по всему периметру. В первых путеводителях по Луизиане даже поместили его фотографии.
– Хотел бы я их увидеть, – признался священник.
– Как вы знаете, дом на Первой улице они построили еще до Гражданской войны, – продолжал Лайтнер– Фактически его построила Кэтрин Мэйфейр, а позже в нем жили ее братья, Джулиен и Реми. Затем в этом доме обосновалась Мэри-Бет. Надо отметить, Мэри-Бет не любила сельскую жизнь. Если не ошибаюсь, именно Кэтрин вышла замуж за ирландского архитектора по фамилии Монехан, который впоследствии совсем еще молодым умер от желтой лихорадки. Вы знаете, наверное, что он построил здания нескольких банков в центре города. После его смерти Кэтрин не захотела оставаться на Первой улице – слишком тяжело переживала утрату.
– Кажется, я тоже слышал, давно правда, что тот дом спроектировал Монехан, – сказал священник, которому совсем не хотелось перебивать Лайтнера. – Я также слышал, что мисс Мэри-Бет…
– Да, не кто иная, как Мэри-Бет Мэйфейр, вышла замуж за судью Макинтайра, хотя тогда он был всего-навсего начинающим адвокатом. Их дочь Карлотта Мэйфейр ныне является главой этого дома. Кажется, так…
Отец Мэттингли слушал как завороженный. И причиной тому был не только его давний и болезненный интерес к Мэйфейрам. Его покорило обаяние Лайтнера и мелодичное звучание английской речи. Тема вполне невинная: только история – и никаких сплетен. Давно уже отцу Мэттингли не доводилось общаться с таким воспитанным человеком. О чем бы ни рассказывал англичанин, манера изложения отличалась объективностью и тактом.
И, сам того не желая, священник поведал Лайтнеру историю о маленькой девочке на школьном дворе и о неведомо откуда появившихся там цветах. Словно в утешение и оправдание самому себе, отец Мэттингли мысленно приводил довод, что в его рассказе нет ничего из услышанного когда-то на исповеди. И все же его мучило чувство стыда за собственную болтливость – и это после всего лишь нескольких глотков вина! Углубившись в воспоминания о той необыкновенной исповеди, священник потерял нить разговора. Внезапно мысли его перескочили на невероятный рассказ Дейва Коллинза о странностях семейства Мэйфейр, вызвавший столь гневную реакцию отца Лафферти. Вспомнился ему вдруг и тот факт, что отец Лафферти присутствовал при удочерении ребенка Дейрдре.
Интересно, предпринял ли отец Лафферти что-нибудь в связи со всей этой болтовней Дейва Коллинза? Сам отец Мэттингли так и не смог что-либо сделать.
Англичанин вполне терпеливо отнесся к паузе в рассказе священника. И неожиданно отца Мэттингли охватило ощущение, что этот человек прослушивает его мысли. Но ведь это совершенно невозможно! В противном случае о какой тайне исповеди вообще может идти речь?! И что тогда делать священникам?
Каким длинным казался тот день. Каким приятным, легким. В конце концов отец Мэттингли все же поделился с англичанином сведениями, полученными от Дейва Коллинза, и даже вспомнил о книжных иллюстрациях с изображениями «смуглого человека» и шабаша ведьм.
Англичанин слушал священника весьма заинтересованно и внимательно, ни разу не прервал его ни единой репликой, а только молча подливал вина или предлагал сигарету.
– И как прикажете все это понимать? – прошептал наконец отец Мэттингли.
Лайтнер молчал.
– Коллинз умер, а сестра Бриджет-Мэри, похоже, будет жить вечно. Ей уже под сто лет.
Англичанин улыбнулся.
– Вы имеете в виду ту сестру, с которой встретились тогда на школьном дворе?
К этому моменту отец Мэттингли уже сильно опьянел от выпитого вина, и это было весьма заметно. Перед его глазами, сменяя друг друга, мелькали испуганные девочки, школьный двор и разбросанные по асфальту цветы.
– Сейчас сестра Бриджет-Мэри находится в благотворительной лечебнице, – пояснил священник. – В прошлый приезд я навещал ее, собираюсь повидать и в этот раз. Теперь она стала заговариваться. Утверждает, будто не знает, с кем говорит. Старый Дейв Коллинз умер в баре на Мэгазин-стрит. Подходящее место. Друзья устроили ему пышные похороны в складчину.
Священник снова замолчал, думая о Дейрдре и ее исповеди. Англичанин коснулся его руки и прошептал:
– Вас это не должно тревожить.
Отец Мэттингли был ошеломлен. Сама возможность того, что кто-то способен читать его мысли, показалась ему едва ли не смешной. А ведь именно об этой способности Анты говорила когда-то сестра Бриджет-Мэри. Будто бы та могла слышать разговоры, происходящие в другом месте, и читать мысли людей… Неужели он рассказал англичанину и об этом?
– Да, вы рассказывали. Я хочу поблагодарить вас.
С Лайтнером они распрощались в шесть вечера напротив Лафайеттского кладбища. Наступило самое прекрасное время: солнце село и все вокруг постепенно возвращало полученное за день тепло. Но каким унынием веяло от этого места, от старых беленых стен и громадных магнолий, шелестящих над мостовой.
– А знаете, все Мэйфейры похоронены здесь, на этом кладбище, – сказал отец Мэттингли, кивая в сторону чугунных ворот. – Большой фамильный склеп на центральной дорожке, справа. Вокруг – невысокая витая чугунная ограда. Мисс Карл постоянно поддерживает в нем безупречный порядок. Там можно прочесть имена всех, о ком вы мне рассказывали.
Отцу Мэттингли следовало бы самому проводить англичанина до склепа, но пора было возвращаться в дом приходского священника. Его ждали в Батон-Руж, а оттуда он направится в Сент-Луис.
Лайтнер протянул ему визитку со своим лондонским адресом:
– Если вы когда-либо услышите об этой семье нечто такое, о чем сочтете нужным сообщить, пожалуйста, дайте мне знать.
Отец Мэттингли этого, естественно, делать не стал, а карточка вскоре куда-то исчезла. Однако священник долго еще с теплотой вспоминал об англичанине, хотя время от времени в его сознание закрадывались сомнения: кем же все-таки на самом деле был этот учтивый человек? Чего он хотел? Как было бы прекрасно, обладай все служители церкви такими мягкими, успокаивающими манерами. Этот англичанин словно все понимал.
Подходя к знакомому углу, отец Мэттингли вспомнил строчки из письма молодого священника. Дейрдре Мэйфейр угасает на глазах… Теперь она почти не двигается…
Но тогда хотелось бы знать, каким образом лишенная способности двигаться женщина могла разбушеваться тринадцатого августа? Как ей удалось перебить все стекла и перепугать санитаров?
По словам Джерри Лонигана, его шофер видел, как из окон летело и кружилось в воздухе все подряд: книги, часы, самые разные предметы. А какой шум она подняла! Выла словно зверь.
Как трудно поверить в возможность чего-либо подобного…
Но доказательства произошедшего прямо перед ним, в нескольких шагах.
Отец Мэттингли подошел к воротам старого дома. Стоя на деревянной лестнице, прислоненной к стене передней террасы, стекольщик в белом комбинезоне распределял ножом замазку. Все до единого высокие окна дома сияли новыми стеклами с наклеенной на них эмблемой фирмы-изготовителя.
В нескольких ярдах от него, на южной террасе, едва видная за грязной сеткой, сидела Дейрдре: безвольно склоненная набок голова опирается на спинку кресла-качалки, кисти рук вывернуты в запястьях… Кулон с изумрудом на шее вспыхнул на мгновение зеленой звездочкой.
Как же ей все-таки удалось разбить такие окна? Откуда в столь беспомощном создании взялось вдруг столько сил?
«Что за странные мысли приходят мне в голову!» – подумал священник, и внезапно его охватила какая-то неясная печаль. Ах, Дейрдре, бедная маленькая Дейрдре…
Каждый раз при виде ее отцу Мэттингли становилась грустно и горько. И тем не менее он знал, что не пойдет по дорожке из плитняка, ведущей к входу, не позвонит у двери лишь затем, чтобы в очередной раз услышать, что мисс Карл нет дома или что сейчас она не может его принять.
Его теперешний приход сюда был лишь своего рода личным покаянием. Более сорока лет назад субботним днем он совершил страшную ошибку, последствия которой непоправимы. Душевное здоровье маленькой девочки оказалось подорванным навсегда. И никакой визит в этом дом теперь уже ничего не изменит.
Отец Мэттингли долго стоял у ограды, слушая, как нож стекольщика чиркает по стеклам, разравнивая замазку. Странный звук на фоне тихой тропической природы. Священник чувствовал, как жара раскаляет его ботинки, проникает под одежду, и постепенно, позабыв о стекольщике, переключил внимание на мягкие, ласкающие краски влажного и тенистого мира, раскинувшегося вокруг.
Редкостное место. Дейрдре здесь лучше, чем в какой-нибудь стерильной больничной палате или среди подстриженных газонов, одинаковых и унылых, словно синтетический ковер. И что заставляло его думать, будто он мог бы сделать для нее то, что не удалось сделать столь многим врачам? А может, они и не пытались? Одному Богу известно.
Неожиданно отец Мэттингли заметил, что на террасе рядом с несчастной безумной женщиной сидит какой-то незнакомец: высокий, темноволосый, безупречно одетый, невзирая на сильную жару, молодой человек весьма приятной наружности. Должно быть, он только что появился на террасе; во всяком случае, секунду назад его там не было Наверное, кто-то из родственников приехал из Нью-Йорка или Калифорнии, чтобы навестить Дейрдре.
Отца Мэттингли приятно удивило поведение молодого человека, то, с какой нежностью и заботой он склонился к Дейрдре и как будто даже поцеловал ее в щеку. Да, действительно, поцеловал – даже отсюда, из тени тротуара, священник отчетливо видел это и был тронут до глубины души. Представшая его глазам картина взволновала его и в то же время заставила испытать чувство необъяснимой грусти.
Стекольщик закончил свою работу, сложил лестницу и, миновав ступени главного входа и террасу, пошел в дальний конец сада.
Визит священника тоже подошел к концу. Он совершил покаяние. Теперь можно возвращаться на раскаленную мостовую Констанс-стрит, а потом в прохладу дома приходского священника. Отец Мэттингли медленно повернулся и пошел по направлению к перекрестку.
Лишь один раз он обернулся и бросил короткий взгляд на старый дом. На террасе была только Дейрдре. Но молодой человек, конечно же, скоро вернется. Священника до глубины сердца потряс тот нежный поцелуй. Как приятно видеть, что даже сейчас кто-то продолжает любить эту заблудшую душу, которую он, отец Мэттингли, так и не сумел спасти.
4
Кажется, сегодня вечером она должна была что-то сделать… Вроде бы кому-то позвонить, причем по важному делу. Но после пятнадцати часов дежурства, двенадцать из которых она провела в операционной, память отказывалась ей служить.
Пока она еще не была Роуан Мэйфейр с ее личными заботами и печалями. Пока она была лишь доктором Мэйфейр, опустошенной, словно вымытая лабораторная пробирка. С дымящейся сигаретой во рту, засунув руки в карманы грязного белого халата и взгромоздив ноги на соседний стул, она сидела в кафетерии для врачей и слушала обычный разговор нейрохирургов, оживленно обсуждавших все волнующие моменты прошедшего дня.
Негромкие взрывы смеха, гул множества одновременно звучавших голосов, запах спирта, шелест накрахмаленных халатов, сладковатый аромат сигарет – все так привычно. Приятно посидеть здесь, ни о чем не думая, просто глядя на блики света на грязном пластике стола, на таких же грязных линолеумных плитках пола и не менее грязных бежевых стенах. Приятно оттянуть тот момент, когда вновь включится разум, вернется память и мысли забурлят в голове, принося с собой ощущение тяжести и отупелости.
По правде говоря, день сегодня прошел почти идеально – вот почему у нее так гудят ноги. Ей пришлось, одну за другой, сделать три неотложные операции, начиная с человека, которого привезли в шесть утра с огнестрельной раной, и кончая жертвой дорожной аварии, попавшей ей на стол четыре часа назад. Если каждый день будет похож на этот, ее жизнь и впрямь сделается на редкость замечательной.
В том состоянии расслабленности, в каком она сейчас пребывала, доктор Роуан Мэйфейр это сознавала. После десяти лет, отданных учебе в медицинском колледже, а затем интернатуре и стажировке, она стала тем, кем всегда хотела быть: врачом-нейрохирургом. Точнее – лицензированным штатным нейрохирургом в Центре нейротравматологии громадной университетской клиники, где в течение всего дежурства ей была обеспечена напряженная работа. Сюда на операционный стол попадали главным образом жертвы различных происшествий и катастроф.
Надо признаться, она не могла избавиться от чувства гордости и торжества и буквально упивалась своей первой рабочей неделей, столь отличавшейся от будней усталого и измотанного старшего стажера, которому половину операций приходилось выполнять под чьим-то наблюдением.
Даже неизбежная говорильня теперь не казалась столь уж невыносимой: сначала отчет в операционной, диктовка анализа проведенной операции, затем продолжительный неформальный разбор ее в кафетерии для медперсонала. Роуан с симпатией относилась к работавшим рядом с ней врачам. Ей нравились сияющие лица интернов Петерса и Блейка. Ребята появились здесь недавно и смотрели на Роуан едва ли не как на волшебницу. Ей нравился доктор Симмонс, старший стажер, постоянно нашептывавший ей страстным голосом, что она лучший врач на хирургическом отделении и что эту точку зрения поддерживают все операционные сестры. Ей нравился доктор Ларкин, которого его питомцы называли просто Ларк. В течение всего прошедшего дежурства он заставлял Роуан давать всякого рода пояснения и комментарии:
– Ну давай же, Роуан, объясни все подробно. Ты должна рассказывать этим ребятам о том, что делаешь. Джентльмены, обратите внимание: перед вами единственный нейрохирург во всем западном мире, которая не любит говорить о своей работе.
Не любит – это еще мягко сказано. Роуан, обладавшая врожденным недоверием к языку, ненавидела словесные упражнения, поскольку с безупречной ясностью могла «слышать» то, что скрывалось за словами. К тому же она не умела толково объяснять.
Слава Богу, сейчас все переключились на сегодняшнюю виртуозную операцию Ларкина, удалившего менингиому, и Роуан могла пребывать в своем блаженно-изможденном состоянии, наслаждаться вкусом сигареты, пить отвратительный кофе и смотреть на яркие блики светильников на пустых стенах.
Правда, сегодня утром она велела себе не забыть о каком-то деле, касавшемся лично ее, о каком-то телефонном звонке, который почему-то был для нее важен. Что же это за дело? Ничего, как только она выйдет за ворота клиники, все вспомнится.
А выйти за ворота клиники Роуан могла в любую секунду. Как-никак теперь она штатный хирург, и ей незачем проводить в клинике более пятнадцати часов. Роуан уже не придется спать урывками в дежурке и поминутно бегать в операционную, чтобы просто проверить, все ли там в порядке. Все, что не входит в круг ее обязанностей, оставлено на ее усмотрение – именно об этом она и мечтала.
Года два назад, нет, пожалуй, даже меньше, она сейчас не сидела бы здесь, а на пределе скорости мчалась бы через Голден-Гейт, сгорая от желания поскорее снова стать Роуан Мэйфейр, чтобы оказаться в рулевой рубке «Красотки Кристины» и, держа одной рукой штурвал, выводить яхту из залива Ричардсона в открытое море. Только пройдя все каналы и установив автопилот на продолжительное круговое плавание, Роуан позволяла себе спуститься в каюту, где дерево стен блестело не хуже начищенной меди, и, поддавшись усталости, повалиться на двуспальную тахту. Погрузившись в короткий сон, Роуан тем не менее продолжала слышать каждый звук на скользящей по воде яхте.
Но все это было до того, как Роуан приобрела зависимость (в положительном смысле, разумеется) от сотворения чудес за операционным столом. Исследовательская работа все равно не утратила для нее своей притягательности. Элли и Грэм, ее приемные родители, были тогда еще живы, а дом со стеклянными стенами, стоящий на берегу Тайбурона, еще не превратился в мавзолей, заполненный книгами и одеждой его прежних обитателей.
Чтобы добраться до «Красотки Кристины», Роуан должна была проходить через этот мавзолей. Ей неизбежно приходилось вынимать из ящика письма, все еще приходившие на имя Элли и Грэма. Кажется, пару раз им даже оставляли сообщение на автоответчике – видно, звонил кто-то из иногородних друзей, не знавших, что Элли умерла от рака в прошлом году, а Грэм скончался двумя месяцами раньше, так сказать, от «удара». В память о приемных родителях Роуан продолжала поливать папоротники. Когда-то Элли включала для них музыку. Роуан по-прежнему ездила на «ягуаре» Грэма, ибо ей было как-то неудобно продать машину. До письменного стола своего приемного отца Роуан так и не дотрагивалась.
Удар… Само это слово всегда вызывало у Роуан тягостное и мрачное ощущение… Нет, она не будет вспоминать о Грэме, умиравшем на кухонном полу. Она будет думать о победах прошедшего дня: «За пятнадцать часов ты сохранила три жизни, а другие врачи могли бы отправить этих людей на тот свет. Ты участвовала в спасении других жизней, квалифицированно помогая своим коллегам. А сейчас те трое твоих пациентов спят в палатах отделения интенсивной терапии. Ты сохранила им зрение, речь и способность двигаться».
О большем Роуан не могла и просить. Пусть будет так, чтобы ей не пришлось заниматься пересадкой тканей и удалением опухолей. Пусть ей оставят критические случаи. Она жаждала делать именно такие операции. Роуан нуждалась в них. Домой она уезжала лишь ненадолго – чтобы снять усталость, дать отдых глазам, ногам и, конечно же, мозгу. И еще – чтобы провести уик-энд в открытом море, на борту «Красотки Кристины».
Сейчас Роуан отдыхала на большом «корабле», именуемом клиникой, – та действительно чем-то напоминала подводную лодку, беззвучно двигавшуюся сквозь время. Здесь никогда не выключали свет, никогда не менялась температура и всегда мерно стучали двигатели. А они, врачи, – это крепко спаянная команда. «Какие бы чувства ни испытывал каждый из нас, – думала Роуан, – будь то гнев, презрение или соперничество, мы связаны воедино, и это не что иное, как одна из разновидностей любви, хотим мы того или нет».
– Вы что, рассчитываете на чудо? – недовольно спросил ее этим вечером заведующий отделением экстренной помощи. От усталости у него остекленели глаза. – Снимите-ка лучше эту пациентку со стола и поберегите силы для тех, кому вы действительно сможете помочь!
– Я действительно рассчитываю на чудо, – ответила Роуан. – Мы удалим из ее мозга осколки стекла и грязь и только тогда снимем ее со стола.
Как объяснить заведующему, что, едва положив руки на плечи этой женщины, она «услышала» тысячи маленьких сигналов о том, что пациентку можно спасти. Роуан обладала безошибочным диагностическим чутьем и потому заранее представляла себе картину, которая возникнет перед ее глазами в ходе операции. Когда кусочки кости будут осторожно извлечены из перелома и заморожены для последующего приживления, когда разорванная оболочка мозга будет разрезана вдоль и мощный хирургический микроскоп увеличит находящуюся под ней поврежденную ткань, в этой ткани окажется масса живых мозговых клеток, здоровых, действующих. Надо лишь откачать кровь и прижечь крошечные поврежденные сосуды, чтобы прекратить кровотечение.
Такую же уверенность испытала Роуан и в тот день, когда вытащила из воды и подняла на палубу яхты утонувшего человека по имени Майкл Карри. Коснувшись его холодного, посеревшего тела, она явственно ощутила в нем биение жизни.
Майкл Карри, утопленник… Ну конечно, теперь она вспомнила. Надо позвонить его врачу. Доктор, лечивший Карри, оставил сообщение для нее сразу на двух автоответчиках: больничном и домашнем.
Прошло уже более трех месяцев… В тот холодный майский вечер все вокруг окутал настолько густой туман, что сквозь его завесу не видно было ни единого проблеска огней оставшегося вдали города. А утопленник на борту «Красотки Кристины» на вид был таким же мертвым, как любой из трупов, которые приходилось видеть Роуан.
Она затушила сигарету.
– Счастливо оставаться, коллеги. В понедельник, в восемь утра, – напомнила она, обращаясь уже к интернам, и, увидев, что они поднимаются со своих мест, чтобы попрощаться с ней, добавила: – Нет-нет, вставать не надо.
Доктор Ларкин поймал ее за рукав, а в ответ на ее попытку вырваться лишь крепче сжал пальцы.
– Не ходила бы ты в одиночку на своей яхте, Роуан.
– Оставьте, шеф. – Она еще раз попробовала высвободиться. Не получилось. – Я хожу на этой яхте с шестнадцати лет.
– Все равно, Роуан, нельзя рисковать. А вдруг ты обо что-нибудь ударишься головой или свалишься за борт?
Она ответила на эти слова негромким вежливым смешком (хотя такие разговоры не вызывали ничего, кроме раздражения) и, выйдя наконец из кафе, направилась мимо лифтов (ползут еле-еле) к бетонной лестнице.
И все таки, прежде чем уйти, стоит еще разок заглянуть на отделение интенсивной терапии, где лежат три сегодняшних пациента. Неожиданно Роуан почувствовала, что ей не хочется покидать клинику, а мысль о том, что она не вернется сюда до понедельника, показалась ей тем более тягостной.
Засунув руки в карманы, Роуан быстро пробежала два марша вверх.
Ярко освещенные коридоры четвертого этажа в противоположность неизбежной суете отделения экстренной помощи были на удивление тихими. В приемной, устланной темным ковром, на кушетке спала какая-то женщина. Пожилая медсестра на посту в коридоре успела лишь кивнуть стремительно прошедшей мимо нее Роуан. В те суматошные дни, когда Роуан была интерном и дежурила, ожидая очередного вызова, она, вместо того чтобы попытаться уснуть, ночи напролет бродила по бесконечным коридорам многоэтажной «подводной лодки», прислушиваясь к тихому, убаюкивающему гудению множества приборов и агрегатов.
Скверно, что шеф знает о существовании «Красотки Кристины», подумала Роуан. Скверно, что тогда, в день похорон ее приемной матери, вне себя от страха и отчаяния, она пригласила шефа домой, а потом они вместе вышли в море и пили вино, сидя на палубе под голубым небом Тайбурона. И тем более скверно, что под влиянием момента, когда все вокруг казалось пустым и холодным, она призналась Ларку, что не хочет больше жить в этом доме и практически переселилась на яхту. Мало того, Роуан добавила, что порой яхта для нее олицетворяет весь мир и она выводит «Красотку» в море после каждого дежурства, сколь бы длинным оно ни было и какую бы усталость она ни ощущала.
Какой смысл делиться с другими своими переживаниями? Разве от этого ей стало хоть чуточку легче? Пытаясь утешить ее, Ларк городил одну затертую фразу на другую. А потом вся клиника узнала о «Красотке Кристине». Сама же Роуан теперь уже не была прежней «молчаливой Роуан», а превратилась в приемную дочь Роуан, в считанные месяцы одного за другим потерявшую своих воспитателей и с тех пор находящую утешение в одиноких странствиях по морю на огромной яхте. А еще она стала Роуан, «не принимающей приглашений Ларка на обед», тогда как любая одинокая женщина-врач могла об этом только мечтать и, конечно же, моментально бы согласилась.
Беда в том, что зачастую Роуан и сама себя не понимала. А что бы сказали ее коллеги о мужчинах, которым она отдавала предпочтение, о всех этих мужественных защитниках закона и героях борьбы с огнем – полицейских и пожарных? Как правило, Роуан находила себе партнеров в шумных, но не пользующихся дурной репутацией окрестных барах – мужчин крепких, с грубоватым голосом, мощным торсом и сильными руками… Да… знали бы ее коллеги о том, какие любовные сцены разыгрываются подчас в нижней каюте «Красотки Кристины»… И зачастую свидетелем их оказывается свисающий с крюка на стене полицейский револьвер тридцать восьмого калибра в черной кожаной кобуре.
А беседы, которые они вели… Нет, правильнее назвать их монологами, ибо эти мужчины, как и нейрохирурги, отчаянно нуждались в человеке, готовом внимательно выслушать их исповедь, повествование об опасностях и геройских поступках, о мастерстве и сноровке. Форменные рубашки этих людей пахли мужеством. А их рассказы звучали как песни о жизни и смерти.
Почему она выбирала именно таких мужчин? Именно этот вопрос задал ей однажды Грэм и довольно резко добавил:
– Неужели они нравятся тебе своей тупостью, невежеством и бычьими шеями? А что будет, если один из них когда-нибудь съездит своим мясистым кулаком тебе по физиономии?
– Что будет, то и будет, – холодно ответила Роуан, даже не потрудившись обернуться и взглянуть Грэму в глаза– Между прочим, они не позволяют себе ничего подобного. Они спасают жизни – и этим мне нравятся. Я люблю героев.
– Такая болтовня пристала разве что глупой четырнадцатилетней девчонке, – язвительно бросил Грэм.
– Ошибаешься, – ответила Роуан. – Когда мне было четырнадцать, я считала героями адвокатов вроде тебя.
В глазах Грэма мелькнула горечь, и он отвернулся… Теперь, более чем через год после его смерти, перед Роуан вновь на мгновение возникло его лицо, подняв в душе волну такой же горечи. Вкус Грэма, запах Грэма и, наконец, Грэм в ее постели… Ведь если бы Роуан так и не уступила ему, он ушел бы из дома еще до смерти Элли.
– Только не говори, что ты никогда этого не хотела, – сказал он ей тогда, лежа на мягкой пуховой перине в каюте «Красотки Кристины». – Пошли они ко всем чертям, эти твои борцы с огнем и копы.
Нет, давно пора прекратить вести с ним мысленный спор… «Перестань думать о нем, – в который уже раз приказала себе Роуан. – Элли даже не подозревала, что ты ему отдалась, и не знала причин, побудивших тебя это сделать. Главное, что Элли так и осталась в неведении. А сейчас ты не в доме Элли. И даже не на борту подаренной тебе Грэмом яхты. Вокруг тебя безопасный, спокойный стерильный мир. А Грэм мертв и похоронен на маленьком кладбище в Северной Калифорнии. И не важно, как он умер, потому что правду об этом тоже не знает никто. Не впускай его дух в машину, когда садишься в нее и поворачиваешь ключ зажигания, – ее вообще следовало бы давным-давно продать. Не позволяй его духу присутствовать в сырых и холодных комнатах еще недавно вашего общего дома…»
Тем не менее Роуан упорно собирала все новые и новые доказательства в свою защиту и мысленно продолжала бесконечный спор с Грэмом, смерть которого навсегда лишила ее реальной возможности высказаться. Ненависть и ярость породили в воображении девушки некий призрак приемного отца – с ним она и вела беседы. Постепенно призрак слабел и таял, однако по-прежнему подстерегал ее в самых неожиданных местах и даже здесь, в тихих коридорах ее уютного мира.
Ах, как бы ей хотелось заявить Грэму прямо в лицо: «Я в любой день могу снова найти таких мужчин. Я приму их вместе с их эго и вспыльчивостью, с их невежеством и бесшабашным чувством юмора. Я приму их грубость, их бесхитростную и страстную любовь к женщинам и их страх перед представительницами противоположного пола. Я готова терпеливо слушать их нескончаемые рассказы. Слава Богу, в отличие от нейрохирургов они не ждут от меня никаких ответных слов. Этих мужчин вообще не интересует, кто я такая. Я могу назваться специалисткой по ракетам, шпионкой высокого ранга, колдуньей с тем же успехом, что и нейрохирургом». Роуан представила удивленный взгляд и вопрос: «Ты чего, в самом деле копаешься в человеческих мозгах?»
Зачем ей самой нужно все это?
Надо признаться, сейчас Роуан понимала «мужской вопрос» лучше, чем в момент их разговора с Грэмом. Она осознала взаимосвязь между собой и героями в форме. Когда она входила в операционную, надевала перчатки и брала в руки микрокоагулятор и микроскальпель, это напоминало проникновение в горящий дом или появление в разгар семейного скандала, чтобы выбить оружие из рук обезумевшего главы семейства и спасти его жену и ребенка.
Сколько раз Роуан слышала, как нейрохирургов сравнивали с пожарными, хотя зачастую в таком сравнении таилась замаскированная критика. Различие заключалось только в том, что за операционным столом твоя жизнь не поставлена на карту. Да, черт побери, не поставлена. Но все равно, если ты будешь допускать один промах за другим, если серьезные ошибки будут повторяться часто, ты непременно погибнешь, как если бы на тебя обрушилась горящая крыша. Ты выживаешь, лишь будучи блестящим специалистом, мужественным и совершенным, поскольку другого способа выжить попросту нет, и каждое мгновение в операционной – это смертельное испытание.
Да, именно мужество, потребность в стрессовых ситуациях и любовь к оправданной обстоятельствами опасности сближали Роуан с ее избранниками. Наверное, поэтому ей так нравилось ощущать на себе тяжесть тел этих грубых мужчин, целовать и ласкать их самым беззастенчивым образом.
Немаловажно и то, что не было необходимости вести с ними умные беседы.
Но что толку в понимании, если вот уже несколько месяцев – да почти полгода! – она никого не звала к себе в постель? Иногда Роуан вдруг приходила в голову мысль: а что об этом думает «Красотка Кристина»? Может, шепчет ей в темноте: «Роуан, где же наши мужчины?»
Чейз, светловолосый полицейский с оливкового цвета кожей, сильный как жеребец, до сих пор оставлял ей сообщения на автоответчике. Но у Роуан не было времени ему позвонить. А он, надо признаться, очень приятный парень, да к тому же и книги любит читать. Однажды у них с Роуан даже состоялся настоящий разговор, когда она мимоходом упомянула о том, что в отделение экстренной помощи поступила женщина, в которую стрелял собственный муж. Чейз тут же зацепился за эту тему и рассказал столько всевозможных случаев, связанных со стрельбой и ударами ножом, что вскоре Роуан была сыта ими по горло. Может, поэтому она и не звонила ему? Скорее всего.
Но факт есть факт: в последнее время нейрохирург одержал в ней верх над женщиной, причем победа оказалась столь бесспорной, что Роуан недоумевала, с чего это она вдруг вспомнила сегодня о своих прежних партнерах по сексу. Возможно, в этот раз она не так сильно устала, как обычно. Или причиной тому утонувший красавец, которого ей удалось вытащить с того света? Даже тогда, на палубе яхты, мокрый, бледный, со слипшимися на голове темными волосами, этот Майкл Карри был совершенно неотразим Вот почему вспыхнувшее внутри Роуан страстное желание было на удивление сильным.
Да, если вспомнить их девчоночий школьный жаргон, этот Майкл – парень «просто помереть», поистине восхитительный и полностью соответствует ее типу мужчины. Он был не из тех завсегдатаев калифорнийских гимнастических залов, обладателей чрезмерно накачанных мускулов, неестественного загара и крашеных волос. Нет, этот сильный человек явно вышел из рабочей среды. А голубые глаза и веснушки на щеках делали его еще более очаровательным. Роуан буквально сгорала от желания поцеловать каждую веснушку.
Ну что за ирония судьбы: выловить из моря превосходный экземпляр мужчины, о котором всегда мечтала, и только лишь затем, чтобы тут же обнаружить, что он абсолютно беспомощен…
Роуан остановилась перед входом в отделение интенсивной терапии, осторожно открыла дверь и, войдя внутрь, ненадолго замерла, оглядывая странный, застывший в ледяной неподвижности мир палат, похожих на огромные аквариумы. Здесь под пластиковыми кислородными колпаками в сонном забытьи лежали изнуренные страданиями пациенты, опутанные бесконечной сетью трубок и кабелей, тянущихся к попискивающим мониторам.
Мозг Роуан сразу же переключился на цель ее прихода сюда. Мир за пределами отделения перестал существовать, как он переставал существовать за стенами операционной.
Она подошла к освещенному люминесцентной лампой письменному столу и слегка коснулась рукой плеча медсестры, склонившейся над кипой бумаг.
– Добрый вечер, Лорел, – прошептала Роуан.
Женщина подняла на нее удивленный взгляд, но, узнав Роуан, улыбнулась:
– Доктор Мэйфейр, надо же, вы до сих пор здесь.
– Просто зашла взглянуть.
К среднему медперсоналу Роуан относилась намного мягче, чем к докторам. С самого начала своей интернатуры она проявляла максимальное уважение к медсестрам и сиделкам, делая все возможное, чтобы хоть в какой-то мере заглушить в них известное презрение к женщинам-врачам. Надо отметить, что в данном случае ею руководили не только эмоции, но и трезво выверенный, безжалостный расчет: все те, от кого так или иначе зависели жизнь и здоровье пациентов, должны работать с максимальной отдачей, столь же самоотверженно, как и сама Роуан.
Войдя в первую палату, Роуан остановилась возле высокой блестящей металлической кровати – этакого чудовища на колесах, – на которой лежала последняя прооперированная в тот день Роуан пациентка. Женщина попала в автокатастрофу. Бледная, с громадным белым тюрбаном из бинтов на голове, она походила на мумию – единственными признаками жизни были лишь негромкое монотонное попискивание приборов и перемигивание неоновых лампочек. К ее носу тянулась тонкая прозрачная трубочка, а через иглу, плотно закрепленную на запястье пациентки, в вену капала глюкоза.
Лорел потянулась, чтобы снять график состояния больной, висевший в изножий кровати. Роуан покачала головой: не надо.
Словно возвращаясь из другой жизни, женщина медленно открыла глаза.
– Доктор Мэйфейр, – прошептала она.
По телу Роуан пробежала приятная волна облегчения. Она снова переглянулась с медсестрой и с улыбкой тихо произнесла:
– Я здесь, миссис Трент. Вы очень хорошо держитесь. – Потом осторожно обхватила пальцами правую руку пациентки. – Да, очень хорошо.
Глаза женщины медленно закрылись, словно лепестки цветов. Приборы вокруг кровати продолжали петь все ту же песню.
Роуан удалилась так же беззвучно, как и вошла.
Бросив взгляд в окно второй палаты, она увидела фигуру другого пациента: смуглокожего мальчишки, тощего, как тростинка. Стоя на платформе, он пошатнулся, потерял равновесие и упал под колеса пригородного поезда. Последствием черепно-мозговой травмы стала полная слепота.
Этого парня Роуан оперировала в течение четырех часов, сшивая тончайшей иглой кровоточащий сосуд, а затем устраняя другие повреждения черепа. В отделении для послеоперационных больных парнишка еще находил в себе силы шутить со стоящими вокруг него врачами.
Сейчас Роуан, сощурившись, внимательно следила за едва заметными движениями спящего пациента: вот дернулось под простынями его правое колено, а вот приподнялась ладонь правой руки, когда он поворачивался на бок… Слегка высунув язык и едва шевеля сухими губами, мальчик что-то шептал во сне.
– Идет на поправку, доктор, – прошептала сзади медсестра.
Роуан кивнула. Однако она знала, что через несколько недель у парня начнутся припадки. С помощью лекарств их можно будет ослабить, но эпилептиком он останется до конца своих дней. Впрочем, это явно лучше, чем смерть или слепота. Прежде чем что-либо предсказывать или объяснять, она будет ждать и наблюдать. В конце концов, всегда есть вероятность, что она ошибается в своих прогнозах.
– А как миссис Келли? – спросила Роуан, повернувшись лицом к медсестре и глядя ей в глаза.
Лорел была добросовестной и внимательной, и Роуан относилась к ней с большой симпатией.
– Миссис Келли находит забавным, что у нее в голове по-прежнему сидят две пули, и говорит, что чувствует себя заряженным револьвером. Она не хочет, чтобы ее дочь уходила. К тому же миссис Келли желает знать, что случилось с тем «уличным подонком», который стрелял в нее. Еще ей нужна дополнительная подушка, а также телевизор и телефон в палате.
Роуан негромко одобрительно рассмеялась.
– Хорошо. Быть может, завтра, – сказала она.
Оттуда, где стояла Роуан, ей была хорошо видна миссис Келли, разговаривавшая с дочерью. Не в состоянии оторвать голову от подушки, она возбужденно жестикулировала правой рукой, а дочь, худощавая усталая женщина, опустив веки, кивала в такт каждому ее слову.
– Она очень заботливо относится к матери, – прошептала Роуан. – Пусть остается в палате столько, сколько захочет.
Медсестра кивнула.
– Ну что ж, Лорел, я прощаюсь с вами до понедельника, – сказала Роуан. – Не знаю, понравится ли мне этот новый график.
– Вы заслужили отдых, доктор Мэйфейр, – улыбнулась в ответ медсестра.
– Вы так думаете? – пробормотала Роуан. – И все же, если возникнет какая-нибудь проблема, Лорел, вы можете попросить доктора Симмонса позвонить мне. В любое время. Договорились?
Двойные двери с мягким звуком закрылись за спиной Роуан. Да, хороший был денек.
Теперь, кажется, больше нет причин оставаться в клинике, разве что сделать несколько заметок в личном дневнике и прослушать по автоответчику у себя в кабинете поступившие звонки. Возможно, она немного отдохнет на кожаной кушетке. Кабинет штатного врача выглядел намного роскошнее тесных и неуютных дежурок, в которых она не один год спала урывками.
Но нет, нужно ехать домой. Следует позволить теням Грэма и Элли приходить и уходить когда пожелают.
Ну вот, опять забыла о Майкле Карри, а ведь сейчас уже почти десять вечера! Она должна как можно скорее позвонить доктору Моррису, говорила себе Роуан, медленно проходя по коридору мимо лифтов к бетонной лестнице, а потом и дальше, двигаясь зигзагами по громадной спящей клинике, лишь совсем недавно взявшей ее под свое крыло. И тут же пыталась успокоить собственную совесть: нечего пороть горячку, ничего срочного нет.
И все же Роуан не терпелось услышать, что скажет Моррис, узнать новости о единственном на данный момент мужчине в ее жизни. О человеке, которого она совсем не знала и не видела почти четыре месяца, с того самого дня, когда ее отчаянные, неистовые усилия завершились поистине невероятным, необъяснимым и случайным спасением Майкла Карри из бурлящих морских вод.
В тот вечер она пребывала в состоянии почти полного отупения от усталости. Обычное в последний месяц ее стажировки дежурство растянулось на тридцать шесть часов, и за все это время ей удалось выкроить для сна не больше часа. Но все шло замечательно до тех пор, пока Роуан не заметила в воде тело утопленника.
«Красотка Кристина» медленно плыла, едва заметно покачиваясь на вздымающихся океанских волнах. Над головой набрякло тяжелое свинцовое небо. За окнами рулевой рубки завывал ветер. Но для сорокафутовой двухмоторной яхты, построенной в Голландии специально для океанского плавания, штормовые предупреждения, адресованные мелким судам, не имели значения. Ее мощный стальной корпус, рассчитанный на любые превратности стихии, плавно скользил по бурлящей поверхности воды. Откровенно говоря, управлять в одиночку такой яхтой было непросто, но Роуан плавала на «Красотке» с шестнадцатилетнего возраста и отлично знала все ее повадки.
Вывести такую махину со стоянки или поставить на якорь без посторонней помощи, казалось, невозможно, однако в распоряжении Роуан был достаточно широкий и глубокий канал, прорытый неподалеку от ее дома в Тайбуроне, а также собственный причал и собственная, тщательно разработанная система управления яхтой. Когда нос «Красотки Кристины» разворачивался в сторону Сан-Франциско и она ложилось на обратный курс, одной женщины на мостике, знавшей и понимавшей все разнообразие сигналов судовой электроники, было вполне достаточно.
«Красотка Кристина» строилась в расчете не на скорость, а на надежность. И в тот день яхта, как всегда, была экипирована так, что хоть сейчас отправляйся в кругосветное плавание.
В тот майский день сумрачное небо скрадывало дневной свет еще тогда, когда Роуан проходила под «Голден-Гейт». Когда же очертания города исчезли, яхту окутали плотные сумерки.
Темнота опускалась с какой-то механической монотонностью. Цвет океана сливался с цветом неба. Было очень холодно, и Роуан даже внутри рубки не снимала шерстяных перчаток и шапочки. Чашку за чашкой она пила дымящийся кофе, который, однако, ни на йоту не прибавлял ей бодрости. Взгляд Роуан, как всегда, был сосредоточен на водном пространстве.
Вот тогда-то она и заметила Майкла Карри, а точнее, обратила внимание на крохотное пятнышко впереди. Неужели человек?
Он качался на волнах лицом вниз. Согнутые в локтях кистями к голове неподвижные руки, спутавшиеся черные волосы, выделявшиеся на фоне серых волн… Слегка вздутый ветром плащ с поясом, коричневые каблуки ботинок… И никаких признаков жизни…
В самые первые секунды Роуан могла определенно сказать лишь одно: перед нею не труп, уже успевший разложиться. Как бы ни были бледны руки этого мужчины, они еще не распухли от долгого пребывания в воде. Он мог упасть за борт с какого-нибудь судна – но как давно это случилось? Быть может, прошли считанные минуты, а может – несколько часов. Следовало без промедления связаться с береговой охраной, дать им координаты и попытаться поднять утопленника на борт.
Как всегда в таких случаях, корабли береговой охраны находились в нескольких милях от яхты, а все спасательные вертолеты были заняты. По причине штормового предупреждения в море не вышло ни одно мелкое суденышко. Туман становился все гуще. Помощь прибудет, как только появится возможность, но никто не знал, когда именно она появится.
– Я постараюсь вытащить его из воды, – сообщила Роуан, связавшись с береговой охраной. – Я одна на борту, так что поторопитесь.
Не было необходимости объяснять, что она врач и потому хорошо знает, что в здешних водах люди, упавшие или смытые волной за борт, могли еще долго оставаться живыми. Низкая температура замедляла обменные процессы в организме, отчего мозг засыпал, требуя лишь незначительного количества кислорода и крови. Сейчас самым важным было поднять человека на палубу и как можно скорее оказать ему помощь.
Роуан еще не приходилось в одиночку заниматься спасением утопающих. Правда, на яхте имелось необходимое снаряжение: специальные жилеты, прикрепленные к толстому нейлоновому канату. Канат наматывался на барабан механической лебедки, установленной на крыше рулевой рубки. Иными словами, спасательных средств хватало. Но достанет ли у Роуан сил, чтобы его поднять? Вот здесь она как раз могла потерпеть неудачу.
Роуан быстро натянула резиновые перчатки и спасательный жилет, затем пристегнула свой жилет и приготовила второй для утопленника. Она проверила все снаряжение, вплоть до каната, соединенного с надувной спасательной лодкой, и убедилась в его надежности. После этого Роуан опустила лодку за борт «Красотки Кристины» и начала спускаться, не обращая внимания на бушующее море, бешено раскачивающуюся веревочную лестницу и холодные брызги, летящие в лицо.
Человека несло в ее направлении. Изо всех сил налегая на весла, Роуан постепенно приближалась к нему, однако волны почти накрывали лодку. На какое-то мгновение мелькнула мысль: бесполезно. Но Роуан не собиралась сдаваться. Наконец, едва не выпав из маленькой лодки, Роуан дотянулась до руки утопленника, ухватилась за нее и подтащила тело поближе. Только бы правильно нацепить на него этот дурацкий жилет!
Вода снова чуть не захлестнула лодку, и она резко дернулась, отчего Роуан выпустила руку утопленника и тут же потеряла его из виду. Волна отнесла лодку в сторону. Вскоре мужчина вновь всплыл на поверхность. На этот раз Роуан ухватила его левую руку и натянула на нее жилет, перебросив его через голову и левое плечо. Но таким же образом нужно было надеть его и на правую руку, а потом надежно закрепить, если она хочет поднять мужчину на борт. Намокшая одежда заметно увеличивала и без того, судя по всему, немалый вес тела.
Все это время Роуан отчаянно пыталась рассмотреть наполовину скрытое под водой лицо, но пока безуспешно. Тем не менее при каждом прикосновении к холодной руке мужчины срабатывало присущее доктору Мэйфейр диагностическое чутье и внутренний голос говорил: «Да, он жив, его можно вернуть. Поднимай его на палубу».
Сильное волнение долго не позволяло что-либо сделать. И вот наконец Роуан удалось поймать правый рукав плаща, схватить руку и натянуть на нее жилет. Она быстро защелкнула зажимы.
Лодка опрокинулась, сбросив и ее в море. Роуан хлебнула воды, потом ее вынесло на поверхность, и холодный ветер мгновенно проник сквозь мокрую одежду. У Роуан перехватило дыхание. Сколько ей удастся продержаться в такой воде? Главное сейчас – не потерять сознание! Теперь утопленник был столь же надежно привязан к лодке, как и она сама. Если посчастливится добраться до веревочной лестницы и не лишиться чувств, его можно будет втащить на борт. Крепко вцепившись в канат, она стала подтягиваться к борту яхты, которая маячила перед ней белым пятном. Вздымавшиеся вокруг волны то и дело накрывали Роуан с головой, но она отказывалась верить, что может потерпеть неудачу. Вперед, к правому борту «Красотки Кристины»!
Наконец-то! Ударившись о борт судна, Роуан ухватилась за нижнюю ступеньку веревочной лестницы, но закоченевшие в мокрых перчатках пальцы отказывались сгибаться. «Ну же, черт вас побери, хватайтесь за веревку! Ближе, еще ближе!» – шептала она непослушными губами. Онемевшая правая рука повиновалась, однако левая соскользнула в сторону… Роуан снова и снова отдавала приказы собственному телу и постепенно, с величайшим трудом одолевая ступеньку за ступенькой, карабкалась вверх, не в силах поверить, что ей это удается…
Рухнув на палубу, Роуан какое-то время была не в состоянии пошевелиться. Немного передохнув, она начала массировать и растирать пальцы, чтобы вернуть им чувствительность. Из открытой дверцы рубки белым облаком выползал теплый воздух – словно чье-то горячее дыхание. Но о том, чтобы пойти погреться, не могло быть и речи: прежде всего следовало запустить двигатель лебедки.
Руки нестерпимо болели, однако автоматически выполняли все необходимые действия. Лебедка застонала и заскрипела, наматывая канат на барабан. Наконец тело утопленника поднялось над ограждением палубы – голова его склонилась набок, широко разведенные по обе стороны спасательного жилета руки безвольно покачивались. С одежды ручьями стекала вода. Человек упал на палубу.
Лебедка скрипнула, подтаскивая его поближе к рубке и снова ставя в вертикальное положение в трех футах от нее. Роуан выключила двигатель. Утопленник осел вниз – промокший, без признаков жизни…
Роуан знала, что ей не затащить его внутрь, да и не это было в тот момент главным. Возиться с канатами тоже нет времени.
С громадным усилием Роуан перевернула утопленника на живот и вылила из его легких добрую кварту морской воды, затем подлезла под него и перекатила снова на спину. Сняв мокрые перчатки, она пропихнула левую руку под шею мужчины, пальцами правой зажала ему ноздри и начала дышать рот в рот. Казалось, прошла целая вечность… Роуан продолжала делать искусственное дыхание, но в оцепенелом теле не было заметно никаких перемен.
Тогда она принялась изо всех сил ритмично, считая каждый раз до пятнадцати, надавливать на его грудину. Снова и снова, снова и снова…
– Давай же, дыши! – словно заклинание повторяла Роуан. – Черт тебя дери, дыши!
Трудно сказать, прошли уже часы или минуты: Роуан не ощущала времени, как не ощущала его в операционной. Она просто стремилась вернуть человека к жизни, чередуя массаж грудной клетки и искусственное дыхание и периодически прикладывая пальцы к сонной артерии, дабы убедиться в том, что пациент не ушел окончательно.
В какой-то момент Роуан все же попыталась затащить утопленника в рубку, но безрезультатно. Краем сознания она отмечала, что не видит огней спасательных кораблей, пробивающихся сквозь туман, и не слышит гула вертолетов над головой, а потому упорно продолжала выполнять свою нелегкую работу.
– Ведь ты же не умер, ты в состоянии слышать меня! – кричала Роуан, снова и снова надавливая на его грудину и мысленно во всех подробностях представляя себе его сердце и легкие. – И я заставлю тебя вернуться к жизни!
И вдруг, когда она в очередной раз приподняла его голову, глаза мужчины раскрылись и постепенно приняли осмысленное выражение. Роуан почувствовала, как вздымается его грудь, ощутила на своем лице тепло дыхания.
– Так, так, дыши! – стремясь перекричать ветер, она изо всех сил напрягала голосовые связки.
Мужчина слегка приподнял правую руку, пробормотал что-то бессвязное, повторяя какое-то слово – какое именно, разобрать было трудно, но, похоже, чье-то имя, – и вцепился в запястье Роуан.
Она слегка похлопала его по сморщившемуся от боли лицу, прислушиваясь к прерывистому, учащенному дыханию и с радостью отмечая, что голубые глаза наполнились жизнью, а взгляд их устремлен прямо на нее. Роуан словно впервые увидела человеческие глаза – сверкающие, сияющие, поистине прекрасные.
– Ты слышишь меня, я знаю. Продолжай дышать. Я спущусь вниз за одеялами.
Роуан попыталась высвободиться, но незнакомец задрожал всем телом и никак не желал отпускать ее. Теперь он смотрел мимо нее, куда-то вверх, потом медленно поднял левую руку… По палубе наконец-то полоснул луч света. Вертолет подоспел вовремя, ибо туман становился все более густым, а глаза Роуан застилали слезы от жгучего ветра. Она едва видела вращающиеся лопасти вертолетного винта.
Роуан обессиленно повалилась на палубу.
– Все в порядке. Все отлично. Сейчас они тебя заберут, – пробормотала она в ответ на его безуспешную попытку что-то сказать и тут же повернулась к спустившимся на палубу служащим береговой охраны, чтобы дать им необходимые инструкции. Мужчину следовало со всей осторожностью поместить в вертолет, но ни в коем случае не переносить его пока в теплое помещение и, ради Бога, не давать ему горячего питья. У него сильное переохлаждение. Нужно вызвать по радио «скорую» к месту посадки вертолета.
Наблюдая за тем, как человека поднимают в вертолет, Роуан вдруг испытала безотчетный страх, хотя твердо знала, что бояться на самом деле нечего. Вердикт врачей не вызывал у нее сомнений: неврологические расстройства отсутствуют.
К полуночи сон одолел-таки Роуан. Но теперь она снова находилась в тепле и уюте. «Красотка Кристина», точно огромная люлька, качалась на темных волнах. Огни яхты пробивали клубы тумана, радар оставался включенным, а автопилот продолжал держать заданный курс. Роуан стянула с себя мокрую одежду, закуталась потеплее и, поудобнее устроившись на койке в рулевой рубке, с наслаждением пила обжигающий кофе.
Этот человек, а точнее, выражение его глаз заинтриговало ее. Майкл Карри… кажется, это имя назвали служащие береговой охраны, когда она связалась с ними. Как выяснилось, он находился в воде не менее часа, прежде чем его заметила Роуан. Однако ее прогноз полностью оправдался: «неврологические расстройства отсутствуют». Пресса называла случившееся не иначе как чудом.
К сожалению, в машине «скорой помощи» он повел себя совершенно неадекватно и буквально впал в буйство. Возможно, виной тому были налетевшие со всех сторон газетчики. Санитары ввели ему седативные препараты (полный идиотизм!) и таким образом несколько смазали картину (еще бы!), но сейчас состояние Майкла Карри оценивалось как «вполне удовлетворительное».
Роуан запретила упоминать ее имя в связи с этой историей, заявив, что не потерпит никакого вмешательства в свою личную жизнь.
Сотрудники береговой охраны с пониманием отнеслись к ее просьбе, поскольку репортеры постоянно досаждали и им самим. По правде говоря, у них и нет никаких сведений: сигнал бедствия был принят в самое неподходящее время и даже не был зарегистрирован как положено: не успели записать ни ее имя, ни название яхты…
Ну и прекрасно, обрадовалась Роуан и категорически пресекла все попытки что-либо узнать о ней.
«Красотка Кристина» дрейфовала… Перед глазами Роуан вновь возник лежащий на палубе Майкл Карри: как он поморщился, едва придя в себя, как отразился в его глазах падавший из рубки свет… Что же он тогда сказал?… Какое-то слово, похожее на имя… Роуан толком не расслышала и теперь, конечно же, никак не могла его вспомнить.
А ведь если бы она не заметила тогда крохотную точку в сумеречной пляске волн, Майкл почти наверняка умер бы. Ей было неприятно представлять, как он качался на поверхности воды в темноте и тумане, а жизнь постепенно, капля за каплей, покидала тело. Слишком свежи были воспоминания.
До чего же все-таки красивый мужчина! Просто глаз не оторвать! Даже в бессознательном состоянии он притягивал взгляд. Несомненно, у него ирландский тип лица: широкое, с коротким, едва ли не картошкой, носом… В большинстве случаев подобную внешность можно назвать весьма заурядной. Но только не в отношении Майкла Карри: человека, обладающего такими глазами и таким ртом, заурядным не назовешь.
Роуан вдруг стало неловко: ей не следует рассматривать его с такой точки зрения. Отправляясь на поиски мужчин, она переставала быть врачом: женщина по имени Роуан стремилась провести время в компании анонимного партнера, чтобы потом, закрыв за ним дверь, спокойно уснуть в собственной постели. Но состояние здоровья этого человека интересовало именно доктора Роуан.
Кто, как не она, в полной мере мог представить себе все возможные последствия по меньшей мере часового пребывания в холодной воде, между жизнью и смертью? Кто лучше ее знал, какие нежелательные и даже необратимые изменения могли произойти в клетках его мозга?
Ранним утром, вернувшись домой и поставив яхту на стоянку, Роуан позвонила в больницу. Доктор Моррис, старший врач-ординатор, был еще на дежурстве.
– Я отлично представляю себе все трудности, с которыми вам придется столкнуться, – сказала ему Роуан, после того как вкратце объяснила, чем занимается в университетской клинике.
Она описала процесс «воскрешения» утопленника, не забыв упомянуть о том, что Карри ничего толком не сказал, только пробормотал нечто неразборчивое, и сообщила Моррису, какие именно инструкции относительно правильного обращения с пациентом, подвергшимся сильному переохлаждению, были даны ею санитарам. В заключение Роуан выразила уверенность, что молодой человек непременно скоро поправится.
– Да, не сомневаюсь. Его состояние не вызывает опасений, он действительно счастливчик, каких мало, – ответил доктор Моррис.
Он согласился с Роуан в том, что их беседа – обмен мнениями двух специалистов, которые понимают друг друга с полуслова, – должна носить конфиденциальный характер. Всем этим шакалам из средств массовой информации, толпившимся в коридоре, достаточно будет сообщить, что какая-то женщина, нейрохирург, в одиночку вытащила Карри из воды. Разумеется, психологически парень несколько не в себе: без конца твердит о каких-то видениях, возникших перед его глазами в минуты пребывания за гранью… К тому же его руки… с ними происходит нечто совершенно необычное…
– А что с его руками? – в голосе Роуан послышалась тревога.
– Речь идет не о параличе или о чем-нибудь в этом роде, а о… Ну вот, моя «пищалка» надрывается. Извините. Вызов.
– Слышу. Идет последний месяц моей стажировки в университетской клинике. Если потребуется помощь, вам достаточно лишь позвонить – и я немедленно приеду.
Роуан повесила трубку. Что же имел в виду доктор Моррис, говоря о руках? Она помнила, как Майкл Карри, пристально, не отрываясь, глядя ей в глаза, крепко обхватил ее запястье и не хотел отпускать.
– Я еще не свихнулась, – прошептала Роуан. – У этого парня с руками все в порядке.
На следующий день, раскрыв номер «Экземинер», Роуан узнала, что именно произошло с руками Майкла Карри.
По его словам, ему довелось пережить «мистическое приключение». Находясь где-то высоко над землей, он видел свое тело, плавающее в волнах Тихого океана. Ему пришлось испытать многое, однако сейчас он не в состоянии вспомнить все, и эта неспособность воссоздать в памяти пережитое буквально сводит его с ума.
Что касается слухов относительно его рук, то да, действительно, он вынужден постоянно держать их в черных перчатках, поскольку, стоит только прикоснуться к чему-либо, как его одолевают видения и образы. Майкл Карри не мог взять ложку или кусок мыла, без того чтобы не увидеть какую-то сцену или лицо какого-то человека, который трогал их до него.
Так, например, едва дотронувшись до распятия на четках, принадлежавших журналистке – автору этой статьи, он сообщил, что они куплены в Лурде в 1939 году и достались ей от матери.
Все им сказанное полностью соответствовало действительности. Больше того, немало сотрудников персонала Центральной больницы Сан-Франциско могут подтвердить, что Майкл Карри обладает столь удивительным даром.
Далее в статье говорилось, что Карри жаждет поскорее покинуть больницу и мечтает навсегда избавиться от своих внезапно обретенных сверхъестественных способностей. А еще ему хочется вернуть память и во всех подробностях вспомнить то, что произошло с ним «наверху».
Роуан внимательно всмотрелась в большую черно-белую фотографию Майкла Карри, сидящего в больничной постели. Весьма привлекателен, да, а улыбка просто удивительная. Он, конечно же, обладал обаянием – именно таким, какое свойственно выходцам из рабочей среды. Даже висевшая у него на шее тонкая золотая цепочка с крестом лишь подчеркивала мускулистость плеч. Многие пожарные и полицейские носили подобные цепочки, и Роуан испытывала восхитительное ощущение, когда маленький золотой крестик, медальон или что-нибудь еще в том же роде, словно поцелуй, слегка касались ее лица или нежно скользили по векам.
Однако руки в черных перчатках, особенно четко выделявшиеся на белой простыне, производили довольно зловещее впечатление. Неужели все, о чем рассказано в статье, – правда? Несомненно. В этом Роуан была абсолютно уверена – ей приходилось сталкиваться с куда более странными явлениями.
«Не встречайся с этим парнем. Ты не нужна ему, а тебе незачем спрашивать о его руках».
Роуан вырвала статью, сложила ее и спрятала в карман, где та и пролежала до следующего утра, когда после ночного дежурства в Центре нейротравматологии Роуан забрела в кафетерий и раскрыла «Кроникл».
На третьей странице она увидела еще одно фото. На этот раз лицо Карри, снятое крупным планом, было мрачным – возможно, у него поубавилось уверенности в себе. Майклу уже не раз пришлось демонстрировать свои необыкновенные психометрические способности, но ему хотелось, чтобы многие десятки людей, ставшие свидетелями проявления сверхъестественного дара, поняли, что все это не более чем иллюзия. Помочь кому-либо из них Карри не в состоянии.
Его же самого более всего сейчас заботило то путешествие, о котором он ничего не помнил, те сферы, которые он посетил, когда утонул.
«Существует причина моего возвращения обратно, – утверждал он. – Уверен, что существует. Мне предоставили выбор, и я предпочел вернуться. Потому что должен сделать что-то очень важное. Я это знаю. У меня есть предназначение. Оно каким-то образом связано с… порталом и с каким-то числом. Но я не могу вспомнить это число… Точнее говоря, я вообще ничего не помню о том, что тогда случилось. Такое ощущение, словно наиболее важное событие моей жизни начисто стерто из памяти. И как его восстановить, я не знаю».
Заявление Карри кому-то могло показаться бредом безумца, подумалось Роуан. Однако в действительности такого рода состояние «на грани смерти», как известно, пришлось пережить многим. Свидетельства об этом давно перестали быть сенсационными. Зачем же тогда вокруг него подняли шумиху?
Ту часть статьи, где говорилось о его руках, Роуан прочла более внимательно, в особенности рассказы очевидцев. Ах, если бы у нее нашлось пять минут, чтобы принять участие в проведении экспериментов или хотя бы при этом присутствовать!
Перед ее глазами вновь возникла палуба яхты с лежащим на ней Майклом Карри, отчетливо вспомнилось выражение его лица.
Интересно, что он ощущал, держа ее за руку? И что бы он почувствовал сейчас, приди к нему Роуан со своими воспоминаниями о том происшествии? Что, если бы она попросила его продемонстрировать свои способности в обмен на скудную информацию?… Нет…
Ей противна даже мысль о том, чтобы предложить человеку такую сделку. Как может она, врач, думать не о том, в чем нуждается он, а о своих собственных желаниях?! Это еще хуже, чем вообразить его рядом с собой в постели или за чашкой кофе в маленькой каюте яхты.
Как только выдастся свободная минутка, надо непременно позвонить доктору Моррису и поподробнее расспросить его обо всем, что связано с Карри. Хотя… Кто знает, когда она появится, эта свободная минутка… Сейчас, по крайней мере, она едва не падает замертво от усталости и недосыпания, но должна опять спешить в послеоперационное отделение, где ее ждут. Быть может, в создавшейся ситуации самым разумным будет оставить Карри в покое? Наверное, так лучше для них обоих.
В конце недели сан-францисская газета «Кроникл» поместила на первой странице пространную, обильно насыщенную подробностями статью.
«что случилось с майклом карри?
Этому человеку сорок восемь лет. По профессии он подрядчик, специалист по реставрации старых зданий Викторианской эпохи. Карри является владельцем компании «Большие надежды» и стал поистине легендой нашего города за умение превращать развалины в блистательные особняки и за особую дотошность в воссоздании подлинности интерьеров – вплоть до деревянных шпилек и квадратных гвоздей.
Ему же принадлежит небольшой магазин на Кастро-стрит, торгующий в числе прочего старинными ваннами на «когтистых лапах» и такими же старинными унитазами.
Особую известность принесли Карри тщательно выполненные подробные чертежи реставрируемых зданий. Его проекты вошли в книгу «Величественные здания Викторианской эпохи: фасады и интерьеры».
Некоторые работы Майкла Карри были отмечены наградами, в частности отель «Барбари-Кост» на Клэй-стрит, а также отель «Джек Лондон» на Буэна-Виста-вест…»
Роуан пробежала глазами еще несколько абзацев…
Сейчас Майкл Карри не у дел. Компания «Большие надежды» на время приостановила свою деятельность. Ее владельца занимает другое: он отчаянно пытается вспомнить, какие же откровения были явлены ему в течение того знаменательного часа, который он провел в воде – между жизнью и смертью.
«Это не было сном, – продолжала читать Роуан. – Точно знаю, что говорил с людьми – они объяснили мне смысл того, что необходимо сделать. Я принял их объяснения и попросил отправить меня обратно».
Что касается отношения Карри к проявившимся у него способностям, оно оставалось все тем же, то есть он воспринимал их как некий случайный побочный эффект: «Вспышка – и передо мной какое-то лицо или чье-то имя. Все это совершенно несущественно».
Вечером того же дня Роуан увидела Майкла в телевизионных новостях: живой человек из плоти и крови, незабываемые голубые глаза и открытая улыбка. В его облике было что-то невинное, а естественное, иногда прямолинейное поведение в корне отличалось от манеры держать себя тех, кто в стремлении добиться чего-либо в этом мире не гнушался никакими средствами.
– Я должен вернуться домой, – заявил тележурналистам Майкл Карри.
Что у него за акцент? Интересно, может, он родом из Нью-Йорка?
– Не в свой дом в Сан-Франциско, а туда, где я родился, в Новый Орлеан. – Так вот откуда его акцент! – Могу поклясться, что это каким-то образом связано с произошедшим. Перед моими глазами все время мелькают картины родных мест.
Он слегка пожал плечами. Черт побери, какой обаятельный парень!
Интервью продолжалось. Нет, Майкл не вспомнил ни единого фрагмента своих видений. Врачи отказываются выписать его из клиники, хотя и признают, что физически Карри вполне здоров.
– Расскажите нам о своих необыкновенных способностях, Майкл, – попросил репортер.
– Я не хочу о них говорить. – Он вновь слегка пожал плечами и бросил мимолетный взгляд на руки в черных перчатках. – Я хочу встретиться и побеседовать с теми, кто меня спас, – со служащими береговой охраны, доставившими меня на берег, и с владелицей яхты, женщиной, которая вытащила меня из воды. Я только потому и согласился на это интервью, что надеюсь с помощью телевидения разыскать этих людей. Быть может, они дадут о себе знать.
На экране появились двое тележурналистов и в полушутливой форме принялись рассуждать о сверхъестественных способностях. Оба своими глазами видели, как Майкл их демонстрировал.
Какое-то время Роуан сидела неподвижно. Ни единой мысли в голове… Новый Орлеан… он просил, чтобы она связалась с ним… Новый Орлеан… Что ж, надо откликнуться. Роуан обязана это сделать. Она слышала просьбу об этом из его собственных уст. А насчет Нового Орлеана – она должна прояснить для себя этот вопрос. Ей нужно поговорить с Майклом… или написать ему.
Тем же вечером, как только Роуан приехала домой, она подошла к старому письменному столу Грэма, достала несколько листов бумаги и принялась за письмо Карри.
Роуан как можно более подробно изложила все произошедшее, начиная с того момента, когда она заметила его в воде, и вплоть до появления вертолета береговой охраны. После некоторого колебания она указала номер своего домашнего телефона, адрес и сделала маленькую приписку:
«Мистер Карри, я тоже родом из Нового Орлеана, хотя никогда там не жила. Меня удочерили в день моего рождения и немедленно увезли. Вероятно, это не более чем совпадение, что и вы тоже уроженец Юга, но, думаю, мне следовало вам об этом рассказать. Там, на палубе яхты, вы довольно крепко и достаточно долго держали мою руку в своей. В создавшихся обстоятельствах мне бы не хотелось добавлять вам хлопот. И если вы тогда получили какие-либо туманные телепатические послания, забудьте, ибо к вам они явно не имеют никакого отношения».
В целом тон письма был мягким и вполне нейтральным. Она лишь сообщила, что верит в его способности и в случае необходимости готова оказать любое содействие. Никаких просьб или тем более требований. Прежде всего ей хотелось завоевать его доверие.
«Если вам понадобится поговорить со мной, – добавила Роуан в заключение, – позвоните мне в университетскую клинику или домой».
И все же Роуан не давала покоя одна идея… Ей хотелось вложить свою руку в его и… «Однажды я испытала весьма необычное состояние и теперь попытаюсь сосредоточиться на воспоминании о нем. Все, о чем я вас прошу, это рассказать мне о том, что вы увидите. Вы сделаете это? Я не имею права напоминать вам о том, что спасла вам жизнь…»
Это верно, она не имеет права. А значит, не имеет права и просить его о чем-либо!
Роуан послала письмо федеральной экспресс-почтой на имя доктора Морриса.
Тот позвонил ей на следующий день и сообщил, что накануне, сразу после телевизионной пресс-конференции, Карри выписался из больницы.
– Знаете, доктор Мэйфейр, он ведет себя как лунатик, но у нас нет законных оснований держать его в клинике. Я передал ему ваши слова о том, что на палубе он ничего не говорил. Однако Майкл слишком одержим, чтобы забыть свои бредни. Он считает, что обязан вспомнить все виденное там. Вы же знаете: первопричину всего, тайну вселенной, свою цель, портал, число, камень… Такой чепухи вы еще не слышали. Ваше письмо я переслал ему домой, но мало шансов, что он его прочтет. Почта приходит к нему мешками.
– А все, что связано с его руками, – это правда?
Доктор Моррис несколько мгновений молчал.
– Откровенно говоря, ни с чем подобным я в жизни своей не сталкивался. И тем не менее рассказ на сто процентов соответствует действительности. Если бы вы это увидели своими глазами, уверяю вас, испытали бы сильнейшее потрясение.
На следующей неделе история Майкла Карри перекочевала на страницы «желтой» прессы. Еще через пару недель свои версии представили журналы «Пипл» и «Тайм». Роуан аккуратно вырезала статьи и фотографии. Было ясно, что фотографы преследуют Карри по пятам и подстерегают его повсюду. Вот он возле своего магазина на Кастро-стрит, а вот – на ступенях собственного дома…
Внутри Роуан нарастало яростное желание оградить его от назойливой публики – они должны наконец прекратить эту наглую охоту.
Впрочем, ей тоже следует оставить его в покое.
К началу июня сам Майкл Карри прекратил всякое общение с журналистами. Бульварные газетенки кормились эксклюзивными интервью с очевидцами его удивительных способностей…
«Он коснулся сумочки и все рассказал мне о моей сестре, повторил все слова, которые она говорила, когда дарила мне эту сумочку. У меня буквально в ушах зазвенело… А потом он сказал, что моя сестра мертва…»
В конце концов по местному каналу «Си-би-эс» объявили, что Майкл Карри заперся в своем доме на Либерти-стрит и полностью отгородился от внешнего мира.
Друзья пребывали в недоумении и высказывали свою озабоченность.
– Он разочарован и сердит, – заявил один из соучеников Майкла по колледжу. – Я думаю, он просто сбежал от мира.
Реставрационная компания «Большие надежды» закрылась на неопределенное время. Врачи Центральной больницы Сан-Франциско тревожились, поскольку давно не видели своего пациента.
В июле в «Экземинер» появилось сообщение, что Карри «потерялся», а точнее, попросту «исчез».
Журналист из телепрограммы «Новости в одиннадцать» стоял на ступенях массивного дома Викторианской эпохи, указывая на гору нераспечатанных писем, торчащих из мусорного ящика возле боковых ворот.
– А не скрывается ли Карри внутри этого прекрасного здания, которое много лет назад он с такой любовью восстанавливал? Не он ли сидит или лежит в одиночестве в единственной освещенной комнате на верхнем этаже?
Поморщившись от негодования, Роуан выключила телевизор. У нее было такое чувство, будто она подглядывала в замочную скважину. Какая наглость – притащить ораву телевизионщиков с камерой прямо к дверям его дома!
Но в памяти остался мусорный бак, доверху набитый нераспечатанными конвертами. А что, если и ее письмо постигла та же участь? Мысль о том, что Майкл заперся в своем доме, страшится мира, нуждается в совете, выводила ее из равновесия.
Хирурги, будь то мужчины или женщины, отличаются от остальных людей прежде всего своей уверенностью в том, что им по силам разрешать критические ситуации. Потому они и обладают смелостью, взяв в руку скальпель, вторгаться в тела пациентов. Роуан хотелось что-то сделать: отправиться туда, постучаться в дверь. Но сколько людей побывало перед этой дверью до нее?
Нет, Майкл Карри не нуждался в еще одной посетительнице. Особенно если у этой посетительницы имелись собственные мотивы для визита.
По вечерам, когда Роуан возвращалась домой и уходила в море, чтобы побыть наедине со своими мыслями, память неизменно возвращала ее в тот незабываемый день. На мелководье за Тайбуроном было почти тепло. Прежде чем отдаться на волю холодных ветров залива Сан-Франциско, Роуан задерживалась здесь ненадолго и только потом направляла яхту в бурные океанские волны. Резкая перемена в окружающей атмосфере доставляла ей почти эротическое наслаждение. Взяв курс на запад, она всякий раз любовалась громадными опорами моста «Голден-Гейт», в то время как мощная океанская яхта медленно, но уверенно двигалась вперед, к едва различимому вдали горизонту.
Волны Тихого океана монотонно и словно отрешенно бились о борт судна. Окидывая взором вечно неспокойную поверхность, простирающуюся под почти бесцветным закатным солнцем до самого края, где в туманной дымке сходятся небо и море, невозможно верить во что-либо, кроме самой себя.
А Майкл верил, что вернулся назад ради какой-то цели. Как странно! Человек, посвятивший жизнь восстановлению прекрасных зданий, человек, чьи рисунки и чертежи стали достоянием хрестоматийных изданий, человек, казалось бы, слишком разумный и образованный, чтобы верить в подобное, неуклонно и убежденно нес в себе эту веру.
Но ведь он действительно перешел грань, отделявшую жизнь от смерти! Ему, как и другим, довелось испытать те ощущения, о которых уже столько сказано и написано: состояние невесомости, вознесение в небесные выси, способность отстраненно наблюдать за оставшимся внизу миром.
С Роуан ничего подобного не случалось. Однако с нею происходили другие, не менее странные, события. И в то время как о путешествии Карри знал едва ли не весь мир, никто даже не догадывался о тех тайнах, которые хранила в душе она, Роуан Мэйфейр.
Но мысль о том, что произошедшие с ней события могли быть кем-то спланированы и имели какое-то определенное, специфическое значение, выходила за рамки ее понимания. Роуан всегда считала – и это приводило ее в ужас, – что причиной всему ее одиночество, изнуряющий труд, лихорадочное стремление внести разнообразие туда, где оно едва ли возможно. Как будто пытаешься рисовать прутиком на поверхности океанских волн. Чем отличается она от прочих людей в мире, от маленьких человечков, строящих свои маленькие планы, которые через несколько лет обращаются в ничто и теряют всякий смысл? Хирургия столь сильно притягивала Роуан прежде всего потому, что позволяла поднимать на ноги даже тех, кого окружающие уже причислили к покойникам. Она, доктор Роуан Мэйфейр, прогоняла смерть и возвращала людей к жизни, и те искренне благодарили ее. В этом состояла единственная подлинная ценность существования. «Спасибо, доктор! Мы никогда не думали, что она снова сможет ходить» – за такие слова Роуан готова была отдать все, что угодно.
Но если говорить о какой-то великой жизненной цели… предназначении, ради которого необходимо вернуться в мир живых… Каково было предназначение женщины, скончавшейся при родах от удара и уже не слышавшей, как кричит ее новорожденный ребенок в руках у врача? А в чем состояло предназначение мужчины, сбитого пьяным водителем на пути из церкви домой?
Вот у того человеческого зародыша, которого ей довелось однажды видеть, действительно было предназначение. Зародыш жил и дышал, глаза его оставались закрытыми, маленький ротик напоминал рыбий. От его ужасно несоразмерной головы и крошечных ручек во все стороны тянулись провода. Этот нерожденный человечек спал в специальном инкубаторе в ожидании момента, когда его ткани понадобятся для пересадки, а двумя этажами выше ждал пациент, которому должны были сделать пересадку.
Тогда Роуан сделала для себя важное и страшное открытие. Оказывается, вопреки всем законам, в недрах громадной клиники можно искусственно поддерживать жизнь маленьких человеческих зародышей, а потом по своему врачебному усмотрению отрезать от них кусочки тканей, чтобы помочь, скажем, пациенту с болезнью Паркинсона, который к тому времени успел прожить на этом свете шестьдесят лет и которому для продолжения существования необходимо пересадить ткани недоношенного плода. Так вот, если это называется предназначением, Роуан предпочитает оперировать огнестрельные раны. Чего-чего, а такой практики на отделении экстренной помощи хватало с избытком.
Роуан никогда не забудет холодный мрачный день накануне Рождества, когда доктор Лемле вел ее по пустынным коридорам Института Кеплингера.
– Вы нужны нам здесь, Роуан, – говорил он. – Я хочу, чтобы вы работали здесь, и с легкостью могу организовать ваш переход из университета. Я знаю, что нужно сказать Ларкину. А сейчас покажу вам нечто, что способны понять и оценить вы, но не Ларкин. В университете вы такого не увидите.
Увы, она не сумела. Точнее, к своему ужасу, слишком хорошо поняла и оценила.
– Строго говоря, то, что находится перед вами, не является жизнеспособным…
Так начал тогда свои объяснения доктор Карл Лемле, чьим блестящим умом, дерзкими планами и даром предвидения столь восхищалась Роуан.
– Это существо не является даже живым. Оно мертво, совершенно мертво, ибо мать избавилась от него посредством аборта в нашей же клинике, этажом ниже. А значит, этот зародыш не человек, не личность. Но кто сказал, что мы должны выбросить его, как выбрасывают ампутированные конечности? Ведь мы знаем, что, поддерживая жизнь в этом крошечном тельце и других, подобных ему, мы обретаем золотую жилу: уникальнейшие ткани, обладающие высоким уровнем приспособляемости, универсальные по степени совместимости, в корне отличающиеся от всех остальных человеческих тканей. При нормальном процессе развития плода эти бесценные клетки неизменно отторгаются. Но в данном случае о нормальном развитии не идет и речи, поскольку мать обрекла это существо на гибель. А ведь благодаря его клеткам мы можем совершить такие открытия в области неврологической трансплантации, что «Франкенштейн» Мэри Шелли превратится в сказочку для чтения перед сном.
Да, все обстояло именно так. Утверждение Лемле о возможности в недалеком будущем производить полную пересадку мозга трудно было подвергнуть сомнению. Достижения медицины позволят спокойно извлечь этот орган мышления из какого-нибудь старого, изношенного тела и пересадить в новое, жизнеспособное и сильное. В перспективе врачи научатся даже выращивать новые мозговые ткани и в случае необходимости оказывать помощь природе.
– Видите ли, Роуан, важнейшим достоинством тканей нерожденного плода является то, что после пересадки они не отторгаются организмом реципиента. Признайтесь, понимаете ли вы всю значимость подобного открытия? Вы только представьте: совсем крошечный фрагмент ткани зародыша – считанные клетки – пересаживается в глаз взрослого человека, где клетки продолжают расти и развиваться, приспосабливаясь к новым для себя условиям. Боже мой, разве вы не понимаете, что это позволит нам участвовать в процессе эволюции? А ведь мы еще только в самом начале…
– Не мы. Вы, Карл.
– Роуан, вы самый выдающийся хирург из всех, с кем мне когда-либо доводилось работать. И если только вы…
– Я на это не соглашусь! Я никогда не стану убийцей.
«И если я не выберусь отсюда как можно скорее, то начну кричать, – мысленно добавила Роуан. – Я должна уйти, потому что уже совершила убийство».
Тем не менее это действительно цель. Как они говорят, цель, взятая по максимуму.
Разумеется, Роуан нигде и словом не обмолвилась об экспериментах Лемле – не позволила корпоративная врачебная этика. Да и по силам ли обыкновенному стажеру бороться против столь известного и влиятельного мэтра медицины?! Поэтому она просто отошла в сторону.
Позже, когда они пили кофе, сидя возле камина в ее доме, и огоньки рождественской елки отражались в стеклянных стенах, Лемле вернулся к этой теме:
– Знаете, Роуан, а ведь опыты на живых человеческих зародышах проводятся повсеместно. В противном случае не возникла бы необходимость в издании закона, запрещающего подобные эксперименты.
Конечно, в предложении Лемле не было ничего удивительного. А вот соблазн казался слишком уж сильным. По сути, сила искушения была почти равна силе отвращения, испытываемого Роуан. Какой исследователь – а нейрохирург всегда исследователь в полном смысле этого слова – не предавался подобного рода мечтаниям?
После того как Роуан посмотрела фильм о докторе Франкенштейне, ей вдруг захотелось оказаться на месте того безумца-ученого – работать в собственной лаборатории, в горах… Действительно, как интересно было бы увидеть результаты собственных экспериментов! Но для этого необходимо относиться к живому человеческому мозгу как к лабораторному препарату, забыть обо всех заповедях и законах нравственности… А вот этого-то Роуан сделать не могла.
Посещение Института Кеплингера стало для нее кошмарным рождественским подарком. После беседы с Лемле преданность доктора Мэйфейр травматологической хирургии лишь возросла. Увидев маленького уродца, отчаянного пытавшегося дышать, Роуан словно сама заново родилась, обрела ясную целенаправленность в жизни и одновременно неизмеримую силу. В университетской клинике она буквально творила чудеса, и потому к ней обращались даже в самых, казалось бы, безнадежных случаях: когда мозговая ткань пострадавшего растекалась по носилкам или из проломленного черепа торчал лишь обух топора.
Возможно, искалеченный человеческий мозг виделся Роуан средоточием всех трагедий мира – свидетельством того, как жизнь снова и снова подвергается сокрушительному нападению со стороны жизни. Когда Роуан приходилось убивать – а ей и в самом деле доводилось это делать, – ее действия травмировали мозг другого человека, разрушали его ткани и клетки. Похожую картину она часто наблюдала у лежащих перед ней на операционном столе пациентов, чьих имен она даже не знала. А тем, кого убила сама Роуан, никто и ничем помочь уже не мог.
Но встретиться с Майклом Карри она стремилась не для того, чтобы завести спор о цели и предназначении. И не затем, чтобы затащить его в свою постель. Ей хотелось того же, что и всем остальным, кто толпился возле него. Именно по этой причине Роуан так и не отважилась переступить порог Центральной больницы Сан-Франциско, лишив себя возможности увидеть его и лично наблюдать за его выздоровлением.
Роуан хотелось узнать о тех убийствах нечто такое, о чем не могли ей поведать результаты вскрытия. Важно, что увидит и почувствует он, прикоснувшись к руке Роуан, в то время как она будет вспоминать о тех людях. Конечно, если ей достанет на это смелости. Ведь тогда, на палубе яхты, он явно испытал какие-то ощущения, но где гарантия, что они не изгладились из его памяти вместе с видениями.
Роуан все это понимала. Давно поняла, по крайней мере каким-то уголком своего сознания. И теперь, спустя несколько месяцев, идея использовать дар Майкла Карри в собственных целях не стала для нее менее отталкивающей.
Карри заперся в своем доме на Либерти-стрит и нуждался в помощи.
Хорошо, допустим, она придет к нему и скажет: «Я врач и верю, что у вас бывают видения, равно как и в силу, появившуюся в ваших руках. Верю, потому что знаю о существовании такого рода необъяснимых психических феноменов. Более того, я сама обладаю столь же противоестественными способностями, которые сбивают меня с толку и порой полностью выходят из-под моего контроля. Я могу убивать по своему желанию». Подействуют ли ее слова на Карри?
С какой стати это должно его заинтересовать? Сколько людей, убежденных в истинности его дара, толпится вокруг – но разве ему становится от этого легче? Он умер, вернулся к жизни, а теперь потихоньку сходит с ума. И все же, если она расскажет ему о себе (а эта мысль стала теперь для Роуан навязчивой), он, возможно, единственный человек в целом мире, способный понять ее и поверить ее словам.
Наверное, рассказать кому-нибудь о тех случаях – чистое безумие. Роуан то и дело пыталась убедить себя в обратном и знала, что рано или поздно непременно поделится с кем-либо своей тайной. А если этого не случится, то рано или поздно ее тридцатилетнее молчание будет нарушено, и не просто нарушено, а буквально разорвано в клочья нескончаемым воплем, который заглушит все звуки мира.
Сколько голов она заштопала на операционном столе! Но разве это имеет хоть какое-то значение, если в памяти постоянно присутствуют те трое – те, кого она убила?… Обескровленное лицо Грэма, из которого уходила жизнь. Маленькая девочка, бившаяся в конвульсиях на покрытой гудроном дорожке. И мужчина, падающий на руль собственного «джипа».
Едва став интерном, Роуан использовала все доступные ей официальные каналы и получила данные о результатах вскрытий, проведенных после каждой из этих смертей… Инсульт, субарахноидальное кровотечение, врожденная аневризма… Она очень внимательно изучила все детали.
На обычном человеческом языке это звучало примерно так: «…невыявленная слабость стенки артерии, которая по непонятным причинам вдруг разорвалась, вызвав внезапную смерть». Смерть, которую невозможно было предвидеть заранее. Иными словами, никто не мог даже представить, что эта шестилетняя девочка вдруг упадет на землю и забьется в судорогах, хотя только что она как ни в чем не бывало вовсю колошматила и таскала за волосы свою сверстницу Роуан. Несчастному ребенку уже ничем нельзя было помочь: кровь хлынула из носа и ушей, глаза закатились… Поэтому взрослые поспешили увести остальных детей в класс, подальше от печального зрелища.
– Бедняжка Роуан, – утешала ее потом учительница. – Ты должна понять, что у этой девочки было заболевание, о котором врачи не знали. Она могла умереть от него в любую минуту. А то, что это случилось во время вашей драки, не более чем совпадение.
Именно тогда Роуан осознала бесспорную истину – ту единственную истину, которая никогда не откроется учительнице и которая состояла в том, что виной всему была… Роуан. Именно она погубила девочку.
От подобного легко отмахнуться: дети склонны брать на себя вину за происшествия, сути которых не понимают. Но все дело в том, что, едва девочка повалилась на гудрон игровой площадки, Роуан испытала какое-то странное внутреннее ощущение. Впоследствии, перебирая в уме подробности давнего происшествия, она пришла к выводу: охватившее ее в тот момент и словно выплеснувшееся наружу ощущение в чем-то сродни сексуальному возбуждению. При виде лежавшей на спине обидчицы у Роуан как будто сработало диагностическое чутье, подсказавшее, что девочка умрет.
Как бы то ни было, Роуан сумела забыть про этот случай. Грэм и Элли, как и полагалось заботливым, по калифорнийским понятиям, родителям, водили ее к психиатру. Она играла с его куклами – маленькими игрушечными девочками, говорила то, что психиатр хотел от нее услышать, а тем временем люди то и дело умирали от «ударов».
Через восемь лет после происшествия в школе на пустынной дороге, вьющейся меж холмов Тайбурона, вылезший из «джипа» мужчина зажал Роуан рот и гадким голосом – вкрадчивым и исполненным наглости – произнес:
– Только попробуй пикнуть, милашка.
Ее приемным родителям и в голову не приходило провести параллель между гибелью той маленькой девочки и внезапной смертью напавшего на Роуан насильника как раз в тот момент, когда она отчаянно боролась, пытаясь вырваться из его цепких рук. Тогда ей вновь довелось испытать уже знакомое необычное, острое ощущение: гнев буквально захлестнул Роуан, заставляя цепенеть тело и лишая ее способности ясно мыслить. Все кончилось тем, что мерзавец вдруг ослабил хватку и уткнулся лицом в руль…
В отличие от остальных Роуан со спокойной уверенностью связала оба случая воедино. Разумеется, не сразу, не тогда, когда, с силой рванув дверцу «джипа», с криком понеслась по дороге, – в те минуты она даже не сознавала, что спасена. Свои умозаключения Роуан сделала уже дома, после ухода дорожного патруля и криминалистов. Лежа в темноте, она размышляла в одиночестве и в конце концов поняла, что смерть насильника была вызвана ею.
Между тем случаем и смертью Грэма пролегло еще почти пятнадцать лет… Элли умирала от рака и была слишком слаба и измучена, чтобы делать какие-либо сопоставления. А Роуан, конечно же, не собиралась, подвинув стул к постели матери, присесть рядом и сказать что-нибудь вроде: «Мама, мне кажется, его убила я. Он постоянно обманывал тебя, хотел развестись. Даже не мог подождать каких-нибудь два месяца – два несчастных месяца, оставшиеся до твоей смерти».
Такая картина могла возникнуть лишь в ее воображении – узор мыслей, хрупкий, как паутина. Но мысленная картина – это еще не намерение. Картины и узоры могут возникать в голове когда угодно и оставаться там на длительное время, а намерение должно быть спонтанным и быстровыполнимым.
«Ты не посмеешь это сделать! Ты не посягнешь на жизнь!» Она раз и навсегда запретила себе вспоминать о драке с девочкой и даже о сражении с насильником в «джипе». И уж тем больший ужас вызывали у нее воспоминания о последнем разговоре с Грэмом.
– Как это понимать – ты «подготовил все необходимые бумаги»? – спросила тогда ошеломленная Роуан. – Ведь Элли умирает! И ты рассчитываешь на мою поддержку?
Грэм схватил ее за руки и попытался поцеловать.
– Роуан, я люблю тебя. Но она уже не та женщина, на которой я женился.
– Вот оно что! Не та женщина, которую ты обманывал в течение тридцати лет?
– Там, в спальне… она… она уже не человек… А я хочу помнить ее такой, какой она была…
– И ты осмеливаешься говорить это мне?…
На какое-то мгновение его глаза остановились, а с лица исчезла презрительная гримаса. Люди всегда умирают с умиротворенным выражением лица. И у того человека в «джипе», готового ее изнасиловать, лицо вдруг стало таким отрешенным…
В ожидании приезда «скорой помощи» Роуан успела склониться над Грэмом и приложить к его голове стетоскоп. Она услышала совсем тихий звук, настолько слабый, что не каждый врач смог бы его расслышать. Но Роуан отчетливо различила его – шум устремившегося в одну точку потока крови…
Никому и в голову не пришло в чем-либо ее обвинить. Да и на каком основании?! Она же сама врач и находилась рядом, когда случился весь этот «ужас». Бог свидетель, она сделала все, что смогла.
Разумеется, все знали, что Грэм был весьма далек от идеала: и его коллеги-адвокаты, и секретарши, и даже его последняя пассия, эта маленькая дурочка Карен Гарфилд, без зазрения совести притащившаяся потом в их дом, чтобы попросить какую-нибудь из его вещей «на память». Все, кроме жены Грэма. Но его смерть не вызвала ни малейшего подозрения. С какой стати? Человек умер от вполне естественных причин как раз в тот момент, когда уже совсем было собрался сбежать, прихватив с собой кругленькую сумму, унаследованную женой, и двадцативосьмилетнюю идиотку, которая уже успела продать свою мебель и купить два авиабилета на рейс до Санта-Крус.
Однако смерть Грэма была вызвана отнюдь не естественными причинами.
К тому времени Роуан уже успела освоиться со своим диагностическим чутьем, постоянно развивала его и совершенствовала. И едва она положила руку на плечо Грэма, оно подсказало ей: смерть нельзя назвать естественной.
Казалось бы, достаточно одного этого. И все же а вдруг она ошибается? А что, если речь идет о простом совпадении? Что, если она всего-навсего обманута хитросплетением событий?
Допустим, она встретится с Майклом Карри. Допустим, он возьмет ее за руку, а она закроет глаза и станет вспоминать обстоятельства тех смертей. Возникнут ли перед его мысленным взором те же картины, что довелось увидеть ей, или ему откроется объективная истина: «Ты их убила»? Стоит все же рискнуть…
Роуан долго и без всякой цели бродила по клинике, мерила шагами просторные, устланные коврами приемные, шла мимо палат, пациенты которых ее не знали и никогда с ней не встретятся. Она чувствовала, как в ней нарастает и становится всепоглощающим давно поселившееся в душе желание поговорить с Майклом Карри. Между ней и этим человеком существовала тесная связь. Доказательством тому служат и происшествие в океане, и таинственные особенности психики обоих. По не до конца понятным ей самой причинам Роуан была уверена, что рассказать о когда-то содеянном может только Майклу, ему одному.
Ей было нелегко смириться с собственной слабостью. Ибо отпущение грехов за совершенные убийства она получала только у операционного стола – когда сестры подавали ей стерильный халат и стерильные перчатки и она вставала перед алтарем Бога.
По складу характера Роуан принадлежала к числу отшельников-одиночек. Она умела слушать, но неизменно оставалась более холодной, нежели окружавшие ее люди. Особое чутье оказывало ей бесценную помощь не только в медицине – благодаря ему она всегда безошибочно распознавала подлинные чувства других людей.
Довольно рано, лет в десять или двенадцать, Роуан поняла, что в других людях присущее ей чутье развито далеко не в такой степени, а иногда отсутствует вовсе. Взять хотя бы так любимую ею Элли. Бедная женщина даже не подозревала, что Грэм не любит ее, что она нужна мужу лишь затем, чтобы было кого порочить и кому лгать, и в то же время ему жизненно необходимо постоянно держать ее при себе, в полном и безоговорочном подчинении.
Иногда Роуан хотела обладать подобным неведением – не знать, когда тебе завидуют или испытывают к тебе неприязнь, не ловить людей на лжи. Полицейские и пожарные именно тем и нравились ей, что в определенной степени были легко предсказуемыми людьми. А возможно, нечестность, присущая этому племени, не настолько раздражала ее. Их хитрости казались безобидными в сравнении с запутанной, коварной, исполненной бесконечной злобы непорядочностью людей более образованных.
Конечно, экстрасенсорный дар Роуан был бесценен для диагностики, и это в полной мере оправдывало его наличие.
Но могло ли что-нибудь оправдать ее способность убивать одним лишь усилием воли и исключительно по собственной прихоти? Содеянное можно было только искупить. Но какое полезное применение могла она найти своему необычному дару?
Самое страшное, что столь неординарные способности вполне поддавались научному объяснению, равно как и психометрический дар Майкла Карри: они могли быть связаны с энергией, которую молото измерить, с теми или иными сложными физическими явлениями, объяснить которые рано или поздно будет не более сложно, чем возникновение электричества, принципы действия микроволн или колебаний высокой частоты. Карри получал информацию от предметов, которых касался, и все воспринимаемые им образы, весьма вероятно, могли являться особыми видами энергии. Очень может быть, что любой существующий предмет, любая поверхность, любой кусочек материи хранят в себе подобные «впечатления», принадлежащие к разряду измеримых.
Однако Роуан не интересовала парапсихология. Ее завораживало то, что можно увидеть в пробирках, на рентгеновских снимках и на графиках. Ей и в голову не приходило подвергать анализу собственную способность убивать. Гораздо важнее было удостовериться, что в действительности она никогда ею не пользовалась, что существует какое-то иное объяснение случившегося. Она жаждала подтверждения своей невиновности.
Как ни трагично, но, скорее всего, никто не в силах внятно объяснить, что же на самом деле случилось с Грэмом, с насильником в «джипе» и с той несчастной малышкой на школьном дворе. Пожалуй, единственный оставшийся у Роуан выход – это, последовав примеру других людей, оказавшихся в подобных ситуациях, обсудить с кем-то свою проблему и таким образом попытаться снять тяжесть с души, избавиться от тяжелых мыслей.
Обсудить… Посоветоваться… Поговорить…
Именно в этом Роуан нуждалась больше всего.
До сих пор страстное желание поделиться своими мыслями и переживаниями возникало у нее лишь однажды. Такие порывы были совершенно не в ее характере. Но тогда она едва не рассказала обо всем совершенно незнакомому человеку. Временами Роуан жалела, что не сделала этого.
Потребность выговориться появилась у нее в самом конце прошлого года, через шесть месяцев после смерти Элли. Роуан вдруг ощутила, что бесконечно важное для нее понятие, именуемое «наша семья», навсегда исчезло из ее жизни, и чувствовала себя глубоко одинокой. А ведь до болезни Элли все было так прекрасно. Даже любовные интрижки Грэма не могли разрушить эту идиллию, поскольку Элли делала вид, будто его похождений не существовало. И хотя мало кто рискнул бы отозваться о Грэме как о хорошем человеке, его кипучая и заразительная энергия поддерживала бодрый ритм их семейной жизни.
Как сейчас Роуан не хватало их обоих!
Ее страстная, всепоглощающая увлеченность медициной немало способствовала утрате доверительных отношений с подругами по колледжу. Из тех девушек никто не пошел в науку. Но Роуан, как и Элли с Грэмом, по-настоящему нуждалась только в своей семье. С самых ранних лет она усвоила, что они «нерушимая троица» – всегда и везде, будь то круиз по Карибскому морю, прогулка на лыжах в Аспене или рождественский ужин за накрытым по-домашнему столом в номере нью-йоркского отеля «Плаза».
И вот теперь их «дом-мечта» на берегу Тайбурона стал пустым, как морская раковина.
У Роуан было странное чувство, что «Красотка Кристина» принадлежит не столько ей и ее избранным партнерам, сколько семье – тем, с кем она прожила десять бесконечно счастливых лет, оставивших в душе неизгладимый след.
В один из вечеров после смерти Элли Роуан стояла одна в большой гостиной с высоким потолком и вслух разговаривала сама с собой, даже смеялась, уверенная, что никто не может увидеть или услышать ее. За стеклянными стенами царила тьма, в них отражались лишь мебель и ковры. До нее доносился рокот прилива, непрестанно бившегося о сваи. Огонь в камине почти догорел. По комнатам медленно расползался холод прибрежной ночи. Роуан размышляла о том, что ей выпало тяжелое испытание, о том, что со смертью тех, кого любим, мы теряем свидетелей и наблюдателей нашей жизни, тех, кто знает и понимает мельчайшие и вроде бы несущественные наши особенности, те самые слова, начертанные палочкой на воде. И ничего не остается, только нескончаемый плеск волн.
Вскоре после того вечера произошло нечто очень странное: она едва не вцепилась в совершенно чужого мужчину и не выплеснула на него свою историю.
Случилось так, что Роуан встретила этого пожилого, седовласого джентльмена – англичанина, как стало ясно, едва он успел произнести несколько слов, – не где-нибудь, а на кладбище, где покоились ее приемные родители.
Тихое старое кладбище с множеством обветшалых памятников находилось на окраине небольшого городка в Северной Калифорнии, где когда-то жила семья Грэма. Эти люди не были связаны с Роуан кровным родством, и она совершенно ничего не знала ни о ком из них. После смерти Элли Роуан несколько раз навещала могилы, хотя толком и не знала почему. Но в тот день у нее имелась веская причина для приезда: рабочие завершили установку надгробной плиты, и Роуан хотела убедиться, что имена и даты написаны правильно.
Пока она ехала на север, ей неоднократно приходило в голову, что новое надгробие будет стоять до тех пор, пока она жива, а потом покосится, потрескается и зарастет травой. Родственников Грэма Франклина, равно как и родных Элли, живших на далеком Юге, даже не уведомили о их смерти. В ближайшие десять лет едва ли хоть кто-то вспомнит о Грэме и Элли Мэйфейр Франклин и поинтересуется их судьбой. А к тому времени, как не станет и Роуан, все, кто когда-либо знал их или хотя бы слышал их имена, будут мертвы.
Роуан смотрела на клочья паутины, разорванной ветром, которому не было дела до красоты тончайших нитей. Так к чему беспокоиться обо всем этом? Однако Элли хотела, чтобы Роуан позаботилась о ее последнем приюте, о том, чтобы на могиле установили плиту и посадили цветы. Так всегда хоронили людей в Новом Орлеане, когда Элли была маленькой. Только на смертном одре она наконец заговорила о своей семье и рассказала странные вещи. Например, что Стеллу положили в гостиной, что люди приходили, чтобы увидеть ее и поцеловать, хотя брат прострелил ей голову, – сотрудники похоронного бюро «Лониган и сыновья» умело загримировали рану.
«Лицо Стеллы в гробу казалось таким прекрасным, – вспомнились Роуан слова приемной матери. – Знаешь, ее великолепные черные волосы спадали волнами, и она была столь же красива в жизни, как и на портрете в гостиной. Я любила Стеллу! Она позволяла мне подержать изумруд. Я сидела на стуле возле ее гроба. Помню, я болтала ногами и тетя Карлот-та велела мне немедленно прекратить».
Роуан врезалось в память каждое слово этого странного повествования. Стелла… ее брат… тетя Карлотта… Запомнилась даже фамилия Лониган. На несколько драгоценных секунд словно выстроился хрупкий мост между нею и тем миром.
Те люди были ее родственниками. На самом деле Роуан приходилась Элли четвероюродной сестрой. Однако у нее нет никаких сведений о далекой родне, и в дальнейшем она не должна даже пытаться что-либо узнать о них – этого потребовала Элли, и Роуан надлежит выполнить данное ей обещание.
Даже в самые тяжелые моменты болезни Элли не забывала напоминать об этом:
– Роуан, никогда не езди туда. Помни о том, что ты мне обещала. Я сожгла все фотографии, все письма. Не возвращайся туда, Роуан. Твой родной дом здесь.
– Да, Элли. Я буду помнить об этом.
Больше Элли не вспоминала ни о Стелле, ни о ее брате, ни о тете Карлотте, ни о портрете на стене гостиной, но после смерти приемной матери адвокат вручил Роуан документ, который привел ее буквально в шоковое состояние. Это было составленное в тщательно продуманных выражениях и не имеющее абсолютно никакой юридической силы обязательство Роуан никогда не возвращаться в Новый Орлеан и не предпринимать никаких попыток что-либо узнать о живших там родственниках.
И все же почему в последние дни своей жизни Элли заговорила о них? И даже упомянула о портрете Стеллы на стене гостиной.
А поскольку Элли просила приемную дочь установить на могиле плиту и посадить цветы, просила не забывать о ней, Роуан, выполняя обещание, в тот день поехала на маленькое холмистое кладбище и там встретила седовласого англичанина.
Он почтительно опустился на одно колено, словно отдавая дань уважения усопшим, и записывал имена, только что вырезанные на надгробном камне.
При появлении Роуан он, похоже, несколько опешил, хотя она не произнесла ни слова, и смотрел на нее так, словно перед ним внезапно возник призрак. Роуан с трудом удержалась от смеха. Ничего удивительного: несмотря на свой высокий рост, она была хрупкого телосложения, да еще приехала сюда в том, что привыкла носить на яхте: в темно-синей куртке и джинсах. Рядом с ней англичанин, облаченный в элегантный костюм-тройку из серого твида, казался анахронизмом.
Однако Роуан интуитивно чувствовала, что намерения у этого человека самые добрые, и безоговорочно поверила его заявлению о знакомстве с новоорлеанскими родственниками Элли. Правда, при этом она ощутила сильное замешательство, ибо ей хотелось познакомиться с этими людьми.
Что ни говори, а кроме них, у нее никого не осталось! Однако думать так – неблагодарно и нелояльно по отношению к Элли.
В ответ на длинную тираду о жарком солнце и красоте этого маленького кладбища, произнесенную седовласым джентльменом на прекрасном и мелодичном британском английском, Роуан не проронила ни слова. Молчаливая реакция на вопросы и реплики окружающих давно вошла у нее в привычку, хотя очень часто такое поведение смущало собеседников и заставляло их чувствовать себя неуютно. И на этот раз Роуан осталась верной себе, в то время как в голове ее постоянно пульсировала одна и та же мысль: «Он знает членов моей семьи? Моих кровных родственников?»
– Меня зовут Эрон Лайтнер, – представился англичанин и протянул Роуан визитную карточку. – Если вам когда-либо потребуются сведения о Мэйфейрах, живущих в Новом Орлеане, прошу вас непременно связаться со мной. При желании можете позвонить мне в Лондон – оплату разговора беру на себя. Буду счастлив рассказать вам об этом семействе и уверяю вас, что его история произведет на вас неизгладимое впечатление.
Его слова, прозвучавшие столь неожиданно и странно здесь, среди пустынного холмистого кладбища, поразили Роуан и почему-то больно ранили – возможно, виной тому было ее одиночество. Интересно, выглядела ли она в тот момент беспомощной, не способной ответить, пусть даже едва заметным кивком? Роуан надеялась, что да. Ей не хотелось думать, что она показалась англичанину холодной и грубой.
Но тогда она совершенно не собиралась рассказывать, что ее удочерили и увезли из Нового Орлеана в день, когда она родилась. Как можно было объяснить чужому человеку, что она дала обещание никогда не возвращаться в этот город и никогда не пытаться узнать хоть что-то о женщине, которая от нее отказалась. Она ведь не знала даже имени своей настоящей матери. А что, если этому человеку известно, кто из женщин того семейства забеременел вне брака и отказался от своего ребенка?
И все же лучше всего воздержаться от откровений, дабы не услышать в ответ пересказ каких-нибудь сплетен. К тому же прошло столько лет – ее мать могла выйти замуж и родить еще семерых детей. Так зачем ворошить прошлое? Лишние разговоры только причинят вред. Вся жизнь Роуан прошла вдали от Нового Орлеана, и она не питала зла по отношению к той, что дала ей жизнь, но не оставила в памяти ни имени, ни лица. В душе царило лишь мрачное, безнадежное чувство тоски. И Роуан промолчала.
Англичанин долго и внимательно разглядывал Роуан, совершенно, кажется, не шокированный ни бесстрастным выражением лица стоявшей перед ним женщины, ни ее неизменным молчанием. Когда Роуан вернула карточку, он изящным жестом взял маленький картонный прямоугольник и, прежде чем спрятать, еще какое-то время подержал в руке, словно надеясь, что собеседница передумает.
– Как бы мне хотелось поговорить с вами, – продолжал тем временем Лайтнер. – Интересно, как живет человек, по воле судьбы оказавшийся так далеко от дома, вырванный с корнем из родной почвы… – Немного помедлив, он многозначительно добавил: – Когда-то я знал вашу мать.
Англичанин умолк, словно сознавая, какое впечатление произвели его слова – столь неуместные в данных обстоятельствах. Если он хотел ударить ее этими словами, трудно было выбрать более подходящий момент. Но Роуан по-прежнему неподвижно стояла, засунув руки в карманы куртки. И хотя последняя фраза Лайтнера всколыхнула в душе бурю эмоций, внешне она никак их не проявила.
«Он знал мою мать?»
Господи, ну почему все так ужасно?! И этот джентльмен с сияющими голубыми глазами, такой заботливый и терпеливый, и ее молчание, всегда служившее завесой, отгораживающей ее от окружающего мира. Откровенно говоря, в тот момент Роуан просто не в силах была вымолвить хоть слово.
– Мне бы доставило огромное удовольствие пригласить вас на ленч или, если время не позволяет, хотя бы чего-нибудь выпить. Как видите, я совсем не злодей. Есть одна очень длинная история…
И снова интуиция подсказала Роуан, что он говорит правду!
Она уже готова была принять приглашение, чтобы поведать ему о себе и расспросить его о своих неведомых родственниках. В конце концов, не она искала этого англичанина – это он нашел ее и предложил поделиться с ней информацией. В тот момент Роуан испытывала сильное искушение откровенно рассказать обо всем, даже о своих таинственных способностях, словно загадочный мистер Лайтнер оказывал давление на ее разум, безмолвно побуждая открыться, впустить его в самые потаенные уголки сознания. Похоже, этот человек испытывал к ней неподдельный интерес. Глубоко личная, искренняя заинтересованность, проявленная без малейшего злого умысла, согревала душу Роуан, как в зимний холод согревает тепло очага.
Картины, свидетели, все самые потаенные ее мысли о тех событиях неожиданно захлестнули Роуан.
«За свою жизнь я убила троих. И точно знаю, что способна убивать гневом. Вот что происходит в жизни „человека, вырванного, как вы изволили выразиться, с корнем из родной почвы“! Известны ли вам подобные случаи в истории рода Мэйфейр?»
Неужели англичанин действительно вздрогнул, бросив на нее мимолетный взгляд? Или ей это только показалось и во всем виноваты косые лучи заходящего солнца, отражающиеся в его глазах?
Но Роуан не могла решиться. Они стояли над могилой женщины, которой она дала обещание никогда не возвращаться в Новый Орлеан и не пытаться выяснить правду о своем происхождении. Эта женщина окружила ее заботой и любовью и, быть может, сделала для нее больше, чем могла бы сделать родная мать… Перед глазами Роуан вновь всплыли очертания комнаты, где умирала Элли, а в ушах зазвучали едва слышные, мало похожие на человеческие стоны боли… «Обещай мне, Роуан… Даже если они напишут тебе… Никогда… никогда…» – «Ты же моя мать, Элли. Моя единственная мать. Разве я могу желать большего?»
В последние недели агонии Элли Роуан особенно страшилась своей загадочной разрушительной силы. Что, если в состоянии гнева и горя она обратит ее против слабеющего тела Элли и тем самым раз и навсегда прекратит невыносимые и бессмысленные муки? «Я могла бы убить тебя, Элли. Я могла бы избавить тебя от страданий. Уверена, что могла бы. Я отчетливо ощущаю, как таящееся внутри меня нечто словно замерло в томительном ожидании сигнала к действию».
Так кто же она все-таки? Неужели ведьма? Нет, невозможно – ведь она целительница, а не разрушительница! И, как у всех людей, у нее есть право выбора!
Англичанин стоял ошеломленный, не сводя с Роуан внимательного, изучающего взгляда. Такое впечатление, что он каким-то образом подслушал ее мысли, ибо вслух она не произнесла ни слова. Но разве такое возможно?! А он словно говорил в ответ: «Я вас понимаю». Нет, это, конечно, всего лишь иллюзия. На самом деле ничего этого не было, и губы Лайтнера даже не шевельнулись.
Измученная, отчаявшаяся разрешить все эти загадки, Роуан резко повернулась и в полном замешательстве направилась к выходу с кладбища. Наверное, он сочтет ее невоспитанной грубиянкой или – еще того хуже – сумасшедшей. Ну и пусть, не все ли равно? Кто он такой – Эрон Лайтнер? Роуан даже мельком не взглянула на протянутую им визитную карточку и почти сразу вернула ее владельцу. Так почему же тогда ей так хорошо запомнилось его имя? Возможно, причина в нем самом, в обаянии его личности, но скорее всего – в том, о чем он говорил, в его очень и очень странных речах…
Прошло уже несколько месяцев с того ужасного дня, когда Роуан приехала домой, открыла стенной сейф и вытащила оттуда бумагу, которую адвокат Элли вручил ей для подписи.
«Я, Роуан Мэйфейр, в присутствии нижеподписавшегося свидетеля торжественно клянусь перед Богом в том, что никогда не вернусь в Новый Орлеан, город, в котором родилась, и не стану пытаться получить какие-либо сведения о моих биологических родителях. Клянусь в том, что буду пресекать любые контакты с семейством Мэйфейр, кто бы из тех, кто носит эту фамилию, ни обратился ко мне по какой бы то ни было причине или под каким бы то ни было предлогом…»
Роуан снова и снова вчитывалась в текст обязательства в надежде постичь то, что скрывалось между строк, но тщетно: истинный смысл написанных слов по-прежнему оставался нераскрытым. Однако она не могла не исполнить желание Элли. И Роуан подписала это обязательство. Свидетелем был адвокат Милтон Крамер. Заверенная копия документа отправилась в его архив.
Интересно, думала иногда Роуан, вглядываясь в лицо Майкла Карри, улыбающееся с журнального снимка, который она вырезала и прикрепила к зеркалу, вспоминает ли он вот так, как сейчас она, события своей жизни?
Стоит им встретиться – и все барьеры непременно рухнут. В этом Роуан не сомневалась и мечтала о такой встрече, мысленно беседуя с Майклом так, как будто это действительно могло произойти, как будто она могла привести его в свой дом в Тайбуроне, угостить кофе и коснуться его руки в черной перчатке.
Ах, как романтично! Крепкий парень, разбирающийся в архитектуре, любящий рисовать красивые здания. Кто знает, быть может, он с удовольствием слушает Вивальди и даже читает Диккенса? Интересно, каково это – оказаться с ним в постели, когда на нем нет ничего, кроме черных кожаных перчаток?
Фантазии, фантазии… Все равно что представить, будто пожарники, которых она приводила сюда, – поэты, а соблазненные ею полицейские – великие прозаики. С таким же успехом лесник, которого Роуан повстречала в баре в Болинасе, мог на самом деле оказаться большим художником, а рослый ветеран вьетнамской войны, зазвавший ее в свою лесную хижину, – гениальным кинорежиссером, скрывающимся в глуши от боготворящих его толп надоедливых поклонников.
Впрочем, нет ничего невозможного, и то, что рисовало перед Роуан воображение, вполне могло оказаться таковым в действительности. Тем не менее решающую роль играли физические показатели мужчины: то, что у него между ног, должно быть достаточно большим, шея – сильной, голос – низким, а подбородок – небритым, чтобы колол и царапал ее своей щетиной.
А что, если?…
А что, если Майкл Карри… вернулся на юг, туда, где родился? Скорее всего, именно так он и поступил: уехал в Новый Орлеан… А это единственное место во всем мире, куда Роуан Мэйфейр путь заказан.
Открывая дверь своего кабинета, она услышала телефонный звонок.
– Доктор Мэйфейр?
– Слушаю вас, доктор Моррис.
– Я давно пытаюсь связаться с вами – по поводу Майкла Карри.
– Знаю. Я прослушала ваше сообщение и собиралась вам звонить.
– Он хочет с вами поговорить.
– Значит, Майкл по-прежнему в Сан-Франциско?
– Скрывается в своем доме на Либерти-стрит.
– Об этом сообщали в новостях.
– Откровенно говоря, он настаивает на личной встрече именно с вами. У него появилась идея…
– Какая?
– Только не подумайте, что безумие заразительно, – я всего лишь передаю его просьбу. Скажите, есть ли у вас хоть какая-то возможность встретиться с Майклом на вашей яхте? Если я не ошибаюсь, в ту ночь вы подняли его на борт своей яхты?
– Я с удовольствием приглашу его туда.
– Простите, что вы сказали?
– Я буду рада увидеться с ним. И если он хочет попасть на яхту, он туда попадет.
– Это чрезвычайно любезно с вашей стороны, доктор. Но прежде я должен кое-что объяснить. Понимаю, это звучит как совершеннейший бред, но Майкл хочет снять печатки и потрогать руками доски палубы, на которых он лежал, когда вы приводили его в чувство.
– Он получит такую возможность. Странно, что мне самой не пришло это в голову.
– Правда? Боже, вы даже не представляете, какой груз сняли с моей души. Позвольте вам сказать со всей откровенностью, доктор Мэйфейр, Майк – замечательный парень.
– Знаю.
– Он действительно страдает. Эту идею он обрушил на мою голову на прошлой неделе. Представляете, целый месяц от него ни единого слова! И вдруг звонит! Правда, пьян Майк был изрядно, и, откровенно говоря, я не думал, что он вспомнит об этом.
– Это великолепная идея, доктор Моррис. Вы говорили, что его руки действительно обладают уникальными свойствами?
– Совершенно верно, говорил. И могу повторить еще раз. Честное слово, доктор Мэйфейр, вы редкостная женщина. Но вы представляете, во что я вас впутываю? Ведь я просил Майкла, чуть ли не умолял вернуться в больницу. А вчера, уже под ночь, он звонит и требует, чтобы я сию же минуту разыскал вас. Ему, видите ли, непременно нужно пощупать доски палубы, иначе он свихнется. Я, конечно, посоветовал ему для начала протрезветь, но пообещал сделать со своей стороны все возможное. А минут двадцать назад он опять позвонил и говорит: «Не стану врать – пива я сегодня выпил изрядно, но ни к водке, ни к виски даже не притронулся. А потому я, можно сказать, трезв – насколько вообще могу быть трезвым».
Роуан негромко засмеялась:
– Да-а, мне остается только оплакать его мозговые клетки.
– Полностью с вами согласен. Но поймите, парень в полнейшем отчаянии. Прошло столько времени, а ему ничуть не лучше. Я бы не стал просить вас, но он действительно один из самых приятных…
– Я выезжаю немедленно. Вы можете связаться с ним и сообщить, что я уже в пути?
– Ушам своим не верю, доктор Мэйфейр. Как мне вас благодарить?
– Благодарности излишни. Мне нужно с ним встретиться.
– Доктор, прошу вас, заключите с Майком сделку: в обмен на разрешение поиграть в экстрасенса на палубе вашей яхты он должен отказаться от спиртного и вернуться сюда.
– Позвоните ему не откладывая, доктор Моррис. Не позднее чем через час я буду у его дома.
Роуан повесила трубку и на мгновение замерла, глядя на аппарат. Потом сняла бейдж со своим именем, сбросила запачканный белый халат и медленно вытащила заколки из волос.
5
Итак, по прошествии многих лет они снова попытались упрятать Дейрдре Мэйфейр в лечебницу. Что ж, теперь, когда мисс Нэнси умерла, а мисс Карл слабеет с каждым днем, иного выхода не было. По крайней мере, так об этом говорили. Тринадцатого августа санитары приехали за Дейрдре, но она вдруг впала в такое буйство, что ее оставили в покое. Однако ее состояние ухудшалось, причем столь быстро, что это явно бросалось в глаза.
Когда Джерри Лониган рассказал обо всем своей жене Рите, та заплакала.
Тринадцать лет прошло с тех пор, как Дейрдре вернулась из лечебницы домой, превратившись в лишенную рассудка развалину, не способную даже назвать свое имя. Но Рита как будто не замечала столь страшных перемен – она не могла забыть прежнюю Дейрдре.
Обеим было по шестнадцать, когда их отправили в закрытую школу при монастыре Святой Розы де Лима. Старое и мрачное кирпичное здание стояло на окраине Французского квартала. Рита попала сюда за «скверное поведение»: ее застукали на речном теплоходе «Президент», где вместе с парнями они пили и развлекались на полную катушку. Отец заявил, что в школе Святой Розы ей вправят мозги. Там в девять вечера все девочки уже в своих кроватях, а спят они в одной спальне, на последнем, мансардном, этаже. Перспектива оказаться в такой тюрьме привела Риту в ужас, и она ревела навзрыд.
Дейрдре к тому времени успела прожить в школе достаточно долго и словно не обращала внимания на царившую в ее стенах угрюмую и суровую атмосферу. Но стоило Рите заплакать, она молча брала ее за руку и терпеливо выслушивала все жалобы подруги.
Из развлечений здесь был старенький телевизор с круглым шестидюймовым экраном (скажи кому теперь – не поверят), и девочки вместе смотрели «Отцу лучше знать». На полу возле окна стоял такой же древний хрипящий приемник. К проигрывателю было не подступиться: им безраздельно владели ученицы латиноамериканского происхождения, которые целыми днями крутили свою мерзкую «Кукарачу» и без устали плясали под нее.
– Не злись на них, – сказала Рите Дейрдре.
Под вечер они отправлялись на игровую площадку и проводили время на качелях под ореховыми деревьями. Конечно, не ахти какое развлечение для шестнадцатилетней девушки, но Рите оно нравилось, потому что рядом была Дейрдре.
В такие минуты Дейрдре часто пела старинные ирландские и шотландские баллады – именно так она их называла. Все песни почему-то были очень печальными, и при звуках высокого, чистого и нежного голоса – настоящего сопрано – по спине Риты пробегал холодок. Дейрдре любила оставаться во дворе до самого заката, когда небо окрашивалось в «чистый сиреневый цвет», а в листве звенели цикады. Это время Дейрдре называла сумерками.
Рита встречала подобное слово в книгах, но никогда не слышала, чтобы кто-нибудь его произносил. Сумерки…
Дейрдре брала Риту за руку, и они бродили вдоль кирпичной стены, под деревьями, на которых зрели орехи пекан. Девочкам то и дело приходилось буквально нырять под низко растущие ветви, а в некоторых местах завеса листвы была столь густой, что полностью скрывала подруг от любопытных глаз. Кому-то эти воспоминания, возможно, покажутся бредом сумасшедшего, но для Риты то было странное и прекрасное время… Она стояла вместе с Дейрдре в полумраке, деревья качались на легком ветру, и с них дождем сыпались маленькие листочки…
В те дни Дейрдре походила на девочку из какой-нибудь старой книжки с картинками: волосы, перехваченные фиолетовой лентой, черные завитки локонов, рассыпавшиеся по спине… Будь у нее желание, Дейрдре могла бы выглядеть просто потрясающе – тем более с такой-то фигурой! К тому же в шкафу у нее было полно новой одежды. Но Дейрдре к ней не притрагивалась. Справедливости ради надо сказать, что в присутствии подруги Рита даже не думала о таких вещах – все это казалось несущественным. А какие мягкие волосы были у Дейрдре! Рите лишь однажды довелось дотронуться до них… На редкость мягкие…
Девочки гуляли вдоль пыльной аркады возле часовни, и каждый раз старались заглянуть в расположенный за деревянными воротами монастырский садик. Дейрдре утверждала, что в этом укромном уголке растут самые удивительные цветы.
– Мне совершенно не хочется возвращаться домой, – говорила она. – Здесь так спокойно.
Спокойно! Это спокойствие доводило Риту до слез, и она плакала каждую ночь, прислушиваясь к звукам музыки, доносившимся из негритянского бара, расположенного на другой стороне улицы. Люди развлекались, и отголоски их веселья долетали даже сюда, на четвертый этаж, где находилась спальня. Иногда, убедившись, что все уже спят, она выходила на чугунный балкон и оттуда вглядывалась в море огней на Кэнал-стрит – настоящее красное зарево. Весь Новый Орлеан веселился там, а Рита оставалась взаперти в этой ужасной спальне, в обоих концах которой за занавеской храпело по монахине. Как бы она здесь выжила, если бы не Дейрдре?
Дейрдре отличалась от всех знакомых Рите девчонок. У нее были такие красивые вещи – длинные белые фланелевые халаты, украшенные кружевами.
И теперь, тридцать два года спустя, точно в таком же халате Дейрдре сидела на боковой зарешеченной террасе – «словно безмозглая идиотка в состоянии комы».
А изумрудный кулон, который нынче постоянно висит на шее Дейрдре, Рита впервые увидела еще в школе. Знаменитый изумруд Мэйфейров. Правда, в те дни Рита еще ничего о нем не слышала. Разумеется, Дейрдре не надевала кулон на занятия: в школе Святой Розы такого рода вольности считались непозволительными. Да и кому в голову придет без особого на то повода щеголять в таком старинном и дорогом украшении – ну разве что на карнавале в честь Марди-Гра.
Сейчас этот кулон в сочетании с ночной рубашкой и халатом выглядел просто зловеще. Как нелепо выглядит фамильная драгоценность на безнадежно больной женщине, пустым взглядом смотрящей на мир сквозь сетку террасы. Хотя… Кто знает? Вполне возможно, Дейрдре каким-то образом сознавала, что любимый кулон по-прежнему при ней.
Рите лишь однажды довелось держать в руках эту красоту. Они с Дейрдре остались в спальне одни и, воспользовавшись тем, что рядом не маячил никто из монахинь и не отчитывал нудным голосом за измятое покрывало, болтали, пристроившись на краешке кровати.
Рита с восторгом разглядывала изумрудный кулон – тяжелый камень в массивной золотой оправе – и вдруг заметила, что на его обратной стороне что-то выгравировано – кажется, какое-то имя. Но ей удалось разобрать только заглавную букву «Л».
– Нет-нет! Не читай! – испуганно вскрикнула Дейрдре. – Это секрет! – От волнения у нее покраснели щеки, а в глазах блеснули слезы. Однако она быстро успокоилась и – словно извиняясь – сжала руку Риты. Сердиться на Дейрдре было невозможно.
– Это настоящий изумруд? – спросила Рита.
Такая вещь, должно быть, стоила кучу денег.
– Да, настоящий, – ответила Дейрдре. – Этот кулон попал к нам из Европы, очень-очень давно. Когда-то он принадлежал моей прапрапрапрапрабабушке.
Они обе смеялись над всеми этими «прапра».
Дейрдре рассказывала об истории кулона как о чем-то совершенно обыденном, естественном. Впрочем, она никогда не важничала и в силу природной деликатности старалась не оскорблять чувства других. Ее все любили.
– Мне этот кулон перешел от мамы, – пояснила она. – А когда-нибудь я передам его… – Лицо ее на миг омрачила тень печали. – Ну, в общем… если у меня будет дочь.
Как и всем, кто сталкивался с этой странной девочкой, Рите вдруг отчаянно захотелось защитить ее, оградить от всех бед и неприятностей. Она обняла Дейрдре.
– Мама умерла, когда я была совсем маленькой, – продолжала Дейрдре, – я ее совсем не помню. Говорят, она выпала из чердачного окна. И еще говорят, что и ее мама тоже умерла молодой. Но мои тети не любят вспоминать об этом. Я думаю, что мы не такие, как остальные люди.
Рита обомлела. Ей еще ни от кого не приходилось слышать что-либо подобное.
– Что значит «не такие, как остальные люди», Диди? – спросила она.
– Я не знаю, как объяснить, – призналась Дейрдре. – Просто мы чувствуем какие-то вещи, ощущаем события. Мы безошибочно определяем отношение к себе со стороны других людей, их любовь или ненависть, знаем, когда они хотят причинить нам вред.
– Боже мой, Диди, да неужели кому-то в голову придет причинить тебе вред? – удивилась Рита. – Ты проживешь до ста лет и родишь десять детей.
– Я люблю тебя, Рита Мей, – сказала Дейрдре. – Ты чистосердечна и добра.
– Нет, Диди, что ты, – покачала головой Рита, вспомнив своего дружка из школы Святого Креста и то, чем они занимались.
Дейрдре как будто прочитала ее мысли:
– Нет, Рита, это не имеет значения. Ты хорошая. Даже когда у тебя неприятности, ты никогда не стремишься сделать больно другим.
Рита не до конца поняла смысл сказанного Дейрдре, но ответ ее был совершенно искренним:
– Я тоже люблю тебя, Диди.
За всю свою жизнь Рита не призналась в любви ни одной другой женщине.
Исключение Дейрдре из школы Святой Розы стало для Риты ударом, но не неожиданностью. Она знала, что это неизбежно случится.
Рита собственными глазами видела в монастырском саду Дейрдре с каким-то молодым человеком и не раз замечала, как после ужина, улучив момент, когда за ней никто не следил, подруга куда-то ускользала.
Считалось, что в это время ученицы принимают ванну и укладывают волосы. Рита всегда со смехом вспоминала об этой весьма своеобразной особенности школы Святой Розы: девочек заставляли укладывать волосы и чуть-чуть подкрашивать губы, поскольку, по словам сестры Дэниел, так полагалось по «этикету». Но волосы Дейрдре не нуждались в укладке: природа одарила ее прекрасными естественными локонами, и вполне достаточно было стянуть их лентой.
В это время Дейрдре всегда исчезала. Она первой шла в ванну, а затем сбегала по ступенькам вниз и отсутствовала до самого отхода ко сну – появлялась лишь к вечерней молитве, всегда в последний момент и всегда с раскрасневшимся от бега лицом, не забывая, однако, одарить сестру Дэниел самой невинной улыбкой. Надо сказать, что, когда Дейрдре молилась, она и в самом деле выглядела невинной.
Рита думала, что об отлучках подруги известно только ей. Дейрдре была единственным человеком, кто поддерживал ее и помогал выжить в этой тюрьме, и, когда той не было рядом, у Риты буквально опускались руки.
И вот в один из вечеров Рита отправилась на поиски Дейрдре. Может, она на качелях, думала она. Зима уже закончилась, и сумерки наступают лишь после ужина. А Дейрдре так любит сумерки…
Однако на игровой площадке Дейрдре не было. Рита дошла до открытых ворот монастырского сада, утопающего в сумеречной тьме, на фоне которой светились белые головки лилий. Монахини обычно срезали их в пасхальное воскресенье. Нет, Дейрдре не осмелится нарушить запрет и не войдет в эти ворота.
И вдруг Рита услышала голос подруги, а мгновением позже сумела разглядеть и ее саму, сидящую на каменной скамейке в густой тени низко опущенных ветвей ореховых деревьев. Сначала Рита заметила лишь светлое пятно – на Дейрдре была белая блузка – и только потом увидела лицо девушки и даже фиолетовую ленту в ее волосах. И еще она увидела рядом с ней какого-то высокого молодого человека.
Вокруг стояла удивительная тишина. Даже музыкальный автомат в негритянском баре в тот момент молчал, а из здания школы не доносилось ни звука. И огни в доме, где жили монахини, казались совсем далекими – возможно, такое впечатление создавалось из-за обилия росших вдоль аркады деревьев.
– Моя любимая… – эти слова молодого человека, обращенные к Дейрдре, были произнесены шепотом, но Рита услышала их совершенно отчетливо, равно как и ответ подруги:
– Да, я действительно слышу, что ты говоришь.
– Моя любимая, – снова прошептал он.
А потом Дейрдре заплакала и сквозь слезы произнесла что-то еще – кажется, чье-то имя. Рита не смогла толком разобрать и теперь уже никогда не узнает, правильной ли была ее догадка, но тогда ей показалось, что Дейрдре сказала:
– Мой Лэшер.
Они поцеловались. Голова Дейрдре откинулась назад, и на фоне ее черных волос отчетливо белели его пальцы.
– Я лишь хочу сделать тебя счастливой, моя любимая, – вновь донесся до Риты мужской голос.
– Боже мой… – простонала в ответ Дейрдре и вскочила со скамейки.
Через мгновение Рита увидела ее бегущей вдоль клумб с лилиями, а молодой человек исчез, словно растворился в сумраке. Поднявшийся ни с того ни с сего ветер был таким сильным, что сучья деревьев с яростью хлестали по террасам школьного здания. Казалось, весь сад неожиданно пришел в движение. И Рита была там совсем одна.
Ей стало стыдно. Она не имела права подслушивать. Рита бегом бросилась к зданию школы и буквально взлетела по деревянной лестнице на четвертый этаж.
Дейрдре вернулась лишь через час.
Рита чувствовала себя подавленной, ее мучила совесть… Как она могла шпионить за подругой?!! И все же поздней ночью, лежа без сна в постели, она вновь и вновь вспоминала слова молодого человека: «Моя любимая… Я лишь хочу сделать тебя счастливой, моя любимая…» Подумать только, и это он говорил Дейрдре!
Рите встречались лишь такие парни, которых хлебом не корми – дай при первой же возможности потискать в укромном уголке девчонку, ничего другого им и не надо. Неуклюжие и грубые ребята, вроде ее дружка Терри из школы Святого Креста. «Знаешь, Рита, кажется, ты мне здорово нравишься», – не раз повторял Терри. «Еще бы, – усмехалась в ответ она. – А знаешь почему? Да потому, что я позволяю тебе безнаказанно лапать меня. Вот так-то, жеребец».
В конце концов у ее отца лопнуло терпение. «Совсем гулящей девкой стала! – кричал он. – Ничего, пойдешь у меня в закрытую школу при монастыре. Да-да, вот туда и отправишься! Мне плевать, сколько это будет стоить».
«Моя любимая…» Эти слова навевали мысли о красивой музыке, об элегантных джентльменах из старых фильмов, которые показывали поздно ночью по телевизору… О голосах из другого времени – нежных, мягких, отчетливо выговаривающих каждое слово, – и эти слова звучали словно поцелуи.
Молодой человек, с которым встречалась Дейрдре, тоже чертовски обаятелен. Рите не удалось как следует разглядеть его лицо, но темные волосы и большие глаза она все же успела заметить. К тому же высокий и очень хорошо, элегантно одетый. Рита видела белые манжеты на его рубашке и крахмальный воротник.
Рита и сама бы не прочь встречаться в саду с таким мужчиной – ему она ни в чем не смогла бы отказать.
Рита не могла толком понять, какие чувства пробудило в ней это чужое, подсмотренное свидание. Она беззвучно плакала – но это были сладкие слезы – и знала, что на всю жизнь запомнит ту картину: притихший сад под темно-сиреневым сумеречным небом, мерцание вечерних звезд и мужской голос, с нежностью произносящий слова любви.
А потом… А потом случился весь этот кошмар: монахини устроили Дейрдре судилище. Они привели ее в комнату отдыха, а остальным девочкам велели оставаться в спальне. Но и туда доносилось каждое слово. Дейрдре расплакалась, однако ни в чем не созналась.
– Я сама видела того молодого человека! – сказала сестра Дэниел. – Ты что же, хочешь сказать, что я лгунья?
Потом Дейрдре повели в монастырь, на беседу со старой матерью Бернардой, но и той не удалось добиться успеха.
Когда сестры явились собирать вещи Дейрдре, у Риты защемило сердце. Она видела, как сестра Дэниел достала из коробочки изумрудный кулон, потом долго и пристально его разглядывала. Судя по выражению лица монахини и по тому, как она держала кулон, он казался ей дешевой стекляшкой. Рите было больно видеть, как руки сестры Дэниел касаются фамильной реликвии, как срывают с вешалок и бесцеремонно запихивают в чемодан халаты и другую одежду Дейрдре.
Вот почему, когда в конце той же недели с сестрой Дэниел стряслась большая беда, Рита не испытала ни малейшей жалости… Разумеется, она не желала старой монахине такой смерти – та задохнулась в запертой комнате из-за оставленного без присмотра газового камина, – но чему быть, того не миновать.
К тому же у Риты были другие, более важные, заботы. Вместо того чтобы оплакивать сестру Дэниел, так жестоко поступившую с Дейрдре, она искала способ связаться с подругой.
В субботу Рита собрала всю мелочь, какая у нее была, и без конца звонила из автомата на первом этаже. Кто-то ведь должен знать домашний номер Мэйфейров. Они жили на Первой улице, всего в пяти кварталах от дома Риты, однако с таким же успехом могли обитать и на другом конце света. Садовый квартал и Ирландский канал словно два противоположных полюса. Особняк Мэйфейров считался одним из самых шикарных.
А потом Рита отчаянно сцепилась с Сэнди, потому что та назвала Дейрдре сумасшедшей.
– Хочешь знать, что она делала по ночам? – ехидно спросила Сэнди. – Так я тебе расскажу! Когда все засыпали, она сбрасывала одеяла и извивалась на постели всем телом так, словно ее кто-то целовал! Я это видела собственными глазами. Рот у нее был открыт, и движения походили на… ну, ты понимаешь, что я имею в виду… в общем, когда делают это… сама знаешь что. И она действительно испытывала все эти… ощущения… как будто это и вправду происходило!
– Заткни свою грязную пасть! – закричала Рита.
Она попыталась ударить Сэнди, но тут вмешались другие девчонки. Лиз Конклин отвела Риту в сторону и велела успокоиться. А потом сказала, что свидания с тем парнем в саду – пустяки по сравнению с другими, гораздо более ужасными, поступками Дейрдре.
– Это она впустила его, Рита Мей. Я собственными глазами видела, как она провожала его наверх, на наш этаж.
Лиз говорила шепотом и все время озиралась по сторонам, словно боялась, что их кто-то подслушивает.
– Я тебе не верю, – отрезала Рита.
– Я не шпионила за Дейрдре, – оправдывалась Лиз. – Я шла в ванную и увидела их вместе в рекреации – менее чем в десяти футах от нашей спальни.
– Как он выглядел? – требовательным тоном спросила Рита, уверенная, что сейчас-то и разоблачит обманщицу – ведь в отличие от лгуньи Лиз она, Рита, его действительно видела.
Однако Лиз верно описала молодого человека: высокий, темные волосы, очень «видный». А еще добавила, что он все время целовал Дейрдре и что-то нашептывал ей на ухо.
– Нет, ты только представь, Рита Мей! Открыть все замки и привести его наверх! Дейрдре просто с ума сошла!
Позже, когда за Ритой начал ухаживать Джерри Лониган, она сказала ему:
– Я знаю лишь то, что Дейрдре – самая прекрасная девчонка, которую я встречала в своей жизни. Поверь мне, по сравнению с монахинями она была просто святой. А когда я думала, что вот-вот свихнусь в этой дыре, она утешала меня и говорила, что понимает мои чувства. Да ради нее я готова на что угодно!
Но когда Дейрдре действительно потребовалась помощь, Рита оказалась не в состоянии что-либо сделать.
Через год с небольшим после того случая отроческая жизнь Риты закончилась, о чем она не сожалела ни секунды. Рита вышла замуж за Джерри Лонигана – человека, который был старше ее на двенадцать лет. Однако присущие Джерри доброта и порядочность выгодно отличали его от всех знакомых Рите парней. Да и зарабатывал он неплохо: старейшая в их приходе похоронная контора «Лониган и сыновья» обеспечивала семье приличный доход.
Именно Джерри и сообщил Рите новости о Дейрдре – о том, что та беременна, а отец ребенка погиб в автомобильной катастрофе. И о том, что тетки – эти злобные полусумасшедшие сестры Мэйфейр – заставляют Дейрдре отказаться от ребенка.
Рита не раз кружила возле дома Дейрдре в надежде встретиться с подругой. Она должна была повидать ее, но Джерри был против и упорно отговаривал ее от визита в особняк Мэйфейров:
– С чего ты вбила себе в голову, что сможешь ей помочь? Ведь тебе прекрасно известно, что ее тетка, мисс Карлотта, – адвокат. И уж она-то найдет способ укротить Дейрдре, если та не захочет отдать ребенка.
– Рита, такие штучки уже происходили очень много раз, – поддерживал сына Рэд Лониган. – Дейрдре либо подпишет бумаги, либо окажется в сумасшедшем доме. К тому же и отец Лафферти приложил руку к этому делу. А уж если и есть в церкви Святого Альфонса священник, которому я доверяю, так это Тим Лафферти.
И тем не менее Рита не отказалась от своего намерения.
Это было самым трудным делом, которое когда-либо выпадало на ее долю, – позвонить у двери громадного особняка Мэйфейров. Естественно, дверь открыла не кто иная, как мисс Карл, которой все боялись. Позже Джерри объяснил Рите, что, если бы на звонок вышла мисс Милли или мисс Нэнси, все могло бы обернуться по-другому.
Рита вошла в дом, а точнее, буквально протиснулась мимо мисс Карл. Ну вот, дело сделано – она в доме! И тетушка Дейрдре совсем не похожа на злобную фурию – обычная деловая женщина.
– Я просто хочу повидаться с Дейрдре, – сбивчиво начала Рита. – Она была моей лучшей подругой в школе Святой Розы…
Всякий раз, когда мисс Карл произносила вежливые слова отказа, Рита продолжала настаивать, находя все новые и новые аргументы, главным из которых была их с Дейрдре близкая дружба в прошлом.
– Рита Мей!
Голос Дейрдре прозвучал откуда-то сверху, а потом на ступенях лестницы показалась и она сама – с мокрым от слез лицом, с разметавшимися по плечам спутанными волосами она босиком бежала навстречу Рите. Следом спешила толстуха мисс Нэнси.
Мисс Карл крепко схватила Риту за руку и, не обращая внимания на ее мольбы, потащила к входной двери.
– Я всего лишь минутку поговорю с ней, – просила девушка.
– Рита Мей, они собираются отобрать у меня ребенка!
Мисс Нэнси обхватила Дейрдре за талию и оторвала ее ноги от ступенек.
– Рита Мей! – пронзительно закричала Дейрдре.
В руке она держала что-то похожее на маленькую визитную карточку.
– Рита Мей, позвони этому человеку. Попроси его помочь мне.
– Отправляйтесь домой, Рита Мей Лониган! – приказным тоном потребовала мисс Карл.
Однако Рита прошмыгнула мимо нее и бросилась к подруге, которая изо всех сил отбивалась от мисс Нэнси, в то время как та, прижатая к перилам, вот-вот готова была потерять равновесие. Дейрдре попыталась перебросить Рите маленькую белую карточку, но легкий клочок бумаги, покачиваясь в воздухе, упал у основания лестницы, и к нему тут же устремилась мисс Карл.
То, что произошло потом, больше походило на потасовку за право обладания сувенирами Марди-Гра, когда карнавальное шествие движется по улицам и с платформ в толпу бросают разные безделушки. Рита толкнула мисс Карл в бок, рванулась вперед и стремительно схватила карточку, как хватают с мостовой, опережая других, какое-нибудь дешевое ожерелье.
– Рита Мей, позвони этому человеку! – кричала Дейрдре. – Скажи ему, что мне нужна его помощь.
– Обязательно, Диди, не беспокойся!
Мисс Нэнси волокла племянницу наверх Босые ноги Дейрдре молотили воздух, а ногти глубоко впились в руку толстухи. Зрелище было ужасное – иначе не скажешь.
– Отдайте мне это, Рита Мей Лониган!
Мисс Карл крепко держала Риту за запястье. Но ей каким-то образом удалось высвободиться из цепких пальцев, и она стремглав бросилась прочь, через террасу, зажав в кулаке белую карточку и слыша за спиной топот погони.
Рита неслась по дорожке, а сердце ее бешено колотилось. Боже милостивый, Пресвятая Дева Мария, ну и сумасшедший дом! Джерри расстроится, когда узнает. А что скажет Рэд?
Вдруг Рита почувствовала резкую, отвратительную боль: ее дернули за волосы. Мисс Карл почти сбила ее с ног.
– Как ты смеешь, старая ведьма?!
Рита в ярости стиснула зубы – она терпеть не могла, когда ее дергали за волосы. В таких скверных переделках ей еще бывать не доводилось.
Мисс Карл пыталась любой ценой завладеть белым клочком бумаги, выкручивая его из пальцев Риты, однако девушка крепко сжимала кулак. Другой рукой мисс Карл по-прежнему резко и сильно дергала Риту за волосы, словно намеревалась вырвать их с корнем.
– Перестаньте! – орала Рита. – Я предупреждаю вас! Слышите, я предупреждаю вас!
Господи, ну не драться же, в самом деле, с пожилой женщиной!
Но когда мисс Карл в очередной раз рванула волосы Риты, та все-таки ударила старую ведьму правой рукой в грудь, отчего мисс Карл упала прямо в кусты. Если бы ветви не росли столь густо, она непременно свалилась бы на землю.
Рита выбежала из ворот.
В пылу сражения она и не заметила, что погода портится, а теперь буря разразилась над самой головой. Мощные черные сучья дубов с громким рокотом раскачивались на ветру, деревья поменьше тревожно зашелестели листвой. Ветви яростно хлестали по стенам дома, скребли крышу террасы верхнего этажа. Внезапно до Риты донесся звон разбитого стекла.
Она остановилась и оглянулась: на особняк обрушился целый дождь из зеленых листочков, мелкие веточки и прутики сыпались на землю. Так бывает только во время урагана. Мисс Карл стояла на дорожке, устремив пристальный взгляд на беснующиеся вверху кроны деревьев. К счастью, руки и ноги у нее, похоже, были целы.
Великий Боже! Вот-вот начнется ливень, и Рита вымокнет до нитки еще прежде, чем доберется хотя бы до Мэгазин-стрит. В довершение к выдранным волосам еще и промокнуть насквозь – нет, это уж слишком! Слезы сами собой хлынули из глаз. Ну и видок у нее был, наверное, в тот момент!
Однако обошлось без дождя. Рита благополучно вернулась домой, но когда она наконец рухнула на стул в кабинете Джерри, то чувствовала себя совершенно раздавленной.
– Я же говорил, нельзя было туда ходить, ни в коем случае! – упрекнул ее муж. – Дорогая, эти старые семейные кланы способны все обернуть против нас!
К сожалению, в тот момент у него не было времени на разговоры. Вот-вот должен был начаться вынос покойника, и Джерри следовало помогать отцу.
Но Рита, не в силах больше сдерживаться, разрыдалась – ей необходимо было выплакаться.
– Ты только посмотри, Джерри! Во что она превратилась! – сквозь слезы воскликнула она, бросив взгляд на все еще остававшуюся в руке визитную карточку – измятую, влажную от пота. – Ни единой цифры не разобрать! – И Рита заплакала еще горше.
– Погоди, для начала постарайся хоть немного прийти в себя.
Джерри по обыкновению был спокоен и терпелив. Доброта и уравновешенность всегда служили отличительными чертами его характера. Он склонился над Ритой, взял карточку и аккуратно расправил ее на сукне письменного стола. Потом достал увеличительное стекло…
Средняя часть листочка бумаги пострадала меньше всего, и в центре его отчетливо читалось написанное крупным шрифтом слово:
«ТАЛАМАСКА».
Все! Больше ничего на листочке не сохранилось! Буквы и цифры в нижней его части превратились в бесформенные пятнышки черной типографской краски на размякшем белом картоне.
– Боже мой! Диди! Бедная моя Диди! – опять запричитала Рита.
Джерри положил карточку между двумя толстыми книгами, но и это не помогло. Подошедший тем временем Рэд внимательно рассмотрел изуродованный белый клочок, но тоже ничем не смог помочь невестке. Этот человек знал почти все и всех, однако слово «Таламаска» слышал впервые. Будь то названием одной из гильдий, имеющих отношение к празднованию Марди-Гра, он бы наверняка вспомнил.
– Смотри, на обратной стороне что-то написано чернилами, – сказал Рэд. – Взгляни.
И действительно, на обороте карточки было имя: Эрон Лайтнер – но номер телефона отсутствовал. Вся информация определенно находилась на лицевой стороне. Листок попробовали прогладить горячим утюгом, но и это не помогло.
Рита сделала все, что было в ее силах.
Она просмотрела телефонную книгу, пытаясь найти Эрона Лайтнера или Таламаску. Потом позвонила в справочное бюро и долго пытала оператора, умоляя уточнить, нет ли каких-либо номеров, не попавших в основные списки. Она даже просмотрела колонки рекламных объявлений в нескольких газетах.
– Не забывай, что, когда эта карточка оказалась у тебя, она уже была старой и потертой, – напомнил ей Джерри.
Пятьдесят долларов, потраченных на частные объявления, тоже не принесли никаких результатов. Отец Джерри посоветовал Рите оставить это безнадежное дело, хотя – надо отдать ему должное – ни словом не упрекнул ее за все предпринятые усилия.
– Девочка, не ходи больше в тот дом, – сказал ей Рэд. – Ни мисс Карлотта, ни ей подобные меня не пугают. Просто я не хочу, чтобы ты крутилась возле таких людей.
Рита заметила, как переглянулись при этом Джерри и Рэд. Отцу с сыном явно было известно нечто такое, о чем они не желали распространяться. Рита знала, что много лет назад именно похоронное бюро «Лониган и сыновья» занималось организацией похорон матери Дейрдре, когда бедняжка вывалилась из окна. Рита много об этом слышала. Рэд помнил и ту самую бабушку Дейрдре, которая, по словам подруги, тоже «умерла молодой».
Но об остальном отец и сын Лониганы помалкивали, как и подобает гробовщикам. Да и Рите было не до рассказов об этом красном доме и его обитательницах – ей и без того хватало поводов для расстройства.
И вновь, как когда-то в монастырской школе, Рита каждый вечер засыпала в слезах. Оставалось только надеяться, что Дейрдре каким-то образом попались на глаза объявления в газетах и она все же знала о стараниях Риты выполнить просьбу подруги.
Прошел еще год, прежде чем Рита снова увидела Дейрдре. Девочку, которую та родила, увезли в Калифорнию. Заботу о ребенке взяли на себя какие-то родственники Мэйфейров – хорошие люди, как говорили, и богатые. Он – адвокат, как и мисс Карл.
Сестра Бриджет-Мэри из приходской школы Святого Альфонса рассказывала Джерри, что девочка просто прелесть и в отличие от черноволосой Дейрдре блондинка. Отец Лафферти позволил матери лишь один раз поцеловать ребенка и тут же унес его.
От этих слов Риту пробрала дрожь. Так люди целуют покойника, прежде чем закрыть крышку гроба. Подумать только! Сказать: «Поцелуй твое дитя» – и навсегда лишить малышку материнской ласки!
Стоит ли удивляться, что Дейрдре помутилась рассудком и ее прямо из родильного отделения отправили в лечебницу.
– В этой семье такое не впервые, – покачав головой, сказал Рэд Лониган. – Лайонел Мэйфейр умер в смирительной рубашке.
Рита спросила, о ком идет речь, но свекор не ответил.
– С ней нельзя так обращаться, – сокрушенно произнесла Рита. – Дейрдре такая милая и ласковая. Ведь она и мухи не обидит.
Как только Рита узнала, что Дейрдре наконец снова вернулась домой, она в первое же воскресенье отправилась к мессе в часовню, находившуюся в Садовом квартале. Там молились преимущественно богатые люди, не посещавшие ни одну из двух больших приходских церквей на Мэгазин-стрит: церковь Святого Альфонса и церковь Святой Марии.
Рита пошла к десятичасовой мессе, решив про себя, что если не встретит Дейрдре в часовне, то на обратном пути непременно заглянет в особняк Мэйфейров. К счастью, этого не понадобилось, поскольку Дейрдре была на службе в сопровождении мисс Белл и мисс Милли. Слава Богу, с ними не было мисс Карлотты.
Выглядела Дейрдре ужасно – сущий призрак, как сказала бы мать Риты. Под глазами Дейрдре темнели круги. На ней было старое, лоснящееся габардиновое платье, да еще и с подкладными плечиками. Оно совершенно ей не шло и, должно быть, принадлежало кому-то из теток.
После мессы, когда Дейрдре вместе с ни на минуту не оставлявшими ее одну тетушками спускалась по мраморным ступеням, Рита набралась смелости и бросилась следом.
Удивительная улыбка Дейрдре осталась прежней, но когда она попыталась заговорить, то не смогла произнести ни слова и лишь едва слышно выдохнула:
– Рита Мей!
Рита наклонилась, чтобы поцеловать подругу.
– Диди, я пыталась сделать то, о чем ты меня тогда просила, – тихо прошептала она. – Но мне так и не удалось разыскать того человека. От карточки почти ничего не осталось.
Ответом ей был лишь отсутствующий взгляд широко раскрытых глаз. Такое впечатление, что Дейрдре вообще не поняла, о чем идет речь. Неужели забыла? Хорошо, что хоть тетушки не обращали на них внимания. Мисс Белл и мисс Милли обменивались приветствиями с другими прихожанами. Впрочем, старая мисс Белл давно уже вообще ничего не замечала.
Но тут Дейрдре словно вдруг вспомнила, и на лице ее вновь появилась та же необыкновенная улыбка.
– Не переживай, Рита Мей… – мягко сказала она, коснувшись пальцев Риты, а потом наклонилась и поцеловала ее в щеку.
Но тут подошла мисс Милли:
– Нам пора идти, дорогая.
«Не переживай, Рита Мей…» – в этих словах была вся Дейрдре Мэйфейр – самая прекрасная девушка из всех, кого Рита когда-либо знала.
Вскоре после их встречи Дейрдре опять попала в лечебницу. Люди видели, как она босиком разгуливала по Джексон-авеню и разговаривала сама с собой. А еще через какое-то время до Риты дошли слухи, что Дейрдре поместили в психиатрическую лечебницу в Техасе, что она «неизлечимо больна» и никогда не вернется домой.
Когда умерла старая мисс Белл, Мэйфейры, как всегда, обратились к «Лонигану и сыновьям». Возможно, мисс Карл даже не помнила о стычке с невесткой владельца похоронного бюро. На церемонию съехались родственники со всех концов страны, но Дейрдре среди них не было.
Рэд Лониган терпеть не мог старое Лафайеттское кладбище, где на каждом шагу попадались полуразрушенные от времени могилы, в глубине которых виднелись сгнившие гробы и даже кости. После каждой церемонии похорон на этом кладбище он чувствовал себя совершенно больным и разбитым.
– Но Мэйфейры хоронят здесь своих покойников с тысяча восемьсот шестьдесят первого года, – говорил он. – И можете мне поверить, за своим склепом они следят как полагается – в этом им следует отдать должное. Каждый год красят литую чугунную решетку. А когда приезжают туристы, им прежде всего показывают, конечно же, усыпальницу Мэйфейров. Там ведь лежит не одно поколение, даже младенцы. Сколько имен высечено на надгробных камнях со времен Гражданской войны! Жаль, что остальная часть кладбища в столь плачевном состоянии. Ходят разговоры, что не сегодня завтра его вообще сровняют с землей.
Но разговоры утихли, а Лафайеттское кладбище осталось в неприкосновенности. Слишком уж оно было привлекательным для туристов. Да и обитатели Садового квартала любили это кладбище. Вот почему вместо окончательного разрушения его привели в относительный порядок: убрали мусор, отремонтировали и заново побелили стены и посадили новые деревья магнолии. Но все равно здесь оставалось достаточно ветхих могил для любителей поглазеть на человеческие кости. Как-никак кладбище было «историческим памятником».
Однажды Рэд привел сюда Риту, чтобы показать ей могилы тех, кого унесла эпидемия желтой лихорадки. На надгробных табличках она увидела длинные списки имен: в течение нескольких дней эпидемия уносила целые семьи, люди умирали друг за другом. Лониган показал невестке и усыпальницу Мэйфейров – внушительное сооружение, внутри которого находились двенадцать больших – величиной с печь – склепов. По периметру тянулась узкая полоса травы, окаймленная невысокой чугунной оградой. Две мраморные вазы на ступеньке возле входа были заполнены великолепными свежесрезанными лилиями, гладиолусами и множеством других цветов.
– А они действительно следят за своей усыпальницей, – восхищенно сказала Рита.
Рэд Лониган тоже смотрел на цветы. Но молчал – словно задумался о чем-то. Через какое-то время он откашлялся и, указывая на таблички с именами, назвал тех из усопших Мэйфейров, кого знал лично.
– Здесь лежит Анта Мария, умерла в тысяча девятьсот сорок первом году. Это, как ты понимаешь, мать Дейрдре.
– Та, что упала из окна, – уточнила Рита.
Но Рэд снова никак не отреагировал на ее слова.
– Смотри, а здесь покоится Стелла Луиза, умершая в тысяча девятьсот двадцать девятом году. Мать Анты. Там, поодаль, – ее брат Лайонел, его похоронили в том же году. После того как он застрелил Стеллу, оставшиеся дни жизни ему пришлось провести в смирительной рубашке.
– Уж не хочешь ли ты сказать, что он застрелил собственную сестру? – удивилась Рита.
– Именно так все и было, – ответил Рэд.
Потом он стал рассказывать о тех, кто умер раньше.
– Гляди, там лежит мисс Мэри-Бет, мать Стеллы и ныне здравствующей мисс Карл. Мисс Милли на самом деле является дочерью Реми Мэйфейра. Он приходился дядей мисс Карл и умер на Первой улице, но это было еще до моего рождения. Зато я помню Джулиена Мэйфейра. Он принадлежал к числу тех, кого принято называть незабвенными. До самого дня своей смерти Джулиен превосходно выглядел… Так же как и его сын Кортланд, который скончался в тот самый год, когда Дейрдре родила ребенка. Кортланда, однако, хоронил не я – он с семьей жил в Метэри. Говорили, что его доконала вся эта возня вокруг ребенка. Как бы то ни было, он прожил целых восемьдесят лет… Мисс Белл – старшая сестра мисс Карл. А вот мисс Нэнси – сестра Анты. Помяни мое слово, следующим здесь появится имя мисс Милли.
Риту мало интересовали обладатели всех этих имен. Она думала о Дейрдре: вспоминала, как в те давние дни они сидели рядышком в спальне школы Святой Розы, рассматривая изумрудный кулон. Дейрдре тогда сказала, что он перешел к ней от Стеллы и Анты.
Она рассказала об этом Рэду, но тот не удивился, а лишь кивнул и прибавил, что еще раньше изумрудный кулон принадлежал мисс Мэри-Бет, а до нее – мисс Кэтрин, которая и построила этот дом на Первой улице. Однако Рэду не довелось встречаться с ней. Первым из Мэйфейров, кого он знал лично, был Джулиен.
– Я давно обратила внимание на одну странность, – заметила Рита. – В этой семье все без исключения женщины носят фамилию Мэйфейр. Почему же они не брали фамилии своих мужей?
– Нельзя, – коротко ответил Рэд. – Если бы они это сделали, то не получили бы ни цента из капитала Мэйфейров. Так было заведено очень давно. Чтобы иметь доступ к деньгам Мэйфейров, нужно носить эту фамилию. Кортланд Мэйфейр досконально разбирался во всем этом. Он был очень знающим и дотошным адвокатом и никогда не работал ни на кого, кроме семейного клана. Помню, он однажды сказал мне, что таковы условия наследования.
Рэд снова пристально уставился на цветы.
– Почему тебя так заинтересовали эти вазы? – спросила Рита.
– Да так, есть одно давнее предание, связанное с ними, – ответил Рэд. – Будто бы эти вазы никогда не бывают пустыми.
– А разве не мисс Карлотта отдает распоряжение, чтобы туда поставили свежие цветы? – удивилась Рита.
– Не знаю, по чьему распоряжению, но кто-то постоянно следит за этим.
Рэд вновь погрузился в привычное молчание. То, что он рассказал Рите, было лишь малой крупицей известных ему фактов, но об остальном он никогда и никому словом не обмолвился.
Когда через год после разговора на кладбище Рэд Лониган умер, у Риты было такое чувство, будто она потеряла родного отца. Правда, горечь утраты соседствовала в ее душе с самым заурядным любопытством: сколько же тайн унес с собой в могилу этот старик? Свекор был всегда очень добр к Рите. После смерти отца Джерри изменился. Всякий раз, когда ему приходилось иметь дело со старыми семейными кланами, он становился нервозным.
Дейрдре вернулась домой в 1976 году. Говорили, что после множества сеансов шоковой терапии она начисто потеряла разум и превратилась в живую, но безучастную ко всему куклу.
Отец Мэттингли, бывший приходский священник, навещал ее, а после рассказал Джерри, что мозг Дейрдре совершенно разрушен и теперь она не более разумна, чем младенец или впавшая в детство старуха.
Рита тоже отправилась навестить Дейрдре. Со дня их потасовки с мисс Карл прошло немало лет. За это время Рита стала матерью троих детей и теперь совершенно не боялась престарелой мисс Карл. В подарок Дейрдре она купила в магазине Холмса очень красивую белую шелковую ночную сорочку.
Мисс Нэнси провела ее на террасу.
– Посмотри, Дейрдре, что принесла тебе Рита Мей Лониган, – сказала она.
Действительно, живая безучастная кукла: опухшие и словно ватные ноги, свешивающаяся набок голова, безжизненный, устремленный в пространство взгляд. И как ужасно было видеть прекрасный изумрудный кулон на ее шее – такое драгоценное украшение поверх фланелевого халата иначе как издевательством не назовешь.
И тем не менее это была Дейрдре, все еще нежная, все еще красивая…
Рита поспешила уйти.
Больше она никогда не заходила в этот дом, но хотя бы раз в неделю непременно оказывалась на Первой улице, чтобы просто остановиться у забора и махнуть Дейрдре рукой. Бедняжка даже не замечала ее, тем не менее Рита упорно продолжала это делать. Шло время, и ей стало казаться, что бывшая подруга похудела и двигалась все более скованно; руки ее уже не лежали на коленях, а были неестественно плотно прижаты к груди. Правда, Рита наблюдала за Дейрдре лишь издали, а потому не могла утверждать это наверняка. Она по-прежнему останавливалась у забора и приветственно взмахивала рукой.
Когда в прошлом году умерла мисс Нэнси, Рита объявила, что пойдет на похороны.
– Это ради Дейрдре, – оправдывалась она перед мужем.
– А ей-то это зачем? – удивился Джерри. – Дейрдре даже не узнает, что ты была на кладбище. За все эти годы она не произнесла ни звука.
Доводы мужа не убедили Риту. Она приняла решение и не желала отступать.
Что касается Джерри, он не хотел иметь вообще никаких дел с Мэйфейрами. Ах, как ему в тот момент недоставало отца!
– Черт побери, почему они не обратятся в какую-нибудь другую похоронную контору? – ворчал он сквозь зубы.
После смерти Лонигана-старшего так поступали многие. А этим Мэйфейрам приспичило соблюдать традицию! Джерри ненавидел старые кланы.
– Хорошо еще, что хоть на этот раз мы имеем дело с естественной смертью. По крайней мере, они утверждают, что все именно так, – вдруг сказал он.
Слова мужа по-настоящему озадачили Риту.
– Так что же, смерти мисс Белл и мисс Милли не были естественными? – спросила она.
Закончив подготовку к погребению мисс Нэнси, Джерри вернулся домой и поделился с Ритой впечатлениями. По его словам, обстановка в особняке была просто ужасная.
Комната – как в давние времена. Портьеры спущены. Под изображением Матери Всех Скорбящих – две зажженные свечи. Комната провоняла мочой. И плюс еще мисс Нэнси, которая до его прихода несколько часов пролежала в запертом помещении в такую жару.
А внизу, на террасе, затянутой проржавевшей сеткой от комаров, – Дейрдре, точно живой манекен. И рядом с ней – цветная сиделка, держащая Дейрдре за руку и громко читающая молитвы, словно несчастная Дейрдре осознает ее присутствие, не говоря уже о том, что понимает слова молитвы Пресвятой Деве.
Мисс Карлотта не захотела входить в комнату Нэнси и осталась стоять в коридоре, скрестив на груди руки.
– Мисс Карл, у покойной полно царапин на руках и на ногах, – сказал Джерри. – Она что, где-нибудь упала?
– Первый приступ случился с ней на лестнице, мистер Лониган.
Господи, как Джерри в тот момент не хватало рядом отца! Рэд Лониган знал, как вести себя с этими старыми семейными кланами.
– Ну скажи мне, Рита, какого дьявола ее не отправили в больницу? Ведь сейчас не середина девятнадцатого века, а конец двадцатого. Можешь ты объяснить, в чем тут дело?
– Некоторые люди хотят умереть дома, вот и все, – ответила Рита.
Разве ему не дали заверенное подписью врача свидетельство о смерти? Разумеется, дали. Уж куда без этого! Но Джерри все равно ненавидел старинные семейные кланы со всеми их тайнами.
– Никогда не знаешь, что они выкинут, – выругавшись, проворчал Джерри. – Я говорю не только о Мэйфейрах, но о любой такой семейке.
В прежние времена родственники собирались в зале прощания, приносили с собой все необходимое и сами одевали и гримировали покойника. Теперь никто не занимается «таким безумием».
Джерри вспомнились веселые ирландские парни, подряжавшиеся нести гроб. Они всю дорогу перекидывались шуточками, при этом самые хитрые еще умудрялись смухлевать и переложить тяжесть на плечи своих собратьев. А на кладбище порой дурачились так, словно пришли на празднование Марди-Гра.
А истории, которые рассказывали на поминках перед погребением, вспомнить жутко. Сестра Бриджет-Мэри, помнится, однажды поведала о том, как мамаша с детьми плыла на пароходе из Ирландии в поисках лучшей жизни. Малыш в люльке ревел не переставая. А мать возьми да и припугни малютку – мол, если не прекратит плакать, она выбросит его за борт. А потом ей понадобилось зачем-то отойти, и она велела второму ребенку, постарше, присматривать за люлькой. Вернулась она – в люльке пусто, а старшенький ей объяснил, что ребенок опять начал реветь, как пароходная сирена, ну, он и швырнул его в воду.
Вот это история! В самый раз рассказывать, когда сидишь возле гроба!
Рита невольно улыбнулась. Ей всегда нравилась старая сестра Бриджет-Мэри.
– Но Мэйфейры не из ирландцев, – сказала она. – Они богатые люди, а богатые так себя не ведут.
– Ошибаешься, Рита Мей, они из ирландцев. Во всяком случае, в них достаточно ирландской крови для всяких сумасбродств. Например, их дом строил знаменитый ирландский архитектор Дарси Монехан – отец мисс Мэри-Бет. А мисс Карл – дочь судьи Макинтайра, так тот из числа первых ирландских переселенцев, настоящий человек старого закала. Нет, Рита, они из ирландцев. Такие же потомки, как и все мы.
Риту изумила неожиданная словоохотливость мужа. Она не сомневалась, что Мэйфейры досаждали ему не в меньшей степени, чем когда-то его отцу. Однако до сих пор никто не удосужился посвятить Риту во все подробности истории этого рода.
Рита отправилась в часовню, на панихиду по мисс Нэнси. За похоронной процессией она ехала в своей машине. Из уважения к Дейрдре траурный кортеж проехал по Первой улице. Но едва ли Дейрдре обратила внимание на катившие мимо старого дома черные лимузины.
Боже, как много Мэйфейров собралось на эти похороны! Понаехали буквально отовсюду! По выговору Рита распознала жителей Нью-Йорка, Калифорнии и даже южан из Атланты и Алабамы. И конечно, в полном составе были местные, новоорлеанские, Мэйфейры. Заглянув в траурную книгу, Рита глазам своим не поверила. Там стояли подписи Мэйфейров, обитавших в центре города и на его окраинах, и даже в Метэри – на другом берегу реки.
На кладбище появился даже какой-то англичанин, седовласый джентльмен в полотняном костюме и с тросточкой в руках. Как и Рита, он стоял поодаль, в стороне от родственников.
– Ну и несносная жара сегодня, – заметил он с изысканным английским произношением.
Когда, проходя по дорожке, Рита споткнулась, он подхватил ее под руку. Очень любезно с его стороны.
Интересно, а как относятся все эти люди к старому дому – родовому гнезду Мэйфейров – и что они думают о Лафайеттском кладбище, полном заплесневелых склепов? Собравшиеся теснились в узких проходах между могилами, некоторым приходилось даже вставать на цыпочки, поскольку надгробные памятники мешали видеть церемонию. А тут еще у ворот остановился автобус с туристами, и те во все глаза наблюдали за происходящим. Еще бы! Нечасто доводится стать свидетелями такого зрелища!
Самым большим потрясением для Риты стало, пожалуй, присутствие среди прочей родни той женщины, которая удочерила ребенка Дейрдре, – Элли Мэйфейр из Калифорнии. Пока священник читал заключительные молитвы, Джерри показал ей эту особу. Оказывается, за последние тридцать лет она расписывалась в траурной книге на всех похоронах. Высокая, темноволосая, в голубом льняном платье без рукавов, красиво оттенявшем загорелую кожу. Голову ее прикрывала большая белая шляпа – какие носят от солнца, – а глаза прятались за темными стеклами очков. Ну прямо кинозвезда! К ней то и дело подходил кто-нибудь из членов семейства, пожимал ей руку или целовал в напудренную щеку, а некоторые низко склонялись и шепотом обменивались с ней парой реплик – быть может, расспрашивали о дочери Дейрдре.
«Рита Мей, они собираются отобрать у меня ребенка!» – при воспоминании об этом отчаянном крике души Рита невольно прослезилась и поспешила вытереть глаза, пока другие не заметили в них предательскую влагу.
Куда же она спрятала кусочек белой карточки с уцелевшим словом «Таламаска»? Наверное, лежит где-нибудь между страниц молитвенника. Рита никогда ничего не выбрасывала…
Может, стоит поговорить с этой женщиной, подойти и спросить, как связаться с ее воспитанницей? Наверное, девушке следует знать то, о чем хотела бы рассказать ей Рита. Хотя, с другой стороны, какое право она имеет вторгаться в чужую жизнь? И все же, если Дейрдре умрет и Рита вновь встретит Элли Мэйфейр, она непременно найдет возможность поговорить с ней – тогда уж ничто ее не остановит.
Рита едва не разрыдалась в голос. Все, наверное, думают, что она скорбит по старой мисс Нэнси, – как бы не так! Рита отвернулась, пытаясь спрятать лицо, и вдруг поймала на себе пристальный взгляд незнакомого английского джентльмена. Рита слегка махнула рукой, словно желая сказать: «Что удивительного, это же похороны».
Однако англичанин подошел к ней, подал руку и помог дойти до скамейки. Когда Рита села и огляделась вокруг, ей показалось – нет, она готова была поклясться в этом! – что мисс Карл во все глаза глядит на нее и на этого англичанина. Однако мисс Карл стояла довольно далеко от них, и к тому же солнце светило прямо в стекла ее очков. Возможно, старуха ничего и не заметила.
Англичанин протянул Рите маленькую белую визитную карточку и сказал, что хотел бы побеседовать при других обстоятельствах. Риту удивила его просьба, тем не менее она взяла карточку и положила в карман.
Поздним вечером в поисках листочка с молитвой, полученного на похоронах, Рита наткнулась на врученную англичанином визитку…
Нет! Не может быть! Через столько лет она вновь прочла то же слово и то же имя: «Таламаска» и «Эрон Лайтнер».
Рите на мгновение показалось, что сейчас она грохнется в обморок. Возможно, она совершила большую ошибку. После лихорадочных поисков она все же нашла ту, старую, карточку – вернее, то, что от нее осталось… Да, все в точности совпадает. Правда, на сегодняшней визитке англичанин от руки написал название расположенного в центре города отеля «Монтелеоне» и указал номер, в котором там остановился.
Рита разыскала Джерри – возле кухонного стола с бокалом в руках.
– Рита, тебе нельзя разговаривать с этим человеком. Ты не должна ничего рассказывать ему о Мэйфейрах.
– Но я просто обязана рассказать ему о том, что произошло тогда, много лет назад, и о том, что Дейрдре пыталась связаться с ним.
– Послушай, Рита Мей, все это в прошлом. Тот ребенок давно уже не ребенок, а взрослая женщина – будущий врач. Как я сегодня слышал, она собирается стать хирургом.
– Для меня это не имеет значения, Джерри.
Рита снова заплакала, но слезы не помешали ей сделать то, что она считала в данный момент необходимым. Всхлипывая и вытирая глаза, Рита украдкой смотрела на карточку и запоминала все, что там было написано, – прежде всего, номер комнаты Лайтнера в отеле и его лондонский телефон.
Джерри вдруг выхватил у нее визитку и опустил в карман своей рубашки – впрочем, именно этого Рита и ожидала, а потому не сказала ни слова и молча продолжала плакать. Ее муж – прекраснейший человек, но этого ему не понять.
– А знаешь, дорогая, ты правильно сделала, что сходила на похороны, – сказал Джерри.
Рита больше не заикалась об англичанине – не хотелось затевать новый спор с мужем. По крайней мере до тех пор, пока она не соберется с мыслями и не примет какое-то решение. Она сменила тему:
– Хотелось бы мне знать, что эта девушка из Калифорнии знает о своей настоящей матери. Известно ли ей, что Дейрдре силой вынудили отказаться от собственного ребенка?
– Дорогая, выброси-ка ты это из головы.
В жизни Риты не было более яркого впечатления, чем сцена, подсмотренная в саду монахинь: Дейрдре наедине с тем молодым человеком и их разговор о любви. Незабываемые сумерки… Конечно, Рита рассказывала об этом Джерри, но он не понял. Надо самому оказаться в том месте, ощутить аромат лилий и увидеть сквозь ветки небо, похожее на темно-синее витражное стекло.
Подумать только: та девушка, будущий врач, так и не знает, какой была ее настоящая мать…
Джерри покачал головой. Он снова наполнил бокал бурбоном и залпом осушил почти половину.
– Дорогая, если бы ты знала об этих людях столько, сколько знаю я.
Похоже, Джерри успел выпить слишком много. В трезвом виде из него слова не вытянешь. Хороший гробовщик не может быть сплетником. Однако Рита не стала мешать мужу – ей было только на руку, что того потянуло на разговоры.
– Пойми, радость моя, – начал он. – Дейрдре не было места в этой семье. Можно сказать, что она проклята с самого рождения. Так говорил мой отец.
Когда умерла мать Дейрдре, Джерри еще учился в школе. Бедняжка выбросилась из чердачного окна и лежала во внутреннем дворике с расколотым черепом. Дейрдре тогда была совсем крошечной, как, впрочем, и Рита. Но Джерри уже вовсю помогал своему отцу.
– Говорю тебе, мы отскребали ее мозги с плит из песчаника. Жуткое зрелище. Такая красивая девчонка – всего двадцать лет! Если уж говорить о внешности, твоей Дейрдре далеко до матери. Но ты бы видела, что тогда случилось с деревьями. Над домом словно бушевал ураган. Огромные стволы, даже самые толстые магнолии, буквально сгибало в дугу, как прутики.
«Я тоже наблюдала подобную картину», – хотела было сказать Рита, но промолчала, не желая перебивать мужа.
– Самое скверное было потом, когда мы вернулись и отец внимательно осмотрел тело Анты. «Смотри-ка! – воскликнул он. – Откуда могли взяться эти царапины вокруг глаз? Падение здесь ни при чем – под теми окнами не было ни одного дерева…» А потом отец обнаружил, что один глаз буквально вырван из глазницы… Он хорошо знал, что полагается делать в таких ситуациях.
Отец тут же позвонил доктору Фитцрою. Сказал ему, что необходимо произвести вскрытие. Врач начал спорить, но отец настаивал на своем. Наконец доктор Фитцрой раскололся и сообщил ему, что с Антой Мэйфейр случился приступ буйного помешательства, во время которого она едва не выцарапала себе глаза. Мисс Карл пыталась помешать ей. Тогда Анта бросилась на чердак. Да, она действительно выбросилась из окна, но в тот момент была совершенно не в себе. Мисс Карл явилась свидетельницей трагической сцены. И совсем незачем распространяться об этом, иначе люди начнут судачить и об этой истории пронюхают газетчики. Разве эта почтенная семья мало хлебнула горя со Стеллой? А если мистер Лониган в этом сомневается, сказал доктор Фитцрой, пусть сходит в церковь Святого Альфонса и поговорит с приходским священником.
В конце концов отец заявил, что не верит в правдивость такой версии и в то, что Анта сделала это сама в припадке буйного помешательства, однако если доктору угодно указать в свидетельстве о смерти именно такую причину, что ж, он, мистер Лониган, сделал все, что мог, и его совесть чиста.
И никакого вскрытия не производили.
Отец был абсолютно уверен в справедливости собственных подозрений – а иначе зачем бы он заставил меня клясться, что я ни единой живой душе не расскажу о том, что произошло? Тогда мы были с ним очень близки, и я действительно здорово ему помогал. Он знал, что может довериться мне. Так же как я сейчас доверяюсь тебе, Рита Мей.
– Какой ужас! Подумать только – выцарапать собственные глаза! – прошептала Рита, моля в душе Бога, чтобы Дейрдре никогда об этом не узнала.
– Это еще не все, – откликнулся Джерри, наливая себе новую порцию бурбона. – Когда мы стали готовить Анту к погребению, мы нашли на ней изумрудный кулон. Тот самый, который теперь на Дейрдре, – знаменитый изумруд Мэйфейров. Цепочка обмоталась вокруг шеи, и сам изумруд оказался на затылке, в волосах. Камень был весь в крови и Бог знает в чем еще. Знаешь, даже мой отец, который чего только в жизни не перевидал, был, кажется, не в своей тарелке, когда очищал изумруд от волос и мельчайших осколков костей. Он тогда произнес странную фразу – вроде того что ему не впервые приходится смывать с этого кулона кровь и что так уже было со Стеллой Мэйфейр, матерью Анты.
Рита вспомнила, как давно, еще в школе Святой Розы, она видела кулон в руке Дейрдре. Вспомнила она и тот день, когда Рэд Лониган показал ей имя Стеллы на могильной плите.
– С той самой Стеллой, которую застрелил собственный брат? – спросила Рита.
– Да. А вообще, отец рассказывал жуткие истории об этом семействе. Стелла была, пожалуй, самой бешеной и неуемной в своем поколении. Еще при жизни своей матери она едва ли не каждый вечер устраивала шумные сборища. Все вокруг сияло в огнях, выпивка, которую доставали из-под полы, лилась рекой, играл целый оркестр… Одному Богу известно, как к этому относились мисс Карл, мисс Милли и мисс Белл. Но когда она стала водить домой кавалеров, Лайонел решил вмешаться и застрелил сестру. Он был невероятно ревнивый. Все присутствовавшие в зале слышали, как он угрожал убить ее, прежде чем ею овладеет другой мужчина.
– Подожди, о чем ты говоришь? – удивилась Рита. – Получается, брат с сестрой были любовниками?!!
– А почему бы нет, прелесть моя? – ответил Джерри. – Вполне возможно. Ведь никто так и не узнал имя отца Анты. Как считали, им вполне мог оказаться Лайонел. Ходили даже слухи… Впрочем, Стелле было наплевать, кто и что о ней думает. Поговаривали, что, даже будучи беременной Антой, она собирала своих подружек на пирушки. И ее ничуть не волновало, что у нее будет внебрачный ребенок.
– Слушай, я просто ушам своим не верю! – прошептала Рита. – Джерри, это в те-то времена!
– Что было, то было, дорогая. Кое-какие подробности мне довелось узнать от других – отец-то не все мне рассказывал. Когда Лайонел выстрелил Стелле в голову, тут такое началось… Все как с ума посходили, в панике поразбивали окна и бросились прочь. Анта в это время находилась наверху. Услышав шум, она спустилась вниз. Представь себе зрелище: ребенок спускается в зал, не понимает, почему и зачем все бегут, и вдруг видит на полу свою мать, мертвую…
Риту передернуло. На память пришли слова Дейрдре о том, что ее мама, по слухам, тоже умерла молодой, но о ней никогда не рассказывали.
– После убийства Стеллы Лайонел попал в сумасшедший дом и провел там остаток жизни. Отец не раз повторял, что наследника Мэйфейров свело с ума чувство вины. Лайонел постоянно упоминал какого-то дьявола, который не оставляет его в покое, и утверждал, что дьявол послан его сестрой-ведьмой, дабы забрать его. Во время одного из припадков он и умер – подавился собственным языком, а рядом никого не оказалось. Когда открыли дверь обитой войлоком палаты, он был уже мертв и даже успел почернеть. В этот раз всё сделали по правилам: позвали прозектора и произвели вскрытие. Однако царапины на лице мертвой Анты до конца дней не давали покоя моему отцу.
– Бедная Диди. Она должна была что-то чувствовать.
– Конечно, – согласился Джерри. – Такие вещи даже новорожденный младенец чует. А когда мы с отцом уносили тело Анты со двора, то слышали, как маленькая Дейрдре буквально выла, словно чувствуя, что ее мать умерла. И никто не взял этого ребенка на руки, не покачал, не успокоил. Говорю тебе, с самого рождения над ней висело проклятие. При всем, что творилось в их семье, у нее не было шансов остаться в здравом уме. Потому-то дочку Дейрдре и отослали подальше от этого дома, на запад. И на твоем месте, дорогая, я не стал бы совать нос в их дела.
Рита вспомнила элегантную Элли Мэйфейр. Наверное, летит сейчас домой, в Сан-Франциско.
– Говорят, ее приемные родители в Калифорнии – люди богатые, – продолжал Джерри. – Мне об этом рассказывала сиделка Дейрдре. У девчонки имеется личная яхта, чтобы плавать по заливу Сан-Франциско. Стоит прямо под окнами их дома. Отец – крупный адвокат, хотя и изрядный сукин сын, но деньги грести умеет. Если над Мэйфейрами и висит проклятие, этой девочке посчастливилось выскользнуть из-под него.
– Джерри, ты же не веришь в проклятия.
– Не спорю, дорогая, но как же тогда быть с изумрудным кулоном? Дважды мой отец отмывал его от крови. У меня всегда создавалось впечатление, что мисс Карлотта считала эту вещицу проклятой. Когда застрелили Стеллу и отец в первый раз чистил изумруд, знаешь, о чем его просила мисс Карлотта? Чтобы кулон похоронили в гробу вместе со Стеллой. Но он отказался. Это правда – отец сам мне рассказывал.
– Джерри, а может, камень вовсе и не настоящий.
– Да ты что, Рита Мей?! За этот изумруд можно купить целый квартал на Кэнал-стрит! Так вот, у них с мисс Карлоттой вышел спор из-за этого камня. Та настаивала, чтобы кулон положили в гроб рядом с ее сестрой. А у отца был знакомый ювелир, Хершман с Мэгазин-стрит, – они, можно сказать, дружили. И тогда он позвонил Хершману, а тот заявил, что камень настоящий и очень редкий, – во всяком случае, ему самому еще не доводилось видеть такие изумруды. Назвать стоимость он не решился, сказав, что для безошибочной оценки камень следует отправить в Нью-Йорк. Этот ювелир точно так же отзывался обо всех драгоценных камнях Мэйфейров. Однажды его попросили почистить их для мисс Мэри-Бет – еще до того, как они перешли к Стелле. По его мнению, подобные камни рано или поздно попадают в музей, где им, собственно, и место.
– И как же Рэд объяснил свой отказ мисс Карлотте?
– Сказал, что ни в коем случае не станет класть в гроб изумруд, стоящий не меньше миллиона долларов. Отец отмыл кулон в специальной жидкости, раздобыл у Хершмана бархатную коробочку, положил камень туда и отдал ей. То же самое мы сделали через двенадцать лет, когда Анта выбросилась из окна. Но тогда мисс Карл уже не просила нас хоронить кулон вместе с покойницей. И не стала требовать, чтобы гроб выставили в зале.
– В зале?
– Ну да. Стелла лежала в зале, прямо у них в доме. В прежние времена они всегда так делали. Старого Джулиена Мэйфейра тоже повезли на кладбище из зала, как и мисс Мэри-Бет, которая умерла в двадцать пятом году. Стелла хотела, чтобы и ее тело было выставлено там же. Она оговорила это в завещании, и ее просьбу выполнили. Но с похоронами Анты было по-другому. Мы с отцом принесли кулон назад. Мисс Карл находилась в двухсветном зале. Огней в нем не зажигали, и там было очень темно, потому что дневной свет загораживали террасы и деревья. Так вот, мисс Карл просто сидела и качала в люльке маленькую Дейрдре. Отец отдал кулон ей в руки. Знаешь, что она сделала? Коротко поблагодарив отца, она повернулась и положила коробочку прямо в люльку к ребенку.
– Но почему?
– Почему? Да потому, что кулон перешел к Дейрдре. У мисс Карл не было никаких прав на эти драгоценности. Мисс Мэри-Бет оставила их Стелле, Стелла назвала преемницей Анту, а единственной дочерью Анты была Дейрдре. Так у них всегда было заведено: все драгоценности переходят к одной из дочерей.
– А что, если этот кулон проклят? – сказала Рита.
Рите было страшно даже подумать о том, что он висит теперь на шее у Дейрдре, у беспомощной Дейрдре.
– Ну, если камешек проклят, тогда, наверное, и дом тоже, – отозвался Джерри. – У них драгоценности переходят по наследству вместе с домом и деньгами.
– Джерри, ты хочешь сказать, что дом принадлежит Дейрдре?
– Боже мой, Рита, ты что, с Луны свалилась? Да об этом всем известно!
– Что же получается? Дом принадлежит Дейрдре едва ли не с рождения. Ее тети жили там много лет, а саму Дейрдре постоянно упрятывали в лечебницы. Наконец, когда ее вернули домой, все, на что она способна, это лишь тупо сидеть и…
– Рита, не надо истерик. Именно об этом я тебе и толкую. Да, дом принадлежит Дейрдре, как когда-то – Анте и Стелле. Когда умрет Дейрдре, все это перейдет к ее калифорнийской дочке, если только кому-нибудь не удастся изменить условия наследования. Хотя я не думаю, чтобы можно было поменять хоть букву в таких бумагах. Условия были установлены еще в те времена, когда Мэйфейры владели плантацией, точнее даже, раньше, когда они жили на островах, – ведь сюда семья перебралась с Гаити. Они называют это наследием. Помнится, Хершман частенько говорил, что мисс Карл не просто так пошла изучать право, когда была еще совсем юной. Она хотела узнать, как можно разделить наследие. Но ничего из этого не вышло. Еще при жизни мисс Мэри-Бет никто не сомневался, что все перейдет в руки Стеллы.
– А если дочь Дейрдре не знает об этом?
– Но существует закон, дорогая. А мисс Карлотта, какой бы она ни была в других отношениях, считается хорошим юристом. К тому же наследие связано с фамилией Мэйфейр. А дочка Дейрдре носит эту фамилию. Я слышал об этом, когда она родилась. И ее приемная мать, Элли Мэйфейр, которая сегодня расписывалась в траурной книге, знает об этом. Они в курсе. Люди всегда знают, когда им нужно вступить во владение деньгами. Да и другие Мэйфейры расскажут этой девочке. Райен Мэйфейр, например. Он ведь внук Кортланда, а тот искренне любил Дейрдре. К тому времени, когда ее заставили отказаться от ребенка, Кортланд был уже очень стар. Но, насколько я слышал, он всегда был против такого решения и сделал много хорошего для Дейрдре. Еще я слышал, что он сильно повздорил с мисс Карлоттой из-за ребенка, заявив, что, если они отберут его у Дейрдре, это сведет ее с ума. Ну а мисс Карлотта кричала ему в ответ, что Дейрдре уже и так свихнулась…
Джерри допил свой бурбон и налил новую порцию.
– Но что, если есть другие вещи, о которых дочь Дейрдре не подозревает? – спросила Рита. – Почему же она сегодня не приехала сюда? Почему не захотела увидеть свою настоящую мать?
«Рита Мей, они собираются отобрать у меня ребенка!» Джерри не ответил. К этому моменту он уже успел прилично нагрузиться бурбоном, отчего глаза его налились кровью.
– Отец знал об этих людях очень многое, – произнес он слегка заплетающимся языком. – Больше, чем рассказывал мне. И знаешь, однажды он вдруг заявил, что они поступили совершенно правильно, забрав у Дейрдре девочку и отдав ее Элли Мэйфейр. Оказывается, Элли не могла иметь своих детей. Это сильно печалило ее мужа, и он уже готов был уйти от нее, когда позвонила мисс Карл и предложила им взять ребенка Дейрдре. В конце концов такое решение для всех оказалось истинным благословением, и получается, что старый мистер Кортланд, упокой Господь его душу, ошибался. Правда, отец просил меня не рассказывать тебе об этом.
Рита знала, что следует сделать. За все годы супружеской жизни она ни разу не солгала Джерри Лонигану – она просто не ставила его в известность. На следующий день она позвонила в отель «Монтелеоне». Англичанин только что расплатился по счетам, сообщили ей, однако вполне возможно, что он еще в холле.
Пока Рита ждала у телефона, ее сердце бешено колотилось.
– Эрон Лайтнер слушает… Да, миссис Лониган. Умоляю, возьмите такси. Я оплачу проезд. Да, буду ждать.
Рита так сильно нервничала, что запиналась в разговоре. Выскочив впопыхах из дому, она кое-что забыла, и пришлось вернуться. Тем не менее предстоящая встреча ее радовала, и, даже если бы в тот момент ее перехватил Джерри, Рита ни за что бы не отказалась от поездки в отель.
Англичанин пригласил ее в бар «Вожделенная устрица», расположенный за углом. Заведение было приятным, с вентиляторами под потолком, большими зеркалами и несколькими дверями, широко распахнутыми на Бурбон-стрит. Рите оно показалось несколько экзотичным, как, впрочем, и весь Французский квартал. Она почти не бывала здесь.
Они уселись за столик с мраморной крышкой, и Рита заказала себе бокал белого вина – его попросил принести англичанин, и ей понравилось название. До чего же обходителен этот Лайтнер! Какое значение имеет в данном случае возраст?! Он намного обаятельнее, чем более молодые мужчины. Столь тесное соседство с ним заставляло Риту немного нервничать, а от его проницательного взгляда она просто таяла, словно снова превратилась в девчонку-подростка.
– Расскажите мне все, миссис Лониган, – попросил он. – Обещаю выслушать вас очень внимательно.
Рита попыталась говорить размеренно, но едва она начала, как слова хлынули потоком. А потом она и вовсе расплакалась, и Лайтнер вряд ли смог разобрать хоть слово. Рита подала ему скомканной кусочек его старой визитной карточки и рассказала, как читала объявления, как потом сообщила Дейрдре, что так и не смогла разыскать мистера Лайтнера.
Наконец она перешла к самой трудной части своего повествования:
– Есть вещи, которые эта девочка из Калифорнии не знает. Она наследует собственность. Возможно, адвокаты сообщат ей об этом. Но, мистер Лайтнер, кто предупредит ее о проклятии? Я доверяю вам и рассказываю то, о чем мой муж запретил мне даже упоминать кому бы то ни было. Но Дейрдре еще тогда поверила вам, и этого для меня достаточно. Поймите, на драгоценностях и на доме лежит проклятие.
В конце концов Рита выложила англичанину все – и то, что услышала от пьяного Джерри, и то, что смогла выведать в свое время у свекра. Словом, рассказала абсолютно все, что удалось вспомнить.
Как ни странно, ее исповедь ничуть не удивила и не шокировала англичанина. Он неоднократно заверил Риту, что сделает все возможное, чтобы сообщить эти сведения в Калифорнию, дочери Дейрдре.
Рита сидела, шмыгая носом, так и не притронувшись к белому вину. Лайтнер поинтересовался, согласна ли она сохранить его визитку и позвонить в случае каких-либо «перемен» в положении Дейрдре. Если его не окажется на месте, продолжал англичанин, Рите следует непременно оставить сообщение – достаточно сказать, что дело связано с Дейрдре Мэйфейр. Тот, кто ей ответит, поймет, о чем идет речь.
Рита достала из сумочки молитвенник.
– Пожалуйста, продиктуйте мне еще раз ваши телефоны, – попросила она и приписала на страничке молитвенника: «В связи с Дейрдре Мэйфейр». Только покончив с записью, Рита отважилась задать вопрос: – Скажите, мистер Лайтнер, а как вы познакомились с Дейрдре?
– Это долгая история, миссис Лониган, – ответил он. – Можно сказать, что я много лет наблюдаю за этим семейством. У меня есть пара картин, созданных отцом Дейрдре, Шоном Лэйси. И одна из них – портрет Анты. Лэйси погиб в Нью-Йорке еще до рождения дочери – попал в автокатастрофу.
– Погиб в автокатастрофе? Я не знала об этом.
– Полагаю, в ваших краях об этом едва ли кому-то известно. А Шон Лэйси был весьма талантливым художником, и написанный им портрет Анты со знаменитым изумрудным кулоном на шее действительно прекрасен. Я приобрел его через посредничество одного нью-йоркского торговца спустя несколько лет после смерти родителей Дейрдре. Ей самой было тогда, наверное, лет десять. А познакомился я с Дейрдре только после того, как она поступила в колледж.
– Странное совпадение, – задумчиво произнесла Рита. – Отец Дейрдре погиб в автокатастрофе, но то же самое случилось и с молодым человеком, за которого она собиралась замуж. Вы этого не знаете? Он ехал в Новый Орлеан, и на приречном участке дороги не справился с управлением…
Рите показалось, что при последних словах Лайтнер слегка изменился в лице, однако полной уверенности в этом у нее не было. Быть может, он лишь на мгновение прищурился.
– Я знаю об этом, – задумчиво откликнулся англичанин. Казалось, он размышляет о чем-то, но не желает делиться своими мыслями с Ритой. Наконец он спросил: – Миссис Лониган, вы можете пообещать мне одну вещь?
– Что именно, мистер Лайтнер?
– Если вдруг случится нечто совершенно непредвиденное и дочери Дейрдре придется приехать сюда из Калифорнии, пожалуйста, не пытайтесь с ней поговорить. Немедленно свяжитесь со мной. Звоните в любое время суток, и я обещаю, что вылечу из Лондона ближайшим рейсом.
– Вы хотите сказать, что я не должна рассказывать ей что-либо? Я правильно вас поняла?
– Да, – очень серьезно ответил Лайтнер.
Он впервые коснулся руки Риты, но сделал это с уважением и достоинством, как истинный джентльмен.
– Не переступайте впредь порог того дома, особенно если в нем появится дочь Дейрдре. Обещаю вам: если я не смогу прилететь сам, то прибудет другой человек, во всех подробностях знающий историю рода Мэйфейров и способный завершить все нами начатое.
– Какой груз вы снимаете с моей души, – вздохнула Рита.
Ей действительно не хотелось разговаривать с дочерью Дейрдре, совершенно чужой в этих краях, – она не представляла, как рассказать ей о том, что произошло. И вдруг Рита спохватилась: их беседа принимала какой-то таинственный оборот. Она впервые задала себе вопрос: кто же на самом деле этот обаятельный джентльмен? Не зря ли она доверилась ему?
– Вы можете мне доверять, миссис Лониган. – Лайтнер словно проник в ее мысли. – Прошу вас, не сомневайтесь во мне. Я уже встречался с дочерью Дейрдре и знаю, что она весьма скрытная и, надо сказать, довольно колючая особа. Если вы меня правильно понимаете, она не из тех, кого легко вызвать на откровенность. Тем не менее полагаю, что мне удастся объяснить ей, что к чему.
Что ж, это звучало вполне разумно.
– Конечно, не беспокойтесь, мистер Лайтнер.
Англичанин смотрел на Риту. Возможно, он понимал, в каких растрепанных чувствах она находится, каким странным оказался для нее прошедший день со всеми этими разговорами о проклятиях, наследстве, покойниках и роковом изумрудном кулоне.
– Да, все это очень и очень странно, – сказал Лайтнер.
– Вы как будто читаете мои мысли, – рассмеявшись, заметила Рита.
– Не волнуйтесь более ни о чем, – ответил он. – Я позабочусь о том, чтобы Роуан Мэйфейр узнала, что ее мать против воли заставили отказаться от нее. Я постараюсь довести до ее сведения все, что вам хотелось бы. Я в большом долгу перед Дейрдре. Не могу избавиться от чувства вины перед ней, ибо, когда она больше всего нуждалась в помощи, меня не оказалось рядом.
Этого Рите было более чем достаточно.
После той встречи, приходя каждое воскресенье к мессе, Рита открывала последнюю страницу молитвенника, где были записаны лондонские телефоны Лайтнера, вновь и вновь перечитывала надпись: «В связи с Дейрдре Мэйфейр» – и молилась за свою подругу. Тот факт, что молитва была за усопших, отнюдь не казался ей странным: в подобных обстоятельствах уместна именно такая молитва.
– Боже Всемогущий, да изольется на нее вечный свет и да упокоится она в мире. Аминь.
Вот уже более двенадцати лет прошло с тех пор, как Дейрдре сидит на этой террасе. И уже больше года, как появился и уехал англичанин… Они снова говорят о том, что Дейрдре надо куда-то отправить. Дом ветшает, и сад давно пришел в запустение. А родне не терпится опять запереть ее в какой-нибудь лечебнице.
Может, следует позвонить тому англичанину и сообщить ему о том, что происходит? Рита не знала, как поступить.
– Это разумный шаг с их стороны, – сказал Джерри. – Лучше сделать это сейчас, пока мисс Карл вконец не одряхлела и еще способна принять решение. А она сильно сдала – что правда, то правда. Но Дейрдре сдает еще быстрее. Говорят, она умирает.
Умирает…
Рита дождалась, пока Джерри уйдет на работу, и направилась к телефону. Она знала, что на квитанции будет указано, куда она звонила, и в конце концов Джерри обо всем узнает. Но сейчас важно не это. Сейчас важно объяснить телефонистке, что ей необходимо связаться с абонентом на другом континенте.
Когда Риту соединили, ей ответил приятный женский голос. Как и обещал англичанин, они согласились оплатить разговор. Женщина на другом конце провода говорила слишком быстро, и поначалу Рита с трудом понимала, о чем идет речь. Как выяснилось, мистер Лайтнер находился в тот момент в Соединенных Штатах – в Сан-Франциско. Женщина заверила, что немедленно свяжется с ним, пусть только Рита назовет свой номер.
Рита объяснила, что мистеру Лайтнеру не нужно перезванивать ей, и попросила передать ему сообщение. Очень, очень важное сообщение: «Скажите, что звонила Рита Мей Лониган и что дело касается Дейрдре Мэйфейр… Записали? Дейрдре Мэйфейр очень больна, и дни ее сочтены. Возможно, она скоро умрет».
Когда Рита произносила последнее слово, у нее перехватило дыхание. После этого она была не в состоянии сказать что-либо еще, хотя и пыталась отвечать четко, когда женщина на другом конце провода переспрашивала что-либо, повторяя ее сообщение, а потом еще раз заверила Риту, что немедленно позвонит мистеру Лайтнеру в Сан-Франциско, в отель, где он остановился. Вешая трубку, Рита заливалась слезами.
Ночью ей приснилась Дейрдре, но наутро Рита ничего не сумела вспомнить. Только то, что видела Дейрдре в сумерках и ветер играл в ветвях деревьев за школой Святой Розы. Когда Рита открыла глаза, в ушах еще звучал шелест листьев. Она вновь услышала голос Джерри, рассказывавшего, как они с отцом ходили готовить тело Анты к погребению. Потом Рита вспомнила, какой начался ураган, когда они с мисс Карл сцепились из-за маленькой белой карточки со словом «Таламаска». И снова почему-то в памяти возник шум ветра в саду школы Святой Розы.
Рита оделась и отправилась к утренней мессе. В церкви она поставила свечку перед статуей Пресвятой Девы. «Помоги мистеру Лайтнеру приехать сюда, – молилась Рита. – Помоги ему поговорить с дочерью Дейрдре».
Произнося про себя слова молитвы, Рита вдруг осознала, что ее тревожит не наследство рода Мэйфейров и не проклятие, тяготеющее над красивым изумрудным кулоном. Она не думала, что мисс Карл, какой бы жестокой ни была, действительно намеревается нарушить установленные условия, равно как не верила, что проклятия существуют на самом деле.
Единственное, что действительно имело значение, это любовь, которую Рита в глубине сердца испытывала к Дейрдре.
Рита считала, что дочь Дейрдре имеет право знать, какой удивительной была когда-то ее мать – нежнейшая и добрейшая из всех людей. Та Дейрдре, что осталась в далеком пятьдесят седьмом году на скамейке среди сумеречного весеннего сада – рядом с обаятельным молодым человеком, шептавшим ей слова любви.
6
Майкл простоял под душем целых десять минут, но не протрезвел ни на йоту. Потом, бреясь, он дважды порезался. Пустячные царапины, но они послужили предупреждением: надо будет как можно осторожнее вести себя в присутствии той женщины, которая уже едет сюда… Врач, таинственная незнакомка, вытащившая его из воды.
Тетя Вив помогла ему надеть рубашку. Майкл глотнул еще немного кофе. До чего гадкий вкус, хотя сам варил и сорт действительно хороший. Пиво – вот что ему нужно. Не выпить сейчас пива все равно что перестать дышать. Но нет, слишком уж велик риск.
– И что же ты будешь делать в Новом Орлеане? – бесцветным голосом спросила тетя Вив.
Ее маленькие голубые глаза казались водянистыми и словно воспаленными. Высохшими скрюченными пальцами тетушка расправила лацканы его куртки цвета хаки.
– Ты уверен, что обойдешься без чего-нибудь потеплее?
– Тетя Вив, ты не знаешь, каков август в Новом Орлеане. – Он поцеловал тетушку в лоб и добавил: – Не волнуйся за меня. Я прекрасно себя чувствую.
– И все-таки, Майкл, я не пойму, зачем тебе…
– Тетя Вив, клятвенно обещаю, что позвоню тебе сразу же, как приеду туда. А если возникнет что-то срочное, набери номер «Поншатрена» и оставь для меня сообщение.
Майкл заказал тот же номер из нескольких комнат с видом на Сент-Чарльз-авеню, в котором когда-то останавливалась тетя Вив. Майклу тогда было одиннадцать лет, и он вместе с матерью приходил к тетушке в гости. Там был даже кабинетный рояль. В отеле сразу поняли, какой номер требуется новому постояльцу, и с удовольствием предоставили апартаменты в его распоряжение. В ответ на вопрос о рояле портье заверил, что тот по-прежнему на месте.
Авиакомпания подтвердила его заказ: один билет первого класса, место у прохода, рейс на шесть часов утра. Никаких проблем. Все шло как по маслу.
И все благодаря доктору Моррису и этой таинственной женщине – доктору Мэйфейр, – направлявшейся сейчас к его дому.
Впервые услышав, что она врач, Майкл сильно разозлился.
– Вот, значит, откуда завеса секретности, – рычал он в трубку. – Мы бережем покой наших коллег, так? Мы не сообщаем номеров их домашних телефонов. Нет, о таких штучках должны узнать все. Я просто обязан…
Моррис тем не менее довольно быстро остановил поток его злого красноречия:
– Майкл, эта женщина уже в пути. Даже зная о том, что ты пьешь не просыхая и что и у тебя давным-давно съехала крыша, она готова взять тебя в Тайбурон и позволить тебе ползать по ее яхте.
– Отлично, – сказал Майкл. – Я ей очень признателен, честное слово.
– Тогда вытряхивайся из постели, прими душ и сбрей свою щетину.
Сделано! И сейчас ничто не помешает ему отправиться в Новый Орлеан. Так что в Тайбуроне, в доме этой дамы, он не задержится, а поедет оттуда прямо в аэропорт и в случае необходимости согласен даже вздремнуть на пластмассовом стуле в зале ожидания, пока не начнется посадка в самолет до Нового Орлеана.
– И все-таки, Майкл, я никак не могу понять, зачем тебе срываться с места и лететь туда? – не унималась тетя Вив.
Майклу вдруг показалась, что невысокая старушка в голубом шелковом платье, болтающемся на ней, как на вешалке, буквально плывет по воздуху на фоне яркого света, льющегося из коридора. Жидкие седые волосы тети Вив, которым не помогают ни аккуратная укладка, ни шпильки, чем-то напомнили ему елочную канитель из далеких дней детства. Помнится, ее еще называли «волосы ангела».
– Обещаю тебе, что не задержусь надолго, – как можно мягче заверил ее Майкл.
И вдруг… внутри его что-то словно вспыхнуло – какое-то предчувствие… нечто вроде спонтанной телепатии… Майкла охватила неколебимая уверенность, что в этом доме ему больше не жить… Чепуха какая-то. Виной всему скопившийся внутри алкоголь да месяцы затворничества – вот откуда эти сумасшедшие мысли. Наверное, тут любой бы свихнулся.
Майкл поцеловал тетку в дряблую щеку.
– Надо проверить чемодан.
Еще несколько глотков кофе… Вроде бы полегчало… Майкл тщательно протер очки в роговой оправе, снова надел их и проверил наличие запасной пары в кармане куртки.
– Я все упаковала– Слегка покачав головой, тетя Вив подошла к раскрытому чемодану и скрюченным пальцем ткнула в аккуратно сложенную одежду. – Смотри, все здесь. Оба твоих летних костюма, туалетный набор… Ах да, твой плащ. Не забудь взять плащ, Майкл. В Новом Орлеане сплошные дожди.
– Не беспокойся, тетя Вив, уже взял.
Майкл закрыл чемодан и щелкнул замками. Незачем расстраивать старушку сообщением о безвозвратной гибели крепкого и добротного изделия. Именно в нем Майкл и тонул. Такие плащи, наверное, шились в расчете на войну, на ползание по траншеям, а не на потенциальных утопленников. После часового пребывания в морской воде шерстяная подкладка оказалась безнадежно испорченной.
Испытывая жгучую ненависть к надетым на руки перчаткам, Майкл расчесал волосы. Так… вроде бы он не выглядит пьяным, если, конечно, не окосел настолько, чтобы этого не видеть. Он бросил взгляд на недопитый кофе: «Ну же, идиот, допей остальное! Эта женщина едет сюда исключительно ради твоего удовольствия, чтобы ублажить тебя, псих несчастный! Только не хватало, чтобы ты шмякнулся ей под ноги с крыльца».
Кажется, звонок в дверь?
Майкл подхватил чемодан. Ну вот, он готов, вполне готов уехать отсюда.
И снова то же тревожное предчувствие… Что это, предвидение судьбы? Майкл оглядел комнату: полосатые обои, глянец деревянных поверхностей. Все это он когда-то с величайшим терпением наклеивал, красил, покрывал лаком; собственными руками выкладывал маленький камин… Нет, больше ему не наслаждаться уютом этой комнаты. Не лежать на отделанной медью кровати. И не смотреть сквозь шелковые занавески на светящиеся в отдалении призрачные огоньки центральной части города.
У Майкла вдруг что-то сжалось внутри, и сердце откликнулось болью, словно он оплакивал дом. Такое же ощущение он испытывал, когда умирали близкие и любимые им люди.
Тетя Вив просеменила по коридору на своих распухших ногах, торопливо зашарила пальцами по стене в поисках кнопки переговорного устройства и, наконец найдя ее, спросила:
– Кто там?
– Доктор Роуан Мэйфейр. Могу я видеть Майкла Карри?
Боже, это не сон. Он снова воскресает из мертвых.
– Уже иду, – ответил Майкл. – Тетя Вив, не спускайся, не надо меня провожать. Обещаю, я скоро вернусь.
На прощание он еще раз поцеловал тетушку, порывисто обнял, крепко прижав к себе, и долго не отпускал.
Что будет, если с ним вдруг что-то случится? Господи, ну почему ему никак не удается избавиться от тревожных мыслей?!
И вот наконец он стремительно сбежал по ступеням, при этом даже тихо насвистывая. Как хорошо снова двигаться, снова быть самим собой! Он чуть было не распахнул дверь, позабыв проверить, нет ли за ней журналистов, но вовремя остановился и заглянул в глазок, расположенный в самом центре цветного стеклянного прямоугольника двери.
Почти у самого крыльца стояла стройная как газель женщина. Лицо он видел только в профиль, ибо гостья смотрела в сторону улицы. Длинные ноги, обтянутые голубыми джинсами. Подстриженные под пажа светлые вьющиеся волосы, которые ветер слегка прибивал к ямочкам щек.
В облегающей, сужающейся книзу куртке, из-под которой виднелся завернутый воротник свитера крупной вязки, женщина выглядела молодо, свежо и весьма соблазнительно.
Майкл без труда догадался, что перед ним доктор Мэйфейр. Он почувствовал, как вспыхнули щеки, а неожиданно возникшее где-то в нижней части живота тепло поползло вверх по телу. Такая женщина при любых обстоятельствах непременно привлекла бы его внимание и вызвала интерес. Но сейчас важнее всего был тот факт, что перед домом стояла та самая женщина. К счастью, она смотрела в другую сторону и не заметила его тени за дверным стеклом.
«А ведь она в буквальном смысле слова вернула меня к жизни», – подумал Майкл. Его смутно будоражило нараставшее внутри тепло, смесь почти животного желания покориться прекрасной гостье и непреодолимого стремления прикоснуться к ней, познать ее на ощупь и, возможно, обладать ею. О методике спасения утопленников он слышал неоднократно – ему много раз описывали, как производится дыхание рот в рот и одновременно массаж сердца. Майкл мысленно представил себе, как касались его эти руки, как ее губы прижимались к его губам. Ну разве не жестоко, внезапно подумал он, после такой близости надолго разлучить их друг с другом? Его вновь охватило негодование. Впрочем, сейчас все это не имело никакого значения…
Хотя женщина стояла в профиль, Майкл узнал смутно запомнившиеся ему тогда детали: гладкая, упругая кожа, изящно очерченные, миловидные черты лица и глубоко посаженные, слегка лучащиеся серые глаза. Поставив ногу на нижнюю ступеньку крыльца, она прислонилась к перилам и застыла в этой предельно раскованной, обманчиво «мужской» позе.
Майкла удивляло все сильнее нараставшее в нем ощущение необъяснимой беспомощности и в то же время отчаянной жажды завоевать, покорить эту женщину. Сейчас у него не было времени анализировать свои чувства, да, по правде говоря, и не хотелось. Он вдруг понял, что счастлив – в первый раз за последнее время действительно счастлив.
Майклу вновь вспомнился пронизывающий морской ветер, лучи яркого света, бьющие в лицо, люди из береговой охраны, спускавшиеся на палубу, точно ангелы с туманных небес… Вспомнились его обращенные к спасительнице мольбы: он просил не увозить его с яхты… И вновь в ушах прозвучал ее голос: «Все будет хорошо…»
Что ж, пора выйти и наконец поговорить с ней. Сейчас он ближе к исполнению давнего желания, чем когда-либо. Это его шанс. Как приятно оказаться рядом с ней – одно только присутствие этой женщины заставляло его чувствовать себя обнаженным. Такое ощущение, будто чья-то невидимая рука расстегивает молнию на брюках…
Майкл быстро оглядел улицу. Никого, кроме одинокой человеческой фигуры, маячившей в одном из дверных проемов. Но именно на этого человека и был устремлен пристальный взгляд доктора Мэйфейр – на седого мужчину в твидовом костюме-тройке и с зонтиком в руке, который он держал словно тросточку. Уж явно не репортер.
Майклу показалось весьма странным, что доктор Мэйфейр по-прежнему не сводила глаз с незнакомца, а тот в свою очередь внимательно разглядывал ее. Оба они стояли неподвижно и держались так, словно ничего необычного не происходило, хотя на самом деле все это было совершенно необычным.
А ведь действительно, несколько часов назад тетя Вив говорила, что какой-то человек приехал прямо из Лондона только для того, чтобы с ним повидаться. Возможно, речь шла как раз об этом незнакомце – выглядел он, во всяком случае, как истинный англичанин. Если так, остается только пожалеть беднягу, проделавшего столь долгий путь впустую.
Майкл повернул ручку, вышел и захлопнул за собой дверь. Незнакомец не шелохнулся, только перевел взгляд и уставился на Майкла так же пристально, как прежде на доктора Мэйфейр.
Уже через секунду Майкл забыл про него, поскольку доктор Мэйфейр обернулась и лицо ее озарила очаровательная улыбка. Он мгновенно узнал эти красиво очерченные пепельные брови и густые темные ресницы, делающие серые глаза еще более блестящими.
– Вот мы и встретились снова, мистер Карри, – произнесла она на удивление приятным низким, чуть хриплым голосом, протягивая ему изящной формы длинную руку. В том, как она внимательно оглядела его с ног до головы, Майкл не увидел ничего противоестественного.
– Спасибо, что приехали, доктор Мэйфейр. – Майкл крепко пожал ее руку, но тут же отпустил, устыдившись своих перчаток. – Вы во второй раз вернули меня к жизни. Вот там, наверху, я медленно умирал.
– Знаю, – ответила она. – А чемодан вы захватили в надежде на то, что мы влюбимся друг в друга и остаток жизни проведем под одной крышей?
Майкл засмеялся. Хрипотца в ее голосе была той «изюминкой», которую он обожал в женщинах. Она встречалась очень редко и всегда производила на него волшебное впечатление.
– Увы, нет. Прошу меня извинить, доктор Мэйфейр, – сказал он. – Я хочу сказать, что я… я… в общем, потом мне нужно ехать в аэропорт. У меня билет на утренний шестичасовой рейс в Новый Орлеан. Мне необходимо успеть. Я предполагал оттуда взять такси… то есть от того места, куда мы поедем… Если мне придется возвращаться сюда…
И снова Майклом овладела твердая уверенность, что здесь ему больше не жить. Он вскинул голову и обвел взглядом эркеры окон, темно-янтарную резьбу, так любовно отреставрированную его собственными руками… Но покинутое строение с узким фасадом, в окнах которого тускло отражались лишенные красок отблески вечернего света, больше не было его домом.
На какое-то мгновение все куда-то уплыло; он терял нить событий.
– Простите меня, – прошептал Майкл.
Он действительно словно утратил связь с реальностью и мог бы поклясться, что в данный момент находится в Новом Орлеане. В голове звенело. Если прежде он ощущал вокруг себя некое приятное напряжение, то теперь остались лишь сырость, тяжелое, низко нависшее небо и четкое осознание: годы ожидания позади, и вот-вот должно начаться то, к чему его так долго готовили.
Однако в следующее мгновение Майкл обнаружил, что во все глаза разглядывает доктора Мэйфейр. Она была почти одного с ним роста и тоже внимательно, без малейшей неловкости смотрела на Майкла. Казалось, это доставляло ей удовольствие: быть может, она находила его обаятельным, быть может – занятным, а возможно, обнаружила в нем и то и другое достоинство. Майкл улыбнулся – ему тоже было приятно смотреть на эту женщину. Он был очень рад ее приезду, однако признаться в этом не осмеливался.
– Поехали, мистер Карри. – Доктор Мэйфейр взяла Майкла за руку и потащила вверх по улице, туда, где стоял темно-зеленый «ягуар». В какой-то момент она все же обернулась и медленно смерила весьма суровым взглядом по-прежнему стоящего в отдалении англичанина. Открыв дверцу машины, она забросила на заднее сиденье чемодан и, прежде чем Майкл успел вымолвить хоть слово, приказала: – Садитесь.
Кожаная обивка цвета жженого сахара. Красивая приборная доска, старомодная – из дерева. Майкл обернулся назад. Англичанин все так же стоял, глядя им вслед.
– Странно, – пробормотал Майкл.
– Что странно? Вы его знаете? – заинтересованно спросила она, вставляя ключ зажигания и захлопывая дверцу со своей стороны.
– Нет, но… мне кажется, он приехал, чтобы повидаться со мной… По-моему, он англичанин… Однако он даже не шевельнулся, когда я вышел.
Слова Майкла явно удивили и озадачили доктора Мэйфейр, что, однако, не помешало ей резко рвануть с места и, заложив крутой вираж, вывести машину со стоянки, а потом совершить головокружительный разворот на сто восемьдесят градусов. Когда они проносились мимо англичанина, она успела метнуть в его сторону еще один внимательный и острый взгляд.
Майкл снова почувствовал, как его охватывает страсть. В манере этой женщины вести машину явственно ощущалась привычная уверенность в себе и недюжинная воля. Приятно было смотреть на изящные руки, непринужденно лежавшие на рукоятке переключателя скоростей и на небольшом рулевом колесе, обтянутом кожей. Двубортная куртка плотно облегала стройную фигуру. Длинная прядь светлых волос упала на лицо, почти полностью скрыв правый глаз.
– Честное слово, я уже видела этого человека, – вполголоса пробормотала вдруг доктор Мэйфейр.
Майкл засмеялся. Однако приступ веселья был вызван не ее словами, а тем, как лихо она сделала молниеносный поворот направо и сквозь клубящийся туман погнала машину вниз по Кастро-стрит, навстречу наползавшей мгле.
Эта поездка походила на аттракцион «Русские горы», когда ты сидишь в небольшой тележке, которая на бешеной скорости мчится по колее, то взмывая вверх, то резко ныряя вниз. Чтобы не влететь головой в ветровое стекло, Майкл пристегнул ремень безопасности. Когда машина с ревом пронеслась на красный свет, он почувствовал, как к горлу подступает тошнота.
– Мистер Карри, а вы уверены, что хотите лететь в Новый Орлеан? – спросила она. – Выглядите вы неважно и едва ли в состоянии совершить сейчас такой перелет. Кстати, когда ваш рейс?
– Я должен попасть в Новый Орлеан, – решительно возразил Майкл. – Мне необходимо вернуться домой. Простите, я понимаю, что мои слова могут показаться полной чушью, но… Но эти ощущения… Они возникают непроизвольно, когда им заблагорассудится… И становятся навязчивыми… Я думал, все дело в руках, но оказалось, что они-то как раз и ни при чем. Вы ведь слышали о моих руках, доктор Мэйфейр? Я совершенно разбит, уверяю вас, просто дошел до ручки… Могу я попросить вас об одолжении? Чуть подальше, слева, сразу за Восемнадцатой улицей, есть винный магазин. Пожалуйста, остановитесь возле него.
– Мистер Карри…
– Доктор Мэйфейр, вы хотите, чтобы меня вывернуло наизнанку прямо в шикарном салоне вашего роскошного авто?
Она припарковала машину напротив магазина, на другой стороне улицы. Как всегда по пятницам, вечерняя Кастро-стрит была запружена народом. В тумане приветливо светились раскрытые двери многочисленных баров.
– Вам что, совсем плохо? – Она, успокаивающе сжала его плечо.
Интересно, почувствовала ли доктор Мэйфейр дрожь непристойного возбуждения, пробежавшую по его телу?
– Послушайте, если вы напьетесь, вас не пустят в самолет.
– Высокие жестянки. Миллеровское пиво. Упаковка в полдюжины банок. Я растяну их надолго. Прошу вас.
– Вы что же, думаете, я пойду за этой отравой?
Она засмеялась, но мягко, без злости. Низкий голос этой женщины обладал удивительным бархатным оттенком, а глаза в свете неонового зарева казались огромными и совершенно серыми, как вода в канале.
Майкл чувствовал, что просто умирает.
– Конечно же не вы туда пойдете, – сказал он. – Я сам схожу. Даже не знаю, что за дребедень лезет мне на язык. – Он посмотрел на свои кожаные перчатки. – Простите. Я ведь долгое время прятался от людей. Все необходимое приносила тетя Вив.
– Так. Миллеровское пиво, шесть высоких жестянок, – повторила она, открывая дверцу.
– Лучше двенадцать.
– Двенадцать?
– Доктор Мэйфейр, сейчас лишь половина двенадцатого, а самолет вылетает в шесть.
Майкл полез в карман за бумажником.
Она выразительно махнула рукой и направилась через дорогу, грациозно уворачиваясь от проезжавших машин.
«Боже, у меня хватило наглости попросить ее пойти за пивом, – сокрушенно подумал Майкл, когда доктор Мэйфейр скрылась в дверях магазина. – Скверно все у нас начинается». Впрочем, он был не совсем прав. Она слишком хорошо к нему относится, и ничего катастрофического пока не произошло. Майкл уже ощущал во рту вкус пива – только оно способно утихомирить его желудок.
Грохот музыки, доносившийся из близлежащих баров, вдруг показался ему чересчур громким, а краски улицы – непомерно яркими. Проходящий мимо молодой парень едва не задел машину. Или Майклу это тоже только показалось? А что удивительного – после трех с половиной месяцев изоляции? Он сейчас похож на узника, которого только что выпустили из тюремной камеры.
М-да-а, он ведь даже понятия не имел, какое сегодня число. День недели знал: пятница – потому что его рейс в субботу, в шесть утра. Интересно, можно ли курить в ее машине?
Едва доктор Мэйфейр поставила ему на колени пластиковый пакет с пивом, Майкл тут же вскрыл первую жестянку.
– С вас штраф пятьдесят долларов, мистер Карри, – сказала она, трогаясь с места. – За распитие пива в машине.
– Ладно. Выписывайте квитанцию, я заплачу.
Майкл залпом проглотил не меньше половины содержимого банки. Сразу полегчало – на какое-то время он пришел в норму.
Доктор Мэйфейр миновала широкий шестиполосный перекресток, сделала запрещенный левый поворот на Семнадцатую улицу и помчалась по ней, постепенно увеличивая скорость.
– Пиво помогает забыться, правда? – спросила она.
– Ничего подобного, – возразил Майкл. – Проблемы валятся на меня со всех сторон.
– И я тоже одна из них?
– Нет, что вы. Мне хочется быть рядом с вами.
Майкл сделал новый глоток и вытянул руку, чтобы не удариться обо что-нибудь, когда доктор Мэйфейр сделала еще один резкий поворот и понеслась к центру города, в направлении Хейта.
– Знаете, доктор Мэйфейр, мне не свойственно жаловаться. Просто после того случая я лишился защитной оболочки. Мне ни на чем не сосредоточиться. Я даже не могу ни читать, ни спать.
– Я понимаю, мистер Карри. Как только мы приедем, можете сразу же отправляться на яхту и делать что угодно. Но я, честное слово, была бы рада для начала приготовить вам что-нибудь поесть.
– Это не принесет мне никакой пользы, доктор Мэйфейр… Позвольте задать вам один вопрос… Насколько мертвым я был, когда вы подняли меня на борт?
– Полная клиническая смерть, мистер Карри. Никаких видимых признаков жизни. Еще немного – и процесс стал бы необратимым. Разве вы не получили моего письма?
– Вы мне писали?
– Да-а… Теперь я понимаю, что нужно было самой приехать к вам в больницу.
Майклу подумалось, что она ведет машину как автогонщик, переключая передачи только когда мотор начинает скрежетать.
– Вы сказали доктору Моррису, что на палубе я не произнес ни слова…
– Вы что-то пробормотали: то ли какое-то слово, то ли чье-то имя. Я толком не расслышала. Отчетливо разобрала лишь звук «л»…
– Звук «л»…
Остальные ее слова потонули во внезапно наступившей тишине. Майкл куда-то проваливался… Он сознавал, что находится в машине и доктор Мэйфейр продолжает что-то говорить, что они только что пересекли Линкольн-авеню и через парк Голден-Гейт направляются к парку Президио… И в то же время Майкл уже пребывал в совершенно другом месте: он оказался на пороге пространства сна, где слово, начинавшееся с буквы «л», означало что-то неимоверно важное, сложное и одновременно знакомое. Его окружает толпа существ… они подходят все ближе и ближе… они вот-вот заговорят… Портал…
Майкл тряхнул головой. Надо сфокусироваться… Но видение уже распадалось. Его охватила паника.
Когда доктор Мэйфейр резко затормозила перед светофором на Гири-стрит, Майкла отбросило назад и буквально вдавило в кожаное сиденье.
– Надеюсь, человеческие мозги вы оперируете не так, как водите машину? – спросил он, чувствуя, что лицо у него буквально пылает.
– Почему же? Именно так и оперирую.
От светофора она поехала немного медленнее.
– Простите меня, – снова заговорил Майкл. – Я просто нашпигован извинениями. Только и делаю, что извиняюсь, с тех пор как это случилось. Разумеется, проблема не в вашей манере вести машину. Проблема во мне самом. В общем-то, до того случая я был… вполне обыкновенным. Я хочу сказать, просто одним из тех счастливых людей, понимаете?
Кажется, она кивнула в ответ, однако выглядела при этом словно отрешенной, погруженной в собственные мысли. Доктор Мэйфейр сбавила скорость – они подъезжали к шлагбауму перед мостом, так плотно окутанным туманом, что, оказавшись на нем, автомобили словно растворялись в пространстве.
– Вы хотите поговорить со мной? – спросила она, не поворачивая головы и провожая взглядом исчезающие в тумане машины. Потом вытащила из куртки долларовую бумажку и подала дежурному смотрителю. – Вам необходимо поделиться своими ощущениями?
Майкл вздохнул. Рассказать о том, что с ним творится, задача невыполнимая. Но если он начнет, то уже не сможет остановиться – вот это самое скверное.
– Мои руки… вы знаете… Дотрагиваясь до предметов, я вижу разные образы, но эти видения…
– Расскажите мне о них.
– Я знаю, о чем вы думаете. Вы ведь врач. И вы полагаете, что это временное нарушение деятельности долей головного мозга или какая-нибудь еще ерунда в том же роде.
– Нет, я думаю совсем о другом.
Она поехала быстрее. Впереди из тумана выросли уродливые очертания тяжелого фургона. Его задние огни сияли, как маяки. Доктор Мэйфейр удачно пристроилась к нему в хвост и сбросила скорость до пятидесяти пяти миль, чтобы двигаться с ним в одинаковом темпе.
Тремя глотками Майкл торопливо допил остатки пива, запихнул пустую банку в мешок и снял одну из перчаток. Машина миновала мост, и, как это обычно бывает, туман таинственным образом испарился. Майкла поразило ясное светлое небо. По мере того как они поднимались на Вальдо-грейд, окрестные темные холмы вставали вокруг, словно невидимые плечи выталкивали их из земли.
Бросив взгляд на свою противно влажную и сморщенную руку, Майкл принялся растирать пальцы, испытывая при этом странно приятное ощущение.
Они ехали со скоростью шестьдесят миль в час. Майкл потянулся к ее руке, без всякого напряжения лежавшей на рукоятке переключения скоростей.
Доктор Мэйфейр не протестовала – лишь бросила быстрый взгляд на Майкла и вновь сосредоточилась на дороге, поскольку машина подъезжала к туннелю. Потом, чуть приподняв руку, она прижала большой палец к его обнаженной ладони.
Майкла окутали нежные шепоты, перед глазами все расплывалось. Тело женщины как будто распалось и окружило его вихревым облаком из мельчайших частиц. Роуан… Майкл вдруг испугался, что машина вот-вот вылетит в кювет. Но это были не ее, а его ощущения. Он чувствовал ее теплую влажную руку, гулкое биение пульса и находился в самой сердцевине всеобъемлющей неземной близости, захлестнувшей его целиком. Эротическое возбуждение было настолько сильным, что не поддавалось никакому контролю.
Вспыхнувшее видение все стерло… Он очутился в кухне – в ультрасовременной кухне, заполненной всевозможными сверкающими бытовыми устройствами и приспособлениями. А на полу лежал умирающий мужчина. Спор, крики… но было еще что-то… нечто произошедшее раньше. Отрезки времени скользили, сменяя друг друга и сталкиваясь между собой. Майкл находился в самом центре пространства, не имевшего ни верха, ни низа, ни левой или правой стороны… Роуан со стетоскопом стоит на коленях возле умирающего… Ненавижу! Она закрывает мужчине глаза и откладывает в сторону стетоскоп, не в силах поверить своему счастью: он умирает.
Видение исчезло… Машина ехала медленнее. Роуан резким движением высвободила руку.
Их поездка напоминала ему катание на коньках: бесконечные повороты направо, направо и снова направо, но это не имело значения. Опасность, грозившая им, была не более чем иллюзией. Теперь – как это бывало всегда после подобных видений – ему открылись факты. Точнее, ощущение было таким, словно они всегда присутствовали в его памяти – подобно его собственному адресу, номеру телефона и дате рождения.
Тот человек был приемным отцом Роуан, которого она презирала, ибо боялась, что похожа на него – такая же безапелляционно решительная, равнодушная и жестокая. Всю свою жизнь она стремилась избежать этого сходства, не стать такой же, как он, и старалась во всем брать пример с приемной матери – доброжелательной, зачастую сентиментальной, с большим чувством вкуса женщины, которую все любили, но никто не уважал.
– Ну, и что же вы видели? – спросила Роуан.
В свете фар встречных машин ее лицо казалось удивительно гладким.
– А разве вы не догадываетесь? Боже, как я хочу, чтобы эта сила исчезла, чтобы я больше никогда ничего не ощущал. Я не желаю ничего знать о других.
– Что вы видели?
– Он умер на полу. Вы были рады. Он не развелся с вашей приемной матерью, она так и не узнала о его намерении. Его рост был шесть футов два дюйма, он родился в Калифорнии, в городке Сан-Рафаэль, и машина, в который мы едем, принадлежала ему.
Откуда приходит к нему это? А ведь он мог бы рассказать еще очень и очень многое. С самого первого вечера после чудесного спасения в Майкле жила уверенность в том, что ему доступны любые сведения – стоит только пожелать.
– Вот что я видел, – после небольшой паузы продолжил он. – Вам интересно? Хотите продолжения? А вот меня интересует другое: зачем вам понадобилось, чтобы я это увидел? Какой прок от моего знания о том, что, вернувшись из клиники, вы уселись на кухне и съели то, что он приготовил перед смертью? Или о том, как врачи пытались привести его в чувство, хотя бессмысленнее занятия не придумаешь, поскольку он умер еще по дороге в клинику.
Она долго молчала и наконец прошептала:
– Мне тогда очень хотелось есть.
Майкла передернуло. Он с треском открыл новую банку пива. В машине вкусно запахло солодом.
– Теперь вы уже не испытываете ко мне симпатии, не так ли? – спросил он.
Роуан сосредоточенно глядела на дорогу и не произнесла в ответ ни слова.
Фары встречных машин слепили глаза. Слава Богу, она сворачивает с главной автомагистрали на узкую дорогу, ведущую в Тайбурон.
– Еще как испытываю, – наконец откликнулась Роуан.
Голос был тихим, томным, с хрипотцой.
– Я рад, – признался Майкл. – А то я действительно боялся… Я правда рад. Даже не знаю, зачем наговорил вам столько глупостей…
– Но ведь я же сама попросила рассказать, что вы видели.
Майкл рассмеялся и основательно припал к банке.
– Мы почти дома, – сообщила Роуан. – Не будете ли вы любезны оторваться от пива? Прошу вас как врач.
Вместо этого Майкл сделал новый большой глоток… Снова кухня… запах жаркого из духовки… Открытая бутылка красного вина и два бокала…
– …Это может показаться жестоким, но я совершенно не обязан присутствовать при ее угасании. Если ты предпочитаешь оставаться здесь и наблюдать за умирающей от рака женщиной… Что ж, это твой выбор, но тогда спроси себя, откуда такая тяга к подобным зрелищам, почему тебе доставляет удовольствие видеть чужие страдания, – быть может, что-то не в порядке у тебя самой!..
– Не городи чудовищную чушь, слышишь ?
Там было что-то еще… что-то очень важное… И чтобы увидеть все в подробностях, нужно всего лишь сосредоточиться…
– Роуан, я дал тебе все, что ты хотела. Я знаю: ты всегда была связующим звеном между нами. Если бы не ты, я бы давным-давно ушел от нее. Неужели Элли никогда не рассказывала тебе об этом? Она сознательно обманывала меня, уверяя, что может иметь детей. Лишь из-за тебя я не послал все к черту и продолжал жить с этой женщиной.
Они свернули направо, на запад, как предположил Майкл, и въехали на темную, густо обсаженную по обе стороны деревьями улицу, которая сначала шла вверх, а затем спускалась по склону. Снова мелькнул громадный кусок ясного неба, полного далеких равнодушных звезд, и живописная панорама Сосалито, разбросанного по холмам вплоть до маленькой гавани. Майкл догадался, что они почти приехали.
– Можно мне спросить вас, доктор Мэйфейр?
– О чем?
– Вы… вы боитесь причинить мне боль?
– Почему вы об этом спрашиваете?
– У меня вдруг возникла совершенно нелепая идея… тогда, когда я держал вашу руку… вы пытались послать мне предостережение.
Она не ответила, но такое предположение явно оказалось для нее неожиданным потрясением.
Машина мчалась по дороге вдоль самого берега. Небольшие газоны, остроконечные крыши, едва видимые за высокими заборами, кипарисы, нещадно скрюченные непрекращающимися западными ветрами. Обиталище миллионеров. Майклу прежде не доводилось видеть таких великолепных современных зданий.
Запах воды ощущался намного сильнее, чем на мосту «Голден-Гейт».
Роуан свернула на подъездную дорожку и заглушила мотор. Прежде чем погаснуть, фары выхватили из темноты створки массивных ворот из древесины секвойи. Дома Майкл не видел: его поглощала царящая вокруг тьма, граничащая вдалеке с белесоватым небом.
– Мне кое-что нужно от вас.
Роуан сидела не двигаясь и смотрела прямо перед собой, чуть склонив голову. Упавшие на щеки волосы не позволяли видеть профиль ее лица.
– О чем речь – ведь я ваш должник, – без колебаний ответил Майкл. Он сделал очередной большой глоток пива, заодно втянув в себя и всю пену. – Что я должен сделать? Отправиться в кухню, положить руки на пол и сказать вам, что произошло, когда он умер, и что на самом деле убило его?
Еще один запрещенный удар. В ответ – молчание. Тишина внутри темного салона машины. Майкл остро чувствовал ее близость, сладостный, чистый аромат нежной кожи. Роуан повернулась к нему. Сквозь деревья желтыми островками пробивался свет фонаря. Поначалу Майклу показалось, что ее глаза не то полуприкрыты, не то и вовсе закрыты. Нет – она смотрела прямо на него.
– Да, именно этого я и хочу, – ответила Роуан. – Именно этого…
– Понятно. Беда в том, что он умер во время перепалки с вами. Должно быть, вы потом корили себя.
Она слегка задела Майкла коленом, и от этого прикосновения по спине его поползли мурашки.
– Почему вы так решили?
– Вам невыносима даже мысль о том, чтобы причинить вред кому бы то ни было, – пояснил Майкл.
– Вы рассуждаете слишком наивно.
– Может, я и чокнутый, доктор Мэйфейр, – засмеялся он, – но только не наивный. В роду Карри наивных не было.
Он долгим глотком допил остатки пива, не сводя глаз с бледной полоски света на ее подбородке, с мягких вьющихся волос, с нижней губы – пухлой, нежной и такой лакомой для поцелуя.
– Тогда можно выразиться иначе. Если хотите, назовем это невинностью, простодушием…
Он снова усмехнулся, на этот раз про себя, молча. Если бы только она знала, что у него на уме сейчас, когда он смотрит на ее рот, на ее нежный чувственный рот.
– А что касается вашего вопроса, – сказала она, выходя из машины, – то мой ответ «да».
Майкл открыл дверцу и тоже выбрался наружу.
– Какой еще к черту вопрос? – поинтересовался он, тем не менее невольно краснея.
Роуан вытащила с заднего сиденья его чемодан.
– Вы прекрасно понимаете, о чем речь.
– Не имею представления!
Она пожала плечами и направилась к воротам.
– Вы хотели знать, согласна ли я лечь с вами в постель. Я только что вам ответила: да.
Майкл догнал ее уже за воротами. Широкая бетонная дорожка вела к черным двойным дверям, сделанным из тика.
– Удивляюсь, зачем мы с вами вообще утруждаем себя разговорами, – хмыкнул он, беря у Роуан чемодан, в то время как она рылась в сумочке в поисках ключа.
Наконец она жестом пригласила Майкла войти, и на лице ее вновь промелькнуло некоторое смущение. Он даже не заметил, когда она успела забрать у него пакет с пивом.
Дом оказался куда более красивым, чем Майкл мог вообразить. Ему было не привыкать к старым зданиям – не счесть, в скольких из них он побывал и поработал. Однако с домом такого типа – безупречно построенным шедевром современной архитектуры – он столкнулся впервые.
Перед ним расстилалось громадное пространство собранного из широких досок пола, плавно переходившего из столовой в гостиную, а оттуда – в игровую комнату. Стеклянные стены, покоившиеся на мощной деревянной основе, выходили на юг, запад и север; за ними виднелась большая открытая терраса, тускло освещаемая сверху одиноким прожектором. Простиравшийся за ней залив тонул во мраке и оставался невидимым. Уютно мерцающие на западе огоньки Сосалито казались призрачными в сравнении с отдаленной величественной панорамой Сан-Франциско – скопищем домов и буйством огней.
Туман лишь чуть-чуть смягчал яркие ночные краски и рассеивался прямо на глазах.
Майкл готов был вечно лицезреть открывающийся из окон вид, если бы не чудо-дом – зрелище не менее впечатляющее. Глубоко вздохнув, он провел рукой по безупречным шпунтовым соединениям стен, с восхищением посмотрел на такой же безупречный потолок, тяжелые балки которого сходились к центру. Везде было дерево, причем прекрасной фактуры, надежно скрепленное, ладно пригнанное, отлакированное и умело предохраненное от гниения. Дерево обрамляло массивные стеклянные двери. Везде стояла деревянная мебель с редкими вкраплениями кожи или стекла. Ножки столов и стульев отражались в блеске пола.
В восточном крыле дома располагалась кухня, та самая, что всплыла недавно в его видении. Массивное нагромождение деревянных шкафов и рабочих столиков в сочетании с медным сиянием кастрюль, развешанных по стене. Да, идеальное зрелище и не менее идеальное место для приготовления пищи. От остальных комнат кухню отделял лишь внушительного вида камин, отделанный камнем, с высокой и широкой кромкой очага, настоящей каменной скамьей, на которой можно было сидеть.
– Не думала, что вам здесь понравится, – сказала Роуан.
– Но дом действительно прекрасный, – со вздохом ответил Майкл. – Он построен наподобие корабля. Никогда еще не видел столь превосходно спроектированного современного дома.
– Чувствуете, как он движется? Этот дом строили, чтобы он двигался вместе с водой.
Майкл медленно прошел по толстому ковру гостиной. Только теперь он заметил позади камина винтовую лестницу, ведущую наверх. Сверху из открытой двери лился янтарно-желтый свет. И сразу же в голову пришли мысли о спальнях, столь же просторных, как комнаты нижнего этажа. Он представил, как они лежат вдвоем в темноте и смотрят на далекое зарево городских огней. Его лицо снова обдало жаром.
Майкл быстро взглянул на Роуан. Уловила ли она эту мысль, как прежде прочла невысказанный вопрос? Впрочем, такую мысль способна уловить любая женщина.
Роуан стояла в кухне у открытой двери холодильника. Впервые Майкл увидел ее лицо при ярком свете и поразился его почти азиатской гладкости. Однако для азиатки у доктора Мэйфейр слишком светлые волосы. А кожа на лице настолько упруга, что от улыбки на щеках появляются ямочки.
Майкл шагнул к ней. Ощущение близости ее тела, блики света, игравшие на гладкой коже рук, сияние волос заставили его вновь испытать острое возбуждение. Такие волосы – пышные и довольно короткие, чуть ниже уровня подбородка, – невероятно усиливают привлекательность каждого движения, каждого жеста их обладательницы. Так, во всяком случае, казалось Майклу. Такие женщины запоминаются надолго, и прежде всего в памяти остаются их прекрасные волосы.
Едва Роуан закрыла холодильник и яркий белый свет погас, Майклу открылась другая картина: сквозь стеклянную стену, выходящую на север, почти в самом ее левом углу, вблизи входной двери, он увидел океанскую яхту цвета слоновой кости, стоящую на якоре. Слабый свет прожектора освещал ее внушительную носовую часть, многочисленные иллюминаторы и темные окна рулевой рубки.
Яхта показалась ему неправдоподобно огромной – ее можно было сравнить, пожалуй, с лежащим на боку китом. Создавалось впечатление, что эта громадина вот-вот вторгнется в окружавший его мир изящной мебели и ковров. Майкл почувствовал, как его охватывает паника и… какой-то странный, непонятный страх: ему вдруг подумалось, что ужас, пережитый им в момент спасения, как раз и был тем, что он безуспешно пытался вспомнить.
Надо идти туда, другого выхода нет. Собственными руками ощупать палубу. Он вдруг поймал себя на том, что уже направляется к стеклянным дверям, остановился и в смущении наблюдал, как Роуан отодвигает засовы и плавно откатывает в сторону тяжелую створку.
Холодный ветер ворвался в помещение. Майкл услышал поскрипывание снастей на массивной яхте. Слабый бело-голубой свет прожектора показался ему мрачным и вызвал неприятное ощущение. Про такие суда обычно говорят: «…обладает хорошими мореходными качествами». Майкл мог вполне согласиться с таким определением. У пересекавших океаны мореплавателей прошлого корабли были намного меньше. Покачивающаяся перед ним на волнах яхта выглядела пугающе огромной.
Он вышел на пирс и направился к яхте. Ветер плотно прибивал к щеке воротник куртки. Вода внизу казалась совершенно черной. От нее исходил характерный запах – влажный запах того, что неизбежно погребено в морских водах.
Он мельком взглянул на огоньки Сосалито, мерцавшие на другой стороне залива; пронизывающий ветер мешал наслаждаться живописным видом. Майкл явственно ощущал, как вокруг сгущается все то, что он так ненавидел в климате западного побережья, не знающем ни суровой зимы, ни палящего лета: вечная сырость, вечный холод, вечные пронизывающие ветры.
Как хорошо, что вскоре он окажется дома, где его словно теплым одеялом окутает привычная августовская жара. Он вновь увидит улицы Садового квартала, деревья, качающиеся на ласковом ветру…
Но сейчас не время думать об этом. Его ждет яхта. Надо взбираться на эту посудину с ее иллюминаторами и такими скользкими на вид палубами. Яхта слегка покачивалась, ударяясь бортом о резиновые шины, укрепленные по всей длине стенки пирса. Нет, морская романтика явно не его стихия. Даже перчатки на руках сейчас не вызывали раздражения.
В своей жизни Майклу довелось плавать лишь на больших судах: в детстве – на старых речных паромах, а позже – на огромных круизных теплоходах, катавших сотни туристов по заливу Сан-Франциско. При виде любого судна наподобие этой яхты в голову почему-то неотступно лезли мысли о возможности падения за борт.
Майкл прошел вдоль борта до кормы, начинавшейся сразу за башенкой рулевой рубки. Уцепившись за перила, он подпрыгнул и взобрался на борт, неприятно удивившись тому факту, что громадина качнулась и словно бы осела под его весом. И вот наконец он стоит на палубе.
Роуан пришла следом за ним.
До чего же отвратительно ощущать под ногами ходящую ходуном палубу! И как только люди могут плавать на яхтах? Однако посудина вроде бы вполне прочная, а ограждение палубы достаточно высокое, чтобы внушить ощущение безопасности. Имелось даже небольшое укрытие от ветра.
Сквозь стеклянную дверь Майкл заглянул в рубку. Мерцание приборных досок, разноцветные сигнальные лампочки. Вполне сошло бы и за кабину самолета. Наверное, где-то там, внутри рубки, есть лестница, ведущая вниз, в каюты под палубой.
Однако сейчас его заботил не интерьер яхты. Главное – палуба, на которой он лежал, когда Роуан его спасла.
В ушах свистел дувший с залива ветер. Майкл обернулся и посмотрел на Роуан. На фоне далеких огней ее лицо казалось совсем темным. Вытащив руку из кармана, она указала на доски у себя под ногами.
– Вот здесь.
– Я лежал здесь, когда открыл глаза? Когда ко мне вернулось дыхание?
Роуан кивнула.
Майкл опустился на колени. Яхта покачивалась медленно и едва ощутимо, скрип снастей был почти не слышен и, казалось, исходил просто из темноты. Майкл стянул с рук перчатки, сунул их в карманы и слегка размял кисти.
Потом он коснулся пальцами досок палубы. Холод… сырость… Образы, как всегда, хлынули из ниоткуда, отделяя его от настоящего момента. Однако перед Майклом возникали картины, не имевшие никакого отношения к моменту его спасения: мелькали лица, люди двигались и разговаривали… Вот прошла Роуан, затем появился тот человек, которого она ненавидела, а с ним еще одна женщина, старше Роуан, та, к кому она относилась с любовью, – Элли. Один слой образов сменялся другим, третьим… голоса тонули в общем шуме.
Майкл прополз на коленях немного вперед. Голова начинала кружиться, но он упорно продолжал ощупывать доски, шаря по ним, будто слепец.
– Я ищу Майкла, – сказал он. – Где Майкл?!
Его вдруг обуяла злость, обида за впустую потраченное лето.
– Я ищу Майкла! – повторил он, стараясь активизировать свою внутреннюю силу, требуя, чтобы она сконцентрировалась и сфокусировалась на тех образах, которые ему требовались.
– Боже, яви мне момент, когда я сделал первый вдох, – шептал Майкл.
Но все это походило на перелистывание увесистых томов в поисках единственной строчки… Грэм, Элли, голоса, нараставшие, перемешивающиеся между собой, сливающиеся в единый звук… Майкл отказывался находить слова, чтобы облечь в них увиденное, – он просто отвергал эти образы.
– Покажите мне тот момент!
Он распластался, прижавшись щекой к шершавым доскам палубы.
И вдруг он как будто очутился в нужном ему времени, словно дерево под ним вспыхнуло и осветило так необходимую ему картину… Стало намного холоднее, и ветер завывал яростнее. Яхта раскачивалась на волнах. Майкл увидел себя лежащим на палубе: мертвец с бледным мокрым лицом. Роуан склонилась над ним и с силой давила ему на грудь. «Давай же, дыши! – словно заклинание, повторяла она. – Черт тебя дери, дыши!»
Его глаза открылись. «Да, я это видел, я видел Роуан… Я жив. Я – здесь!.. Роуан, так много всего…» Боль в груди сделалась непереносимой. Он практически не чувствовал ни рук, ни ног. Неужели это его пальцы крепко сжимают ее руку?
«Я должен объяснить. Объяснить все, что было прежде…» Прежде чего? Майкл попытался ухватиться за эту ниточку и скользнуть глубже. Прежде чего? Но перед глазами снова и снова возникал лишь бледный овал ее лица – такого, каким он видел его тогда… Волосы, выбивавшиеся из-под шапочки.
Внезапно он снова оказался в настоящем времени и обнаружил, что изо всех сил колотит кулаком по палубе.
– Дайте мне вашу руку, – крикнул он Роуан.
Она опустилась на колени рядом с ним.
– Думайте, думайте, вспоминайте, что произошло в тот момент, когда я вернулся к жизни!
Но Майкл знал заранее: это бесполезно. Он видел лишь то, что видела она. Он видел себя, покойника, возвращавшегося к жизни. Мертвое мокрое тело, перекатывавшееся с боку на бок под ее руками, с силой надавливавшими на его грудную клетку. Потом появилась серебристая щель между веками – он открыл глаза.
Майкл долго пролежал на палубе без движения, прерывисто и часто дыша. Он снова продрог, хотя ничто не сравнится с холодом того вечера. Роуан стояла рядом и терпеливо ждала. Майклу хотелось заплакать, но он до такой степени устал, что не осталось сил даже на это. Он чувствовал себя совершенно раздавленным. Промелькнувшие перед глазами образы словно изрешетили его насквозь. Не было желания шевельнуть хоть пальцем.
Однако Майклу все же открылось нечто новое – маленькая подробность, о которой он не знал до сих пор. Деталь, связанная с Роуан… Тогда он в первые же секунды узнал, кто она, узнал все о ее жизни. И ее имя – Роуан.
Но можно ли считать достоверными эти воспоминания? От напряжения болела душа. Майкл лежал на палубе, раздавленный, злой, ощущая кипевшую внутри ярость и одновременно отчетливо сознавая глупость своего положения. Не будь рядом Роуан, он наверняка бы разрыдался.
– Попробуйте еще раз, – сказала она.
– Бесполезно. Это другой язык. Я не умею им пользоваться.
– И все же попытайтесь.
Он последовал ее совету. Но на этот раз не увидел ничего, кроме множества разных людей. Замелькали картины солнечных дней, лицо Элли, Грэма, калейдоскоп других лиц. Вспышки света словно перемещали его взгляд то в одном направлении, то в другом… Дверь рубки, хлопающая от ветра, какой-то высокий мужчина без рубашки, поднимающийся из трюма наверх… И Роуан. Да, Роуан, Роуан, Роуан. Она была рядом со всеми, кто возникал перед его внутренним взором. Всегда Роуан, иногда – счастливая Роуан. Майклу не удалось увидеть на борту этой яхты ни одного человека, рядом с которым не было бы Роуан.
Майкл поднялся с досок, встал на колени. Вторая попытка ошеломила его сильнее, чем первая. Уверенность в том, что он что-то узнал о Роуан уже тогда, когда бездыханный лежал на палубе, была лишь иллюзией, тонким слоем, снятым с густого покрова ее образов, наполнявших яхту. Это знание просто перемешалось с другими слоями видений, сквозь которые он продирался. Возможно, он обрел знание о Роуан только потому, что держал ее руку. А может, все объясняется еще проще: прежде чем он вновь оказался на палубе, Роуан рассказала о том, как это было. Утверждать что-либо наверняка невозможно.
Словом, суть в том, что он по-прежнему ничего о ней не знает и по-прежнему не в состоянии вспомнить самое важное! А она просто очень терпеливая и понимающая женщина. Надо сказать ей спасибо и уходить отсюда.
Майкл сел на палубе.
– К черту все, – прошептал он.
Он натянул перчатки, потом достал носовой платок, высморкался и поднял воротник куртки, чтобы защититься от ветра. Впрочем, что ветру такая тонкая курточка?
– Пойдемте в дом, – сказала Роуан.
Она взяла его за руку, как маленького. Как ни странно, ему это понравилось. Едва они перелезли через борт проклятой яхты с ее скользкой и качающейся палубой и оказались на пирсе, Майкл почувствовал себя намного лучше.
– Благодарю вас, доктор, – сказал он. – Попытаться все же стоило, и у меня нет слов, чтобы выразить вам благодарность за то, что вы позволили мне это сделать.
Роуан обняла его за талию, почти вплотную приблизив к нему лицо.
– Может, в другое время у вас получится.
Снова ощущение… Еще одна деталь: он знает, что под палубой есть каюта, где она часто спит и где к зеркалу приклеена его фотография… Неужели он опять краснеет?
– Пойдемте в дом, – повторила приглашение Роуан и буквально потащила его за собой.
Внутри было уютно. Однако усталость и разочарование оказались слишком велики, чтобы позволить Майклу размышлять об уюте. Ему хотелось отдохнуть, но он не осмеливался даже помыслить об этом. Нет, надо ехать в аэропорт. Брать чемодан и ехать. Там он вздремнет на пластиковом стуле в зале ожидания… Один путь к открытию перерезан, и нужно как можно скорее воспользоваться другим.
Оглядываясь на силуэт яхты, Майкл поймал себя на желании еще раз сказать им, что он не отказывается от своей цели, а просто пока не может вспомнить. Он ведь даже не знает, действительно ли портал служит входом куда-то. И еще число… Там ведь было число. Причем очень важное. Он подошел к стеклянной двери и прижался лбом к ее прохладной поверхности.
– Я не хочу, чтобы вы уезжали, – прошептала Роуан.
– Я сам не хочу, – признался Майкл. – Но должен. Понимаете, они на самом деле чего-то ждут от меня. Тогда они объяснили, чего именно. Я обязан сделать все возможное и уверен, что возвращение в Новый Орлеан – это часть пути к успеху.
Роуан молчала.
– С вашей стороны было очень любезно привезти меня сюда.
И вновь молчание в ответ.
– Может… – после долгой паузы прошептала она.
– Может… что? – Майкл резко обернулся.
Роуан стояла спиной к свету. Она успела снять куртку, и в свитере крупной вязки выглядела очень стройной и грациозной: длинные ноги, удивительно красивые скулы и узкие запястья рук…
– Скажите, а вам никогда не приходило в голову, что так и должно быть: расчет в том и состоял, чтобы вы все забыли?
Ее предположение застало Майкла врасплох, и потому он ответил не сразу:
– Вы верите в истинность моих видений? Я хочу сказать, вы читали то, что печатали об этом в газетах? Так вот, в том, что касается видений, они написали правду. Конечно, журналисты сделали из меня дурачка, полного идиота. Но суть-то в том, что тогда там было столько всего, столько всего и…
Жаль, что ему не удавалось отчетливо разглядеть выражение ее лица.
– Я верю вам, – спокойно сказала Роуан и, помолчав, добавила: – Всегда страшно оказаться на волосок от гибели, случайное стечение обстоятельств, круто меняющее жизнь, способно испугать каждого. Вот почему нам нравится думать, что так было предначертано…
– Это действительно было предначертано!
– Хочу только добавить, что в вашем случае волосок был слишком тонким. Когда я заметила вас, уже почти стемнело. Пятью минутами позже я вряд ли разглядела бы вас в воде, и мы бы не увиделись сегодня.
– Вы пытаетесь найти объяснения, и это очень любезно с вашей стороны. Я искренне ценю ваши усилия. Но, видите ли, мои воспоминания… точнее говоря, те ощущения, что мне довелось испытать… они настолько сильны, что не нуждаются ни в каких объяснениях. Я видел их, доктор Мэйфейр, они там действительно были. И…
– И что же?
Майкл покачал головой:
– Это что-то вроде эмоционального всплеска – в какой-то бредовый момент я словно бы вспоминаю, но в следующее мгновение все исчезает. То же самое происходило со мной и тогда, на палубе. Знание… да, едва открыв глаза, я еще отчетливо помнил, что происходило там… А потом это ушло…
– Слово, которое вы тогда сказали, точнее, прошептали…
– Я не уловил его – не видел себя произносящим какое-либо слово. Но вот что я вам скажу: мне кажется, что уже тогда я знал ваше имя. Знал, кто вы.
Она молчала.
– Однако я не уверен…
Майкл в замешательстве обернулся. Почему он тянет время? Где его чемодан? Ему действительно пора в аэропорт. Но он настолько устал, что никуда не хотел ехать.
– Я не хочу, чтобы вы уезжали, – снова сказала Роуан.
– Вы серьезно? Значит, я могу побыть здесь еще?
Он посмотрел на нее, на темную тень худощавой фигуры на фоне слабо освещенного стекла.
– Как жаль, что я не встретил вас раньше. – Майкл смутился. – Жаль, что… я хотел сказать… Это так глупо, но вы очень…
Он шагнул вперед, чтобы лучше видеть ее. Эти глаза… Глубоко посаженные и тем не менее очень большие, удлиненные. Нежные, соблазнительные губы… Но что за странная иллюзия? Едва Майкл сделал еще несколько шагов, выражение лица Роуан, озаренного мягким, приглушенным светом, проникавшим сквозь стены, сделалось вдруг угрожающим и злобным. Нет, здесь, конечно же, какая-то ошибка. На самом деле он даже не может толком разглядеть ее лицо. И все же во взгляде, устремленном на него из-под густых светлых волос, явственно читалась неприкрытая ненависть.
Майкл буквально застыл на месте. Должно быть, у него разыгралось воображение. Однако перед ним стояла именно Роуан, стояла неподвижно и либо не подозревала о его страхе, либо ей было все равно.
Потом она двинулась к нему и оказалась в полосе тусклого света, проникавшего сквозь северную дверь.
Как она прекрасна! И как печальна! А он? Непростительно! Допустить такую ошибку! Ужасно! Видеть печаль на ее лице, ощущать вспыхнувшее внутри ее безмолвное желание и бурю эмоций…
– Что это? – прошептал Майкл.
Он раскрыл руки. И Роуан нежно прижалась к нему грудью, большой и удивительно мягкой. Майкл заключил ее в объятия и пробежал закованными в перчатки пальцами по шелковистым волосам.
– Что это? – снова прошептал он.
То не был вопрос. Скорее то была своего рода словесная ласка, делавшая его смелее. Майкл чувствовал, как бьется ее сердце, слышал прерывистое дыхание. И сам дрожал всем телом, охваченный горячим желанием защитить ее, уберечь от чего-то, почти мгновенно перешедшим в страсть.
– Я не знаю, – прошептала в ответ Роуан. – Не знаю…
Она беззвучно плакала. Потом она подняла голову и осторожно поцеловала его полураскрытыми губами, словно опасаясь, что он воспротивится этому. Она давала ему время для отступления. И конечно же, он не имел ни малейшего намерения отступать.
Майкла мгновенно поглотило желание, как это уже было в машине, когда он коснулся руки Роуан. Но сейчас он обнимал ее нежное, чувственное, такое податливое и одновременно упругое тело, целовал ее снова и снова, касаясь губами шеи, щек, глаз, проводил пальцами по гладкой коже под свитером. Боже, если бы он только мог содрать проклятые перчатки… Но если он это сделает, все пропадет, страсть испарится, оставив лишь ощущение замешательства. От отчаяния он ухватился за эту страсть, да, от отчаяния. А она по ошибке приняла ее за чистую монету и по-глупому испугалась.
– Да, да, конечно, – произнес Майкл. – Как ты могла подумать, что мне не захочется, что я не стану… как ты могла?… Обними меня, Роуан, обними крепче. Я здесь. С тобой.
Плача, она обмякла в его руках. Ее рука скользнула к поясу его брюк, к замку молнии, но движения эти были какими-то неуклюжими и бестолковыми. Роуан негромко вскрикнула, и в этом возгласе было столько боли, что Майклу стало не по себе.
Он вновь принялся покрывать поцелуями ее лицо, а когда голова Роуан запрокинулась, прижался губами к шее. Потом подхватил женщину на руки, осторожно пронес по комнате и стал медленно подниматься по чугунным ступеням винтовой лестницы, вираж за виражом, пока не оказался в большой и темной спальне с южной стороны дома. Они буквально рухнули на низкую кровать. Майкл снова и снова осыпал Роуан поцелуями, гладил по волосам. Даже сквозь перчатки он наслаждался ощущением ее тела. Когда он попытался снять с нее свитер, она не воспротивилась – напротив, принялась помогать и в конце концов стянула свитер через голову.
Майкл поцеловал ее груди под тонкой нейлоновой сорочкой, коснулся языком темного кружочка соска, тем самым стремясь усилить собственное возбуждение. Интересно, какие ощущения испытывала Роуан, когда черная кожа перчаток скользила по ее обнаженной коже, ласкала нежные соски? Слегка приподняв тяжелые груди, Майкл поцеловал сладостную впадинку между ними, а потом припал губами к соскам, целуя и лаская их по очереди.
Роуан извивалась, дрожа всем телом, то слегка прикусывая зубами его плохо выбритый подбородок, то сладострастно прижимаясь губами к его рту. Ее руки скользнули Майклу под рубашку…
Он сжимал в руках ее груди, чувствуя, как острые ноготки в ответ прищипывают его плоские соски. Все, еще немного – и он перейдет вожделенную грань. Майкл слегка отстранился, приподнялся на локтях, пытаясь совладать с дыханием, затем лег рядом с Роуан, ожидая, пока она стащит с себя джинсы. Как только с ними было покончено, он притянул Роуан к себе и провел руками по гладкой коже ее спины сверху вниз, до изгиба маленьких ягодиц.
Нет, он больше не может ждать! В яростном нетерпении Майкл сорвал очки и бросил их на столик у кровати. Без них Роуан превратится для него в вожделенное размытое пятно, но мысленно он будет отчетливо видеть каждую мелочь, каждую деталь ее фигуры – настолько прочно они запечатлелись в его памяти. Он лег на нее сверху, и тонкая рука немедленно потянулась к молнии его брюк, расстегнула ее, резким движением выдернула его член и несколько раз похлопала по нему, словно проверяя степень готовности. Майкл чуть с ума не сошел от этих прикосновений. Он почувствовал, как его кольнули жесткие завитки волос на ее лобке, потом ощутил жар внутренних губ и, наконец, тесное, пульсирующее влагалище.
Кажется, он даже вскрикнул. Роуан слегка приподнялась на подушке, не отрывая губ от его рта, и потянула Майкла к себе, изо всех сил прижимаясь к нему лобком.
– Давай же, возьми меня, – прошептала она.
Ее слова хлестнули его словно бичом, разом высвободив накопившуюся и едва сдерживаемую страсть. Сознание полноты власти над этим хрупким телом, этой нежной, беззащитной плотью лишь подстегивало нетерпение. Ни одна из сцен грубого изнасилования, порожденных его воображением и увиденных в неконтролируемых снах, не шла ни в какое сравнение с тем, что он делал сейчас.
Их бедра бились друг о друга. Майкл как в тумане видел ее раскрасневшееся лицо и два жарких красных пятна сосков. Роуан стонала. Он входил в нее снова и снова, а потом увидел, как вдруг обмякли и опустились ее руки… Через мгновение он закрыл глаза и излился в горячее лоно.
Разжав объятия, они, утомленные до изнеможения, расслабленно лежали на мягких простынях. Майкл зарылся лицом в душистые волосы тесно прижавшейся к нему Роуан.
Чуть позже она нащупала рукой смятую и отброшенную в сторону простыню, прикрыла их обоих и, повернувшись к Майклу лицом, задремала.
Пусть самолет подождет, и его цель – тоже. Пусть уходит боль и спадает возбуждение. В другое время и при других обстоятельствах он нашел бы Роуан неотразимой. Но сейчас она воплощала в себе нечто гораздо большее, чем наслаждение, страсть, загадочность и неукротимый огонь. В его восприятии она уподобилась божеству, в котором Майкл отчаянно нуждался.
Какое-то время спустя Майкл почувствовал, как его неотвратимо потянуло провалиться в сон. Он рывком сел на постели и кое-как сдернул с себя остатки одежды, потом лег, совершенно обнаженный, если не считать перчаток, рядом с Роуан и прижался к ней всем телом, с восторгом вдыхая ее восхитительный запах. Она в ответ сонно вздохнула, и этот вздох был сродни ласковому поцелую.
– Роуан… – прошептал он.
Да, он знал ее и знал о ней все.
Они были внизу. Они звали: «Просыпайся, Майкл, спускайся вниз». Они разожгли большой огонь в камине. Или огонь был вокруг них, похожий на лесной пожар? Майклу показалось, что он слышит грохот барабанов. Что это – неясный сон или воспоминание о шествии гильдии Комуса в тот далекий зимний вечер? Воспоминание о неистовом, наводящем ужас ритме оркестров и о факелах, мелькающих меж дубовых ветвей. Они были там, внизу, и от него требовалось всего лишь встать и спуститься. Но впервые с того момента, как они покинули его, впервые за все долгие недели он не хотел их видеть, не хотел вспоминать.
Майкл сел на постели, вглядываясь в блеклое, белесое утреннее небо. По телу струился пот, сердце колотилось.
Раннее утро. До восхода солнца еще слишком далеко. Он взял со столика очки и надел их.
В доме ничего не происходило. Не было ни барабанов, ни запаха дыма. И не было никого, кроме них двоих… Но и Роуан уже не лежала рядом с ним в постели. Он слышал поскрипывание балок и свай, но звуки эти были вызваны биением о берег волн. Чуть позже возник новый звук – низкий, вибрирующий. Майкл догадался, что это пришвартованная у пирса яхта ударяется о его стенку. Призрачный левиафан словно напоминал о своем существовании, говоря: «Я здесь, здесь».
Майкл посидел на постели еще некоторое время, оглядываясь вокруг, изучая спартанскую обстановку спальни. Все было добротно сделано, из того же первосортного тонковолокнистого дерева, что и мебель внизу. Чувствовалось, что владельцам дома нравились деревянные вещи, превосходно гармонировавшие между собой, – в отсутствии вкуса их явно не обвинишь. Вся обстановка комнаты – кровать, письменный стол, стулья – была невысокой, дабы ничто не мешало наслаждаться видом, открывающимся из огромного, от пола до самого потолка, окна.
Однако ноздри Майкла все же уловили запах дыма, а минутой позже он услышал и потрескивание огня. Ему был приготовлен халат – уютный, из плотной белой махровой ткани, именно такой, какие ему нравились больше всего.
Набросив халат, Майкл спустился вниз, разыскивая Роуан.
Действительно, в камине ярко пылал огонь. Но созданий, порожденных его сном, возле него не было. Роуан в одиночестве сидела на каминной скамье, скрестив ноги. Ее стройное тело тонуло в складках почти такого же, как на Майкле, халата. И все же он отчетливо видел, что плечи ее вздрагивают, – она снова плакала.
– Прости меня, Майкл. Мне правда очень жаль, – донесся до него низкий бархатный шепот.
По изможденному, осунувшемуся лицу тянулись дорожки от слез.
– Милая, ну зачем же ты так говоришь? – Он сел рядом и обнял ее. – О чем ты можешь жалеть?
Слова хлынули из нее потоком. Она говорила так торопливо и сбивчиво, что Майкл едва улавливал смысл… Ей жаль, что она обрушила на него свои непомерные требования, что так хотела быть с ним, что последние несколько месяцев были самыми скверными в ее жизни, когда одиночество сделалось почти непереносимым…
Майкл снова и снова целовал ее щеку.
– Я рад, что сижу сейчас рядом с тобой, – сказал он. – Я хочу быть здесь, и мне не надо никакого другого места в мире…
Он умолк, вспомнив о самолете на Новый Орлеан. Ладно, самолет подождет. С трудом подбирая слова, запинаясь, он попытался объяснить Роуан, что в доме на Либерти-стрит чувствовал себя словно в западне.
– Я не пришла раньше, потому что была уверена: все именно так и произойдет, – сказала она. – Ты был прав. Я хотела знать, хотела, чтобы ты коснулся моей руки, чтобы дотронулся до кухонного пола, где он умер. Я хотела… Видишь, я совсем не такая, какой кажусь.
– Я знаю, какая ты, – ответил он. – Очень сильная личность, для которой невыносимо признаться в малейшей слабости.
Роуан молча кивнула.
– Если бы только это, – прошептала она, и слезы вновь хлынули из ее глаз.
Она высвободилась из рук Майкла и босиком принялась мерить шагами комнату, не обращая внимания на холод, исходящий от почти ледяного пола. И опять слова полились с громадной скоростью – поток длинных, точно построенных фраз, заставивший Майкла напряженно вслушиваться в попытке до конца понять суть монолога. Манящая красота ее голоса завораживала.
Ее удочерили, когда ей был всего один день от роду, и сразу же увезли от матери. Кстати, известно ли ему, что она родилась в Новом Орлеане? Она писала об этом в письме, которое Майкл так и не получил. Да, конечно, он должен это знать, ибо тогда, на палубе, едва открыв глаза, он схватил ее за руку и крепко держал, никак не желая отпускать. Возможно, среди множества образов в его мозгу возникла на миг и какая-то безумная мысль о связи между Роуан и Новым Орлеаном. И тем не менее правда состоит в том, что в действительности она никогда не видела родного города. От нее скрыли даже имя ее настоящей матери.
А известно ли ему, что в сейфе за картиной, вон там, у двери, хранится некий документ: обещание, подписанное ею и гласящее, что она никогда не вернется в Новый Орлеан, не станет даже пытаться разузнать хоть что-нибудь о своих настоящих родителях? Прошлое вырвано с корнем. Перерезано, точно пуповина, и ей никоим образом не восстановить того, что было уничтожено. Но в последнее время ее не покидают мысли о прошлом, о жуткой черной бездне неведения и о том, что ее приемные родители, Элли и Грэм, ушли навсегда, а бумага по-прежнему лежит в сейфе. А еще она вновь и вновь возвращается в памяти к тому дню, когда умерла Элли. Почему даже на пороге смерти та заставила Роуан несколько раз повторить данное когда-то обещание?
Они увезли ее из Нового Орлеана шестичасовым рейсом в день, когда она появилась на свет, а потом многие годы твердили, что она родилась в Лос-Анджелесе. Так записано и в ее свидетельстве о рождении – обычная ложь, которую в изобилии стряпают для приемных детей. Элли и Грэм все уши прожужжали ей о маленькой квартирке в Западном Голливуде и о том, как счастливы они были, когда привезли ее туда.
Но суть не в этом. Суть в том, что их обоих нет в живых и все, что скрепляло семью, исчезает с ужасающей скоростью, бесследно уходит в небытие. Страшно вспомнить, в каких муках умирала Элли. Никто не заслужил таких страданий. Они столько лет жили великолепно, держась в ногу со временем. Хотя, надо признать, их мир был эгоистичным и материальным. Никто и ничто, будь то даже близкие друзья или родственники, не могло воспрепятствовать их самозабвенной погоне за удовольствиями. А у постели Элли, корчащейся от боли и умоляющей сделать ей укол морфия, не оказалось никого, кроме Роуан.
Майкл согласно кивал. Как все это знакомо. Разве сам он не придерживался тех же принципов? Перед глазами промелькнули картины новоорлеанской жизни: закрывается дверь с натянутой сеткой, родственники рассаживаются вокруг кухонного стола, на котором стоят блюда с красными бобами и рисом, – и разговоры, разговоры, нескончаемые разговоры…
– Послушай, а ведь я чуть не убила ее, – продолжала тем временем Роуан. – Я едва не положила конец ее мучениям. Я не могла… не могла… Никому не удавалось мне солгать. Я знаю, когда люди лгут. Дело не в том, что я могу читать их мысли. Скорее все происходит несколько иначе: то, что люди произносят, ложится передо мной в виде черно-белых фраз, которые я мысленно превращаю в цветные картины. Таким образом я узнаю их мысли, получаю фрагменты информации. В конце концов, я же врач, поэтому от меня и не пытались скрывать истинный диагноз Элли. Я все равно имела полный доступ к ее истории болезни. Лгала-то как раз сама Элли, постоянно делая вид, будто ничего не происходит. Но мне всегда были известны ее истинные чувства – давно, с самого детства. У меня очень рано проявилась способность к узнаванию. Я называю это диагностическим чутьем, но на самом деле здесь заключено нечто большее. Когда у Элли наступила ремиссия, я коснулась ее руками и поняла, что рак не отступил – он затаился, чтобы вернуться. Максимум, на что она могла рассчитывать, это на полгода… И потом, когда их не стало, возвращаться в этот дом, обустроенный по последнему слову техники, ко всей этой роскоши, которую едва…
– Понимаю, – тихо сказал Майкл. – Игрушками полон наш дом, счет банковский полон деньгами… – вспомнил он слова из какой-то песенки.
– Вот-вот. Но что этот дом без них? Пустая раковина! Я здесь чужая! А если я здесь чужая, то кто же тогда свой?
Я оглядываюсь по сторонам, и… мне страшно. Говорю тебе, мне страшно. Подожди, не надо меня утешать. Ты не понимаешь. Согласна, не в моих силах было предотвратить смерть Элли. Но смерть Грэма на моей совести. Я убила его.
– Нет, ты не могла сделать такое, – возразил Майкл. – Ты же врач и знаешь…
– Майкл, ты словно ангел, посланный ко мне. Но выслушай меня, пожалуйста. В твоих руках заключена некая сила. И она, несомненно, вполне реальна. По пути сюда ты ее наглядно продемонстрировал. Я тоже обладаю силой, и отнюдь не меньшей. Грэма убила я, как до того убила еще двоих: незнакомого мужчину и маленькую девочку. Да, маленькую девочку на игровой площадке много-много лет назад. Я читала материалы вскрытия. Говорю тебе, я обладаю способностью убивать! Вся моя жизнь направлена на то, чтобы противостоять этой способности и по возможности искупить причиненное зло! Именно поэтому я стала врачом.
Роуан глубоко вздохнула и провела пальцами по волосам. В просторном, перетянутом в талии халате она выглядела потерянной и никому не нужной. Одинокая девочка с мягкими, подстриженными под пажа волосами. Майкл хотел было подойти к ней, но Роуан жестом остановила его.
– Во мне столько всего накопилось. Знаешь, я почему-то решила, что расскажу об этом только тебе, тебе одному…
– И вот я здесь и готов тебя выслушать. Я хочу, чтобы ты рассказала мне…
Он не находил слов, чтобы выразить, до какой степени она заворожила его, буквально завладела всем его существом. Как объяснить свои чувства: неизмеримое удовольствие слушать ее после бесконечных недель, проведенных в ярости и безумии?
Тихим голосом Роуан начала рассказывать о своей жизни. Наука всегда была ее поэзией. Посвятив себя медицине, она не мечтала о карьере хирурга – ее привлекали и восхищали невероятные, почти фантастические достижения в области неврологии. Роуан хотелось всю жизнь провести в лаборатории – именно там, по ее мнению, открывались возможности для проявления истинного героизма. А главное, она, несомненно, обладала талантом исследователя – пусть Майкл примет это на веру.
Однако случилось так, что однажды – это произошло в тот чудовищный канун Рождества – ей пришлось пережить страшное потрясение. Она собиралась переходить в Институт Кеплингера, чтобы с головой уйти в изучение методов лечения заболеваний мозга без хирургического вмешательства. Использование лазера или гамма-лучевого скальпеля сродни чуду, которое человек, далекий от медицины, едва ли способен постичь и оценить в полной мере. Следует добавить, что общение с людьми всегда представляло для нее непростую проблему. Сам собой, следовательно, напрашивался вполне однозначный вывод: лаборатория – ее родной дом.
Последние достижения в области неврологии поражали воображение Роуан. И вот тогда ее предполагаемый руководитель… Его имя не имеет значения… Этого человека уже нет в живых: вскоре после того случая несколько микроинсультов свели его в могилу. Ирония судьбы… ни один хирург в мире не смог бы залатать такие разрывы… Однако она вплоть до недавнего времени не знала об этом… Так вот, возвращаясь к началу истории… этот человек накануне Рождества пригласил ее в свой институт, находящийся в Сан-Франциско, ибо то был единственный вечер в году, когда в здании никого не оставалось. Он решил нарушить традицию, чтобы посвятить Роуан в тайны своей деятельности и показать, на каком материале он проводил исследования. А материалом для экспериментов служили… живые человеческие эмбрионы.
– Я увидела его в инкубаторе. Крохотный зародыш. Знаешь, как он это называл? Абортированный плод… Извини, что рассказываю тебе об этом, – мне известно, какие чувства ты испытываешь к Малютке Крису. Я знаю…
Роуан не заметила его шока. Майкл ведь и словом не обмолвился ей про Малютку Криса – он вообще никому не рассказывал о придуманном им имени. Но она, похоже, совершенно не обращала внимания на его состояние. Майкл промолчал и продолжал слушать, в то время как в его воображении сменяли друг друга неясные образы жутких персонажей из когда-то виденных фильмов.
– Представляешь, в этом существе поддерживали жизнь, – говорила Роуан. – Аборт сделали на четвертом месяце. Знаешь, он разрабатывал способы поддержания жизни утробных плодов, извлеченных даже на более ранних сроках. Он планировал выращивать эмбрионы в пробирках, но не для того, чтобы потом вернуть их в материнское чрево, а чтобы сделать источником органов для трансплантации. Ты бы слышал его доводы! Утробный плод играет жизненно важную роль в человеческом существовании – вот так! Но я должна сделать одно поистине ужасное признание: все увиденное и услышанное заинтересовало меня, поразило и захватило полностью. Я мгновенно оценила потенциальные перспективы использования живого трансплантанта, понимая, что пройдет немного времени – и появится реальная возможность создавать здоровый мозг для больных, находящихся в коме. Боже мой, я прекрасно сознавала, что со своими способностями могла бы осуществить его идею!
Майкл кивнул:
– Понимаю. Ужас от увиденного и непреодолимое искушение.
– Именно так. Надеюсь, ты веришь, что я могла бы сделать головокружительную карьеру в науке и мое имя появилось бы в медицинских монографиях рядом с именами других гениев. Иными словами, я была рождена для этого. Когда после долгих лет учебы и поисков себя я открыла неврологию, доросла до нее, если можно так выразиться, я словно достигла горной вершины. И почувствовала себя там как дома.
Медленно всходило солнце. Его лучи упали туда, где стояла Роуан, но она даже не заметила этого. Она снова беззвучно плакала и тыльной стороной ладони вытирала со щек катившиеся градом слезы.
Через несколько минут она успокоилась и продолжила свой рассказ – о том, как убежала из лаборатории, отказалась от дальнейшей исследовательской работы, а следовательно, от всех будущих достижений, пытаясь таким образом спастись от дикого, страстного, необузданного желания обрести безграничную власть над клетками утробного плода и их удивительной приспосабливаемостью к внешней среде. Если бы только Майкл способен был в полной мере понять, какое широкое применение могли получить клетки зародышей – ведь в отличие от других трансплантантов они продолжают развиваться в предоставленной им среде, не приводя при этом в действие защитную реакцию иммунной системы своего нового хозяина, то есть не провоцируя отторжение.
– Понимаешь, речь шла о колоссальных, безграничных возможностях. А теперь вообрази количество «сырья», первичного материала – многомиллионную армию живых неличностей. Разумеется, это противозаконно. Знаешь, что ответил тот человек, когда я упомянула об этом? Он сказал, что законы против подобных действий приняты потому, что всем известно, что они совершаются.
– Ничего удивительного, – прошептал Майкл. – Именно так и устроен мир.
– На тот момент я убила лишь двоих. Но в глубине души твердо знала, что сделала это. Все дело в особенностях моего характера – в умении сделать выбор и нежелании мириться с поражением. Можешь называть это необузданностью темперамента. Или неконтролируемой яростью. Ты только представь, какими ценными в научной карьере могли оказаться моя решительность, отказ от признания любых авторитетов, способность к действию и стремление следовать только своим, пусть совершенно безнравственным и даже гибельным путем. Это не просто сила воли – слишком уж много во мне страсти, вдохновения и увлеченности.
– Возможно, это можно назвать непреклонной решимостью, – подсказал Майкл.
Она кивнула.
– Любой хирург, будь то мужчина или женщина, по сути своей исполненный решимости интервент. Ты идешь в операционную, берешь скальпель и сообщаешь пациенту, что собираешься удалить ему половину мозга, но зато потом он почувствует себя лучше. На такое хватит смелости только у очень решительного, внутренне собранного, уверенного в себе и крайне смелого человека.
– Слава Богу, такие люди есть, – откликнулся Майкл.
– Возможно, – горько улыбнулась Роуан. – Но самоуверенность хирурга не идет ни в какое сравнение с тем, что могло проявиться во мне в ходе лабораторных экспериментов. Я хочу поделиться с тобой еще одним секретом. Уверена, ты сможешь меня понять, потому что сам обладаешь необыкновенными способностями. Кому-либо из докторов рассказывать об этом бесполезно – я даже не пытаюсь.
В процессе операции я отчетливо вижу все, что делаю. Иными словами, держу в голове детальную и многогранную картину последствий каждого своего действия. Мой мозг руководствуется именно этими образами. Когда ты лежал бездыханным на палубе яхты и я делала тебе искусственное дыхание рот в рот, я мысленно видела твое сердце, твои легкие и то, как они наполняются воздухом. А прежде чем убить того человека в «джипе» и маленькую девочку, я зримо представила их наказанными, видела, как они истекают кровью. Тогда мне не хватало знаний, чтобы вообразить свершаемое более подробно, но суть от этого не менялась, все происходило точно так же.
– Роуан, но смерть этих людей могла быть естественной.
Она покачала головой.
– Нет, Майкл, это сделала я. И та же сила направляет меня, когда я стою у операционного стола. Благодаря той же силе я спасла тебя.
Майкл не произнес в ответ ни звука – он ждал продолжения. Меньше всего ему сейчас хотелось спорить с Роуан. Ведь она единственная готова выслушать и понять его. И совершенно не нуждается в возражениях. Тем не менее Майкл отнюдь не во всем был с нею согласен.
– Об этом никто не знает, – продолжала она. – Я стояла в пустом доме, плакала и разговаривала сама с собой. Во всем мире у меня не было человека ближе, чем Элли, но я никогда не смогла бы рассказать ей об этом. И знаешь, что я сделала? Я попыталась обрести спасение в хирургии – избрала наиболее прямой и жестокий метод вторжения в человеческую жизнь. Но никакие, пусть даже самые сложные и успешные, операции не могут заставить меня забыть о том, на что я способна. Я убила Грэма.
Знаешь, в тот момент, когда мы с Грэмом находились в кухне… думаю… я вспомнила Мэри-Джейн, ту девочку на площадке, и мужчину в «джипе»… Мне кажется, я действительно решила воспользоваться своей силой. Насколько я помню, мне представилось, как лопается артерия… Наверное, я намеренно убила его. Хотела, чтобы он перестал причинять боль Элли. Это я заставила его умереть.
Роуан умолкла, словно сомневалась в сказанном или, быть может, только сейчас поняла, что все произошло именно так. Она отвернулась и смотрела теперь на простиравшееся за окном водное пространство, уже успевшее обрести голубизну; на поверхности воды играли ослепительные солнечные блики. По заливу скользили многочисленные парусные яхты. Только сейчас Майкл увидел прекрасные аллеи вокруг особняка и белые домики, разбросанные по темно-оливкового цвета холмам. На фоне чудесного пейзажа Роуан показалась ему еще более одинокой и потерянной.
– Когда я прочла о силе твоих рук, то ни на миг не усомнилась в ее существовании. И поняла, каково тебе приходится. Необыкновенные способности отдаляют нас от окружающих. Нам не приходится ждать понимания от других. Даже при том, что они собственными глазами видели, что именно ты делал. Что же касается моей силы, ее проявления не должен видеть никто, потому что это никогда не должно повториться.
– Но тем не менее ты боишься, что это может произойти снова? – спросил Майкл.
– Не знаю. – Роуан взглянула на него. – Стоит мне вспомнить о тех смертях – и на меня наваливается огромное чувство вины. У меня нет ни цели, ни замыслов, ни планов. Вина встает между мной и жизнью. И тем не менее я живу, причем лучше, чем кто-либо из моих знакомых.
Роуан негромко и горестно рассмеялась.
– Каждый день я отправляюсь в операционную. У меня интересная жизнь. Но не такая, какой могла бы быть…
Слезы потекли снова. Взгляд ее был устремлен на Майкла, но казалось, что она смотрит сквозь него. Солнце, ярко освещавшее тоненькую фигурку, играло в ее золотистых волосах.
Майклу нестерпимо захотелось обнять Роуан – он больше не в силах был видеть ее страдания, прекрасные серые глаза, покрасневшие от слез, гримасу душевной боли, прорезавшую уродливыми морщинами гладкую кожу лица и заострившую его черты. Внезапно кожа разгладилась и лицо вновь приняло прежнее выражение.
– Мне хотелось рассказать тебе обо всем этом, – неуверенно заговорила она прерывающимся голосом. – Хотелось… оказаться рядом с тобой и, что называется, излить душу. Наверное, я надеялась, что… раз я спасла тебе жизнь, может, каким-то образом…
Не в силах долее сдерживаться, Майкл медленно встал и обнял ее. Он крепко прижимал Роуан к себе, целовал шелковистую шею, залитые слезами щеки и даже сами соленые капли.
– Ты правильно сделала.
Слегка отстранив Роуан, он торопливо сорвал и отбросил в сторону перчатки. Какое-то время он пристально смотрел на свои руки, потом перевел взгляд на Роуан.
В ее глазах, наполненных сверкающими в пламени камина слезами, читалось легкое удивление. Чуть помедлив, Майкл коснулся пальцами ее головы, провел по волосам, погладил щеки…
– Роуан…
Усилием воли он постарался поскорее прекратить беспорядочное мелькание бредовых образов и приказал себе видеть только ее, ту, которая была сейчас в его объятиях. И вновь где-то глубоко внутри возникло удивительное обволакивающее ощущение, точно такое же, какое на миг вспыхнуло в нем по дороге сюда. Внезапно его словно ударило током, по всему телу разнесся нестройный гул, и он почувствовал, что знает о Роуан все: о том, насколько она честна и порядочна, о присущей ей от природы глубинной доброте, о том, сколь насыщенна ее жизнь. Калейдоскоп сменяющихся, сталкивающихся между собой образов лишь подтверждал истинность того, что он уже постиг, правильность его впечатления в целом. И только это имело сейчас значение.
Руки Майкла скользнули под халат, коснулись нежного, стройного тела, такого восхитительно горячего под его избавившимися от перчаток пальцами. Он наклонился и поцеловал ее грудь… Сирота, одинокая, испуганная, но до чего же сильная, неукротимо сильная.
– Роуан, – снова прошептал он. – Пусть сейчас будет важным только это.
Она вздохнула и будто обмякла на его груди, точно сломанная травинка. Под натиском разгоравшегося желания боль ее отступила.
Майкл лежал на ковре, подперев голову левой рукой. Правая небрежно держала над пепельницей сигарету. Чуть в стороне стояла чашка с горячим кофе. Должно быть, уже девять утра. Он позвонил в представительство авиакомпании, и ему предложили лететь дневным рейсом.
Однако мысль о расставании с Роуан будила в душе тревогу. Ему нравилась эта женщина – так, как до сих пор не нравился никто. Правильнее сказать, он был буквально околдован ее умом и в то же время почти болезненной ранимостью, беззащитностью, которая трогала Майкла до глубины души, пробуждая желание уберечь, оградить ее от всего, что способно причинить боль. Сознание собственной значимости доставляло такое наслаждение, что ему даже сделалось стыдно.
Они проговорили несколько часов подряд – спокойно, уже без настоятельного стремления до конца излить душу и эмоциональных всплесков. Роуан рассказывала, как она росла здесь, в Тайбуроне, и почти каждый день ходила на яхте, заменявшей ей самые лучшие школы. Она вновь упомянула о рано проявившейся тяге к медицине, к серьезным научным исследованиям, о том, как мечтала об открытиях в духе Франкенштейна, только более продуманных и перспективных. Потом у нее обнаружился и в полной мере проявился талант хирурга. Роуан не хвасталась этим – она просто рассказывала о хирургии, о волнующем чувстве, охватывающем ее в операционной, о радостном удовлетворении после каждой удачной операции. Она вспоминала об отчаянии, захлестнувшем ее после смерти приемных родителей, спастись от которого помогала только работа. Вот почему она большую часть времени проводила в клинике, а иногда стояла за операционным столом до тех пор, пока не начинала валиться с ног. Ее мозг, руки и глаза существовали словно сами по себе, отдельно от нее самой.
Майкл в свою очередь рассказывал ей о мире, в котором вырос он, испытывая при этом легкое чувство ущербности. Однако вопросы, которые задавала Роуан, свидетельствовали о ее несомненном интересе. Он назвал себя «выходцем из рабочей среды» и в ответ на просьбу Роуан постарался как можно подробнее описать особенности жизни там, на Юге, и в первую очередь убогий домишко с покрытыми линолеумом полами, цветущую в крохотном садике ялапу, непростой быт больших семей, похороны, на которые собиралось множество народу… Да, наверное, все это звучит для нее необычно и кажется странным. Он и сам сейчас воспринимает прошлое именно так, хотя воспоминания о нем причиняют боль и он отчаянно скучает по родному дому.
– Мои видения и те, с кем я беседовал там, не имеют ко всему этому никакого отношения. Просто мне хочется вернуться в родные края, пройтись по Эннансиэйшн-стрит…
– Так называлась улица, на которой ты рос? Какое красивое название{6}.
Майкл не стал рассказывать Роуан про сточные канавы, поросшие травой, про мужчин, с неименными жестянками пива сидевших на ступенях крыльца, про неистребимый запах вареной капусты и про то, как от грохота товарных поездов, тащившихся по прибрежной ветке, дребезжали стекла в окнах.
Описывать свою жизнь в Сан-Франциско Майклу было несколько легче. Он рассказал ей о Элизабет и о том, как аборт разрушил их отношения с Джудит, о странной пустоте нескольких последних лет своей жизни и о чувстве ожидания чего-то, хотя он не знал, чего именно. Он говорил о своей любви к архитектуре в целом и к каждому зданию в отдельности, о том, какие дома строились в Сан-Франциско прежде и какие предпочитают строить сейчас, упомянул о старом отеле на Юнион-стрит, который так мечтал восстановить. Потом он подробно описал те дома, которые особо любил в Новом Орлеане, и объяснил, почему не видит ничего особенного в том, что в некоторых особняках обитают привидения. Ведь каждый дом это нечто большее, чем место для жилья, а потому не удивительно, что он способен завладеть душой человека.
Им было легко разговаривать и таким образом все лучше постигать внутренний мир друг друга, после того как близость позволила им узнать друг друга физически. Майкл с интересом отнесся к рассказам Роуан о плавании на яхте, о том, как это здорово – в одиночестве стоять на мостике с чашкой кофе в руке и слушать, как за стенами рулевой рубки завывает ветер. Сам он не испытывал особой тяги к таким прогулкам, но слушал о них с удовольствием. Его буквально завораживали сопровождавшие рассказ скупые жесты, а изменчивое выражение ее серых глаз приводило в восхищение.
Майкл даже отважился заговорить о тех фильмах, где в изобилии присутствовали образы кровожадных, мстительных младенцев и детей, и о своих ощущениях во время их просмотра – о том, что ему казалось, будто весь окружающий мир вступает с ним в беседу. Возможно, он был тогда на грани безумия. Но кто знает, быть может, большинство пациентов сумасшедших домов оказались там лишь только потому, что слишком реально воспринимали свои мечты и иллюзии? Что она думает по этому поводу?… И еще… Взять, например, смерть… Он много думал о ней, но самое важное предположение возникло у него в голове совсем недавно, незадолго до падения в воду: вполне вероятно, что смерть другого человека является единственным по-настоящему сверхъестественным событием, которое мы способны воспринять.
– Я не имею в виду медиков. Речь об обычных людях, живущих в современном мире. Суть в том, что… В общем, глядя на лежащее перед нами тело, мы понимаем, что жизнь ушла из него… и сколько ни кричи, сколько ни бей по нему, сколько ни старайся воскресить это тело – оно мертво, окончательно и бесповоротно мертво.
– Я понимаю, о чем ты говоришь, – сказала Роуан.
– Учти еще, что большинству из нас приходится лицезреть покойника не больше одного-двух раз за двадцать лет. А то и вообще никогда. Нынешняя Калифорния – это цивилизация людей, ни разу не видевших смерти собственными глазами. А главное – не желающих видеть. Услышав, что кто-то умер, они, скорее всего, полагают, что несчастный забыл о здоровом питании или ленился бегать трусцой…
– К тому же каждую смерть они воспринимают как убийство, – негромко рассмеялась Роуан. – Иначе с чего бы они стали натравливать на врачей своих адвокатов?
– И это тоже. Но проблема гораздо глубже. Люди не желают верить в неотвратимость собственной смерти. А когда умирает кто-то другой, все совершается за закрытыми дверями. Если же незадачливый покойник обладал настолько дурным вкусом, что вопреки всем правилам пожелал быть похороненным с соблюдением всех положенных погребальных обрядов, гроб даже не открывают. В современном обществе намного предпочтительнее мемориальная служба в каком-нибудь фешенебельном месте, где подают суши и белое вино. При этом приглашенные на церемонию даже не упоминают вслух, зачем они сюда пришли. Знаешь, мне приходилось бывать на таких службах, где даже не называли имени покойного! Но если кому-то все же доведется увидеть мертвое тело – я не имею в виду врача, сиделку или гробовщика, – это становится подлинно сверхъестественным событием. Возможно, единственным, свидетелем которого есть шанс оказаться…
– Тогда позволь упомянуть о другом сверхъестественном событии, – с улыбкой перебила его Роуан. – Представь, перед тобой на палубе лежит мертвое тело. Ты начинаешь шлепать его, разговаривать с ним… и вдруг… глаза открываются, и тело оживает…
При этих словах Роуан одарила Майкла такой восхитительной улыбкой, что он не выдержал и принялся вновь осыпать ее страстными поцелуями. На этом обсуждение столь щекотливой темы и завершилось.
Самое главное, своими безумными рассуждениями он не оттолкнул Роуан от себя: она слушала его очень внимательно, стараясь не пропустить ни единого слова.
Но почему в его жизни должно произойти что-то еще? И откуда у него ощущение, что сейчас он отодвигает какое-то другое, более важное событие?
И вот Майкл лежал на ковре, думая о том, до чего же ему нравится Роуан и как сильно его тревожат ее тоска и одиночество. Ему очень не хотелось покидать ее; тем не менее он должен уехать.
Голова была на удивление ясной – Майклу нравилось это ощущение. Еще бы! За все прошедшее лето он впервые смог так долго обходиться без выпивки. Роуан налила ему новую чашку кофе. Очень приятный вкус. Чтобы избавиться от мелькания образов и картин, Майклу пришлось снова надеть перчатки. Лучше не видеть ни Грэма, ни Элли, ни множество незнакомых мужчин – весьма симпатичных, надо признаться. Несомненно, все они – прежние партнеры Роуан.
Сквозь восточные окна и стеклянную крышу немилосердно палило солнце. Майкл слышал, как Роуан возится на кухне. Наверное, следовало бы встать и помочь ей, что бы она ни говорила. Однако ее возражения прозвучали весьма убедительно:
– Я люблю готовить – в этом процессе есть нечто сродни хирургии. Так что лежи спокойно.
Майкл думал, что встреча с Роуан стала первым действительно важным для него событием за все эти недели – только благодаря ей он смог на какое-то время отвлечься от мучительных воспоминаний о случившемся и забыть о собственных переживаниях. Как приятно и легко на душе, когда думаешь не о себе, а о ком-то другом. Размышляя об этом сейчас, в заново обретенном состоянии ясности ума, Майкл обнаружил, что с момента приезда сюда к нему вернулась способность к концентрации. Он мог сосредоточиться на их разговоре, на их интимной близости и на узнавании друг друга. А ведь в течение долгих дней, проведенных в заточении, его внимания хватало лишь на одну страницу книги или на несколько эпизодов фильма, и это нередко буквально выводило его из себя – раздражало не в меньшей степени, чем бессонница.
Никогда прежде ему не доводилось столь глубоко погружаться во внутренний мир другого человека, столь упорно стремиться постичь его до конца, да еще и за столь короткий срок. Принято думать, что нечто похожее происходит при сексуальном контакте, однако на самом деле такое предположение едва ли справедливо. Майкл начисто позабыл, что перед ним та женщина, которая спасла его из воды. Покоренный силой личности Роуан, он уже не испытывал туманного, лишенного индивидуальной окраски волнения, как это было при их первой встрече, – теперь в его голове теснились безумные фантазии, и в каждой из них присутствовала только она.
Но как продолжить, углубить знакомство с Роуан, любить ее и обладать ею и одновременно… сделать то, что он должен сделать? А ведь необходимость в этом не отпала: он должен вернуться домой и выяснить, какова его цель.
То, что Роуан родилась на юге, не имело к его задаче никакого отношения. Голову Майкла переполняли образы прошлого, а ощущение предопределения судьбы в их тесной связи между собой было слишком сильным, чтобы допустить, будто источником его послужило случайное напоминание о родном доме из уст доктора Мэйфейр. К тому же вчера на палубе яхты он ничего подобного не обнаружил. Немногочисленные сведения о самой Роуан – да, они там присутствовали. Но даже в их достоверности Майкл не был уверен до конца, ибо, когда Роуан позже рассказывала о себе, у него не возникало четкого ощущения знания тех или иных фактов – лишь явное восхищение этой женщиной. Роуан не сделала никаких научных заключений по поводу его способностей: да, они могут быть физическими, да в конце концов можно найти способ их измерять и посредством какого-нибудь тормозящего препарата поставить их под контроль. Но его дар необъясним с научной точки зрения – скорее он сродни таланту художника или музыканта.
Однако ему пора ехать. Майклу вдруг стало грустно. Мысль о необходимости покинуть Роуан повергала в отчаяние, словно он знал, что оба они обречены.
Ах, если бы она оставалась рядом с ним в течение всех этих ужасных недель! Интересно… А если бы не случилось того жуткого происшествия, если бы они с Роуан познакомились где-нибудь случайно… Как бы то ни было, Роуан стала неотъемлемой частью случившегося, равно как и ее неординарные способности. Кто, кроме нее, мог в одиночестве оказаться на огромной яхте посреди погружающегося во тьму залива? Кто еще сумел бы вытащить его из воды? Да, она действительно человек решительный и необыкновенно одаренный.
В рассказе Роуан о его спасении прозвучала очень интересная фраза: оказывается, в холодной воде человек теряет сознание почти немедленно. Однако сама Роуан, бросившись в холодную воду, сознания не потеряла. Когда Майкл обратил ее внимание на столь явное противоречие, Роуан призналась:
– Я не знаю, как добралась тогда до трапа. Честно, не имею понятия.
– Думаешь, все дело в твоей силе? – спросил Майкл.
Роуан призадумалась, потом ответила:
– И да и нет. Возможно, мне просто повезло.
– Ну, мне-то уж точно повезло, – заключил Майкл, неожиданно для себя обрадовавшись только что произнесенным собственным словам. Он и сам не понимал, почему они доставили ему такое удовольствие.
Возможно, Роуан знала причину, ибо вдруг заметила:
– Мы боимся того, что делает нас непохожими на других.
Майкл не мог не согласиться с таким утверждением.
– Подобными способностями обладает множество людей, – сказала Роуан. – Мы точно не знаем, каковы они, как их оценивать. Мы абсолютно уверены лишь в одном: неординарные способности оказывают влияние на отношения между людьми. Я наблюдаю это в клинике. Некоторые врачи многое предвидят заранее, но не могут объяснить каким образом. Есть такие и среди медсестер. Думаю, существуют и адвокаты, умеющие безошибочно определить, виновен ли их подзащитный и каким будет приговор суда. Но они вряд ли скажут, откуда им это известно.
Вот и получается: сколько бы мы ни познавали себя, сколько бы ни раскладывали по полочкам, какие бы классификации и определения ни изобретали, в нас остается сокрытым великое множество тайн. Возьмем исследования в области генетики. Человек наследует самые разнообразные качества: застенчивость, пристрастие к определенному сорту мыла, к определенным именам… Но что еще? Какие невидимые силы передаются нам от предшествующих поколений? Вот почему мне и не дает покоя то, что я не знаю свою настоящую семью – даже в самых общих чертах. Элли, кажется, приходилась мне четвероюродной сестрой. Что-то заставило ее уехать из родных мест. Впрочем, я не уверена в точном определении степени нашего родства…
Майкл полностью разделял ее точку зрения. Он вкратце рассказал о своем отце, о деде и о том, что унаследовал от них гораздо больше, чем соглашался признать.
– Но человек должен верить в возможность изменить свою наследственность, – добавил он. – Без веры в то, что из одних и тех же фрагментов можно каким-то волшебным образом составить различные узоры, жизнь теряет смысл, ибо в ней не остается места надежде.
– Конечно можно, – согласилась Роуан. – Ты же это сделал, правда? Хочется верить, что и мне это удалось. Не подумай, что я лишилась рассудка, но меня не оставляет уверенность, что нам следует…
– Ну же, говори…
– Нам следует стремиться к самосовершенствованию, – тихо закончила Роуан. – А почему бы и нет – что в этом особенного?
Майкл рассмеялся, но не над ее словами. Он вдруг вспомнил одного из своих друзей. Однажды, выслушав очередные вечерние излияния Майкла по поводу непонимания большинством людей исторических процессов и последствий такого непонимания, этот приятель назвал его бесподобным оратором и добавил, что заимствовал это определение из пьесы Теннесси Уильямса «Орфей спускается в ад». Майкл тогда оценил комплимент. Он надеялся, что и Роуан тоже его оценит.
– Ты бесподобный оратор, Роуан, – сказал он, объяснив происхождение фразы.
– Возможно, потому я такая молчаливая, – с веселым смехом откликнулась она. – Я даже не хочу начинать. Думаю, ты это имел в виду. Я бесподобный оратор и по этой причине не разговариваю вовсе.
Майкл затянулся сигаретой, вновь и вновь во всех подробностях прокручивая в мозгу их беседу. Было бы здорово остаться с Роуан. Да, если бы только он мог избавиться от сознания необходимости вернуться в Новый Орлеан.
– Подбрось еще полешко в огонь, – попросила Роуан, прерывая его размышления. – Завтрак готов.
На столе возле окна уже красовались яичница-болтунья, йогурт, искрящиеся на солнце ломтики свежих апельсинов, бекон, колбаса и горячие сдобные булочки, только что вытащенные из духовки.
Роуан налила обоим кофе и наполнила стаканы апельсиновым соком. Майкл набросился на еду и минут пять был полностью поглощен только ею. Давненько он не испытывал такого голода. Остановив взгляд на чашке с кофе, Майкл надолго задумался, но в конце концов пришел к выводу, что не испытывает ни малейшей потребности в пиве. Он выпил кофе, и Роуан налила ему еще.
– Завтрак был просто чудесным, – сказал Майкл.
– Оставайся, – предложила Рауан, – и я приготовлю тебе обед, а утром – снова завтрак.
Майкл не ответил – он внимательно смотрел на Роуан, стараясь отвлечься от присущей ей притягательности, будившей внутри его непреодолимое желание, и обращать внимание исключительно на ее внешние данные: природная блондинка, гладкая кожа, практически лишенная пушка на лице и волосков на руках; красивой формы, выразительные пепельные брови и почти черные ресницы, делающие ее глаза еще более серыми. Такие лица бывают только у монахинь: ни следа косметики; девственные пухлые губы, словно еще не знавшие помады… Жаль, что он не может навсегда остаться здесь, с нею…
– Знаю, ты все равно уедешь, – сказала Роуан.
– Я должен, – кивнул Майкл.
Роуан задумалась.
– А как насчет того, что ты видел там? Хочешь рассказать об этом?
Майкл смешался.
– Все мои попытки описать увиденное терпят полный крах. Мало того, люди отворачиваются от меня.
– Только не я.
Сейчас Роуан выглядела собранной, сосредоточенной: руки сложены, волосы аккуратно причесаны – и вновь походила на ту решительную и волевую женщину, которую он встретил у порога своего дома. Перед нею дымился кофе.
Майкл был уверен, что она говорит совершенно искренне, и все же… И все же слишком часто в последнее время он сталкивался с недоверием и равнодушием. Откинувшись на спинку стула, он бросил взгляд в сторону залива. Там собрались едва ли не все парусники мира. Над гаванью Сосалито летали чайки, казавшиеся отсюда крохотными бумажными самолетиками.
– Я знаю, что все происходило в течение большого отрезка времени, – заговорил наконец Майкл. – Хотя в действительности отсчета времени там не существует. – Он посмотрел на Роуан. – Думаю, ты знаешь, о чем я говорю. Это напоминает легенды о том, как людей заманивали к себе эльфы. Поддавшись на их уговоры, люди проводили в компании эльфов всего лишь один день, но когда возвращались в родные деревни, то обнаруживали, что отсутствовали целых пятьдесят лет.
Роуан тихо рассмеялась.
– Это ирландская легенда?
– Да, я слышал ее от одной старой ирландской монахини. Она частенько рассказывала нам диковинные истории… Например, о ведьмах, обитающих в новоорлеанском Садовом квартале, которые схватят нас, если мы будем болтаться по тамошним улицам…
А какими тенистыми были те улицы, какой удивительной и в то же время мрачной красотой они обладали – словно строки из «Оды к соловью»: «Дражайший мой, внимаю я тебе…»
– Прости, – опомнился Майкл. – Мысли разбегаются.
Роуан терпеливо ждала.
– Там было множество людей, – продолжал Майкл. – Но больше других мне запомнилась одна темноволосая женщина. Сейчас я не могу восстановить в памяти ее лицо, но знаю, что оно было мне до такой степени знакомо, как будто я знал эту женщину всю жизнь. Там, в видении, мне было известно ее имя и все-все о ней. Теперь я твердо уверен, что тогда же узнал и о тебе. И услышал твое имя. Однако было ли это в середине видения, или уже в конце, перед тем как ты меня спасла, сказать не могу. Возможно, я каким-то образом почувствовал приближение яхты и твое присутствие на ее борту…
«Да, это поистине неразрешимая загадка», – подумал он.
– Продолжай, – попросила Роуан.
– Думаю, я мог бы вернуться к жизни, даже если бы отказался от их поручения. Но я, если можно так выразиться, хотел выполнить эту миссию. И мне казалось… у меня сложилось впечатление… как будто то, что они хотели от меня, то, что они мне открыли… все это было самым непосредственным образом связано со всей моей прошлой жизнью, с тем, кем я был. Ты понимаешь, о чем я говорю?
– Значит, у них была причина выбрать именно тебя.
– Да, совершенно верно. И эта причина состоит в моей истинной сущности. Роуан, пожалуйста, не допусти ошибку. Знаю, мой рассказ звучит как бред сумасшедшего. Я уже столько раз его повторял и понимаю, что многим он кажется сродни утверждениям шизофреника, будто некие голоса велят ему спасти мир. Я понимаю… Мои друзья давным-давно сложили про меня поговорку.
– Какую?
Он поправил очки и одарил Роуан обаятельной улыбкой.
– Майкл не такой глупец, каким выглядит.
Роуан искренне засмеялась.
– Но ты совсем не выглядишь глупым. Просто ты кажешься до такой степени хорошим, что трудно поверить в реальность существования подобного совершенства. – Она стряхнула пепел с сигареты. – Впрочем, мне незачем говорить о том, что тебе самому прекрасно известно. Лучше постарайся вспомнить еще какие-нибудь подробности.
Взбудораженный последним комплиментом, Майкл пребывал в некотором смущении: а не пора ли им снова отправиться в постель? Нет, не пора. Еще немного – и пора будет отправляться в аэропорт.
– Было еще что-то… насчет какого-то входа, – сказал он. – Или портала… Могу поклясться, они говорили об этом. Но сейчас я ничего не могу вспомнить. Эти видения… они постепенно тают. Но я точно знаю: это было связано с каким-то числом. И еще – с каким-то драгоценным камнем. С очень редким и красивым камнем. Сейчас я даже не могу назвать эти обрывки памяти воспоминанием. Скорее можно говорить о вере, о некой убежденности. Но я уверен, что все было каким-то образом взаимосвязано. Потом сюда примешалась необходимость вернуться в Новый Орлеан – ощущение, что мне нужно сделать нечто чрезвычайно важное и что Новый Орлеан, точнее, улица, по которой я любил ходить мальчишкой, имеет ко всему этому непосредственное отношение.
– Улица?
– Да, Первая улица. Очень красивая. Она тянется примерно на пять кварталов, от Мэгазин-стрит – это рядом с тем местом, где я родился, – до Сент-Чарльз-авеню. Эта улица находится в очень старом районе города, который называют Садовым кварталом.
– Там, где живут ведьмы, – подсказала Роуан.
– Да, правильно, ведьмы из Садового квартала, – с улыбкой подтвердил Майкл. – По крайней мере, так утверждала сестра Бриджет-Мэри.
– И что же, тот квартал действительно такой мрачный, что подходит лишь для обитания ведьм? – спросила Роуан.
– Совсем нет. Он скорее похож на островок густого леса в самом центре города… Огромные, неправдоподобно могучие деревья… Здесь не увидишь ничего похожего, а может, и во всей Америке не встретишь. Дома в Садовом квартале… Нет, лучше называть их городскими особняками – они очень большие, стоят чуть в глубине, но близко к тротуарам и не смыкаются друг с другом: вокруг каждого имеется сад. Знаешь, там был один дом… Высокий, с узким фасадом. Я каждый раз старался пройти мимо него и часто останавливался перед великолепной чугунной оградой с узором в виде розеток. После падения в воду я все время вспоминаю этот дом, он так и стоит у меня перед глазами. И меня не оставляет мысль о необходимости вернуться в Новый Орлеан, о том, что это чрезвычайно важно. Даже сейчас мне совестно, что я сижу здесь, рядом с тобой, а не на борту самолета.
По лицу Роуан пробежала тень.
– Мне хочется, чтобы ты побыл здесь еще немного. – Красивый, низкий, сочный голос. – И дело не только в моем личном желании. Ты сейчас не в лучшей форме и нуждаешься в отдыхе – в настоящем, без выпивки.
– Ты права, Роуан, но я не могу себе это позволить. Думаю, нет необходимости объяснить тебе, в каком напряжении я постоянно нахожусь. И не избавлюсь от него, пока не окажусь дома.
– Хорошо, Майкл, но позволь кое-что уточнить. Ты все время говоришь о возвращении домой. Но что для тебя означает это слово – «домой»? У тебя же там никого не осталось.
– И все-таки мой дом именно там. – Он засмеялся. – Я прожил в изгнании слишком долго. И осознал это еще до несчастного случая. Странно, но буквально накануне утром я проснулся и вдруг вспомнил о родном доме, о том, как мы всей семьей ехали в машине по берегу залива; я почти физически ощутил удивительное тепло того вечера и воочию увидел великолепный закат солнца…
– Ты сможешь обойтись без спиртного, когда уедешь отсюда?
Майкл с притворным вздохом одарил Роуан одной из своих неотразимых улыбок – в прошлом такая улыбка срабатывала безошибочно – и подмигнул:
– Желаете услышать ирландскую трепотню, леди, или сказать вам правду?
– Майкл…
В ее голосе прозвучало не порицание – скорее в нем слышалось разочарование.
– Знаю, знаю, – сказал Майкл. – Все, что ты говоришь, правильно. Ты даже не представляешь, как много для меня сделала, вытащив из заточения и выслушав мои россказни. Я готов выполнить все, о чем ты ни попросишь…
– Расскажи мне поподробнее об этом доме.
Прежде чем начать, Майкл надолго задумался.
– Дом был построен в стиле греческого ренессанса. Ты знаешь, что это такое? Но он отличался от многих зданий, построенных в том же стиле. С фасада и с боков к нему примыкали террасы, настоящие новоорлеанские террасы. Трудно описывать такой дом тому, кто никогда не был в Новом Орлеане. Неужели тебе не показывали даже открытки с видами города?
Роуан покачала головой.
– Эта тема всегда оставалась для Элли закрытой.
– Роуан, но ведь это несправедливо, нечестно с ее стороны.
В ответ она лишь молча пожала плечами.
– Нет, в самом деле… – настаивал Майкл.
– Элли хотела верить, что я ее собственная дочь. И если я начинала задавать вопросы о моих настоящих родителях, она очень расстраивалась, полагая, что причиной тому недостаток ее любви. Все попытки переубедить ее ни к чему не привели.
Роуан глотнула кофе.
– Перед тем как лечь в больницу в последний раз, она сожгла все, что у нее хранилось в письменном столе. Я видела, как она бросала в этот камин фотографии, письма, какие-то документы. Тогда мне и в голову не пришло, что она уничтожает абсолютно все. Скорее даже я не особо задумывалась над этим. Элли знала, что больше сюда не вернется.
Роуан замолчала, потом налила кофе себе и Майклу и продолжила:
– После ее смерти я не смогла найти даже адрес ее родственников в Новом Орлеане. У ее поверенного тоже не оказалось никаких сведений. Она сказала ему, что порвала все связи с семьей и не хочет иметь с ней никаких контактов. Все свои деньги она завещала мне. И то же время она ездила к в Новый Орлеан. И регулярно туда звонила. Я никак не могла увязать одно с другим.
– Это очень печально, Роуан.
– Однако хватит говорить обо мне. Давай вернемся к тому дому. Что именно заставляет тебя вспоминать его сейчас?
– Понимаешь, здешние здания не похожи на новоорлеанские, – сказал Майкл. – Там каждое строение обладает собственным характером. Что же касается того дома… Он мрачный, массивный, и в нем присутствует какая-то угрюмая красота Он угловой и частично обращен на боковую улицу. Одному Богу известно, почему я его так полюбил. Знаешь, там жил какой-то человек… ну прямо персонаж из диккенсовского романа. Честное слово… Высокий, джентльмен до мозга костей, если ты понимаешь, о чем я говорю. Обычно я видел его в саду…
Майкл вдруг смущенно умолк, охваченный ощущением, что вплотную подошел к чему-то очень существенному, предельно важному…
– Что с тобой?
– Опять… то же чувство, что все случившееся каким-то образом связано с тем мужчиной и с домом на Первой улице.
Майкл вздрогнул словно от холода, хотя на самом деле холодно ему не было.
– Не могу точно сформулировать, – добавил он. – Но почему-то твердо уверен, что тот незнакомец имеет самое непосредственное отношение к произошедшему. Не думаю, что те, с кем я беседовал в своем видении, хотели заставить меня забыть. Мне кажется, они, напротив, побуждали меня действовать как можно быстрее, поскольку что-то должно случиться.
– И что же именно? – осторожно спросила Роуан.
– То, что произойдет в доме, о котором я рассказываю.
– Но в чем причина? Почему они хотели, чтобы ты туда вернулся?
Вопрос вновь был задан очень мягко, без подтекста.
– Потому что я обладаю способностью повлиять на что-то, изменить ход предстоящих в том доме событий. – Майкл покосился на свои руки, казавшиеся зловещими в черных перчатках. – Все как будто сходится воедино. Представь, что мир состоит из великого множества крошечных фрагментов. И вдруг… значительная часть таких фрагментов словно вспыхивает – и ты видишь… видишь…
– Некий узор?
– Совершенно верно – узор. Так вот, моя жизнь является частью более крупного узора. – Майкл глотнул кофе. – Как тебе это? Бред сумасшедшего?
Она покачала головой.
– Слишком разумно и определенно для бреда.
– Определенно?
– Я хотела сказать, слишком конкретно.
Майкл удивленно усмехнулся. Никто еще не давал такую характеристику его видениям.
Роуан затушила в пепельнице сигарету.
– И часто в последние несколько лет ты вспоминал о том доме?
– Практически не вспоминал, – ответил он. – Но и не забывал о нем никогда. Мне кажется, всякий раз, когда на память приходили мысли о Садовом квартале, в моем воображении тут же возникал и тот дом. Он, можно сказать, преследовал меня.
– Однако до несчастного случая воспоминания о странном доме не носили навязчивого характера. Они стали такими только после видения.
– Верно, – подтвердил Майкл. – Воспоминания о родных местах приходят ко мне нередко, но память о том доме сильнее всего остального.
– И все же, если хорошенько подумать, в твоем видении никто не упоминал именно об этом доме.
– Определенно сказать не могу. Хотя…
У него снова появилось какое-то ощущение… Но Майкл вдруг испугался: ему не хотелось вновь оказаться во власти неясных предположений и догадок. Казалось, все страдания последних нескольких месяцев возвращаются к нему вновь. Нет, только не это! Ведь как приятно было сознавать, что Роуан верит ему, и, в свою очередь, с удовольствием слушать ее рассказы и восхищаться ее умением подчинять своей воле окружающих – именно это качество характера Роуан он одним из первых отметил накануне вечером.
Она по-прежнему внимательно смотрела на него, однако Майкл долго молчал, размышляя о неведомых силах, которые то проявляются, то исчезают без следа и вместо ясности вносят в его жизнь сумятицу и неразбериху.
– Так что же со мной происходит? – наконец спросил он. – Вот ты как врач, как нейрохирург, – что ты думаешь? Что мне делать? Почему мне никак не удается избавиться от воспоминаний о том доме и совершенно незнакомом мне человеке? Откуда это ощущение, что сейчас мне крайне необходимо быть там?
Роуан как будто ушла в себя – она сидела неподвижно, со сложенными руками, остановившийся взгляд больших серых глаз был устремлен вдаль, за стеклянные стены…
– Что ж, – через какое-то время заговорила она, – тебе, конечно, необходимо поехать туда. Иначе ты не успокоишься. Поезжай и посмотри на тот дом. Кто знает, быть может, его уже и нет. А возможно, ты его увидишь, но не испытаешь при этом никаких особых ощущений. В любом случае тебе нужно во всем убедиться лично. Наверное, твоя навязчивая идея – а именно так это называется в науке – имеет какое-то психологическое объяснение, хотя я в этом сомневаюсь. Полагаю, ты действительно где-то побывал и что-то увидел. Нам известно немало аналогичных случаев. По крайней мере, нечто подобное описывали многие из тех, кто возвращался к жизни. Но вполне возможно, что ты даешь увиденному неверное истолкование.
– Мои воспоминания слишком отрывочны, это правда, – согласился Майкл.
– Ты подозреваешь, что они спровоцировали твое падение в воду?
– Н-не знаю… Честно говоря, мне это в голову не приходило.
– Неужели?
– Картина всегда представлялась мне несколько иной: произошедший со мной несчастный случай дал им шанс, и они им воспользовались. Предположение, что вся ситуация ими же и спровоцирована, кажется мне чудовищным. Ведь это в корне изменило бы порядок вещей… Ты согласна?
– Не знаю… Я смотрю на это с иной точки зрения. Коль скоро эти существа – кем бы они ни были – обладают достаточной силой и смогли внушить тебе нечто важное относительно какой-то цели, если они сумели поддержать в тебе жизнь, в то время как по всем законам природы ты был обречен, если в их власти было не позволить тебе умереть и обеспечить твое спасение… то почему они не могли спланировать и осуществить несчастный случай, а потом вызвать у тебя провалы в памяти?
Ее предположение буквально лишило Майкла дара речи.
– Ты действительно никогда не задумывался об этом?
– Это ужасно, – прошептал он.
Роуан хотела было продолжить, но Майкл жестом попросил ее обождать. Он пытался подобрать слова, чтобы точнее выразить свою мысль…
– У меня сложилось совсем другое представление, – наконец сказал он. – Я убежден, что они обитают в иных сферах – как в духовном, так и в физическом смысле. Они…
– Высшие существа?
– Да. И еще… Думается, они узнали обо мне и получили возможность вступить со мной в контакт только потому, что я оказался поблизости, иначе говоря – между жизнью и смертью. То есть… я хочу сказать, здесь не обошлось без… мистики – жаль, не могу сейчас подобрать другое слово. Наше общение стало возможным только потому, что физически я был мертв.
Роуан молча ожидала продолжения.
– Суть в том, что они – существа иного порядка. Они не способны заставить человека упасть со скалы и утонуть в море. Ведь обладай они возможностью совершать в материальном мире подобные действия, зачем, черт побери, им тогда понадобился бы я?
– Я понимаю ход твоих рассуждений, – сказала она. – И тем не менее…
– Что?
– Ты полагаешь, что они – существа высшего порядка и имеют лишь добрые намерения. И считаешь себя обязанным выполнить их повеление.
Майкл снова не знал, что сказать.
– Возможно, я сама не понимаю, о чем говорю, – спохватилась Роуан.
– Нет, думаю, понимаешь, – возразил Майкл. – Ты права. У меня именно такие представления о них. Но все дело здесь в ощущении. Я проснулся с ощущением, что они имеют добрые намерения. Я вернулся, имея подтверждение их доброты, убежденный, что сам согласился исполнить предназначение. Я не сомневался в своих предположениях, а ты считаешь, что следовало бы.
– Я могу ошибаться. Наверное, я вообще не должна была высказывать свое мнение. Но ты помнишь, что я рассказывала тебе о хирургах. Мы входим в операционную, размахивая не кулаками, а скальпелем.
Майкл засмеялся.
– Ты даже не представляешь, как важна для меня сама возможность поговорить об этом, просто высказать вслух свои мысли.
Но улыбка его быстро погасла. Роуан догадывалась, как тяжело Майклу обсуждать случившееся, с каким трудом он сохраняет душевное равновесие.
– Есть еще один момент, – сказала она.
– Какой?
– Всякий раз, упоминая о силе, появившейся в твоих руках, ты словно не придаешь ей особого значения, отводя первостепенную роль видению. Однако я уверена, что одно тесно связано с другим. Разве тебе не приходило в голову, что эта сила – дар именно тех, с кем ты встретился в видении?
– Не знаю, – ответил Майкл. – Я думал об этом. Мои друзья тоже высказывали такое предположение. Но я не считаю его правильным. Напротив, мне кажется, что проявившиеся способности служат своего рода отвлекающим моментом. Все советуют мне активно использовать обретенную силу, но если я начну это делать, то никогда не вернусь назад.
– Понимаю. Но ты коснешься руками того дома, когда окажешься возле него?
Майкл задумался. Признаться, он представлял себе все несколько иначе – ожидал более скорого и чудесного прояснения сути событий.
– Ну… думаю, что да. Если сумею, дотронусь до ворот. Потом поднимусь по ступеням и коснусь двери.
Откуда этот страх? Да, увидеть дом – это прекрасно, но прикоснуться к нему… Майкл покачал головой и, откинувшись на спинку стула, скрестил руки на груди. Дотронуться до ворот… Коснуться двери… Они, конечно же, могли наделить его этой силой… Но почему он сомневается? Особенно если все связывается в единое целое…
Роуан сидела молча и выглядела озадаченной, даже встревоженной. Майкл не в силах был отвести от нее взгляд. Как не хотелось ему расставаться с этой удивительной женщиной!
– Майкл, не уезжай, побудь со мной еще, – вдруг попросила она.
– Роуан, могу я задать тебе один вопрос? Та бумага, которую ты подписала по просьбе Элли… обещание никогда не ездить в Новый Орлеан… Ты считаешь ее все еще действительной? По-прежнему полагаешь, что данная тобой клятва сохраняет свою силу и после смерти Элли?
– Разумеется. – Голос Роуан прозвучал глухо и был полон печали. – Ты ведь и сам так считаешь.
– Неужели?
– Конечно, ведь ты же человек чести. Из тех, кого с полным основанием можно назвать порядочным и достойным уважения.
– Согласен. По крайней мере, надеюсь, что это так. Думаю, я неверно сформулировал вопрос. Суть вот в чем: ты хотела бы увидеть город, в котором родилась? Нет, я неискренен. Порядочным людям врать не к лицу. На самом деле я хотел спросить о другом: есть ли хоть какой-нибудь шанс, что ты поедешь туда вместе со мной?
Ответом было молчание.
– Понимаю, это самонадеянно с моей стороны, – снова заговорил Майкл. – В этом доме перебывало достаточно мужчин, и я для тебя отнюдь не свет в окошке…
– Перестань. Я могла бы полюбить тебя, и ты это знаешь.
– Тогда выслушай меня, пожалуйста, ибо сейчас речь идет о нас двоих, о тех, кто продолжает жить на этом свете. Возможно, я уже… то есть… я хочу сказать… Если тебе по-прежнему хочется поехать туда… если у тебя не пропало желание своими глазами увидеть места, где ты родилась, и попытаться узнать хоть что-то о своих настоящих родителях… Тогда, черт побери, почему бы тебе не отправиться туда вместе со мной? – Майкл вновь со вздохом откинулся назад и засунул руки в карманы брюк. – Мне кажется, это был бы огромный шаг вперед с твоей стороны. Согласна? Конечно, я рассуждаю как эгоист. Мне очень хочется увезти тебя отсюда. Ну как? Ты все еще считаешь меня порядочным и честным?
Роуан оцепенело смотрела в пространство, закусив губу, чтобы не расплакаться.
– Мне очень хочется туда поехать, – с трудом выдавила она.
По щекам покатились слезы.
– Боже мой, Роуан, прости, – поспешно извинился Майкл. – Я не имел права задавать такие вопросы.
Она продолжала глядеть куда-то на воду, словно это было единственной возможностью справиться с эмоциями. Майкл видел, как напряжены ее плечи, как судорожно подергивается горло, сглатывая непослушные слезы. Более одинокого человека, чем Роуан, он еще не встречал. В Калифорнии полно одиноких людей, но она, казалось, вообще существовала отдельно от остального мира. Майклу стало страшно за нее, страшно оставлять ее одну в этом доме – в этом чувстве не было и тени эгоизма, какого-либо проявления его собственных корыстных желаний.
– Послушай, Роуан, мне действительно очень жаль. Я не должен вмешиваться, – сказал он. – Это касается только тебя и Элли. Ты поедешь, когда почувствуешь себя готовой. А сейчас ехать нужно мне, и совсем по иным причинам. Мне придется расстаться с тобой, хотя и чертовски не хочется.
Слезы опять хлынули по ее щекам.
– Роуан…
– Майкл, – прошептала она. – Это мне следует просить у тебя прощения. Это ведь я бросилась в твои объятия. Так что не надо обо мне беспокоиться.
– Не говори так.
Он хотел обнять ее и уже сделал движение, чтобы подняться, но она жестом остановила его порыв, и Майклу не оставалось ничего другого, кроме как тихо добавить:
– Если ты думаешь, что мне не доставляло удовольствия держать тебя в своих объятиях и осушать твои слезы, тогда ты просто не применяешь свой дар. Или совершенно не понимаешь мужчин вроде меня.
Роуан вздрогнула и крепко сцепила руки у груди, пряди волос упали на лицо. В этот момент она казалась такой несчастной, что Майклу нестерпимо захотелось прижать ее к себе и целовать, целовать, целовать…
– Ну скажи, чего ты боишься? – спросил он.
Произнесенный шепотом ответ звучал так тихо, что Майкл едва его расслышал.
– Того, что я плохая, что я действительно обладаю ужасающей способностью творить зло. И та сила, которая во мне заключена – какой бы по сути своей она ни была, – говорит мне именно об этом.
– Роуан, совсем не грешно быть лучше Элли или Грэма. И совсем не грешно ненавидеть их за то, что они обрекли тебя на одиночество, оторвали от родных корней и лишили всех кровных связей.
– Я все это знаю, Майкл.
Она благодарно улыбнулась, но было очевидно, что его слова прозвучали неубедительно. Роуан чувствовала, что ему не удалось постичь нечто очень важное в ее жизни, и Майкл это понял. Он вновь, как и вчера на палубе яхты, потерпел неудачу.
– Роуан, что бы ни произошло в Новом Орлеане, мы с тобой непременно встретимся, причем скоро. Я мог бы тебе поклясться на целой стопке Библий, что вернусь сюда, но, если честно, мне так не кажется. Такое же чувство было у меня, когда я уезжал из своего дома на Либерти-стрит: я твердо знал, что покидаю его навсегда. Но мы увидимся с тобой в другом месте. Если ты не можешь поехать в Новый Орлеан, только скажи – и я примчусь туда, куда ты велишь.
Вот вам, придурки потусторонние, – подумал он, глядя на воду залива, в которой отражалось грязно-голубое калифорнийское небо. Вот вам, неведомые существа. Вы втянули меня во все это и смотались, не пожелав помогать дальше. Ладно, я поеду в Новый Орлеан, раз вы этого хотели. Но то, что существует между мною и этой женщиной, принадлежит только мне.
Роуан хотела отвезти его в аэропорт, но он настоял на вызове такси. Путь неблизкий, а она слишком устала и должна выспаться.
Майкл принял душ и побрился. Уже почти двенадцать часов он не притрагивался к выпивке. Удивительно, ничего не скажешь.
Когда он спустился вниз, Роуан вновь сидела на каменной плите перед камином, скрестив ноги. В белых шерстяных рейтузах и в длинном свитере крупной вязки она была очень красивой и грациозной как лань. От нее исходил слабый аромат каких-то духов – Майкл забыл их название, хотя этот запах всегда ему нравился.
Он крепко прижал ее к себе, поцеловал в щеку и долго не отпускал. Скользя губами по гладкой, упругой коже, он вдруг с болью вспомнил о том, что их с Роуан разделяет восемнадцатилетняя, если не больше, разница в возрасте.
Потом Майкл написал на бумажке название отеля – «Пон-шатрен» – и телефонный номер.
– Могу я позвонить тебе в клинику? – спросил он, протягивая ей листок. – Или не стоит?
– Позвони обязательно. На работе я периодически прослушиваю сообщения с автоответчика. – Роуан подошла к кухонному столу и на вырванном из блокнота листке написала свои номера. – Вот, держи. И если возникнут проблемы, скажи, что я жду твоего звонка. – Она встала чуть поодаль, засунула руки в карманы и тихо попросила: – Только не пей больше.
– Слушаюсь, доктор, – засмеялся он. – Я бы мог встать на одно колено и дать тебе торжественную клятву, но… А вдруг в один прекрасный момент стюардесса подойдет и предложит…
– Майкл, не пей в самолете и, когда прилетишь туда, тоже. Тебя захлестнут воспоминания. А рядом не будет никого.
– Вы правы, доктор, – кивнул он. – Я буду осмотрителен и постараюсь вести себя хорошо.
Майкл раскрыл чемодан и достал из бокового кармана плеер фирмы «Сони». Потом проверил, на месте ли приготовленная в дорогу книга.
– Вивальди, – пояснил он, запихивая в карман куртки плеер и маленькие наушники. – А вот мой Диккенс. В полете я без них просто свихнусь. Клянусь, это лучше, чем водка и транквилизатор.
Роуан рассмеялась.
– Подумать только! Вивальди и Диккенс…
– У всех есть свои слабости, – пожал плечами Майкл. – Боже, ну почему я уезжаю отсюда? Наверное, я действительно сошел с ума.
– Если ты не позвонишь мне вечером…
– Я позвоню тебе раньше и буду звонить чаще, чем ты думаешь.
– А вот и такси.
Майкл тоже услышал сигнал машины.
Он обнял Роуан, поцеловал, порывисто прижал к себе и надолго застыл, не в силах сдвинуться с места. Ему вновь вспомнилось ее предположение, что во всем случившемся виноваты те самые таинственные существа и они же могли вызвать у него потерю памяти. Майкл почувствовал, как по спине пополз холодок, и ощутил нечто похожее на безотчетный страх. А что, если все-таки остаться здесь, с нею, и навсегда выбросить их из головы? Пока у него еще есть такая возможность, последний шанс…
– Мне кажется, я люблю тебя, Роуан Мэйфейр, – прошептал он.
– Я слышу тебя, Майкл Карри, – ответила она. – И полагаю, что это чувство взаимно.
На лице Роуан вновь засияла ослепительная улыбка, а в глазах ее Майкл увидел ту же силу, что так будоражила его в течение нескольких последних часов, и одновременно великую нежность. И грусть.
До самого аэропорта Майкл, закрыв глаза, слушал Вивальди. Но это не помогало. Теснившиеся в голове мысли не давали покоя и попеременно то уносили его в Новый Орлеан, то вновь возвращали к Роуан – туда-сюда, словно маятник… Казалось бы, она не сказала ничего особенного, но ее слова потрясли Майкла, перевернули душу. Все это время он цеплялся за идею о некой величественной картине событий, о стоявшей перед ним высокой цели. Но стоило Роуан задать ему несколько элементарных, но вполне логичных вопросов – и вера его улетучилась, рассыпалась в прах.
Нет, он не согласен с тем, что случившееся с ним было кем-то подстроено. Все гораздо проще: его смыло волной со скалы – и в результате он оказался в ином мире, куда до него попадали и другие. Там и нашли его эти существа. Но они не способны действовать во вред и манипулировать людьми словно марионетками!
«А как, дружище, насчет твоего спасения? – тут же вопросил внутренний голос. – Каким образом Роуан перед самым наступлением темноты оказалась на своей яхте именно в том месте?»
Боже, безумие возвращается снова! Майкл был сейчас в состоянии думать лишь о том, как бы оказаться рядом с Роуан или… раздобыть хорошую порцию бурбона со льдом.
Только когда Майкл сидел в аэропорту в ожидании посадки, в голову ему неожиданно пришла мысль, до тех пор его не посещавшая.
Они с Роуан трижды были близки, а он и не подумал предпринять обычные меры предосторожности и даже не вспомнил о презервативах, которые постоянно таскал с собой в бумажнике. И не поинтересовался мнением на этот счет Роуан. Ничего себе! Впервые в жизни он утратил контроль в подобной ситуации.
Хотя… ведь она же врач и уж конечно позаботилась о безопасности. Наверное, стоит позвонить ей сейчас и спросить об этом. Вряд ли ему будет больно услышать ее голос. Майкл закрыл «Давида Копперфильда», встал и поискал глазами телефон.
И вдруг он наткнулся взглядом на уже знакомого человека – седовласого англичанина в твидовом костюме. Тот сидел через несколько рядов от Майкла, держа в руке сложенную газету; рядом лежали зонтик и портфель.
«Нет уж, – мрачно подумал Майкл, снова опускаясь на стул. – Только его мне сейчас и не хватает».
Объявили посадку. Майкл с тревогой смотрел, как англичанин поднялся с места, собрал свои вещи и двинулся к выходу.
Но когда спустя несколько минут Майкл прошел мимо него и занял свое место у окна почти в самом конце салона первого класса, пожилой джентльмен даже не поднял голову. Его портфель был открыт, а сам он что-то быстро записывал в объемистую тетрадь в кожаном переплете.
Прежде чем самолет поднялся в воздух, Майкл заказал себе порцию бурбона и упаковку холодного пива. К тому времени, когда они прилетели в Даллас, где по расписанию у самолета была сорокапятиминутная стоянка, Майкл пил шестую банку пива и читал седьмую главу «Давида Копперфильда». Про англичанина он и думать забыл.
7
Майкл попросил таксиста притормозить и отправился за очередной полудюжиной банок пива. От ощущения вновь окутавшего его теплого летнего воздуха все внутри ликовало. Машина свернула со скоростной магистрали на знакомую и незабываемо грязную мостовую Сент-Чарльз-авеню, и Майкл едва не заплакал при виде темнолиственных старых дубов с их черной корой и длинного узкого трамвая, который все так же, со звоном и грохотом, катился по рельсам.
Даже в этой своей части, с множеством убогих закусочных, обшарпанных деревянных баров и заброшенных бензоколонок, среди которых торчали к небу новые многоквартирные дома, возвышавшиеся над тентами магазинных витрин, это был его родной город – старый, прекрасный, полный зелени. Майкл с любовью смотрел даже на сорняки, пробившиеся сквозь трещины в асфальте. Там, где асфальта не было, росла сочная, ярко-зеленая трава. Ветви ползучего мирта были густо усыпаны цветами – розовыми, сиреневыми, густо-красными, как мякоть арбуза.
– Да ты посмотри вокруг! – сказал он водителю, который без умолку болтал всю дорогу, жалуясь на резкий рост преступности и вообще на плохие для Нового Орлеана времена. – Это фиолетовое небо я вспоминал все эти проклятые годы и видел так явственно, как будто кто-то раскрашивал его в моей памяти цветными карандашами.
Майклу хотелось плакать. За все время, пока утешал плачущую Роуан, сам он не пролил ни слезинки. А сейчас ему хотелось буквально разрыдаться. И отчаянно не хватало рядом Роуан.
Таксист слушал его с иронической улыбкой.
– Ну и что? Да, фиолетовое небо, если тебе так нравится.
– Нравится, и еще как, – сказал Майкл. – А ты родился между Мэгазин-стрит и берегом реки, точно? Уж этот выговор я узнаю где угодно, – добавил он.
– Ишь, завел тут речи, а сам-то как говоришь? – не дал ему спуску таксист. – Если тебе интересно знать, я родился между Вашингтон-авеню и Сент-Томас-стрит и был самым младшим из девяти детей. Теперь таких больших семей не встретишь.
Машина медленно двигалась по улице, и сквозь открытые окна в салон проникал влажный августовский ветерок. Только что зажглись уличные фонари.
Майкл закрыл глаза. Даже нескончаемые монологи таксиста казались ему музыкой. А это мягкое тепло… Как долго он всей душой тосковал по нему! Разве в мире существует еще одно такое же место, где воздух буквально живой, где ветер целует и ласкает тебя, а небо пульсирует, будто по его жилам течет кровь? Боже мой, как это здорово – не ощущать больше пронизывающего холода!
– Поверь, честное слово, никого сейчас нет счастливее меня, – сказал Майкл. – Никого… Да ты только взгляни на деревья!
Он во все глаза смотрел на черные изгибы ветвей.
– Черт побери, где же ты торчал, сынок?
Таксист был невысок, коренаст; на голове привычно сидела фуражка с козырьком. Он управлял машиной, наполовину высунув в окно локоть.
– Я был в аду, дружище, – ответил ему Майкл. – И знаешь, что я тебе скажу: там совсем не жарко. В аду ужасно холодно… А вот и отель «Поншатрен» – все тот же, ничуть не изменился.
Нет, пожалуй, отель выглядел более элегантным и холодно-суровым, чем в прежние дни. Аккуратные голубые навесы… и такая же, как и раньше, гвардия привратников и охранников возле стеклянных дверей.
От волнения Майкл ерзал на сиденье. Ему не терпелось выйти из машины, пройтись, ощутить под ногами старые тротуары. Но он попросил таксиста подбросить его до Первой улицы и там немного подождать. А потом они вернутся к отелю.
К тому моменту, как они подъехали к светофору на перекрестке с Джексон-авеню, Майкл успел опустошить вторую жестянку пива. Вид за окнами машины совершенно изменился. Майкл не помнил, чтобы переход был столь резким. Но дубы стали выше и гуще, многоэтажные дома сменились белыми особняками с коринфскими колоннами, и весь призрачный, сумеречный мир неожиданно наполнился нежными отблесками зеленого покрова.
– Роуан, если бы ты была сейчас рядом, – прошептал Майкл.
На углу Сент-Чарльз и Филип стоял превосходно отреставрированный дом Джеймса Галье. На другой стороне находился дом Генри Хоуэрда, красующийся свежевыкрашенными стенами. За чугунными решетками виднелись лужайки и сады.
– Боже мой, я дома! – шептал Майкл.
Когда самолет приземлился, Майкл пожалел, что успел напиться. В таком состоянии нелегко тащить чемодан и искать такси. Но теперь все позади. Когда такси свернуло налево, на Первую улицу, и въехало под сень густой зелени Садового квартала, Майкл пребывал в состоянии экстаза.
– Понимаешь, здесь все осталось прежним! – возбужденно воскликнул он, обращаясь к водителю.
В порыве огромной признательности Майкл достал банку пива и протянул ее таксисту, но тот лишь усмехнулся и отдал обратно.
– Попозже, сынок. Куда теперь поедем?
Словно в замедленном сне, они скользили мимо массивных особняков. Майкл не мог отвести взгляд от кирпичных тротуаров и высоченных магнолий с темными блестящими листьями.
– Поезжай помедленнее. Пусть этот парень обгонит нас. Я скажу, где остановиться.
Майкл пришел к выводу, что для своего возвращения выбрал самый прекрасный час вечера. Переполненный счастьем, он не вспоминал ни о видениях, ни о своем таинственном предназначении и мог думать только о том, что открывалось его глазам, и… о Роуан. «Вот оно, испытание любви, – мечтательно размышлял он, – когда тебе невыносимо быть счастливым, поскольку рядом нет другого человека». Слезы готовы были ручьем хлынуть у него из глаз.
Таксист продолжал болтать, не умолкая ни на секунду. Теперь он говорил о родном церковном приходе Майкла, о том, каким он был в прежние дни и в каком запустении находится сейчас. Майклу, конечно же, хотелось увидеть старую церковь.
– А знаешь, мальчишкой я был прислужником в алтаре церкви Святого Альфонса, – сказал он.
Но церковь может ждать хоть вечность, и он пойдет туда позже, потому что сейчас Майкл наконец увидел тот дом.
Длинное темное крыло здания протянулось от самого угла, узор чугунных решеток по-прежнему составляли завитки розеток. Столетние дубы с гигантскими ветвями, похожими на мощные руки, все так же охраняли покой дома и его обитателей.
– Вот он! – Майкл понизил голос до едва слышного шепота. – Давай, сверни направо и остановись.
Взяв с собой банку пива, он вышел из машины и зашагал к углу, чтобы оказаться напротив дома, чуть по диагонали.
Все звуки города словно перестали существовать. Впервые с момента своего приезда Майкл услышал пение цикад; их сочное стрекотание исходило отовсюду, словно взвихривая воздух вокруг, отчего каждая тень казалась живой. А чуть позже до Майкла донеслись пронзительные крики птиц. Надо же! Он успел напрочь позабыть о них.
Как в лесу, думал он, вглядываясь в мрачные, погруженные в ранние сумерки заброшенные террасы. Ни единого лучика света не мелькнуло из-за многочисленных узких и высоких деревянных ставен.
Раскинувшееся над крышей фиолетово-золотистое, словно остекленевшее небо мягко освещало самую дальнюю колонну на высокой галерее второго этажа и беспорядочно свисавшие сверху великолепные плети ползучей бугенвиллеи, густо обвивавшиеся вокруг консолей карниза. Даже в темноте Майкл отчетливо различал пурпур ее чудесных цветов. Еще видны были в полумраке и завитки чугунной решетки, и детали капителей колонн. Здесь удивительно органично сочетались все три архитектурных ордера: боковые колонны были дорическими, нижний ряд колонн фасада украшали капители ионического ордера, а верхний – коринфского.
Майкл вздохнул – протяжно и печально. Он не мог понять причину невыразимой грусти, всегда омрачавшей любую радость, поселявшуюся в его душе. И тем не менее даже на вершине счастья он всегда ощущал какую-то неясную печаль. Память обманула его лишь в одном: дом оказался намного больше, чем ему помнилось. И весь квартал – обширнее. На какое-то время все вокруг показалось Майклу невообразимо громадным.
Тем не менее его охватило ощущение живой, пульсирующей близости ко всему окружающему: к густой листве, сливавшейся с темнотой за ржавым металлом ограды, к пению цикад и к густым теням, протянувшимся от дубов.
– Как в раю, – прошептал он.
Майкл взглянул на покрытые зеленым наростом дубовые ветви, и слезы брызнули у него из глаз. Память вновь вернула его к видению – оно сделалось зловеще близким и словно хлестало по нему своими темными крыльями. Да, Майкл, этот дом.
Он застыл, буквально пригвожденный к месту. Банка пива холодила руку даже сквозь перчатку… Темноволосая женщина… Неужели она действительно говорила с ним тогда?
Майкл знал наверняка лишь одно: сумерки как будто ожили, все вокруг него пело, даже напоенный жарой воздух. Наконец он отвел взгляд от таинственного дома и принялся рассматривать соседние здания, отмечая плавную гармоничность оград, изящество кирпичной кладки и колонн. Он отчетливо видел даже тоненькие побеги, в борьбе за жизнь цеплявшиеся за бархатную зелень других растений. Что-то теплое наполнило и умиротворило его душу, на какое-то мгновение изгнав оттуда память о видениях и о данном обещании выполнить предназначенную ему миссию. Назад, назад во вновь обретенное детство, но не за воспоминаниями, а во имя целостности и непрерывности бытия. Мгновение разрасталось, вырывалось за пределы разума, и любые слова были бессильны выразить то, что чувствовал сейчас Майкл.
Небо темнело, однако по-прежнему играло оттенками аметистового цвета, словно пытаясь своим неярким, переливчатым сиянием сопротивляться надвигающейся ночи. Тем не менее свет медленно отступал. Слегка повернув голову и взглянув вдоль улицы в направлении реки, Майкл увидел, что небо в том краю обрело цвет чистого золота.
В глубине его души, конечно же, жили воспоминания о мальчишке из прибрежного квартала густонаселенных домишек, приходившем по вечерам на эту улицу, на то же самое место… Но настоящее продолжало затмевать собою все, и Майкл, не желая вторгаться в мир охвативших его чувств и тем самым нарушать момент истинного покоя в душе, не стремился воссоздавать перед глазами картины былого.
Только сейчас, неторопливо обводя пристальным взглядом давно знакомый дом, Майкл обратил внимание на вдающийся в глубь здания и сделанный в виде громадной замочной скважины вход и опять вспомнил о своем видении. Вход… Да, конечно, они же говорили ему про какой-то вход! Но ведь речь не шла о входной двери в буквальном смысле… И все же эта огромная «замочная скважина» и темный холл за ней… Нет, они не могли иметь в виду какую-то реально существующую входную дверь! Чувствуя, что впадает в транс, Майкл несколько раз моргнул, потом перевел взгляд на окна комнаты второго этажа, выходящей на северную сторону, и вздрогнул, увидев вдруг зловещий отблеск огня.
Нет, не может быть… И тут его осенило: это всего-навсего пламя свечей. Свет продолжал мерцать. Ну и странные вкусы у обитателей дома! Надо же – жить с таким освещением!
Сад все больше погружался во тьму. А ведь Майкл хотел еще пройти вдоль ограды и посмотреть, что делается вокруг. Надо поторопиться. Но северное окно на втором этаже по-прежнему притягивало его к себе, не позволяя тронуться с места. За кружевной занавеской промелькнула тень женщины. Приглядевшись, в верхнем углу комнаты Майкл различил цветочный узор старых, поблекших обоев.
Что-то стукнулось о камни тротуара. Майкл вздрогнул и опустил взгляд. Выпавшая из его руки жестянка с пивом валялась под ногами, и пенный ручеек стекал в канаву. «Да я совсем пьян! Опять, идиот, допился до чертиков!» – мысленно выругался он. Но сейчас это не имело значения, ибо Майкл ощущал в себе неизмеримую силу. Сам того не ожидая, он вдруг пересек улицу и подошел к воротам. Несмотря на охватившую его внутреннюю решимость, шаги были тяжелыми и неуверенными.
Вцепившись пальцами в чугунное кружево ограды, Майкл обвел взглядом пыль и мусор, скопившиеся на обшарпанных досках передней террасы. Камелии разрослись, и крупные ветки перевешивались через ограду. Дорожка из плит песчаника завалена листьями. Майкл встал ногами на чугунные завитки. Через такие ворота несложно перемахнуть.
– Эй, приятель, ты что?
Майкл изумленно обернулся и увидел рядом с собой таксиста. Совсем коротышка – маленький человечек с большим носом. Тень от козырька фуражки не позволяла как следует разглядеть, какие у него глаза. Словно злой тролль из сказки, таксист разрушил всю возвышенность момента.
– Что это за трюки, дружище? Ты, верно, потерял ключи?
– Я здесь не живу, – ответил ему Майкл. – И ключей у меня нет и не было.
Он вдруг рассмеялся над полной нелепостью ситуации. Голова кружилась. Легкий ветерок, дувший с реки, был удивительно ласковым и ароматным, а темный дом высился прямо перед ним, почти на расстоянии вытянутой руки.
– Пошли отсюда, – сказал таксист. – Давай я отвезу тебя в отель. В «Поншатрен» – ты ведь там остановился? Помогу тебе добраться до номера.
– Не торопись. Постой еще минутку.
Майкл повернулся и пошел вперед по улице. При виде расколотых, выщербленных плит тротуара его охватила горечь. Он помнил, что они тоже были темно-фиолетовыми. Да есть ли здесь хоть что-нибудь, что не выглядело бы запущенным, обшарпанным и не вызывало бы раздражения? Майкл вытер лицо. Надо же – слезы! Потом повернулся и заглянул в боковой двор.
Ползучие мирты невероятно разрослись. Их бледные, отливающие воском стволы, стали довольно толстыми. Лужайку, которую он помнил, заполнили сорняки, а заросли старых самшитовых деревьев, давно не видевшие ухода, превратились в непроходимые джунгли. Но Майкл все равно смотрел на них с любовью. Ему было приятно видеть даже старые деревянные решетки для вьющихся растений в глубине двора, прогнувшиеся под тяжестью неуемного плюща.
Знакомое миртовое дерево в дальнем конце двора все так же тянулось ввысь, карабкаясь по стене соседнего дома Именно там всегда стоял тот человек…
– Где же ты? – прошептал Майкл.
Видения вдруг снова плотно окружили его. Он почувствовал, как упал на забор, услышал скрип ржавых чугунных завитков… Совсем рядом, справа, послышался негромкий шелест листвы в саду. Обернувшись в ту сторону, Майкл заметил в листве какое-то движение. На землю падали цветы камелии. Майкл опустился на колени, просунул руку сквозь решетку и подхватил один из них – красный, со смятыми лепестками… Кажется, таксист что-то говорит ему?
– Я в порядке, приятель, – откликнулся Майкл, пытаясь лучше рассмотреть в темноте увядающий цветок.
Что это? Ему показалось или в садовых зарослях действительно мелькнул черный ботинок? Снова зашелестели листья. А это еще что? Майкл вдруг обнаружил, что видит перед собой нижний край чьих-то брюк. Кто-то стоял совсем рядом, буквально в дюйме от него. Майкл поднял голову и… потерял равновесие. Как только его колени ударились о тротуар, над ним склонилась какая-то фигура. Из-за ограды на него смотрели широко раскрытые незнакомые глаза, в которых играли искорки света. Таинственный мужчина словно примерз к месту – зловеще напружиненный, он стоял в опасной близости от Майкла и сверлил его угрожающим взглядом. Когда незнакомец протянул руку, впечатление было таким, будто во тьме на миг мелькнула белая молния. Майкл инстинктивно отпрянул, внутренне ощущая грозящую ему серьезную опасность, однако буквально через мгновение понял, что в густых зарослях по другую сторону ограды никого нет… Призрачная фигура как будто внезапно растворилась в воздухе…
Пустота почему-то испугала не меньше, чем появление загадочного незнакомца.
– Боже, помоги мне, – прошептал Майкл.
Сердце колотилось так, что, казалось, билось о ребра. Не было сил встать. Таксист потянул его за руку.
– Давай-ка двигать отсюда, сынок, пока не появилась патрульная машина!
Майкл с трудом поднялся, но его качало так, что, казалось, он вот-вот снова потеряет равновесие.
– Ты его видел? – прошептал он, остановившимся взглядом уставясь на таксиста. – Боже милостивый, это же был тот самый человек! Говорю тебе, тот же самый!
– А я говорю тебе, сынок, что намерен отвезти тебя в отель, и поскорее. Ты забыл, что это Садовый квартал? Здесь тебе не позволят выписывать пьяные вензеля!
Майкл все же не удержался на ногах, упал и скатился с тротуара в траву. Перевернувшись, он зашарил руками в поисках дерева, за которое можно было бы ухватиться, но никакого дерева не оказалось. Водитель снова поддержал его, причем ему помогли еще чьи-то руки. Майкл обернулся. Если это опять тот человек…
Нет, помощником таксиста оказался уже знакомый Майклу англичанин, седовласый джентльмен в твидовом костюме, с которым они летели в одном самолете.
– Какого черта вы здесь делаете? – прошептал Майкл.
Однако, несмотря на пьяное отупение, он все же сумел увидеть доброжелательное выражение лица незнакомца и оценить сдержанность и изысканность его манер.
– Я хочу вам помочь, Майкл, – последовал весьма учтивый ответ. Столь выразительные и предельно вежливые интонации можно услышать только в речи англичан. – И буду признателен, если вы позволите мне доставить вас в отель.
– Похоже, самое время, – ответил Майкл, ясно сознавая, с каким трудом дается ему каждое слово.
Он вновь окинул взглядом заросли деревьев вокруг дома и высокий фасад, почти растворившийся во тьме, хотя сквозь узор дубовых ветвей еще тускло просвечивало небо. Таксист и англичанин вроде о чем-то беседовали. Кажется, англичанин с ним расплачивался.
Майкл попытался добраться до кармана брюк и достать свой бумажник, но рука все время попадала мимо. Он подался вперед и, выскользнув из рук таксиста и англичанина, снова повалился на ограду. Теперь на лужайке было почти совсем темно, а в окружавших ее кустах и вовсе царил полный мрак. Густо увитые плющом деревянные решетки превратились в едва различимые на черном фоне силуэты.
Тем не менее под самым дальним миртом Майкл вполне отчетливо видел худощавую человеческую фигуру, бледный овал лица и – к своему полному недоумению – тот же самый старомодный белый крахмальный воротничок и тот же самый шелковый галстук.
Поистине герой старинного романа. Что удивительно, все эти знакомые детали испуганный, ошарашенный Майкл видел и всего лишь несколько минут назад.
– Пойдемте со мной, Майкл, позвольте отвезти вас в отель, – вновь донесся до него голос англичанина.
– Сначала вы должны мне ответить на один вопрос, – откликнулся Майкл, чувствуя, что его начинает бить дрожь. – Скажите, вы видите того человека?
Однако сам он видел сейчас лишь причудливые узоры, созданные темнотой. Откуда-то из памяти всплыл голос матери – молодой, звонкий и до боли родной: «Майкл, да нет же там никакого человека».
8
После отъезда Майкла Роуан несколько часов просидела в полусонном состоянии на открытой ветрам западной террасе, греясь на солнце и бессвязно размышляя обо всем произошедшем. В конце концов она пришла к выводу, что несколько шокирована и потрясена последними событиями, но, надо признаться, нанесенные раны довольно приятны.
Конечно, ни стыд, ни чувство вины за то, что она взвалила на плечи Майкла груз своих сомнений и горя, никуда не исчезли. Однако сейчас Роуан это не особо тревожило.
Слишком долгое копание в собственных ошибках еще никого не сделало хорошим нейрохирургом. Гораздо правильнее, с точки зрения Роуан, признать ошибку как свершившийся факт, подумать, как избежать подобных промахов в будущем, и продолжать жить дальше. Во всяком случае, именно так она всегда поступала в аналогичных обстоятельствах.
Роуан критически проанализировала свое состояние: одиночество, грусть, необходимость поделиться с кем-то своими тревогами – все это вместе и заставило ее броситься в объятия Майкла. К тому же роль утешителя явно доставляла ему наслаждение. Все эти причины и свели их вместе, совершенно непредвиденным образом глубоко окрасив новые отношения неожиданными оттенками.
Потом Роуан стала снова думать о Майкле.
До сих пор у нее не было любовников такого возраста, и она даже представить себе не могла, что на свете существуют столь полное бескорыстие и абсолютная бесхитростность, какие явственно сквозили в словах и поступках Майкла. Роуан оказалась совершенно неподготовленной к этому и была буквально зачарована мягкостью и добротой встретившегося на ее пути мужчины. Что же касается его мастерства в постели, то оно было почти на уровне совершенства. Как и Роуан, он предпочитал жесткий и спонтанный секс, что-то вроде взаимного изнасилования… Как жаль, что нельзя прямо сейчас повторить пройденное.
Роуан слишком долго приходилось порознь удовлетворять свои духовные и телесные потребности: первые – за операционным столом, а вторые – с малознакомыми партнерами. Внезапно появившаяся возможность одновременно удовлетворить и то и другое с добросердечным, умным, неотразимо обаятельным мужчиной, обладавшим превосходной фигурой и притягательным сочетанием каких-то загадочных психологических проблем и экстрасенсорных способностей, оказалась слишком неожиданной. Роуан покачала головой и тихо рассмеялась, потягивая кофе.
– Диккенс и Вивальди, – прошептала она. – Возвращайся ко мне, Майкл, прошу тебя. Возвращайся скорее.
Человек, выловленный ею из океанских вод, оказался поистине бесценным подарком.
Но что будет с ним дальше, даже если он вернется оттуда незамедлительно? Навязчивая идея относительно видений, новоорлеанского дома и какой-то цели была для него губительной. И более того, у Роуан было ясное ощущение, что он не приедет в Сан-Франциско.
Размышляя о Майкле под теплым послеполуденным солнцем, она ничуть не сомневалась, что он уже успел прилично нагрузиться, а к тому моменту, когда доберется до своего таинственного дома, станет еще пьянее. Конечно, было бы куда лучше, если бы Роуан сопровождала его в пути и помогала справиться с превратностями и неожиданностями этого путешествия.
Ей вдруг пришло в голову, что она дважды бросила Майкла: первый раз, когда слишком поспешно передала его береговой охране, а второй – сегодня, когда позволила лететь в Новый Орлеан одному.
Разумеется, едва ли кто-либо мог ожидать, что она полетит вместе с Майклом в Новый Орлеан. Но никто и не знал, какие чувства они испытывают друг к другу.
Роуан долго раздумывала над природой видений Майкла и не пришла к какому-либо окончательному выводу, кроме того, что они никак не связаны с физиологией. Ее пугала и приводила в растерянность их удивительная детальность и в то же время загадочность. Кроме того, при встрече с любым злом простодушие и наивность Майкла могли сослужить ему плохую службу. Добро он понимал лучше, нежели зло.
И еще одно. Почему, когда они ехали из Сан-Франциско, он задал такой странный вопрос: не пыталась ли она каким-то образом его предостеречь?
Когда Майкл коснулся ее руки, он увидел смерть Грэма. Вполне объяснимо, потому что в тот момент она думала именно о ней. И воспоминание было мучительным. Но на каком основании Майкл воспринял это как намеренное предостережение? Что, если он смог открыть в ее душе нечто такое, о чем сама она даже не подозревала?
Чем дольше Роуан сидела на солнце, тем яснее понимала, что не способна четко мыслить, что не в состоянии выдержать разлуку с Майклом, ибо тоска по нему терзала душу.
Роуан поднялась в свою комнату и направилась в ванную, чтобы принять душ. И вдруг до нее дошло, что, ложась с Майклом в постель, она напрочь забыла о противозачаточных средствах. Она не впервые допускала такую глупость, но вот уже много лет ничего подобного с ней не случалось.
Что ж, что случилось, то случилось. Роуан повернула кран и прислонилась спиной к плиткам стены, подставив тело под водяные струи. Она представила, что у нее может быть ребенок от Майкла. Безумная мысль. Роуан не хотела иметь детей. Никогда. Она снова вспомнила об утробном плоде в лаборатории, опутанном проводами и трубками. Нет, ее предназначение – спасать, а не давать жизнь. И что теперь? Недели две она подергается, а потом, когда узнает, что беременности нет, все пойдет своим чередом.
Когда Роуан вышла из душа, ее нестерпимо клонило в сон – мысли путались, она с трудом сознавала собственные действия. Возле постели валялась брошенная Майклом рубашка – он стянул ее с себя в прошлую ночь. Обычная рубашка синего цвета, какие носят на каждый день, но накрахмаленная и выглаженная не хуже той парадно-выходной, которая ей вчера понравилась. Роуан аккуратно сложила ее и легла, прижав к себе синий сверток, словно любимое детское одеяльце или мягкую игрушку.
Так она проспала шесть часов.
Едва проснувшись, Роуан поняла, что не может оставаться одна в доме. Казалось, что каждый предмет в нем хранит на себе отпечаток Майкла, его тепло. Роуан слышала его голос, его смех, его широко распахнутые голубые глаза бесхитростно смотрели на нее сквозь роговые очки, а затянутые в перчатки руки нежно касались ее тела и лица.
После его отъезда дом казался еще более пустым, а ждать от него звонка было еще слишком рано.
Роуан позвонила в клинику. Разумеется, там требовалось ее присутствие – это же субботний вечер в Сан-Франциско! Операционные в Центральной больнице города были уже переполнены. В травматологический центр университетской клиники поступали жертвы катастрофы: на сто первом шоссе столкнулись сразу несколько машин. Как обычно, были и пациенты с огнестрельными ранами.
К моменту приезда Роуан в клинику пациентка уже находилась в операционной. Ассистенты подключили все необходимое оборудование и сделали анестезию… Пока Роуан мыла руки, интерн докладывал о состоянии ее будущей подопечной. Женщину пытались убить топором. Большая потеря крови. Доктор Симмонс уже вскрыл черепную коробку…
Войдя в холодную, точно ледник, операционную, Роуан заметила, как Симмонс облегченно вздохнул.
Пока ее облачали в стерильный зеленый халат и эластичные перчатки, Роуан почти машинально отмечала про себя, с кем сегодня придется работать… Так… Две медсестры из числа самых лучших. Один интерн заболел, второй чрезмерно возбужден предстоящей операцией. Анестезиологи… Не из тех, с кем она любила работать, но вполне подходящие. Что ж, доктор Симмонс хорошо подготовил ей плацдарм.
Пациентка… Совершенно незнакомая… Зафиксирована в неудобной сидячей позе: голова опущена, черепная коробка открыта, лицо и руки полностью укутаны несколькими слоями зеленых хлопчатобумажных простыней, безжизненно неподвижные ноги оставлены открытыми…
Роуан подошла к торцу операционного стола и, кивнув в ответ на слова, брошенные ей анестезиологом, встала позади мешковатого тела. Правой ногой она нажала педаль, чтобы установить в нужное положение огромный хирургический микроскоп и максимально сфокусировать изображение открытого мозга, ткани которого удерживали блестящие металлические зажимы.
– Ну и месиво! – прошептала Роуан.
В ответ раздались негромкие смешки персонала.
– Вероятно, она узнала, что оперировать будете именно вы, доктор Мэйфейр, – сказала старшая из медсестер, – и потому попросила своего муженька шмякнуть ее топором еще раз.
Роуан улыбнулась под маской, потом сощурила глаза.
– Как вы думаете, доктор Симмонс, мы сможем удалить кровь, не высасывая попутно слишком много мозгов у бедняжки? – спросила она.
В течение следующих пяти часов она ни разу не вспомнила о Майкле.
Домой Роуан вернулась в два часа ночи – там было темно и холодно. Другого она и не ждала. Но впервые после смерти Элли Роуан не будоражили тягостные мысли о приемной матери. И впервые воспоминание о Грэме не было мрачным и мучительным.
Она прослушала автоответчик: никаких сообщений от Майкла. Это расстроило, но не удивило ее. Она живо представила, как пьяный Майкл, шатаясь, спускается по трапу самолета. В Новом Орлеане сейчас около четырех часов утра. Нет, нельзя так рано звонить в отель «Поншатрен».
Лучше всего не забивать себе голову этими мыслями, решила Роуан, снова укладываясь в постель.
Лучше не думать о бумаге в сейфе, запрещающей ей возвращаться в Новый Орлеан. Лучше не думать о том, чтобы полететь туда ближайшим рейсом. И если не думать обо всем этом, то нечего тогда думать и об Эндрю Слэттери, которого не приняли на работу в Стэнфорд и который, наверное, с удовольствием согласится подменить ее на пару недель в университетской клинике. Тогда какого черта она сегодня спрашивала Ларка о Слэттери, да еще и звонила ему среди ночи только ради того, чтобы узнать, нашел ли Эндрю работу? Что-то явно крутилось в ее воспаленных мозгах.
В три часа ночи Роуан внезапно проснулась… В доме кто-то был. Она не знала, что именно разбудило ее, но не сомневалась, что в доме посторонний. Кроме дальнего зарева города, единственным освещением в комнате были цифры электронных часов. В окно резко ударил сильный порыв ветра, осыпав все вокруг множеством водяных брызг.
Роуан чувствовала, как раскачивается на сваях дом. Послышался слабый скрип стекла.
Роуан встала, стараясь двигаться как можно тише, вытащила из ящика комода револьвер тридцать восьмого калибра, сняла предохранитель и двинулась к лестнице. Револьвер она держала обеими руками, как учил Чейз, ее приятель-полицейский. Роуан упражнялась в стрельбе из этого револьвеpa и умела с ним обращаться. Она не столько боялась, сколько злилась, но оставалась при этом собранной и хладнокровной.
Шагов не было слышно. До нее доносились лишь отдаленное завывание ветра в трубе и слабые стоны прочных стеклянных стен.
С верхней ступеньки лестницы перед Роуан как на ладони открылось все пространство залитой голубоватым лунным светом гостиной. В окно ворвался новый фонтан брызг. Корпус «Красотки Кристины» с глухим стуком бился о резиновые шины на стенке пирса.
Осторожно ступая по ступенькам, Роуан спускалась вниз, не забывая на каждом повороте лестницы обшаривать глазами все помещения. Вот наконец и нижний этаж. Отсюда ей был хорошо виден каждый уголок, за исключением ванной комнаты, оставшейся за спиной. Роуан осторожно двинулась в сторону ванной, пристально вглядываясь в темноту, но по-прежнему видя перед собой лишь пустое пространство гостиной и неуклюже раскачивающуюся на волнах «Красотку Кристину» за окном.
В небольшом помещении ванной тоже не оказалось ничего подозрительного. Пустая кофейная чашка, оставленная Майклом на туалетном столике. Запах его одеколона.
Прислонясь к дверному косяку, Роуан еще раз обвела взглядом комнаты. Ее тревожили яростные порывы ветра, сотрясавшие стеклянные стены дома. Но такие завывания она слышала множество раз, и только однажды стихии удалось разбить одно из стекол. Правда, в августе обычно не бывало штормов такой силы. Штормовым сезоном всегда была зима, когда вместе с ледяным ветром на окрестные холмы обрушивались проливные дожди, которые наполняли улицы жидкой грязью, а порой и сносили с фундаментов дома.
Роуан заворожено смотрела, как потоки воды с грохотом стекают по длинным открытым террасам, окрашивая их в темные тона. Она видела мириады мельчайших капель на ветровом стекле рубки «Красотки Кристины». Неужели ее обманул этот внезапно налетевший ураган? Роуан настроила свои невидимые внутренние антенны и прислушалась.
Никаких посторонних звуков – только стоны и скрип стекла и дерева. И все же что-то было не так. Она в доме не одна. И тот, кто вломился сюда, сейчас находился на втором этаже, в чем Роуан не сомневалась. Он поблизости. Он следит за ней. Но откуда именно? Роуан не могла найти объяснение собственным ощущениям.
Электронные часы на кухне едва слышно щелкнули, отмерив еще один интервал времени, и теперь показывали пять минут четвертого.
Краешком глаза Роуан уловила какое-то движение. Она не обернулась, а, напротив, сочла за лучшее неподвижно застыть на месте. Чуть скосив глаза влево, она увидела фигуру мужчины, стоящего на западной террасе.
Незнакомец был худощав, очень бледен и темноволос. В его позе не ощущалось ни скрытой, ни явной угрозы. Он стоял удивительно прямо, спокойно опустив руки. Роуан не могла ясно различить все детали, но выглядел непрошеный гость весьма странно и в то же время неправдоподобно элегантно – словно пришел на великосветский раут.
Роуан была буквально вне себя от гнева, но при этом сохраняла внешнее хладнокровие и ясность мыслей. Она мгновенно оценила ситуацию. Незнакомец не мог проникнуть в дом через двери террасы. И уж тем более пробить брешь в толстом стекле. Ах, с каким удовольствием она всадила бы в него пулю, но тогда пришлось бы пробить заодно и дыру в стекле. К тому же, заметив ее, этот тип может выстрелить первым. Хотя… С какой стати? Обычно для грабителя главное – проникнуть в дом. Да и он, конечно же, заметил ее давным-давно – Роуан была почти уверена, что он следил за ней и продолжает следить.
Она очень медленно повернула голову. Темнота внутри гостиной, похоже, не мешала странному посетителю видеть Роуан – во всяком случае, он смотрел прямо на нее.
Столь откровенная наглость привела ее в бешенство. Она чувствовала, что ситуация становится все более опасной. Внешне холодная, Роуан наблюдала, как мужчина приближается к стеклу.
– Ну, подходи же, придурок. Я с радостью тебя пристрелю, – прошептала она, чувствуя, как шевелятся волосы на затылке.
По телу пробежал какой-то приятный холодок. Ей захотелось убить этого человека, кем бы он ни был – непрошеным гостем, вором или сумасшедшим. Роуан хотелось уложить его прямо на террасе, будь то пулей тридцать восьмого калибра или любым иным доступным ей способом.
Роуан медленно обеими руками подняла револьвер, направила его прямо на незнакомца и вытянула вперед руки, как учил ее Чейз.
Однако тот ничуть не испугался и не отвел взгляда. Сквозь спокойную, ледяную ярость Роуан с неподдельным интересом разглядывала загадочного гостя. Темнота мешала рассмотреть его как следует, но кое-что она все же смогла увидеть: темные вьющиеся волосы, неестественно бледное худощавое лицо, в выражении которого было что-то печальное и умоляющее. Незнакомец стоял, слегка склонив голову, словно разговаривая с Роуан, умоляя о чем-то.
«Да кто же ты такой?» – подумала она. До нее постепенно доходила вся нелепость этой сцены, и одновременно в голове возникла совершенно сумасшедшая мысль: «Он совсем не то, чем кажется… не человек… Я наблюдаю некую иллюзию!» Гнев Роуан неожиданно сменился тревогой, которая в свою очередь переросла в страх.
На какое-то время она утратила способность двигаться и буквально лишилась дара речи. Но потом, злясь на собственную беспомощность и ужас, взяла себя в руки и крикнула:
– Возвращайся в ад – туда, откуда пришел!
Ее громкий испуганный голос гулко разнесся по пустому дому.
В ответ, словно желая выбить ее из колеи и полностью сломить, незнакомец медленно исчез. Его фигура стала прозрачной, затем полностью растворилась. Там, где он только что стоял, не осталось ничего, кроме привычно пустой террасы, а потому вид ее казался еще более шокирующим.
Громада стеклянного дома вздрогнула. Затем раздался еще один удар, словно на здание со всего размаху налетел ветер. И вдруг море успокоилось. Умолк грохот волн. Дом затих. Даже «Красотка Кристина» перестала колотиться о стенку пирса.
Роуан еще долго смотрела на пустую террасу. Потом до ее сознания дошло, что влажные от пота, трясущиеся руки по-прежнему крепко сжимают револьвер, сделавшийся вдруг необычайно тяжелым. Несмотря на дрожь во всем теле, Роуан направилась прямо к стеклянной стене и дотронулась до нее в том месте, которого касалась его рука. От стекла исходило слабое, но ощутимое тепло. Не такое, какое оставляет человеческая рука, – столь странное эфемерное существо не могло нагреть холодную поверхность толстого стекла, – но такое, словно стекло обдали горячей струей.
Роуан еще раз внимательно осмотрела доски террасы, потом перевела взгляд на темную неровную поверхность воды и на приветливые огоньки Сосалито на другой стороне залива. Вернувшись наконец к кухонному столу, она положила револьвер, схватила телефонную трубку и дрожащим голосом попросила:
– Пожалуйста, соедините меня с отелем «Поншатрен» в Новом Орлеане.
Ожидая ответа станции, Роуан пыталась успокоиться, используя для этого один-единственный аргумент: она снова и снова убеждала себя в том, что в доме, кроме нее, никого нет.
Бесполезно проверять замки и задвижки. Бесполезно рыться в шкафах, заглядывать во все укромные места и совать нос в каждую щель. Все это бес-по-лез-но!
К тому времени, когда в трубке раздался голос телефонистки отеля, Роуан пребывала в полном отчаянии.
– Мне нужно поговорить с Майклом Карри, – сказала она, пояснив, что вчера вечером он должен был остановиться в их отеле. Да, она знает, что сейчас в Новом Орлеане только двадцать минут шестого, но это не имеет значения. Она просит соединить ее с номером мистера Карри.
Роуан казалось, что ожидание длится уже целую вечность. Слишком потрясенная произошедшим, чтобы думать о том, удобно ли будить Майкла в такой час, она сгорала от нетерпения.
– Извините, но мистер Карри не отвечает, – послышался наконец голос телефонистки.
– Позвоните еще раз. Пожалуйста, пошлите кого-нибудь к нему в номер. Мне крайне необходимо с ним поговорить.
Гостиничным служащим так и не удалось добудиться Майкла. Входить в номер без его разрешения они отказывались – вполне понятно: таковы правила, – и Роуан не винила их за это. Попросив оставить для Майкла сообщение с просьбой срочно позвонить ей, она повесила трубку и села у камина с намерением спокойно все обдумать.
Роуан не сомневалась в том, что видела: да, она абсолютно уверена, что на террасе стоял призрак и смотрел прямо на нее, а потом подошел совсем близко и начал разглядывать ее в упор! Это существо могло появляться и исчезать по собственной воле. Но тогда почему она видела отблеск света на кромке его воротничка, и откуда капельки влаги на его волосах? Почему стекло стало теплым от его прикосновения? Вопрос в том, было ли неизвестное существо материальным, находясь в видимом состоянии, а если да, то распадалась ли материя, когда оно «предпочитало исчезнуть».
В конце концов ее разум по обыкновению стал искать научное объяснение произошедшего. Но эти поиски не могли развеять охватившую ее панику, избавить от сильного и ужасающего чувства беспомощности, заставлявшего Роуан испытывать страх в собственном доме, чего с нею раньше никогда не бывало.
Почему ветер и дождь были составными частями всего этого кошмара? Ведь она явно не придумала жуткие завывания и капли на стеклах. И вопрос вопросов: почему странное существо явилось именно ей?
– Майкл… – прошептала она, и имя его сорвалось с ее губ как молитва. Роуан негромко рассмеялась: – Я их тоже вижу.
Она встала и медленно обошла дом, стараясь ступать как можно увереннее и повсюду зажигая свет.
– Отлично, – покончив с этим занятием, спокойно проговорила Роуан. – Если ты вернешься, то будешь встречен ослепительной иллюминацией.
Ну разве не абсурд? Существо, способное вызвать бурю в заливе Ричардсона, легко могло устроить и короткое замыкание.
Но Роуан сама нуждалась в ярких огнях – она была слишком испугана. Поднявшись в спальню, она повернула в замке ключ, потом заперла дверь ванной и шкафа с одеждой и только после этого улеглась в постель, повыше взбив под головой подушки и положив рядом револьвер.
Она взяла сигарету, хотя и знала, что курить в постели опасно, а потому предварительно убедилась, что над головой мигает красный огонек пожарной сигнализации.
«Призрак… – размышляла она. – Допустим, я только что видела одного из них собственными глазами, хотя прежде никогда в них не верила. Это, несомненно, привидение – ничем иным столь странная фигура быть не могла. Но почему призрак явился мне?.»
Роуан воскресила в памяти всю сцену, и все ощущения загадочной встречи нахлынули на нее снова.
Как ужасно, что рядом нет Майкла – единственного во всем мире человека, способного поверить ее словам, единственного, кому она могла довериться и рассказать о подобном.
Роуан была взбудоражена и испытывала почти те же чувства, что и в тот вечер, когда вытащила Майкла из воды: «Я прошла через что-то волнующее и ужасное». Ей страстно хотелось с кем-нибудь поделиться. «Почему он появился передо мной?» – вновь и вновь задавала она себе вопрос, лежа в тишине ярко освещенной спальни.
Как изящно он двигался, когда шел по террасе, как странно смотрел на нее сквозь стекло, каким необычным был весь его облик… Судя по всему, иностранец… Таинственный чужеземец.
Возбркдение не проходило. Но когда наконец взошло солнце, Роуан почувствовала облегчение. Рано или поздно Майкл пробудится после своей пьяной спячки, увидит сигнал о сообщении и обязательно позвонит.
«Ну вот, мне опять что-то от него нужно, – говорила сама с собой Роуан. – Кто знает, что сейчас происходит с ним самим, а тут еще я лезу со своими проблемами и заявляю, что он мне нужен…»
Охраняемая теплым, ласковым солнечным светом, заливавшим комнату сквозь стеклянные стены, Роуан постепенно погружалась в сон. Она поудобнее устроилась на теплых подушках, натянула на себя одеяло из разноцветных лоскутков и вновь вернулась мыслями к Майклу, вспоминая темные курчавые волоски на тыльной стороне его рук, его нежные пальцы и огромные глаза за стеклами очков. И только в последний момент, перед тем как окончательно провалиться в сон, она вдруг подумала: а не мог ли этот призрак быть каким-то образом связан с Майклом?
Видения…
«Это как-то связано с видениями?» – хотелось ей спросить.
Потом сон перешел в какую-то чепуху, и она проснулась, как всегда пытаясь поскорее прийти в себя и выбросить из головы нелепость и неправдоподобие увиденного. Из водоворота мыслей ярко выделилась одна: разумеется, Слэттери вполне может ее подменить, и если Элли сейчас пребывает в каких-то неведомых высях, то ей, скорее всего, безразлично, вернется Роуан в Новый Орлеан или нет. Там, за гранью земного, Элли должна быть счастлива…
Роуан вновь погрузилась в тяжелый сон…
9
Майкл внезапно проснулся от жажды и жары, хотя воздух в комнате был довольно прохладным. Он лежал в трусах и рубашке, манжеты и воротник которой оставались застегнутыми. Перчатки не были сняты.
В конце коридорчика, устланного ковром, ярко горел свет. Сквозь негромкое, обволакивающее гудение кондиционера доносился какой-то звук, похожий на шелест бумаги.
«Боже милостивый, где это я?»
Майкл сел на постели. За коридорчиком виднелась гостиная, где возле занавешенного шторами с цветочным узором окна стоял кабинетный рояль из светлого, сверкающего полировкой дерева. Должно быть, он в своем роскошном номере в отеле «Поншатрен».
Майкл не помнил, как оказался здесь, и страшно рассердился на себя за то, что явно перепил накануне. Вскоре, однако, к нему вернулось эйфорическое состояние вчерашнего вечера. Он вспомнил свидание с домом на Первой улице, над которым простиралось пурпурное небо.
«Я в Новом Орлеане!»
Охваченный приливом счастья, он напрочь забыл о замешательстве и чувстве вины.
– Я дома, – прошептал Майкл. – Что бы я там ни натворил, я дома!
Но как ему удалось добраться до отеля? И кто там расселся в гостиной? Опять этот англичанин. Последнее, что четко отложилось в памяти, это беседа со странным английским джентльменом напротив того дома на Первой улице. Вместе с этим воспоминанием вернулось и другое: Майкл снова увидел темноволосого человека, глядевшего на него сквозь узор черной чугунной решетки, вспомнил загадочный блеск его глаз, бледное и бесстрастное лицо… Майкла охватило странное чувство. То не был страх – то было глубинное, интуитивное ощущение угрозы.
Как мог этот человек за столько лет так мало измениться? Как мог он мгновенно появляться и исчезать буквально на глазах?
Майклу вдруг подумалось, что ему хорошо известны ответы на эти вопросы: он всегда понимал, что таинственный субъект не принадлежит к числу обыкновенных людей. Но такое внезапное постижение совершенно непостижимых вещей едва не заставило его засмеяться.
– Сходишь с катушек, приятель, – прошептал он.
Но как раз здесь, в незнакомом месте, ему надо держать себя в руках и не терять самообладания. Нужно узнать, чего хочет этот англичанин и почему он до сих пор торчит в чужом номере.
Майкл быстро обследовал глазами комнату. Да, старый отель. На него повеяло комфортом и покоем, когда он увидел чуть вылинявший ковер, крашеный корпус кондиционера под окнами и массивный старомодный телефон, стоящий на небольшом инкрустированном столике. На аппарате мерцал сигнал, означавший, что для Майкла есть сообщение.
Дверь в ванную была распахнута, открывая взору тусклый блеск белых кафельных плиток.
Слева Майкл увидел шкаф и свой чемодан с откинутой крышкой. И – о чудо из чудес! – совсем рядом на столике стояло ведерко со льдом, в котором, подернутые мелкими капельками влаги, покоились три длинные банки миллеровского пива.
– Ну разве это не рай земной? – произнес он вслух.
Майкл снял правую перчатку и коснулся одной из банок.
Перед ним мелькнул официант в форменной одежде… Нет, хватит – к чему эта лишняя информация? Он снова натянул перчатку, открыл банку и большими жадными глотками выпил половину ее содержимого. Потом встал и направился в ванную.
Даже в неярком утреннем свете, пробивавшемся сквозь закрытые жалюзи, он сумел разглядеть свой туалетный набор, поставленный на мраморную поверхность туалетного столика. Майкл достал зубную щетку, пасту и почистил зубы.
Боль в голове постепенно стихала, а вместе с ней Майкла покидало и ощущение собственной глупости и никчемности. Он причесал волосы, допил остатки пива и почувствовал себя почти что хорошо.
Надев свежую рубашку и натянув брюки, он взял из ведерка вторую банку, прошел по коридорчику и остановился у входа в просторную, богато обставленную гостиную.
Среди скопища обитых бархатом кушеток и стульев за небольшим деревянным столом сидел англичанин в серой домашней куртке с хлястиком и серых твидовых брюках; перед ним высилась гора папок из плотной бумаги и машинописных страниц. Наконец-то Майкл смог рассмотреть его получше: довольно худощав, лицо избороздили морщины, седая, но еще густая шевелюра, исключительно дружелюбный и понимающий взгляд не слишком больших блестящих голубых глаз…
Англичанин встал.
– Надеюсь, мистер Карри, вы чувствуете себя лучше? – спросил он.
У него был один из тех звучных, присущих только британцам голосов, которые придают самым простым словам новый смысл, будто до сих пор эти слова произносились совершенно неправильно.
– Вы кто? – спросил Майкл.
Пожилой джентльмен подошел ближе и протянул руку Майкл не стал пожимать ее, хотя ему было не по себе за столь грубое обращение с тем, кто выглядел таким дружелюбным, искренним и, в общем-то, симпатичным. Майкл снова приложился к пиву.
– Меня зовут Эрон Лайтнер, – представился англичанин. – Я приехал из Лондона, чтобы повидаться с вами.
Он говорил учтиво, без малейшего признака обиды.
– Это я слышал от своей тети. Я видел, как вы околачивались возле моего дома на Либерти-стрит. Какого черта вы таскаетесь за мной по пятам?
– Потому что мне необходимо с вами побеседовать, мистер Карри, – вежливо, едва ли не с оттенком благоговения ответил англичанин. – Настолько необходимо, что я добровольно согласился вынести любые неудобства и хлопоты, с которыми мог столкнуться. Вполне очевидно, что я рисковал вызвать ваше недовольство. Весьма сожалею и прошу меня простить. В мои намерения входило лишь помочь вам добраться сюда, и, позволю себе заметить, вчера вы дали на то полное ваше согласие.
– Неужели?
Майкл почувствовал, что свирепеет. Но, надо признать, этот парень умеет очаровывать людей. Взглянув на разбросанные по столу бумаги, Майкл разозлился еще больше. За каких-нибудь пятьдесят баксов, а то и меньше, таксист помог бы ему добраться до номера и не торчал бы здесь сейчас.
– Совершенно верно, – подтвердил Лайтнер все тем же мягким, уравновешенным голосом. – Возможно, мне следовало бы удалиться в свой номер, который находится этажом выше, но я не был уверен, что с вами все будет в порядке. Честно говоря, я волновался еще и по другому поводу.
Майкл не ответил. Он понял, что англичанин только что прочел его мысли.
– Что ж, вашим трючком вы сумели привлечь мое внимание, – сказал он, а про себя подумал: «Интересно, может ли он проделать это снова?»
– Да, если желаете, – отозвался англичанин. – К сожалению, читать мысли человека, разум которого находится в таком состоянии, как сейчас ваш, довольно легко. Боюсь, что ваша возросшая восприимчивость работает в обоих направлениях. Однако я могу научить вас скрывать свои мысли и в любой момент, когда пожелаете, ставить защитный экран. Хотя, должен заметить, в этом нет особой необходимости, ибо людей, подобных мне, вокруг вас не так уж много.
Майкл невольно улыбнулся. Благородное смирение, с каким все это было сказано, несколько смутило его и в то же время вполне убедило. Англичанин представлялся вполне искренним и правдивым человеком. Его очевидная доброжелательность бросалась в глаза и затмевала все остальные качества – во всяком случае, именно такое эмоциональное впечатление осталось у Майкла, и это почему-то его удивило.
Майкл прошел мимо рояля к цветастым портьерам и потянул за шнур. Он терпеть не мог искусственный свет по утрам. Выглянув из окна на Сент-Чарльз-авеню, на широкую полосу травы, трамвайные рельсы и пыльную листву дубов, он вновь почувствовал себя совершенно счастливым. Надо же, а он и забыл, что дубовые листья такого темно-зеленого цвета. Все, что он сейчас видел, казалось удивительно ярким, живым. И когда мимо окон медленно протащился в сторону окраины трамвай, этот давно знакомый грохот – звук, который ни с чем не спутаешь, – вновь привел Майкла в состояние возвышенного волнения. Какой удивительно знакомой и умиротворяющей казалась ему царящая вокруг сонная неспешность…
Ему необходимо вновь отправиться к дому на Первой улице. Но Майкл прекрасно сознавал, что англичанин наблюдает за ним. И вновь не почувствовал в этом человеке ничего, кроме порядочности и искренней доброты.
– Да, я заинтригован, – сказал Майкл, отворачиваясь от окна. – И признателен вам. Но, честно говоря, все это мне не нравится. И потому – я хочу, чтобы вы правильно меня поняли, – исключительно из любопытства и чувства благодарности я дам вам минут двадцать, чтобы объяснить, кто вы такой, почему вы здесь и с чем все это связано.
Майкл поудобнее устроился на бархатной кушетке, стоявшей напротив заваленного бумагами стола, и выключил лампу.
– Да, спасибо за пиво, – добавил он. – Мой любимый напиток.
– В холодильнике имеется небольшой запас, – ответил англичанин.
Чертовски любезно с его стороны.
– Вы предусмотрительны, – пробормотал Майкл.
Как уютно в этой комнате… Детские впечатления изгладились из памяти, но ему все равно нравилась здешняя обстановка: темные обои, мягкая обивка мебели и низкие медные лампы.
Лайтнер сел за стол. Только сейчас Майкл заметил среди папок небольшую бутылку бренди и рюмку. Возле соседнего стула стоял тот самый портфель, который он видел в аэропорту, а на спинке того же стула висел пиджак англичанина.
– Не хотите ли рюмочку? – спросил Лайтнер.
– Нет. А почему вы разместились в номере надо мной? Что все это значит?
– Мистер Карри, я принадлежу к одной очень древней организации, – сказал англичанин. – К ордену Таламаска. Вам когда-нибудь доводилось слышать такое название?
Майкл задумался.
– Н-нет.
– Мы существуем с одиннадцатого века. Но на самом деле с гораздо более ранних времен. Просто именно в одиннадцатом веке организация стала именоваться Таламаскои и у нее появились, так сказать, устав и определенные правила. Выражаясь современным языком, мы – группа историков, занимающихся преимущественно исследованием паранормальных явлений. Колдовство, появление призраков, вампиры, люди, обладающие выдающимися парапсихическими способностями, – все это нас глубоко интересует. Мы располагаем внушительными архивами, касающимися перечисленных направлений.
– И что же, вы занимаетесь этим с одиннадцатого века?
– Да, и, как я уже говорил, корни организации уходят гораздо глубже. По большей части мы играем роль пассивных наблюдателей и предпочитаем не вмешиваться в происходящее. Позвольте показать вам визитную карточку ордена – там запечатлен наш девиз.
Англичанин достал из кармана визитку, вручил ее Майклу и вернулся в свое кресло.
Майкл прочел:
«ТАЛАМАСКА.
Мы бдим.
И мы всегда рядом».
Ниже были указаны телефоны организации в Амстердаме, Риме и Лондоне.
– У вас есть штаб-квартиры во всех этих городах? – спросил Майкл.
– Мы называем их Обителями, – пояснил англичанин. – Позвольте мне продолжить… Как я уже сказал, мы в основном действуем пассивно: собираем данные, сопоставляем, перепроверяем и храним информацию. Но мы действуем очень активно, когда требуется довести нашу информацию до тех, кому она может пойти на пользу. О случившемся с вами мы узнали из лондонских газет, а также посредством контактов в Сан-Франциско и полагаем, что смогли бы… оказать вам некоторую помощь.
Майкл медленно стянул и отложил в сторону правую перчатку. И вновь взял карточку… Перед ним вспыхнуло лицо Лайтнера, запихивающего в карман несколько таких карточек в другом номере этого отеля… Потом – Нью-Йорк. Запах сигар. Шум транспорта на улице. Какая-то женщина, разговаривающая с Лайтнером… Быстрая британская речь…
– Почему бы, мистер Карри, вам не задать главный вопрос?
Его слова вернули Майкла в реальность гостиной.
– Идет, – согласился он.
«Правду ли говорит этот человек?»
Быстрая смена образов… Все более беспорядочная, сбивающая с толку… Голоса звучат все громче, смешиваются между собой, создавая все больше путаницы. Сквозь гул Майкл услышал голос Лайтнера:
– Постарайтесь сосредоточиться, мистер Карри, выделите и извлеките то, что важно, что вы хотите узнать. Мы – хорошие люди или нет? Вас ведь это интересует?
Майкл кивнул, мысленно повторив вопрос. Безудержный шквал информации буквально захлестнул его. Дрожащей рукой он осторожно положил карточку на стол, стараясь не дотрагиваться до его поверхности. Потом снова надел перчатки. Зрение прояснилось.
– Итак, что вы узнали? – поинтересовался Лайтнер.
– Что-то там о тамплиерах… О том, что ваша организация украла их деньги, – ответил Майкл.
– Что? – Лайтнер был совершенно ошарашен.
– Вы украли их деньги. И на них понастроили повсюду свои Обители. Деньги вы украли давно, когда французский король приказал арестовать тамплиеров. Они отдали вам свои сокровища на хранение, и вы все сохранили. Теперь вы богаты. Все вы там, в своей Таламаске, жутко богаты. И вам стыдно за то, что случилось с тамплиерами, которых обвинили в колдовстве и казнили. Эти сведения мне, разумеется, известны из исторических книг. Моей специализацией в колледже была история. Я знаю о том, что случилось с тамплиерами. Король Франции стремился уничтожить их могущество. А о вас он явно ничего не знал.
Майкл ненадолго умолк и тихо добавил:
– О вас было известно очень немногим.
Лайтнер глядел на него с неподдельным изумлением, медленно покрываясь краской, – похоже, он чувствовал себя все более неловко.
Майкл не смог сдержать смех. Он пошевелил затянутыми в перчатку пальцами правой руки.
– Вы это имели в виду, когда просили меня сосредоточиться и извлечь информацию?
– Полагаю… да, именно это. Однако я не думал, что вы сумеете проникнуть в столь потаенные…
– Вас мучит совесть по поводу того, что случилось с тамплиерами. Да, и всегда мучила. Иногда вы спускаетесь в ваш лондонский подвал, где хранятся архивы, и внимательно читаете старые документы. Нет, не компьютерные выжимки, а старые документы, написанные чернилами на пергаменте. Вы пытаетесь убедить себя, что тогда ваш орден не в силах был помочь тамплиерам.
– Очень впечатляюще, мистер Карри. Однако если вы изучали историю, то знаете, что в то время никто, за исключением Папы Римского, не мог спасти тамплиеров. Разумеется, мы – малочисленная, безвестная и строго секретная организация – были не в состоянии что-либо сделать. Откровенно говоря, после многочисленных казней и сожжения на костре Жака де Молэ и его ближайших сподвижников не осталось никого из тех, кому мы могли бы вернуть деньги.
Майкл снова засмеялся.
– Вам нет нужды оправдываться передо мной, мистер Лайтнер. Но вы действительно стыдитесь событий шестисотлетней давности. Странные вы ребята, надо сказать. Кстати, уместно, наверное, упомянуть, что когда-то мне пришлось писать курсовую работу о тамплиерах. Так что я согласен с вами. Насколько мне известно, им действительно никто не мог помочь, даже Папа. Попробуй вы тогда вмешаться, господа инквизиторы заодно отправили бы на костер и вас.
Эрон Лайтнер покраснел.
– Несомненно, – подтвердил он. – Теперь вы убедились, что я вас не обманываю?
– Убедился? Да я просто потрясен!
Майкл долго пристально разглядывал Лайтнера, все больше и больше убеждаясь, что перед ним человек, обладающий цельностью натуры и во многом разделяющий его собственные взгляды на жизнь и ее ценности.
– Значит, вы преследовали меня по заданию своей организации? – наконец спросил он. – Следовали за мной повсюду, безропотно перенося, если верить вашим словам, любые неудобства и хлопоты, а заодно и мирясь с моим недовольством?
Майкл взял карточку – что, надо признаться, потребовало от него некоторых усилий, ибо затянутыми в перчатки пальцами нелегко подцепить тоненький кусочек картона, – и опустил ее в карман рубашки.
– Причина не только в этом, – ответил англичанин. – Хотя мне очень хочется вам помочь – прошу извинить, если мои слова покажутся вам чересчур снисходительными или оскорбительными. Поверьте, у меня и в мыслях нет ничего подобного. Я говорю совершенно искренне: глупо лгать такому человеку, как вы.
– Что ж, думаю, вас совсем не удивит, что за последние несколько недель у меня бывали моменты, когда я вслух молил о помощи. Правда, сейчас я чувствую себя несколько лучше, чем два дня назад. Даже намного лучше. И я наконец-то на пути к своей цели – к выполнению той миссии, которая, по моему внутреннему ощущению, мне предназначена…
– Вы обладаете колоссальными возможностями – вы даже не представляете, какая в вас заключена сила! – воскликнул Лайтнер.
– Сила – это пустяки. Я говорю сейчас о цели. Вы читали в газетах статьи обо мне?
– Да, все, что только смог найти.
– Значит, вам известно, что после смерти меня посетило видение. Оно содержало в себе нечто… нечто такое, что объясняло цель моего возвращения в мир живых. Однако память об этом каким-то образом оказалась стертой. Да, все исчезло – бесследно, подчистую.
– Понимаю.
– Тогда вы должны понимать, что все эти трюки с руками – совершенная чепуха. – Майклу стало не по себе. Он жадно глотнул пива. – Стоит мне заговорить о цели, я чувствую, что мне, в общем-то, никто не верит. Но после того происшествия прошло уже более трех месяцев, а мои ощущения остаются прежними. Я вернулся к жизни ради определенной цели, и цель эта каким-то образом связана с домом, возле которого я бродил вчера вечером, – со старым особняком на Первой улице. И я намерен продолжать свои поиски и в конце концов докопаться до сути – выяснить, в чем состоит поставленная передо мной цель.
Лайтнер буквально впился в Майкла пристальным, изучающим взглядом.
– Эта связь действительно существует? Старый дом имеет какое-то отношение к тому, что явилось вам за порогом смерти?
– Да, но не спрашивайте меня, какое именно. В течение нескольких месяцев я снова и снова видел этот дом, он снился мне по ночам. Связь несомненно есть. Только она заставила меня преодолеть расстояние в две тысячи миль – связь между домом и моими видениями. Но, повторяю, не спрашивайте меня, какая и почему.
– А Роуан Мэйфейр? Какова ее роль в произошедшем?
Майкл медленно поставил на стол пивную банку и окинул Лайтнера тяжелым, оценивающим взглядом.
– Вы знакомы с доктором Мэйфейр?
– Нет, но мне многое известно о ней и ее семье, – ответил англичанин.
– Правда? О ее семье? Ей было бы очень интересно получить от вас эти сведения. Но откуда вы узнали? Что общего между вами и ее семейством? Насколько я помню, вы сказали, что торчали возле нашего дома в Сан-Франциско, чтобы побеседовать со мной.
Лицо Лайтнера ненадолго помрачнело.
– Я в полном замешательстве, мистер Карри. Возможно, вы проясните ситуацию. Как доктор Мэйфейр оказалась возле вашего дома?
– Слушайте, меня уже тошнит от ваших вопросов. Она оказалась там, потому что пыталась мне помочь. Она ведь врач.
– Так она была там в качестве врача? – полушепотом спросил Лайтнер. – Значит, я все время действовал, руководствуясь ошибочными представлениями. Выходит, доктор Мэйфейр не отправляла вас сюда?
– Отправляла меня сюда? Боже мой, конечно нет. А с какой стати ей это делать? Скажу больше: доктор Мэйфейр была даже против моей поездки в Новый Орлеан, но я настоял, поскольку счел необходимым действовать сообразно собственному плану. Откровенно говоря, когда она усадила меня в свою машину, я был вдрызг пьян. Просто удивительно, как у нее хватило терпения возиться со мной. Жаль, что сейчас я не настолько пьян. А почему, мистер Лайтнер, у вас вдруг появилась такая идея? С какой стати Роуан Мэйфейр отправлять меня сюда?
– Могу я попросить вас об одолжении?
– Если это в моих силах.
– Пожалуйста, ответьте мне на один вопрос: были ли вы знакомы с доктором Мэйфейр прежде, до того происшествия?
– Нет, не был. Да и после него не более пяти минут.
– Простите, я вас не понимаю.
– Лайтнер, эта женщина спасла меня – вытащила из воды. Я впервые увидел ее лишь на палубе яхты, после того как она привела меня в чувство.
– Боже мой, я не мог и предположить!..
– Я и сам понятия о ней не имел вплоть до вечера минувшей пятницы. То есть не знал ни ее имени, ни кто она – вообще ничего. Ребята из береговой охраны прохлопали ушами и не удосужились записать ее данные и название яхты. Но она спасла мне жизнь. Она обладает мощным диагностическим чутьем, каким-то шестым чувством, безошибочно определяющим, останется пациент жить или умрет. Оно и заставило ее сразу же начать реанимацию. Мне иногда приходило в голову, что, если бы меня выловила береговая охрана, они, наверное, и пальцем бы не пошевелили.
Лайтнер погрузился в молчание, внимательно изучая узор ковра. Он выглядел крайне обеспокоенным.
– Да, она замечательный врач, – прошептал англичанин, хотя думал он в тот момент явно о другом и, казалось, пытался сосредоточиться. – И вы рассказали ей о своем видении?
– Мне хотелось снова оказаться на палубе ее яхты. Не знаю почему, но я был уверен, что, стоит мне туда попасть и коснуться досок палубы, руки помогут вспомнить хоть что-нибудь… Что-то такое, что оживит память. Удивительно, но эта женщина не отвергла мою идею. Она действительно незаурядный врач.
– Совершенно с вами согласен, – кивнул Лайтнер. – И что случилось потом?
– Ничего. Кроме того, что я узнал Роуан.
Майкл замолчал. Интересно, догадается ли англичанин о том, что было между ним и Роуан? Сам он говорить об этом не собирался.
– Ну а теперь ваша очередь отвечать на вопросы – мне кажется, вы у меня в долгу, – сказал Майкл. – Прежде всего, что именно вы знаете о ней и ее семье и что заставило вас думать, будто она послала меня сюда? Какого черта ей могло это понадобиться? Уж кого-кого, но меня?…
– Именно это я и пытался установить. Я предполагал, что она, возможно, хотела воспользоваться даром ваших рук и попросила сделать для нее какие-то тайные изыскания. Других объяснений я найти не мог. Но как вы узнали о доме, мистер Карри? Я имею в виду, как вы выявили связь между своим видением и…
– Лайтнер, я вырос в этих местах. А этот дом полюбил с детства, очень часто ходил мимо него и помнил о нем все последующие годы. Незадолго до того происшествия я почему-то особенно часто думал о нем. Теперь я твердо намерен выяснить, кто им владеет и что все это значит.
– Надо же… – тихо, почти шепотом, произнес Лайтнер. – И вы не знаете, кому принадлежит этот дом?
– Я же сказал – нет.
– И у вас нет никаких соображений на этот счет?…
– Но я же только что сказал, что хочу это выяснить.
– Вчера вечером вы пытались перелезть через ограду.
– Помню. А теперь не будете ли вы любезны сообщить мне кое-что? Вам многое известно обо мне. Вам многое известно о Роуан Мэйфейр. Вы что-то знаете о доме и о семье Роуан… – Майкл вдруг замолчал и пристально посмотрел на Лайтнера. – Семья Роуан? – спросил он. – Дом принадлежит им?
Лайтнер многозначительно кивнул.
– Это действительно правда?
– Они владеют особняком более века, – тихо ответил Лайтнер. – И если только я не допускаю печальной ошибки, он перейдет к Роуан Мэйфейр после смерти ее матери.
– Я вам не верю, – прошептал Майкл.
Однако на самом деле он верил каждому слову Лайтнера. Его снова окутало атмосферой видений, и опять она мгновенно рассеялась. Майкл уставился на Лайтнера, не в силах сформулировать ни одного вопроса, которые теснились в его голове.
– Мистер Карри, прошу вас, сделайте мне еще одно одолжение. Расскажите подробно, какая связь существует между этим домом и вашим видением? Точнее, как получилось, что вы еще в детстве обратили на него внимание и запомнили на долгие годы?
– Не раньше чем вы расскажете, что известно обо всем этом вам, – ответил Майкл. – Вы ведь понимаете, что Роуан…
Лайтнер не дал ему договорить.
– Я непременно посвящу вас во все известные мне подробности, касающиеся и этого дома, и семейства Мэйфейр, – заверил он. – Но в обмен прошу, чтобы первым начали рассказывать вы – обо всем, что вам запомнилось, что кажется вам важным… Меня интересуют любые детали, даже если сами вы не понимаете их сути и смысла. Возможно, я сумею в них разобраться. Вы понимаете, что я имею в виду?
– По рукам. Ваши сведения в обмен на мои. Но вы действительно поделитесь со мной всем, что вам известно?
– Да, абсолютно всем.
Что ж, сделка стоящая. Предложение англичанина можно считать самым захватывающим событием из всех произошедших за последние дни, за исключением разве что появления Роуан у дверей его дома. Майкл с удивлением поймал себя на том, что ему просто не терпится выложить этому человеку все, вплоть до мельчайших подробностей.
– Ну, тогда ладно… – начал он. – Как я уже говорил, мимо этого дома я часто ходил еще мальчишкой – специально делал крюк, чтобы оказаться поблизости от него. Я вырос на Эннансиэйшн-стрит – это в шести кварталах отсюда, у реки. В саду возле особняка я часто видел одного человека, того самого, который был там и вчера вечером. Помните, я спросил вас, видели ли вы его? Так вот, вчера я видел его дважды: возле забора и потом чуть поодаль, в саду. Что тут за чертовщина, не знаю, но будь я проклят, если на этот раз он не выглядел точно так же, как в дни моего детства. А мне было всего четыре года, когда я увидел этого типа впервые. В шесть лет я встретил его в церкви.
– Вы видели его в церкви?
И снова Майклу показалось, что, слушая, Лайтнер буквально ест его глазами.
– Да, это случилось в Рождество, в церкви Святого Альфонса. Встречу с ним я запомнил навсегда, потому что он стоял не где-нибудь, а в святая святых… Вы понимаете, что я имею в виду? У алтарных перил установили ясли с младенцем Иисусом, а он стоял чуть сзади и сбоку, на ступенях алтаря.
Лайтнер кивнул.
– Вы не сомневаетесь в том, что это был именно он?
Майкл засмеялся.
– Учитывая, из какого квартала я родом, совершенно не сомневаюсь. А если говорить серьезно… Да, это был один и тот же человек. Была еще одна встреча… Я почти уверен, просто многие годы как-то не задумывался об этом. Однажды я увидел его на концерте. Сам концерт я запомнил навсегда, ибо тогда выступал Исаак Стерн. Я впервые услышал музыку не по радио, а со сцены. Так вот, среди публики я заметил все того же странного незнакомца. И он смотрел прямо на меня…
Майкл замолчал. Он вдруг вновь окунулся в атмосферу того давнего незабываемого вечера. Непрошеные воспоминания о грустном и противоречивом периоде его жизни разбередили душу, и он тряхнул головой, словно сбрасывая и отгоняя их от себя. Майкл не сомневался, что Лайтнер снова читает его мысли.
– Когда вы расстроены, они лишаются ясности, – мягко заметил Лайтнер. – Но все, о чем вы рассказываете, очень важно, мистер Карри.
– Без вас знаю! Все это связано с тем, что я видел, когда утонул. Я пришел к такому убеждению, снова и снова перебирая в памяти события тех лет, поскольку после случившегося со мной не мог сосредоточиться ни на чем другом. Понимаете, я просыпался и видел перед собой этот дом – и каждый раз в голове была только одна мысль: «Я должен туда вернуться». Роуан Мэйфейр назвала это навязчивой идеей.
– Значит, вы и ей рассказали…
Майкл кивнул и допил пиво.
– Рассказал, и очень подробно. Она терпеливо слушала, но не могла понять. Хотя одно ее замечание показалось мне очень дельным. Роуан сказала, что все это слишком разумно и определенно, слишком конкретно, чтобы смахивать на обычную патологию. Мне думается, ее слова отнюдь не лишены смысла.
– Прошу вас набраться еще немного терпения, – сказал Лайтнер. – Пожалуйста, постарайтесь припомнить какие-нибудь подробности вашего видения, быть может, мелкие детали… Вы говорили, что они не полностью стерлись из вашей памяти.
Майкл проникался все большим и большим доверием к этому человеку. Возможно, манеру поведения Лайтнера следовало бы назвать авторитарной, но он обладал даром повелевать в мягкой форме. И никто еще не расспрашивал Майкла о видениях так серьезно и заинтересованно, даже Роуан.
Исходившие от англичанина понимание и сочувствие обезоруживали.
– Вы правы, – поспешно произнес Лайтнер. – Поверьте, моя совершенно искренняя симпатия к вам вызвана не только произошедшим с вами печальным инцидентом, но и тем, что вы неколебимо верите в истинность случившегося. Прошу вас, расскажите мне о видении.
Майкл коротко описал ему черноволосую женщину, драгоценный камень, связанный с нею, и неясный образ (или идею?) некоего входа… или портала…
– Не входной двери, нет. Но этот вход имеет какое-то отношение к дому.
Было еще какое-то число, которое напрочь вылетело у него из головы. Нет, не номер дома. Число было совсем коротким, состоящим всего из двух цифр; тем не менее оно имело громадное значение. И разумеется, цель. Цель стала его спасением, она обусловила его возвращение. Правда, Майкл четко помнил, что у него был шанс отказаться.
– Мне не верится, что они дали бы мне умереть, если бы я отказался. Они предоставили мне выбор во всем. Я предпочел вернуться и выполнить порученную мне миссию. Открывая глаза, я твердо знал, что должен осуществить какую-то чертовски важную задачу.
Лайтнер выглядел совершенно ошеломленным и даже не пытался скрыть свое изумление.
– Вы помните еще что-нибудь?
– Нет. Иногда мне кажется, что я вот-вот вспомню все. Однако каждый раз образы быстро ускользают, не успев проясниться. О старом доме я вспомнил только почти через сутки после случившегося. Нет, наверное, даже чуть позже. И тут же у меня возникло ощущение взаимосвязи между ним и видением. То же ощущение появилось у меня вчера вечером. Я оказался там, где следовало оказаться, чтобы найти ответы на все вопросы, но я по-прежнему не могу вспомнить! Это просто сводит меня с ума.
– Охотно верю, – негромко отозвался Лайтнер, до сих пор не сумевший оправиться от удивления, точнее, от полного замешательства, вызванного рассказом Майкла. – Позвольте мне высказать предположение, – добавил он: – Не могло ли случиться так, что, когда вы пришли в себя на палубе яхты и коснулись руки Роуан, образ этого дома перешел от нее к вам?
– Я бы не исключил такую версию, если бы… если бы не одно весьма важное «но». Роуан понятия не имеет о старом особняке в Новом Орлеане, как, впрочем, и о самом городе. Она не знает никого из членов своей семьи, кроме приемной матери, которая умерла в прошлом году.
Похоже, Лайтнер просто ушам своим не верил.
Майкл понял, что чрезмерно увлекся. Ему было приятно беседовать с Лайтнером, но разговор зашел слишком уж далеко. Майкл решил повернуть его в иное русло:
– Знаете что, мистер Лайтнер, теперь ваша очередь рассказывать. Прежде всего, откуда вы знаете Роуан? Когда она приехала за мной в прошлую пятницу и заметила вас, то упомянула, что, как будто, видит вас не впервые. Пожалуйста, будьте откровенны со мной. При чем тут Роуан? Что и откуда вам о ней известно?
– Я непременно все расскажу вам, – с неизменно присущей ему учтивостью ответил Лайтнер. – Но позвольте спросить: уверены ли вы, что Роуан никогда не видела этот дом – хотя бы на фотографиях?
– Уверен. Мы говорили с ней об этом. Она родилась в Новом Орлеане…
– Да, это правда…
– Но ее увезли из города в тот же день. Впоследствии приемная мать заставила ее подписать некую бумагу – обещание, что Роуан никогда не вернется сюда. Я спрашивал, попадались ли ей на глаза какие-либо снимки или рисунки с видами Нового Орлеана. И ответ был отрицательным. После смерти приемной матери Роуан не удалось отыскать ни малейших сведений о здешних родственниках. Неужели вы не понимаете? Образ дома исходил не от Роуан! Но во что-то связанное с этим домом Роуан втянута точно так же, как и я.
– Что вы хотите этим сказать?
Майкла удивил вопрос Лайтнера.
– Я хочу сказать, что их выбор обусловлен всей моей жизнью – всем тем, что со мной когда-либо происходило, тем, кто я и что я, и тем, что мое детство прошло именно здесь, в Новом Орлеане… Неужели вам еще не ясно, что все это взаимосвязано? Однако центром событий являюсь не я. Возможно, центр событий – Роуан… Извините, я должен сейчас же ей позвонить и сообщить, что дом, о котором мы столько говорили, на самом деле дом ее матери.
– Прошу вас, Майкл, не делайте этого.
– Что?!!
– Майкл, пожалуйста, сядьте.
– Да о чем вы говорите? Вы что, не понимаете, это же уму непостижимо! Дом принадлежит семье Роуан, а она ничего не знает о своей семье. Не знает даже имени своей матери.
– Я не хочу, чтобы вы ей звонили! – В голосе Лайтнера неожиданно прозвучали твердые нотки. – Прошу вас не забывать, что я еще не выполнил свою часть сделки. Вы еще не слышали моего рассказа.
– Боже, ну как вы не понимаете? Возможно, в ту самую минуту, когда меня смыло со скалы, Роуан еще только выводила в море свою «Красотку Кристину»! Наша встреча не должна была состояться… А потом те люди, те, что все знали, решили вмешаться.
– Да, понимаю… И прошу вас только об одном: прежде чем вы позвоните Роуан, позвольте мне завершить наш обмен информацией.
Англичанин еще что-то говорил, но Майкл его не слышал. Он вдруг ощутил резкое головокружение, перед глазами все поплыло – он словно терял сознание. Чувствуя, что вот-вот окончательно провалится в темноту, Майкл крепко вцепился в стол. Однако падало вовсе не его тело – куда-то соскальзывал разум. На долю секунды видение появилось снова… Черноволосая женщина что-то говорила, обращаясь непосредственно к нему. Затем откуда-то с невообразимой высоты, из восхитительного, наполненного воздухом пространства, где он был невесом и свободен, Майкл увидел внизу, на воде, маленькую точку яхты и сказал: «Я это сделаю».
Затаив дыхание и неподвижно застыв, Майкл отчаянно пытался удержать возникшее перед глазами видение. Он сознательно не подключал свой разум, не стремился сделать картину более четкой и детальной. Однако видение все равно уходило, постепенно рассеивалось, в который уже раз оставляя его в недоумении и замешательстве, наедине с давним, хорошо знакомым чувством тоски, боли и гнева.
– Боже мой, – прошептал Майкл. – Роуан даже и представить не может…
Он вдруг сообразил, что вновь сидит на кушетке, и догадался, что этим обязан Лайтнеру, который вовремя подхватил его и не позволил рухнуть на пол. Майкл опять закрыл глаза. Но видение ушло. Вместо него перед глазами возникла Роуан, нежная, милая, с чуть взъерошенными волосами, – в знакомом ему белом махровом халате она сидела, склонив голову, и плакала. Светлые волосы упали на лицо.
Майкл открыл глаза и увидел сидящего рядом Лайтнера. Господи, сколько же драгоценных секунд, если не минут, он потерял, пока находился в бессознательном состоянии?! Как ни странно, присутствие англичанина не только не раздражало, но даже успокаивало. Кажется, несмотря ни на что, этот странный человек действительно относится к нему по-доброму, с искренним сочувствием и уважением.
– Прошло не более двух секунд, – сообщил Лайтнер. (Он снова прочел его мысли!) – У вас закружилась голова, и вы едва не упали.
– Вы не знаете, как ужасно себя чувствуешь, когда силишься что-то вспомнить, но память ни в какую не желает возвращаться. Между прочим, у Роуан возникло весьма странное соображение на этот счет.
– Какое?
– Возможно, именно они лишили меня памяти.
– И это предположение показалось вам странным?
– Да, потому что на самом деле они хотели, чтобы я помнил. И чтобы выполнил то, что мне предназначено. Моя задача каким-то образом связана с входом. Уверен, что связана. И еще с числом тринадцать. Роуан высказала и другую мысль, которая, честно говоря, меня поразила. Она сомневается, что у этих людей были добрые намерения, и спросила, почему я однозначно решил, что они преследуют какую-то благую цель и не несут ответственности за случившееся – за мое падение в воду. Господи! Говорю вам, я просто схожу с ума.
– Вполне резонные соображения, – вздохнув, заметил Лайтнер. – Вы назвали число тринадцать?
– Я назвал? Что, так и сказал? Не может… впрочем, наверное… Да, там было число тринадцать. Боже, я наконец вспомнил! Да, число тринадцать.
– А теперь, Майкл, я хочу, чтобы вы послушали меня. Не звоните Роуан. Я прошу вас одеться и поехать со мной.
– Постойте, друг мой. Забавный вы парень, надо сказать. Даже в домашней куртке вы выглядите элегантнее любого актера из старых фильмов, и тон ваш убедителен, и манеры безупречны, но… Но сейчас я нахожусь именно там, где хочу находиться, и впредь пойду туда, куда сам сочту нужным. После того как позвоню Роуан, я снова отправлюсь к тому дому…
– А что конкретно вы намерены там делать? Позвонить в дверной звонок?
– Нет, я дождусь приезда Роуан. Вы же знаете, она рвется в Новый Орлеан и давно мечтает встретиться со своими родственниками. Вот тогда мы и узнаем, что к чему.
– А тот человек? Какое отношение, по-вашему, он имеет ко всему этому? – спросил Лайтнер.
Майкл буквально застыл на месте и уставился на англичанина.
– Вы его видели? – удивленно прошептал он.
– Нет, он не пожелал появиться передо мной. Он хотел, чтобы его увидели вы. И мне очень интересно знать почему.
– Вам ведь о нем все известно, так?
– Да.
– Ладно, теперь ваш черед говорить, так что начинайте.
– Да, таково было условие нашего договора, – согласился Лайтнер. – Сейчас мне как никогда важно, чтобы вы узнали все.
Англичанин встал, медленно подошел к столу и начал собирать разбросанные по нему бумаги, аккуратно складывая их в большую кожаную папку.
– В этом досье содержится все.
Майкл подошел ближе и бросил взгляд на скопище листов: текст на большинстве из них был машинописным, но некоторые исписаны от руки.
– Послушайте, Лайтнер, я жду, – напомнил он о себе. – Мне необходимо услышать от вас исчерпывающие ответы на многие вопросы.
– Здесь, Майкл, содержится вся информация. Это материалы из наших архивов, и все они целиком посвящены семейству Мэйфейр. История рода уходит корнями в далекое прошлое, в тысяча шестьсот шестьдесят четвертый год. Однако прошу, выслушайте меня и поймите правильно. Я не могу отдать вам эти материалы здесь.
– Тогда где?
– Неподалеку отсюда расположена одна из наших резиденций. Уединенная и тихая старая плантаторская усадьба. Вполне уютное место.
– Нет! – нетерпеливо отрезал Майкл.
Лайтнер жестом остановил его возражения.
– Ехать туда менее полутора часов. Извините, но я настаиваю, чтобы вы оделись и поехали со мной в Оук-Хейвен, где вы сможете спокойно и без помех прочесть все досье. И еще. Прошу вас отложить все вопросы до того момента, когда закончите чтение и все нюансы этого необычного дела станут вам ясны. Как только вы внимательно изучите записи, моя просьба повременить со звонком Роуан перестанет казаться вам неправомерной. Думаю, вы не пожалеете, что согласились со мной.
– Роуан должна увидеть эти бумаги.
– Конечно должна. И если вы сделаете нам одолжение и согласитесь лично вручить их ей, мы будем вам бесконечно признательны, честное слово.
Майкл изучающе глядел на англичанина, пытаясь преодолеть очарование манер этого человека и постичь ошеломляющий смысл сказанного им. С одной стороны, он испытывал к Лайтнеру расположение и не сомневался в его глубочайших знаниях. С другой – никак не мог избавиться от смутных подозрений на его счет. Но каковы бы ни были внутренние ощущения Майкла, наибольшее удивление вызывал у него тот факт, что каким-то непостижимым образом фрагменты столь запутанной головоломки постепенно четко становятся на свои места.
Неожиданно обнаружилась и еще одна интересная деталь. Дело в том, что одна из причин ненависти Майкла к внезапно возникшей в его руках силе состояла в том, что, стоило ему коснуться любого человека или принадлежащих тому вещей, между ним и этим человеком немедленно возникал тесный контакт. Как правило, с незнакомыми людьми такой контакт длился недолго. Но с Лайтнером он постепенно, но стабильно усиливался.
– Я не могу уехать с вами из города, – сказал Майкл. – Поверьте, у меня нет ни малейших сомнений в вашей правдивости и добрых намерениях. Но я должен позвонить Роуан и хочу, чтобы вы передали мне все бумаги прямо здесь.
– Майкл, здесь собрана информация, имеющая самое непосредственное отношение ко всему, что вы мне рассказали, включая черноволосую женщину и некий драгоценный камень, который играет весьма важную роль. Что касается входа – его значение мне неизвестно. А вот относительно числа тринадцать у меня имеются кое-какие догадки и предположения. Черноволосая женщина и камень тесно связаны с таинственным человеком. Но все собранные материалы я согласен выпустить из рук только на моих условиях.
Майкл сощурился.
– Вы утверждаете, что это женщина, которая явилась мне в видении?
– Ответ на этот вопрос можете дать только вы.
– А вы меня не обманываете?
– Нет, ни в коем случае. Но не обманывайтесь и сами, Майкл. Вы всегда знали, что тот человек не был… тем, кем старался казаться, не правда ли? Что вы испытали вчера вечером, когда увидели его?
– Д-да, я знал… – прошептал Майкл.
Он чувствовал, что снова теряет почву под ногами. На душе стало тревожно, а по телу пробежала нервная дрожь. Он вновь увидел того человека, пристально глядящего на него сквозь ограду.
– Боже… – прошептал Майкл и, сам того не ожидая, машинально поднял правую руку и поспешно перекрестился. Потом смущенно взглянул на Лайтнера.
И вдруг его словно током пронзила предельно четкая мысль.
– А может, они хотели, чтобы я встретился с вами? – спросил он, чувствуя, как внутри похолодело от волнения. – Что, если черноволосая женщина говорила именно о том, что мне предстоит увидеться с вами?
– Об этом судить только вам. Никто, кроме вас, не знает, о чем говорили эти существа. И только вам известно, кто они на самом деле.
– Господи, но как раз этого-то я и не знаю!
Майкл сжал голову руками. И тут взгляд его упал на кожаную папку и он увидел сделанную на ней по-английски надпись. Несмотря на то что золотое тиснение оказалось наполовину стертым, крупные буквы читались совершенно отчетливо.
– Мэйфейрские ведьмы… – прошептал Майкл. – Это что – правда?
– Да. А теперь не будете ли вы все-таки любезны одеться и поехать со мной? Должно быть, в усадьбе нас давно уже ожидает завтрак. Ну же, Майкл, я прошу вас.
– Вы ведь не верите в то, что ведьмы действительно существуют?!! – не то утвердительно, не то вопросительно произнес Майкл.
Однако они вновь приближались… Перед глазами Майкла все начало расплываться, очертания комнаты стали бледными и размытыми, и голос Лайтнера опять доносился словно издалека – неразборчивые, лишенные смысла звуки, исходящие неизвестно откуда… Майкла трясло. К горлу подступила тошнота. Он вновь увидел комнату в тусклом утреннем свете. Много лет назад тетя Вив сидела вон там, а его мать… кажется, здесь… Но он ведь находится в сегодняшнем дне… Надо позвонить Роуан…
– Рано, – сказал Лайтнер. – Сначала вам необходимо прочесть досье.
– Вы боитесь Роуан. В ней самой есть нечто такое… Существует какая-то причина… Скажите правду: почему вы как будто стремитесь защитить меня от нее?
Майкл обратил внимание на клубами носящуюся вокруг пыль. Как странно… Казалось бы, вполне материальные частички. Но их круговерть придавала всему происходящему оттенок абсолютной нереальности. Он вспомнил, как в машине коснулся руки Роуан. Предостережение… И вновь перед глазами возник образ – на этот раз Роуан, лежащей в его объятиях…
– Вы знаете причину, – ответил Лайтнер. – Роуан сама все объяснила.
– Но это же полный бред! Безумная выдумка!
– Отнюдь не выдумка. Посмотрите мне в глаза, Майкл. Вы же знаете, что я говорю правду. Мне даже нет нужды сейчас читать ваши мысли. Вы сами все понимаете, и это первое, что пришло вам в голову, едва вы увидели слово «ведьмы».
– Нет, неправда. Одного пожелания смерти недостаточно, чтобы убить кого бы то ни было.
– Майкл, это займет менее суток. И в обмен на мое доверие к вам прошу отнестись с уважением к нашим методам работы. Пожалуйста, уделите мне это время.
В полном замешательстве Майкл молча наблюдал, как Лайтнер снял домашнюю куртку, аккуратно сложил ее и отправил в портфель вместе с кожаной папкой, затем надел пиджак…
И все-таки он должен прочесть содержимое кожаной папки. Но Лайтнер уже застегнул молнию на портфеле и держал его обеими руками.
– Нет, Роуан не ведьма! – не выдержав, воскликнул Майкл. – Думать так – безумие, и я никогда с этим не соглашусь. Роуан – врач, и она спасла мне жизнь.
Подумать только! Этот прекрасный старый дом, который он полюбил с раннего детства, принадлежит ей! Майкла вновь окутала атмосфера вчерашнего вечера, перед глазами возникли фиолетовые проблески неба, просвечивающего сквозь густые ветви, а в ушах зазвучало звонкое пение птиц, чувствовавших себя в зарослях сада словно в лесу.
Все эти годы Майкл знал, что тот мужчина не более чем оболочка, видимость человека Всю свою жизнь он знал об этом Еще тогда, в церкви…
– Майкл, тот человек ждет Роуан, – сказал Лайтнер.
– Ждет Роуан? Тогда зачем он появился передо мной?
– Послушайте, друг мой… – Англичанин накрыл ладонью и слегка сжал руку Майкла. – У меня и в мыслях нет запугивать вас или чрезмерно подстегивать ваше и без того богатое воображение. Но дело в том, что вот уже много веков это существо связано со всеми поколениями рода Мэйфейров. Оно обладает способностью убивать людей. Точно так же, как и доктор Роуан Мэйфейр. Фактически она, быть может, первая в их роду, кому по силам обходиться в этом вопросе без помощника. И вот сейчас они сближаются друг с другом: этот, так сказать, человек и Роуан. Их встреча – лишь вопрос времени. А теперь, прошу вас, одевайтесь – и в путь. Ваше согласие исполнить роль посредника и от нашего имени передать в руки Роуан все собранные материалы по Мэйфейрским ведьмам послужит достижению наиглавнейшей и наиважнейшей цели.
Майкл молчал, пытаясь переварить услышанное. Его встревоженный взгляд был устремлен на Лайтнера, но видел при этом бесчисленное множество картин и образов.
Он не мог четко определить, какие именно чувства испытывает к «тому человеку», но точно знал, что мужчина всегда казался необыкновенно красивым, представлялся воплощением элегантности… Кроме того, в облике незнакомца смутно ощущалась какая-то почти болезненная усталость и одновременно трогательная чувствительность. Казалось, в своем садовом убежище он обрел ту спокойную безмятежность, о которой издавна мечтал сам Майкл. И вот вчера странный человек пытался его напугать… Или нет?
Ах, если бы в то мгновение вдруг оказаться без перчаток и каким-то образом ухитриться пощупать видение!
В том, что Лайтнер говорит правду, Майкл не сомневался. И эта правда по сути своей была столь же отвратительной, зловещей и мрачной, как и тени, окружавшие старый дом. И вместе с тем в ней чувствовалось что-то знакомое. Майкл вспомнил о видении, но на этот раз не для того, чтобы воскресить его, а лишь затем, чтобы ненадолго погрузиться в связанные с ним ощущения. Как и прежде, его окружила атмосфера великодушия и доброты.
– Я должен вмешаться, – сказал Майкл. – И непременно вмешаюсь. Возможно, они хотели, чтобы я использовал силу своих рук. Роуан говорила…
– Что она говорила?
– Роуан спрашивала, почему я так уверен, что сила, появившаяся в моих руках, никак не связана с этим, почему я упорно считаю ее чем-то самостоятельным, существующим отдельно… – Майкл вновь пожалел, что не смог прикоснуться к «тому человеку». – Что ж, быть может, сила действительно часть целого, а быть может – некое проклятие, наложенное на меня, чтобы свести с ума и окончательно запутать…
– Вы так думаете? – спросил Лайтнер.
Майкл кивнул.
– Во всяком случае, эта сила долгое время удерживала меня от приезда сюда, заставив на целых два месяца запереться на Либерти-стрит. Я ведь мог еще раньше разыскать Роуан…
Майкл бросил взгляд на кожаные перчатки. До чего же он их ненавидел! Они превращали его руки в протезы.
Мысли путались, и Майклу никак не удавалось связать все аспекты воедино. Неотступно преследовавшее его ощущение, что все это ему хорошо знакомо, притупило даже шок от откровений Лайтнера.
– Ладно, – наконец выдохнул Майкл. – Я поеду с вами. Хочу прочитать это досье – все, до последней страницы. Но я должен вернуться как можно скорее. Нужно оставить для Роуан сообщение, на случай если она позвонит. Эта женщина значит для меня очень много. Гораздо больше, чем вы можете предположить. И это никоим образом не связано с видением. Все дело в самой Роуан и в том, как я… в том, насколько она дорога мне. Важнее ее ничего быть не может.
– Даже видение? – тактично спросил Лайтнер.
– Да. Чувство к Роуан предопределяет мои приоритеты и цели. Как правило, такое чувство человек испытывает не более двух-трех раз в жизни.
– Понимаю, – сказал Лайтнер. – Через двадцать минут жду вас внизу. Если не возражаете, прошу вас с этой минуты называть меня просто Эрон. Тем более что сам я уже давно обращаюсь к вам просто по имени. Нам предстоит долгий совместный путь, и мне хочется, чтобы мы стали друзьями.
– Мы и есть друзья, – ответил Майкл. – Кем же, черт побери, нам еще быть?
Он несколько натянуто рассмеялся, хотя, надо признаться, этот странный англичанин ему действительно нравился. А главное, Майклу совсем не хотелось выпускать из поля зрения ни Лайтнера, ни его портфель.
На то, чтобы принять душ, побриться и одеться, Майклу потребовалось менее пятнадцати минут. Его чемодан стоял практически нераспакованным – он вытащил оттуда лишь несколько самых необходимых вещей. Защелкнув замки на чемодане, Майкл направился к двери и только тогда заметил все еще мигающий на телефонном аппарате огонек. «Господи, ну почему я сразу не позвонил на коммутатор!» – разозлился на себя Майкл.
Он тут же связался с телефонисткой отеля.
– Да, мистер Карри. Около четверти шестого вам звонила некая доктор Роуан Мэйфейр. – Женщина продиктовала домашний номер Роуан. – Она настаивала, чтобы мы постучали в дверь и непременно разбудили вас.
– И вы стучали?
– Да, мистер Карри. Но вы не ответили.
«А мой друг Эрон в это время сидел и копался в своих бумажках», – сердито подумал Майкл.
– Мы не решились открыть дверь запасным ключом и войти в номер, – оправдывалась телефонистка.
– Да, конечно, понимаю. Если доктор Мэйфейр позвонит еще раз, передайте ей, пожалуйста, сообщение.
– Что именно следует сказать, мистер Карри?
– Что я благополучно долетел и что обязательно свяжусь с ней в течение суток. Сейчас мне необходимо ненадолго уехать, но я непременно вернусь.
Оставив на одеяле пятидолларовую бумажку для горничной, Майкл вышел из номера.
В небольшом нижнем холле отеля было людно. Из заполненного посетителями кафетерия доносились оживленные разговоры. Лайтнер, успевший сменить твидовый костюм на столь же безупречный полотняный, ждал возле входной двери. Ни дать, ни взять – южанин старого закала.
– Могли бы и ответить на телефонный звонок, – бросил ему Майкл.
Он не стал добавлять, что Лайтнер походил в тот момент на седовласых джентльменов времен его детства, неспешно прогуливавшихся по Садовому кварталу и широким проспектам в центре Нового Орлеана.
– Я не счел себя вправе так поступить, – вежливо ответил Лайтнер, распахивая перед Майклом дверь и жестом указывая на стоящий у тротуара автомобиль – длинный серый лимузин. – К тому же я опасался, что звонит доктор Мэйфейр.
– Угадали. Это была она.
На Майкла приятно пахнуло августовской жарой. Ему захотелось пройтись пешком, с удовольствием ощущая под ногами мостовую. Однако он помнил, что должен ехать, и безропотно забрался на заднее сиденье.
– Понимаю… – Лайтнер сел рядом. – Надеюсь, вы не стали перезванивать ей?
– Сделка есть сделка, – вздохнув, ответил Майкл. – Но мне это не нравится. Я хочу, чтобы вы поняли, как обстоят дела насчет меня и Роуан. Знаете, лет в двадцать мне казалось практически невозможным за один вечер влюбиться в женщину. По крайней мере, ничего такого со мной не случалось. Как, впрочем, и когда мне стукнуло тридцать. Теоретически это, возможно, могло произойти, но… Время от времени появлялись какие-то намеки… да… однако я каждый раз торопился сбежать. Теперь мне почти пятьдесят, и я либо стал глупее, чем был, либо, напротив, поумнел настолько, что мне достаточно суток, чтобы полюбить женщину. Я обрел способность трезво оценивать ситуацию и определять, когда наступает наилучший момент. Понимаете, о чем я говорю?
– Полагаю, что да.
Автомобиль был не из новых, но выглядел вполне сносно – чувствовалось, что за ним должным образом ухаживали. В машине имелся даже небольшой холодильник. В просторном, отделанном серой кожей салоне хватало места, чтобы Майкл мог удобно усесться и вытянуть свои длинные ноги. За тонированными стеклами быстро промелькнула Сент-Чарльз-авеню.
– Мистер Карри, – заговорил Лайтнер, едва они отъехали от отеля, – я уважаю ваши чувства к Роуан, хотя должен сознаться, что в одинаковой степени удивлен и заинтригован. Не поймите меня неправильно. Роуан – личность незаурядная и необычная во многих отношениях: непревзойденный врач, прелестная молодая женщина с весьма своеобразными манерами. Однако я прошу вас иметь в виду следующее обстоятельство… Наши издревле установленные законы таковы, что с материалами о Мэйфейрских ведьмах имеет право ознакомиться только член нашего ордена или кто-то из семейства Мэйфейр. Показывая вам эти бумаги, я нарушаю установления ордена. Причины моего решения вполне очевидны. Тем не менее я хочу использовать драгоценное время нашего небольшого путешествия, чтобы кое-что рассказать вам о Таламаске – о нашей деятельности, о методах работы и о том небольшом проявлении лояльности, которого мы в обмен на свое доверие ожидаем от вас.
– Идет. Только не надо так горячиться. В этом шикарном такси найдется кофе?
– Разумеется.
Из ниши в задней дверце Эрон извлек термос и кружку.
– Лучше черного, – сказал Майкл, глядя, как Лайтнер наливает кофе.
При виде остающихся позади величественных и горделивых зданий, украшенных разнообразными террасами, колоннадами и яркими ставнями, у Майкла перехватило дыхание. Вдаль уплывало и пастельного цвета небо над домами, проглядывавшее сквозь замысловатое переплетение слегка покачивающихся на ветру ветвей, покрытых густой листвой. Майклу вдруг пришла в голову идиотская мысль, что в один прекрасный день он купит себе такой же полотняный костюм, как у Лайтнера, и, подобно тем старым джентльменам из прошлого, отправится на прогулку по Новому Орлеану: будет часами кружить по улицам, то выходя к реке, то снова возвращаясь к благородным старым зданиям, стоящим здесь с незапамятных времен. Любуясь сквозь тонированные стекла лимузина прекрасным холмистым пейзажем, Майкл чувствовал себя опьяненным, едва ли не утратившим разум.
– Да, места красивые, – согласился Лайтнер. – Очень красивые.
– А теперь расскажите мне про ваш орден. Благодаря тамплиерам вы сейчас разъезжаете в лимузинах. Что еще?
Лайтнер с неодобрительной усмешкой покачал головой, однако снова покраснел, что удивило и позабавило Майкла.
– Это всего лишь шутка, Эрон, – сказал он. – Мне действительно интересно. Прежде всего, каким образом вы узнали о семействе Мэйфейр? И что, черт возьми, по-вашему, представляет собой ведьма? Не будете ли вы любезны рассказать мне об этом?
– Ведьма – это женщина, способная притягивать невидимые силы и манипулировать ими, – ответил Лайтнер. – Таково наше определение. Естественно, такое же определение мы даем колдуну или провидцу. Но наша организация была создана для наблюдения именно за ведьмами. Все началось в эпоху, которую теперь называют Средними веками, задолго до организованной «охоты на ведьм» – надеюсь, вам известно, о чем я говорю. Родоначальником Таламаски стал некий маг, алхимик, как он себя называл. Поселившись отшельником в уединенном месте, он стал собирать, изучать и записывать в громадную книгу все легенды о сверхъестественных явлениях, которые только мог прочитать или услышать.
Его имя и история жизни не имеют большого значения. Для нас с вами сейчас важнее другое. Его исследования отличались на удивление светским подходом, совершенно необычным для тех времен. Возможно, он был единственным историком, который писал об оккультизме, о таинственном и невидимом, не делая при этом предположений и заключений о демоническом происхождении привидений, духов и им подобных существ. От маленькой когорты своих последователей он требовал такой же непредвзятости и широты взглядов. «Следует просто внимательно наблюдать за деяниями так называемых чародеев, – учил он. – И не считать, будто вам известно, откуда исходит их сила».
Принципы нашей работы во многом остались теми же, – продолжал Эрон. – Мы становимся догматичными только в тех случаях, когда приходится доказывать отсутствие у ордена каких бы то ни было догм. И хотя Таламаска – организация уже достаточно многочисленная и действует в обстановке строжайшей секретности, мы постоянно ищем новых членов: людей, способных с уважением отнестись к важнейшему для нас принципу невмешательства в события и неспешным доскональным методам исследования, людей, в той же степени, что и мы, увлеченных изучением оккультных явлений и, в свою очередь, одаренных необычными способностями, такими, например, как сила ваших рук…
Должен признаться, что до недавнего времени я ничего не знал о существовании каких-либо отношений между вами и Роуан Мэйфейр, равно как и о том, что ваша жизнь столь тесно связана с домом на Первой улице. Когда я прочел статьи о вас в газетах, первое, что пришло мне в голову, это предложить вам стать членом Таламаски. Разумеется, я не планировал сообщать вам об этом при первой же встрече. Но сейчас, согласитесь, обстоятельства изменились.
Я не мог заранее предположить, как станут развиваться события и каков будет ваш ответ, однако отправился в Сан-Франциско, чтобы поделиться с вами накопленными знаниями и, если вы того пожелаете, научить вас пользоваться вновь обретенными способностями. Лишь в том случае, если бы вы проявили интерес к нашей деятельности и сочли такой образ жизни приемлемым для себя хотя бы на время… я готов был расширить информацию и подробно обсудить детали.
Видите ли, Майкл, меня заинтриговали некоторые подробности вашей жизни. Опираясь на материалы публикаций и данные некоторых довольно простых исследований, которые мы провели сами, я пришел к выводу, что в то время, когда произошел прискорбный инцидент, вы находились на перепутье: вы как будто достигли своих целей, но все равно ощущали неудовлетворенность…
– В этом вы совершенно правы, – заметил Майкл, пристально глядя на Лайтнера и совершенно забыв о мелькавшем за окнами машины пейзаже. Он протянул кружку, чтобы Эрон налил еще кофе. – Пожалуйста, продолжайте.
– Помимо всего прочего меня привлекло ваше знание истории и отсутствие тесных семейных связей, за исключением вашей дорогой тетушки. Должен признаться, что после краткого знакомства я был просто очарован ею. И разумеется, огромный интерес вызывает сила, которой обладают ваши руки. Она значительно мощнее, чем я предполагал.
Однако вернусь к рассказу об ордене. Как вы можете догадаться, мы наблюдаем оккультные явления по всему миру. Сбор данных о семействах ведьм составляет лишь малую толику всей работы. Тем не менее это один из немногих аспектов, действительно сопряженных с серьезной опасностью. Наблюдение за призраками, даже случаи одержимости, а также проведение исследований, касающихся реинкарнации, чтение мыслей и некоторые другие виды деятельности не представляют практически никакой угрозы для сотрудников. Но с ведьмами дело обстоит совершенно иначе… И потому к работе в данной области мы привлекаем только наиболее опытных членов, даже когда речь идет всего лишь о чтении документов в попытке вникнуть в их смысл и разобраться в обстоятельствах, при которых произошло то или иное событие. Исследователи, недавно принятые в орден, и уж тем более совсем новички практически никогда не допускаются к работе с такими семействами, как Мэйфейры, ибо риск слишком велик.
Все это станет вам предельно ясно после знакомства с досье. А пока я ожидаю от вас лишь понимания и достаточно серьезного отношения к тому, что мы предлагаем и делаем. Иными словами, если нашим путям суждено разойтись, будь то по обоюдному согласию или нет, прошу сохранять в тайне все, что вы узнаете о семействе Мэйфейр, и впредь не вторгаться в личную жизнь его членов.
– Ну, в этом на меня вполне можно положиться. По-моему вам уже известно, что я за человек, – сказал Майкл. – Однако о какой опасности вы говорите? Речь снова идет о том духе, «том человеке», и… и о Роуан?…
– Не будем опережать события. Что еще вы хотите узнать о нашей организации?
– Членство в ней. Как все происходит на самом деле?
– Как и в религиозном ордене, у нас каждый вновь принятый сначала проходит стажировку – своего рода послушничество. Однако позвольте подчеркнуть, что в этот период он не постигает азы какого-либо учения, как того требуют установления религиозного ордена, – он приобретает, так сказать, подход к жизни. Стажировка длится год, и в течение всего этого времени новичок живет в Обители: знакомится со старшими членами ордена, помогает им в исследованиях, работает в библиотеках, где имеет возможность просмотреть или внимательно прочесть любые документы, какие только пожелает.
– Сейчас это было бы просто райским занятием, – мечтательно проговорил Майкл. – Простите, я не хотел вас прерывать. Прошу вас, продолжайте.
– После двух лет всесторонней подготовки новый член ордена получает первое серьезное задание. Но предварительно мы проводим с ним собеседование, чтобы решить, будет это так называемая полевая работа или научные исследования. Разумеется, человек может самостоятельно определить направление своей деятельности, и опять-таки в отличие от религиозного ордена мы предоставляем ему право выбора и не требуем в ответ обета послушания. Лояльность и умение хранить тайну – вот наиболее важные для нас качества. Как видите, в конечном счете все связано с пониманием, с ощущением того, что ты принят и признан определенного вида сообществом.
– Я понимаю, – сказал Майкл. – Расскажите мне об Обителях. Где они находятся?
– Самая старая – в Амстердаме, – ответил Эрон. – Еще одна расположена неподалеку от Лондона, и третья, наиболее крупная и, возможно, наиболее законспирированная, – в Риме. Католической церкви мы, конечно же, не по нраву. Она не понимает сути наших задач и нашей работы и ставит нас на одну доску с дьяволом, так же как ведьм, колдунов, да и тамплиеров в прошлом. Однако у нас нет ничего общего с дьяволом. Если дьявол существует, он нам не друг…
Майкл засмеялся.
– А вы полагаете, что дьявол существует?
– Честно говоря, не знаю. Но именно такое утверждение вы услышите от любого достойного члена Таламаски.
– Пожалуйста, расскажите об Обителях поподробнее…
– Думаю, вам особенно понравилась бы та, что в Лондоне…
Майкл едва ли обратил внимание, что Новый Орлеан давно остался позади и теперь машина мчалась по пустынной ленте нового шоссе, проходящего среди болот, а небо сузилось до голубой полоски над головой. Как зачарованный, он жадно ловил каждое слово Эрона Лайтнера. Но внутри нарастало какое-то мрачное, тревожное ощущение, которое он старался не замечать. История Таламаски почему-то казалась Майклу знакомой. Такой же знакомой, как приведшее его в ужас предположение насчет Роуан и «того человека». Такой же знакомой, как и дом на Первой улице. Каким бы мучительно волнующим ни было это ощущение, оно привело Майкла в полнейшее уныние, ибо великий замысел, частью которого он, по собственному убеждению, являлся, несмотря на всю неясность и неопределенность, вдруг стал шириться, разрастаться; и чем значительнее он становился, тем в большей степени терял свою значимость окружающий мир, постепенно утрачивая присущие ему прелесть, величие и в определенной мере романтическую привлекательность, сводя на нет прежние обещания великого множества земных чудес и нескончаемых перемен в судьбе.
Должно быть догадавшись, какие чувства испытывает в этот момент Майкл, Эрон на мгновение смолк, а затем ласково, однако почти отрешенно произнес:
– Майкл, вы просто слушайте. И ничего не бойтесь…
– Скажите мне одну вещь, Эрон.
– Разумеется… если смогу…
– Можно ли прикоснуться к духу? Я имею в виду того человека. Можно ли потрогать его рукой?
– Бывали моменты, когда такая возможность казалась мне вполне реальной… Во всяком случае, существует вероятность коснуться… чего-то… Другой вопрос – и в этом вы вскоре убедитесь, – позволит ли такое существо дотронуться до себя.
Майкл кивнул.
– Значит, все действительно взаимосвязано. Руки, видения… и даже вы… и ваша организация. Все тесно связано между собой.
– Не спешите с выводами. Сначала прочтите досье. На каждом шагу этой игры следует… ждать и наблюдать.
10
Когда в десять утра Роуан проснулась, ее охватили сомнения в реальности ночного происшествия. В потоках солнечного света, согревшего дом, появление здесь призрака казалось абсолютно невероятным. Роуан попробовала воскресить в памяти обстановку прошедшей ночи: завывание ветра, неистовый плеск волн… Безрезультатно. Это оказалось совершенно невозможным.
Роуан обрадовалась, что не дозвонилась до Майкла. Ей не хотелось выглядеть глупо, а главное – она не считала себя вправе вновь сваливать на него груз своих забот. Но, с другой стороны, не могла же она все это выдумать! Неужели ей просто померещился человек, стоявший у окна, прижав к стеклу ладонь, и смотревший на нее таким умоляющим взглядом?
Во всяком случае, сейчас ничто не говорило о присутствии этого существа в доме. Роуан вышла на террасу, тщательно обследовала ее по всей длине, внимательно осмотрела сваи и воду под ними. Никаких признаков чего-либо необычного. Да и какие могут быть признаки? Роуан постояла у перил, радуясь свежему ветру и синему небу над головой. От эспланады на противоположной стороне залива медленно и грациозно отходили несколько яхт. Вскоре вся акватория запестрит парусами. Роуан вдруг тоже захотелось прогуляться по морю на «Красотке Кристине», но она быстро подавила в себе это желание, решив, что сейчас не время.
Она вернулась в дом.
Звонков от Майкла пока не было. Что ж, у нее есть только два варианта: либо все-таки вывести «Красотку Кристину» в море, либо отправиться на работу.
Роуан предпочла работу.
Телефон зазвонил, когда она, уже одетая, стояла у двери, готовясь уйти.
– Майкл?… – прошептала Роуан.
Однако в следующий момент она сообразила, что звонит кто-то из знавших Элли, причем из другого города.
– Пожалуйста, позовите к телефону мисс Элли Мэйфейр. Абонент желает говорить лично с ней, – услышала она голос телефонистки.
– Мне жаль, но это невозможно, – ответила Роуан. – Она здесь больше не живет.
Как вообще следует говорить о таких вещах? Роуан всегда было неприятно сообщать людям о смерти Элли.
Она слышала, как телефонистка о чем-то переговаривалась с абонентом на другом конце провода.
– Не скажете ли, где ее можно найти?
– Простите, кто звонит? – в свою очередь спросила Роуан, ставя сумочку на кухонный стол. Утреннее солнце уже успело изрядно прогреть дом, и ей было жарко в куртке. – Если абонент желает говорить со мной, прошу перевести оплату на мой счет, – добавила она.
Снова голоса на другом конце провода, затем резкий голос пожилой женщины решительно произнес:
– Я буду разговаривать с тем, кто ответил на звонок.
Телефонистка отключилась.
– Роуан Мэйфейр у телефона. Чем могу служить?
– Тем, что скажете, где и когда я могу застать Элли.
В тоне женщины ощущались нетерпение – возможно, даже злость – и явная холодность.
– Вы ее приятельница? – спросила Роуан.
– Если с ней нельзя связаться немедленно, я хочу поговорить с ее мужем, Грэмом Франклином. Вы, наверное, знаете номер телефона его офиса?
Какая неприятная особа, подумала Роуан. Однако в ней все сильнее крепло подозрение, что звонит кто-то из родственниц Элли.
– К сожалению, с Грэмом тоже невозможно связаться. Если вы соблаговолите представиться, я сообщу вам причину.
– Благодарю, но я не считаю нужным это делать, – отчеканила старуха. – Мне необходимо безотлагательно поговорить с Элли Мэйфейр или Грэмом Франклином.
«Не заводись, – успокаивала себя Роуан. – Судя по всему, эта женщина далеко не молода, и если она родственница Элли, не стоит упускать возможность побеседовать с ней».
– Мне неприятно сообщать вам об этом, – произнесла она вслух, – но Элли Мэйфейр умерла в прошлом году. От рака. Грэм скончался двумя месяцами раньше. Я Роуан, их дочь. Могу ли я чем-нибудь вам помочь? Может быть, вы хотите получить дополнительную информацию?
Молчание.
– Это твоя тетя – Карлотта Мэйфейр, – послышался наконец в трубке голос. – Я звоню из Нового Орлеана. Ради всего святого, почему меня не уведомили о смерти Элли?
Роуан буквально вспыхнула от гнева.
– Я не знаю, кто вы, мисс Мэйфейр, – сказала она, заставляя себя говорить медленно и спокойно. – У меня нет ни адреса, ни телефона кого-либо из новоорлеанских родственников Элли. Она не оставила о них какой-либо информации. Однако согласно распоряжению, данному Элли адвокату, о ее смерти не сообщили никому, кроме самых близких друзей здесь, в Сан-Франциско.
Роуан вдруг почувствовала, что вся дрожит, а рука, держащая трубку, мокра от пота. Ей было трудно поверить, что она может быть столь невежливой, даже грубой, но сожалеть об этом слишком поздно. К тому же она сильно нервничала, опасаясь, что незнакомая родственница прервет разговор.
– Вы слушаете, мисс Мэйфейр? – спросила она. – Простите меня. Просто ваш звонок явился для меня полной неожиданностью.
– Да, – согласилась старуха. – Возможно, мы обе застигнуты врасплох. Похоже, мне придется поговорить с тобой – иного выбора нет.
– Я вас внимательно слушаю.
– Считаю своей тяжкой обязанностью сообщить, что сегодня утром умерла твоя мать. Полагаю, ты понимаешь, о ком я говорю? Твоя настоящая мать. Я намеревалась сказать об этом Элли и предоставить ей самой решить, как и когда она поставит тебя об этом в известность. Мне жаль, что приходится делать это напрямую… Твоя мать умерла сегодня утром, в пять минут шестого.
Роуан совершенно онемела, не в силах что-либо ответить. Ее словно ударили. Нет, это нельзя было назвать внезапно нахлынувшим горем – слишком острым и ужасающим было ощущение. Ее настоящая мать как будто вдруг возникла из небытия, но… всего лишь на несколько секунд. Она оставалась живой ровно столько времени, сколько понадобилось мисс Мэйфейр, чтобы коротко и скупо сообщить о ее смерти. Вместе с последним произнесенным теткой звуком мать умерла – перестала существовать.
Не было желания что-либо говорить – Роуан погрузилась в столь свойственное ей и привычное молчание. Перед глазами возникла мертвая Элли, утопающая в цветах в зале прощания. Но сейчас Роуан не ощущала причастности к происходящему, не чувствовала той сладостной грусти, которая охватила ее тогда. Это ее ужаснуло. Подписанное Роуан обещание пролежало в сейфе более года.
«Ах, Элли, Элли, ведь она была еще жива, и я могла бы познакомиться с нею… А теперь она умерла…»
– Не вижу абсолютно никакой необходимости в твоем приезде сюда, – вновь прозвучал в трубке голос мисс Мэйфейр, причем тон его не изменился ни на йоту. – Что действительно необходимо, так это чтобы ты немедленно связалась со своим адвокатом и свела бы меня с этим человеком, поскольку существуют неотложные вопросы относительно твоей собственности, которые нуждаются в обсуждении.
– Но я хочу приехать, – не раздумывая, объявила Роуан, и в голосе ее прозвучали упрямые нотки. – Я хочу приехать прямо сейчас. Мне нужно увидеть свою мать, прежде чем ее предадут земле.
Плевать ей на подписанное обещание и возражения этой старухи!
– Это едва ли приемлемо, – равнодушно возразила мисс Карлотта.
– Но я настаиваю, – запротестовала Роуан. – Я не намерена доставлять вам неприятности и тем не менее хочу увидеть свою мать, прежде чем ее похоронят. Нет нужды сообщать кому бы то ни было, кем я ей прихожусь. Я просто хочу приехать.
– От этой поездки не будет никакой пользы. Элли наверняка воспротивилась бы твоему решению. Она уверяла меня, что…
– Элли мертва! – прошептала Роуан. Голос ее почти сел от волнения и отчаянных попыток сдержать эмоции. Она вся дрожала. – Мне необходимо увидеть мать. Это очень важно. Как я уже сказала, ни Элли, ни Грэма нет в живых. Я…
Роуан оборвала себя на полуслове. У нее не повернулся язык признаться в своем одиночестве совершенно незнакомому человеку – нет, это слишком личное. К тому же Роуан вообще не любила жаловаться на судьбу.
– Я вынуждена настаивать, чтобы ты оставалась в Сан-Франциско, – все тем же усталым, безжизненно-равнодушным тоном откликнулась мисс Мэйфейр.
– Почему? – удивилась Роуан. – Кому помешает мой приезд? Повторяю, остальным незачем знать, кто я такая.
– Ни бдения у гроба, ни поминок перед погребением, ни пышных похорон не будет. Поэтому не имеет значения, узнает или не узнает кто-либо о твоем появлении. Твою мать похоронят, как только будут завершены все необходимые приготовления. Я просила, чтобы процедура состоялась завтра днем, и своими советами пыталась оградить тебя от горестного зрелища. Но если ты не желаешь к ним прислушаться, что ж, поступай как знаешь.
– Я приеду, – сказала Роуан. – В котором часу состоятся похороны?
– Организацией процедуры погребения твоей матери занимается похоронное заведение «Лониган и сыновья» на Мэгазин-стрит. Панихида состоится в церкви Успения Богоматери на Джозефин-стрит. Все это произойдет, как только я покончу с формальностями… Еще раз повторяю: бессмысленно лететь за две тысячи миль.
– Я хочу увидеть свою мать. И прошу вас подождать с похоронами, пока я не прилечу.
– Любое промедление абсолютно исключено, – ответила старуха с легким оттенком гнева – а может, это было беспокойство? – Уж если ты вознамерилась приехать, советую тебе, не теряя ни минуты, отправляться в путь. Только не рассчитывай на ночлег под этой крышей. У меня нет ни средств, ни возможности принять тебя. Разумеется, дом теперь принадлежит тебе, и, если таково будет твое желание, я освобожу его от своего присутствия в самое ближайшее время. Но прошу, чтобы ты пока остановилась в отеле и дала мне возможность без излишней спешки это сделать. Еще раз повторяю: я не имею возможности принять тебя надлежащим образом.
Карлотта Мэйфейр продиктовала адрес.
– Первая улица? – переспросила Роуан. Но ведь именно о ней говорил Майкл! Ошибки быть не могло. – Этот дом принадлежал моей матери?
– Я не спала всю ночь, – медленно, без проблеска эмоций произнесла мисс Мэйфейр. – Если ты все-таки настаиваешь на своем решении, все остальное узнаешь, когда приедешь.
Роуан собиралась задать Карлотте Мэйфейр еще несколько вопросов, но, к ее удивлению, та повесила трубку.
Ярость и отчаяние, охватившие Роуан, на какое-то время заслонили душевную боль. Однако потом не осталось ничего, кроме боли.
– Кто ты такая, черт тебя дери? – шептала Роуан, чувствуя, как к глазам подступают, но не проливаются слезы. – Почему ты позволила себе говорить со мной таким тоном? – Роуан швырнула трубку и, прикусив губу, обхватила себя руками за плечи. – Боже, какая гнусная, отвратительная особа, – прошептала она.
Однако не время плакать и мечтать, чтобы Майкл оказался рядом. Роуан поспешно достала носовой платок, вытерла глаза и высморкалась. Затем взяла с кухонного стола блокнот и ручку и записала все сведения, данные ей Карлоттой Мэйфейр.
Первая улица, думала Роуан, глядя на свою запись. Возможно, не более чем совпадение. А название похоронной конторы – «Лониган и сыновья»? Она слышала его от Элли, когда та бредила в беспамятстве, вспоминая детство и родной дом. Роуан позвонила в справочное бюро Нового Орлеана, узнала номер похоронной конторы и тут же набрала его.
Ей ответил какой-то мистер Джерри Лониган.
– Я – доктор Роуан Мэйфейр. Я звоню из Калифорнии относительно похорон.
– Слушаю вас, доктор Мэйфейр, – ответил участливый голос, сразу напомнивший ей Майкла. – Я знаю, кто вы. Тело вашей матери находится у нас.
Слава Богу, ей не пришлось хитрить – никаких уверток, никаких ложных объяснений. Однако Роуан не мог не удивить тот факт, что этот человек знает о ней. Разве ее удочерение не было строгой тайной?
– Мистер Лониган, – Роуан старалась говорить как можно более отчетливо, преодолевая хрипоту в голосе, – для меня очень важно присутствовать на похоронах. Я непременно должна увидеть мать, прежде чем ее предадут земле.
– Я понимаю, доктор Мэйфейр, это действительно важно. Однако мне только что звонила мисс Карлотта и заявила, что если мы не похороним вашу мать завтра… В общем… ну… Скажем так: она очень настаивала на этом, доктор Мэйфейр.
Я могу отложить панихиду до трех часов дня. Как вы думаете, этого времени вам будет достаточно? Я со своей стороны постараюсь сделать все возможное…
– Да, я определенно успею, – сказала Роуан. – Вылечу сегодня вечером, самое позднее – завтра утром. Но, мистер Лониган, если я задержусь…
– Доктор Мэйфейр, если я буду знать, что вы уже в пути, то не закрою гроб до вашего прибытия.
– Благодарю вас, мистер Лониган. Я ведь только что узнала об этом. Только что…
– Понимаю, доктор Мэйфейр, но, позвольте заметить, это и произошло совсем недавно. Я приехал за телом вашей матери сегодня в шесть утра. На мой взгляд, мисс Карлотта чересчур торопит события. Но мисс Карлотта очень стара, доктор Мэйфейр. Слишком стара…
– Запишите телефон клиники, где я работаю. И в случае необходимости, пожалуйста, позвоните.
Лониган записал номер.
– Не беспокойтесь, доктор Мэйфейр. До вашего приезда тело вашей матери будет оставаться в зале прощания нашей конторы.
К глазам Роуан опять подступили слезы. В голосе этого человека было столько простодушия и абсолютной искренности.
– Мистер Лониган, можете ответить мне еще на один вопрос? – спросила она дрожащим голосом.
– Конечно, доктор Мэйфейр.
– Сколько лет было моей матери?
– Сорок восемь.
– А как ее звали?
Лониган явно опешил, но быстро взял себя в руки.
– Ее звали Дейрдре. И она была очень красивой. Моя жена была ее близкой подругой. Она любила и часто навещала Дейрдре. А сейчас она здесь, рядом со мной, и очень рада, что вы позвонили.
Эти слова Джерри Лонигана почему-то до глубины души тронули Роуан, столь же сильно, как и все другие крохи сведений о ее родственниках. Она плотно прижала платок к глазам и с трудом проглотила застрявший в горле комок.
– Мистер Лониган, вы можете сказать, от чего умерла моя мать? Какая причина указана в свидетельстве о смерти?
– Там написано, что смерть повлекли за собой естественные причины. От себя добавлю, что ваша мать, доктор Мэйфейр, в течение долгих лет была тяжело больна. Я могу назвать вам фамилию доктора, который ее лечил. Он, наверное, сообщит вам более подробные сведения, тем более что вы ведь тоже врач.
– Непременно возьму у вас его данные при первой же встрече, – заверила Роуан, чувствуя, что больше не в силах говорить об этом. Она бесшумно высморкалась и переменила тему: – Мистер Лониган, я знаю название одного отеля в вашем городе. «Поншатрен» – так, кажется. От него далеко до вашей конторы и церкви?
– Если бы не жара, доктор Мэйфейр, вполне можно дойти пешком.
– Я позвоню вам сразу же, как приеду. Но еще раз прошу: обещайте, что вы не похороните мою мать без…
– Пожалуйста, не тревожьтесь больше по этому поводу. Однако… Есть еще одна проблема, доктор Мэйфейр. Моя жена настаивает, чтобы я обсудил ее с вами.
– Слушаю, мистер Лониган.
– Ваша тетя, Карлотта Мэйфейр, не желает давать объявление о похоронах в утренней газете. Честно говоря, я не уверен, что у нас есть на это время. Но ваше семейство весьма многочисленно, и родственники, конечно же, должны быть уведомлены о дате похорон. Когда они узнают, что все произошло так поспешно, то не на шутку рассердятся. Как вы понимаете, решение этого вопроса целиком зависит от вас. Я в точности выполню ваши распоряжения. Но моя жена интересуется, не будете ли вы возражать, если она позвонит кое-кому из ваших родственников. Естественно, ей будет достаточно сообщить кому-то одному или двум, а они передадут всем остальным. Однако если вы против, доктор Мэйфейр, она не станет это делать. Сама Рита Мей – так зовут мою жену – считает неприличным хоронить Дейрдре таким образом, никому ничего не сообщив. Возможно, и вам будет приятно повидать своих родственников. В прошлом году на похоронах мисс Нэнси присутствовали многие из них. И мисс Элли приезжала, ваша мисс Элли, из Калифорнии. Уверен, вы об этом знаете…
Нет, Роуан даже понятия об этом не имела. Упоминание об Элли отозвалось еще одним ударом. Как больно представить себе Элли стоящей среди бесчисленных и безымянных родственников, которых сама Роуан никогда не видела. Сила, с какой бушевали сейчас в ее груди гнев и горечь, удивила ее саму. Элли и родственники… А она, Роуан, совершенно одна в этом доме… Она вновь попыталась успокоиться и собраться с мыслями. Наверное, со дня смерти Элли ей сейчас приходится переживать один из наиболее трудных моментов.
– Да, мистер Лониган, я буду благодарна вашей жене, если она сделает то, что считает наилучшим в данных обстоятельствах. Мне хотелось бы увидеться с родственниками…
Не в силах продолжать, Роуан несколько мгновений молчала, но потом все же нашла в себе силы и заговорила вновь:
– Должна вам сообщить, мистер Лониган, что моей приемной матери Элли Мэйфейр больше нет в живых. Она умерла в прошлом году. Если вы считаете необходимым поставить об этом в известность членов семьи…
– Я с готовностью сделаю это, доктор Мэйфейр. И прежде всего, чтобы избавить вас от тяжкой необходимости лично сообщать столь печальную новость. Признаюсь, меня самого она весьма огорчила. Мы даже не представляли…
В его голосе было столько сердечности. Роуан почти не сомневалась в том, что ему действительно тяжело узнать о смерти Элли. Какой милый старомодный человек.
– До свидания, мистер Лониган. Увидимся завтра.
Роуан повесила трубку. На мгновение ей показалось, что, стоит только дать волю слезам, их будет не остановить. От захлестнувших ее чувств кружилась голова. Душевная боль требовала каких-нибудь отчаянных, безрассудных действий, и в воображении Роуан замелькали самые невероятные и причудливые картины.
Задыхаясь от слез, она видела, как несется в комнату Элли. Она видела, как распахивает дверцы шкафов, рывком выдвигает ящики комода, срывает с вешалок наряды Элли, бросает на пол и рвет в клочья все, что попадается под руку, давая выход неуправляемой ярости. Роуан видела, как она крушит зеркало Элли и длинный ряд флаконов, духи в которых давным-давно высохли, оставив лишь радужные разводы на донышках.
– Мертва, мертва, мертва… – шептала Роуан. – Еще вчера она была жива, и позавчера, и во все другие дни, а я торчала здесь и ничего не делала! Мертва! Мертва! Мертва!
Затем перед ее глазами всплыла другая, не менее кошмарная, картина, словно начался новый акт яростной трагедии. Роуан видела, как она изо всех сил молотит кулаками по стенам и окнам дома, как бьет стекло и ломает дерево, до тех пор пока израненные руки не начинают кровоточить. Те самые руки, которые сделали столько операций, исцелили несметное число больных и спасли великое множество жизней…
Однако никаких безумств Роуан не совершила.
Она тяжело опустилась на табурет в углу кухни, сгорбилась и, закрыв лицо руками, зарыдала во весь голос – одна в пустом доме. Но даже рыдания не смогли остановить бесконечную вереницу проносящихся в голове образов. Роуан плакала до тех пор, пока совершенно не обессилела. Сквозь приступы спазматического кашля она могла лишь без конца шепотом повторять:
– Дейрдре Мэйфейр, сорока восьми лет, мертва, мертва, мертва…
Потом тыльной стороной ладони она смахнула с лица слезы и легла на ковер перед камином. Голова нестерпимо болела. Окружающий мир казался пустым и враждебным, лишенным даже искорки света и надежды на чье-то участие и тепло.
Это пройдет. Должно пройти. Ей уже довелось испытать подобное ощущение беспросветности в тот день, когда хоронили Элли. И еще раньше, когда, стоя в больничном коридоре, она прислушивалась к доносившимся из палаты мучительным стонам и крикам Элли. Только вот сейчас Роуан не считала возможными какие-либо улучшения в своей жизни. Вспомнив о бумаге в сейфе, которая после смерти Элли удерживала ее от поездки в Новый Орлеан, Роуан возненавидела себя за то, что столь непреклонно уважала волю приемной матери. Она возненавидела и Элли, заставившую ее подписать этот документ.
Ужасные, горькие мысли, наполнявшие разум, лишали ее силы духа и веры в себя.
Согреваемая жаркими лучами солнца, Роуан пролежала на ковре, должно быть, около часа. Она стыдилась своего одиночества. Стыдилась того, что позволила себе так страдать и стать жертвой душевных мучений. До смерти Элли она была такой счастливой, такой беззаботной, преданной исключительно своей работе и покидала этот дом, чтобы вернуться в полной уверенности, что ее встретят с теплом и заботой, а в ответ дарила свою любовь и привязанность.
Потом Роуан вспомнила о Майкле и вдруг поняла, как сильно привязалась к нему, как отчаянно нуждается в его присутствии. Столь явная зависимость от этого человека окончательно повергла ее в уныние.
Совсем непростительно, что ночью она столь настойчиво пыталась дозвониться до него и рассказать о призраке. Непростительна и ее теперешняя беспредельная тоска по Майклу. Роуан начала постепенно успокаиваться. И тут же ей пришло в голову странное совпадение: прошлой ночью появился призрак и тогда же умерла ее мать.
Роуан села, скрестив ноги, и попыталась вспомнить все подробности ночного происшествия… Буквально перед самым появлением таинственного призрака она взглянула на часы.
Было пять минут четвертого. Но ведь эта жуткая особа сказала, что мать умерла в пять минут шестого…
Точно, минута в минуту, учитывая два часа разницы во времени с Новым Орлеаном. Что за дьявольское совпадение? Невероятное предположение о возможной связи между двумя ночными событиями поставило Роуан в тупик.
Конечно, если бы ей явилась мать, это было бы восхитительно, неправдоподобно прекрасно. Такая встреча могла стать незабываемой, едва ли не священной, одним из тех сакраментальных моментов, о которых помнят до конца своих дней и в описании которых вполне уместно использовать столь хорошо всем известные звучные словесные штампы: «поворотный момент в жизни», «чудо», «прекрасное видение»… Откровенно говоря, невозможно найти слова, способные выразить прелесть и очарование подобного события. Но ей явилась не женщина, а мужчина – совершенно незнакомый, весьма странный и изысканно элегантный.
Воспоминание о таинственном посетителе, воспоминание об умоляющем выражении его лица вновь всколыхнуло в Роуан все тревоги минувшей ночи. Она повернулась и беспокойно взглянула на стеклянную стену. Ничего необычного, кроме бездонного голубого неба над дальними холмами и искрящейся водной глади залива.
Размышляя над этой загадкой, перебирая в уме все известные ей мифы и легенды, связанные с призраками, Роуан неожиданно для себя совершенно успокоилась и вновь обрела способность к холодной рассудительности. Но ненадолго.
Кем бы ни было это туманное, бестелесное существо, в сравнении со смертью матери его появление представлялось Роуан чем-то малозначительным. Сейчас она должна думать об отъезде, а не валяться на ковре и понапрасну тратить драгоценное время.
Роуан вскочила на ноги, торопливо направилась к телефону и набрала домашний номер доктора Ларкина.
– Ларк, я должна уехать, – объяснила она. – Срочно. Дело не терпит отлагательства. Как насчет того, чтобы Слэттери меня заменил?
Голос ее звучал спокойно и ровно, совсем как у прежней Роуан. Но хладнокровие было обманчивым Разговаривая с Ларком, она вновь бросила взгляд на пустое пространство террасы, где ночью стоял высокий, стройный, элегантный незнакомец, и вновь увидела его темные глаза, неотрывно смотрящие прямо на нее. Она с трудом улавливала смысл того, что говорил в тот момент Ларк.
«Нет, это чертово существо вовсе не плод моей фантазии!» – подумала она.
11
Поездка до резиденции Таламаски – убежища, как называл ее Лайтнер, – заняла менее полутора часов. Только когда до усадьбы оставалось несколько миль, лимузин свернул с монотонной ленты федерального шоссе на прибрежную дорогу.
Целиком поглощенный беседой с Эроном, Майкл практически не обращал внимания на окрестный пейзаж.
К тому времени, когда они прибыли на место, Майкл обрел вполне ясное представление о том, что представляет собой Таламаска, и твердо пообещал Лайтнеру сохранить в тайне все, что станет ему известно после прочтения досье. У него сложилось весьма благоприятное впечатление об ордене; ему нравились благородные и учтивые манеры Лайтнера, сдержанность в изложении событий, присущая Эрону культура речи. Не единожды во время разговора Майкл ловил себя на мысли, что с радостью вступил бы в ряды членов Таламаски, не будь он столь намертво привязан к своей цели.
Но конечно, думать так просто глупо, ибо именно после падения в воду он обрел ощущение своего предназначения и экстрасенсорные способности, которые, собственно, заинтересовали и привели к нему Таламаску.
Еще Майкл чувствовал, что его любовь к Роуан – а в том, что это любовь, у него не осталось ни малейших сомнений – неизмеримо усилилась и существовала совершенно отдельно и независимо от его видения, хотя Роуан, несомненно, являлась неотъемлемой частью этого видения.
Уже почти возле самых ворот усадьбы Майкл попытался объяснить это Эрону:
– Все, о чем вы рассказывали, звучит на удивление знакомо. У меня возникает смутное ощущение узнавания, точно такое же, какое я испытал прошлым вечером, когда увидел дом. Разумеется, вы понимаете, что еще недавно я ничего о Таламаске не знал, а следовательно, ни о каком «знакомстве» не может быть и речи. Невозможно предположить, что где-то когда-то я что-то слышал о вас, но впоследствии забыл. Остается допустить лишь одно: они рассказали мне об этом там, за порогом смерти. Но сейчас я хочу подчеркнуть вот что: чувство к Роуан не ощущается мною как нечто знакомое. Оно не было предопределено заранее. Это чувство возникло неожиданно, вопреки предначертанию, и в моем сознании каким-то образом связано с протестом. Там, в Тайбуроне, когда мы завтракали в ее доме, я бросил взгляд в окно, на раскинувшийся за ним водный простор, и демонстративно, вызывающе заявил этим существам, что происходящее между мной и Роуан весьма важно и существенно для меня.
Эрон с неизменным вниманием выслушал его слова.
За время, проведенное в тесном общении, они успели лучше узнать друг друга, и установившиеся между ними непринужденные отношения, как казалось Майклу, воспринимались обоими как вполне естественные.
С момента отъезда из Нового Орлеана Майкл пил только кофе и намеревался продолжать в том же духе, по крайней мере до тех пор, пока не прочтет все документы, обещанные Эроном.
Признаться, он устал от лимузина, от комфортабельной поездки по болотистой местности, от однообразного пейзажа за окнами машины. Ему хотелось глотнуть свежего воздуха.
Как только они свернули с прибрежной дороги налево, оставив позади насыпь дамбы, и въехали в ворота усадьбы, Майкл узнал это место – он помнил его по книгам. За многие десятки лет эта дорога, окаймленная дубами, была запечатлена на бесчисленном множестве фотографий. Ее готическое совершенство казалось поистине сказочным: гигантские дубы с мощными, покрытыми черной корой стволами простирали тяжелые изогнутые ветви, образуя грубо изломанные арки, которые в свою очередь сливались в сплошной естественный потолок, тянущийся до самых террас дома.
С ветвей свисала длинная серая бахрома испанского бородатого мха. По обеим сторонам узкой, покрытой гравием дороги с глубокими бороздами от колес из земли выпирали причудливо искривленные корни.
Майкл пришел в восторг от увиденного. Как и красота Садового квартала, безмолвная картина трогала его до глубины души, а внутри нарастала спокойная уверенность: что бы ни случилось с ним в дальнейшем, он вернулся в родные края, на юг, и теперь все тем или иным образом встанет на свои места.
Машина катилась все дальше по живому туннелю, утопающему в зеленоватой полутьме, то тут, то там прорезанной пробившимися сквозь гущу листвы яркими лучами солнца. Поросшая высокой сочной травой и мелким бесформенным кустарником равнина окружала усадьбу и простиралась до самого горизонта, словно смыкаясь там с небом.
Майкл нажал кнопку, чтобы опустить стекло.
– Господи, какой великолепный воздух! – прошептал он.
– По-моему, просто замечательный, – со снисходительной улыбкой негромко отозвался Эрон.
Зной становился все нестерпимее, но Майкл этого не замечал.
Когда машина остановилась и они оказались перед широким фасадом двухэтажного дома, мир вокруг был окутан безмолвием. Построенное еще до Гражданской войны здание представляло собой один из ярчайших образцов восхитительно простой архитектуры той эпохи: массивное, спроектированное с учетом особенностей местного жаркого климата, оно походило на квадратный ящик, прорезанный высокими, от пола до потолка, окнами и окруженный по всему периметру тенистыми балконами. Плоскую крышу со всех сторон поддерживали толстые гладкие колонны.
Прочное кирпичное строение, способное устоять под натиском ураганов и нескончаемых проливных дождей, казалось, могло удерживать в своих стенах легкий прохладный ветерок, позволяя обитателям дома с комфортом расположиться на уютных балконах и любоваться отбывающимся оттуда пейзажем.
Трудно поверить, думал Майкл, что за виднеющейся в отдалении насыпью дамбы скрывается судоходная река, полная снующих туда-сюда буксиров и барж, через которую менее часа тому назад их с Лайтнером перевозил пыхтящий паром. А здесь и сейчас для них реальным был лишь ласковый ветер, стелющийся по выложенному кирпичом полу, да внезапно распахнувшиеся широкие двойные двери, гостеприимно приглашающие войти в дом, и еще – солнечные блики, играющие на стеклах стрельчатого веерообразного окна наверху.
Куда же делся весь остальной мир? Теперь это совершенно не занимало Майкла. Он снова, как и накануне возле дома на Первой улице, слышал прекрасные, умиротворяющие звуки: жужжание насекомых и пронзительные крики птиц.
Вводя Майкла внутрь, Эрон слегка сжал его руку и, казалось, даже не заметил охватившую их ледяную прохладу кондиционированного воздуха.
– Для начала я покажу вам дом, – сказал он.
Майкл почти не слышал его слов. Как всегда, дом полностью завладел его вниманием. Он любил такие здания – с широким центральным коридором, лишенной каких-либо украшений лестницей и просторными квадратными, симметрично расположенными комнатами. Реставрационные работы здесь были проведены с размахом и тщательностью. При создании интерьера не забыли учесть и британские вкусы и традиции, о чем свидетельствовали темно-зеленые ковры и высившиеся от пола до потолка во всех парадных помещениях книжные шкафы и стеллажи красного дерева. О временах, предшествовавших Гражданской войне, напоминали лишь несколько зеркал в богато украшенных рамах да небольшие клавикорды, стоявшие в одном из углов. Все остальное относилось к Викторианской эпохе, но было вполне созвучно и соразмерно дому.
– Как частный клуб, – прошептал Майкл.
В одной из комнат они наткнулись на какого-то человека, сидевшего в глубоком кресле с гобеленовой обивкой, и Майклу почему-то показалось забавным, что тот даже не поднял головы от лежащей перед ним книги или папки с бумагами, когда они с Эроном бесшумно прошли мимо. Тем не менее атмосфера дома была по-настоящему располагающей. Майкл чувствовал себя здесь вполне комфортно. Ему доставила удовольствие мимолетная улыбка женщины, встретившейся на лестнице. Хорошо бы, подумалось ему, чуть позже отыскать свободное местечко в библиотеке и для себя. За стеклами великого множества французских окон зеленела листва деревьев – такая плотная и густая, что сквозь нее едва просвечивало голубое небо.
– Идемте, я покажу вам вашу комнату, – сказал Эрон.
– Эрон, я не собираюсь задерживаться здесь надолго. Где досье?
– Конечно-конечно, – ответил Лайтнер. – Но вам нужно место, где можно спокойно сидеть и читать.
Он повел Майкла по коридору второго этажа, и вскоре они оказались в одной из комнат восточного крыла. Высокие окна открывались на балконы фасада и боковой стороны здания. Хотя ковер здесь ничем не отличался от ковров в других помещениях, интерьер комнаты в целом отражал традиции убранства плантаторских усадеб: пара комодов с мраморными крышками, кровать под балдахином, словно специально придуманная и сделанная для таких домов. Мягкий пуховый матрас скрывался под несколькими одеялами ручной работы. Столбики балдахина высотой около восьми футов были совершенно гладкими, без резьбы.
Вместе с тем, к своему удивлению, Майкл обнаружил в комнате немало вполне современных удобств, в том числе небольшой холодильник и телевизор, встроенные в украшенный резьбой шкаф, а также письменный стол и кресло, поставленные в углу у противоположной стены таким образом, чтобы на них падало естественное освещение из всех окон. Телефон был кнопочным, а на бумажной табличке аккуратным мелким почерком были выписаны добавочные номера для местной связи. Перед камином стояла пара старинных – времен королевы Анны – кресел с подголовниками. Дверь, ведущая в ванную, была распахнута настежь.
– Я согласен пожить здесь какое-то время, – сказал Майкл. – Где досье?
– Но нам не мешало бы позавтракать, – напомнил Лайтнер.
– Это вам не мешало бы, а мне вполне хватит бутерброда, который я съем за чтением. Прошу вас, Эрон, выполняйте обещание. Давайте досье.
И все же по настоянию Эрона они отправились на небольшую, обтянутую противомоскитной сеткой террасу, расположенную на том же этаже, с внутренней стороны здания, и удобно устроились там за одним из столиков, любуясь небольшим, тщательно ухоженным садом с песчаными дорожками и старинными фонтанами. Здесь им подали по-южному обильный завтрак: печенье, овсянку, колбасу и внушительное количество кофе с цикорием и молоком.
У Майкла разыгрался аппетит. Он чувствовал себя так же хорошо, как тогда, в доме Роуан, и радовался, что мозги не залиты выпивкой. Как это все же здорово – сидеть с ясной головой, глядя на зеленый сад, на ветви дубов, клонившиеся до самой травы. И просто божественно снова ощущать теплый воздух.
– Все произошло слишком быстро, – сказал Лайтнер, передавая ему корзиночку с горячим печеньем. – Наверное, мне следовало бы посвятить вас в какие-то подробности, однако ума не приложу, в какие именно. Мы полагали, что наше знакомство будет происходить постепенно, – это позволило бы нам лучше узнать вас, а вам, конечно же, – нас…
Мысли о Роуан никак не выходили у Майкла из головы. Невозможность связаться с ней хотя бы по телефону буквально выводила его из себя. Тревога за Роуан терзала душу, однако бесполезно и пытаться объяснить что-либо Эрону.
– Если бы я вошел с вами в контакт так, как планировал, – продолжал Лайтнер, – я бы пригласил вас в Обитель возле Лондона, где ваше вступление в орден происходило бы неспешно и гораздо более торжественно. Даже после нескольких лет полевой работы вам ни за что не поручили бы столь опасное задание, как вмешательство в дела Мэйфейрских ведьм. Кроме меня, в распоряжении ордена нет ни одного достаточно подготовленного для такой работы агента. Но, выражаясь современным языком, вы неожиданно оказались втянутым в это дело.
– Увяз по самые уши, – согласился Майкл, не переставая жевать. – Но я понимаю, что вы имеете в виду. Это равносильно тому, как если бы католические священники пригласили меня принять участие в обряде изгнания дьявола, зная, что я даже не посвящен в духовный сан.
– Очень близкое сравнение, – подтвердил Эрон. – Мне иногда кажется, что, несмотря на отсутствие непреложных догм и жестко определенных ритуалов, мы придерживаемся гораздо более строгих понятий. Установленная нами грань между добром и злом, правильным и неправильным весьма тонка и трудноуловима, при этом мы куда более нетерпимы к тем, кто ее переходит.
– Эрон, обещаю вам, что не расскажу о досье ни единой душе во всем христианском мире, за исключением Роуан.
Лайтнер задумался.
– Когда вы прочтете материалы, – после минутного молчания вновь заговорил он, – мы непременно продолжим этот разговор и обсудим ваши дальнейшие действия. Не спешите отказываться. По крайней мере, прислушайтесь к моему совету.
– Сдается мне, что у вас есть личный страх перед Роуан, – так?
Лайтнер сделал большой глоток кофе. Внимательно оглядел тарелку. За весь завтрак он не съел ничего, кроме кусочка печенья.
– Не уверен, – ответил он. – Моя единственная встреча с Роуан состоялась при весьма необычных обстоятельствах. И честное слово, могу поклясться…
– В чем?
– Мне показалось, что ей отчаянно хотелось поговорить со мной. Точнее, хоть с кем-то поговорить. Однако в следующий же момент я почувствовал в ней какую-то враждебность, причем враждебность ко всему и вся, словно в этой женщине было заключено нечто сверхъестественное, словно ее переполняло нечто инстинктивно чуждое остальным людям. Понимаю, мое предположение кажется вам, мягко говоря, странным. Разумеется, в Роуан нет ничего сверхъестественного. Но если мы задумаемся и будем рассматривать наши экстрасенсорные способности как некие мутации, то можно будет с полным правом сказать, что Роуан действительно отличается от других людей – как, скажем, одна порода птиц отличается от другой. Иными словами, я ощутил ее непохожесть…
Лайтнер замолчал. Только сейчас он заметил, что Майкл сидит за столом в перчатках.
– Не хотите попробовать обходиться без них? Полагаю, я смогу научить вас блокировать образы. На самом деле это не так сложно, как вам…
– Я хочу получить досье, – перебил его Майкл.
Он вытер рот салфеткой и допил кофе.
– Разумеется. И вы его немедленно получите, – со вздохом ответил Эрон.
– Я могу сейчас же отправиться в свою комнату? Да, еще одна просьба. Нельзя ли попросить, чтобы мне принесли туда еще немного этого восхитительного кофе и горячего молока.
– Конечно.
Эрон проводил Майкла к выходу с террасы, остановившись лишь затем, чтобы распорядиться насчет кофе, а затем по широкому центральному коридору они дошли до дверей комнаты.
Темные шторы из узорчатого шелка, закрывавшие широкие окна со стороны фасада, были подняты, и в комнату лился мягкий летний свет, приглушенный листвой деревьев.
На огромной кровати лежал портфель с кожаной папкой, содержащей досье.
– Ну вот, друг мой, – сказал Эрон. – Кофе вам принесут без стука, чтобы не отвлекать от чтения. Если хотите, устраивайтесь на балконе. И прошу вас, читайте внимательно. Если я понадоблюсь, телефон у вас под рукой. Достаточно назвать телефонистке мое имя. Я буду всего лишь через две комнаты от вас. Попытаюсь немного поспать.
Майкл снял пиджак и галстук, ополоснул в ванной лицо и как раз доставал из чемодана сигареты, когда принесли кофе.
Его удивило и несколько раздосадовало неожиданное возвращение Эрона. Тот отсутствовал не более пяти минут.
Выражение лица Лайтнера было крайне озабоченным. Он попросил молодого слугу поставить поднос на столик в углу, подождал, пока тот выйдет и плотно прикроет за собой дверь, и только после этого заговорил:
– Плохие новости, Майкл.
– О чем вы?
– Я только что звонил в Лондон, чтобы узнать, нет ли для меня каких-либо сообщений. Оказывается, они пытались связаться со мной и сообщить, что мать Роуан умирает. Они звонили в Сан-Франциско. Но к тому времени я уже уехал из города.
– Роуан непременно должна узнать об этом.
– Поздно, Майкл. Дейрдре Мэйфейр умерла сегодня около пяти утра. – Его голос слегка дрогнул. – Вероятно, в то самое время, когда мы с вами разговаривали.
– Ужасная новость для Роуан, – сказал Майкл. – Вы не представляете, как она расстроится. Вы даже не можете представить…
– Роуан вылетает в Новый Орлеан, – перебил его Лайтнер. – Она звонила в похоронную контору и просила отложить церемонию. Они согласились. Еще она спрашивала насчет отеля «Поншатрен». Мы, разумеется, проверим, заказала ли она там номер. Но, мне думается, следует ожидать ее скорого появления в Новом Орлеане.
– Ну знаете! Вы хуже, чем ФБР, – заметил Майкл.
Однако у него не было повода сердиться. Это было именно то, что он хотел узнать. С чувством облегчения он перебрал в памяти свой прилет в город, поездку на такси к дому на Первой улице, пробуждение в номере отеля. Нет, сам он никак не мог бы ускорить встречу с Роуан и ее матерью.
– Да, мы очень предусмотрительны, – печально произнес Лайтнер. – Мы продумываем каждый шаг, каждую мелочь. Не знаю, относится ли Бог к тому, что ему приходится наблюдать, с таким же беспристрастием, с каким относимся ко всему мы.
Эрон задумался и как будто вдруг ушел в себя; выражение его лица при этом заметно изменилось. Потом, так и не проронив больше ни слова, он направился к двери.
– Вы действительно знали мать Роуан? – спросил Майкл.
– Да, знал, – с горечью ответил Лайтнер. – И ни разу не смог хоть чем-нибудь ей помочь. Но подобное с нами случается часто. Возможно, на этот раз события примут иной оборот. Впрочем, кто знает… – Эрон повернул дверную ручку. Все здесь. – Он указал на папку. – Времени на разговоры больше не остается.
Майкл проводил Лайтнера растерянным взглядом. Этот сдержанный всплеск чувств у англичанина несказанно удивил его, но одновременно придал решимости. Как грустно, что он не нашел подходящих слов утешения и оказался не в состоянии хоть как-то облегчить страдания Эрона. С другой стороны, если сейчас он начнет думать о Роуан, мысленно представляя, как сжимает ее в объятиях и пытается рассказать ей обо всем, что произошло за последнее время, то определенно свихнется. Нельзя терять ни минуты.
Взяв с кровати кожаную папку, Майкл перенес ее на стол. Потом достал сигареты и поудобнее устроился в кожаном кресле. Почти машинально он потянулся к серебряному кофейнику, налил в чашку кофе и добавил горячего молока.
Комнату наполнил восхитительный аромат.
Майкл раскрыл папку и вытащил из нее другую – из плотной бумаги. Краткая надпись гласила: «МЭЙФЕЙРСКИЕ ВЕДЬМЫ. Часть первая». Внутри папки находились листы с убористым машинописным текстом и конверт, озаглавленный: «Фотокопии подлинных документов».
Его сердце болело за Роуан.
Он начал читать…
12
Приблизительно через час Роуан позвонила в отель.
Она уложила в чемоданы кое-что из летней одежды. Откровенно говоря, перебирая вещи и прикидывая, что стоит взять, Роуан словно со стороны наблюдала за собственными сборами, и они преподнесли ей несколько сюрпризов. Из глубин гардероба были вытащены легкие шелковые наряды: блузки и платья, когда-то купленные для отпусков и с тех пор ни разу не надетые. Роуан достала шкатулку с украшениями, к которым не притрагивалась со времен колледжа. На глаза попались нераскрытые коробочки с духами. Изящные туфли с высокими каблуками так и пролежали в магазинной упаковке. Все эти годы в ее жизни властвовала медицина, и ни на что другое времени уже не оставалось. И чудесные полотняные костюмы она надевала всего лишь пару раз, когда отдыхала на Гавайях. Что ж, теперь они ей пригодятся. Роуан сунула в чемодан и косметический набор, которым не пользовалась больше года.
Она решила лететь ближайшим полночным рейсом. Но сначала нужно заехать в клинику и детально ознакомить Слэттери, который заменит ее на время отсутствия, с историями болезни пациентов. А оттуда уже – прямо в аэропорт.
Так. Теперь пора позвонить в отель, заказать номер и оставить для Майкла сообщение о своем приезде.
Ей ответил приятный, с южным акцентом голос гостиничной телефонистки. Да, у них есть свободный номер. Нет, мистера Карри сейчас нет в отеле. Однако для нее имеется сообщение, что мистеру Карри пришлось срочно уехать и что он позвонит ей в течение ближайших суток. Нет, он не сказал, куда направляется и когда вернется.
– Хорошо, – устало вздохнув, сказала Роуан. – Пожалуйста, запишите и передайте ему следующее… Передайте ему, что в самое ближайшее время я буду в Новом Орлеане. Умерла моя мать. Церемония прощания состоится завтра в похоронной конторе «Лониган и сыновья». Записали?
– Да. Позвольте мне выразить искреннее соболезнование в связи с кончиной вашей матушки. Всем нам было горько услышать об этом. Я привыкла видеть ее сидящей на террасе, когда шла на работу мимо старого дома.
Изумлению Роуан не было границ.
– Будьте любезны, если можно, ответьте мне на пару вопросов, – попросила Роуан. – Дом, где она жила, находится на Первой улице?
– Да, доктор.
– Это в квартале, который называется у вас Садовым?
– Да, доктор, именно там.
Роуан пробормотала слова благодарности и повесила трубку… Та самая улица… Именно о ней рассказывал Майкл. И как странно, что все они знают о смерти ее матери. «Тем более странно, – подумала Роуан, – что я даже не упомянула ее имени…»
Но сейчас было не до раздумий. Пора ехать. Роуан вышла на пирс и поднялась на палубу «Красотки Кристины». Убедившись, что яхта надежно закреплена и, случись что, выдержит самую скверную погоду, она заперла рулевую рубку и вернулась в дом. Там она включила все системы сигнализации, которыми не пользовалась со дня смерти Элли.
В последний раз оглядеться…
Роуан вдруг вспомнила, как Майкл, стоя возле своего прекрасного старого дома в викторианском стиле, говорил о предчувствии, что он туда не вернется. У нее самой не было столь отчетливого предчувствия. И тем не менее при виде знакомого с детства дома ее охватила печаль. Ощущение было такое, будто от него взяли все, что могли, а теперь бросили на произвол судьбы. То же самое чувство она испытала, в последний раз оглянувшись на «Красотку Кристину».
Да, яхта хорошо послужила ей, но сейчас утратила всякое значение. И все мужчины, с которыми Роуан занималась любовью в каюте, отныне тоже ничего не значили в ее жизни. Откровенно говоря, просто замечательно и в какой-то мере символично, что в тот вечер она не потащила Майкла в духоту каюты. Ей это даже в голову не пришло. Майкл казался ей частью совершенно иного мира.
Роуан вдруг отчаянно захотелось затопить «Красотку Кристину» вместе со всеми связанными с нею воспоминаниями. Боже, ну что за глупая мысль! Разве не «Красотка Кристина» привела ее к Майклу? Наверное, она просто теряет рассудок.
Слава Богу, она летит в Новый Орлеан. Слава Богу, она успеет увидеть свою мать, прежде чем захлопнется крышка гроба, и слава Богу, она вновь будет рядом с Майклом, расскажет ему обо всем и ощутит его близость. Она обязана верить, что все будет именно так, и не важно, почему он не позвонил. Роуан с горечью вспомнила о лежащем в сейфе документе. Отныне он превратился в нечто совершенно несущественное, в пустую бумажку, не стоящую даже того, чтобы еще раз взглянуть на нее или разорвать.
Роуан, не оглядываясь, захлопнула за собой дверь.
Комментарии
1
То lash (англ.)– бить, хлестать; другое значение: связывать.
(обратно)2
В англоязычных странах шахматный слон называется «епископ» (bishop).
(обратно)3
Mardi Gras (фр.) – «тучный вторник». Марди-Гра (вторник на Масленой неделе, перед началом Великого поста) – веселый праздник, ставший своеобразным символом Нового Орлеана. Красочные карнавалы, балы и парады с участием ряженых и джаз-оркестров, которые проходят по центральным улицам города, в том числе по Французскому кварталу и Кэнал-стрит, привлекают тысячи туристов. Праздник отмечают и в других городах штата Луизиана
(обратно)4
Petticoat Loose (англ.) – букв:, задранная юбчонка
(обратно)5
Самая старая и знаменитая из гильдий – организаторов Марди-Гра Основана в 1857 году.
(обратно)6
Annunciation (англ.) – Благовещение.
(обратно)


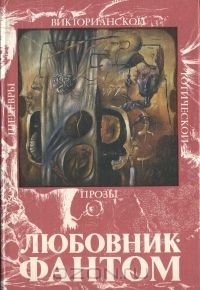
Комментарии к книге «Час ведьмовства», Энн Райс
Всего 0 комментариев